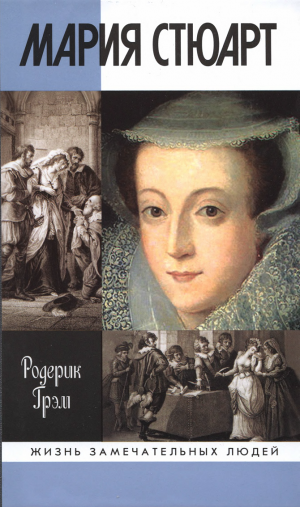
От переводчика
Немного найдется исторических персонажей, которым потомки уделили бы больше внимания, нежели «самой неудачливой британской правительнице» — Марии Стюарт, королеве Шотландской. Трагической судьбе королевы Шотландской посвящено немало биографических романов. О ее гибели Лопе де Вега написал эпическую поэму «Трагическая корона». Ей посвящены цикл песен Шумана, а также опера Доницетти (1834), либретто которой основывается на знаменитой драме «Мария Стюарт» Фридриха Шиллера (1800), до сих пор не сходящей с подмостков театров всего мира. Позднее о Марии писали бродвейский драматург Максвелл Андерсон (1933) и Роберт Болт (1970). На большом экране роль Марии в биографических фильмах исполняли Кэтрин Хёпберн (1933) и Ванесса Редгрейв (1971).
Интерес людей искусства всегда подогревался интересом историков. Самой знаменитой биографией Марии Стюарт, написанной в XX веке, несомненно, был труд Стефана Цвейга, переведенный на множество языков.
Вниманию читателя представляется перевод недавно вышедшей в свет (2008) биографии королевы Марии, написанной шотландским писателем и сценаристом Родериком Грэмом.
Родерик Грэм (род. 1934) — выпускник старейшей в Шотландии Эдинбургской королевской школы, а также исторического факультета Эдинбургского университета. Он долгие годы работал на Би-би-си в качестве сценариста, режиссера и продюсера в различных жанрах — от полицейской драмы до награжденного двумя премиями «Эмми» популярного мини-сериала «Елизавета», посвященного сопернице и родственнице Марии Стюарт. В последние годы Грэм обратился к биографическому жанру: его перу принадлежат биографии Джона Нокса и Дэвида Юма, а теперь к ним прибавилось и жизнеописание шотландской королевы.
Обстоятельность и скрупулезность Грэма-историка удачно сочетаются с присущей ему как сценаристу «кинематографичностью»: биография Марии разбита на ряд драматических эпизодов, посвященных главным событиям ее жизни; подробные описания бытовых деталей позволяют читателю как бы увидеть происходящее. Кроме того, автор постоянно цитирует источники — письма и другие документы, позволяя своим героям «говорить» от собственного лица, создавая тем самым эффект драматического диалога. На страницах книги словно бы оживают люди XVI столетия с их страстями и интригами. Присущая Грэму исследовательская добросовестность побуждает его представить в своем труде различные толкования самых спорных эпизодов, давая читателю простор для размышления.
Однако мировоззрение Родерика Грэма обусловлено влиянием западноевропейской культуры, и в этом смысле, пожалуй, его сочинение представляет интерес не только тем, что это обстоятельная и увлекательно написанная биография Марии Стюарт, но также и тем, что дает представление о стереотипах и предрассудках нашего собственного времени, отстоящего от эпохи Реформации более чем на 400 лет и все же во многом предопределенного ею.
На страницах книги Мария Стюарт предстает перед нами не злодейкой и даже не страстной женщиной, жертвующей всем во имя любви, но скорее слабой правительницей, игрушкой в руках честолюбивых интриганов. Весьма показательна картина, появляющаяся уже на первых страницах биографии и неоднократно повторяющаяся: Мария, занятая рукоделием на заседании своего совета. Опытный сценарист, Грэм рисует перед читателем образ женщины, не склонной к занятиям государственными делами, скучающей от политики. Этот образ противопоставляется «настоящим» правительницам — Екатерине Медичи и Елизавете Тюдор. Однако образ этот лукав: рукоделию-то Мария научилась у Екатерины Медичи, которая тоже приносила вышивание на заседания своего совета. Только вот ее почему-то не обвиняют в невнимании к государственным делам… Да и сам по себе ручной труд такого рода весьма способствует концентрации внимания, необходимого для того, чтобы воспринять большое количество новых сведений — как раз то, что требуется для общения с советниками.
Так в чем же дело? Для Грэма Мария Стюарт — «прекрасная дама», не приспособленная к жестокому миру реальной политики, и он толкует исторические свидетельства в соответствии с этим образом. Правда, автор слишком добросовестный историк, чтобы обойти вниманием и другие факты, поэтому порой этот образ оказывается противоречивым. Так, Грэм противопоставляет Марию ее наставницам — Диане де Пуатье и Екатерине Медичи, считая, что она мало чему научилась у этих искусных правительниц. Но когда читатель добирается до описания убийства секретаря королевы Риццио, вдруг выясняется, что Мария не просто усвоила их уроки, но и блестяще сумела ими воспользоваться, переиграв своих противников и собственного мужа. Возникает вопрос: таким ли уж плохим политиком на самом деле была Мария Стюарт? А если нет, то что же предопределило ее падение?
Конечно, шотландская королева — не самая удачливая правительница. Но рассматривать ее ошибки и достижения все же следует в соответствующем контексте времени. Прежде всего это касается Шотландии. Управлять этой страной всегда было нелегко. В отличие от Франции или Англии шотландская монархия была гораздо слабее. Король здесь был первым среди знатных лордов. Из семи королей династии Стюартов — предков Марии все семь вступали в серьезные конфликты со своими подданными, и двое из них погибли в ходе таких противостояний. На таком историческом фоне первые годы правления Марии выглядят просто успешными.
Не стоит забывать и тот факт, что Марии первой пришлось править страной, разделенной конфессиональным конфликтом. Официальное принятие протестантизма знаменовало собой только первый шаг в длительном процессе изменения религиозных взглядов шотландцев, и растянулось оно не на одно десятилетие. В результате Мария стала правительницей страны, лишившейся внутреннего единства. Стоит учитывать и то, что принятое в 1560 году в Шотландии кальвинистское учение представляет собой куда более радикальный разрыв с католическим прошлым, нежели англиканская церковь, главой которой являлась Елизавета I. Марии пришлось иметь дело с более сложной, взрывоопасной ситуацией, и она не сумела удержать ее под контролем. Возможно, это не свидетельствует о ее искусстве политика, но поставим вопрос иначе: а кто сумел выполнить эту задачу? Филипп II Испанский долгие годы вел войну с протестантами в Нидерландах, утратив в результате половину унаследованных от отца владений в этой области. Екатерина Медичи, с которой так часто сравнивали Марию Стюарт, и ее сыновья Карл IX и Генрих III также не сумели спасти свою страну от опустошительных Религиозных войн. Возможно, речь идет о том, что представления о святости королевского сана и долге подчинения монарху столкнулись с выработавшимся в годы религиозного противостояния представлением о долге христианина — католика или протестанта, — ставившемся превыше подданства. Столкнувшись с этим, многим европейским монархам пришлось заново постигать премудрости политики, осложнившейся благодаря новому, конфессиональному, фактору.
Мария Стюарт явно не была фанатиком и не мыслила в терминах конфессионального противостояния — в отличие от многих своих противников, включая Сесила. А ее представление о будущем Шотландии было так или иначе связано с другими странами — Францией или Англией. Для современного британца, каковым является Грэм, совершенно очевидно, что проекты соединения Шотландии с Францией являлись предательством национальных интересов, а вот объединение с Англией — совсем другое дело. Однако это не было столь очевидным для европейцев XVI столетия: Шотландию и Францию уже многие века объединял военно-политический союз, а также и многочисленные культурные связи, тогда как англичане для них были врагами, ненавистными завоевателями. Сама возможность мирного сосуществования англичан и шотландцев в одном государстве в XVI веке казалась чем-то невероятным. Таким образом, объединение Шотландии и Франции в рамках одной империи было для людей того времени явлением такого же порядка, что и объединение с Англией, даже, пожалуй, более вероятным. Поэтому подписанные Марией договоры свидетельствуют не о предательстве национальных интересов, а скорее о том, какими эти интересы тогда представлялись.
Покинув Францию, Мария, по сути, сменила один «имперский проект» на другой, теперь уже английский, стараясь добиться признания своих прав наследовать английский престол. Примечательно, что эта юная правительница, казалось бы, не интересовавшаяся политикой, так и не подписала ущемлявшего ее права Эдинбургского договора с Англией. Хотя ее целью и было мирное урегулирование отношений с Англией, Мария не желала ограничить свою власть и оказаться под контролем южного соседа. Вместе с тем она не желала и отказываться от своих династических прав на английскую корону. Именно династической логике был подчинен ее брак с Генри Дарнли. За ним стояло не упрямство, а холодный расчет: из всех возможных женихов только этот укреплял права Марии и ее будущих детей на английский (и шотландский) престол. Что же до недовольства знати, то, как показывал опыт, оно было неизбежно в любом случае. Кроме того, Марии все же удалось справиться с вызванным ее замужеством политическим кризисом. И ей почти удалось добиться своего: договор, объявлявший о признании наследственных прав Марии, готовился к подписанию в 1567 году, однако был отброшен английской стороной после убийства ее супруга Генри Дарнли.
Причастность Марии к убийству мужа в течение столетий обсуждалась историками. На наш взгляд, наиболее обоснованным выглядит мнение английского историка Джона Гая, полагающего, что шотландская королева не стала бы рисковать делом своей жизни — подписанием договора с Англией, даровавшего бы ей и ее новорожденному сыну право стать правителями всего острова, тем более что существовал и другой выход — аннулирование брака. Признание сына от аннулированного брака законным теоретически тоже было возможно, а наличие влиятельных родственников — кардинала Лотарингского и кардинала де Гиза делало такой исход вполне вероятным. Поэтому Марии незачем было убивать мужа; а вот у ее лордов мотивов было предостаточно. Здесь и желание отомстить Дарнли за вероломство, с которым он сначала поддержал заговорщиков, убивших в 1566 году Риццио, а затем отрекся от них, и более тонкий расчет. Устранив Дарнли и скомпрометировав при этом королеву, лорды смогли избавиться от них обоих; тем самым устранялась опасность, что, достигнув двадцати пяти лет, Мария отменит обогатившие их в годы Реформации земельные пожалования (из бывших церковных земель). Теперь в стране был наследник-младенец, от имени которого лорды могли править еще долгие годы.
Но даже и в той ситуации Мария могла бы удержаться у власти, обвинив в убийстве Босуэлла; ей не хватило решительности и, пожалуй, цинизма. Кроме того, ее поведение после убийства мужа говорит не о виновности — в таком случае у нее был бы готов план действий, — но как раз о непричастности и глубоком шоке, в который это убийство ее повергло. Но от шока можно было бы оправиться…
Что по-настоящему лишило Марию власти, так это ее брак с Босуэллом. Однако этот брак не выглядит союзом страстных любовников или даже капризом легкомысленной женщины — скорее, это поступок женщины, у которой не было выбора. Брак по принуждению, заключенный после похищения и вполне вероятного изнасилования, был довольно распространенным явлением в Европе того времени вообще и в Шотландии в частности. Отказать насильнику опозоренной женщине было сложно; в случае Марии ситуацию осложнила и ее беременность: согласно господствовавшим в медицине XVI века представлениям зачатие ребенка в результате изнасилования было невозможным, так как считалось, что беременность наступает только после получения женщиной сексуального удовольствия, что невозможно при изнасиловании. Таким образом, беременность автоматически превращала Марию из жертвы преступления в прелюбодейку. Брак в подобной ситуации оставался единственным выходом. Тогда объяснимым кажется и непонятное Грэму поведение Марии в сражении при Карберри-Хилл, когда она довольно легко согласилась расстаться с Босуэллом и отдать себя в руки лордов. Не сочла ли она их в тот момент избавителями от ненавистного мужа?
Примеры можно множить, но из них уже вырисовывается образ совсем иной Марии — отнюдь не легкомысленной дамы, а активного игрока на политической арене, хотя, пожалуй, игрока не первоклассного. На пассивную жертву обстоятельств она, при всех своих неудачах, не похожа.
Откуда же тогда приходит на страницы книги Грэма этот образ безвольной жертвы обстоятельств? У него давняя история. По сути, это облагороженная версия старой темы: противостояние женщины Марии и политика Елизаветы, в котором Марии приписываются стереотипные женские свойства и слабости — легкомыслие, внушаемость, пассивность, поверхностность и т. п. Корни этого двойного образа уходят в эпоху самой Марии; они тянутся ко временам конфессионального противостояния и жестокой полемики. Фактически он восходит к шотландскому реформатору Джону Ноксу. И дело не только во враждебности протестанта к правительнице-католичке. Для Нокса и его собратьев протестантское учение (в их собственной версии) было единственным религиозным учением, согласующимся с разумом. Мария же отказывалась его принимать; следовательно, она в своих поступках руководствовалась не разумом, а страстями. Одна страсть ведет за собой другую, неприятие религиозной истины приводит к распутству. Так Мария превратилась в femme fatale, игрушку собственных страстей. И даже в смягченной версии Грэма Мария подчиняется не разуму (эта роль отдана Елизавете и другим женщинам-правительницам — Екатерине Медичи и Диане де Пуатье), а своим чувствам.
Таким образом, биография Марии Стюарт, изданная в начале XXI века, показывает, как по-прежнему сильна в британской культуре антикатолическая компонента, уходящая корнями в религиозную полемику эпохи Реформации. Для британцев старшего поколения, к которому принадлежит Родерик Грэм, она составляет часть знакомого национального мифа, привычного представления о самих себе, и не может не проявляться и в их представлениях об истории. Поэтому образ Марии Стюарт до сих пор овеян страстями, рожденными в давно ушедшую эпоху. Или же она гораздо ближе к современным европейцам, чем кажется?
А. Ю. Серёгина
От автора
Прежде всего, я должен поблагодарить моего издателя Хью Эндрю, который высказал соображение о том, что настало время для обстоятельной биографии Марии Стюарт. Без исходившего от него начального импульса эта книга не была бы написана. Место рядом с Хью Эндрю следует отдать моей жене Фионе: она в течение двух лет с неизменным интересом выслушивала мои бесконечные рассуждения о Марии. Затем Фиона взяла на себя труд вычитать рукопись и не обижалась, если я раздражался, когда она указывала, например, что Марию вряд ли короновали дважды в разные дни. Это был подвиг Геракла, совершаемый с улыбкой, и я благодарен ей за это.
Главный редактор издательства «Бирлинн» Эндрю Симмонс оказывал огромную помощь и постоянно поощрял меня, а также обеспечил мне редакторов с орлиным взором, изрядно прояснивших мой порой самонадеянный рассказ. Лора Эсслмонт и Питер Бёрнс обшаривали для меня собрания иллюстраций, превратив рутинную работу в удовольствие.
Доктор Дженни Уормалд — преподавательница колледжа Святой Хильды (Оксфорд) и Эдинбургского университета — прочитала рукопись и высказала весьма полезные замечания. Почетный профессор шотландской истории Эдинбургского университета Майкл Линч прочел рукопись с целью оценки исторической достоверности и благожелательно предложил внести некоторые исправления. Оуэн Дадли Эдвардс, бывший преподаватель истории Эдинбургского университета, предоставил мне бесценную информацию о нескольких кампаниях по канонизации Марии.
Два важных пробела были заполнены благодаря предоставленным сотрудниками Королевского арсенала (Лидс) техническим деталям, касавшимся рокового турнира Генриха II.
Медицинские комментарии профессора И. Доналдсона, доктора Морриса Маккри и доктора Питера Блумфилда помогли поставить диагноз с дистанции в 500 лет. Старший хранитель рукописей Национальной библиотеки Шотландии Кеннет Данн исправил мои переводы с латыни, а сотрудники этого отдела, как и библиотекари Эдинбургского университета, находили для меня книги и рукописи со свойственной им сноровкой и желанием помочь.
Однако никто из них не может нести ответственность за то, каким образом я использовал их советы и информацию: все ошибки здесь только мои.
Предисловие
Мария Стюарт стала заложницей золотого детства, окончившегося вдовством, а ее трагедия была игрой случая. Эта книга — попытка не очернить ее, изобразив мужеубийцей, и не превознести как одинокую мученицу за веру, но рассказать об обстоятельствах, сформировавших ее характер, и объяснить события, предопределившие ее судьбу.
Мария, несомненно, была одной из красивейших женщин своей эпохи. Начиная с золотого века Голливуда, звезд фотографировали, используя множество технических уловок, чтобы сделать их еще привлекательнее: камера могла быть слегка не в фокусе, линзы покрывали тонким слоем масла или жира, иногда перед объективом вешали занавесь из газа, в которой даже проделывали отверстия, чтобы глаза блестели ярче, а порой в студии даже напускали дым. В результате возникал совершенно нереальный образ красоты. Именно так мы сейчас видим не только Гарбо или Дитрих, но и многих современных знаменитостей. Те же газ, дым и ретушь щедро использовались и в повествованиях о Марии Стюарт.
Она родилась в Шотландии от матери-француженки, была коронована в девятимесячном возрасте. Чтобы избежать принудительного брака с английским принцем, ее ради безопасности сразу отослали к родственникам во Францию. Там она получила воспитание сказочной принцессы, обручилась с дофином — увы, он отставал и в физическом, и в умственном развитии — и была судьбой предназначена стать блестящей королевой Франции. Когда Мария взошла на трон, ее дяди и их союзники безжалостно использовали ее положение, чтобы самим приобрести власть, но после смерти слабого мальчика-короля ее сочли бесполезной. Поэтому ее миссия во Франции была закончена, когда она — еще девственница — овдовела в возрасте восемнадцати лет и семи месяцев. Мария вернулась в Шотландию.
Она получила образование во времена агрессивных и мужественных правителей, а женское искусство обретения власти ей преподавали две обладавшие огромной властью женщины весьма разного характера: Диана де Пуатье и Екатерина Медичи. Мария видела, каким может быть подлинное женское правление, при своей кузине Елизавете I Английской, но сама она была заключена в золотой клетке и ни разу не попыталась выбраться из нее и применить все эти уроки на практике. Ее учили навыкам, необходимым для жизни при ренессансном дворе, и она постигла их в совершенстве, будь то искусство принимать лесть, ездить верхом, танцевать, петь, устраивать театральные представления, флиртовать и возглавлять толпу роскошно одетых и осыпанных драгоценностями придворных. Мария не знала ничего о политике или дипломатии — за исключением тех случаев, когда речь шла о браках ее друзей. Теперь, лишенная возможности советоваться с дядями, она должна была править Шотландией — одна.
Во время своего краткого пребывания в Шотландии Мария жила на созданном ее воображением острове наслаждений, обустроенном по образцу двора Валуа во Франции. В момент ее возвращения в 1561 году шотландская знать искала лидера, предпочтительно такого, который трудился бы на ее благо, а получила вместо этого равнодушную и податливую королеву. Уверив подданных в том, что она не станет навязывать им никаких религиозных догм, Мария в дальнейшем не проявляла никакого интереса к их делам, если те выказывали ей знаки любви и повиновения, когда она проезжала мимо них во время своих путешествий, уводивших ее от двора в Холируде. Страной управлял совет, королева подписывала то, что ей советовали подписать, и говорила подобающие слова, обращенные к южному соседу. Мария совсем не интересовалась политикой, а в тех редких случаях, когда посещала заседания Тайного совета, приносила с собой шитье.
Будучи желанной невестой, она несла двойное бремя — религии и династии. Мария не занималась делами управления лично и не давала совету четких распоряжений, чтобы тот мог править от ее имени. Это вынуждало аристократов, без конца ссорившихся друг с другом, толковать ее настроения по собственному усмотрению, вызвав тем самым чуть не ставшее фатальным разделение между монархией и законодательными органами.
Навыки, требовавшиеся прекрасной и милостивой королеве, украшавшей французский двор, сильно отличались от тех, которые позволяли бы управлять народом, отличавшимся природной драчливостью и едва вышедшим из конфликта Реформации. Мария просто игнорировала эту обескураживающую задачу, и в конце концов потерявшая терпение знать сместила ее. Она бежала, оставив за спиной бушевавшую в стране гражданскую войну, и отдалась на милость своей кузины Елизаветы Тюдор.
В Англии Мария пребывала под своеобразным домашним арестом, более или менее строгим до тех пор, пока она по легкомыслию не одобрила заговор с целью убить Елизавету. Последнюю наконец вынудили действовать, и Мария Стюарт была казнена в возрасте сорока четырех лет.
Мария обожала танцевать, она была стройной и высокой — первым партнером, подходившим ей по росту, оказался ее будущий муж Генри Дарнли — белокожий, со светлыми, вероятно рыжевато-золотистыми, волосами. Она любила верховую езду, часто ездила по-мужски, и вряд ли были в ее жизни более счастливые моменты, нежели те, когда она мчалась галопом под яркими лучами солнца.
Множество мужчин влюблялись в нее, что порой имело катастрофические последствия. Придворный поэт-француз спрятался в ее спальне и был казнен за свой дерзкий поступок; шотландский граф пытался ее похитить и был объявлен сумасшедшим; другие же просто падали на колени и признавались в вечной любви.
Мария провела в Шотландии с перерывом одиннадцать лет и шесть месяцев, тринадцать лет во Франции и семнадцать лет и девять месяцев в Англии. Но в сердце своем она оставалась французской принцессой и естественнее всего чувствовала себя, говоря по-французски в замке на Луаре, а не где бы то ни было еще. Мария всегда подчинялась ходу событий, а те немногие решения, которые она приняла, привели к трагедии.
В эпоху Марии Стюарт в ходу были три основные валюты — шотландские марки, кроны и фунты; английские фунты, шиллинги и пенсы; французские ливры и кроны. К сожалению, сейчас невозможно перевести тогдашние цены в современные. Однако в конце XVI века в Англии учитель, лавочник или приходский священник могли жить в достатке, имея 20 фунтов в год.
Поскольку оружие играло важную роль в жизни мужчины, необходимо дать несколько разъяснений. Все мужчины носили с собой кинжал, иногда — меч или шпагу. В сражениях использовались либо различного вида шпаги, либо палаши. Пехотинцы, выстраивавшиеся в фалангу, для отражения атак кавалерии использовали шотландские пики длиной в 12 футов. Огнестрельное оружие, если не считать пушек, было еще относительной редкостью. Основной его формой был мушкет, или аркебуза. Чтобы избежать ненужной путаницы, я везде называл его аркебузой.
Часть I
ШОТЛАНДИЯ
1542–1548
Глава I
«САМЫЙ КРАСИВЫЙ РЕБЕНОК, КАКОГО Я ВИДЕЛ»
Ранним утром 8 декабря 1542 года вооруженные гонцы галопом вылетели из дворца Линлитгоу, оставив позади тепло караулок. Их дыхание превращалось на морозе в пар, а копыта лошадей высекали искры из замерзших булыжников внешнего двора. Всадники миновали церковь Святого Михаила и спустились с крутого склона холма в город, а там разъехались в разные стороны по обледеневшим дорогам. Сильные снегопады укрыли страну снежным ковром в ту зиму, одну из худших за столетие. Всадники несли важные вести: Мария де Гиз, королева Шотландская, благополучно разрешилась от бремени. Поскольку ранее двое ее детей умерли, были приняты особые меры предосторожности в отношении этого ребенка, появившегося на свет в палате на втором этаже дворца, а гонцы находились в состоянии полной готовности с того момента, как начались роды.
Из всех гонцов самым важным был тот, что направлялся к королевскому охотничьему замку Фолкленд, где лежал тяжело больной Яков V. Зимние дни коротки, а замена лошадей была предусмотрена лишь однажды, поэтому гонец, вероятно, остановился на ночлег через двадцать миль, в Стирлинге, прежде чем свернуть к востоку через Файф. Его запечатанный пакет был надежно спрятан в седельной сумке, а сам он не знал содержания послания, хотя в караулках ходили слухи о том, что роды королевы прошли хорошо. Поскольку ему выдали два заряженных пистолета в придачу к палашу и кинжалу, он понял, что послание — огромной важности, а значит, учитывая слухи о состоянии здоровья короля, скорость имеет первостепенное значение.
В Стирлинге он спал не раздеваясь, положив палаш рядом с собой, а пистолет — поверх пакета под подушку. Рано утром, когда было еще темно, он покинул Стирлинг, чтобы проделать последние тридцать пять миль до замка Фолкленд, и наконец доставил свое донесение. Придворный немедленно распечатал пакет, прочел послание, поморщился и отправился с новостями к больному королю Якову, лежавшему в постели. На первый взгляд новость была хорошей, так как королева благополучно разрешилась от бремени здоровым младенцем. Плохо было то, что родилась девочка, которую назвали Марией. Это было имя ее матери, кроме того, на 8 декабря приходится праздник Непорочного зачатия Девы Марии. Возможно, на самом деле Мария родилась на день раньше, а запись была изменена позднее, чтобы даты удачно совпали.
Яков V не был с женой во время родов, но, поскольку короли редко присутствовали при подобных событиях, это не стоит считать чем-то из ряда вон выходящим. Необычным было то, что всего несколькими днями раньше Яков вел за собой армию из 18 тысяч шотландцев к переправе Солуэй Мосс на английской границе. Вторгнуться в Англию Генриха VIII в то время означало раздразнить очень сердитого медведя, и Яков об этом знал.
Во время похода Яков расположил свою штаб-квартиру в двадцати милях к северу от границы, в Лохмейбене, и оттуда отряд налетчиков под командованием презираемого всеми его фаворита, Оливера Синклера, отправился к переправе на реке Эск. Отряды налетчиков не были редкостью в пограничном крае, где невозможно было провести точное размежевание территорий, а частые угоны скота, похищения и вымогательства совершались под патриотическими лозунгами.
Эта территория была известна как Спорные земли, и даже сейчас впечатлительных туристов ее несомненная красота тревожит ощущением, что за ближайшим холмом, возможно, ждут в засаде всадники врага.
Налетчики вторглись в Англию и сожгли имущество, принадлежавшее Грэмам, но ничего не достигли, лишь предупредили англичан, что шотландская армия неподалеку. Помощник смотрителя Западной марки нагнал шотландцев, когда они пересекали реку Эск в обратном направлении, по пути домой. «В сопровождении копейщиков из Пограничья, готовых обрушиться на врага, он напал на их задние ряды и многих убил». Шотландцы оказались в ловушке, устроенной быстро поднимающимися приливными водами в заливе Солуэй, и отступление превратилось в беспорядочное бегство. Поднимающийся прилив утопил многих, а остальные завязли в болотах Солуэй Мосс или просто сдались тем, кого могли найти, чтобы только избежать смерти. Небольшая группа беглецов была захвачена в Лиддсдейле и отправлена домой босиком, в одних рубахах. Немногие пережили это испытание ноябрьскими холодами. Англичане продолжали преследование до 12 декабря и, чувствуя себя правыми, занялись угоном скота. Их добыча, помимо пленников, составила 1018 голов крупного рогатого скота, 4240 овец и 400 лошадей.
Когда Яков V осознал размеры потерь, он впал в отчаяние и повернул на север, сопровождаемый лишь личной свитой. Сообщают, что он сначала отправился в замок Танталлон, стоящий на юго-восточном берегу реки Форт, чтобы проститься с любовницей, вверенной заботам жены Оливера Синклера, но затем, вероятнее всего, поскакал в Эдинбург, чтобы привести в порядок личные дела, прежде чем навестить жену Марию, ожидавшую родов в Линлитгоу.
Замок Линлитгоу, строго говоря, личная собственность королевы, был роскошно отделан в соответствии с последними веяниями французской моды. Жаркое пламя каминов, богатые гобелены и вся роскошь, которая только могла окружать государя, встретили Якова, когда он проехал сквозь арку южных ворот, выстроенных по образцу ворот Венсенского замка близ Парижа. В парадном дворе находился фонтан, замерзший, но тем не менее впечатляющий; он был украшен изящными рельефами с изображениями русалок, менестрелей и геральдических зверей, выдержанными в современном французском стиле; он был построен Яковом, чтобы порадовать королеву. Но король был слишком подавлен, и на него не произвела впечатления окружавшая его роскошь. Он провел два дня с беременной женой, и в это время придворные дамы делали все возможное, чтобы не позволить его грусти расстроить ее, а затем попрощался и уехал в свой охотничий замок в Фолкленде (графство Файф).
В более счастливые времена дворец в Линлитгоу был особым проектом Якова и Марии, они вместе следили за его строительством и отделкой. Но на этот раз, когда король приехал в новый дворец, счастье оставалось лишь приятным воспоминанием. Ведь в Эдинбурге, сразу после катастрофы при Солуэй Мосс, ему напророчили, что через пятнадцать дней он умрет. Слуги короля, занимавшиеся необходимыми приготовлениями, спросили, где бы он пожелал провести со своим двором Рождество, и услышали в ответ: «Я не знаю, выбирайте место сами. Я знаю лишь, что на Святки у вас не будет господина, а у королевства — короля». Он удалился в свои покои в Фолкленде безутешным, постоянно вспоминая о потерях, понесенных у Солуэй Мосс.
Хотя убитых было немного, большое число знатных дворян оказались в плену, и выкуп за них должен был обойтись Якову V в огромную сумму, которой он не имел. Он восклицал: «А Оливера взяли? Беги, Оливер!» — пугая слуг. В возрасте тридцати лет Яков Стюарт сломался под бременем власти. Оплакивая потерю людей, которых он сам повел в безрассудный набег, он претерпевал страшные муки и умирал от горя, сокрушаясь о своем неудачном правлении. Хронист Роберт Линдси из Питскотти пишет, что «его почти до смерти задушила» глубокая меланхолия.
Новость о рождении дочери не порадовала Якова, и он, как утверждает легенда, произнес: «Пришло с девчонкой и уйдет с девчонкой», а затем отвернулся к стене, ожидая смерти.
Пророчество — если таковое было — сложно истолковать. Династия Стюартов, несомненно, была основана «девчонкой», когда Марджери Брюс, дочь победителя при Баннокберне[1], вышла замуж за Уолтера Стюарда[2], а корона Дэвида II перешла к их сыну, Роберту Стюарду. Правление Стюартов закончилось в 1714 году со смертью бездетной королевы Анны, однако Яков вряд ли мог это предвидеть. Скорее, пророчество короля означало, что королева одна не сможет управлять раздираемым враждой и мятежами шотландским королевством.
Будущей королеве, которой выпала эта задача, было всего два дня от роду, и в течение первых дней ее жизни ее строго охраняли. В те времена детская смертность была высокой и, что хорошо знала ее мать, не имела почтения к королям. Согласно обычаю, соблюдавшемуся, по крайней мере, во Франции, при родах присутствовал священник, чтобы дитя можно было крестить, как только перережут пуповину. Но нет никаких свидетельств тому, что так поступили и с Марией. Целая команда нянек под началом некоей Дженет Синклер постоянно присматривали за королевской дочерью, которая пока знала только чувство голода и громко кричала, обозначая первый из знаменитых королевских приступов гнева. Ее немедленно вынимали из колыбели и давали кормилице. Эту женщину выбрали с особым тщанием; она должна была выкормить нескольких здоровых детей, включая собственных. Дамы знатного происхождения не кормили своих детей сами, ведь чем раньше прекращался период грудного вскармливания, тем быстрее они оказывались готовыми к деторождению, выполнению своего долга продолжения рода — подобно призовым кобылам в стойлах и породистым сукам на псарнях.
Мария знала, что ее брак с Яковом V был политическим союзом. Реформация Генриха VIII и роспуск монастырей грозили поглотить Шотландию, и, чтобы противостоять напору еретической волны, Яков стремился к союзу с Францией. Поэтому 1 января 1537 года король Франции Франциск I в соборе Парижской Богоматери отдал в жены Якову свою двадцатилетнюю дочь Мадлен. Яков вернулся в Шотландию, счастливый тем, что сумел вступить в католический альянс с величайшим врагом Генриха VIII. Он получил приданое в 100 тысяч ливров и ежегодную пенсию в 125 тысяч ливров — приятное пополнение сокровищницы довольно бедного короля Шотландии. К тому же брак этот, как ни удивительно, был заключен по любви. Яков вел переговоры о руке Марии де Вандом, но, увидев красавицу Мадлен, изменил свое намерение. К несчастью, хрупкая Мадлен умерла от лихорадки через два месяца после прибытия в Шотландию, однако не устрашенный этим Яков вернулся во Францию. На этот раз он обручился с Марией де Гиз Лотарингской, приходившейся дочерью двум самым властным людям Франции. Ее отцом был герцог Клод де Гиз, а матерью — Антуанетта де Бурбон, наводящая ужас мегера, один взгляд которой, как говорят, способен был напугать короля. Мария уже была замужем за герцогом де Лонгвиллем, но овдовела в двадцать два года. У нее был сын, юный герцог, унаследовавший титул отца.
Мария не отличалась хрупкостью, подобно Мадлен, она была высокой, пышногрудой и ослепительной. Любой современник понимал: эта женщина родит здоровых детей. Генрих VIII сделал ей предложение после того, как умерла Джейн Сеймур, давшая жизнь принцу Эдуарду. Однако Мария ответила: хотя ростом она и высокая, но шея у нее короткая — и отклонила такую честь. Всегда готовый спровоцировать английского короля Франциск I согласился выплатить подобающее приданое по случаю ее бракосочетания с Яковом, и свадьба была сыграна, причем жениха представлял лорд Максвелл. 18 мая 1538 года в присутствии французского королевского двора лорд Максвелл поставил свою ногу на постель рядом с Марией и брак был сочтен совершившимся. В июне Мария прибыла в Шотландию, где было отпраздновано повторное бракосочетание в соборе Сент-Эндрюса, а затем королевская чета отправилась в торжественную поездку по стране. Мария надлежащим образом восхваляла утонченность и цивилизованность шотландцев и, хотя знала, что Яков продолжает наносить визиты любовнице в замке Танталлон, вела себя как достойная дочь Гизов, милостиво улыбаясь всем. Она начала изучать шотландское наречие, которым вскоре овладела в совершенстве, но в то же время слала полные тоски по дому письма матери и сыну Франсуа. Он скучал по матери, но не желал посещать Шотландию. Как все бабушки, Антуанетта писала дочери письма, наполненные сплетнями и советами, особенно во время беременности последней. Марии следовало советоваться только с французскими докторами. «Королева будет чувствовать себя хорошо, если только станет мыть голову хотя бы раз в месяц или отрежет волосы покороче, потому что грязные волосы способствуют простуде. Она не должна позволять пускать ей кровь».
Позднее, когда Мария родила двух принцев и была наконец коронована, она почувствовала, что может ослабить свое дипломатическое восхищение всем шотландским. Королева выписывала мастеров, предметы роскоши и даже саженцы деревьев из Франции. В характере Марии всегда присутствовала практическая жилка, и она высоко ставила собственный комфорт. В результате королевский двор подвергся сильному влиянию французского Возрождения. Теперь же, спустя всего четыре года после свадьбы, трагически потеряв обоих принцев, она вот-вот должна была стать вдовой.
Яков V простился с жизнью в полночь 14 декабря 1542 года, и сразу же поползли различные слухи. Король был отравлен; его задушили подушкой фанатичные прелаты или не менее фанатичные еретики — словом, царила обычная истерия, ведь истина оказалась слишком прозаичной. Король мучился от рвоты и поноса, а до этого заразился венерической болезнью, часто страдал от всевозможных лихорадок, какими изобиловало то время, и находился в состоянии глубочайшей депрессии, потеряв своего фаворита Оливера Синклера и умудрившись навлечь на себя гнев воинственного соседа Генриха Тюдора. Согласно легенде король умер от горя, но сейчас мы бы назвали вероятной причиной смерти дизентерию. Джон Нокс изрек: «Все сокрушались, что королевство осталось без мужчины-наследника». Правителем Шотландии теперь стала девочка шести дней от роду.
Новости, достигшие Англии, поначалу гласили, что ребенок очень слаб, а позднее заговорили, что он умер. Мудрые английские придворные всегда сначала сообщали Генриху хорошие новости, а потом придумывали, как преподнести ему нежелательные известия. Только после смерти Якова V Генриху сказали, что Мария жива и здорова. Дурные новости распространяют с удовольствием, поэтому к Рождеству до далекой Венгрии дошли вести, что мать и дочь находятся при смерти.
На самом деле все было иначе, и как только Дженет Синклер сочла погоду достаточно сухой, а королеву Марию — достаточно окрепшей, младенца завернули в теплые одеяла и пронесли несколько сот ярдов до церкви Святого Михаила, где, облаченного в крестильную сорочку из белой тафты, символизировавшую невинность, крестили в купели. Если бы Мария умерла в течение месяца после крещения, крестильная сорочка превратилась бы в саван. Потом девочку отнесли к алтарю и там конфирмовали как члена Римской католической церкви. Затем участники церемонии вернулись во дворец для празднования, хотя и довольно скромного — ведь двор официально был в трауре.
Генрих Тюдор как двоюродный дед Марии также соблюдал подобающий срок траура. Искушение, возникшее перед стареющим королем, было и в самом деле большим. После разгрома при Солуэй Мосс Шотландия лишилась лидера, многие представители знати находились в английских тюрьмах, а страна пребывала в состоянии хаоса. Но Джон Дадли, виконт Лайл, собиравший для Генриха армию в северо-восточной Англии, писал: «Видя, что Господь по своей воле подобным образом распорядился королем [Шотландии], мы полагаем, что не к чести Вашему Величеству посылать нас, солдат, воевать с мертвым телом короля, его вдовой или младенцем-дочерью». Шотландия была открыта для захвата, однако умный Генрих понял, что при помощи такта и дипломатии подчинит Шотландию правлению Тюдоров мирным путем и задешево, что всегда было важным доводом для Тюдоров.
Подчинение северного соседа было целью жизни Генриха, и он пытался вести переговоры с Яковом V в начале этого же года[3]. Только когда Яков просто не явился для переговоров в Йорк, разъяренный Генрих послал на север карательный отряд. Удачное отражение этого набега шотландцами при Хаддон Риге[4] подтолкнуло Якова к безрассудному ответному рейду к Солуэй Мосс, оставившему Шотландию открытой для возмездия.
Теперь же престол унаследовала девочка, а девочки, выйдя замуж, подчиняются своим мужьям. У Генриха был пятилетний сын Эдуард, из которого мог получиться жених, отвечающий интересам династии, так что король решил пока подождать.
Шотландцев теперь ожидал очередной период регентства при малолетнем монархе. Он был не первым, а сказ о монархии и регентстве при Стюартах печален, но краток. Яков I стал королем в возрасте двенадцати лет, но оставался пленником в Англии, пока ему не исполнилось тридцать; позднее, когда ему исполнилось сорок три, его закололи в дворцовой уборной[5]. Его сыну Якову II было в ту пору шесть лет; он правил до тридцатого года своей жизни (1460), когда пушку, которую он осматривал, разорвало. Яков II был убит наповал, и править стал его девятилетний сын Яков III. Последний в возрасте тридцати семи лет бежал после сражения при Сочберне, а дворяне нагнали его и убили на месте[6], легкомысленно заметив впоследствии: «Король оказался убитым». Его сыну, Якову IV, было тогда пятнадцать, и он был вовлечен в мятеж против отца, за что совершал покаяние в течение всей оставшейся жизни, нося на теле под одеждой железный пояс. Он успешно правил шотландским двором до тех пор, пока его не настигла смерть во время безумной резни под Флодденом[7]; на престол сел его сын, Яков V, в возрасте восемнадцати месяцев. Мария оказалась самой младшей из монархов, но она была отнюдь не первым ребенком, унаследовавшим престол.
Эти постоянно возникавшие кризисы имели два важных последствия. Во-первых, знать привыкла существовать без сильного правителя. Норманны тщательно выстроили феодальную систему, при которой вся власть и право жаловать земли принадлежат королю, однако эта система пошатнулась. Клятва верности государю в обмен на пожалование земли, завоеванной мечом, превращалась в фарс, когда государь оказывался младенцем в колыбели или, в лучшем случае, розовощеким юнцом пятнадцати лет от роду. В двух случаях те самые лорды, которые клялись в верности, являлись участниками убийства отца нового монарха. Они подобающим образом сгибали колени и склоняли головы, но реальность была совсем иной. Шотландия была мятежной федерацией владетельных лордов, объединявшихся в общем совете лишь благодаря семейным связям и необходимости соблюдать внутренний мир. Корона была высшим законом, однако на своих землях лорды обладали правом казнить и миловать. Они не были теми безграмотными головорезами, какими их зачастую рисуют: большинство из них получили классическое образование, свободно говорили на латыни и по-французски, много путешествовали. Хотя они всегда с готовностью пускали в ход шпагу, но были утонченными и культурными людьми из относительно благополучной страны. Их арендаторы жили не хуже, чем обитатели Гаскони, Пьемонта или Эстремадуры, а трудности и лишения, которые они испытывали, были обычными для всех крестьян XVI века. Сам король Яков V «наполнил страну разного рода мастерами из других земель» и даже имел среди своих многочисленных придворных «смотрителя королевских попугаев».
Вторым результатом утраты центральной власти явилось то обстоятельство, что объединить всю знать под началом короля стало возможным лишь в том случае, если возникала необходимость отразить английское вторжение. Королевская кампания, предполагавшая пересечение границы и вторжение в Англию, предпринималась с неохотой. Стремление защитить королевство зачастую отходило на второй план, уступая место мыслям о наживе, а если это оказывалось затруднительным, желание вернуться на север становилось подавляющим. Последним из Стюартов, получившим этот горький урок, оказался в 1746 году Чарлз Эдвард Стюарт[8].
Конечно, чтобы предотвратить сползание к анархии, нужно было как можно скорее назначить регента. Он взял бы под контроль королевские замки и казну и получал бы доходы от королевских поместий до тех пор, пока власть в свои руки не взяла бы новая правительница. Регент оказался бы также самым влиятельным человеком в королевстве. Это место немедленно занял кардинал Дэвид Битон, архиепископ Сент-Эндрюсский. Ему было пятьдесят лет, он был опытным дипломатом и убежденным католиком — несмотря на многочисленных любовниц и незаконнорожденных детей. Он был сторонником франкошотландского союза и непримиримым противником реформации английской церкви, начатой Генрихом VIII. Битон представил шотландцам документ, который, как он утверждал, являлся завещанием покойного короля. Согласно этому завещанию власть передавалась совету четырех: графам Хантли, Морею, Аргайлу и Аррану, причем сам Битон оказывался главой совета и «согласно завещанию наставником» принцессы. О ней он отозвался весьма примечательно, назвав ее «не имеющей значения девчонкой». Поскольку завещание давало подробные наставления относительно воспитания принцессы, Яков должен был его писать в течение четырех дней между 10 и 14 декабря, когда он лежал при смерти. Однако большую часть времени он пребывал без сознания, не вызывал секретарей, не делал распоряжений и явно никакого завещания не составлял. Король умер на руках у Битона, и кардинал, по слухам, сумел заставить короля подписать чистый лист бумаги, который впоследствии и превратился в королевское завещание. Все было проделано очень ловко. Битоновское «завещание» явно представляло собой спешно изготовленную при помощи некоего Генри Бэлфура подделку, и его немедленно оспорил граф Арран.
Джеймс Хэмилтон, второй граф Арран, и сам по себе имел серьезные наследственные права на престол. Его дед был женат на Мэри Стюарт, сестре Якова III, таким образом, в жилах графа текла королевская кровь Стюартов. Впрочем, его дед, возможно, не имел права жениться на Мэри, поскольку его сомнительный развод с предыдущей женой был молчаливо признан без всяких доказательств. Следовательно, Арран мог быть сыном незаконнорожденного. Безусловно законным потомком Стюартов был граф Леннокс, однако его наследственные права передавались исключительно по женской линии и потому были слабее. Именно от этой линии происходил Генри Дарили. Но если бы юная Мария умерла — а такая вероятность оставалась всегда, — Арран мог требовать корону для себя.
Арран, однако, был самым бездарным и нерешительным человеком из всех уроженцев Шотландии. Каждый его шаг был продиктован соображениями личной выгоды и личными амбициями, но ему не хватало ума, чтобы понять, в чем состоит эта выгода и как ее добиться. Сначала он стал сторонником Марии де Гиз и католической Франции, а потом перешел на другую сторону, поддержав Джона Нокса и Реформацию. Тем не менее к январю 1542 года он обеспечил свое утверждение в должности правителя и его первым решением стало назначение кардинала Битона канцлером. Затем он резко изменил мнение — такие крутые повороты впоследствии станут его характерной чертой — и отправил кардинала в тюрьму. Арран вздохнул с облегчением, когда Генрих VIII освободил знатных дворян, захваченных в плен при Солуэй Мосс, без выкупа, но ему не пришло в голову посмотреть в зубы этому дареному коню.
Генрих VIII разделял стремление Аррана к власти, однако в отличие от него точно знал, как ее получить. Самым дешевым и эффективным способом вовлечь Шотландию в свою орбиту был брак юной Марии с принцем Эдуардом, поэтому дворяне были отпущены с условием оказания поддержки этому плану. Были даны клятвы в верности и подписаны соглашения, было обещано вознаграждение, а Арран бездумно приветствовал в Шотландии партию, полностью преданную делу подчинения страны Англии. Лучше быть богатым графом на службе английского короля, нежели бедным и к тому же подчиненным нерешительному правителю и вдове-француженке.
10 января 1543 года Яков V был похоронен со всей подобающей пышностью в Холирудском аббатстве рядом с Мадлен и двумя покойными сыновьями. Его правление не было счастливым. Его безжалостный опыт выколачивания денег напугал духовенство, хорошо знавшее о том рвении, с которым Тюдор — дядя короля — грабил церкви и монастыри, и опасавшееся, что теперь наступала его очередь быть остриженным. Тем не менее Яков заложил основы современного шотландского права, учредив в 1532 году Верховный суд юстициария, следовавший образцу итало-нормандского суда Павии, и оставил в казне 26 тысяч шотландских фунтов. Говорили также, что у него было «много посуды», другими словами, он хранил запас золотой и серебряной утвари. Это была популярная форма вложений, ведь в случае нужды посуду легко было переплавить. То же самое верно и в отношении золотых цепей, которые носили знатные дворяне. Историк Джон Лесли, живший в XVI веке, назвал Якова «королем бедняков — отправлявшим правосудие, исполнявшим законы и защищавшим невинных и бедных».
Вдовствующая королева с дочерью все еще находилась во дворце Линлитгоу, но прекрасно знала о неуклюжих махинациях Аррана. История обвиняла Марию де Гиз во многом, но некомпетентность никогда не входила в число предъявлявшихся ей претензий. Имея свои планы на дочь, она поступила мудро, устроив так, что Мария оставалась на ее попечении в Линлитгоу, а не в руках Аррана. Мария де Гиз понимала, каким важным династическим призом является ее дочь, знала она и то, что Генрих будет только рад заполучить и юную королеву, и ее мать. Назначенный Генрихом смотритель Северной марки, виконт Лайл, сказал о Марии: «Я бы предпочел, чтобы она и ее нянька находились в доме моего государя».
Первое официальное предложение было сделано, когда Марии не исполнилось и четырех месяцев. В Холирудский дворец прибыл посол Генриха сэр Ральф Сэдлер, чтобы вести переговоры о брачном союзе. Сэдлер был «маленького роста… искусен в воинских делах, силен и энергичен». Он был профессиональным дипломатом, обученным на службе Томасу Кромвелю[9], и не был чужаком в Шотландии. В свое время он пытался отвратить Якова V от французского союза, однако Яков «сравнил расточительную щедрость Франциска I с жалким подарком — упряжкой лошадей». Скаредный Генрих VIII прислал в качестве примирительного дара всего лишь шесть меринов.
Теперь, в конце марта, Сэдлер встретился с Арраном, сказавшим ему, что у него нет возражений против брака, а согласие шотландских сословий можно гарантировать, если Генрих станет иметь дело только с ним. Стало ясно, что понадобятся взятки, а также гарантии того, что Арран сохранит свой пост правителя. Сэдлер намекнул на возможность брака между сыном Аррана Джеймсом Хэмилтоном и дочерью Генриха принцессой Елизаветой, но Арран не выказал заинтересованности и ясно дал понять, что его нынешняя цена — единовременная выплата тысячи фунтов. Он обещал Сэдлеру публичную поддержку Реформации Генриха, но в частной жизни оставался католиком. Арран с радостью продал бы Сэдлеру мебель из дворца, которой он как правитель имел право распоряжаться. Англичанин быстро понял, что с Арраном дело можно уладить обычным подкупом или же запугать его и добиться подчинения. Поэтому следующим шагом Сэдлера стала поездка в Линлитгоу для встречи с Марией де Гиз — королевой-матерью, которая, он был уверен, гораздо менее податлива.
По-настоящему осторожный посол, Сэдлер настоял на том, чтобы ему показали ребенка. В этой просьбе не было ничего необычного, и Мария приказала нянькам распеленать пятимесячного младенца. Сэдлеру даже позволили подержать Марию на коленях под неусыпным присмотром королевских нянек. Девочка радостно гукала, и Сэдлер стал первым из многих мужчин, подпавших под чары Марии Стюарт. Он описывал ее как «самого красивого ребенка, какого я видел».
Дитя опять завернули и унесли кормить, пока Сэдлер и Мария обсуждали возможность брака с Эдуардом. Зная преданность Марии католической вере и ее тесную связь с Францией, Сэдлер ожидал, что она будет страстно возражать и ему придется вернуться к корыстному Аррану. Но Сэдлер не знал, что 20 февраля Мария получила письмо от Чарлза Брендона, герцога Саффолка, которого Генрих VIII назначил лордом-лейтенантом Пограничного края. В письме говорилось, что брак будет «не только очень выгоден ее дочери, но и прекратит бедствия и кровопролитие». Это было предложение, от которого Мария де Гиз, как предполагалось, не могла отказаться; но подобные угрозы лишь вызвали мрачную усмешку решимости на ее лице. Мария знала, чего ждал Сэдлер, и перехитрила его, согласившись на все требования. Она «была полностью согласна и горела желанием содействовать целям Его Величества», даже готова была отправить ребенка для безопасности в Лондон. Конечно, на самом деле Мария и не думала так поступать.
Арран отослал французских послов и безуспешно пытался изолировать Марию, перехватывая ее письма. Однако она уже сумела переправить одно письмо матери, собиравшей союзников при дворе Франциска I на случай возможных волнений в Шотландии. Полностью, хотя и неискренне, согласившись с Сэдлером, Мария вывела Аррана из игры. Теперь Сэдлер мог иметь дело напрямую с королевой-матерью и забыть об Арране. Сэдлер мог уверить Генриха в том, что имеет влияние на реальную власть, тогда как Мария втайне продолжала следовать своему замыслу.
Мария знала, что дворец Линлитгоу не выдержит осады; она также знала, что Арран прибегнет к насилию, если расстроить его планы. Она звала Аррана «самым непостоянным человеком в мире, ведь что бы он ни решил сегодня, назавтра он передумает». Чтобы не потерять опеки над дочерью, Мария уже начала отсылать тайные конвои с казной, утварью и мебелью в свой замок Стирлинг, гораздо лучше защищенный.
Замок Стирлинг, который принадлежал Марии как часть выделенного ей по брачному соглашению имущества, стоит, как и Эдинбургский замок, на высокой скале, с которой открывается широкий вид на окрестности. Он был практически неприступным. Там ее дитя было бы в безопасности. Но пронюхавший о ее планах Арран запретил Марии покидать Линлитгоу. Вдовствующая королева продолжала обманывать Сэдлера, говоря ему, что Арран нарушит свое слово, дождется смерти Генриха, а затем выдаст Марию Стюарт замуж за своего сына и сам захватит престол. У Марии де Гиз не было тому доказательств, не считая того, что большинство людей были готовы поверить худшему, если речь шла об Арране, и Сэдлер был склонен верить ей. В конце концов оказалось, что перебираться в Стирлинг необязательно, поскольку французские связи Марии де Гиз стали приносить плоды.
Сведения из Франции гласили, что Франциск предоставил дяде Марии Стюарт, герцогу де Гизу, средства, чтобы тот в случае необходимости собрал армию. Так или иначе, Франциск отправил в Шотландию Мэтью Стюарта, графа Леннокса, — соперника Аррана, также обладавшего правами на престол.
(Живя в изгнании, Леннокс стал французским подданным и изменил написание фамилии Stewart на французскую версию — Stuart.) Леннокс прибыл готовым к схватке и занял свой замок Дамбартон на северном берегу Клайда — еще одну неприступную крепость на скале. Кардинала Битона — его Генрих VIII называл «лучшим французом в Шотландии» — перевели из тюрьмы в его собственный замок в Сент-Эндрюсе, и вокруг него собирались католические лорды. Нетерпеливый Генрих, уставший от отсутствия результатов в Шотландии, приказал Аррану перевезти девочку в Эдинбургский замок. Бессильный Арран, не имевший реальной возможности сделать это, не вступив в противостояние с Марией, Ленноксом и кардиналом Битоном, тянул время. Он вяло оправдывался, говоря, что у девочки режутся зубы и перевозить ее нельзя. Теперь Мария, Битон и Леннокс пользовались усиливавшейся поддержкой Франциска и на их попечении находилась юная королева Мария. На стороне Аррана были немногие лорды, выполнявшие обещания, данные Генриху во время плена после Солуэй Мосс, а сам Генрих дышал Аррану в затылок, требуя действий.
Тюдоры не отличались терпением, и у Генриха оно уже кончилось. «Его королевское величество приказывает собрать на границе войска и оружие, и в случае, если обещания, мягкое обращение и разумные уговоры не возымеют действия, его королевское величество может использовать свою власть и силу». Английский король дал знать Аррану, что отправляет к нему для подписания договор, и если подписи под ним не появятся немедленно, Шотландии следует ожидать английского вторжения. Речь шла о Гринвичском договоре, и 1 июля 1543 года он был подписан, хотя и без особого энтузиазма. Генрих VIII прежде всего хотел, чтобы Шотландия была связана с ним узами соглашения и не могла воззвать о помощи к Франции, тогда как он сам обретал свободу выискивать за Ла-Маншем возможности для вторжения во Францию. Поэтому условия договора были на удивление благоприятны для Шотландии. Мария Стюарт должна была оставаться в Шотландии до тех пор, пока ей не исполнится десять лет, а Генриху надлежало прислать знатного дворянина с женой, которые ведали бы образованием девочки, когда она достигнет соответствующего возраста. Другими словами, король желал, чтобы невеста Эдуарда говорила по-английски, а не по-французски или на шотландском наречии. На свой десятый день рождения Мария должна была выйти замуж за Эдуарда в Англии; предполагалось, что она больше не вернется в Шотландию. Стороны пришли к соглашению относительно приданого, хотя знали, что его всегда можно изменить. Удивительно, но Генрих VIII согласился, чтобы королевство Шотландия «сохранило свои законы и вольности». Он гарантировал независимость Шотландии на протяжении десяти лет, а обещанный брак откладывался на этот срок. Заключая подобный договор, все заинтересованные стороны знали, что за данный отрезок времени может произойти все что угодно, и стремились извлечь из него как можно больше сиюминутных выгод.
Тем временем Сэдлер получал неизбежные просьбы о деньгах, которыми надлежало обеспечить верность шотландских лордов. Выплаты варьировались в размере от ста фунтов графу-маршалу[10] и графу Энгусу до трехсот фунтов лорду Максвеллу и тысячи фунтов самому Аррану. Арран уверил Сэдлера в том, что способен контролировать шотландских лордов: «Если они не исполнят своего долга, он сообщит всему миру об их вероломстве и станет искать помощи Англии и всего мира, чтобы покарать их». Если его противники выступят против него, он «будет держаться» Генриха, а все крепости к югу от Форта «будут готовы по приказу английского короля». Теперь Арран хотел заключить договор о браке Елизаветы и своего сына и намекал, что, приобретая лояльность лордов Генриху, он переплавил на монеты часть своей драгоценной утвари, однако выплата тысячи фунтов уладила бы дело. Мудрый Сэдлер придерживал деньги, чувствуя, что Арран использует их «безрезультатно», но в июле наконец заплатил. Результатом стало лишь то, что в августе Арран попросил еще пять тысяч фунтов.
К беспокойству Сэдлера, Арран по-прежнему добивался контроля над Марией Стюарт, чтобы воспротивиться ее увозу во Францию. Дело все больше выглядело так, как если бы Мария де Гиз вступила в официальный союз с Битоном и Ленноксом и их войска собирались в Линлитгоу. Ходил слух, что у побережья затаились французские корабли, хотя их никто не видел. Сэдлер хотел, чтобы Марию Стюарт перевезли в Стирлинг, подальше от возможного вооруженного конфликта, а поскольку именно к этому и стремилась Мария де Гиз, она с радостью выполнила желание посла.
27 июля Мария Стюарт, сопровождаемая Ленноксом и эскортом из двух с половиной тысяч всадников и тысячи пехотинцев, в парадном шествии достигла замка Стирлинг по той же дороге, по которой мчался гонец, доставивший весть о ее рождении Якову V. Ей было всего восемь месяцев, и она еще нуждалась в кормилице, однако все, кто видел процессию, не сомневались в том, что встретили королеву. Мария находилась под надзором своей матери, и Арран лишился козырей для переговоров.
Стирлинг, даже лучше укрепленный, чем Эдинбургский замок, также удостоился благосклонного внимания Якова V, и там появились великолепные резные геральдические щиты во французском стиле и большой зал, который, по слухам, мог вместить 400 человек. Благодаря тайным перевозкам из Линлитгоу, совершавшимся по приказу Марии де Гиз, замок был обставлен как подобает королевскому дворцу. Он стал первой королевской резиденцией в Шотландии, где построили королевскую капеллу. Внутри замковых стен были разбиты сады, и Мария Стюарт могла расти здесь в безопасности. Даже на Сэдлера, привыкшего к роскоши королевского дворца Хэмптон Корт, замок произвел впечатление; посол сообщал о матери и ребенке: «Она счастлива находиться в Стирлинге. Ее дочь быстро вытянулась, и она скоро превратится в женщину, если только пойдет в мать, ведь та и в самом деле одна из самых высоких женщин». Хотя под конец жизни излишний вес сильно досаждал Марии де Гиз, но и тогда она по-прежнему оставалась статной и привлекательной женщиной.
Генрих VIII, отчаянно пытавшийся сохранить контроль над ухудшающейся ситуацией с расстояния в 500 миль, теперь потребовал, чтобы в замке разместили только юную королеву, а ее мать поместили в городе и ограничили право доступа к дочери. Он был совершенно прав, разглядев суть проблемы: приказы отдавала Мария де Гиз. Требование короля просто проигнорировали.
Однако Сэдлер, осмотрительный, как всегда, вновь потребовал показать ему девочку, и ее покорно привели — здоровую, поправившуюся после ветряной оспы. Осознав, что у него больше нет возможности кого-либо обманывать, Арран, как обычно, решил присоединиться к победителям и встретился с Битоном. Кардинал организовал публичное признание графа в отступничестве и отпустил ему грехи. Арран также отправил своего сына Джеймса Хэмилтона на попечение кардинала в замок Сент-Эндрюс. Теперь вся власть в Шотландии была сосредоточена вокруг юной Марии, а ее мать могла перейти к реализации нового, важнейшего этапа своего плана.
9 сентября 1543 года состоялась коронация Марии. Ей было ровно десять месяцев, и она, конечно, ничего не запомнила. Церемония состоялась в Королевской капелле Стирлинга, по словам Сэдлера, «со всей торжественностью, которая в обычае в этой стране — а она стоит немногого». Арран нес корону — его наследники, герцоги Хэмилтоны, делают это и по сей день; у Леннокса в руках был скипетр, а у Аргайла — королевский меч. Марию несла ее мать, а церемонию проводил облаченный в красную кардинальскую мантию Битон. Корону последний раз надевал Яков V во время коронации Марии де Гиз; теперь кардинал держал ее над крошечной головкой королевы. Она была подобающим образом помазана освященным маслом, смешанным с миррой, и немедленно превратилась в помазанницу Божью. Теперь она обладала долей сакральной власти: например, могла исцелять прикосновением золотуху, «королевскую болезнь», а полученная корона — вместе со светской властью, которую она олицетворяла, — дана была ей по божественному праву.
Новая королева плохо вела себя на протяжении всей церемонии, постоянно разражаясь криками, так что никто не в состоянии был расслышать, как знатные дворяне приносили свою, зачастую лживую, присягу на верность. Герольды, долгом которых было перечислить все длинные титулы Марии, просто сдались, и пока Дженет Синклер устраивала новую королеву в ее колыбели, двор отправился в большой зал дворца на бал. Лорды — сторонники англичан отсутствовали, и казалось, что у них не будет уже никакой возможности выполнить обещания, данные Генриху VIII. Мария де Гиз показала всем, что она не просто королева-мать, которую уважают и тихо игнорируют, но искусная и решительная женщина, представляющая франко-шотландский союз, и с ней нельзя не считаться. Генриху оставался потерявший всякую ценность Гринвичский договор, и он больше никогда не станет доверять шотландцам.
Хотя стояла осень, двор все еще наслаждался соколиной и псовой охотой и танцами. В Стирлинг устремились музыканты и живописцы, и Мария, ненадолго освободившаяся от династических обязанностей, извлекала удовольствие из своего положения молодой вдовы. Ей было двадцать восемь лет, и она была привлекательна, так что простейшим способом обеспечить верность своей вечно ссорящейся знати была брачная игра. Аррана можно было подкупить деньгами и властью, но благосклонность Леннокса приобреталась взмахом ресниц. Леннокс обладал европейским лоском, он служил лейтенантом Шотландской гвардии — отряда наемников-аристократов, являвшихся личной охраной французского короля. Он был утонченным и легко соблазнял придворных дам изысканными манерами.
Подобный флирт с одним мужчиной мог оказаться опасным, если только его не уравновесить флиртом с другим, и Мария нашла отличный противовес в лице Патрика Хёпберна, графа Босуэлла. Его уже изгоняли из страны за надменное самоуправство; он, хотя и несправедливо, считался королевским бастардом — и не сделал ничего, чтобы пресечь распространение подобных слухов. Наследственный лорд-адмирал, Босуэлл имел право на долю дохода от продажи всех кораблей, потерпевших крушение у берегов Шотландии, что давало ему регулярный и надежный источник дохода. Он владел крепостью Крайтон близ Эдинбурга и мрачным замком Хэрмитедж в Пограничном крае. Этот замок он держал от имени короля, но оттуда мог как угрожать любой английской армии, так и оказать ей благосклонный прием, потакая собственному капризу. Поведение Босуэлла было типичным для рыцарей XII века, когда насилие становилось решением всех проблем. Он был женат, но как только понял, что вскоре может стать отчимом королевы, быстро получил разрешение аннулировать брак.
Леннокс и Босуэлл соперничали друг с другом в том, «чья одежда более роскошна», и «в присутствии королевы порой танцевали, порой стреляли по мишеням или же пели, участвовали в турнирах и скачках и прочих рыцарских забавах, которые могли понравиться ей». Их ухаживание было выдержано в стиле, восхищавшем 400 лет назад Элеонору Аквитанскую и ее Суд Любви[11]. Хронист Линдси из Пискотти говорил, что двор Марии де Гиз «был подобен Венере и Купидону в начале мая».
Главным центром притяжения двора была, несомненно, вдовствующая королева, а его самой большой драгоценностью — юная королева Мария. Мария де Гиз требовала, чтобы девочке оказывали подобающее ее сану почтение, и, когда ей разрешали смотреть на придворных, танцующих гальярду и павану, дамы и кавалеры низко кланялись ей, прежде чем начать танец. Когда вечно бдительная Дженет Синклер решала, что Марию пора укладывать спать, лорд-камергер провозглашал: «Королева удаляется!» Танец прерывался, и весь двор преклонял колени. Мария вряд ли видела вооруженных стражников, всегда следовавших за ней на небольшом расстоянии, но она должна была чувствовать внимание, которое ей оказывали те счастливчики-придворные, которым дозволялось к ней приближаться. Суровые вояки типа Босуэлла хвастались потом, что юная королева им улыбнулась, и они снимали шляпы, приветствуя ее, когда она смотрела на кавалькады охотников, выезжавших из замка, с охотничьими птицами на руке. Однако жизнь Марии была слишком драгоценной, чтобы юной королеве могли позволить присоединиться к ним за стенами замка. Мир ее детства был полон музыки, звучавшей на регулярно устраивавшихся балах или еще чаще в Королевской капелле, где мессу сопровождала музыка Роберта Карвера и Роберта Джонсона[12]. Мария не помнила это время в деталях, однако первыми взрослыми увлечениями ее жизни стали музыка, танцы и придворный этикет. Она не знала о дерзких интригах, сплетавшихся под поверхностью этого блистательного двора.
Мария де Гиз знала толк в куртуазном ухаживании, однако Босуэлл испортил всю игру, публично объявив о якобы данном Марией обещании выйти за него замуж. Леннокс почувствовал себя обманутым любовником и, оскорбленный, удалился в свою крепость Дамбартон. Один удар едва не разрушил тщательно возводимое Марией здание всеобщего единства.
Конечно, оставалась реальная возможность получить помощь из Франции, и герцогиня Антуанетта писала дочери: «Я не сомневаюсь, что король со своей стороны окажет тебе всю помошь, какую только сможет. Твой брат, герцог Омаль, и я будем просить его». Поняв, что Мария де Гиз находится в опасности, Франциск I отреагировал на это отправкой к ней флота, денег, оружия и боеприпасов, а также двух послов — де Бросса и Месанжа. Леннокс тут же захватил груз, однако ему напомнили, что, поступая так, он, как французский подданный, совершает государственную измену. Он знал, что французы не церемонились с изменниками, а наказание подразумевало долгую и мучительную смерть, поэтому немедленно примирился с Марией. Теперь Леннокс принудил Марию обещать ему свою руку, и она добилась соглашения с Арраном о том, что Леннокс и он станут управлять королевством совместно. В свою очередь, Леннокс позволил послам распределить среди знатных дворян около 59 тысяч крон, и опасно пошатнувшееся было единство первого сословия, которого добилась Мария, восстановилось.
Арран, как и сама Мария, вовсе не собирался вознаграждать Леннокса и перешел к крайним мерам, которые зачастую предпочитают трусы: немедленно выступил против соперника на Глазго Мьюр[13] и был жестоко наказан. Но Леннокс теперь знал, что его шанс добиться единоличной власти над Шотландией иллюзорен; он бежал на юг, в Лондон, где 29 июня 1544 года женился на племяннице Генриха VIII леди Маргарет Дуглас. Их сыном был Генри Дарнли.
Теперь ко двору Марии де Гиз вернулись французские послы со своими свитами, и она, свободная от политических конфликтов, наслаждалась материнством. Арран и Битон были ее союзниками, а отступничество Леннокса она рассматривала как устранение еще одной помехи. Обожаемая всеми юная королева находилась там, где и должна была быть, — на попечении матери. Мария де Гиз одержала полную победу без единого выстрела, не пролив ни капли крови. От ее внимания не ускользнул тот факт, что французский дофин Генрих и его супруга-итальянка Екатерина Медичи наконец произвели на свет сына, Франциска, так что теперь вполне возможным становился католический династический брак с союзником на континенте.
Генрих VIII, гнев которого возрастал день ото дня, поспешно захватил и сжег несколько ни в чем не повинных шотландских торговых кораблей и тем самым дал шотландскому парламенту предлог официально отказаться от Гринвичского договора. Акт шотландского парламента провозглашал: «Король Англии нарушил мир… Упомянутые договоренности недействительны и не должны соблюдаться в будущем». К 11 ноября от имени одиннадцатимесячной Марии были отправлены письма Карлу V, императору Священной Римской империи, с просьбой взять под свою защиту шотландские торговые корабли, направляющиеся к Нижней Германии, то есть к Гамбургу и Любеку. Печать королевы находилась в руках Аррана, а письма признавали тот само собой разумеющийся факт, что Шотландия находилась в состоянии войны с Англией. Генрих VIII написал Аррану гневное письмо, обвиняя его в нарушении своего слова, обошедшегося английской короне в тысячу фунтов. Герольд Генриха предупредил Аррана и совет, что страну ждут гибель и запустение. Это заставило Битона уверять Генриха, что он, как и все подданные обоих королевств, желает «поддерживать согласие», существовавшее между ним и их покойным королем. Битон не был искренен, и Генрих не поверил ни одному слову. Он сказал, что Битон «трудится на радость Франции».
Сэдлер был изолирован и попал под надзор. «Я не могу служить Его Величеству так, как желало бы мое бедное сердце… Все тело королевства склоняется к Франции», — писал он.
Английский король Генрих VIII в последние годы жизни был тяжело болен. Его изъязвленная нога распухла до такой степени, что он часто оказывался прикованным к постели и, несмотря на тщательный уход его последней жены, Екатерины Парр, постоянно испытывал боль. Он и раньше не отличался мягкостью, а теперь постоянно находился в ярости в отношении Марии де Гиз и шотландцев, отвергших Гринвичский договор. Его угрозы никогда не были пустыми, не стали они таковыми и в этот раз.
20 декабря 1543 года герольд Бервик[14] по имени Генри Рэй заявил шотландцам, что состоявшийся годом раньше набег на Солуэй Мосс рассматривается в Лондоне как враждебный акт и поэтому Шотландии надлежит либо сделать все возможное, чтобы умилостивить Генриха VIII, либо защищаться.
В мае 1544 года граф Хартфорд высадил в Грантоне, в трех милях к северу от Эдинбурга, 15 тысяч солдат. Данные ему приказы были точными и безжалостными.
Глава II
«ОДНО ИЗ САМЫХ СОВЕРШЕННЫХ СОЗДАНИЙ»
Марии исполнилось восемнадцать месяцев; она была крепкой девочкой и беззаботно играла на весеннем солнышке под присмотром нянек за охранявшими ее стенами замка Стирлинг. Она, естественно, понятия не имела о том, что правители Западной Европы нацелились захватить ее.
Большей частью континента правили три могущественных человека. В Англии царствовал пятидесятитрехлетний Генрих VIII; его власть не подвергалась сомнению в собственной стране, однако его северной границе могла угрожать Шотландия. Генрих знал, что сама по себе Шотландия слишком бедна, чтобы организовать нечто большее, чем приграничный рейд. Однако Генрих был единственным королем-протестантом в Европе, и Шотландия могла рассчитывать на поддержку: моральную — из Рима и практическую — из Франции. Английская Реформация Генриха, напротив, не приобрела ему друзей.
Францией управлял пятидесятилетний Франциск I — личность не менее яркая. С момента восшествия на престол эти два государя постоянно соперничали, то воюя, то стараясь превзойти друг друга в роскоши и великолепии. Их встреча на Поле Золотой Парчи в 1520 году[15] планировалась как праздник дружбы, но на самом деле явила собой зрелище двух павлинов, распускавших друг перед другом хвосты. Единственным важным ее последствием стало то, что Генрих встретил там англичанку, фрейлину французского двора по имени Анна Буллен, или Болейн[16].
Франциск постоянно находился под угрозой удара с севера, из Испанских Нидерландов, или с юга, из самой Испании через Пиренеи. Испанией и Нидерландами управлял сорокачетырехлетний император Священной Римской империи Карл V. Карл также управлял Австрией и имел плацдарм в Северной Италии, откуда он, конечно, мог напасть на Францию с юговостока — через Савойю. Там Франциск вел с Карлом войну, обернувшуюся для него трагической неудачей и закончившуюся его пленением в битве при Павии в 1525 году. Большая часть французской аристократии была либо убита, либо захвачена в плен, и сам Франциск в течение года был пленником Карла V в Испании. Его в конце концов освободили в обмен на отданных в заложники сыновей. Так будущий Генрих II в свою очередь провел два года в Испании как пленник. Карл V был ревностным католиком, а Испанские Нидерланды были северной частью того кулака, в котором этот государь сжимал Францию. От Англии Нидерланды отделял лишь пролив Па-де-Кале.
На протяжении столетия три соперника дрались, подписывали договоры, формировали союзы и постоянно затевали военные кампании. Теперь же появилась принцесса, готовая вступить в брак, хотя и была совсем еще ребенком, а самыми прочными из всех были именно брачные союзы. Наследником Генриха VIII был принц Эдуард, хотя семилетний мальчик, чье рождение стоило жизни его матери Джейн Сеймур, был слабеньким и от него не ожидали долголетия. Впрочем, никто при дворе не был столь безрассудно-храбрым, чтобы упомянуть об этом при его отце. Предполагалось, что архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер воспитает Эдуарда в протестантской вере. Но если бы Генрих сумел нейтрализовать угрозу франко-шотландского союза, у него были бы развязаны руки и он мог бы сосредоточить свое внимание на южном соседе — Франции.
У Франциска был внук одного возраста с Марией, чья мать была урожденная де Гиз; на нее, соответственно, можно было положиться — уж она-то точно благосклонно смотрела на французский брак. Кроме того, девочку непременно вырастили бы доброй католичкой. В 1546 году Франциск предложил, чтобы Мария Стюарт вышла замуж за сына датского короля Христиана, ведь он мог рассчитывать на то, что Мария де Гиз в Шотландии останется союзником Франции. Тогда восточное побережье Англии оказывалось под угрозой со стороны Дании, и французский король смог бы полностью окружить Генриха, устранить опасность английской агрессии и свободно выступить против Карла V. Однако из этого плана ничего не вышло.
У Карла, в свою очередь, был сын Филипп, женатый на Марии Португальской. Они вполне могли произвести на свет подходящего жениха. Так что Карл мог и подождать.
Генрих же ждать не мог, и результатом его нетерпения стал поспешно заключенный Гринвичский договор, теперь денонсированный приводившими его в ярость шотландцами. В конце января 1544 года Генрих написал герцогу Саффолку в Ньюкасл, приказав ему собрать 20-тысячную армию и вторгнуться в Шотландию в мае. В марте Саффолку приказали наводнить Пограничный край своими шпионами. Ему отвели шесть недель на то, чтобы поставить Шотландское королевство на колени при помощи того, что английское правительство именовало «Шотландским предприятием», а теперь чаще называют «Грубым ухаживанием». Смотрители Приграничных марок должны были начать процесс «ухаживания» постоянными рейдами и налетами. Подготовка к кампании шла открыто, так как Генрих надеялся, что благодаря многочисленным шпионам с обеих сторон сведения о его намерениях вселят в шотландцев страх и приведут их за стол переговоров. Этого, однако, не произошло; результатом стало лишь гробовое молчание шотландского парламента. Впрочем, шотландцы не позаботились и укрепить свои защитные сооружения на берегах Фиртоф-Форт.
При дворе в Стирлинге все шло как обычно. Мария де Гиз умоляла папу Павла III позволить назначить Маргарет Хоум приорессой аббатства в Северном Берике вместо Изабеллы. Причиной вынужденной отставки стало нервное истощение, вызванное волнением от постоянных английских набегов. Таким образом, становится очевидным, что усиливавшаяся кампания военного давления и стычек теперь уже затрагивала территории, находившиеся менее чем в двадцати милях от Эдинбурга. Через четыре дня, 24 января, Мария де Гиз снова написала в Рим, прося, чтобы сводному брату Аррана Джону Хэмилтону даровали епископство Данкелд со всеми его доходами. «В наше время религию надлежит поддерживать не только достоинством, но и богатством». 1 февраля Генрих VIII отправил письмо Карлу V, уверяя его в том, что его королевства не побеспокоит; другими словами, он просил о гарантиях невмешательства. Таковые были ему даны при условии, что император сможет рассчитывать на равную поддержку в отношении его собственной проблемы в Австрии. Генрих согласился.
В конце апреля Хартфорд уже настолько преуспел в выполнении своей задачи — сбору войск, что мог торжественно проследовать по улицам Ньюкасла: «3000 всадников-северян, одетых в кожаные куртки-доспехи, 28 знатных дворян и джентльменов в черном бархате и золотых цепях, 3 трубы и 3 рожка, 3 герольда в камзолах, джентльмен с обнаженным мечом в руке, граф в богатом одеянии, 4 разодетых пажа, 28 слуг в ливреях и, наконец, 3000 пехотинцев». Никто не сомневался, что готовится полномасштабное вторжение, и 1 мая Сэдлеру было предписано предложить окончательные условия. Генрих УТИ хотел, чтобы королева Мария Стюарт вышла замуж за его сына и была отослана в Англию до достижения ею десяти лет; он также желал договора о вечном мире, отказа Шотландии от дружбы с Францией, запрета заключения любых союзов без его согласия, безусловного обещания Шотландии поддерживать Англию во всех войнах и гарантий того, что Арран останется правителем страны при условии доброго отношения к королю Англии.
Ответа на это предложение получено не было, и Хартфорд отплыл от английских берегов с точными приказами, данными ему Тайным советом. Во все века они остаются примером санкционированной государством жестокости:
«Предать все огню и мечу. Сжечь город Эдинбург, вернее то, что от него останется после того, как вы разрушите его до основания и уничтожите, взяв его и захватив там все, что сможете, чтобы вечной оставалась память о возмездии, посланном Богом за лживость и измену. Не медлите у замка, разграбьте дворец Холируд и столько городов и деревень в окрестностях Эдинбурга, сколько удастся. Разграбьте Лит, сожгите и уничтожьте его и все остальное, а если вам станут сопротивляться, предайте огню и мечу всех мужчин, женщин и детей без исключения. После этого отправляйтесь в графство Файф и распространите такие же бедствия и разрушения на все его города и деревни, каких сможете достичь, не забыв также разграбить и разрушить город кардинала — Сент-Эндрюс, не оставив там камня на камне и не пощадив ни одного живого существа. Проведите там месяц, грабя и поджигая округу».
Задача была чересчур грандиозной, однако Хартфорд приступил к ее исполнению с мрачной деловитостью. Он высадился в Файфе 3 мая, сжег Сент-Монанс и захватил все находившиеся в гавани корабли, прежде чем заночевать на острове Инчкейт. На следующий день он высадился в Грантоне, где ему не оказали сопротивления, и в течение четырех часов разгрузил всю свою артиллерию, а также захватил несколько судов, включая галеру «Саламандра» — личный подарок Франциска I Марии де Гиз. Хартфорду за ночь удалось высадить на берег войска, и на следующее утро он направился к Эдинбургу. Там он встретил шеститысячную шотландскую армию. Он предъявил свои требования мэру Эдинбурга Адаму Оттерберну; требования были отвергнуты. Согласно «Хронике ежедневных событий» мэр «приказал эдинбургцам отправляться домой. Англичане осадили замок, но толком ничего не сделали, а защитники замка убили многих из них. Поэтому на следующий день англичане разграбили Эдинбург и сожгли его, а затем отправились к Литу, не встретив никаких преград». На самом деле Хартфорд провел три дня, грабя и поджигая Эдинбург. Затем он сжег замок Крейгмиллар и опустошил окрестности Эдинбурга вплоть до Данбара на востоке и Квинсферри на западе. Он разрушил часовню Богоматери Лоретской в Масселборо, а также сады Сетона, «лучшие и красивейшие из всех, что мы видели в этой стране». Снова оказавшись на другой стороне Форта, Хартфорд добрался до Кингорна, но осознал, что ему ни за что не удастся достичь Сент-Эндрюса за отведенное ему Генрихом VIII время.
В Стирлинге планировали отправить Марию Стюарт сначала в Хайленд, где «до нее невозможно будет добраться», затем в собор в Данкелде, где теперь епископом был брат Аррана. Хартфорд находился уже в шести милях от Стирлинга, когда ему пришлось повернуть обратно из-за нехватки времени. Он и его люди «отослали домой добычу и пушечные ядра, а сами вернулись в Англию пешком, через шотландскую территорию, сжигая селения, крепости и города на своем пути, потеряв едва ли 40 человек». Хартфорд упомянул разрушение аббатств Келсо, Джедбург, Джайбург и Мелроуз, 7 монастырей, 16 замков, 5 городков, 253 деревень, 13 мельниц и 3 госпиталя. Его армия убила в сражении 192 шотландца, взяла в плен 816 человек и увела с собой в качестве добычи 10 386 голов рогатого скота, 12 240 овец и 200 коз, а также захватила 850 боллов[17] пшеницы. Во всех городах мирное население было вырезано. Харфорду было выдано строгое предписание, потому что Генрих планировал вторжение во Францию с целью захватить Булонь, и теперь Хартфорд отправился на юг, чтобы присоединиться к готовившейся к высадке армии.
Вторжение Хартфорда для Шотландии стало катастрофой. Однако одним из его результатов явилось укрепление позиций тех шотландцев, которые считали, что Мария должна выйти замуж во Франции. Франциск обещал помощь, а власть Марии де Гиз усилилась с падением Аррана. Теперь она заседала в совете, и было ясно: отныне именно она будет выбирать мужа для дочери.
Хартфорд помог Генриху VIII отвоевать Булонь у Франциска I, а затем вернулся в Шотландию в феврале 1545 года и снова занялся резней и грабежами в Пограничном крае. Но когда он 27 февраля встретил шотландскую армию у Анкрум Мур, она больше не находилась под единоличным командованием ни на что не способного Аррана. Шотландские силы были переданы в руки более талантливого графа Энгуса, и впервые за всю свою военную карьеру Хартфорд был обращен в бегство.
Обе стороны перевели дыхание и на протяжении года занимались заключением союзов и пополнением казны перед неизбежным возобновлением военных действий. Мария Стюарт по-прежнему проводила свое золотое детство в безопасности замка Стирлинг. Там она начала говорить на шотландском наречии своих нянек. При дворе, однако, в соответствии со вкусами Марии де Гиз преобладала французская мода. Она признавала нормальной частью жизни регулярное посещение мессы, а также формальное почтение со стороны аристократов. Если бы можно было брать девочку в поездки в окрестности Стирлинга, она, возможно, приобрела бы представление о жизни вне двора. Однако меры безопасности делали это невозможным, а няньки, обожавшие вверенную им юную королеву, всячески старались компенсировать ей замкнутое существование. Мария Стюарт не подозревала о событиях, разворачивавшихся в Восточном Лотиане.
Ночью 16 января 1546 года солдаты графа Босуэлла, действовавшие по приказу кардинала Битона, арестовали несколько человек в Ормистоне, деревне неподалеку от Хаддингтона. Многочисленные любовные похождения Босуэлла привели к тому, что он лишился благосклонности Марии де Гиз, но старания помочь католическому делу восстановили его утраченные позиции при дворе. Целью кардинала был Джордж Уишарт, протестантский реформатор, находивший сторонников везде, где проповедовал. Уишарт находился под охраной своего «меченосца» Джона Нокса. Нокс, выпускник Сент-Эндрюсского университета и рукоположенный священник, был обращен в протестантизм Уишартом и стал членом постоянно увеличивавшейся группы протестантов-вероотступников.
Арестованного Уишарта доставили в Сент-Эндрюс — остальным позволили «сбежать» — и предали суду. Он, конечно, был признан виновным, и 18 февраля 1546 года кардинал совершил колоссальную ошибку, приказав сжечь Уишарта на костре у стен замка. Костер был столь «удачно» размещен, что кардинал мог наблюдать за мучениями Уишарта, не вставая с подушек и наслаждаясь обедом и вином.
Ошибка стала очевидной три месяца спустя, ранним утром 29 мая, когда в замок проникли пять человек, чьи разногласия с Битоном носили политический, а не религиозный характер. В замке шли ремонтные работы, и рабочие беспрепятственно входили и выходили, так что злоумышленники с легкостью проникли внутрь, сбросили привратника в ров и едва не столкнулись с любовницей Битона Мэрион Огилви, выходившей из замка после ночи, которую она и кардинал провели «за счетами». Битон теперь «отдыхал… согласно законам природы». Проникнув внутрь, заговорщики впустили еще шестнадцать человек, взломали дверь в комнату кардинала и, невзирая на его мольбы: «Стыдитесь! Я священник!» — закололи его. Чтобы обеспечить своему деянию внимание народа, они повесили тело кардинала за ноги на стене замка. Там над ним надругались горожане. «Некий человек по имени Гутри помочился ему в рот». Ожидая неизбежных карательных мер, убийцы укрылись в замке и подготовились к осаде.
Генрих VIII ликовал, и в течение некоторого времени сохранялось неверное представление о том, что убийцы — теперь их именовали «кастильцами»[18] — действовали по его приказу. Не стоит и говорит, что Арран колебался. Это и неудивительно, учитывая, что его сын находился в замке и был захвачен в плен; «кастильцам» было дано время просить о помощи Генриха. Тот только что заключил мир с Францией после захвата Булони и знал, что вмешательство в шотландские дела может поставить под угрозу это соглашение. Но в данном случае Генриха приглашали вторгнуться в Шотландию как освободителя, а Сент-Эндрюс был отличными воротами. Все это было весьма соблазнительно. Однако 28 января 1547 года, так ничего и не решив, он умер, оставив королевство больному сыну, ставшему королем Эдуардом VI, и протектору — графу Хартфорду, недавно получившему титул герцога Сомерсета.
Едва в Шотландии успели переварить новость о перемене власти в Англии, пришли известия из Франции: Франциск I умер и королем стал его сын Генрих II. Генрих II никогда не был в хороших отношениях с отцом. Говорят, что, когда любовница Франциска Анна де Писсле, герцогиня д’Этапм, услышала новость о его смерти, она тут же упала в обморок. Однако у Генриха были прекрасные отношения с партией Гизов, и он поддерживал идею выдать Марию Стюарт замуж за своего сына, теперь ставшего дофином. Французский король подтвердил свои добрые намерения по отношению к Шотландии, послав в Сент-Эндрюс флот под командованием Леона Строцци. Пока Арран медлил, Строцци действовал, подвергнув замок обстрелу из пушек, принудив его к сдаче и взяв «кастильцев» в плен 29 июля 1547 года. Он освободил сына Аррана, предложил выкупить знатных дворян, а остальных «кастильцев», включая Нокса, обрек на медленную смерть, отправив рабами на галеры. Опасный прилив отхлынул от берегов Шотландии, и Мария де Гиз могла поздравить себя с тем, что все это время поддерживала планы французского брака.
27 августа 1547 года в Берик прибыл Сомерсет с новой армией, чтобы закончить то, что он не смог сделать двумя годами раньше: «привести в исполнение добрые планы брака… сделать ее, королеву вашего королевства, королевой обоих королевств». Вслух при этом не проговаривалось, но подразумевалось, что даже если Мария, возможно, и станет королевой Англии, Эдуард уж точно станет королем Шотландии.
Сомерсет выучил урок, поняв, что тактикой выжженной земли ничего не достичь, так что во время нового вторжения он использовал иные методы. Он неуклонно продвигался вдоль восточного побережья, строя там временные укрепления и снабжая армию с моря, так как флот следовал за ним. На протяжении почти двух недель кампания оставалась практически бескровной. 10 сентября 1547 года он достиг деревни Пинки в семи милях от Эдинбурга, находившейся в пределах полета ядра его корабельных пушек. Здесь его ожидал сюрприз.
Шотландцы прекрасно знали о его наступлении и в кои-то веки построились в боевом порядке на холме над рекой Экс. Армия делилась на три полка под командованием Энгуса и Хантли, но находившийся в центре Арран был главнокомандующим. Его неуверенность — в ситуации, когда шотландцы занимали неуязвимую оборонительную позицию, — проявилась в том, что в ночь перед сражением он продиктовал свое завещание и обратился к французам с просьбой защитить его детей. Все, что ему нужно было делать, — это ждать, ведь если бы Сомерсет попытался перейти реку, его армию легко было бы перебить. Вместо этого Арран отдал Энгусу глупый приказ перейти реку и атаковать. Громко протестуя против губительного решения, Энгус выполнил приказ и умудрился захватить плацдарм на восточном берегу реки Экс. Он отбил сильную кавалерийскую атаку Сомерсета, но в конце концов оказался вынужденным отступить в сторону подкреплений из горцев Аргайла. «В тот момент горцы, неспособные сопротивляться своей склонности к грабежу, рассыпались по полю, обчищая убитых. Приняв отступление за бегство и охваченные внезапной паникой, они побежали во все стороны». Теперь бегущих горцев начали обстреливать корабли, стоявшие в Форте. Горцы не понимали, откуда исходит огонь — они не ожидали атаки со стороны кораблей, — и быстро покинули поле сражения.
Англичане усилили контрнаступление, и ряды полка Энгуса дрогнули, солдаты побежали прямо на отряд Хантли, который принял их за наступающих англичан и открыл огонь в упор. Арран поскакал в Эдинбург с такой скоростью, на какую только оказался способен его конь. Было убито около 10 тысяч шотландцев, и от Пинки до Эдинбурга «на расстоянии пять миль дорога была устлана мертвыми телами». Поэтому в памяти шотландцев 10 сентября 1547 года осталось как Черная суббота. Поворачивая к столице, Хантли заметил: «Я ничего не имею против брака, но ухаживание мне не нравится».
Герольд Норрой[19] Эдуарда VI получил приказ сказать шотландскому совету: «Господь явил свою власть, даровав Его милости недавнюю победу. Посоветуйте [вдовствующей] королеве и совету передать юную королеву в руки лорда-протектора, с тем чтобы она была подобающим образом взращена и воспитана вместе с ее мужем как королева Англии, что он клянется своей честью выполнить. В противном случае он использует все средства, чтобы добиться этого силой».
Первым побуждением узнавшей об этом Марии де Гиз было обеспечить безопасность Марии Стюарт, которую теперь легко могли захватить в плен и отправить в Англию. Эта задача была возложена на лорда Эрскина, который вместе с лордом Ливингстоном был одним из опекунов королевы, и королевскую детскую быстро собрали в дорогу. Несомненно, юная Мария сочла внезапную суету отличной игрой, однако все было чрезвычайно серьезно. Семья Эрскина уже пятьдесят лет являлась коммендатором аббатства Инчмахоум — то есть ее члены, оставаясь мирянами, управляли церковными бенефициями и получали от них доход. Аббатство находится в четырнадцати милях к северо-западу от Стирлинга, и Марию перевезли туда, а орудия замка Стирлинг охраняли дорогу. Врагам было бы сложно добраться до аббатства, ведь оно находилось на маленьком острове посреди озера Ментейт, поэтому нуждалось лишь в легких укреплениях. Хотя теперь Мария, разлученная с матерью, и оказалась еще ближе к границам Хайленда, аббатство было идиллическим местом. Его небольшие строения, окруженные деревьями, выходили на луг, простиравшийся до самой воды. Это было первое для Марии изгнание на остров посреди шотландского озера. Ее сопровождали ее личный двор и четыре девочки-компаньонки ее возраста; под одевшимися в осеннюю листву деревьями на берегу озера устраивались игры, так что изгнание было не таким уж страшным. Во второй раз ссылка на остров посреди озера не будет столь приятной.
Сомерсет не стал осаждать Эдинбургский замок, но, оставив небольшой отряд в замке Брути в окрестностях Данди, вернулся в Англию в октябре, под конец военного сезона. Мария присоединилась к матери в Стирлинге; трехнедельная ссылка маленькой королевы закончилась.
Мария де Гиз осознала, что единственный шанс на спасение Шотландии заключается в формальном союзе с Францией, и в конце ноября французский посол Анри Слётин, сеньор д’Уазель, отплыл домой с «некоторыми положениями договора, которые ни вдовствующая королева, ни правитель не могли доверить никому, кроме него». Речь шла об условиях брачного договора Марии и дофина.
Сомерсет понял, что, если промедлит еще немного, в Шотландию придет подкрепление из Франции. Он предупредил такое развитие событий, отправив в конце февраля первую армию вторжения под командованием лорда Грея из Уилтона, которая достигла Хаддингтона. Здесь он оставил постоянный гарнизон, к которому в апреле присоединилось более крупное войско. Оно должно было полностью оккупировать Хаддингтон и превратить его в базу для будущей оккупации Нижней Шотландии. Арран осадил город, причем ходили слухи, что он собирается договориться с лордом Греем и присоединиться к англичанам. Верный себе, Арран, безусловно, собирался пристать к победителю, но ему было сложно сделать выбор, после которого он мог бы перейти на другую сторону без угрызений совести.
Ухудшавшаяся ситуация показала, что Марию Стюарт нужно опять перевозить, и на этот раз с совершенно очевидным намерением она была отправлена в замок Дамбартон, расположенный над гаванью, лучше всего подходившей для бегства во Францию. Неизвестно, как подействовали на четырехлетнюю Марию поспешный отъезд и расставание с матерью, но в марте 1548 года она заболела. Неизбежно распространились слухи, что она при смерти; таким образом, Сомерсет лишался оснований продолжать военную кампанию, а Генрих II — будущей дофины. На самом деле Мария просто должна была переболеть обычными детскими болезнями: у нее уже была ветрянка, а теперь она заразилась корью; впрочем, в XVI веке любая из этих болезней могла оказаться смертельной. Тем не менее она выжила, и свирепое ухаживание двух соперников продолжилось.
Вместе с вестями о французском союзе пришло и трогательное письмо Марии от ее одиннадцатилетнего сводного брата Франсуа, герцога Лонгвилля, в котором он рассказывал ей, как каждый день практикуется в ношении доспехов и учится биться на копьях верхом на лошади. Как только он научится обращаться с оружием, писал он, он приедет и защитит свою сестру от тех, кто хочет ей навредить. Послание Генриха II было менее чарующим, но зато более полезным: король помог вечно колеблющемуся Аррану принять решение, предложив его сыну, Джеймсу Хэмилтону, руку дочери герцога де Монпансье, а также обещав даровать самому Аррану французское герцогство, как только будет подписан брачный договор.
После этого 21 июня 1548 года графу Шрусбери было отправлено послание: «В Лейте находятся французские галеры и другие корабли; они высадили 5 или 6 тысяч человек, итальянцев или гасконцев… и те вовсю похваляются и говорят, что придут в Хаддингтон. Но я думаю, им тут покажется слишком горячо и станет не до того». Французскими войсками командовали сеньор д’Эссэ и его товарищ Жан де Боге, который ни во что не ставил шотландскую армию. Подождав прибытия Марии де Гиз, французы решительно осадили Хаддингтон. Пока англичане были таким образом заняты, Мария де Гиз 7 июля открыла в палатках неподалеку от города заседание парламента. Его задача была проста. В обмен на изгнание англичан из Шотландии королева Мария должна обручиться с дофином Франциском, а Генрих II гарантировал независимость Шотландии, как это уже случалось в прошлом. Мария де Гиз не могла больше рисковать, обороняя Шотландию, когда правительство возглавлял некомпетентный Арран, поэтому с радостью подписала договор. Как только на него поставили печати, Арран стал герцогом де Шательро с ежегодной пенсией в 12 тысяч ливров, при этом в расчет не брались ренты с земель герцогства, которые вполне могли удвоить эту сумму.
Французские корабли следовали в Дамбартон кружным путем, а французский командующий де Боге увидел Марию и ее двор впервые:
«Там много добрых и храбрых французских дворян, образующих охрану королевы. Они позволяют приблизиться к королеве только с письменного разрешения вдовствующей королевы, мудрейшей на земле. После того как государи и знатные лорды королевства согласились на том, что королеву отправят во Францию и ее будет воспитывать французская королева, Генрих II приказал, чтобы Вильганьон вышел из гавани с четырьмя галерами и отправился из Франции, пройдя из Северного моря через пролив Пентленд Фирт мимо Оркнейских островов. Галеры никогда раньше не ходили таким путем. В Дамбартоне королева поднимется на борт галеры “Реаль” вместе с месье де Брезе, который был поспешно послан королем для того, чтобы сопровождать принцессу. Ей около пяти или шести лет, и она — одно из совершеннейших творений, каких только можно встретить на земле».
Марии на самом деле было четыре года и семь месяцев, так что старый солдат де Боге обманулся из-за ее уже довольно высокого роста. Поскольку она путешествовала не как беглянка или изгнанница, но как королева, наносящая визит своему будущему мужу, в ее отъезде не было ничего тайного. Теперь у Марии была собственная свита, которая должна была сопровождать ее во Францию. Ее опекунами были лорд Ливингстон и лорд Эрскин, сопровождавшие также ее старшего сводного брата, лорда Джеймса Стюарта, и двух младших — Роберта и Джона. Все трое были незаконнорожденными сыновьями Якова V. Матерью Джеймса была Маргарет Эрскин; она, возможно, являлась прообразом Дамы Сладострастия в «Сатире на три сословия» Дэвида Линдси[20]. В качестве женского эквивалента лорда-камергера этого двора в миниатюре выступала незаконнорожденная дочь Якова IV и графини Босуэлл — леди Флеминг, пылкая вдова, чей муж Малькольм был убит за десять месяцев до этого в сражении при Пинки. Она не слишком сильно по нему горевала. Бывшая нянька Марии Дженет Синклер стала теперь ее гувернанткой. Вместе со служанками придворных дам и слугами-мужчинами королевская свита насчитывала около тридцати человек.
В нее также входили четыре компаньонки одного с Марией возраста, «четыре Марии». Эти девочки стали компаньонками Марии в Инчмахоуме и все были благородного происхождения. Мэри Флеминг могла даже претендовать на королевское происхождение как внучка Якова IV. Мэри Сетон, которую сопровождал ее брат, юный лорд Сетон, была дочерью Мари Пиери, фрейлины Марии де Гиз, и на протяжении большей части жизни Марии Стюарт была ее личным парикмахером. Мэри Битон, обожавшая романтическую литературу, была родственницей убитого кардинала Битона. А обожавшая танцы и верховую езду Мэри Ливингстон была дочерью опекуна Марии Стюарт. Фрейлин королевы в Шотландии обычно называли «Мари»; это имя происходит от исландского «Маэр», или девственница, хотя как именно оно попало в шотландский язык, неясно. В любом случае, четырех девочек на самом деле звали Мэри.
Все пять девочек, одна из которых была заметно выше других, были одеты в полном соответствии со своим рангом — как маленькие взрослые. На детском портрете Мария затянута в корсет, на голове — чепец, невзирая на ее юность. 29 июля 1548 года пять девочек в длинных парадных платьях, высоко держа голову, поднялись по сходням на «Реаль», галеру самого Генриха И. Мария со слезами на глазах простилась с матерью, возможно, и не осознавая всей важности происходящего. Как все королевские дети, она больше привыкла к обществу нянек и гувернанток, чем к матери, так часто занятой делами государства.
Король отправил в качестве своего представителя и сопровождающего Артюса де Мейе, сеньора де Брезе, члена партии Гизов и родственника своей любовницы Дианы де Пуатье. Брезе постоянно информировал Марию де Гиз в письмах, отправлявшихся с каждой стоянки кораблей. 31 июля он написал: «Королева, Ваша дочь, чувствует себя хорошо и, благодарение Господу, так же радостна, как и в Вашем обществе». В следующем письме он уверял Марию: «Королева чувствует себя очень хорошо и пока не заболела морской болезнью». 3 августа он сообщил: «Несмотря на крепкий ветер, сильно раскачивавший галеру, королева не заболела. Это заставляет меня думать, что она не будет страдать и в открытом море». Легкость, с какой де Брезе пересылал письма, и его предвкушение «открытого моря» объясняются в письме от 6 августа, когда корабль достиг лишь Лам — лаша на острове Арран, что в восьмидесяти милях от Дамбартона. Леди Флеминг, в частности, раздражалась от такого медленного продвижения и требовала, чтобы ее отправили на берег до тех пор, пока погода не улучшится. Вильганьон, опытный моряк, не церемонившийся с высокомерными дамами, сказал, что у нее есть два пути: либо она останется на борту, либо утонет. Погода, однако, улучшилась, и это позволило двигаться быстрее, хотя у берегов Корнуолла Брезе писал: «Погода ужасает своей свирепостью, а таких больших волн я никогда в жизни не видел». Огромные волны разбили руль, однако команда — самая опытная во Франции — сумела его заменить, и 15 августа королевская свита высадилась в порту Роскоф в Бретани. Брезе писал: «Мария чувствует себя так же хорошо, как и с Вами. Она меньше страдала в море, чем остальные ее спутники, и она смеялась над заболевшими». Остается надеяться, что позеленевшие и страдавшие от постоянной тошноты леди простили ее; а вот ее опекунам, лорду Эрскину и лорду Ливингстону, потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя. Затем королевская свита отправилась вдоль мыса к городку Сен-Поль-де-Леон, где их ожидала торжественная встреча. Мария Стюарт прибыла в страну, королевой которой ей предстояло однажды стать.
Часть II
ФРАНЦИЯ
1548–1561
Глава III
«МЫ ВЕСЬМА ЕЮ ДОВОЛЬНЫ»
Путешествие оказалось не более примечательным, чем другие вояжи того времени, зависевшие от ветров и приливов. Гребцов на галерах не использовали, если ветер был попутным; они также не в состоянии были заметно продвинуться вперед, если дул сильный встречный ветер, так что их использовали как дополнительную силу во время штиля, а при маневрировании в гавани они имели решающее значение. Мария, скорее всего, видела, как их погоняли плетью, поскольку впоследствии запретила это делать при любых обстоятельствах. Корабли были легко вооружены, так как не представляли интереса для пиратов, а нападение английского флота было маловероятным. Похищение девочки на суше можно было бы замаскировать под ее «спасение», но захватить ее на личной галере французского короля, под чьей защитой она находилась, было невозможно, не спровоцировав международный конфликт, которого опасался даже вспыльчивый Сомерсет.
Из Роскофа 15 августа 1548 года Вильганьон отправил сообщение о прибытии Марии, и, когда ее свита добралась до Сен-Поля, их ждала первая торжественная встреча. В число встречающих входил мэр города, выступавший в роли местного гида, и, как ни странно, фаворитка Франциска I герцогиня д’Этамп. Официальных придворных должностей для фавориток покойных государей не существовало; она, очевидно, получила известие о прибытии Марии из собственных источников и приехала сама по себе из любопытства. Вся французская знать горела нетерпением увидеть самую юную правительницу Европы, которая уже превратилась в сказочную королеву. Вильгеньон с облегчением распрощался с королевской свитой и был отослан обратно в Шотландию с людьми и снаряжением для войск Марии де Гиз, продолжавших осаду Хаддингтона. Его также наградили, сделав адмиралом Бретани.
Мария затем проделала двенадцатимильное путешествие вглубь страны, к Морлэ, куда и совершила торжественный въезд 20 августа. Это было ее первое столкновение с французской деревней, и поскольку во Франции ей не нужна была вооруженная охрана, повсюду следовавшая за ней в Шотландии, она могла удовлетворить свое детское любопытство. Ее научили четырем-пяти словам приветствия и благодарности на французском, но в любом случае здесь он был иностранным языком. Бретань присоединилась к Франции лишь четырнадцатью годами ранее, и большинство людей говорили только на бретонском.
Границы королевства были тогда гораздо менее протяженными, нежели сейчас, особенно на востоке. На севере граница шла по долине Мёза, причем Мец и Верден находились на территории Священной Римской империи, а затем поворачивала на запад, охватывая Пикардию, но не Артуа, являвшийся тогда частью Нидерландов и, следовательно, находившийся под управлением Карла V. Население страны составляло около 18 миллионов человек, благодаря мягкому климату и плодородной почве сельское хозяйство здесь было самым доходным в Европе — уже почти столетие здесь не знали недорода. Все французские хронисты были романтиками, и, по их словам, солнце взошло над страной вместе с появлением Марии, а плохая погода началась только после ее отъезда. Ее постоянно воспевал в стихах Жоашен дю Белле, поэт и аристократ, совершивший вместе с ней путешествие из Шотландии; впоследствии то же самое, но только в прозе станет делать Пьер де Бурдейль, сеньор де Брантом. Дю Белле говорил, что «в своем шотландском одеянии она напоминала переодетую богиню». Трудно даже представить, что могло сойти за традиционный шотландский наряд при дворе, настолько оторванном от реальности.
Теперь Марии предстояло следовать через всю провинцию к Нанту, где королевский кортеж пересел на баржу, чтобы подняться вверх по Луаре. Путешествие должно было стать идиллическим, однако в Ансени, находящемся примерно в трети пути вверх по реке, юный лорд Сетон умер от «желудочного флюса» — вероятно, от пищевого отравления. Мария должна была утешать сестру Сетона Мэри и присутствовать на первой в ее жизни заупокойной мессе. Так порвалась одна из нитей, связывавших ее с шотландским прошлым. Она также должна была распрощаться с де Брезе, который по приказу короля покинул ее, передав свои обязанности внушавшей трепет бабушке королевы — Антуанетте де Бурбон.
Если не считать матери, Антуанетта де Бурбон оказалась первым членом этой древней и могущественной семьи, с которым познакомилась Мария. Антуанетта была женой Клода, герцога де Гиза, сына Рене II Лотарингского и Филиппы Гельдернской. У Клода было два брата: Жан — кардинал Лотарингский, и Антуан — герцог Лотарингский; Антуанетта родила девятерых детей, и все они выжили. Они приходились Марии дядями и тетями; в их числе были два герцога, один маркиз, два кардинала, один великий приор и две аббатисы, а также ее мать, королева-регентша. Очевидно, что Марии было жизненно необходимо произвести хорошее впечатление, и 1 октября 1548 года Антуанетта сообщила: «Она в самом деле хорошенькое и очень разумное дитя. Она темноволосая и белокожая, и я думаю, что, когда она вырастет, будет красивой девушкой, ведь лицо у нее беленькое, с нежной и чистой кожей. Нижняя часть лица у нее хорошей формы, глаза маленькие и глубоко посаженные, лицо довольно длинное. Она грациозна и уверена в себе. В целом, мы можем быть ею довольны».
Несмотря на то, что первое впечатление оказалось благоприятным, Антуанетта де Бурбон не сочла четырех Марий красивыми и даже чистенькими, но вот леди Флеминг, по ее мнению, производила впечатление. Не считая Марии де Гиз, Антуанетта, дожившая до восьмидесяти девяти лет, стала первой из числа знакомых Марии женщин, которые обладали властью в силу собственных прав, не зависели от влияния мужа и не лишились женственности в погоне за личной властью. В первый момент Антуанетта стремилась укрепить свое влияние на Марию в качестве ее приемной матери; ей нужно было удостовериться, что юная королева станет членом партии Гизов прежде, чем окажется при дворе Генриха II.
Придворные ждали Марию в Карьер-сюр-Сен. Там ее временно разместили в средневековой крепости, пока приводили в порядок королевские покои в замке Сен-Жермен-ан-Лэ. Через фаворитку Генриха Диану де Пуатье пришел приказ разместить обитателей Карьер-сюр-Сен в деревне. Замок Сен-Жермен-ан-Лэ находился всего в нескольких милях от Парижа, на холме над Сеной, и его легко было защищать. Замковые укрепления датировались XII веком, и хотя Франциск I полностью его перестроил, превратив в роскошный загородный дворец, в нем по-прежнему размещался трехтысячный гарнизон. Сын продолжал перестройку. Покои Генриха располагались на втором этаже и выходили на сады, разбитые в виде сложных цветников и крытых аллей. Королевские дети помещались на третьем этаже, а их залитые солнечным светом комнаты выходили на юг. Генрих лично принимал участие в размещении Марии, отдав подробные распоряжения относительно меблировки. Он также приказал удостовериться, что ни один из рабочих, занятых на отделочных работах, не болен каким-либо инфекционным заболеванием, и позаботился о том, чтобы все окрестные деревни были свободны от инфекций, таким образом, установив вокруг Марии, которую теперь именовал «дочерью», санитарный кордон. Мария прибыла в свое временное пристанище, Карьер-сюр-Сен, 16 октября; к ее радости, пребывание там оказалось недолгим. Генрих отдал новые распоряжения Жану де Юмьеру, которому предстояло стать камергером Марии — он и его жена Франсуаза отвечали за королевскую детскую, — и сообщил им: «Она превосходит рангом моих дочерей. Она — коронованная королева, и я желаю, чтобы ей оказывали почести и служили соответственно». Помимо прочего, это означало, что над ее креслом был парчовый балдахин с ее гербами, а слуги должны были преклонять колени в ее присутствии и удаляться от кресла пятясь. Дженет Синклер, наверное, считала эти формальности ненужными, но несомненно поощряла свою маленькую воспитанницу вести себя подобающе и не давать французам возможности высмеять ее варварские шотландские манеры, как это сделал поэт Брантом по отношению к их языку. Другие королевские дети тем временем с удовольствием начали разъяснять своей экзотической венценосной подруге сложную структуру королевского двора.
Двор возглавлял король. Генрих де Валуа родился 31 марта 1519 года и был вторым сыном Франциска I. Он и не думал о наследовании престола, ведь его старший брат Франциск пребывал в добром здравии. Когда Франциск I в 1526 году был освобожден из испанского плена, он пренебрег сыновьями и поскакал мимо них навстречу свободе; прощальный поцелуй семилетнему Генриху подарила добросердечная Диана де Пуатье, бывшая на восемнадцать лет его старше. Заключение принцев было суровым. К моменту освобождения в 1530 году одиннадцатилетний Генрих стал угрюмым и замкнутым, но по возвращении во Францию его приветствовала Диана, проявившая к молодому человеку интерес. Когда он впервые принял участие в турнире, организованном в честь его освобождения, на своем копье он нес ее цвета — черный и белый. Три года спустя она сопровождала его на свадьбу с Екатериной Медичи — итальянской наследницей, которая была всего на два месяца старше него. Екатерина была единственной дочерью Лоренцо де Медичи и племянницей папы Климента VII, так что этот брак обеспечивал Франциску полезных союзников в Италии. Диана и коннетабль Франции герцог Анн де Монморанси возглавили аристократическую партию, враждебную Екатерине — выскочке-иностранке. Монморанси незаслуженно прозвал ее «дочкой итальянского лавочника». Столь же незаслуженно эти дворяне обвинили Екатерину в отравлении старшего брата Генриха, когда тот умер в 1536 году, поиграв на жаре в теннис, а затем напившись ледяной воды, которую поднес ему его секретарь-итальянец Себастиан де Монтекукколи. Поскольку все итальянцы считались знатоками ядов, врагам принцессы казалось очевидным, что Екатерина расчищала мужу и себе дорогу к французскому престолу. Монтекукколи, который скорее всего был невиновен, подвергли пытке, а затем по приказу Франциска I казнили: он был разорван на части лошадьми.
Теперь Генрих был женатым дофином и нуждался в наследниках, но Екатерине никак не удавалось произвести на свет ребенка. Сам Генрих в 1537 году стал отцом незаконнорожденной дочери, поэтому во всем обвинял дофину; появились даже призывы добиться от папы аннулирования брака. Диана, ставшая фавориткой Генриха, удочерила его незаконную дочь — Диану Французскую. К всеобщему облегчению, в 1545 году Екатерина забеременела и произвела на свет сына — Франциска, будущего мужа Марии. Диана и партия Монморанси оставались врагами Екатерины, но ее поддерживал Франциск I. Екатерина находилась при короле во время последней болезни, убившей его в 1547 году. Потом Екатерина стала королевой Франции, а Генрих — королем с Дианой в качестве фаворитки, которой недавно даровали титул герцогини Валентинуа.
Когда Генрих совершил торжественный въезд — entrée joyeuse — в Лион в 1548 году, рядом с ним находилась Диана. Такие величественные процессии, по словам историка Роя Стронга, составляли «существенную часть литургии светского апофеоза». В числе живых картин были двенадцать «римских гладиаторов», вооруженных двуручными мечами, украшенные гирляндами цветов быки, которых вели обнаженные девушки, — Генриху особенно понравилась эта часть торжества, — и молодая женщина, изображавшая богиню Диану, которая вела на серебряной цепи льва. На следующий день Екатерина въехала в город; Генрих приказал, чтобы въезд совершился попозже, чтобы «ее некрасивость не заметили». Диану теперь отождествляли с богиней Дианой, а на чувство к ней Генриха тонко намекала королевская монограмма, состоявшая из переплетенных букв «Н» и «С», причем буква «С» изображалась в виде полумесяца — символа Дианы. Генрих использовал также монограмму, состоявшую из двух букв «D», переплетавшихся с его инициалом «Н».
Диана притягивала легенды так же, как магнит — металлическую стружку. Поэт Брантом сказал о ней: «Рядом с ней каждый вдыхал воздух вечной весны». Он также говорил, что, когда посетил семидесятилетнюю даму, она выглядела не более чем на тридцать лет. Учитывая, что Диана умерла в возрасте шестидесяти четырех лет, к утверждениям Брантома следует относиться с изрядной долей скепсиса. Диана незаслуженно затмила Екатерину, но, несмотря на это, королева любила своего вопиюще неверного мужа и выполняла свои королевские обязанности, зная, что большая часть населения считает ее итальянской ведьмой. В центре этого ménage a trois[21] оказалась теперь шестилетняя королева Шотландии.
Генрих решительно стремился к тому, чтобы Мария как можно быстрее стала француженкой. Он начал с того, что отослал ее четырех подруг в монастырь в Пуасси, находившийся в четырех милях от дворца. Там их должен был учить французскому приор Франсуа де Вьёпон. С этого момента Мария и ее четыре подруги на публике говорили по-французски, хотя порой им удавалось, заливаясь детским смехом, болтать между собой на нижнешотландском наречии. Шотландское наречие стало тайным языком детской. В то же время Мария находилась в обществе королевских детей и согласно детальным распоряжениям Генриха, переданным де Юмьеру Дианой, делила спальню с Елизаветой, прозванной Изабеллой. Эта трехлетняя принцесса стала близкой подругой Марии во Франции.
Сам Генрих прибыл в Сен-Жермен-ан-Лэ 9 ноября 1548 года. Он «нашел ее [Марию] прелестнейшей и изящнейшей принцессой, какую только видел, и с ним была согласна королева и весь двор». Екатерина отметила: «Маленькой шотландской королеве довольно улыбки, чтобы вскружить головы французам».
11 ноября де Брезе писал Марии де Гиз: «Уверяю Вас, Мадам, он [Генрих] приветствовал ее самым сердечным образом и продолжает в том же духе день ото дня… Он считает ее собственной дочерью. Он воспитает ее вместе с дофином, чтобы они привыкли друг к другу». 11 декабря Генрих тоже написал Марии де Гиз; в послании содержались похвалы Марии, но был и невольный намек на будущий скандал: «Уверяю Вас, Мадам, Вы отправили сюда вместе с королевой, Вашей дочерью, даму, угодившую нам больше, чем шесть самых добродетельных дам из нашей страны… Я имею в виду леди Флеминг».
Генрих обеспечил воспитание Марии во французском духе, поместив ее под бдительный надзор Дианы, продолжавшей играть роль посредника между королем и де Юмьером; она даже специально готовила нянек для королевской детской в собственном замке Ане к северо-западу от Парижа. Диана и Мария стали близкими подругами, и Диана с самого начала поняла, что Мария с возрастом превратится в красавицу согласно строгим канонам женской красоты того времени. Эти каноны содержали восемь групп по три признака в каждой: три белых — кожа, зубы и руки; три черных — глаза, брови и ресницы; три красных — губы, щеки и ногти; три длинных — тело, волосы и руки; три коротких — зубы, уши и ступни; три тонких — рот, талия и щиколотки; три больших — плечи, бедра и икры; три маленьких — груди, нос и голова.
Мария могла похвастаться теми из этих черт, которые появляются у шестилетнего ребенка, а Диана видела, что при надлежащей заботе появятся и все остальные. Она сама обладала всеми требуемыми качествами и, по слухам, владела магическим эликсиром, с помощью которого сохраняла свою красоту. На деле в ее распорядке дня не было ничего магического: она вставала в три часа утра, зимой и летом принимала холодную ванну, затем три часа скакала верхом, прежде чем вернуться в постель для чтения и медитаций. Она лично управляла своими обширными поместьями, причем весьма умело, а ела совсем немного. Она появлялась среди переливавшегося всеми цветами радуги двора одетая исключительно в черное и белое — строго говоря, вдовий полутраур, но одновременно и ее геральдические цвета. При высоком росте и прямой осанке Диана выделялась из толпы, и ее невозможно было не заметить. Раньше в обычае королевских любовниц было появляться с обнаженной левой грудью в знак того, что сердце дамы открыто для ее возлюбленного; возможно, Диана тоже порой так делала. Ее никогда не изображали в подобном виде на портретах, хотя на многих идеализированных изображениях своего alter ego — богини Дианы — она полностью обнажена. Примечательно, что от связи Генриха и Дианы не родилось ни одного королевского бастарда, хотя у обоих из них были дети от других партнеров.
Весь двор занимал важный вопрос: как юная Мария поладит со своим будущим мужем, дофином, даже при том, что брак был династическим, а Диана должна была всесторонне разъяснить Марии обязанности королевы. Это было тем более важно, поскольку дофин являлся полной противоположностью здоровой и общительной Марии, а Екатерине пришлось пройти через суровые испытания, прежде чем она смогла зачать его. Она знала, что ее положение при дворе оставалось крайне неустойчивым, так как ее считали неспособной произвести на свет наследника. Поэтому бедняжка пошла на исключительные меры ради достижения своей цели. Говорят, что, зная о неверности мужа, отчаявшаяся королева приказала проделать отверстия в потолке его спальни и наблюдала за ним и Дианой в постели. Диана, в свою очередь, побуждала Генриха как можно чаще выполнять свой супружеский долг. Доведенная до отчаяния двадцатипятилетняя Екатерина наблюдала за своим менструальным циклом, сверялась с астрологическими прогнозами, применяла отвратительно пахнувшие припарки и пила тошнотворные снадобья. Личный врач, доктор Фернель, дал ей более практичный совет, детали которого нам сейчас, к сожалению, неизвестны. В конце концов результатом всех ее усилий стал дофин Франциск. Екатерину с неизбежностью обвинили в обращении к колдовству с целью зачатия, хотя в поддержку этой версии не существует абсолютно никаких свидетельств. По контрасту с крещением Марии в холодной церкви Святого Михаила в Линлитгоу, где почти не было гостей, Франциска крестили в капелле Святого Сатурнина в Фонтенбло через месяц после его рождения, пришедшегося на январь 1543 года. На церемонии, освещенной тремястами факелами королевских гвардейцев, присутствовали французская знать, прелаты церкви и все иностранные послы, облаченные в лучшие наряды. Однако Франциск не был тем дофином, о котором молился Генрих.
По словам современников, у него была «закупорка мозга»; это означало, что он говорил в нос — возможно, из-за увеличенных аденоидов, а на его лице иногда появлялись красные пятна, «явные признаки плохого здоровья и короткой жизни». Другие говорили, что дофин был застенчивым, желчным и недоразвитым. «Ему дали лучших учителей… однако успехи весьма скромны». Дофин был маленьким и худым, и придворным казалось, что он навсегда останется ребенком. Но Франциск старался преодолеть свою физическую слабость и поражал двор живостью, любовью к охоте и оружию. В 1551 году, когда ему было всего семь лет, для него в галереях дворца Блуа поставили мишени для стрельбы из лука.
Хотя Мария и Франциск уже повстречались в детской, им еще предстояло появиться вместе на публике. Это произошло 4 декабря 1548 года в Сен-Жермене, на свадьбе дяди Марии — Франсуа, герцога Гиза, и Анны д’Эсте, дочери герцога Феррарского. Протокол требовал, чтобы Мария и ее прихрамывающий жених пошли танцевать сразу после Генриха и Екатерины. Леди Флеминг к тому времени уже явно дала девочке достаточно уроков, и она могла с честью выдержать испытание. Мария все быстро схватывала и любила выставлять напоказ не только свое умение, но и само физическое наслаждение, приносимое танцем. Эта радость останется с ней на всю жизнь. На балу юная пара вышла на середину зала вслед за Дианой и леди Флеминг, музыканты заиграли заранее оговоренную и довольно медленную мелодию, и началось представление. Наряженная в тяжелое парчовое платье, расшитое драгоценными камнями, Мария поначалу чувствовала себя неуверенно, но затем музыка захватила ее и она начала получать удовольствие от происходящего, хотя ей пришлось поддерживать дофина. Весь двор пристально смотрел на них. Спина Марии была прямой, ступни — изящными, а улыбка — обворожительной. Хорошо разбиравшимся в лошадях и рогатом скоте зрителям она показалась способной производить на свет здоровых дофинов, когда придет ее срок, и придворные вздохнули с облегчением — все, кроме английского посла, который увидел в двух детях воплощение союза двух злейших врагов Англии. Танец закончился, и Мария, согласно правилам слегка наклонившись вперед, поцеловала дофина в губы. Придворные зааплодировали и понимающе переглянулись. Леди Флеминг подвела Марию к королю, который склонился к своей маленькой «дочери» и поцеловал ее, а затем высказал леди Флеминг комплимент по поводу искусности ее воспитанницы. Этот комплимент показался Диане и королеве Екатерине более многословным, чем следовало бы.
Из регулярных донесений де Юмьера Генрих II мог убедиться в том, что Мария и его сын «ладят так же хорошо, как если бы знали друг друга всю жизнь». 30 марта 1549 года Монморанси писал Марии де Гиз в Шотландию: «Я могу уверить Вас в том, что дофин постоянно оказывает ей небольшие знаки внимания и влюблен в нее, из чего легко заключить: Господь с рождения предназначил их друг для друга». Такое стало возможным благодаря мудрым наставлениям Дианы, объяснившей Марии, что лучший способ гарантировать себе привязанность дофина — баловать его и не позволять ему становиться слишком амбициозным, удостоверяться, что он пытается сделать то, что в его силах. Благодаря поощрению со стороны Марии Франциск полюбил забавы на свежем воздухе, а их отношения были братскими с небольшим оттенком куртуазной любви. Мария никогда не пыталась подчинить себе своего маленького жениха, и Антуанетта да и сам король были довольны состоянием дел в детской.
Однако шотландцы в целом Генриха И не радовали. Многие шотландские гвардейцы хотели поступить на службу к Марии, но их желание не поощрялось. Хотя королевская гвардия и формировалась из отпрысков знатных шотландских семейств, гвардейцы оставались наемниками и имели дурную репутацию из-за надменности, жестокости и вандализма. Они даже умудрились разрисовать стены часовни в Фонтенбло. Гвардейцы обходились недешево, так же как и войска, поддерживавшие Марию де Гиз в Шотландии.
В декабре 1549 года Генрих II запросил на военные расходы в Шотландии астрономическую сумму в 400 тысяч ливров из налоговых средств и умолял де Юмьера не увеличивать придворный штат Марии. Большая часть мужской прислуги была отослана обратно в Шотландию и заменена французами, а четырех Марий еще годом раньше отправили в Пуасси. Французский Марии стал значительно лучше благодаря способности детей схватывать иностранные языки, и хотя она по-прежнему понимала нижнешотландское наречие, повседневным языком для нее стал французский. Совершались и попытки заменить Дженет Синклер. Она осталась при дворе, став теперь одной из многих служанок; она уже не имела постоянного доступа к Марии и превратилась в объект постоянных насмешек французских слуг за свои неизменные шотландские манеры. Между тем превращение Марии во француженку шло успешно. Ее гувернантка леди Флеминг оставалась главой женского штата по причинам, не связанным с ее талантом управлять: она теперь регулярно делила постель с королем.
Неожиданным результатом этой бездумной интрижки стало объединение Дианы и Екатерины против леди Флеминг и Генриха II. Диана считала также, что Генрих наносит ущерб чести Марии, поощряя распущенность членов ее свиты, однако Монморанси увидел здесь возможность нанести урон положению Дианы при дворе и распустил слухи о том, что ее заменила другая женщина. Екатерина, пусть и неохотно, терпела присутствие Дианы, однако у той было много врагов, завидовавших ее огромному состоянию. Помимо замка Ане ей принадлежали поместья и виноградники по всей Франции, а после смерти Франциска I она присвоила драгоценности, которые покойный король некогда подарил своей любовнице — герцогине д’Этамп. Генрих II подарил Диане замок Шенонсо и право сбора различных налогов, даже придумал для нее налог на церковные колокола. Рабле об этом сказал: «Король подвесил колокола королевства на шею своей кобыле». Генриху удавалось избегать скандала до тех пор, пока однажды вечером леди Флеминг, вероятно будучи навеселе, громко не заявила в присутствии всего двора: «Я сделала все, что могла, и теперь я беременна от короля; и это для меня большое счастье и честь. Я ношу в себе королевскую кровь и те плоды, что она взрастит». Ребенок, мальчик, стал известен как ангулемский бастард, а леди Флеминг быстро отослали в Шотландию. В качестве главы придворных дам Марии ее заменила мадам де Паруа, особа более строгих нравов.
Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы объяснить Марии смену гувернантки; правду от нее, конечно, скрыли. Мария все больше и больше превращалась во французскую принцессу. Корона Шотландии — страны, о которой у нее сохранились лишь весьма туманные воспоминания, — была почти забыта. Жизнь Марии во Франции была полна новых ярких впечатлений, затмивших прошлое, за исключением, конечно, мыслей о матери, которая теперь планировала нанести визит во Францию. Первое письмо, написанное Марией в 1549 году, предназначалось ее матери. Это было формальное послание, в котором говорилось, что скоро к ней отправится де Брезе с новостями. Как многие школьницы, старательно выводящие буквы своим «лучшим» почерком, Мария сократила письмо, упомянув лишь, что новости расскажет матери де Брезе. Они заключались в том, что в возрасте пятидесяти четырех лет скончался ее дед — Клод, герцог Гиз. Мария де Гиз постоянно писала письма, касавшиеся воспитания дочери, и прежде всего религиозных наставлений — в основном Антуанетте. Девочке надлежало ежедневно посещать мессу; у нее было два капеллана — Гийом де Лан, назначенный Генрихом, и приор Инчмахоума, сопровождавший ее в путешествии из Дамбартона и оставшийся при ее дворе за свой счет, к несомненному облегчению короля.
В апреле 1550 года счастливая Мария получила известие о том, что ее мать планирует приехать во Францию, хотя и не только ради похорон герцога Клода, присутствие на которых для юной Марии было сочтено неподобающим. Герцогство унаследовал дядя Марии — Франсуа де Гиз. Письмо Марии матери по поводу предстоящего визита куда менее формально; по нему видно, что она уже в совершенстве научилась писать по-французски. Тем временем Мария де Гиз написала Диане, спрашивая ее о траурных облачениях, соответствующих французской моде. Правильнее было бы спросить у Екатерины, однако Мария де Гиз, француженка до мозга костей, считала вкус Екатерины — которую ни разу не видела — итальянским, а потому варварским.
Мария де Гиз приехала во Францию не только по семейным делам. Английские войска наконец покинули Шотландию, и теперь французские гарнизоны Генриха II и его армия под Булонью, перешедшей в руки Франции, могли вернуться домой. Король планировал торжества в Руане. Мария де Гиз привезла с собой весь шотландский двор, надеясь, что поддержка, оказанная ей как королеве-регентше шотландской знатью, усилится после получения пенсий от Генриха II за верность — так и произошло. Другим словами, шотландцы отправлялись в бесплатную поездку за рубеж, да еще и получали немалые взятки, которые сама регентша не могла себе позволить. Мария де Гиз знала, чем задобрить шотландскую аристократию.
Мария встретилась с матерью 25 сентября 1550 года, а в октябре прибыла в Руан в составе королевского кортежа, прибывшего ради устроенной Генрихом II entrée joyuse, чтобы ознаменовать возвращение Булони Франции и окончательное умиротворение Шотландии, что означало вывод французских войск и экономию значительных средств. Но даже без этого желанного довеска Мария де Гиз и ее дочь были почетными гостями. Однако теперь дочь затмевала мать. Марии было семь лет и десять месяцев, и она была высокой для своего возраста, так что портной Никола де Монсель снабдил не по годам развитую девочку нарядами из фиолетового, алого и желтого бархата, голландского полотна, белого и синего венецианского атласа, фиолетовой и черной тафты, а также розовыми и белыми чепцами и расшитыми передниками, надевавшимися поверх юбок из серебряной парчи. Мария блистала шелками и драгоценностями, сидя по правую руку от Генриха II на королевских подмостках, пока перед ними шла процессия, возглавлявшаяся магистратами Руана. Проходя мимо, они обнажали головы и кланялись. За ними следовали две тысячи солдат, охранявших оборванных и закованных в цепи английских пленников — этими «пленниками» скорее всего были горожане Руана, переодетые в новенькие «лохмотья». Четыре слона, сооруженных из дерева и холстины, везли на спинах горшки с пылающими углями, а их окружали римские гладиаторы, склонявшиеся в поклоне перед огромной платформой, которую влекли украшенные плюмажами лошади. На ней везли «Генриха» и его «семью» — горожан-добровольцев, тоже украшенных перьями. За ней следовала платформа, которую тащили крылатые лошади; на ней стояли фигуры Славы и Победы. Античные воины несли модели фортов Булони и Кале и огромные стяги, на которых художники изобразили Хаддингтон, Данди и замок Брути. Наконец, там был плавучий остров, на котором обнаженные «бразильские» туземцы — жители Руана, выкрашенные в розовый цвет, — подобающим образом покорились французским солдатам. (Генрих желал основать колонию в Бразилии, и в 1555 году адмирал Вильгеньон отправится в неудачную экспедицию к нынешнему Рио-де-Жанейро.) Было организовано и потешное морское сражение на Сене, а в соборе исполняли торжественный гимн «Тебя, Господи, славим». Генрих II и Мария наслаждались каждой минутой праздника. На следующий день представление повторили для королевы Екатерины, однако на этот раз оно было омрачено, так как один из кораблей пошел ко дну и изображавшие моряков актеры утонули в быстрых водах Сены.
Именно во время визита матери — на стоянке в Амбуазе — Мария впервые почувствовала опасность. Роберт Стюарт, один из лучников шотландской гвардии, был беглым пленником, некогда захваченным после осады замка в Сент-Эндрюсе. Он изменил имя и теперь имел доступ в королевские покои в Амбуазе. Он попытался отравить еду Марии, но попытку раскрыли. Стюарт бежал в Англию, однако его схватили и вернули во Францию, где он под пыткой признался в преступлении и был казнен. Марии не сообщили о случившемся, но усиленная охрана замка и расходившиеся по дворцу слухи, несомненно, заинтриговали юную королеву и возбудили ее любопытство.
Более мрачная нота прозвучала, когда в Амьене скончался сводный брат Марии — пятнадцатилетний Франсуа, герцог де Лонгвилль, пославший в свое время матери веревку с узлом, демонстрировавшим, насколько он вырос. Мария де Гиз ухаживала за ним в его болезни, а его смерть разбила ей сердце. Мария теперь стала ее единственным ребенком, а королеварегентша знала, что ей вскоре придется покинуть Францию и свое единственное дитя. Раздавались плохо завуалированные намеки на большие расходы на содержание ее шотландской свиты при королевском дворе, и поздней осенью 1551 года она уехала, пролив при расставании с дочерью немало слез. Мария де Гиз могла остаться в семейном доме в Жуан вилле и даже подумывала о том, чтобы удалиться в монастырь. Однако она сознавала, что ее долг — от имени дочери править Шотландией.
Мария Стюарт больше никогда не увидит свою мать.
Глава IV
САМАЯ ЛЮБЕЗНАЯ ПРИНЦЕССА ХРИСТИАНСКОГО МИРА
Дофина Мария вела жизнь кочевницы, она постоянно перемещалась между королевскими дворцами. Но в целом все детские воспоминания Марии были связаны с дворцом Сен-Жермен, а Шотландия на расстоянии постепенно забывалась. Сен-Жермен находился достаточно близко от Парижа, чтобы Генрих II мог заниматься делами, но и довольно далеко от столицы, в приятной сельской местности; так же и в Шотландии дворец Линлитгоу находился на удобном расстоянии от Эдинбурга. Мария с энтузиазмом принимала участие в сен-жерменских маскарадах. Там она, одетая дельфийской сивиллой, обещала дофину любовь и счастье, когда станет королевой Британии, вызывая снисходительные аплодисменты двора. Поощрять ее династические амбиции начали очень рано.
Парижская резиденция, Лувр, была в основном рабочим местом Генриха II и в то время полностью перестраивалась, так что королевские дети редко посещали ее. Почти все прочие дворцы за пределами Парижа обязаны своим существованием страсти королей к охоте. Ближайшим был Фонтенбло, находившийся в тридцати пяти милях к югу. С XI века он был охотничьим замком, но Франциск I превратил его в подлинную жемчужину Возрождения. Парадные залы расписал мантуанский художник и архитектор Франческо Приматиччо, он же разместил в них точные копии античных статуй. В его обязанности входило и заведовать королевской коллекцией картин; впрочем, Франциск I сам купил «Мону Лизу» непосредственно у Леонардо да Винчи. Фонтенбло был исполнен роскоши — насколько ее мог позволить кошелек короля. Прекрасный замок Линлитгоу, в котором родилась Мария, спокойно поместился бы в одном из его строений.
На юго-западе от Парижа река Луара поворачивает на запад, к морю, и именно там на ее берега, словно жемчужины в ожерелье, нанизаны замки. Ближайший к Парижу — Шамбор, самый величественный из всех и более всего любимый Генрихом II. Этот обширный замок, весь в башенках и шпилях, стоит на реке Коссан. Франциск хотел отвести воды Луары, но его разубедили; впрочем, строительство замка и так почти разорило его. Замок был роскошно изукрашен снаружи и внутри, в нем более четырехсот помещений, оштукатуренных и расписанных в соответствии с модой. В центральном парадном зале находится двойная винтовая лестница, которую, говорят, спроектировал сам Леонардо. Тысячи узких проходов и укромных уголков поощряли к секретам, интригам и тайным свиданиям, игравшим огромную роль в жизни блестящего общества.
Придворные любовались Марией и дофином, игравшими в куртуазные игры, в которых она была попавшей в беду прекрасной дамой, а он — ее преданным рыцарем. В замке был особый балкон, с которого дамы могли наблюдать за возвращавшимися с охоты кавалерами или смотреть представления и турниры, устраивавшиеся внизу, во внешнем дворе.
Как только Мария научилась читать, ее познакомили с популярнейшей книгой того времени — романом «Амадис Галльский». Это был французский перевод испанского романа Гарсии Родригеса де Монтальво, повествовавший о приключениях прекрасного рыцаря Амадиса, спасавшего свою возлюбленную Ориану из плена и попутно побеждавшего всех врагов ее отца. Книга имела большой успех среди романтически настроенных придворных того времени и оказала огромное влияние на женщин. Диана д’Антуен, впоследствии ставшая первой любовницей Генриха IV, даже изменила свое имя, назвавшись Коризандой в честь одной из героинь романа. Роман представлял собой романтическую версию истории короля Артура и его рыцарей, хотя здесь они сражались не за Грааль, а за чистую любовь.
Стоя на балконе замка Шамбор, впечатлительная Мария видела, как фантазия превращается в реальность: облаченные в доспехи рыцари сражаются, а на их копьях — цвета их возлюбленных. Поскольку внимательные няньки вовремя уводили своих подопечных, она не видела, как нарастает жара, а усталость вызывает вспышки раздражения, так что галантность турниров зачастую сменяется мстительной жестокостью. Копья отбрасывались в сторону, а их сменяли секиры и булавы, а затем усталых воинов, утром бывших странствующими рыцарями, уносили на окровавленных носилках.
В Шамборе Мария и дофин катались верхом по обширному парку — вооруженная охрана и фрейлины держались на приличном расстоянии — и охотились на дичь, которую самым почтительным образом подгоняли к ним. Одним из новшеств, завезенных Екатериной Медичи из Италии, стал обычай надевать под юбку панталоны, что позволяло королеве ездить верхом по-мужски, не выставляя ноги на всеобщее обозрение. Мария вскоре переняла эту моду. Генрих II подарил ей двух лошадей — Бравану и Мадам Ла Реаль, и когда дофин седлал своих коней — Энгиена или Фонтэна, наступало самое беззаботно-счастливое время ее жизни.
Мария получила и образование, подобающее принцессе королевского рода. По приказу Генриха Екатерина позаботилась о том, чтобы Мария училась вместе с королевскими детьми у тех же наставников, Клода Милло и Антуана Фокелена, а духовные наставления были вверены Пьеру Лавану и Жаку Амио. На попечении собственного капеллана Марии Гийома де Лана находилась ее утварь для причастия, перевозившаяся за ней повсюду, где бы она ни пожелала посетить мессу. Таким образом старались избежать заражения, которое оказывалось возможным, если бы королева принимала причастие из общей чаши. Узкий круг придворных Екатерины Медичи придерживался строгих моральных принципов по сравнению с распущенностью двора Франциска I, и на случайные любовные интрижки здесь посматривали косо. Иметь постоянную любовницу — как в случае Генриха II — считалось приемлемым, но беспорядочные кратковременные связи воспринимались как вульгарная аморальность.
При дворе Мария теперь свободно говорила по-французски, с детской легкостью освоила итальянский и испанский и с несколько большими затруднениями — латинский и греческий. В двенадцатилетнем возрасте она писала латинские «сочинения» на заданные темы, имевшие форму писем — около ста слов в каждом — к «сестре» и лучшей подруге Елизавете, старшей дочери Генриха II. Эти письма полны классических аллюзий и выглядят так, словно вышли из-под пера ученого, прочитавшего все труды Цицерона, Платона и Плутарха, а также диалог Diluculum Эразма[22] и менее известные труды Полициана[23]. В целом главной темой сочинений было восхваление классического образования для женщин. Однако латинский текст, написанный четким почерком Марии, располагается с одной стороны листа, а с другой его стороны — французский текст, написанный кем-то иным. Предполагается, что французский текст был написан наставником, а Мария просто перевела его на латынь в качестве упражнения. Вряд ли ребенок, даже исключительно одаренный, мог в двенадцать лет похвастаться начитанностью, необходимой, чтобы самостоятельно писать такие сочинения.
Мария произнесла перед двором латинскую речь «собственного сочинения», к чему ее, несомненно, готовили учителя. Здесь избранным ею — или, что более вероятно, для нее — предметом была апология права женщин на образование. Льстец Брантом писал, каким чудом было «видеть, как ученая и прекрасная королева декламировала на латыни, языке, который она прекрасно понимала и на котором превосходно говорила». Маловероятно, впрочем, что он сам при этом присутствовал. В более поздние годы Мария, когда ей приходилось говорить на латыни, использовала переводчика; она не была любительницей учености как таковой. Кузина Марии, Елизавета Тюдор, прекрасно владела латынью и свободно говорила на греческом. По сравнению с ней Мария была просто добросовестной ученицей.
Однако Мария была покровительницей поэзии и поддерживала молодых поэтов, наводнявших двор в надежде получить заказ. Они отвергли классический стиль римских и греческих поэтов и ратовали за стихи, написанные на французском языке, достаточно гибком для отражения как светских, так и духовных тем, способном донести чувства до простых людей. Кружок семи поэтов, именовавших себя Плеядой (по названию группы из семи звезд), возглавляли Пьер де Ронсар и Жоашен дю Белле. Любопытно — учитывая то, что они отвергли античные образцы, — что они взяли себе то же имя, что и группа греческих поэтов, творивших в Александрии в III веке до н. э.
Ронсар некогда был пажом при дворе Мадлен, трагической королевы Якова V, а дю Белле сопровождал Марию по пути из Шотландии. Теперь оба они посвящали стихи молодой королеве. Так она и росла, привыкая к обожествлению поэтами.
Мария училась вышивать — к этому занятию на протяжении своей жизни она обращалась многократно. Она уже умела шить и вязать, и в 1551 году для нее заказали шерсти на 32 соля. Она училась музыке, играла на гитаре и вместе с сестрами-принцессами распевала псалмы Маро. Клеман Маро был поэтом и переводчиком псалмов на французский язык. Их положили на музыку Клод Гудимель и Луи Буржуа. Мария также училась «дамской» кулинарии — изготовлению варенья и засахаренных фруктов, прежде всего пирога с сахаром, корицей и молотыми фиалками — и вместе с другими принцессами разыгрывала роль простой горожанки, занятой стряпней.
Французский историк Мезере в XVII веке суммировал все то, что французские придворные и народ думали о Марии Стюарт: «Природа наделила ее всем необходимым для совершенной красоты. Помимо этого она была любезна, обладала хорошей памятью и живым воображением. Все эти природные качества она старательно усовершенствовала изучением наук и искусств, особенно живописи, музыки и поэзии, так что казалась самой любезной принцессой христианского мира». В 1551 году у этой любезной принцессы было шестнадцать платьев из разных тканей, от серебряной парчи до простого атласа, шесть хлопковых фартуков, три юбки из разных тканей, три чепца, две юбки с фижмами, две верхние юбки, накидка и меховая муфта. Ее меховщик Жеан дю Шовре присматривал за принадлежавшими ей собольими и волчьими шкурами, а вышивальщик Пьер Дожон пришивал к ее одежде изготовленные ювелиром Матюреном Люссо пуговицы из золота с черно-белой эмалью — геральдическими цветами Дианы де Пуатье, сортировал ее золотые цепи и воротники, а также распоряжался ее золотыми поясами, украшенными белой и красной эмалью. У Марии было так много нарядов и драгоценностей, что для их перевозки во время путешествий изготовили три латунных сундука. Другие принцессы не могли похвастаться такой роскошью, но поскольку не имели такого высокого ранга, то, казалось, не проявляли зависти. Находясь дома, Мария порой играла с дофином в карты и однажды выиграла у него незначительную сумму в 79 солей и 6 денье, а в другой раз, вспомнив совет Дианы де Пуатье, мудро проиграла ему 45 солей и 4 денье.
Свита Марии, сильно разросшаяся после того, как 18 июля 1550 года умер Жан де Юмьер, оказалась теперь под управлением Клода д’Юрфэ. Королеве прислуживали восемь грумов и восемь конюхов, тридцать шесть фрейлин, одиннадцать почетных слуг приемных покоев, восемь секретарей, девять привратников, двадцать восемь лакеев, четыре носильщика, четыре квартирмейстера, четыре заведующих гардеробом, казначей Жак Бошетель, два генеральных контролера финансов, пять докторов, три аптекаря, четыре хирурга и четыре цирюльника. На кухне служили пятьдесят семь человек, а в погребах — сорок два, но был всего один водонос, доставлявший воду для мытья и питья, что «приводило к всеобщей нетрезвости и неаккуратности». Кроме того, было еще постоянно менявшееся число придворных музыкантов, поэтов, шутов, танцоров, фокусников и акробатов.
За один день, 8 июня 1553 года, двор съел двадцать три дюжины караваев хлеба, восемнадцать коровьих туш, восемь барашков, четыре теленка, двадцать каплунов, сто двадцать голубей, трех козлят, шесть гусей и четыре зайца — на сумму 152 ливра 4 соля и 12 денье. Неудивительно, что Марию порой тошнило от переедания. Счета Генриха II показывают, что расходы на нужды личного хозяйства составляли 74 982 ливра в год, хотя это лишь толика королевских расходов. Когда двор, или даже один член королевской семьи, переезжал — а это происходило постоянно — за ним ехала вся свита, составлявшая длинную череду охраняемых повозок.
Менее формальным образом, в сопровождении лишь нескольких личных слуг, Генрих навещал живописный замок Шенонсо, свой подарок Диане де Пуатье. Приобретенный Франциском I в 1536 году, Шенонсо стоял рядом с мельницей у моста через реку Шер, приток Луары. Личность Дианы де Пуатье отпечаталась здесь повсеместно, а портрет Дианы в облике богини-охотницы кисти Приматиччо был удостоен чести оказаться в королевской спальне. Диана приказала разбить сады во французском стиле, хотя впоследствии Екатерина Медичи добавила сад в итальянском стиле и построила мост через реку. Таким мы видим замок сейчас, но даже вместе с изменениями, внесенными Екатериной, Шенонсо по-прежнему — замок Дианы.
Генрих имел репутацию человека, смущавшегося во время беседы с дамами, но Диана говорила с ним как с мужчиной, и в Шенонсо он приезжал, не только чтобы навестить ее, но и выслушать ее советы. Он часто приезжал и в замок Ане, принадлежавший лично Диане и находившийся примерно в пятидесяти милях от Парижа. Замок построил в соответствии с ее пожеланиями Филибер д’Орме; он представлял собой одновременно храм Дианы и загородный дворец. Окружающее замок поместье было распланировано с неменьшим тщанием, и согласно Брантому «для короля то был земной рай — таинственные укромные уголки среди деревьев, предназначенные для любовных секретов, обширный зеленый ковер для охоты и верховой езды и гряда холмов, закрывавшая его от нескромных взглядов любопытных — поистине рказочный замок».
Мария и дофин часто посещали замок Ане, чтобы почувствовать себя свободными от строгих придворных правил и разыграть свидания, о которых они читали в «Амадисе». Здесь Диана наблюдала за учебой Марии и тактично наставляла ее в искусстве оставаться женщиной в агрессивном мужском мире двора Генриха II. Важно, чтобы мужчины считали себя средоточием власти, вершителями всех дел. Поэтому серьезных вопросов надлежало касаться лишь слегка, никогда не спорить и хвалить мужчину за те идеи, которые даже не приходили ему в голову, или за его твердость, когда он явно колебался. Обещание секса или же лишение его было самым слабым из орудий женщины, как обнаружила изгнанная леди Флеминг. Власть Дианы сосредоточивалась не в ее постели, но в ее уме, и она объясняла Марии, что именно интеллект, а не что-либо еще позволит ей взять власть в свои руки, когда она станет королевой-соправительницей. Мария может содержать собственный двор и получить долю власти над мужем, избежав жалкой судьбы самки — производительницы принцев и принцесс. Как правящей королеве ей уже не нужно будет манипулировать мужчинами, чтобы они выполнили ее пожелания, но достаточно будет приказать им. Поскольку быть правящей королевой означало возвращение в Шотландию, а королева-подросток об этом и не помышляла, то, к сожалению, принимала эти прекрасные советы с милой улыбкой, но пропускала их мимо ушей.
Екатерина конечно же стремилась взять воспитание королевских детей под собственный контроль, а Генрих, естественно, не желал нести расходы на содержание двора Марии. Шотландцы тоже не рвались платить за содержание отсутствующей королевы, ежегодные расходы которой составляли около 12 тысяч шотландских фунтов, почти половину всех доходов короны. Даже эта сумма не включала расходы Марии на лошадей и конюшни.
В конце концов Мария де Гиз убедила шотландцев продолжать выплаты, и 1 января 1554 года двенадцатилетняя Мария написала матери, что теперь у нее есть собственный двор и что она пригласила к обеду дядю Шарля, кардинала Лотарингского. Ему принадлежал решающий голос в ее воспитании, он был и ее духовным наставником. Мария присутствовала на мессе, которую он служил в ее часовне в сопровождении изысканной духовной музыки Жака Аркаделя. Однако Мария не получала от своих дядей никаких политических уроков. Они смотрели на нее просто как на ключ, который в один прекрасный день откроет семье Гизов путь к власти, carte d'entrée[24] к королевской власти.
Партия Гизов, и прежде всего Франсуа, герцог де Гиз, уже объединилась с Екатериной Медичи в своей враждебности к коннетаблю Монморанси, союзнику Дианы и фавориту Генриха II. Теперь, когда у Марии появился собственный двор, они могли использовать ее в открытых распрях. Кардинал Лотарингский всегда оказывался рядом с ней, чтобы дать совет, а благодаря этому вся семья Гизов усиливала свои и без того влиятельные позиции. Мария по наивности надеялась усидеть на двух стульях и уверяла мать в том, что и дяди, и Диана де Пуатье заботятся о ее интересах. Заставив признать свою племянницу совершеннолетней в возрасте «одиннадцати лет и одного дня», кардинал стал приводить в исполнение план по усилению влияния Гизов в Шотландии. Он был очень прост: поскольку Мария являлась теперь правящей королевой, отпадала нужда в Шательро, делившем полномочия регента с Марией де Гиз. Теперь Мария де Гиз могла править одна от имени дочери. Так как мудрый Генрих II совсем не доверял Шательро, он оказал плану поддержку, и в апреле 1554 года Мария де Гиз стала единственной регентшей. По совету кардинала Мария послала матери пустые листы со своей подписью: «MARIE». Эту подпись она ставила на протяжении всей жизни — всегда большими буквами и всегда с французским правописанием.
Во Франции Мария теперь могла сама выбирать себе опекунов, и никого не удивило, что она предпочла своих дядей Гизов и короля. Таким образом, семья Гизов по влиянию уступала лишь правящей династиии Валуа. Она написала матери: «Уверяю Вас, Мадам, ничто, от Вас исходящее, не будет мною обнародовано».
Траты Марии, однако, продолжали расти, а поскольку она и сама росла, ей требовались новые платья, в том числе и парчовые. Затем, к ужасу своей домоправительницы мадам де Паруа, Мария собралась отдать некоторые старые платья своим теткам, аббатисам монастырей Сен-Пьер и Фармутье, чтобы их разрезали и использовали как расшитые алтарные покрывала. Этот конфликт пришелся на конец 1555 года, и Мария рассказала о нем матери в письме от 28 декабря. Мадам де Паруа пришла в ярость, так как продажа обносков из королевского гардероба являлась одним из источников дохода королевских слуг. Мать или кардинал могли убедить Марию в том, что она — тринадцатилетний ребенок — превышает свою власть, но она знала, что правящей королеве нельзя противоречить. Поэтому она изложила свою версию истории как невинная сторона, оболганная прислугой, и мадам де Паруа после определенного нажима оставила свой пост. Первым случаем употребления Марией власти стал мелкий злобный выпад против беззащитной прислуги.
Мария ответила на жалобы мадам де Паруа утверждением своей королевской власти, но если бы ее приказ проигнорировали, она не знала бы, что делать. Тактикой Дианы де Пуатье было бы убедить кардинала в том, что ее желание — это и его желание тоже, и он бы уволил мадам де Паруа от ее имени. У Екатерины Медичи в запасе оказалась бы давно заготовленная альтернатива на случай конфликта. Поступок Марии был скорее детским капризом и привел ее к тяжелой болезни. Это часто происходило в случаях, когда ей противоречили; болезнь выражалась в приступах рвоты, головокружениях, глубокой депрессии и слезах и длилась от нескольких дней до нескольких недель. Ее обычно крепкое здоровье не выдерживало столкновения с реальностью, разрушавшего хрупкий придуманный мир сказочной принцессы. Впрочем, в данном случае — в 1556 году — она, похоже, заболела лихорадкой, представлявшей собой периодически возвращавшуюся летнюю лихорадку, сходную с малярией. Позднее она заболела оспой — серьезному риску подверглась не только ее жизнь, велики были шансы навсегда остаться обезображенной. Однако Екатерина Медичи вверила будущую невестку попечению личного врача, доктора Фернеля, который вылечил Марию, сохранив ее красоту.
Мария вряд ли проявляла интерес к дипломатии, однако 6 июля 1553 года болезненный мальчик — король Англии Эдуард VI — умер, вероятно от туберкулеза. Угроза Франции со стороны Англии уменьшилась, так как на престол взошла Мария Тюдор. Новая королева, благочестивая католичка, резко затормозила процесс протестантской Реформации. Но когда Мария Тюдор вышла замуж за Филиппа 11 Испанского, сына императора Карла V, Франция опять оказалась окруженной враждебными державами. Угроза вторжения стала реальностью в 1557 году, когда Филипп 11 мобилизовал свои войска в Нидерландах. Его союзник герцог Савойский вторгся на территорию Франции; под Сен-Кантеном, где в годы Первой мировой войны разыграется кровавая битва, его встретили Монморанси и французская армия. Первое сражение было не менее кровавым и закончилось полным разгромом французов; Монморанси и его сыновья, а также 400 знатных дворян были захвачены в плен и отправлены в Брюссель. Генрих И немедленно послал за герцогом Гизом и дал ему неограниченные полномочия для нанесения ответного удара. Освобождение своего соперника Монморанси отнюдь не входило в число приоритетов герцога. Но прославление имени Гиза, несомненно, к ним относилось, и герцог организовал набег на английскую крепость Кале, которая была плохо защищена. 1 января 1558 года город перешел в руки французов. Мария I тяжело пережила утрату последнего оплота Англии на французской земле. Она говорила, что если после ее смерти вскроют ее сердце, там обнаружат отпечатавшееся слово «Кале». Генрих И устроил entrée joyeuse в Кале, а герцог де Гиз стал генерал-лейтенантом Франции. Оставалось выковать последнее звено цепи, связывавшей короля и дом Гизом.
Брак между Марией — дочерью Гизов — и Франциском де Валуа должен был создать сильнейшую связь, в то же время отвечая потребности Генриха II окружить Англию. В Шотландии Мария де Гиз, пытавшаяся укротить волну шотландской Реформации, радовалась перспективе получить в зятья будущего короля Франции. Значительное число шотландских лордов отвергли ее власть и подписали первый договор (бонд). Позднее они станут известны как протестантские лорды конгрегации. И хотя Марии де Гиз удалось справиться с ситуацией, появлялось все больше признаков зарождения альтернативного, протестантского, правительства. Оно еще находилось в зародыше, а его духовный лидер Джон Нокс прибыл в Дьеп только для того, чтобы его снова отправили в изгнание — в Женеву, к Жану Кальвину; ему было сказано, что время для его возвращения еще не настало.
Перед капитуляцией Кале, предвидя грядущие события, Мария де Гиз отправила во Францию девять посланников, чтобы договориться об условиях брачного контракта. С инстинктивной дипломатичностью дочери Гизов она включила в состав делегации сводного брата Марии Стюарт, лорда Джеймса Стюарта, Гилберта Кеннеди, графа Кассилиса и Джона Эрскина из Дана. Все они были протестантами, но, когда речь шла о защите шотландских вольностей, на них можно было положиться. Они все радовались предстоявшему браку, ведь он, вполне возможно, означал, что Мария всю жизнь проживет во Франции, оставив управление Шотландией им как членам регентского совета. В это время Мария точно не планировала возвращаться.
В целом условия брачного договора были теми же, какие были приняты в Хаддингтоне, и не удивили посланников, но их шокировало то обстоятельство, что французская делегация отчитывалась перед Дианой де Пуатье. Эти мужчины неохот но и не слишком успешно общались с Марией де Гиз, а здесь их встретила еще одна француженка, не королева и не регентша, но, для их протестантских умов, просто шлюха французского короля. Министры или советники отсутствовали, и переговоры должны были быть очень простыми. На самом деле Генрих II мог позволить себе проявить щедрость в ответ на требования шотландцев, ведь он уже привел в действие альтернативный план тайного договора.
Переговоры начались, как только шотландские лорды пришли в себя после встречи с высокомерной красавицей Дианой. Лежавший на столе договор подтверждал обещания Марии сохранить свободы, вольности и привилегии Шотландии. После заключения брака молодая чета превращалась в короля-дофина и королеву-дофину. Франциск должен был оставаться королем Шотландии до тех пор, пока не унаследует французский престол; тогда он становился королем обеих стран. Все французы становились натурализованными шотландцами, а все шотландцы подобным же образом — натурализованными французами[25]. Пока же Шотландией от имени юных королей должна была управлять Мария де Гиз, королева-регентша. Если бы Мария Стюарт умерла бездетной, корона перешла бы к следующему наследнику по крови. Поскольку им был герцог де Шательро, обе стороны страстно молились о том, чтобы этого никогда не произошло. Если бы первым умер Франциск, что казалось весьма вероятным, Марии причиталось бы 600 тысяч ливров, а ее сын унаследовал бы обе короны; по Салическому закону, ее дочь унаследовала бы только корону Шотландии.
Единственным пунктом, вызвавшим споры, был вопрос о коронации Франциска II. Сошлись на том, что его не должны короновать шотландской короной, как об этом просили изначально, но вместо этого ему вверялись все полномочия, даруемые брачной короной. Другими словами, он правил бы как шотландский монарх и подписывал государственные бумаги вместе с Марией, причем первой стояла бы его подпись. Французы не обязывали Марию, хотя она и являлась королевой, принести приданое, а шотландцев не просили жаловать земли французским дворянам. На всем протяжении переговоров французы проявляли удивительную покладистость. Марии в качестве свадебного дара были пожалованы герцогства Турень и Пуату.
Мария находилась в Фонтенбло и не принимала никакого участия в переговорах. Под благожелательным присмотром своей будущей свекрови Екатерины Медичи она, как все юные невесты, была окружена портными и швеями. Ситуация в Шотландии была слишком нестабильной, и Мария де Гиз не могла присутствовать на свадьбе дочери, поэтому ее заместительницей назначили Антуанетту де Бурбон. Это обескураживало, ведь Мария так редко видела свою родную мать, однако в остальном подготовка к свадьбе шла своим чередом.
4 апреля 1558 года в Фонтенбло Мария втайне от шотландской делегации подписала три документа. Первым из них был «Дар Марии Стюарт королю Генриху II». В нем говорилось, что дар сделан, принимая во внимание «удивительную и совершенную любовь, которую выказали короли Франции, защищая Шотландию от Англии», и высказывалась благодарность Генриху II за содержание Марии во Франции за свой счет и за понесенные им крупные расходы. В качестве компенсации, на тот случай, если Марии случилось бы умереть бездетной, Шотландия и прочие ее владения переходили королю Франции. Это «дарение» было засвидетельствовано кардиналом — его присутствие гарантировало, что у Марии не сдадут нервы, — а также государственным секретарем графом Клоссе и нотариусом месье Бурденом. Второй документ — также «дарение» — был подписан по совету «досточтимого и знаменитого кардинала Лотарингского и герцога де Гиза». В нем говорилось, что, если Мария умрет бездетной, король Франции будет получать доходы от Шотландии до тех пор, пока ему не будет выплачен один миллион ливров золотом, или же — еще более возмутительно — такая сумма, которая покроет расходы Франции на содержание гарнизонов в Шотландии и содержание и воспитание Марии во Франции. Шотландцы вряд ли смогли бы выплатить такую огромную сумму, таким образом Шотландия превратилась бы в несостоятельного должника Франции. Мария также передала королевство Шотландию во владение королю Франции и его наследникам. В третьем документе она отменяла все заключенные от ее имени соглашения, которые могли противоречить первым двум соглашениям. Этот последний документ был подписан и Франциском. Мария росчерком пера отдала Шотландию Франции и отвергла договор, подписанный лордами конгрегации. Теперь становится понятной причина столь скромных переговоров, проходивших под надзором Дианы де Пуатье. Генрих II знал, что семья Гизов обеспечит беспрепятственное заключение настоящего договора, так что мог благополучно проигнорировать шотландцев. Неслыханно: шотландская королева договором отдала свое королевство — пусть даже королевство, которым она никогда не собиралась править.
Марии было пятнадцать с половиной лет, и она была уже достаточно взрослой, чтобы списывать то, что выглядит настоящим предательством своей страны, на возраст и неизбежные уверения дядей в том, что ей стоит подписать договор. Дяди воспитали ее французской принцессой. Тем не менее она знала, что представители лордов конгрегации находились во Франции; она встретилась со сводным братом лордом Джеймсом Стюартом и говорила с посланниками «как взрослая и знающая женщина». Если она не понимала, что подписывает, тогда все сообщения о ее способностях — не более чем придворная лесть, однако очевидно, что она была счастлива не раздумывая принять совет дядей. Понятно, что в дни, предшествующие свадьбе, большинство невест неспособно к рациональному мышлению, однако Мария не принадлежала к этому большинству. Она уже успела хорошо узнать дофина и обращалась с ним как с младшим и довольно бестолковым братцем, которого надо защитить от беды. Мария не предвкушала радостей брака. Это был чисто династический брак. Возможно, Мария полностью превратилась во француженку и почти не думала о Шотландии, которую теперь воспринимала как чужую страну. Историк Алан Уайт говорит: «Мария считала Шотландию интермедией к куда более захватывающей пьесе, разыгрывавшейся на подмостках европейской династической политики». Ее будущая жизнь была жизнью королевы Франции, а поскольку все подростки, кажется, верят в собственное бессмертие, распоряжения на случай смерти не имели для нее значения.
Пятнадцать дней спустя в большом зале Лувра состоялось обручение. Кардинал Лотарингский соединил руки юной четы, и они официально согласились вступить в брак. Франциск явно обожал Марию, но это было обожание старшей сестры школьником; ни физически, ни интеллектуально он не был ей парой. Он заикался, и изо рта у него капала слюна. Он был неуклюжим, с искривленным позвоночником, отчего казался кривобоким, а из-за отсутствия прилежания во время занятий выглядел туповатым. Невысокий рост и речевые аномалии, возможно, объясняются дефектом развития гипофиза. Еще одним печальным последствием этого заболевания являлось то, что он был бесплоден и неспособен породить будущих королей.
Юная пара, за которой наблюдал весь двор, проявляла нежность друг к другу; у них были собственные шутки и знаки, однако Мария была привязана к дофину примерно так же, как раньше к своим куклам и пони. Но со всех сторон ей говорили: «В один прекрасный день ты выйдешь замуж за дофина, а в другой — станешь королевой Франции». Первый шаг ей предстояло сделать всего через четыре дня. И Мария Стюарт была готова выполнить свой долг.
Генрих II стремился как можно яснее показать всему миру, что Мария — невеста наследника Франции. В Англии, еще не пришедшей в себя после утраты последнего опорного пункта на континенте, всем было ясно, что Мария Тюдор умрет бездетной; следующей по порядку наследования была протестантка — принцесса Елизавета. В глазах французов она являлась незаконнорожденной, и наследовать английский престол должна была Мария Стюарт. Тем временем брак с ней сына давал Генриху II прямой контроль над шотландскими войсками, которые можно было использовать против Англии. Кроме того, это была первая за двести лет свадьба дофина в Париже, поэтому она должна была стать самым великолепным торжеством, какое только мог придумать король.
Из всех стран Европы прибыли послы. Папский легат кардинал Тривульцио привез из Рима папское благословение. Глаза всех были прикованы к Парижу, жителей которого предупредили о грядущем событии за много недель, и «не было ремесленника, не получившего за свои труды хорошие деньги»; почти у каждого был друг, сосед или родственник — пекарь, вышивальщик, кондитер или плотник. Приготовления были видны всем. Париж сильно вырос по сравнению со Средними веками: Генрих II перестроил старый Луврский дворец на восточных окраинах, а сам город теперь охватил оба берега Сены. Сердцем города по-прежнему был собор Парижской Богоматери на острове посреди реки, и горожане, должно быть, с большим интересом следили, как перед ним на площади возводили временные сооружения.
Там появился крытый переход двенадцати футов в высоту; он вел от дворца епископа Парижского к большому помосту, возведенному перед западным порталом, а затем продолжался и внутри собора. Этот помост был украшен гербами Марии и Генриха II, устлан турецкими коврами и покрыт синим шелком, расшитым золотыми лилиями.
В воскресенье 24 апреля 1558 года навес над помостом слабо колыхался на утреннем ветерке. С рассветом вокруг помоста начала собираться толпа, а все окна и даже крыши были заполнены горожанами, предусмотрительно запасшимися едой и вином.
Пока толпа терпеливо ждала на солнышке, наблюдая за колоритными швейцарскими гвардейцами, занимавшими свои позиции вокруг помоста, Мария находилась всего в нескольких сотнях ярдов от них, во дворце Юсташа дю Белле, епископа Парижского. Она заканчивала наряжаться, успев при этом написать торопливое письмо матери. Это письмо вдвойне очаровательно из-за множества грамматических и синтаксических ошибок — даже коронованные особы нервничают в день свадьбы. Мария пишет, что она — одна из счастливейших женщин на земле, так как король и королева обращаются с ней как с невесткой и пожаловали ей драгоценности и драгоценную посуду. Она надеется, что мать поймет: все, что она сделала, делалось для нее, — хотя непонятно, каким образом это оправдывает подписание секретных статей договора Фонтенбло, — и говорит, что кардинал подробно опишет ей все детали. Заканчивает Мария просьбой простить ее за столь короткое и плохо написанное письмо — ведь принцессы не дают ей покоя. В тот момент Мария могла слышать музыку, доносившуюся с площади, где группа швейцарских наемников играла на флейтах и барабане, пока знатные дворяне и послы занимали приготовленные для них скамьи. Ей пора было присоединяться к королевской процессии.
Парижские советники, одетые в новые мантии из малинового и желтого атласа, отороченные рыжим мехом, собрались в семь утра, а в девять, подкрепившись вином, сели на лошадей, покрытых шелковыми попонами, и в сопровождении лучников и мушкетеров проследовали от парламента — в современном Париже это Верховный суд — к своим местам на помосте. Затем в половине десятого дело взял в свои руки Франсуа, герцог де Гиз. Он был облачен в роскошный наряд, на его шляпе развевался плюмаж из белых перьев, и он наслаждался каждым мгновением, выступая в роли церемониймейстера вместо все еще томившегося в плену соперника, коннетабля Монморанси[26].
Швейцарцев сменили музыканты, игравшие более изысканную музыку на трубах, флейтах, гобоях, виолах и скрипках. На помосте были уже и судьи в мантиях, и члены парламента в алых мантиях с отороченными мехом капюшонами. Когда королевская процессия приблизилась к собору, Гиз дал сигнал чиновникам на помосте входить в церковь. Это расчистило толпе вид на свадебную процессию, бывшую в конце концов главным смыслом дорогостоящих торжеств. Королевская процессия состояла из сотни придворных, за которыми следовали принцы крови в коронах и с инсигниями. За ними следовало младшее духовенство в осыпанных драгоценностями ризах и сверкавших на солнце митрах. Потом фанфары и хор мальчиков с серебряными подсвечниками в руках приветствовали архиепископов, а также дядю Марии, кардинала Шарля Лотарингского, и кардинала Тривульцио, перед которым несли большое золотое распятие. Герцог де Гиз оказался в центре помоста, ожидая королевскую семью. Группу возглавлял дофин; его сопровождали младшие братья — Карл и Генрих. Дофин Франциск ненавидел публичные действа; он прихрамывал и выглядел так, как если бы желал унестись куда угодно, лишь бы не стоять перед парижанами. В любом случае он, как и многие женихи позднейших времен, не вызывал никакого интереса у толпы, собравшейся для того, чтобы увидеть шотландскую королеву.
Мария решила отвергнуть условности и появиться в белом — во Франции это традиционный цвет траура, — поэтому вызвала изумление и приветственные восклицания. В отличие от хромавшего дофина она шла с величавым достоинством, выпрямившись во весь рост и расточая улыбки направо и налево. Ее платье по традиции имело шлейф, который несли две фрейлины; ее инициал «М» был вышит рубинами и изумрудами, и она переливалась, осыпанная драгоценностями. На шее у нее был «Большой Генрих» — подаренная ей королем золотая подвеска в форме буквы «Н», усыпанная мелкими бриллиантами и увенчанная тремя большими камнями, внизу на золотой цепочке висел рубин величиной с голубиное яйцо. В отличие от своих придворных дам Мария распустила волосы, зная, какие они красивые, а девичья простота прически прекрасно оттенялась золотой короной, украшенной жемчугом, бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами и увенчанной огромным карбункулом, который, по слухам, стоил полмиллиона золотых ливров. Король Генрих поддерживал ее под правую руку, а герцог де Гиз — под левую. Затем, словно бы с запозданием, появилась королева Екатерина в сопровождении герцогинь и придворных дам. Большая часть драгоценностей Екатерины находилась у Дианы де Пуатье, которой конечно же не было видно.
Генрих II снял с пальца кольцо и вручил его кардиналу-архиепископу Руанскому, который совершил брачный обряд на виду у всех — принцев крови, иностранных послов и горожан. Теперь у Франции была дофина. Королевская чета затем проследовала с помоста на мессу в собор, также полностью застланный коврами. В хоре установили высокие кресла для судебных чиновников, а королевская чета преклоняла колени на парчовых подушках.
Снаружи стала очевидной причина, по которой толпа так стремилась приблизиться к помосту. По сигналу герцога де Гиза герольды трижды прокричали «дар!», и в толпу пролился ливень золотых и серебряных монет. Шотландский студент описал последовавшую затем сумятицу: «Дворяне торопливо срывали с себя плащи, дамы — верхние юбки, купцы — мантии, магистры — капюшоны, студенты — шапки, а монахи — наплечники и подставляли их под денежный поток». Огромный монах-францисканец собрал больше денег, чем стоявшие рядом с ним: «Он собрал их как милостыню во славу Божию и в честь благословенного и славного бракосочетания. Я замешкался и ухватил три су». В потасовке людей прижали к краю помоста, и они теперь умоляли герольдов остановиться.
Не подозревая об этом, Мария и Франциск в королевской капелле отстояли мессу, которую служил епископ Парижский. За ней последовал еще один дождь из монет, пролившийся в нефе собора, а знатные дворяне старались — безуспешно — не выглядеть жадными побирушками. Выйдя из собора, новобрачные снова поднялись на помост.
Наконец королевский кортеж проследовал к епископскому дворцу на банкет, во время которого корону над головой Марии держал придворный, месье де Сен-Севе. Золотая корона тяжела, особенно для шестнадцатилетней королевы, а Мария знала, что должна будет танцевать со свекром. Взметая распущенные волосы, Мария танцевала со страстью, показывая себя с наилучшей стороны, и двор должным образом приветствовал новую дофину. Следующей обязанностью было танцевать с мужем, однако Генрих тактично подвел ее к своей дочери Елизавете, так что неуклюжесть дофина и различие в росте супругов не бросились в глаза.
Все это было утомительно, но составляло всего лишь пролог к главному событию следующего дня. В четыре часа королевская процессия покинула дворец епископа и верхом отправилась во дворец парламента. Мария и Екатерина следовали на носилках, рядом с которыми ехали кардиналы Лотарингский и Бурбонский. Процессия проследовала с острова Ситэ на правый берег Сены, а затем вернулась на остров по мосту Менял, тем самым позволив как можно большему числу людей увидеть дофину. У дворца король помог Марии выйти из носилок, а герцог Наваррский — спешиться дофину, и все проследовали в большой зал за двумястами дворянами и герольдами Франции и Шотландии. Все разместились за столом, покрытым драгоценной парчой. «Следует сказать, что сами Елисейские Поля не могли бы сильнее ласкать взор». Король приказал сообщить всем шотландцам пароль для прохода, однако толпа, «грубо обращаясь со стражей», ворвалась внутрь, и на мгновение показалось, что сейчас разразится мятеж. Шотландский студент сообщал: «После второй перемены блюд герольды воскликнули “дар!”, и им подарили золотую чашу ценой в 400 ливров. Чашу вынули из королевского буфета, имевшего двенадцать полок или ступеней в высоту и заполненного различной посудой излитого золота и серебра, но в основном из золота. Что же до звучавшей там прекрасной музыки, танцев, разных пьес и представлений, достижений доблести и королевских развлечений, то их было бы слишком нудно описывать».
После ужина столы убрали, и Мария вновь танцевала с принцессой Елизаветой. После этого танца все перешли в палату адвокатов, изобильно позолоченный зал, украшенный гобеленами, которые повествовали о победах Цезаря. Там их ждали живые картины. Сначала следовал парад семи планет, затем двадцать пять искусно сделанных из холста лошадей привезли облаченного в парчу юного принца. Два белых коня влекли триумфальную колесницу с музыкантами, игравшими на лютнях, арфах и цитрах, двенадцать принцев ехали на единорогах, а в колеснице следовали девять муз. Все это заняло два часа, однако говорят, что публика сочла представление слишком коротким. За ним опять последовали танцы, а затем появились шесть кораблей, плывущих по морю из синего шелка, который обдували снизу — чтобы появились волны, и сверху — чтобы надувались паруса. На каждом корабле находился член королевской семьи в маске из золотой парчи, а когда корабли остановились у столов, на борт проводили дам и они покинули пиршество. Генрих II сопровождал Марию, Екатерина выбрала Франциска, и на этом официальная часть праздника закончилась, хотя послы и прочие гости продолжали веселиться до утра. На следующий день в соборе были обвенчаны пары более низкого ранга, а затем Генрих II устроил трехдневный турнир около дворца Турнель — на теперешней площади Вогезов — в полумиле по правому берегу. Шотландец Ричард Мейтленд из Летингтона, незначительный поэт и чиновник, чей сын впоследствии станет главным секретарем Марии, написал без всякой иронии:
Генрих II пожелал, чтобы о браке узнал весь мир, и хотя расходы были ужасающими, его план увенчался успехом. В конце празднеств Мария «плохо себя почувствовала», что в общем неудивительно.
Глава V
«ОНА ДОЛГО НЕ ПРОТЯНЕТ»
В Эдинбурге празднества по поводу бракосочетания Марии Стюарт были гораздо более скромными, поскольку народ это событие совершенно не интересовало; праздник обошелся всего в 183 фунта 9 шиллингов и 9 пенсов и заключался в единственном залпе огромной пушки по прозванию «толстуха Мег». Ядро пролетело две мили и, никого не задев, упало в полях к северо-западу от города. В Шотландии куда больше заинтересовались внезапной смертью, постигшей в Кале четырех посланников, только что подписавших брачный договор и теперь возвращавшихся домой. Немедленно заподозрили отравление, но французский заговор маловероятен — ведь Франции была очень важна незамедлительная ратификация договора, внешне столь выгодного шотландскому правительству. В конце концов, учитывая секретный договор Фонтенбло, это соглашение было совершенно бесполезным.
16 сентября Мария написала матери письмо, будучи уже замужней женщиной. Как любая молодая жена, беспокоящаяся о здоровье мужа, отправившегося в военный поход, она сообщает Марии де Гиз, что король — «король, мой супруг» — находится с армией в Пикардии, где свирепствуют различные болезни. Вполне возможно, что посланники умерли от одной из них. Мария знала, что единственной целью кампании являются переговоры об освобождении Монморанси. Из-за бездетности Марии Тюдор Филипп вернулся в Испанию; он был готов к перемирию с Францией. А поскольку коннетабль Франции и другие знатные дворяне находились у него в плену и он знал, что Генрих II не может себе позволить крупную кампанию, то чувствовал: настало время усадить французского короля за стол переговоров.
Генрих II, который уже сделал всех шотландцев французскими подданными, мог теперь утверждать, что он по сути — король обеих стран. Шотландцы считали, что обретают равный с французами статус, но последние понимали: Шотландия просто становится колонией Франции. Учитывая это, а также и враждебность Филиппа к жене, Марии Тюдор, что делало невозможным помощь из-за Ла-Манша, Генрих II также был рад начать переговоры с Испанией.
Однако прежде чем это случилось, положение на шахматной доске европейской политики опять изменилось: 17 ноября 1558 года Мария Тюдор умерла. Она была безжалостно и жестоко отвергнута Филиппом как некрасивая, сексуально непривлекательная и бесплодная женщина, большинство ее подданных ненавидели ее из-за фанатичного католицизма — смерть многочисленных мучеников в годы ее царствования принесла ей прозвище «Кровавая». Она, вероятно, умерла от лихорадки, которая была в 1557 году самой распространенной причиной смерти. Этой трагической и несчастной женщине наследовала ее двадцатипятилетняя сводная сестра Елизавета.
Елизавета Тюдор была полной противоположностью Марии Стюарт. Ее наставником был Роджер Эшем, сказавший о ней: «Ее отличает подлинное усердие к учению и постижению истинной веры, ее усидчивость равна мужской, а память долго хранит то, что быстро схватывает. Она говорит по-французски и по-итальянски так же хорошо, как по-английски, и часто с живостью обращается ко мне на хорошей латыни, реже на греческом». Елизавета приобрела практический опыт в политике самосохранения, проведя некоторое время в Тауэре в 1554 году, когда ее кузина Мария Стюарт обустраивала свой двор во Франции. Ее детство было полно бедствий и смертельных угроз, а Мария купалась в безусловном обожании своих родственников. Советником Елизаветы и другом на всю жизнь стал преданный и восхитительно уклончивый Уильям Сесил. Вдвоем они составляли самую опасную политическую пару Европы.
Для Генриха II известие о восшествии на престол Елизаветы стало тяжелым ударом, и его первая реакция имела серьезные последствия для Марии. Он провозгласил Елизавету незаконнорожденной: развод ее отца с Екатериной Арагонской папа признал незаконным, поэтому, заключив брак с матерью Елизаветы Анной Болейн, Генрих VIII стал двоеженцем. Таким образом, английский престол был свободен, а ближайшим по крови претендентом была невестка Генриха II — Мария Стюарт. Герольды объявили ее королевой Шотландии, Англии и Ирландии, и с этого времени ее личный герб сочетал в себе элементы гербов всех трех стран. Поэты усердно трудились, прославляя Марию как новое чудо, объединяющее Францию и Шотландию с Англией, но в действительности удалось лишь разозлить Елизавету. Английский посол сообщал: «Молодая королева присвоила себе герб Англии не по собственной воле, но по приказу отца-короля и тем себя оправдывает. Ее Величество [Елизавета] считает это оправдание очень странным и недостаточным». Ни Сесил, ни Елизавета не поверили ни одному слову.
Более практичными оказались дипломатические договоренности Франции с Англией и Испанией в рамках Като-Камбрезийского мирного договора. Все три участника находились на грани банкротства и были истощены войной. На Генриха II оказывала сильное давление Диана де Пуатье, требовавшая добиться соглашения на освобождение Монморанси из тюрьмы в Брюсселе. Поэтому королю было необходимо задобрить Филиппа II. В обмен на мир Генрих II отказывался от всех своих завоеваний в Италии, от претензий на Савойю и предоставлял Англии возможность через восемь лет вновь получить Кале. Договор должны были скрепить брачные союзы. Сестре Генриха II Маргарите надлежало вступить в брак с Эммануилом Филибертом, герцогом Савойским, а подруга детства Марии принцесса Елизавета стала невестой недавно овдовевшего Филиппа Испанского. Оба союза были исключительно династическими, поскольку мнения женщин не спросили, а Мария теперь впервые почувствовала вкус реальной политики, подчинявшей себе государственные дела: после свадьбы Елизаветы она должна была потерять близкую подругу навсегда.
21 апреля Мария и Франциск как королева и король Шотландии направили Елизавете письмо, в котором выражали согласие с мирным договором и надежду на мир и дружбу, клялись в любви и уверяли ее, что она получит лишь хорошие новости от посланника, следовавшего в Шотландию в качестве советника королевы-регентши. Это был Уильям Мейтленд из Летингтона, которого Нокс нашел «рассудительным и остроумным человеком»; он представлял собой самого хитроумного политика Шотландии. Его прозвали «Майкл Вили» — искаженное от «Макиавелли»; впоследствии он станет первым министром Марии Стюарт в Эдинбурге. Он был способен дать Марии хороший совет, но всегда ставил на первое место интересы Шотландии и свои собственные в отличие от Дианы, дававшей Генриху советы исключительно в его интересах. У Марии не было такого советника.
Когда Елизавета поинтересовалась положением северного соседа, ей доложили: «Все крепости находятся в руках французов и королевы-регентши, а поскольку она француженка, то можно сказать, что все — во власти Его Наихристианнейшего Величества, который держит в тамошних гарнизонах двадцать тысяч пехотинцев. Этих сил достаточно, так как они за два дня могут послать туда так много войск, как только захотят». Французская армия представляла серьезную угрозу, и Елизавета была счастлива, что молодая чета подписала мирный договор между Англией и Шотландией, составленный в Апсеттлингтоне (Берикшир), без всяких упоминаний о претензиях на престол. Казалось, на том была подведена черта под Като-Камбрезийским миром, и Елизавета проинструктировала своего посла Николаса Трокмортона «держать себя по отношению к ним любезно». 28 мая 1559 года Мария и Франциск подписали договор, и поскольку Франциск в таких случаях очень сильно заикался, Мария от его имени объявила Елизавету «своей доброй кузиной и сестрой». Свидетелями выступили Генрих II и Екатерина в отсутствие почти всегда находившихся рядом дядей — Гизов.
Отсутствовали они и на последовавшем приеме, где Марию сопровождал недавно освобожденный из плена коннетабль Монморанси, который с удовольствием демонстрировал Трокмортону, что Франция верна договору. Трокмортон предупредил коннетабля, что его госпожа, королева Елизавета, «сочтет публичную демонстрацию гербов Марии неподобающей», особенно после того, как молодая чета подписала договор, отрицавший всякие наследственные права. Коннетабль уклонился от ответа, сказав, что находился в брюссельской тюрьме, когда делали гербы, а поскольку сама Елизавета имела на своем гербе французские лилии, то и шотландская королева могла вполне законно пользоваться английским гербом, ведь она принадлежит к английскому королевскому дому и близка к короне. Первая дипломатическая стычка закончилась мирно.
По возвращении Монморанси влияние Дианы опять возросло, и ее внучка вышла замуж за сына Монморанси. Все это очень не понравилось Гизам, особенно когда племянник Монморанси адмирал Колиньи (чин «адмирала» давали и солдатам, и морякам, так что по современным понятиям Гаспар де Колиньи был генералом) стал протестантом, что было близко сердцу Елизаветы. Генрих II считал: так как корона была католической, любое уклонение в сторону Реформации было не просто ересью, но чем-то гораздо худшим. Попросту говоря, оно было изменой, и с ней можно было бороться светскими методами, не прибегая к духовной власти дядей Марии, чье влияние на тот момент почти сошло на нет.
Трокмортон также заметил, что Мария плохо себя чувствовала; она вскоре вынуждена была удалиться от двора в состоянии нервного истощения. Он счел, что Мария и дочь Генриха II Маргарита «нездоровы», а 24 мая видевшие Марию говорили, что она была «очень бледна, лицо зеленоватое, дышит с трудом, а при дворе шепчутся, что она — не жилец». 18 июня один из слуг Марии сообщал: «Ей очень плохо, и, чтобы не дать ей потерять сознание, приходилось приносить ей вино с алтаря… Я никогда не видел, чтобы она выглядела такой больной… Она долго не протянет». На самом деле Мария страдала хлорозом, или «бледной немочью», — формой подростковой анемии, вызванной нерегулярностью менструального цикла.
Вести о близкой смерти Марии были, конечно, именно тем, что желала услышать Елизавета. Как и шотландцы, она ничего не знала о секретном договоре в Фонтенбло, хранившемся у Генриха II, и поэтому считала, что со смертью Марии шотландская корона перейдет к Шательро, которого легко купить. Следовательно, ее путь к подчинению страны к северу от Твида окажется беспрепятственным. Смерть устранила бы и неудобную претендентку на ее собственный трон, гербом заявлявшую о своих правах, ведь именно ее те, кто объявил Елизавету незаконнорожденной, считали истинной наследницей Генриха VIII. Верная Елизавете коллегия герольдов объявила герб Марии «наносящим ущерб достоинству и сану королевы».
Споры о том, что у кого на гербе, нам сейчас кажутся незначительными, но до распространения газет и телевидения гербы представляли собой публичную подпись суверена. Большинство людей того времени признали бы человека, обладавшего гербом, важной персоной; они хорошо знали королевские гербы, а также и гербы местных дворян.
За год, прошедший со дня ее свадьбы в апреле 1558 года, Мария из сверкающей драгоценностями сказочной принцессы превратилась в политическую пешку. Не отдавая себе понастоящему отчета о важности геральдических претензий, выдвинутых от ее имени, она теперь по важности уступала Монморанси и теряла позиции из-за временного отстранения дядей от власти. Мудрая Диана в этом не принимала участия, проводя время с королем в Ане, но Монморанси исполнил ее желание, полностью затмив Гизов. Это произвело на Марию обычное действие. Всякий раз, когда реальность вынуждала ее поступать против воли или когда она чувствовала, что ею пренебрегают, она заболевала. Возможно, она научилась у Дианы и Екатерины технике манипуляции, но ей по-прежнему не хватало политической ловкости, чтобы применить ее на практике.
Куда больше по душе ей были приготовления к двум свадьбам, ставшим результатом заключения Като-Камбрезийского мира, несмотря даже на то, что одна из них должна была лишить ее подруги детства — принцессы Елизаветы. Эти бракосочетания для Генриха II были важным шагом, поскольку должны были укрепить католический союз с Испанией и предотвратить любую возможность альянса между Елизаветой Английской и Филиппом II. Генрих II так желал франко-испанского союза, что даже предложил в невесты сыну Филиппа дону Карлосу свою младшую дочь Маргариту. Филипп, однако, решил заключить только один брак, и из Нидерландов прибыл его представитель герцог Альба со свитой, превышавшей тысячу человек. Генрих II был разочарован тем, что Филипп не явился лично, однако ему резко ответили, что испанские короли за невестами не ездят.
21 июня герцог Альба поставил свою обнаженную ногу на постель, в которой лежала Елизавета, и коснулся пальцев ее ноги. Он улыбнулся, и, пока его слуга помогал ему натянуть штаны, придворные зааплодировали. Елизавета теперь стала Изабеллой де ла Пас[27], королевой Испании, хотя она окажется в Испании только 30 января 1560 года[28].
Герцог Савойский прибыл в Париж с не менее многочисленной свитой в предыдущий день (21 июня), а 27-го он обручился с сестрой Генриха II, другой Маргаритой, которая, будучи незамужней тридцатишестилетней особой, страстно желала, чтобы ее свадьба тоже состоялась 4 июля. Этот брак должен был подкрепить пункт договора, возвращавший Савойю ее герцогу, изгнанному Франциском I. В отличие от обручения Марии церемония состоялась не в Лувре, а во дворце Турнель: напротив него, на улице Сен-Антуан, Генрих II запланировал большой пятидневный турнир. Король тщательно следил за приготовлениями; возрождая легендарное прошлое, он был в своей стихии. Камни мостовой и палатки уличных торговцев были разобраны, а на их месте возвели амфитеатр с ложами для дам, конюшнями для лошадей, складом оружия и ареной для состязаний. Там были триумфальные арки с комнатами для переодевания, а с каждой стороны — столбы двадцати футов в высоту, увенчанные символами победы. В королевской ложе, устланной золотой парчой с лилиями, сидели Екатерина и Генрих II, которого на этот раз тактично отделяли от Дианы де Пуатье Мария и дофин. Герцог Альба и герцог Савойский с невестами сидели в отдельных ложах, расположенных по бокам от королевской.
28 июня 1559 года на турнире хорошо проявили себя копейщики из полка дофина, на следующий день их сменили gens d'armes[29] из знатных домов Франции. Кульминация наступила 30 июня, когда Франсуа де Гиз, принц Феррарский Альфонсо д’Эсте и герцог Немурский бросили вызов всем рыцарям. Генрих II, одетый в черное и белое — цвета Дианы, с черно-белыми перьями на шлеме и черно-белым шарфом на копье также принял участие в схватках. Шедшие перед ним два герольда были шотландцами; «они гордо несли копья с гербами короля-дофина и королевы-дофины, которые могли увидеть все».
Участие в турнире изматывает физически, поскольку требует не только силы, но и искусства наездника; ведь цель поединка — сломать свое копье, обычно сделанное из ясеня, о меч или доспех противника. Отражение удара не столь важно, так как главной задачей является выдержать удар противника и самому выбить его из седла. В том же году на турнире по случаю восшествия на престол Елизаветы в Лондоне граф Эссекс[30] участвовал в пятнадцати поединках и сломал пятьдесят семь копий. Эссекс, однако, был здоровым юношей. Генриху же исполнилось сорок, и его борода седела; впрочем, он с типично мужской бравадой не делал никаких скидок на возраст и по-прежнему изумлял двор увлеченной игрой в теннис. Вечно мрачный Трокмортон, отметив, что герб Марии по-прежнему выставлен на публике, сообщал, что король «слишком измотал себя теннисом и другими играми, и у него открылась болезнь, называемая головокружением». На турнире первые две схватки Генриха II прошли довольно удачно, однако во время третьего поединка с капитаном шотландской гвардии Габриелем де Лоржем, графом Монтгомери, король едва не вылетел из седла. Де Лорж тактично признал Генриха победителем, однако тот не принял подачки и вызвал его на повторный поединок. Екатерина и дофин умоляли его успокоиться, а де Лорж поначалу отказался вступить в схватку, однако Генрих II, его феодальный сеньор, отдал приказ. Противники вновь сели на коней; Генрих II ехал на турецком жеребце, подаренном ему герцогом Савойским.
Два всадника сблизились, и их копья разлетелись в щепки, однако результат был ужасен. Антонио де Караччоли, епископ Труасский, писал Корнелю Мюссе, епископу Бонитскому: «Королю был нанесен удар по воротнику [часть доспеха, защищающая горло], копье сломалось, но забрало не было опущено, и несколько обломков ранили короля над правым глазом. Король покачнулся от сильного удара и от боли, уронив поводья; лошадь поскакала прочь, и грумам пришлось ловить и держать ее. Королю помогли сойти с коня, сняли с него доспехи и вытащили большой обломок». Дворяне, прислуживавшие на турнире, немедленно окружили распростертого на земле короля и дали ему понюхать розовой воды и уксуса, однако так и не привели его в чувство. Трокмортон подумал: «Рана не кажется серьезной» и счел короля «вне опасности». Король еще дважды терял сознание и «лежал словно пораженный громом». Дофин также упал в обморок.
Короля унесли в его дворцовые покои, ворота заперли, и никому не позволяли войти туда. Несчастный де Лорж умолял короля отсечь ему руку или голову, но Генрих II сказал, что тот не сделал ничего, за что его следовало прощать — ведь ему приказали вступить в поединок, и он «держал себя как храбрый рыцарь и доблестный боец». Хирурги щипцами извлекли остальные обломки из раны короля, дали ему слабительное из ревеня и ромашки, выпустили двенадцать унций крови, еще раз дали слабительное и овсянку. Ночью Генрих «очень плохо спал, о чем весьма сокрушались». Утром во дворце срочно собрались члены королевской семьи и представители знатных семей. Монморанси сказал Елизавете, что самым худшим может стать потеря глаза, и прозвучали оптимистические утверждения, никого, впрочем, не обманувшие: «Есть большая надежда, что он поправится, как сказали все его хирурги». Однако у Трокмортона надежды не осталось: «Король очень слаб, и почти не чувствует своих конечностей… Он не может двинуть ни рукой, ни ногой».
Хирурги опасались, что большой осколок копья мог проткнуть мягкую мозговую оболочку и даже проникнуть в мозг. Чтобы узнать больше, они приобрели отрубленные головы казненных преступников и втыкали в них щепки, но эти эксперименты не позволили им прийти к окончательным выводам. Из Брюсселя срочно прибыл Андрей Везалий, самый знаменитый европейский анатом и хирург Филиппа II, однако и он ничего не мог поделать. Король умирал. Послы и придворные записали различные версии его последних слов, но вероятнее всего, Генрих II просто лежал в своей комнате, окруженный врачами и членами семьи, то приходя в сознание, то вновь теряя его. На четвертый день после несчастного случая стало ясно, что в рану попала инфекция, и у короля начался сильный жар.
Даже когда король умирает, династические и государственные интересы не могут ждать, поэтому свадьба герцога Савойского и сестры Генриха Маргариты все же состоялась. Поскольку всем было ясно, что конец Генриха близок, а свадьба не может состояться, пока двор находится в трауре, бракосочетание нужно было провести как можно быстрее. Оно не могло стать пышным триумфом, каким Генрих II представлял свадьбу своей сестры, и не могло сравниться со свадьбой Марии, но по крайней мере должно было продемонстрировать июльскому солнцу величие Валуа. Возможно, зрители забудут о том, что свадьба укрепляет договор, по которому завоеванные Францией территории возвращаются в руки законных хозяев, в основном итальянцев.
В тех скорбных обстоятельствах никто из членов королевской семьи не смел отойти от постели Генриха дальше чем на несколько сот ярдов, поэтому церемонию провели в близлежащей церкви Святого Павла. Генрих II впал в беспокойный сон, от которого ему вряд ли суждено было пробудиться, поэтому венчание состоялось в полночь в мрачной церкви, уже почти подготовленной для отпевания. Екатерина сидела в затемненной капелле, проливая потоки слез; она знала, что вотвот станет вдовой в чужой стране. Мария и дофин сидели, вцепившись друг в друга, на поспешно принесенных королевских престолах, страшась того, что уготовило им ближайшее будущее. Маргарита и герцог Савойский кое-как выдержали церемонию, и Маргарита поспешила к постели брата.
На следующий день король получил последнее причастие.
10 июля 1559 года в час дня «сильные конвульсии охватили его конечности», затем он распростерся на постели. Доктор приложил ухо к его груди, выпрямился и покачал головой, а священник положил на грудь Генриха распятие. Дофин снова упал в обморок, и его унесли из комнаты. Шурша шелками, все остальные, включая Екатерину Медичи, отвернулись от теперь уже мертвого короля и опустились на колени перед Марией Стюарт. В этот момент юная королева Шотландии стала королевой Франции.
Глава VI
«ОНА ВНУШАЕТ ВСЕМ ВЕЛИКУЮ ЖАЛОСТЬ»
На улицах поспешно срывали роскошные полотна, развешанные по случаю свадьбы Маргариты, и заменяли их траурными венками, а пушка дала торжественный залп. «Едва замолчал Генрих, как Франсуа де Гиз и его брат Шарль, кардинал Лотарингский, захватили персоны короля [Франциска II] и его братьев и увезли их в Лувр вместе с обеими королевами, оставив тело короля королевской гвардии и принцам крови». Мария сначала отправилась в Сен-Жермен — ей сказали, что так нужно для ее безопасности, а Екатерина уехала в Медан, находящийся в нескольких милях вверх по течению реки. Тем временем затеянный Гизами в Париже переворот благополучно завершился.
13 июля 1559 года, через три дня после смерти Генриха II, из Парижа сообщали: «Заправляет всем семья Гизов, держащаяся вокруг французского короля. Что будет дальше, не прояснится, пока не приедет король Наварры, а насчет этого пока неизвестно». Король Наварры Антуан де Бурбон был известным противником партии Гизов. Он заявлял: будучи всего лишь пятнадцати лет от роду, Франциск II не мог сам назначить членов своего совета, а поэтому он, Антуан, как ближайший кровный родственник, должен быть назначен регентом. Его прибытия в Париже после смерти Генриха ожидали со дня на день. Но 18 июля «французский король дал ему [королю Наварры] понять, что его делами будут управлять кардинал Лотарингский и герцог де Гиз». Антуан принадлежал к семье Бурбонов и мог проследить своих предков вплоть до Людовика IX Святого; он был женат на племяннице Франциска I Жанне д’Альбре. Впрочем, на счастье братьев Гизов, он был слаб и погряз в сомнениях и нерешительности.
«Хранителя печатей кардинала Санского сместили, и похоже, что канцлером опять станет месье Оливье, занимавший пост до него». Оливье де Ланвилль, союзник Гизов, был назначен канцлером Франции и получил ключи от королевских сокровищниц, а также «драгоценные кольца», в то время как контроль над Лувром, а с ним — и власть захватили кардинал и герцог де Гиз. Король был окутан облаком лести и во всем подчинялся им, пока искали ключи от секретеров, а если не находили, ломали замки. Затем Франциску II сказали, что теперь благодаря братьям Гизам опасность устранена и вскоре король увидится с любимой женой. В течение трех-четырех дней король передал все управление королевскими делами, ранее находившееся в руках коннетабля Монморанси, кардиналу и герцогу де Гизу. Братья захватили владения, конфискованные королем Генрихом II, и распределили их между своими сторонниками. «Нетрудно было поверить, что семья Гизов желала захватить престол; они могли утверждать, что корона по праву принадлежит Лотарингскому дому — прямому наследнику Карла Великого, хотя и была некогда узурпирована Гуго Капетом». (Гуго Капет захватил корону в 987 году, а правители из династии Валуа происходили от него.)
Мария и Екатерина присоединились к братьям Гизам в Лувре, где те «начали подчинять короля своей воле, не позволяя ему ни с кем встречаться в отсутствие хотя бы одного из них». Окаменевшая от горя Екатерина, облаченная теперь, по итальянскому обычаю, в черные одежды, которые носила с тех пор и до самой смерти, сидела в своих комнатах — там стены были затянуты черным шелком, а свет давали лишь две свечи — и принимала соболезнования иностранных послов. Облаченная в белые траурные одежды французского двора Мария стояла позади нее и отвечала от ее имени. Королева-мать — Екатерина отказалась от титула «вдовствующая королева» — преследовала своим мщением Диану де Пуатье. Ей было запрещено навещать умиравшего короля, и, готовясь к худшему, она бежала в Ане. Там ее настигли вести о смерти Генриха II и приказ королевы Марии вернуть подаренные королем драгоценности. Эти драгоценности были когда-то подарены любовнице Франциска I Анне д’Этамп, но теперь их вернули Екатерине. Затем Екатерина потребовала замок Шенонсо. Он более, чем какойлибо другой замок Франции, отражал отношения Генриха II и Дианы, и Екатерина предприняла немалые усилия, чтобы оставить на нем свой отпечаток. Она разбила новые сады, на этот раз в итальянском стиле, и построила большую галерею на мосту через реку Шер. Как ни странно, она не уничтожила монограммы «Н» и полумесяц «С». В обмен Екатерина предложила Диане замок Шомон — который ни одной из дам не нравился, — но Диана осталась жить в Ане и больше не принимала участия в государственных делах. Ее навещали друзья, в том числе и Мария Стюарт, и здесь она умерла в 1567 году. Похоронили Диану в часовне под изысканным надгробием, придуманным ею самой. Она была спутницей Генриха II с его детства и всю жизнь была рядом с ним, веря, что защищает Францию от итальянского влияния. Хотя она была властной с другими, но для Марии Стюарт стала настоящим другом.
Замок Дианы переходил из рук в руки до тех пор, пока в 1795 году революционный Комитет по надзору не взломал саркофаг. С останков Дианы были содраны одежды, а затем их выставили на всеобщее обозрение, причем волосы отрезали, чтобы продать как сувениры. Шокированные революционным фанатизмом деревенские женщины прикрыли останки кусками обоев, сорванных со стен разрушенного здания, и перезахоронили их рядом с часовней.
Несчастный де Лорж, нанесший Генриху II смертельную рану, был официально лишен поста капитана Шотландской гвардии, «а на его место поставили некоего месье д’У, французишку, который терпеть не может шотландцев». Де Лорж стал протестантом и в 1572 году бежал в Англию от резни Варфоломеевской ночи. Он вернулся во Францию в 1574 году и принял участие в восстании нормандских протестантов, в ходе которого его взяли в плен, а потом предали суду и признали виновным в измене. Екатерина лично присутствовала при том, как его обезглавили и четвертовали.
Братья Гизы не смогли бы одни осуществить свой переворот; им необходим был авторитет королевской власти, а чтобы обрести его, требовался постоянный доступ к Франциску II. При других обстоятельствах Екатерина сама управляла бы болезненным сыном, а через него — всей нацией, однако поскольку королевой была родственница Гизов, им оказалось легко реализовать свои планы.
Мария, как обычно, защищала Франциска II, юная чета словно бы вернулась к детской привязанности. Тем не менее ее поощряли расправить крылья и использовать свою теперь уже неоспоримую власть. С королем, озвучивавшим их интересы, и Марией в качестве чревовещателя Гизы могли контролировать всю Францию. Екатерину вывели из игры, и хотя она и не была пленницей, саму идею предоставить ей свободу политического маневра на время отбросили.
Мария уже привыкла управлять своим двором в хозяйственных вопросах; теперь же задобрить ее старались министры, генералы и советники. Это вскружило ей голову, и Мария так и не дала себе труда понять, что она — всего лишь тень своих дядей. В Королевской капелле зазвучала музыка придворных композиторов Клемана Жаннекена и Клодина де Сермизи, писавших также и фривольные песенки для вечерних увеселений Марии. Де Сермизи написал как минимум одну застольную песню:
Выпивала ли Мария вместе с придворными — возможно, это объясняет ее частые приступы плохого самочувствия — никому не известно. Другая песня, полная грусти неразделенной любви, звучит как неожиданное прорицание грядущих несчастий Марии:
В то время, однако, Мария была счастливейшей женщиной Европы. Все естественные желания шестнадцатилетней девушки немедленно исполнялись. Она была избалованна и не знала ни в чем отказа, но в то же самое время ею цинично манипулировали.
Трокмортон сообщал: «Всё здесь делается через шотландскую королеву; она всё на себя берет». По словам французского историка Рене де Булье, «слабая душевная организация короля могла иметь только одну страсть, объектом которой была его прекрасная и грациозная супруга». Мария Стюарт, в свою очередь, — из уважения, восхищения и основываясь на прошлом опыте — была готова употребить все свои чары ради укрепления спасительного, хотя порой и опасного влияния своих дядей. Следуя их наставлениям, Франциск II приказал Монморанси покинуть двор, а его покои занял кардинал Лотарингский, в то время как герцог де Гиз въехал в комнаты, раньше принадлежавшие Диане де Пуатье.
Тело Генриха II забальзамировали и после погребальной мессы в Нотр-Дам похоронили в соборе Сен-Дени. Последним официальным действием Монморанси в качестве коннетабля Франции был ритуал, во время которого он бросил в могилу свой жезл и воскликнул: «Король умер!» — затем, после троекратного чтения молитвы «Отче наш», поднял жезл и возгласил: «Да здравствует король!»
Так начался период, прозванный острословами того времени царствованием трех королей: Франциска II Валуа, Франсуа де Гиза и Шарля, кардинала Лотарингского. Семья Гизов наконец обрела ту власть, о какой мечтала годами, а сделала это возможным Мария Стюарт. Ее воспитали королевой Франции и старательно приучили к тому, чтобы слушаться советов дядей. Впрочем, Мария научилась у Дианы и тому, что власть Гизов может получить выражение лишь через Франциска II, и была только рада руководить им.
Король теперь стал центром притяжения для врагов Гизов, которых возглавлял брат по-прежнему не определившегося короля Наваррского Луи де Конде. Конде был полной противоположностью брату, полон решимости и искренности; незадолго до того он стал протестантом. Когда Луи де Конде в 1560 году организовал заговор с целью лишить власти братьев Гизов и захватить короля, словарь французских протестантов обогатился новым словом: заговорщики собирались в порту Гюге на западном побережье Франции, и с того времени французские протестанты стали известны как гугеноты.
Противостояние гугенотов, или протестантов, и католиков заполнило всю жизнь Марии. Конфликт начался десятилетиями раньше с растущего недовольства народа Римской церковью. Она стала слишком богатой и контролировала все стороны повседневной жизни: от крещения и брака до смерти и похорон. Она управляла всеми школами и университетами, где обучение, как и богослужение, шло на латыни — языке, которого простые люди не понимали. Подобным же образом и Библия оказывалась недоступной для населения и не была переведена с латыни. Месса была таинством, в котором участвовало только духовенство, а миряне являлись лишь благочестивыми свидетелями, взиравшими на него на расстоянии. Доступ на небеса — после подобающего отрезка времени, проведенного в чистилище, — приобретался тоже только при посредничестве духовенства. Святых, однако, считали полиглотами: им можно было молиться везде и на любых языках.
В XIV веке опустошающая волна «черной смерти» унесла почти треть населения Европы, невзирая на пламенные, хотя в целом и бесполезные молитвы церкви. Конфликт по поводу выборов папы вырос в Великую схизму, когда в Риме и Авиньоне сидели соперничавшие папы, каждый из которых утверждал, что только он один изрекает абсолютную и бесспорную истину; при этом оба они обладали властью, лишь пока были полезны их светским хозяевам. В конце XIV века известный английский богослов Джон Уиклиф отверг многие церковные догмы. Он возглавил группу бедных священников, проповедовавших перед народом и шокировавших окружающих тем, что использовали английский перевод Библии. В XIX веке историк Томас Карлайль назвал Уиклифа «глубоким стержневым корнем всего дерева». Хотя Уиклифу позволили спокойно умереть, его чешскому последователю Яну Гусу не повезло — он стал первым мучеником реформатов. Более чем через сто лет голландский ученый Дезидерий Эразм, подобно Уиклифу, смог выжить, несмотря на то, что проповедовал по всей Европе гуманистическое христианство; его приветствовал у себя даже строгий католик-консерватор Томас Мор.
А 31 октября 1517 года в Виттенберге монах-августинец Мартин Лютер потерял последнее терпение, которого у него и так было немного. Популярность его реформ и осуждения порочности папского двора захватила и князей Священной Римской империи, восставших против католического императора Карла V. Поначалу Карл терпимо относился к их требованиям, но в 1529 году отменил свой декрет о терпимости. Князья заявили протест, а участники этого движения получили имя протестантов. Внутри течения неизбежно начался раскол; анабаптисты призывали к обобществлению собственности. Однако, посягнув на право собственности, они зашли слишком далеко и их уничтожили с садистской жестокостью[31].
Швейцария, все еще являвшаяся свободной конфедерацией городов-государств, стала признанным убежищем протестантов, и к августу 1535 года Женева превратилась в протестантскую республику. На следующий год проповедником в соборе Сен-Пьер назначили француза из Пикардии — Жана Кавена, теперь известного как Жан Кальвин. Его единоверец Джордж Уишарт проповедовал в Шотландии учение гельветического[32] вероисповедания, когда его схватили и казнили по приказу кардинала Битона. В свою очередь, Джон Нокс провел несколько лет своего изгнания в Женеве в годы правления Марии Тюдор. Движение реформатов пустило корни среди шотландской знати, причем многие присоединялись к нему из чувства протеста к тому, что считали офранцуживанием страны. У движения не было харизматического лидера до тех пор, пока 2 мая 1559 года Нокс наконец не вернулся в Шотландию; тогда то, что было протестом, превратилось, по сути, в гражданскую войну.
Во Франции недовольство мирян властью высокомерных Гизов приобрело религиозный элемент, поскольку католики и протестанты проводили между собой демаркационную линию. Что до Марии, католическая вера составляла неотъемлемую часть ее жизни. Она ежедневно ходила к мессе, порой даже несколько раз в день. В ее часовне, куда она приходила с подругами, капеллан служил литургию и выслушивал ее детские исповеди. Все это было для нее так же естественно, как дышать свежим воздухом или умываться. В Марии не было религиозного рвения гугенотов, которых ее покойный свекор считал просто изменниками-простолюдинами. Общение Марии с простолюдинами ограничивалось лишь приветствовавшими ее толпами и слугами, к которым она относилась с добротой; те обожали ее, проявляя льстивое подобострастие. Обращение в протестантизм ее сводного брата лорда Джеймса Стюарта шокировало ее не потому, что угрожало его бессмертной душе, но потому, что он стал противником ее матери. Тем не менее она убедила Франциска II отправить ему письменный разнос. Нераскаявшийся Стюарт ответил выражением надежды на обращение самого Франциска. Марию удивляло, что кто-то может стать врагом ее дядей или ее мужа по религиозным мотивам, а Екатерина и ее дяди позаботились о том, чтобы она знала об оппозиции как можно меньше. В конце концов, ересь была частью таинственного мира мужчин и придворной политики, к которой она не имела особого отношения. Марии объяснили, чего от нее ожидали — а именно, наполнить детскую наследниками престола, — но Диана наверняка сказала ей, что, учитывая физическое развитие мужа, ей не следует быть слишком ретивой. В брачную ночь Мария и дофин разделили постель, однако двор не ожидал на следующее утро увидеть торжество, отмеченное пятнами крови на простынях. Мария на какое-то время была рада довольствоваться дружескими отношениями в браке, не сопровождавшимися физической близостью.
Мария была довольна ролью королевы Франции, Шотландии и Англии; на ее посуде было выгравировано: Franciscus et María, De i Gratia Franciae, Scotiae, Angliae et Hibemae, Rex et Regina[33]. Не слишком тактичным было угощать Трокмортона на этой посуде. Елизавета и Сесил посоветовали ему начать обхаживать Екатерину, поскольку она «по сути и на деле обладает властью (хотя и не титулом) королевы-регентши». Крепкую хватку Гизов чувствовали и в Шотландии, так как 3 августа королевская чета отправила Марии де Гиз чистые подписанные листы для распределения от их имени подарков. Франциск II умилостивил Елизавету, продолжая использовать традиционное титулование и печати, однако Мария бездумно продолжала использовать титул María, Dei Gratia Regina Franciae, Scotiae, Angliae et Hibemae[34].
К 27 августа Гизы пользовались полной властью. Когда Трокмортон доставил Франциску II письмо, тот просмотрел его и ответил, что благодарит Елизавету за ее послание, а затем сказал, что поступит так, как посоветуют ему дяди. Письмо передали Марии, которая прочитала его более внимательно, поблагодарила Елизавету и сказала, что поступит так, как посоветуют ей дяди. Протесты короля Наваррского ни к чему не привели: «Всем заправляет семья Гизов, а король Наварры ни во что не вмешивается». Ни Мария, ни Франциск II не обладали реальной властью.
На самом деле Мария в это время готовилась принять участие в новом большом празднестве — коронации Франциска II в Реймском соборе. Будучи уже коронованной королевой, Мария должна была быть лишь зрителем, да и в любом случае королев Франции по традиции короновали в Сен-Дени. Поскольку двор находился в трауре, коронацию можно было бы отложить, но это было нежелательно, так как состояние здоровья короля вызывало беспокойство. Однако траур по-прежнему соблюдался, и был издан приказ, чтобы «ни один дворянин и ни одна дама не смели надеть ювелирное украшение или золотое шитье; дозволялось носить только одежды из бархата и подобных ему тканей, простого фасона, а на следующий день все должны вернуться к deuil [полному трауру] и носить его на протяжении двенадцати месяцев».
16 сентября 1559 года король прибыл в Реймс; погода была ветреной и дождливой, но ничто не могло омрачить торжественный въезд. Процессию встречала «искусно придуманная машина», испускавшая лучи света. Она открывалась, позволяя королю приблизиться к гигантскому красному сердцу. Оно, в свою очередь, тоже открылось; внутри оказалась девятилетняя девочка в наряде из серебряной и золотой парчи. Девочка вложила в руки короля ключи от города.
В воскресенье, 17 сентября, Мария и Франциск II пришли на вечерню, во время которой Франциск подарил собору золотую статую своего тезки — святого Франциска Ассизского. Собор был устлан коврами, а внутри завешан гобеленами и изображением коронации Хлодвига и побед Сципиона; их доставили из близлежащего епископского дворца и из Лувра. На следующее утро, когда сквозь витражи XIII века лился солнечный свет, королевская процессия преодолела небольшое расстояние от дворца, в котором ее участники провели предыдущую ночь. Архиепископ Шарль, кардинал Лотарингский, в парадном одеянии сопровождал Франциска II, одетого в белое, символизировавшее его чистоту — ведь он готовился к миропомазанию. Это — сакральная часть церемонии; монарха помазывали миром, хранившимся в аббатстве Святого Ремигия в двух милях от собора. Миро было великой святыней. Поэтому на то время, что оно находилось в соборе для церемонии, три доставлявших его знатных дворянина считались заложниками аббатства, гарантировавшими его возвращение.
После помазания священным миром Франциск II удалился и переоблачился в коронационное одеяние из синего бархата, подбитое алой тафтой. Оно было оторочено горностаями и расшито золотыми лилиями. Затем ему вручили скипетр, а также жезл правосудия, а потом — кольцо, символ обручения с Францией. Понятно, что хрупкий пятнадцатилетний подросток заметно пошатывался после пятичасовой церемонии, поэтому тяжелую золотую корону просто держали над его головой, пока он шел к престолу. Затем архиепископ воскликнул: «Да здравствует король!» — и ему вторили все собравшиеся в соборе. На волю выпустили певчих птиц, прозвучал гимн «Тебя, Господи, хвалим», и собравшиеся разошлись.
Дамы из королевской семьи сидели в специально сооруженной ложе, так что могли видеть все, но их самих не было видно. Екатерина снова облачилась в черные одежды ее родной Италии, и дочери последовали ее примеру, но Мария была облачена в белые траурные одеяния, знакомые нам по ее портретам. Это было облачение, подобающее французской королеве в трауре, и оно отчетливо указывало, что она вовсе не собирается становиться союзницей итальянцев Медичи. Мария была из Гизов. Трокмортон заметил также, что над городскими воротами «вызывающе» поместили гербы Англии, Франции и Шотландии.
После церемонии все присутствовавшие отправились на королевский обед; Франциск II, как ему полагалось по статусу, ел один, а гости сидели вокруг него. Он, однако, очень устал и рано удалился, впереди него шествовали пажи с королевскими регалиями. Все это было далеко от роскошных представлений, которые обожал его отец. Франциск II регулярно терял сознание, а его неспособность сосредоточиться означала, что он не будет принимать участия в заседаниях совета, созванных Гизами. Любовь короля к охоте оказалась весьма ценным качеством — при условии, что ему не угрожала никакая реальная опасность, — и его поощряли проводить больше времени в седле, хотя бы и под постоянной охраной вооруженных гвардейцев. Мария была бесстрашной всадницей и с радостью пускала лошадь в галоп. Однажды ее сбила с лошади протянувшаяся над тропой ветка. Охота была в разгаре, так что охотники проскакали мимо, не заметив ее падения; более того, всадники растоптали ее головной убор. Однако Мария причесала волосы заново, села на лошадь и догнала охотников. После этого «она решила отказаться от этого занятия» — но не сдержала слова.
Члены королевской семьи, пожалуй, меньше, чем кто-либо в королевстве, могли рассчитывать на тайну личной жизни, а поскольку их жизнь постоянно интересовала придворных, множились слухи о недомоганиях. Мария была уже взрослой девушкой, и всему двору наверняка был известен ее менструальный цикл, ведь придворные с нетерпением ждали вестей о ее беременности. Уже в декабре Ральф Сэдлер в Шотландии писал: «Ясно, что никаких детей у шотландской королевы не будет».
Мария была настоящим гурманом, и именно тогда Екатерина Медичи познакомила французов с итальянскими кулинарными рецептами, тем самым создав основу того, что мы теперь считаем французской кухней. В то время, однако, вес Марии не давал поводов для беспокойства, он сдерживался подвижным образом жизни и периодически — строгими диетами. Добавьте к этому приступы глубокой депрессии, случавшиеся, когда королеве пытались противоречить, и регулярные обмороки, и периоды постельного режима становятся более понятными. Некоторые из широко разошедшихся слухов о состоянии здоровья королевской четы были явным вымыслом, например слух от 15 ноября о том, что Франциск II заразился проказой; эта сплетня, вероятно, была порождена тем, что король периодически страдал от сильной экземы.
Впрочем, существовали и вполне реальные опасения за здоровье матери королевы, Марии де Гиз, которая серьезно заболела в Эдинбурге, столкнувшись с тем, что, по сути, было гражданской войной с лордами конгрегации. Мария де Гиз призвала в страну французские войска — так как после свадьбы Марии французы получили шотландское подданство, она могла утверждать, и даже не без основания, что эти войска не представляли собой иностранного вторжения, — но проигрывала войну. В феврале 1560 года лорды добились поддержки Елизаветы I благодаря Берикскому договору. Елизавета была только рада помочь людям, которые, вероятно, не всецело поддерживали узурпацию Марией ее титулов и гербов. В Англии поддержка, оказанная Елизаветой лордам конгрегации, стала известна как «Война инсигний». Елизавета «никогда не согласится, чтобы королевство Шотландия оказалось бы связано с Францией иначе, чем сейчас, то есть через брак королевы с французским королем». В начале месяца герцог де Гиз писал сестре, неискренне прося ее вывести французские войска из Шотландии, а когда Мария Стюарт 27 февраля встретилась с Трокмортоном, то попросила уверить Елизавету в том, что она, Мария, ее кузина, будет ей лучшей соседкой, чем мятежники. Утверждение звучит как уловка Гизов. Гизы знали, что их сестра проигнорирует письмо, таким образом позволив Марии Стюарт уверить Елизавету в своей дружбе. Ни Елизавета, ни Сесил не поверили бы столь явному обману, но им должно было польстить то, что Гизам пришлось на него пойти.
Так или иначе, Елизавете было не до тонкостей: в марте она потребовала, чтобы Мария «навсегда прекратила» использовать английский герб, и приказала ко 2 апреля вывести французские войска из Шотландии. Елизавета также призвала всех шотландцев признать Марию своей правительницей; все государственные должности следовало оставить в том виде, «в каком они существовали обычно в Шотландии», а все епископства и церковные владения передать прирожденным шотландцам. Другими словами, Елизавета требовала устранения всех чиновников-французов.
Затем 23 марта Сесил через Тайный совет отправил Елизавете меморандум. «Королева Шотландии, ее муж и семья Гизов являются смертельными врагами Ее Величества… Их злоба направлена против ее личности, и они не остановятся до тех пор, пока жива шотландская королева». Сесил, понимавший страхи своей госпожи, перешел от политических советов к предупреждениям об угрозе жизни королевы.
В то же самое время Франциск II и Мария оказались под угрозой со стороны заговорщиков из Юге. Двор пребывал в Блуана-Луаре, где Франциск II мог спокойно охотиться, пока Мария и Екатерина слушали проповеди и вместе ходили к мессе. Это была мирная передышка, но именно тогда заговорщики под началом сеньора де ла Реноди решили захватить братьев Гизов, убедить короля даровать гугенотам свободу вероисповедания, а затем передать права регентства Луи де Конде и Бурбонам. Заговор был очень плохо организован: учитывая, что 500 агентов отправились искать поддержки даже в Англии, невозможно было сохранить его в тайне. Когда известия о заговоре достигли двора, герцог де Гиз приказал немедленно перебраться в замок Амбуаз в пятнадцати милях ниже по течению Луары. Замок стоял на обрыве над рекой и был практически неприступен; его вряд ли могли захватить те, кто вот-вот должен был превратиться в отряд мятежников. Мятежники, среди которых было много недовольных сельских жителей, не имели единого командования, но просто рыскали вокруг, так и не соединившись в значительный отряд. К мятежным войскам примкнуло несколько недовольных дворян из все возраставшего числа противников Гизов. Опасаясь, что серьезным лидером мятежников может стать главный гугенот Франции Луи де Конде, присутствовавший в замке, Екатерина просто назначила его главой личной охраны короля. В своем новом качестве Конде обязан был постоянно присутствовать в замке.
В начале марта схватили и отправили на дыбу первую группу заговорщиков. Впоследствии основной отряд был захвачен по частям, по мере прибытия заговорщиков к замку с целью окружить его, а самого де ла Реноди, к счастью, застрелил аркебузир — к счастью, потому что после того, как остальные были схвачены, их подвергли садистским пыткам, прежде чем казнить. К удивлению партии короля, многие из восставших были немцами, швейцарцами, савоярами, англичанами и даже шотландцами, действовавшими не как наемники, но как «солдаты Бога». Пленников было гак много, что из соображений скорости и экономии средств герцог де Гиз приказал зашить многих из них в мешки или связать в группы по десять человек и бросить в реку, где они и утонули. Пятьдесят два знатных пленника дворянской крови были обезглавлены на эшафоте. Герцог и Екатерина Медичи лично наблюдали за всеми казнями; тела казненных были затем повешены на стенах замка для устрашения горожан, а головы насадили на столбы под окнами королевской столовой. «По улицам Амбуаза текла кровь, река была покрыта телами, а во всех общественных местах стояли виселицы». Мария впервые увидела жестокие казни, вызванные религиозными раздорами; она не могла не знать о том, что происходило. Франциск II писал епископу Лиможскому: «Смерть нескольких несчастных сохранит мир и спокойствие всего королевства». Подруга Марии Анна д’Эсте плакала при виде кровопролития; оно ужаснуло и сестру бывшего коннетабля Луизу де Монморанси. Элеонора де Конде и мадам де Крюссоль — считавшиеся опорой гугенотов — также были близки Марии, и она вполне могла бы подпасть под политическое влияние этих могущественных дам. Однако сама Мария не принимала участия в борьбе религиозных партий, разрывавшей Францию. Мария просто верила тому, что говорили ей ее дяди Гизы, поскольку это требовало меньше интеллектуальных усилий.
Герцог де Конде попытался свести обе стороны вместе и лично просил Франциска II проявить больше терпимости к гугенотам и созвать Генеральные штаты (ближайший аналог национального парламента, существовавший в то время), но по совету братьев Гизов Франциск арестовал Конде и приговорил его к смерти. Власть Гизов теперь стала невыносимой для всех, за исключением небольшого числа лиц, окружавших короля, и даже внутри этого круга Екатерина Медичи сочла, что уже слишком давно находится в стороне. Сразу после смерти Генриха II она поняла, что у нее нет шансов утвердиться у власти в присутствии братьев Гизов и при их полном контроле над королем, осуществляемом через Марию. Екатерина поняла и то, что не стоит вести войну, которую невозможно выиграть; поэтому она стояла в стороне, наблюдая, как братья укрепляют свою власть и наживают множество врагов. Она сама лично никогда не помогала их врагам — ведь многие из них были гугенотами, а Екатерина была благочестивой католичкой, — но тем не менее вела переговоры с Елизаветой I и Филиппом II Испанским. Филипп, женатый на дочери Екатерины, с беспокойством наблюдал за возраставшими амбициями северного соседа и за французским окружением Англии и был бы рад подрезать Гизам крылья. Если бы удалось убедить Елизавету выступить от имени протестантских лордов Шотландии, с регентством Марии де Гиз там было бы покончено и тем самым возникла бы первая трещина в здании, возведенном могуществом Гизов. Таким образом, католический монарх мог поддерживать протестанта, если того требовали государственные интересы.
К 25 апреля, пробыв королевой меньше года, даже политически наивная Мария осознала, что непримиримость ее дядей может вылиться в потерю Шотландии. Она «горько плакала, приговаривая, что дяди погубили ее». Из самой Шотландии приходили дурные известия. 26 апреля в Эдинбурге Марию де Гиз едва не захватили лорды конгрегации. Венецианский посол Джованни Суриан сообщал, что, получив эти вести, Мария «безостановочно лила горькие слезы и в конце концов слегла от тоски и горя».
10 июня 1560 года, измученная постоянными сражениями с шотландской знатью и угрожавшими ее столице английскими войсками, Мария де Гиз умерла. Ее тело сильно распухло от водянки. В апреле она говорила французскому послу Анри Клётену, сеньору д’Уазелю, ставшему ее главным советником в Шотландии: «Я все еще хромаю, а моя нога распухла. Если нажать на нее пальцем, он проваливается в нее как в масло». Водянка — патологическое скопление жидкости, зачастую являющееся следствием расстройства сердечно-сосудистой системы, и королева-регентша скорее всего умерла от сердечной недостаточности. Ее тело было «одето в свинец» и 19 октября морем отправлено во Францию для похорон в женском монастыре Сен-Пьер в Реймсе, аббатисой которого была ее сестра Рене де Гиз.
Новость скрывали от Марии в течение двух недель — до 28 июня. Узнав обо всем, Мария впала в глубокое отчаяние, что вполне понятно. Известие о смерти матери принес ей дядя Шарль, кардинал Лотарингский, приходившийся покойной королеве-регентше братом. Венецианский посол писал дожу: «Ваша Светлость может себе представить грусть Гизов, братьев Ее Величества, а также и страдания наихристианнейшей королевы, удивительно сильно, более, чем другие дочери, любившей свою мать». После смерти самой Марии Стюарт самой большой ценностью оказался миниатюрный портрет ее матери.
Мария де Гиз прожила несчастливую жизнь. Протестант Джордж Бьюкенен в своей «Истории» писал: «Она обладала редкими талантами и умом, склонным к справедливости, однако находилась под сильным влиянием клана Гизов, определивших Шотландию в частную собственность их семьи». С ее смертью гражданская война в Шотландии практически закончилась, и Елизавета теперь могла продиктовать условия вывода своих войск. Эти условия превратились в Эдинбургский договор.
Эдинбургский договор был подписан 6 июля 1560 года после месячного торга. Мария поняла, что дяди и в самом деле погубили ее, хотя французский посол в Шотландии Шарль, сеньор де Рандан, умолял Екатерину Медичи заключить мир прежде, чем стоимость французских гарнизонов «полностью разорит и опустошит Францию». По условиям договора французские войска должны были покинуть Шотландию, укрепления Лита надлежало разрушить, долги французских войск полагалось выплатить. Елизавета признавалась истинной правительницей Англии, Франциск II и Мария должны были отказаться от всех претензий на английский престол, а Шотландией в отсутствие Марии отныне полагалось управлять совету знати; советникам полагалось «отправить нескольких лиц хорошего происхождения к королям, чтобы принять решение» о религии. Наконец, «французский король и королева согласно особому пункту обязуются перед королевой Англии соблюдать этот договор с шотландцами». Мария и Франциск II должны были ратифицировать договор в течение шестидесяти дней. Другими словами, Мария и Франциск обязаны были делать то, чего хотела Елизавета, в противном случае последняя имела право вторгнуться в Шотландию. Это был полный отказ от политики Гизов, отрицание всех претензий, выдвинутых Генрихом II и поддерживавшихся Екатериной.
Трокмортон был принят Марией 9 августа, и она впервые попросила его говорить на нижнешотландском наречии, чего не делала на публике уже много лет. Возможно, помимо желания поставить посла в замешательство — любимое развлечение королевских особ — Мария решила попрактиковаться в родном языке на случай возможного возвращения в Шотландию. 22 августа Мария приняла Трокмортона снова, на этот раз наедине. Мария сидела под балдахином, а Трокмортону подали низкий стул. Она уверила его в том, что подчинится решению мужа, «ибо его воля — моя воля». Эти две встречи показывают Марию в роли правящей королевы, полностью руководящей своим политическим курсом. Унизительные условия договора уязвили ее гордость и заставили обращаться с Трокмортоном как с незначительным посланником второстепенного двора. К его чести, Трокмортона это только позабавило, однако детская выходка Марии не понравилась Сесилу, которому было вовсе не до смеха.
Вновь возник слух о том, что Мария беременна, но Трокмортон решил, что причиной является menstruum retention[35] Со своим обычным скептическим отношением к придворным сплетням он писал: «Забавно смотреть, как разыгрывают этот фарс». Дата утверждения договора прошла, но посол получил только успокаивающие уверения, что, пока шотландские сословия не выразят своей воли и не пришлют послов, от Марии и Франциска II не стоит ожидать формального подписания договора.
Юная чета столкнулась с более серьезными проблемами, когда 16 ноября Франциск II рано вернулся с охоты в окрестностях Орлеана из-за головокружения и звона в правом ухе. В воскресенье он упал в обморок в церкви, головная боль стала постоянной, а из уха несколько раз вытекала жидкость. Франциск II всегда страдал от экземы, причем на его лице появлялись красные пятна, а также от респираторных заболеваний, из-за которых у него шел дурной запах изо рта. Все это ослабило его организм, который больше не мог сопротивляться болезни. Новое воспаление проявилось опухолью «размером с орех», а когда врачи осмотрели его левое ухо, то обнаружили открытый свищ, из которого вытекал гной. Было очевидно — король умирает. В письме от 4 декабря Екатерина признала этот ужасный факт, указав при этом, что у Франции нет недостатка в законных наследниках престола — «и все они мои дети». Однако брату Франциска II Карлу было всего десять лет, поэтому необходимо было решить проблему регентства. Екатерина блестяще справилась с этой задачей, вызвав к себе Антуана де Бурбона, короля Наваррского, ставшего к тому времени гугенотом, но являвшегося старшим принцем крови. Она немедленно обвинила его в измене. Зная, что его брат Конде уже получил смертный приговор, а также будучи «от природы покладистым и уступчивым», король Наваррский предложил Екатерине регентство при условии, что она пощадит его, и она тут же согласилась. Екатерина заставила братьев Гизов обнять Антуана в знак прощения и приказала освободить Конде, нейтрализовав тем самым своих врагов и ничего не потеряв.
Этот ловкий ход знаменовал конец власти Гизов. Екатерина мудро отошла в сторону перед тем, что справедливо сочла необоримой силой братьев Гизов, подкрепленной влиянием Марии на Франциска II, однако теперь у нее появился шанс, и она за него ухватилась. Девочкой она читала не «Амадиса Галльского», а «Государя» Макиавелли и «Придворного» Кастильоне, где могла встретить следующие строки: «Обязанностью хорошего придворного является знать натуру и склонности государя, так что в зависимости от обстоятельств он легко сможет обрести его благоволение». Екатерина взялась за дело с энтузиазмом. Позднее английский посол говорил о ней: «Правда в том, что она любит и ненавидит в зависимости от собственной выгоды… Эта женщина извлекает выгоду из любого случая и стремится добиться своего невзирая на добро и зло». Другими словами, она была настоящим прагматиком по сравнению с романтичной Марией.
Кардинал приказал служить искупительные мессы, и по всей Франции молились за короля. Доктора сделали в ухе Франциска И прокол, что привело к временному облегчению. Мария постоянно ухаживала за ним. 3 декабря во внутреннем ухе короля образовался абсцесс, распространившийся на мозговые оболочки, 5 декабря он уже был без сознания. В тот же день он «отдал Богу душу», и королем Франции стал десятилетний Карл IX. В присутствии Карла и его матери кардинал Лотарингский сломал печати Франциска И. Через четыре дня после своего восемнадцатого дня рождения Мария стала вдовой короля.
Череп покойного короля вскрыли; доктора утверждали, что весь его мозг сгнил и вылечить его было невозможно. Мария находилась в полной прострации, напоминавшей состояние Екатерины после смерти Генриха II. Она соблюдала полный траур, не выходила из комнаты, стены которой были затянуты черным крепом, и беспрестанно плакала. «Она была исполнена скорби, подобающей жене, и у нее на то была справедливая причина, ведь она ухаживала за ним во время его болезни, усердно выполняя все тягостные обязанности… Она чувствует себя нехорошо, но вне опасности». 8 декабря Джованни Суриан описал ее состояние в письме своему господину, венецианскому дожу:
«Постепенно все забудут о смерти покойного короля, все, кроме его молодой жены, а теперь вдовы. Ведь она столь же благородна, сколь красива и изящна. Мысли о столь раннем вдовстве, о потере супруга, великого короля, так любившего ее, а также и о том, что она лишилась французской короны и не имеет большой надежды вновь обрести корону Шотландии, ее единственного достояния и приданого, столь угнетают ее, что она не может утешиться. Постоянно обращенная мыслями к своим несчастьям, вся в слезах, страстно и горестно сетующая, она внушает всем великую жалость».
Мария знала: как в свое время Диане де Пуатье, ей после смерти Франциска II придется вернуть все подаренные им драгоценности, так что 6 декабря были составлены две описи. Драгоценности в основном состояли из многочисленных бриллиантов и рубинов, вставленных в ожерелья и распятия, были также эмали с буквой «Р». Список занимает три страницы и подписан «Карл» — возможно, это первый документ, подписанный им в качестве монарха. Екатерина добавила к нему расписку в получении драгоценностей. Был также составлен перечень личных слуг Марии, показывающий, что четыре Марии по-прежнему были с ней. Помимо них в списке были указаны 286 придворных и слуг. Немногие из них потребовались Марии во время ее пятнадцатидневного траура, ведь к ней допускались лишь ближайшие родственники, однако послы и придворные перешептывались, строя бесконечные предположения.
Мария теперь была восемнадцатилетней женщиной, теоретически способной к деторождению — хотя этого еще не доказала, — и вдовствующей королевой. Секретный договор Фонтенбло теперь утратил свое значение, однако Мария имела огромные земельные владения во Франции и могла претендовать на королевские доходы в Шотландии. 20 декабря мальчик-король Карл IX подписал приказ выплатить Марии ежегодную вдовью долю в 60 тысяч ливров из доходов ее герцогств Турень и Пуату. Таким образом, «за утратой последовала бедность». Это неточно, поскольку она по-прежнему была одной из богатейших женщин Франции, даже не считая владений в Шотландии, а ее рука — великим призом для любого, кому удалось бы на ней жениться.
Придворные не прекращали рассуждений о ее браке с того момента, когда стало понятно, что Франциск II умирает. Мария сидела у постели мужа, но Екатерина и ее братья были слишком заняты проблемой наследования престола и выбора нового мужа для Марии, чтобы быть рядом. Для Екатерины было типично стоически принять неизбежное и немедленно идти дальше. Сначала предположили, что, получив папскую диспенсацию, Мария могла бы выйти за своего шурина Карла IX, но Екатерина решительно отвергла эту идею.
Поначалу Екатерина обращалась с Марией как с одной из дочерей, однако по мере того, как власть Марии возрастала, росла и враждебность Екатерины, пока восшествие Марии на престол не сделало эту вражду открытой. Марию, конечно, защищали Гизы, но со смертью короля Франциска II и обретением Екатериной прав регентства все изменилось. Теперь Екатерина не желала иметь дело с Марией и совсем уж не хотела опять заполучить ее в невестки. Список возможных претендентов на руку Марии оставался длинным, а его составление диктовалось необходимостью исключительно династического союза.
Пока Мария оплакивала свою утрату, послы сообщали о различных слухах. В Толедо английский посол Чемберлен услышал толки о браке Марии с наследником Филиппа II доном Карлосом Испанским. Ему было пятнадцать лет, он был уродливым горбуном и уже начал проявлять темперамент убийцы, который в конце концов привел его к пожизненному заточению. В феврале 1561 года де Квадра, посол Филиппа II при дворе Елизаветы, сообщал: «Леди Маргарет Леннокс старается женить своего сына, лорда Дарнли, на шотландской королеве и, как я понимаю, имеет надежду на успех. Шотландский парламент решил рекомендовать королеве выйти замуж за графа Аррана, а если она этого не сделает, лишить ее возможности управлять королевством… Все чрезвычайно запутанно». Дарнли в самом деле появился в Орлеане по настоянию своей амбициозной матери, но он находился в конце списка. Молодой Арран был сыном герцога Шательро, но такой брак дал бы дому Хэмилтонов возможность наследовать престол, а к подобной перспективе шотландский парламент относился очень подозрительно. Более того, один намек на него вызвал бы у Елизаветы один из уже ставших знаменитыми приступов гнева. Ведь ей пришлось бы наблюдать, как самая амбициозная и ненадежная из шотландских династий разрушает ее северные границы.
Список продолжался. Франсуа де Гиз, приор ордена рыцарей-иоаннитов, представлял собой слишком тесный союз с кланом Гизов. Эрик XIV — новый король Швеции, был протестантом, но этой проблемой можно было бы пренебречь, если Мария переехала бы в Швецию. Второй из шотландских кандидатов в мужья также был отделен барьером исповедания. Лорд Джеймс Стюарт был сводным братом Марии, но даже если бы удалось решить эту проблему, он все равно оставался лидером протестантских лордов конгрегации и ожесточенным противником матери Марии.
Следуя примеру своей кузины из дома Тюдоров, Мария тянула время, но если бы возникла необходимость, она, как считали все, вышла бы замуж в соответствии с политическими интересами, и даже отвратительного дона Карлоса исключать было нельзя. Все это было непохоже на жизнь зачарованной принцессы, ожидающей своего прекрасного освободителя. Мария училась у Дианы де Пуатье и понимала, что такие романтические идеи — опасная роскошь, тогда как согласие и затягивание дела позволят ей выбрать наиболее удачное для собственных планов время.
Трокмортон отметил, что испанский посол проводил с Марией больше времени, чем это требовали его дипломатические обязанности. Он также счел двор «сильно изменившимся… здесь нет никого из Гизов и очень мало их друзей». Однако за сценой братья Гизы маневрировали, чтобы получить доступ к Екатерине. Она же, слишком мудрая для того, чтобы вызвать их откровенную вражду, держала братьев на расстоянии вытянутой руки. Мария теперь была лишена возможности влиять на двор.
Одной из наиболее очевидных и насущных потребностей Марии было информировать о происходящем и, если возможно, замирить шотландских лордов. В январе 1561 года она отправила в Шотландию посольство, обещая вернуться и предлагая амнистию за все преступления, совершенные в ее отсутствие. Она не связывала себя определенными временными рамками, употребив освященную веками формулу: «Когда дела позволят». Тем временем она, как казалось Трокмортону, была «рада править, подчиняясь доброму совету и мудрым людям, что является великой добродетелью в государе или государыне и показывает, что она обладает разумом и великой мудростью». К несчастью, Мария не могла положиться ни на мудрых людей, ни на добрый совет; все вокруг нее действовали в собственных интересах, так что она покинула французский двор и перебралась к своим родственникам — Гизам.
В марте 1561 года Сесил, предполагая, что Мария может вернуться в Шотландию и тогда его северным соседом станет католическое королевство, отправил Томаса Рэндолфа в Эдинбург, с тем чтобы он «выведал у протестантских лордов их намерения относительно дружбы и доброй воли». Его инструкции послу содержали завуалированную угрозу — Шотландию могли принудить к «дружбе», но предполагалось также, что, пока их королева находится во Франции, лорды могли бы заключить формальный союз с Англией. Шотландским лордам также рекомендовали «убедить свою государыню выйти замуж дома или вообще не выходить замуж без серьезных гарантий». Эту рекомендацию в ближайшем будущем повторит Елизавета.
Папа Пий IV, несколько приукрашивая действительность, обратился к Марии как к правящей королеве в своем письме от 6 марта 1561 года — первом из многих, — в котором просил ее поддержать Тридентский собор, отправив на него своих послов. Это означало бы молчаливую поддержку Контрреформации, и Мария избежала данной проблемы, ничего не предприняв. Девять месяцев спустя, 3 декабря, Пий IV написал снова, напоминая ей о долге католички и обещая оказать духовную поддержку и послать к ней легата Николаса де Гауду, чтобы укрепить ее решимость. И опять Мария не ответила.
В конце марта 1561 года Мария находилась в Реймсе у своей тетки Рене де Гиз, аббатисы монастыря Сен-Пьер де Дам, где была похоронена ее мать. Она ненадолго остановилась в Париже, где составила опись личных драгоценностей и предметов гардероба, так что она явно планировала покинуть двор.
Тому обстоятельству, что Мария была фактически изгнана от двора Екатериной, придавалось слишком большое значение. Пятнадцать лет спустя испанский посол Дельбена «долго перечислял прошлые события, чтобы показать, что королева-мать никогда не любила шотландскую королеву». Молодой шотландский дворянин Джеймс Мелвилл из Халхилла, паж коннетабля Монморанси, сообщал: «Королева-мать рада избавиться от правления дома Гизов и из-за них самих, и потому, что терпеть не может нашу королеву». Правда, однако, была куда проще. Мария была восемнадцатилетней вдовой, не имевшей при дворе близких родственников. При ней все еще находились ее четыре Марии, но они представляли собой нечто среднее между личными слугами и друзьями детства. Марии же, попросту говоря, нужен был кто-то, кому можно поплакаться, и Рене подходила на эту роль идеально. В монастыре Мария могла обрести покой до тех пор, пока не высохнут ее слезы, — по крайней мере, на первое время.
Целью Марии был Жуанвилль в Лотарингии, замок семьи Гизов, поэтому Трокмортон впал в панику — он опасался, что королева направится на восток, навстречу Фердинанду I, эрцгерцогу Австрийскому и императору Священной Римской империи, у которого было два сына брачного возраста. Трокмортон повторил Елизавете, что, если речь идет о Марии, «именно ее религия делает ее дружбу столь ценной. В настоящий момент она [Елизавета] находится в мире со всеми, и никто, кроме королевы Шотландии, не грозит ей войной». Сесил полностью разделял эти взгляды.
Продвижение Марии в сторону Жуанвилля, однако, было остановлено прибытием двоих гостей из Шотландии. Первым из них был Джон Лесли, впоследствии епископ Росский и глава католической партии, которая теперь более или менее ограничивалась северо-востоком страны. Лесли был тридцатитрехлетним прелатом и «тонким дипломатом». Он станет послом Марии в годы ее долгого английского плена. Он встретился с Марией 14 апреля и уверил ее в том, что послан графами Хантли, Атоллом и Кроуфордом, а также епископами Абердинским, Морейским и Росским. Он сказал королеве, что все католики Шотландии приветствуют ее как защитницу их веры, и предложил ей вернуться внезапно и высадиться в Абердине, где он сможет гарантировать ей армию, способную разогнать протестантский парламент в Эдинбурге. Это опасное предложение сопровождалось потоками лести, Лесли уверял Марию, что Шотландия с нетерпением ждет ее как нового рассвета. Это, как обычно, подарило ей минуту радости, хотя она мудро отвергла предложение Лесли.
То был вдвойне мудрый поступок, ведь на следующий день она встретила лорда Джеймса Стюарта, которого собрание знати послало, чтобы «узнать настроение молодой королевы».
Мария уверила его, что будет править, постоянно памятуя об их вольностях, и попросила его все подготовить к ее возвращению, которое состоится после коронации Карла IX. Родственники обменялись странными предложениями. Братья Гизы обещали лорду Джеймсу кардинальскую шапку, если он обратится в католичество. Тот, в свою очередь, попытался обратить Марию в протестантизм. Трокмортон уже намекал на это раньше, и Мария отвечала: «Буду с вами откровенна. Я считаю религию, которую исповедую, наиболее угодной Богу; я не знаю и не желаю знать никакой другой. Постоянство подобает всем, в особенности же государям и правителям королевств, и прежде всего в делах религии. Я воспитана в этой религии, и кто поверит мне хоть в чем-нибудь, если я легкомысленно к ней отнесусь?»
Лорд Джеймс напомнил Марии, что теперь в Шотландии по закону нельзя служить мессу, но дал ей лазейку, сказав, что, если она будет присутствовать на мессе в своих покоях, он гарантирует ей неприкосновенность. Обе стороны проигнорировали тот неудобный, но важный с юридической точки зрения факт, что, поскольку Мария не созывала Реформационного парламента и не подписывала его решений, превращая их тем самым в закон, запрет мессы не имел под собой правового основания. Лорд Джеймс закончил свою речь просьбой к Марии даровать ему графство Морей. Повидавшись с Трокмортоном в Париже и с Сесилом в Лондоне и представив каждому из них тщательно отредактированную версию беседы, он вернулся в Шотландию. Мария не доверяла его «особой любви к королеве Англии». Лорд Джеймс не получил от Марии окончательного ответа на вопрос, вернется ли она в Шотландию или останется во Франции.
На самом деле у Марии было несколько вариантов, но каждый из них требовал смиренно принять пилюлю из рук Екатерины, что для представительницы семейства Гизов было немыслимо. Мария знала, что ей вряд ли обрадуются при французском дворе, если она там останется в качестве вдовствующей королевы без всякого политического влияния.
Мария уже имела опыт бесплодного брака и жизни с супругом, к которому она относилась с нежностью, как к младшему и умственно отсталому брату; к тому же он скончался менее чем шесть месяцев тому назад. Планировать второй династический брак означало бы вновь войти в тревожный мир династических союзов, зная, что брак с одним государем неизбежно означает вражду со стороны всех остальных. Она могла получить отсрочку, удалившись в монастырь, а поскольку в числе ее ближайших родственников были два кардинала, великий приор и аббатиса, нетрудно было бы подыскать подходящее место с подобающим королеве комфортом. Но Мария была молода, красива и изящна, с детства привыкла к придворным любезностям и являлась центром притяжения для галантных дворян. Она обожала танцевать, ездить верхом, любила пиры и веселую жизнь в замках Луары. Будучи герцогиней Туренской, она могла бы удалиться в эту прекрасную провинцию, хотя, к сожалению, не в Шенонсо, где каменщики Екатерины как раз возводили новую галерею, и не в Шамбор, по-прежнему остававшийся любимым местом пребывания двора. Амбуаз все еще вызывал жуткие воспоминания, однако там легко можно было подготовить для проживания роскошный дворец с удобными охотничьими угодьями. Впрочем, на Луаре ее соседями постоянно оказывались бы члены королевской семьи. Однако Мария по-прежнему была популярна во Франции, для народа она все еще была La Reine Blanche[36] в своем белом траурном одеянии, и золотая жизнь герцогини Туренской казалась ей заманчивой.
Последним из вариантов было возвращение в Шотландию, страну, о которой она ничего не знала, и о тамошних конфликтах слышала лишь постольку, поскольку они касались ее матери или Французского королевства. С момента отъезда из Шотландии тринадцать лет назад все интересы Марии были семейными или личными. Ухаживание за мальчиком-королем, управление своим двором и угождение дядям счастливо сочеталось с охотой, танцами и выслушиванием изысканной лести поэтов и музыкантов. Мария вряд ли смогла бы назвать более двух городов в Шотландии, она говорила на нижнешотландском наречии, однако это была тайная игра, в которой участвовали она и ее четыре Марии, она не имела представления о религиозных и политических разногласиях, раздиравших ту страну, которой должна была управлять. Что же до воздействия Реформации на Шотландию, то ее это вообще не интересовало, за исключением того, что гугеноты были склонны к мятежам. Мы можем быть уверены в том, что во время визита матери во Францию одиннадцать лет тому назад Марии было сказано, что ее судьба — занять трон Шотландии и ее долг связан именно с ней. В Жуанвилле состоялся семейный совет Гизов, и Марии, возможно, посоветовали вернуться и, по крайней мере на время, признать Реформацию. Отказ от этого означал бы необходимость предпринять прямые действия, отвергнув заигрывания шотландских лордов и каким-либо образом договорившись с Екатериной. Мария неизбежно выбрала путь наименьшего сопротивления, а не тот, что диктовался ее слабым политическим инстинктом.
Сначала ей необходимо было решить семейные дела во Франции, поэтому она отправилась на восток, в Нанси, где жила ее золовка Клод, герцогиня Лотарингская. Здесь вновь засверкали огни празднеств — семейных крестин и помолвок, сопровождавшихся банкетами, балами и, конечно, охотой, а также «всевозможными благородными развлечениями во дворце». Несмотря на все забавы, Мария заболела «трехдневной лихорадкой». То была распространенная форма малярии, при которой приступы лихорадки возвращались каждые три дня на протяжении всего периода болезни. Во время передышек между приступами она смогла добраться до Жуанвилля, где за ней в ожидании ее запланированного возвращения в Реймс на коронацию Карла IX ухаживала ее бабушка Антуанетта де Гиз.
Коронация состоялась в Реймском соборе 15 мая 1561 года в отсутствие Марии, остававшейся в Жуанвилле. Карл IX был еще слабее, чем его покойный брат, а кардинал Гиз и его братья блистали на фоне Екатерины, присутствовавшей на церемонии лишь по просьбе папы. Сам обряд был гораздо менее пышным, нежели тот, что состоялся на восемнадцать месяцев раньше.
Мария вернулась в Париж 10 июня, и ее встретили герцог Орлеанский, король Наваррский, принц Конде и герцог де Гиз. Эта компания гугенотов и католиков ясно указывает на борьбу за власть при дворе Карла; однако все они подобающим образом объединились, образовав свиту Марии, и сопроводили ее в Сен-Жерменский дворец, где она некогда впервые предстала перед королевским двором. Там ее приветствовали Карл IX и Екатерина. 24 июля 1561 года начались торжественные проводы, длившиеся четыре дня и напомнившие Марии о счастливых годах. В ходе торжеств ее восхвалял Ронсар:
28 июня 1561 года Мария покончила со слухами относительно своего будущего, написав в Летингтон своему главному секретарю:
«Если Вы посвятите себя моей службе и покажете мне добрую волю, в которой уверяете меня, Вам не нужно будет опасаться клеветников и сплетников, ибо я не слушаю их. Прежде чем поверить тому, что мне говорят, я смотрю на результаты… Ничто не происходит в кругу нашей знати без того, чтобы Вы об этом узнали или дали свой совет. Не скрою от Вас, что, если после того, как я облеку Вас своим доверием, что-то пойдет не так, Вы будете первым, кого я обвиню. Я желаю впредь жить в дружбе с королевой Англии и вот-вот вернусь в свое королевство. По прибытии мне понадобятся деньги для моей свиты и на прочие расходы. От моего монетного двора должны остаться доходы за прошлый год…»
Мария описывала свои намерения столь отчетливо, как если бы эти инструкции вышли из-под пера самой Елизаветы, и она явно ставила Летингтона на место своего Сесила. Летингтон понял это, когда приказал сделать с письма копию и отослал ее Сесилу.
Нет сомнений в том, что весть о намерении Марии покинуть Францию была воспринята всеми с глубоким облегчением. Облегченно вздохнул и Трокмортон, которому не удалось встретиться с Марией во время ее странствий; Елизавета приказала ему не возвращаться в Англию до тех пор, пока Мария не ратифицирует Эдинбургский договор. Он знал, что Мария не собирается давать ему ответ до тех пор, пока не переговорит с советниками в Шотландии. Хотя Мария сказала ему, что отплывет из Кале, до него дошел слух о том, что она намеревается отплыть из Нанта и высадиться в шотландском порту Дамбартон, из которого она ребенком отправилась во Францию. Мария сыграла на руку Елизавете, отправив послом в Англию д’Уазеля; тот должен был попросить английскую королеву об охранной грамоте на случай непредвиденной высадки в Англии, а также и о гарантии возможности спокойно организовать дальнейший переезд по суше. Елизавета пришла в ярость, так как сочла это великим нахальством, однако уверила д’Уазеля, что с радостью на все согласится, как только Мария ратифицирует договор. Послу был дан недопускающий возражений приказ вернуться за документом во Францию. Елизавета также обошла главное оправдание Марии, лично написав шотландским лордам и прямо спросив их о том, каков будет их совет Марии, причем ее письма к ним содержали угрозы и обещания в равной мере. Прежде чем от них пришел ответ, Мария сообщила Трокмортону, что ей не нужна охранная грамота, так как она может спокойно добраться до Шотландии по морю. Она не станет ратифицировать договор до встречи со своими советниками, а что до использования английского герба, то это была идея ее свекра Генриха II и она отказалась от нее после смерти мужа. На следующий день, вероятно 20 июля, Трокмортон вновь попросил об аудиенции и услышал явно заготовленную заранее речь:
«Господин посол, если бы мои приготовления к отъезду не зашли так далеко, возможно, нелюбезность Вашей королевы и предотвратила бы мое путешествие. Теперь же я решилась пуститься в него, чем бы оно ни обернулось. Надеюсь, что ветер окажется благоприятным и мне не понадобится высаживаться на английском берегу. Если мне придется это сделать, господин посол, тогда я окажусь в руках Вашей госпожи и она сможет делать со мной все, что захочет. А если она будет столь бессердечной, что захочет покончить со мной, она сможет сделать это и принести меня в жертву. Возможно, для меня так будет лучше, чем жить дальше. Да исполнится Господня воля».
Несмотря на то, чтб Мария сказала Трокмортону, она, конечно, продолжала использовать создававшие столько сложностей английские гербы и с детским легкомыслием отмахивалась от этой проблемы, однако последние фразы ее обращения к Трокмортону не слишком-то легкомысленны. Уже не в первый раз она высказывала убеждение в том, что лучше умереть, нежели принять решение, к которому ее теперь принуждали. Она возвращалась в Шотландию без всякой радости в сердце и без всякого желания управлять этой страной как королева.
Теперь Мария отправилась в Лувр, чтобы надзирать за отправкой мебели и гардероба в Руан и Ньюхейвен, а затем опять уехала в Сен-Жермен. 25 июля она официально попрощалась с Карлом IX, Екатериной Медичи и королевским двором. Затем вместе с шестью дядями Гизами, стремившимися удостовериться, что она не забыла то, что обсуждалось в Жуанвилле, и в сопровождении большой свиты она направилась к Ла-Маншу. Ее точный маршрут и порт отправки хранились в большом секрете. 7 августа она достигла Абвиля, где дала Трокмортону последнюю аудиенцию. С последней просьбой об охранной грамоте к Елизавете были отправлены лорд Сент-Кольма и некий Артур Эрскин, хотя даже если бы Елизавета даровала его, документ не успел бы прибыть до отъезда Марии. Это просто был способ расставить все дипломатические точки над «и».
За день до отплытия Мария послала Трокмортону два серебряных таза, два кувшина, две солонки и кубок, всего 368 унций позолоченного серебра, в качестве традиционного подарка, выражавшего благодарность за службу. Мария и ее свита отплыли 14 августа; вместе с ней были Рене де Гиз, маркиз д’Эльбёф, Клод де Гиз, герцог Омальский, великий приор Франсуа де Гиз, поэты Брантом и Шательро, ее четыре Марии, доктор теологии и два врача. Две галеры со знатными пассажирами находились под командованием того самого Вильгеньона, который тринадцать лет назад командовал эскадрой, доставившей Марию Стюарт во Францию. За ними следовала внушительная флотилия грузовых судов, перевозивших ее мебель, посуду, наряды и драгоценности, а также 200 лошадей и мулов. Окончательные распоряжения относительно грузов были сделаны великим адмиралом Шотландии Джеймсом Хёпберном, графом Босуэллом, чей отец был фаворитом матери Марии в первые годы ее вдовства. Мария уже познакомилась с Босуэллом во Франции, куда он бежал не только от кредиторов, но также и от необдуманной помолвки с норвежской любовницей Анной Тронсден. Трокмортон считал Босуэлла «блестящим, опрометчивым и опасным молодым человеком» и был совершенно прав.
Когда королевская галера покидала Кале, ближайший к ней корабль затонул и вся его команда погибла. Мария пришла в ужас, а ее свита стонала, что это — самое страшное предзнаменование. Мария отказалась спускаться в каюту и приказала устроить ей постель на палубе, где и провела ночь, глядя на исчезающий берег Франции. Мария, одна из величайших плакальщиц истории, проливала потоки слез, пока любимая страна исчезала из виду; там оставалась ее юность. Она была восемнадцатилетней девственницей, коронованной королевой и вдовой, для которой Шотландия была совершенно чужой страной. Почитатель Марии иезуит Джозеф Стивенсон писал в XIX веке: «Шотландия, которая способна была восхищаться Ноксом и подчиниться диктату Елизаветы, не была домом для Марии Стюарт». Она вот-вот должна была начать жизнь, совершенно непохожую на ту, о какой мечтала.
Часть III
ШОТЛАНДИЯ
1561–1568
Глава VII
«МЫ ОКАЗАЛИСЬ В НЕИЗВЕСТНОЙ СТРАНЕ»
Во время морского путешествия Марии на север не последовало никаких враждебных действий со стороны Елизаветы, которая в конце концов отправила долгожданную охранную грамоту во Францию. Когда туман рассеивался, на горизонте появлялись английские корабли, но это были обычные патрули против пиратов, и единственным происшествием стала вынужденная стоянка одного из грузовых судов в Тайнмуте из-за встречных ветров. К сожалению, на этом корабле перевозили часть мебели и дорогих лошадей Марии — лучших, каких только можно было найти во Франции, а поскольку у животных не было паспортов, удивленный смотритель порта, выполняя свои обязанности, задержал их на месяц.
Прибытие Марии не было торжественным. Хотя она и запретила хлестать гребцов плетью, две ее галеры прибыли неожиданно рано, объявившись в заливе Фиртоф-Форт в ночь на понедельник 18 августа 1561 года под проливным дождем и в густой туман. Когда поэт Брантом увидел, что моряки зажигают лампы и фонари, он сказал, что их усилия не понадобятся: «Один лишь взгляд нашей королевы осветит целое море». Однако команда ему не поверила и до рассвета встала на якорь в заливе.
На следующее утро Брантом с дека не мог разглядеть гротмачту, «знак того, что мы оказались в неизвестной стране», но высадка продолжалась. Нокс, утверждавший, что «один человек не видел другого в двух шагах», счел, что погода являет собой дурной знак: «Что именно принесла она стране, кроме горя, печали и тьмы нечестивости?»
Поскольку путешествие закончилось раньше, чем предполагалось, а шотландские лорды не выставили дозор, королевскую свиту никто не встречал, и Мария в своем белом трауре и ее четыре подруги в более традиционных черных или серых одеяниях ступили на берег одни, в дождь и туман. На галере выстрелила пушка, чтобы дать знать горожанам, а в Эдинбург за помощью был отправлен гонец — ведь лошади по-прежнему оставались в Тайнмуте. Тем временем королевская свита добралась до самого роскошного дома, какой смогла разглядеть в тумане. Он принадлежал изумленному купцу Эндрю Лэму, который умудрился соорудить импровизированный обед для неожиданно прибывшей королевы и ее слуг. Два часа спустя с извинениями прибыл задыхающийся от спешки Шательро, а вскоре вслед за ним появилась и торжественная процессия встречающих: лорд Джеймс, граф Аргайл и лорд Эрскин из Дана с лошадьми и витиеватыми любезностями. Отправили гонцов, чтобы быстро подготовить Холируд, еще не вполне отремонтированный к прибытию Марии; она же вместе со своей промокшей до нитки свитой проследовала в город, хотя торжественной эту процессию назвать было трудно. Неудивительно, что Мария, увидев, какой жалкий прием ей оказали, расплакалась, а Брантом сообщает нам: она сочла, что сменила рай на ад, — хотя, вероятно, он говорил о себе.
Едва процессия тронулась, как перед ней предстала толпа просителей. За месяц до того в Эдинбурге состоялся карнавал, и некий портной Джон Гиллон исполнял роль Робина Гуда. В этот праздник по традиции «Робину Гуду» один день было позволено воровать в лавках — хотя большая часть товаров была возвращена. Пьянство и беспорядочный разгул сыграли свою роль, и праздник вышел из-под контроля. Гиллона арестовали и приговорили к смерти, причем предполагалось, что этот приговор по традиции будет заменен поркой, однако Нокс отменил помилование. В день прибытия Марии толпа ворвалась в Толбут — городскую тюрьму Эдинбурга — и спасла Гиллона. Теперь он вместе со всеми стоял на коленях перед Марией и умолял спасти его. Королева понятия не имела, в чем дело, в чем обвиняли приговоренного, однако ей посоветовали — возможно, то был лорд Джеймс — даровать прощение. Толпа вернулась в Эдинбург, восхваляя свою прекрасную и милостивую королеву. С политической точки зрения это было прекрасное начало царствования — и то было не просто удачное совпадение. К моменту прибытия Марии в Холируд на улицах города устроили фейерверк, приветствуя милостивую королеву, которая, как сообщили народу, сделала всем шотландцам комплимент: высадилась на берег без охраны. Мария находилась в королевстве всего несколько часов, но ею уже манипулировала ее знать, хотя сама она ни о чем не подозревала. Все это, не говоря уже о жалкой встрече и об отвратительной погоде, было совершенно неожиданно и совершенно не похоже на то, с чем она сталкивалась раньше. Ни один из рассказов о политических и религиозных переменах в Шотландии не подготовил ее к этому. Теперь ей предстояло учиться как можно быстрее.
Справедливости ради следует сказать, что любые воспоминания детства для Марии были теперь бесполезны, потому что за время ее отсутствия страна претерпела одно из самых больших изменений за всю ее историю. Королева-регентша Мария де Гиз игнорировала призывы лорда Джеймса Стюарта и лорда Эрскина из Дана[37] проявить терпимость к протестантам: ведь католичка Мария Тюдор правила Англией без нее. Отсутствовавшая Мария Стюарт стала королевой Франции, и ее мать была твердо намерена сдержать или даже остановить реформационное движение. Изгнанный Нокс ненадолго вернулся зимой 1555/56 года и отобедал с лордом Эрскином из Дана и Мэйтлендом из Летингтона, но к его присутствию относились терпимо, только пока он был незаметен. Поскольку ему никогда не удавалось быть незаметным, он вернулся на континент, чтобы бомбардировать Шотландию вдохновенными посланиями лидера в изгнании. 3 декабря 1557 года графы Аргайл[38], Гленкайрн[39] и Мортон[40] вместе с лордом Лорном[41] и лордом Эрскином подписали договор конгрегации[42], открыто провозгласив себя протестантами и тем самым объявив себя альтернативным правительством, не признававшим королеву-регентшу. Теперь они были лордами конгрегации, и их вера привлекала все больше последователей из числа мелких лордов и городской элиты — если, конечно, это не мешало торговле.
В 1558 году Кристофер Гудмен, который вместе с Ноксом был пастором в Женеве, опубликовал памфлет «Как следует повиноваться высшим властям». В нем он писал, что народ обладает правом сместить правителя, если тот не соответствует идее доброго правления и справедливости. Это был революционный подход, и знать относилась к нему подозрительно, но Мария де Гиз настроила против себя большинство шотландцев и подтвердила необходимость реформы совершенно ненужным сожжением «древней развалины» — безобидного восьмидесятилетнего школьного учителя Уолтера Милна, которого арестовали за то, что он учил ребенка катехизису. К чести города Сент-Эндрюса, местные власти недвусмысленно отказались участвовать в казни, и клирикам пришлось вершить страшное дело самим. К несчастью, они плохо справились с задачей, без нужды затянув агонию старика.
17 ноября 1558 года умерла Мария Тюдор и королевой Англии стала протестантка Елизавета. В начале мая следующего года в Шотландию вернулся Нокс. Исполненная решимости Мария де Гиз объявила лордов конгрегации вне закона. Те собрались в Перте, тогда именовавшемся Сент-Джонстоном, и Нокс произнес проповедь против идолопоклонства в церкви Святого Креста и Святого Иоанна Крестителя. Результатом стал мятеж, во время которого церковное убранство было уничтожено теми, кого Нокс именовал «подлым множеством», — за эти действия он на себя ответственности не брал — а огонь реформы превратился в пламя войны между лордами и королевой-регентшей. Обе стороны познали превратности судьбы и пострадали от отступничества, но после того, как Елизавета послала собратьям-протестантам военную помощь, в результате уже никто не сомневался. Смерть Марии де Гиз 11 июня 1560 года ознаменовала собой конец военных действий и сделала возможным Эдинбургский договор и созыв 8 августа парламента Реформации.
Поскольку королева не созывала парламента, он, строго говоря, был незаконным, но присутствие трех сословий давало ему необходимую власть. Нокс произнес проповедь, призывая включить в договор религиозные вопросы, и умолял исключить католическое духовенство из состава второго сословия. Этого не произошло, но в любом случае большинство католических клириков не появилось на заседаниях. Одним из первых действий парламента стала просьба спикера Летингтона — его назвали «создателем прошений» — к Ноксу сформулировать исповедание веры. Оно признавало протестантизм официальным исповеданием и вполне могло быть написано в Женеве. Парламент пошел дальше, запретив в Шотландии мессу и полностью отвергнув власть Рима. Празднование Рождества и Пасхи было запрещено как папизм и идолопоклонничество, однако мудрые законодатели оставили в неприкосновенности языческий праздник Хогмани[43]. Шотландия теперь стала полностью протестантской страной, и во Францию к Марии отправили посольство, прося ее принять все эти изменения и ратифицировать Эдинбургский договор. Именно тогда лорд Джеймс Стюарт прибыл «узнать, что на уме у королевы». Он вполне разумно воздержался от прямого давления. Принятие Марией актов парламента Реформации имело огромное значение для спокойствия лордов, поскольку в 1555 году в Аугсбурге было достигнуто соглашение, призванное покончить с постоянными войнами и стычками между католической и протестантской партиями в Германии. Однако там главное положение гласило, что правитель может лично определять официальное вероисповедание подданных. Хотя Аугсбургский мир не распространялся на Шотландию, его можно было использовать как опасный прецедент, ведь Шотландия была не просто маленькой страной на северных задворках цивилизации, она подчинялась общеевропейским течениям. Поэтому то, что стало обычным в Аугсбурге, скоро могло стать камнем преткновения в Эдинбурге. Неудивительно, что Мария не признала ни договора, ни актов реформационного парламента, хотя и согласилась на принципиальную «дружбу» с Англией. Теперь, когда и Шотландия, и Англия принадлежали к лагерю протестантов, эта «дружба» была для шотландцев важнее «Старого союза»[44].
Тем временем Нокс произвел на свет версию «Книги дисциплины» и представил ее ассамблее реформистской церкви, которая, по сути, была первой Генеральной ассамблеей шотландской церкви. Первую версию отвергли, а консультативный комитет, которому предстояло ее переписать, расширили. Книга представляла собой далекоидущую программу преобразований в приходах — примерно соответствующих современным парламентским округам. Каждый приход должен был избрать комитет, или «сессию», который, в свою очередь, назначал пастора и школьного учителя, обязанного преподавать широкий спектр предметов. Сессии подчинялись синодам, которые включали в себя мирян, и все они вместе подчинялись ежегодной Генеральной ассамблее, которая теперь охватывала все духовное сословие. В проекте Нокса нашли место средние школы и университеты, а разный уровень оплаты делал трехступенчатое университетское образование доступным. Вся система должна была финансироваться из конфискованных доходов католической церкви. К несчастью, большая часть конфискованных владений церкви уже находилась в руках знати, не собиравшейся с ними расставаться, так что книга получила много похвал, но никакой финансовой поддержки. (Недавно одного влиятельного шотландского политика спросили, что бы он сделал сейчас с подобным законопроектом. Он ответил, что засыпал бы его похвалами, а затем попросил бы чиновников тихо похоронить его.)
Отнюдь не все шотландцы желали возвращения Марии; многие считали ее вероятной копией матери, и 9 августа Рэндолф сообщал Сесилу: «Многие хотят, чтобы она носа сюда не казала». Жена графа Хантли проконсультировалась со своими «духами» — она содержала целый штат ведьм — и ее уверили в том, что Мария «никогда не ступит на землю Шотландии».
Мария, однако, составила план действий без оглядки на мнение шотландцев: ее связь с Францией была разорвана, и теперь у шотландцев была правящая королева, хотели они того или нет. Все предпринятые ею шаги тщательно взвешивали — проявляются ли в них гонения или терпимость, — а ее выбор советников современники изучали столь же тщательно, сколь римские авгуры — внутренности жертвенных животных, если, конечно, не считать жертвенным агнцем саму Марию. Как бы там ни было, новая королева прибыла во дворец Холируд, которому предстояло стать ее домом на следующие шесть лет.
Когда Мария приблизилась ко дворцу с севера, со стороны холма Эббимаунт, его вид поднял ей настроение. Щедро изукрашенные каменной резьбой ворота, увенчанные гербом Якова V, вели в большой двор перед западным фасадом, отделанным в лучшем французском стиле. В северо-западном углу находилась квадратная башня, а старая церковь аббатства возвышалась с северной стороны. Аббатство было восстановлено после «Грубого ухаживания», но лишь формально: в числе его прихожан были только протестанты. В южной части дворца Яков V построил Королевскую капеллу, и именно она стала личной капеллой Марии. Вход вел во внутренний двор, на западной его стороне находились королевские покои, а на восточной — покои для придворных и государственных чиновников. Здание окружал большой королевский парк. В нем было три озера, а доминировала над ним вулканическая громада Трона Артура с потрясающими западными отрогами. В большом дворе было отведено место для турниров, позади главного здания располагались конюшни. Конечно, Холируду было далеко до великолепия Шамбора или очарования Шенонсо, но он вовсе не выглядел жалким и являл собой желанное укрытие от дождя. Подбежали грумы, чтобы принять лошадей, а Марии показали ее личные покои на втором этаже: зал приемов около пятидесяти футов в длину и двадцати в ширину; поспешно разожженный уютный огонь камина; спальня с большой кроватью. Слуги распаковывали то, что выгрузили с кораблей в Лите, — бблыиую часть вещей Марии все еще задерживали в Тайнмуте. Затем Мария осмотрела свою личную столовую, представлявшую собой закуток в двенадцать квадратных футов с камином. Все окна ее покоев выходили на запад. В целом дворец был убран довольно-таки убого, хотя из королевских окон открывался вид на сиявший праздничными фейерверками Эдинбург.
Когда стемнело, под окнами Марии в большом дворе собрался импровизированный оркестр и хор. Согласно Ноксу, «группа достойных людей с музыкальными инструментами и музыкантами приветствовала ее под окнами ее спальни». «Мелодия, — утверждал он, — ей очень понравилась, и она пожелала, чтобы они продолжали свои концерты еще несколько вечеров». Нокса там не было, однако Брантом был, и он дает совсем другое описание этого события: «Пять или шесть сотен молодчиков из числа жителей этого города собрались под ее окнами с несчастными дудками и пели псалмы так плохо и так редко попадая в тон, что вряд ли можно было петь хуже». Конечно, к тому времени Брантом стал уже убежденным врагом шотландцев, но для человека, воспитанного на придворной музыке Жаннекена и де Сермизи, первое столкновение с протестантскими псалмами, которые распевали по ночам, должно было стать большим культурным шоком.
На следующий день дворяне подготовились: «Все люди были радушно приняты, им оказали благожелательный и радостный прием и приветствовали их добрыми словами». Даже самые убежденные протестанты знали, что назначение на должности исходит от короны, а новая королева, хотя и католичка, вполне могла пожелать задобрить своих подданных щедростью. Эти люди были аристократами, связанными с вновь прибывшей королевой узами верности, так что их естественным ответом были визиты с выражениями преданности. Позднее они примут решение относительно степени их личной верности. Все они заседали в парламенте Реформации и покорно внимали проповедям Нокса, однако он сам говорил: «У желудка нет ушей» — а знать Шотландии тщательно заботилась о своих желудках.
Реформация переживала первые дни, ее еще легко было остановить.
Первое испытание выпало на воскресенье 24 августа 1561 года, через пять дней по прибытии Марии. Она присутствовала на мессе в личной капелле, как ей обещал лорд Джеймс, который теперь охранял дверь в капеллу: официально — чтобы не дать войти ни одному шотландцу, а на самом деле — чтобы предотвратить нападение на священника. Возглавляемая лордом Линдси[45] толпа потребовала, чтобы «священник-идолопоклонник был убит». Граф Монтроз[46] присутствовал на мессе, а согласно «Хронике ежедневных событий» «вся остальная знать пошла на проповедь Нокса». В числе его прихожан был и Рэндолф, опасавшийся, что Нокс «может все испортить» отсутствием гибкости. Позже в тот же день толпа собралась в аббатстве, где столкнулась с придворными Марии, в том числе ее дядями и дамами. Этих дам Нокс обычно называл старым шотландским словом, переводимым как «шлюхи». Все они заявили, что не могут жить без мессы и если у них не будет возможности присутствовать на ней, они вернутся во Францию. Нокс с радостью поддержал эту идею, являвшуюся, однако, пустой угрозой. Мария, впрочем, сочла, что часть сомнений лордов — особенно в отношении Аугсбургского мира — стоит рассеять, и на следующий день, 25 августа, в регистре Тайного совета появилась запись: «Ради всеобщего блага никто из присутствующих не должен частным образом или публично изменить официальную религию или предпринять что-либо против той ее формы, которая, как по прибытии в Шотландию Ее Величество обнаружила, признана повсеместно». В качестве ответного шага, достойного Екатерины Медичи, разрешение на посещение мессы было тихо распространено на всех слуг Марии. Очарование Марии начало оказывать воздействие на лордов, и этому противостоял лишь молодой Арран.
Примечательно, что первое прямое вмешательство Марии в политику — акт Тайного совета, гарантировавший, что правительница-католичка не будет преследовать сторонников Реформации. Другими словами, у нее не было ни религиозного, ни политического рвения, и она с удовольствием позволила бы советникам управлять королевством без ее вмешательства, а сама занималась бы тем, что умела делать лучше всего: подавала себя как сверкающую драгоценность и использовала свое обаяние для обеспечения спокойного правления. Это вполне удовлетворило бы ее советников Гизов.
Спустя девять дней, 2 сентября, Мария опробовала свое обаяние на известных своей переменчивостью горожанах Эдинбурга, устроив церемонию торжественного въезда. Городскому совету отводилась только одна неделя на подготовку, поэтому необходимо было сотрудничество ремесленных цехов, и оно было обеспечено благодаря прощению, дарованному Марией Гиллону. Мария рано выехала из дворца и отправилась в замок, чтобы пообедать со знатными дворянами; отсутствовали Шательро и его сын Арран. Состоявшаяся позднее процессия была важна с политической и религиозной точки зрения, потому что протестанты отнюдь не составляли большинства в Эдинбурге и возможность легкомысленного возвращения в лоно римской церкви при виде прекрасной юной королевы была вполне реальной. В час дня Мария выехала из замка «под многократные залпы орудий». Когда она пересекла подъемный мост, ее встретили пятьдесят одетых маврами молодых людей в костюмах из желтой тафты. По ходу продвижения процессии по Хай-стрит «шестнадцать достойных людей» несли балдахин королевы из пурпурного бархата, подбитый красной тафтой и отделанный золотом и серебром. В том месте, где ведущая к замку улица расширялась, появилась повозка с детьми, поднесшими королеве серебряную посуду — поспешно купленную у графа Мортона и Мейтленда из Летингтона. Мария изящно коснулась посуды, а повозка последовала за ней во дворец. К тому времени большая часть населения выстроилась вдоль улиц и до хрипоты выкрикивала приветствия своей восемнадцатилетней красавице королеве, одетой в белый шелк и сверкающей драгоценностями. У Вест-Боу поперек улицы возвели ворота; наверху, словно бы на небесах, находились дети, затем облако разверзлось, выпустив «хорошенького мальчика» с ангельскими крылышками, который спустился с небес и поднес Марии ключи от города, Библию и Книгу псалмов, переплетенную в пурпурный бархат. Псалмы были протестантскими, кроме того, и они и Библия были на народном языке, а не на латыни — совершенно новый для Марии опыт. Согласно Ноксу, который сам не присутствовал при этом, она поморщилась и отдала книги Артуру Эрскину. Ребенок «произнес небольшую речь и подал ей три трактата, содержания которых мы точно не знаем»; они были призваны показать ей «совершенный путь на небеса». Затем он вознесся на свои картонные небеса. Процессия остановилась у Баттер Кросс, к востоку от церкви, которая именовалась тогда большой церковью Сент-Джайлс. Нокс жил в доме, стоявшем почти напротив большой церкви, на втором этаже, так что искушение увидеть воплощение своих величайших страхов во всей ее королевской славе должно было быть непреодолимым; но Нокса нигде не было видно. У Толбута Марию встретили три девушки, одна символизировала Фортуну, две другие — Справедливость и Мудрость; затем она спустилась к Меркат Кросс, где у фонтана с вином ее встречали четыре еще более пышно одетые девушки. Следующей остановкой был Салт Трон; там Марии пришлось выслушать суровую нотацию относительно запрета мессы, а также полюбоваться на разыгранный перед ее глазами на помосте спектакль, посвященный страшной судьбе Кора, Датана и Авирама, сожженных за участие в восстании против Моисея. Планировали даже сжечь чучело католического священника, однако «сему воспрепятствовал» Хантли. Тем не менее французские придворные из свиты Марии сочли представление «смехотворным, оскорбительным и вызывающим». У Низербоу, восточных ворот Эдинбурга, под пение псалмов был сожжен дракон — символ Антихриста. Наконец, по возвращении в Холируд прозвучал еще один псалом, а дети с повозки покорнейше попросили Марию принять в дар от горожан серебряную посуду стоимостью в две тысячи марок. Мария завоевала сердца горожан способом, какой знали только хорошо воспитанные французские принцессы, и на ее стороне было достаточно знати, чтобы гарантировать ей поддержку совета. Однако необходимо было разрешить конфликт с религиозной оппозицией, и чтобы добиться этого, она сочла себя обязанной испробовать свое обаяние на Ноксе, бездумно проигнорировав советы тех, кто утверждал: Нокс не поддается на женские уловки. В конце концов, поэты и придворные во Франции постоянно уверяли ее в том, что своим очарованием она может сравниться только с богинями древности. Итак, в четверг 5 сентября, всего лишь через три дня после торжественного въезда, память о котором была еще свежа, правящая королева Мария встретилась со своим подданным проповедником Джоном Ноксом. То было их первое личное столкновение.
Прежде чем покинуть Францию, Мария сказала Трокмортону, что, по ее мнению, Нокс — самый опасный человек в королевстве, и теперь была готова к борьбе. Враждебность Марии к Ноксу была порождена главным образом его памфлетом «Первый трубный глас против чудовищного правления женщин», опубликованным в 1558 году. Этот часто упоминаемый и редко читаемый трактат, который было бы точнее назвать «Первый трубный глас против неподобающего женщинам обладания королевской властью», представлял собой атаку на Марию Тюдор. Трактат был полон библейских цитат, показывающих катастрофические результаты женского правления. Трудно было бы найти более неподходящее время для публикации, ведь Мария Тюдор умерла вскоре после этого, а когда на престол взошла ее наследница Елизавета, одно упоминание имени Нокса заставляло ее бледнеть от ярости. Нокс старался успокоить ее, представив ее не как Иезавель, но как Дебору, ослабляя тем самым собственные доводы, но ни капли не смягчил тюдоровский гнев. Юная Мария терпеть не могла критику и решила лично выступить против Нокса.
С другой стороны, Мария де Гиз практически игнорировала Нокса; она вступила в светский конфликт с восставшими лордами, и в ее правление казней еретиков было немного по сравнению с кровопролитием, учиненным Марией Тюдор. Нокс изобразил Марию Стюарт Иезавелью, собиравшейся навязать Шотландии мессу и обратить Реформацию вспять, хотя в ее планы не входило ни то ни другое. В обычной жизни, как показывают его письма, Нокс относился к женщинам с симпатией и был изысканно вежлив по отношению к ним, но в данном случае он желал превратить Марию в символ всего того, что ненавидел. Он собирался использовать все свое ораторское искусство, чтобы сокрушить ее. Нокс учился в университете Сент-Эндрюс у Джона Майра (или Мэйджора), одного из величайших ученых своего времени, а в последовавшие за этим годы он отточил свое искусство полемиста, путешествуя по Европе. Марию наставляли в риторике как принцессу, а не как теолога, и она как послушная дочь церкви просто принимала на веру то, чему ее учил кардинал Лотарингский. В столкновении у одной стороны явно были преимущества, а поскольку единственное его описание, которым мы располагаем, создано самим Ноксом, наши представления о нем также односторонни.
Они встретились в приемном зале покоев Марии; королева находилась в обществе двух придворных дам, а Нокса сопровождал выступавший в роли посредника лорд Джеймс. Во время встречи Мария сидела, а Нокс стоял на подобающе почтительном расстоянии, а не «нависал над ней угрожающе», как утверждали некоторые апологеты Марии. На самом деле он был среднего роста, широкоплечий благодаря пребыванию на французских галерах; в ходе дебатов он говорил спокойно, с выраженным английским акцентом.
Мария начала с упоминания о «Первом трубном гласе», обвинила Нокса в том, что он стал причиной «большого кровопролития в Англии», и — как ни странно — в том, что он приобрел славу благодаря некромантии. Эти дикие обвинения вряд ли были достойны отповеди, однако Нокс умолял ее терпеливо выслушать «его простые ответы». Если учить людей следовать божественной истине означало проповедовать мятеж, тогда он виновен. Что же до книги, которая «кажется, столь оскорбила Ваше Величество», он согласен подчиниться «суждению всех ученых людей мира». Очевидно, что он не включал Марию в число «ученых»; он знал, что без кардинала Гиза, нашептывающего ей на ухо, Мария нервничала и чувствовала себя неуверенно. Опытный полемист, он также знал, что, если она утратит самообладание, он выиграет спор. Еще сильнее укололо ее другое утверждение Нокса: что он так же готов жить под ее властью, как Павел был готов жить при Нероне.
Иаков V и Мария де Гиз — родители Марии Стюарт
Антуанетта де Бурбон, мать Марии де Гиз, бабушка Марии Стюарт
Дворец Линлитгоу, в котором родилась Мария Стюарт
Замок Стирлинг, в котором Мария провела первые шесть лет жизни
Мария Стюарт в возрасте 13 лет
Кардинал Битон
Замок Дамбартон
Мария Стюарт в возрасте 17 лет. Портрет работы Франсуа Клуэ
Дофин Франциск, первый супруг Марии Стюарт.
Портрет работы Франсуа Клуэ
Французский король Генрих II
Екатерина Медичи
Диана де Пуатье, фаворитка Генриха II, ставшая наставницей и подругой Марии Стюарт
Замок Амбуаз, в котором обитала Мария со своим двором
Замок Шенонсо, излюбленная резиденция Генриха II и Дианы де Пуатье
Смерть Генриха II.
Через несколько мгновений Мария Стюарт станет королевой Франции.
Ж.-Ж. Периссен и Ж. Торторель. Раскрашенная гравюра
Франциск II и Мария Стюарт — король и королева Франции
Фран — монета с изображением Франциска и Марии
Мария в белом траурном одеянии французских королев — она носила его так часто, что заслужила прозвище Белая королева
Джеймс Хэмилтон, граф Арран
Пьер де Ронсар, воспевавший Марию Стюарт в своих стихах
Проповедник Джон Нокс, непримиримый враг Марии Стюарт. Гравюра на дереве. 1681 г.
Генри Стюарт, лорд Дарнли, — второй супруг Марии Стюарт
Мария и Дарили
Эдинбургский замок, 13 котором родился сын Марии Стюарт
Дворец Холируд
Мария была вынуждена изменить тактику; она заявила, что Нокс призывал народ признать религию, отличную от той, что допускал государь. А поскольку Господь предписывает подданным подчиняться государям, учение Нокса не может быть от Бога. Мария считала этот довод решающим, однако Нокс ответил, что подданные не обязаны разделять религию государя, хотя им приказано подчиняться ему. Однако, если суверен тоже нарушает свои обязательства, подданные имеют право не подчиняться государю, подобно тому, как дитя, обязанное подчиняться отцу, может ему воспротивиться, «если отец охвачен одержимостью и готов убить свое дитя». Вывод был строго логичен, но противоречил всему, чему учили Марию, и она «стояла словно громом пораженная почти четверть часа». Возможно, впервые в ее жизни кто-то, кроме ее няни Дженет Синклер, посмел ей противоречить. Однако это произошло: ее, коронованную королеву, привыкшую к полной покорности придворных, восседающую на троне в собственном дворце, поучают, говоря, что ей можно не повиноваться и дозволено даже устранить ее, если она нарушит обязательства, установленные не ею, но ее подданными. У нее не было ответа для Нокса, и молчание нарушил лорд Джеймс, спросивший, что ее оскорбило. В ее ответе детская обида мешалась с яростью: «Я так понимаю, что мои подданные должны повиноваться вам, а не мне… Так что я оказываюсь у них в подчинении, а не они у меня».
Теперь перед Ноксом были открыты ворота, и ему достаточно было лишь легонько подтолкнуть мяч, заверив ее, что он никогда не хотел, чтобы кто-нибудь ему повиновался, поскольку все должны повиноваться Господу, короли обязаны быть приемными отцами его церкви, а королевы — няньками его народа. Мария обратилась к своей церкви, заявив Ноксу, что будет защищать истинную церковь — римскую. Нокс, естественно, отверг это, однако Мария ответила, что так говорит ей ее совесть. Нокс пожурил ее: ведь совесть требует знания, а у нее его нет. Мария ответила: «Мне говорили, и я сама читала», явно страстно желая, чтобы рядом с ней был кардинал Лотарингский, а сама она внимательнее слушала бы его наставления вместо того, чтобы слепо им следовать. Когда спор зашел далеко, Мария осознала, что проигрывает. Затем Нокс нанес последний удар, сказав: «Иисус Христос сам не служил мессу и не приказывал ее служить на Тайной вечере, ведь месса не упоминается нигде в Писании». Мария явно не читала Писание целиком, она всего лишь заметила, что, если бы ее наставники сейчас были здесь, они бы ему ответили. Нокс уцепился за это, сказав, что будет рад им ответить. Мария, теперь уже совершенно разбитая, пригрозила: эта встреча может состояться раньше, чем он думает. Нокс, как обычно, произнес последнее слово, заявив, что если это произойдет при его жизни, то в самом деле случится намного раньше, чем он рассчитывал. К большому облегчению Марии, в этот момент ей объявили, что ужин готов, возможно потому, что прошел заранее оговоренный промежуток времени, а Нокс произнес молитву о том, чтобы ее царствование в Шотландии оказалось столь же благословенным, как правление Деборы в Израиле.
Мария успела удалиться к себе прежде, чем пришли неизбежные слезы, но Рэндолф сообщал: «Мистер Нокс говорил с королевой в четверг. Он столь сильно поразил ее сердце, что заставил плакать». Она не могла понять, почему Нокс столь суров, ведь она не пыталась навязать своему народу католичество. Мария начала с прямого обвинения Нокса в разжигании смуты и использовании некромантии. Она вряд ли могла поддержать подобные обвинения, но прослышав о том, каким сильным полемистом является Нокс, решила атаковать с самого начала. Нокс был вежлив, даже подобострастен, и приводил доводы, основываясь на полной убежденности в истинности протестантизма. Разгромленная, Мария то сердилась, то разыгрывала «маленькую потерявшуюся девочку». Ее вера с рождения была частью ее жизни, тогда как Нокс отрекся от римской церкви в результате внутреннего конфликта, дававшего ему суровость новообращенного. Поэтому Нокс не мог поверить, что простота Марии была искренней: «Или мое суждение неверно, или же ее разум горд и полон уловок, а сердце воспламенено против Бога и Его истины». Его суждение было неверно, потому что он не мог поверить, что не все являются религиозными фанатиками того же розлива, что и он сам. Фанатики видят только веру или ересь, политики везде видят заговоры и интриги, любовники в каждом действии видят привязанность или предательство, и никто из них не в состоянии представить общее пространство мира и стабильности. Мария не была фанатичкой, не блистала умом, необходимым политику, и любила только физические упражнения и спокойное созерцание красоты. В своем детальном исследовании «Благочестивый реформатор, нечестивый монарх» доктор Дженни Вормальд говорит: «Мария видела в нем (Ноксе) не посланника небес, а скорее сильный раздражитель, огромную жужжащую муху — препятствие».
6 сентября были обнародованы имена членов Тайного совета Марии. Двенадцать имен были вполне ожидаемыми: герцог Шательро, графы Арран, Хантли, Аргайл, Босуэлл, Эррол[47], Атолл[48], Мортон, Монтроз и Гленкайрн, а также лорд Джеймс Стюарт и Джон Эрскин, лорд Кит. По требованию совета в заседании участвовал также граф-маршал[49], а Мейтленд из Летингтона как секретарь королевы присутствовал там постоянно. В число Совета двенадцати входили семь лордов-протестантов, все они были союзниками лордов конгрегации, которые в качестве всемогущего подготовительного комитета раньше диктовали политику рабски подчинявшемуся им парламенту. Шесть из них постоянно находились при дворе, и совет заседал ежедневно с восьми до десяти утра, а днем с часа до четырех.
Тайный совет не раз формировали и раньше, обычно в качестве временной меры на период частых регентств, но теперь ситуация была необычной. Совет сформировался, основываясь на наследственных правах знати, и был признан парламентом 1560 года, хотя, строго говоря, сам этот парламент, не созванный монархом, был незаконным. Но хотя Мария и была несомненной правящей королевой, она не могла преуменьшить наследственные права своих дворян. Она присоединилась к уже существовавшему правительству, возглавив его. Шотландский историк Джулиан Гудейр описывает это как начало «корпоративного управления».
Из всех советников секретарь Летингтон был совершенным воплощением политика XVI века. Уильям Мейтленд родился в местечке Летингтон Тауэр, теперь переименованном в Леннокс — лав, поместье герцогов Хэмилтонов. Поскольку имя Уильям Мейтленд было весьма распространенным в данной местности, он, как и большинство шотландцев его ранга, был известен по названию поместья. Поэтому обычно его именовали Летингтоном. Сын Марии Яков VI впоследствии скажет: «Я бы предпочел, чтобы в Шотландии не было фамилий, от них одни беды». Отцом Летингтона был сэр Ричард Мейтленд, джентльмен, интересовавшийся садоводством и литературой. При Марии он возвысился до поста лорда-хранителя малой печати и занимал его до тех пор, пока в 1586 году его не вынудила выйти в отставку слепота. Образование Летингтон получил такое же, как и Нокс: за местной школой в Хаддингтоне последовал университет Сент-Эндрюс, а затем деньги и происхождение помогли ему отправиться в Европу, где он выучил французский и итальянский. Летингтон свободно владел латынью и — редкость для того времени — греческим, а также хорошо знал Библию. Он сделал карьеру на государственной службе при Марии де Гиз благодаря покровительству единоверцев-протестантов, лорда Джеймса и графа Кассилиса[50]. Он присоединился к лордам конгрегации не из религиозного рвения и не потому, что желал быть на стороне победителей, но скорее потому, что считал: опора Марии де Гиз на Францию подрывает юридическое основание ее правления. Летингтон полагал, что законный порядок в королевстве был восстановлен ее дочерью, и быстро превратился в ее главного советника, очаровывая ее тем, что подводил правовую базу под ее действия. Он очаровал и Елизавету во время своих многочисленных поездок на юг благодаря бесконечной лести. На своем портрете он, в кружевном воротнике и шляпе, усыпанной жемчугом, предстает совершенным придворным, но его взгляд сосредоточенно холоден. Картина дает представление о человеке, но не дает даже намека на его ужасный конец.
Помимо незаконнорожденного сводного брата Марии лорда Джеймса Стюарта Летингтон был самым влиятельным человеком в королевстве. Как говорил посол Елизаветы Томас Рэндолф, «удалите этих двоих из Шотландии, и те, кто любит эту страну, тут же почувствуют их отсутствие». Рэндолф также сказал о них: «Лорд Джеймс ведет дела в соответствии со своей природой — грубо, по-домашнему и прямолинейно, а Летингтон — более тонко и деликатно».
Сам Томас Рэндолф был «исполнен темного духа интриг, полон уловок и лишен совести. Он был верным слугой своей госпожи — королевы Елизаветы». Тем более любопытно, что он и Мария стали близкими друзьями, разделявшими любовь к верховым прогулкам, хотя Рэндолф и ставил интересы Елизаветы на первое место. Он встретил Марию 1 сентября 1561 года и дотошно выспрашивал ее относительно несчастного вопроса о ратификации Эдинбургского договора. Она, однако, попросту ответила, что незнакома с делом и должна сначала получить совет, а потом поговорит с ним снова. Мария явно чувствовала себя легко, говоря с людьми, подобными Рэндолфу, сначала по-французски, а потом, когда вспомнила язык, — на нижнешотландском. Рэндолф общался с ней по придворному протоколу, соблюдения которого требовало присутствие королевы, и его манеры напоминали ей о Сен-Жермене и Лувре. Когда с формальностями было покончено, она наслаждалась простотой общения, что в сочетании с ее несомненной красотой завораживало. Уроки Дианы де Пуатье не прошли даром, даже если у Марии за сахарной глазурью и не скрывалась сильная личность.
Рэндолф сообщал Сесилу: «Она считает необходимыми для сохранения своего положения три условия: во-первых, поддерживать мир с Англией; во-вторых, обеспечить себе подчинение подданных-протестантов — что ее удивляет». Третьим условием было «обогащение короны за счет монастырских земель. Если она это сделает, ей больше нечего будет желать для счастливой жизни, разве что хорошего мужа». Рэндолф выразился бы точнее, если бы сказал, что первые два пункта составляли политику Тайного совета, а третий был финансовой мерой, предложенной реформистами. Мария смирилась с политической неизбежностью брака, однако его пока можно было отложить.
Глава VIII
РАЗМЕННАЯ МОНЕТА ДИНАСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Мария, хотя и не без посторонней помощи, организовала Тайный совет, при посредстве которого могла управлять, утвердила свое право ходить к мессе частным образом и явила себя народу в Эдинбурге. Определились ее явные союзники и противники среди знати, и королева чувствовала, что противников можно пока игнорировать. Нокса она позвала к себе из любопытства и была поражена его отношением к религии. Он был духовным лидером растущей группы населения, но его религия для Марии не имела никакого смысла. Для нее религия подразумевала ежедневную мессу и призвана была давать утешение и успокаивать, а не беспокоить и провоцировать. Поэтому она классифицировала Реформацию как религиозное движение несомненной важности для тех, кто к нему присоединился. Но если реформисты демонстрировали терпимость к людям ее веры, их можно было игнорировать как нечто, пока не требовавшее от нее действий.
Следующим шагом Марии было показать себя населению за пределами Эдинбурга, и 11 сентября 1561 года, прежде чем наступающая осень обозначила приближение ее первой зимы в Шотландии, она направилась в Линлитгоу. Покинув дворец восемнадцать лет назад восьмимесячным младенцем, чтобы найти убежище в Стирлинге, она совершенно его не помнила. Но теперь по случаю ее возвращения знаменитый фонтан ее отца бил вином, а самые любимые гобелены, отосланные туда заранее, украшали стены. Дворец был сильно перестроен Джеймсом Хэмилтоном из Финнарта, незаконнорожденным сыном герцога де Шательро. Он посещал Блуа и Амбуаз на Луаре и наверняка был представлен ценнейшему трофею Франциска I — Леонардо да Винчи. Домой, в Шотландию, Хэмилтон привез лучшие произведения французского искусства и, перестраивая замок, позаботился о том, чтобы французы не воротили носы, так что вместо презрительных усмешек во дворце были слышны вздохи восхищения, а изысканные резные обрамления окон и — еще в большей степени — расположение дворца на пологом склоне холма на берегу большого озера вызвали одобрительный шепот. На горизонте, за озером и рекой Форт, лежали холмы Файфа, намек на более высокие горы на севере страны. Пейзаж был совсем не похож на долину Луары, а дворец, что немаловажно, ясно указывал на существование шотландского архитектурного стиля, который, хотя и был заимствован из Франции и Италии, обладал собственным изяществом.
Мария, проехав через город, присутствовала на банкете, данном в ее честь исполненными благоговения местными дворянами, пока придворные отдыхали на берегу озера. Через два дня королевская свита проследовала тем же путем, что и гонец с известиями о ее рождении девятнадцать лет назад. Мария прибыла в Стирлинг и расположилась в замке, некогда бывшем ее вторым домом.
Мария де Гиз в свое время наняла французских каменщиком и штукатуров, чтобы воплотить в жизнь желания Якова V, поэтому Стирлинг относился к французскому стилю в большей степени, чем Линлитгоу. Планировка и отделка королевских апартаментов были похожи на крепость Гизов — Жуанвилль — настолько, что три дяди Марии почувствовали себя как дома и начали склоняться к тому, что ее будущее, пожалуй, не так уж мрачно. Особенностью Стирлинга было множество вырезанных из дерева изображений, смотрящих с потолка. Сейчас на внешних балках располагается множество разнообразных резных фигур, одна из них — возможно, сам Финнарт со сломанным мечом. Даже Брантом теперь считал, что жизнь в Шотландии, в конце концов, не такая уж и варварская.
Тем не менее Мария едва избежала смерти, когда горящая свеча подожгла занавеси и полог ее кровати, пока она спала. Поскольку занавеси были задернуты на ночь, она в ужасе проснулась, окруженная языками пламени. Нокс, как обычно, истолковал это как предвестие ее правления в Шотландии; ведь за ней везде следовало пламя. Несколько дней спустя, 14 сентября, ее «благочестивые капелланы» должны были отслужить мессу в Королевской капелле, в которой ее когда-то короновали, но им не позволили это сделать Аргайл и лорд Джеймс, которые «настолько жестоко напали на хор, что некоторые его члены — и священники, и клирики — покинули свои места с разбитыми головами, а из их ушей текла кровь. Для совершивших это деяние все представлялось забавой». Учитывая, что сам лорд Джеймс вел переговоры о беспрепятственном отправлении мессы в королевской часовне в Холируде, это событие кажется выходкой пьяного хулигана.
Двор отправился дальше, чтобы нанести визит графу Ротсу. Тот потом утверждал, что во время этого визита у него украли столовое серебро. Рэндолф сообщал, что, где бы ни останавливались члены королевской свиты, «они мало платили за еду». В Перте состоялась уже ставшая привычной церемония встречи, во время которой королеве подарили сердце, наполненное предметами из золота. Подарок сопровождался обычной протестантской проповедью, осуждавшей заблуждения католического мира. Поездка и постоянные поучения, которые она регулярно выслушивала, начиная с Эдинбурга, оказались выше сил Марии. Она вполне предсказуемо упала в обморок, и ее пришлось снять с седла и нести в ее покои. Придя в себя, она присутствовала на парадном приеме в Данди, а потом отправилась в Сент-Эндрюс. Там пустили ложный слух об убийстве католического священника, и крайне благочестивый граф Хантли гордо заявил, что «вернет мессу в трех графствах», если Мария только прикажет ему. Та поспешно отказалась от этого предложения; оно только усилило ее мнение, что, если она хочет сохранить мир в королевстве или стать другом Елизаветы, граф Хантли будет серьезным препятствием.
Последней остановкой Марии перед возвращением в Эдинбург стал дворец Фолкленд, тот самый, в котором умер ее отец. Они никогда не встречались, и Мария уважала его лишь по обязанности; остается надеяться, что королевские слуги позаботились о том, чтобы она не спала в той же самой комнате, где он скончался. В Холируде не сохранилось никаких свидетельств того, что на его могиле в аббатстве отслужили мессу. Мария не считала его частью своей семьи; эмоции связывали ее с домом Гизов, и лишь династические права наследования порой заставляли ассоциировать себя с домом Стюартов.
Мария вернулась в Холируд 29 сентября; теперь она понимала, что без тщательной подготовки дядей Гизов, всегда и повсюду обеспечивавших радостно улыбающиеся приветственные толпы, ей еще нужно будет завоевывать популярность, хотя шотландцам и понравилась их прекрасная молодая королева. Нокс счел, что все города, через которые она проехала, «были заражены ее идолопоклонством». Шотландия не была похожа на Францию.
Возвращение Марии в Эдинбург было несколько омрачено постановлением магистратов, городского совета и глав ремесленных гильдий, предписывавшим «всем монахам, священникам, монахиням, прелюбодеям, развратникам и подобным им нечестивым людям» покинуть город в течение двадцати четырех часов или подвергнуться публичной порке. Мария, воспользовавшись своим правом, немедленно лишила провоста[51] и бейлифов должностей. Нокс выступал с истерическими обвинениями, однако по совету лорда Джеймса и Летингтона были назначены новые чиновники, и дело спокойно замяли.
Что невозможно было замять, так это требование Елизаветы ратифицировать Эдинбургский договор, устранявший претензии Марии на английский престол. Летингтон отправился в Лондон с письмами, говорившими о вечной дружбе, надеждах на постоянный мир между королевствами и заключавшими просьбу к Елизавете признать Марию своей законной наследницей. Письмо демонстрировало небольшие подвижки, однако Елизавета приняла его в штыки и продолжала настаивать на полной формальной ратификации договора. Когда Летингтон представил ей содержавшееся в письме предложение, Елизавета прямо сказала ему: «Я ожидала от вашей королевы другого послания… Я уже сыта словами по горло» и повелела ему надавить на Марию в отношении ратификации. Мария просто проигнорировала требование, не осознавая долговременных последствий своей бездеятельности. Английский историк Кэмден считал, что именно ее претензии на английский престол были «источником, из которого проистекли все выпавшие на ее долю бедствия».
Томас Рэндолф регулярно встречался с Марией и повторял требование ратифицировать договор, но все время сталкивался с вежливой глухотой. Он писал: «Ее милость каждый раз дарит меня добрыми словами, а ближайшие к ней люди, лорд Джеймс и Летингтон, говорят, что она имеет в виду именно то, что произносит». Рэндолфа допускали на заседания совета. 24 октября он отметил: «В палате совета… обычно она большую часть времени вышивает ту или иную картину». Любовь Марии к вышиванию явно намного превосходила ее интерес к государственным делам.
1 ноября она отпраздновала День Всех Святых торжественной мессой, музыка к которой, вероятно, была написана Робертом Карвером, однако после мессы священник был избит, и все ожидали новой прокламации, объявлявшей мессу частным делом Марии. Однако никакой прокламации не последовало. Казалось, что Холируд придерживался политики бездействия. Мария уже совершила первую поездку по стране или, по крайней мере, по части ее территории, получила приветствия жителей Эдинбурга и обустраивалась на новом месте, во дворце Холируд. По стенам развешивали гобелены, полы укрывали коврами, а повара приспосабливались к тонкостям французской кухни. Лошади Марии все еще находились в Берике. Ее дяди Гизы, за исключением маркиза д’Эльбёфа, вернулись во Францию. Герцог Омаль отплыл на королевской галере, а главный приор и монсеньор де Дамвиль отправились сушей, получив от Елизаветы охранные грамоты.
Марии удавалось подчинять события собственным целям. Когда 16 ноября она разбудила весь дворец, «так как ночью ей привиделось, что на подъездах ко дворцу появились всадники и он окружен», была поднята тревога и вооруженные стражники обыскали окрестности. Всё оказалось в порядке, и придворные вернулись в постели. Подозрение пало на Аррана, который, по слухам, собирался прибыть в Эдинбург во главе своих многочисленных родственников Хэмилтонов и захватить королеву в плен, хотя ничего подобного и не произошло. В результате Мария получила личную охрану из двенадцати алебардщиков; это число она вскоре удвоила. Не без причины подозрительный Рэндолф считал, что все это дело заварила сама Мария.
Несколько ночей спустя ночной отдых эдинбургцев прервал новый скандал. Босуэлл, д’Эльбёф и брат лорда Джеймса, лорд Джон Стюарт, развлекались вместе с «красивой девкой» Элисон Крейк и ее подругами. К несчастью, Элисон была известна также как «шлюха» Аррана, и во время следующего визита веселую троицу встречала вооруженная толпа Хэмилтонов. Д’Эльбёф побежал за своей алебардой, крича, что и десять человек не удержат его от сражения, позвали городскую стражу, а Рэндолф наблюдал за стычкой в безопасности своих покоев: «Я счел, что мудрее будет посмотреть на них из окна, а не присоединяться к ним». В результате Босуэлл в очередной раз был ненадолго изгнан из Эдинбурга, а Арран совсем лишился расположения Марии.
Проблема, которой надлежало заняться теперь, по-прежнему занимала умы всех сплетников Европы. Папский представитель в Лувене монсеньор Коммендоне писал кардиналу Борромео 23 ноября: «Королеве следует как можно быстрее решиться и выйти замуж за человека, способного искоренить в королевстве ересь». Как едко заметил современный историк Маркус Мерримен, «Мария как личность имела гораздо меньше значения, нежели Мария как разменная монета династической политики».
Папа Пий IV написал Марии 3 декабря, напоминая ей об обязанностях католического суверена. «Будь настойчива и постоянна — помни, какой добродетельной была Мария», — советовал он ей, имея в виду правление Марии Тюдор, когда было сожжено более трехсот протестантов. По крайней мере на время, Мария предпочитала отложить решение этой проблемы. Двор обустроил все для наслаждения жизнью, и Мария сосредоточилась на том, что умела делать лучше всего.
На Лит Сэндс половина придворных-мужчин переоделась женщинами, а другие надели маски, чтобы «играть в кольцо». По правилам игры всадники старались пронзить копьем круг из ткани, привязанный к шесту. Вскоре после этого Мария отдала полностью противоположное распоряжение, приказав придворным облачиться в траур по случаю первой годовщины смерти Франциска II. Никто из шотландских дворян не последовал приказу. Во время поминальной мессы Мария приблизилась к алтарю с пожертвованием — большой восковой свечой, обтянутой черным бархатом. Она с энтузиазмом участвовала в более театрализованных церковных церемониях: на праздник Сретения несла больше свечей, чем все ее придворные, вместе взятые. В Чистый четверг на Страстной неделе 1567 года Мария явилась, должным образом одетая в простой белый фартук, чтобы омыть ноги двадцати четырем девицам — по числу прожитых ею лет. Чтобы совершить это простое покаянное действие, Марии потребовалась помощь сорока шести придворных.
Шотландская знать проявляла большой интерес к перераспределению конфискованного имущества католического духовенства, большая часть которого теперь была в руках мирян. Теперь это имущество невозможно было передать в другие руки, не нанеся кому-нибудь ущерба. В декабре был изобретен метод, бывший, по крайней мере, менее болезненным, чем все остальные. Пока еще не существовало системы выплат пасторам реформистской церкви, или выделения доходов королевы, так что теперь ввели систему «третей». Одна треть конфискованных доходов выплачивалась Марии, а она, в свою очередь, использовала половину этой суммы для выплат реформистскому духовенству. Прямой доход королевы от таможни составлял 2155 шотландских фунтов, трети варьировались в диапазоне от 2033 до 12 700 фунтов, а ее доход от французских владений — когда его выплачивали — составлял 30 тысяч шотландских фунтов. Нокс был в ярости от того, что Марии вообще выплачивались какие-либо деньги из казны, а Летингтон от имени своей госпожи жаловался: «К концу года королеве не на что будет купить пару туфель». Однако впервые в истории у шотландцев была королева, не нуждавшаяся в прямом налогообложении, чтобы содержать свой двор. Мария не строила дворцов и не была вовлечена в войны — она бы не смогла позволить их себе без введения огромных налогов, — но расходы на двор могли оставаться почти такими же высокими, как у Валуа, и ничего не стоить народу Шотландии.
Двор Марии отнюдь не был скромным учреждением, ютившимся в развалившемся на части дворце, напротив, он был блистателен. Там устраивались фейерверки, конные состязания, банкеты и балы, а Нокс презрительно отзывался о «танцах, ведущих к одной цели», то есть «сексуально провоцирующих», «более подобающих борделю, а не честным женщинам». Рэндолф сообщал, что никогда не был счастливее, а веселые дамы были прекрасны и исполнены желания. Нокс также возражал против того, что балы затягивались за полночь, но поскольку он никогда их не посещал и, вероятно, никогда не видел всего изящества минуэта или паваны, его навязчивая критика, по всей видимости, совершенно необоснованна.
Шотландская погода порой ограничивала, но все же не расстраивала совсем выезды на соколиную и псовую охоту, но во дворце Мария организовывала многочисленные развлечения, играя в бильярд и в карты с четырьмя Мариями. Она также продолжала изучать латинские тексты с ученым и поэтом Джорджем Бьюкененом, хотя мы и не знаем, каковы были ее успехи. Холируд был наполнен музыкой, Мария играла на лютне и на клавесине, хотя сэр Джеймс Мелвилл из Холхилла признавал, что она не была такой хорошей музыкантшей, как Елизавета. Мария содержала при дворе оркестр, а ее придворные играли на лютнях и скрипках, а также пели в хоре. Однако в этом хоре не хватало баса, и эту нишу заполнил молодой слуга савойского посла. Его звали Давид Риццио.
Вся мебель Марии наконец прибыла из Англии — в описи значилось 186 предметов, и Холируд превратился в великолепное отражение дворцов Валуа. Расположенный посреди большого парка, он был идеальным местом для придворных, столь любивших развлечения на свежем воздухе. Стены дворца были украшены более чем сотней гобеленов и тридцатью шестью турецкими коврами. Примечательно, что на любимом гобелене Марии была изображена победа французов над испанцами в сражении при Равенне в 1512 году; этот гобелен следовал за ней, куда бы она ни отправилась. Ее троны украшали десять полотнищ золотой парчи; было даже алое атласное полотнище, использовавшееся, когда королева обедала на свежем воздухе.
Для путешествий предназначались носилки, покрытые бархатом и расшитые золотом и шелком; их несли мулы. Новинкой была карета королевы, хотя ее почти не использовали. Во время пребывания Марии во Франции во всем королевстве было всего три кареты; принадлежали они, вероятнее всего, Генриху II, Диане и Екатерине. Однако в 1563 году была подана петиция о запрете на кареты в Париже, поскольку их было так много, что они блокировали узкие средневековые улицы. Чаще всего придворные предпочитали путешествовать верхом.
Все это хозяйство находилось под присмотром французского камергера Марии Сервэ де Конде. Королеву обслуживали придворные дамы, три дамы королевской опочивальни во главе с Маргарет Карвуд, грумы, дворецкие, повара, хранители гардероба, меховщики и ювелиры. Обычно рядом с Марией находился ее шут Ла Жардиньер, чьи пикантные замечания были единственной формой правды, которую Мария была готова услышать. Любимой шутихой Марии, привезенной из Франции, была Николь ла Фуль. О бедняжке, к несчастью, совершенно позабыли, когда случилась беда: два года спустя после того, как Мария бежала в Англию, бедная дама все еще ютилась в коридорах Холируда. К счастью, граф Леннокс заметил бедственное положение Николь, выделил ей пенсию и помог вернуться во Францию.
Ближе всего Марии были ее четыре тезки. Мэри Сетон по-прежнему причесывала королеву, иногда дважды в день. В 1568 году сэр Фрэнсис Ноллис сказал Сесилу, что Мэри Сетон — «лучший парикмахер, какого только можно найти в стране». Поскольку прическу королевы часто украшали драгоценностями, Мэри Сетон порой помогала Мэри Ливингстон, хранившая драгоценности Марии. Опись драгоценностей состоит из 180 позиций и включает трогательную запись: золотой крест с бриллиантами и рубинами, который Мария де Гиз в свое время заложила, чтобы заплатить солдатам во время войны с лордами конгрегации. Мария выкупила крест матери за тысячу шотландских фунтов. Она также владела одной из лучших коллекций шотландского жемчуга. За сто лет до нее Энеа Сильвио Пикколомини, позднее папа Пий II, утверждал, что шотландский жемчуг — лучший в Европе. Драгоценности Марии оценивались в 490 тысяч 914 шотландских крон, или в 171 тысячу 810 английских фунтов.
Ювелиры и портные всегда были под рукой, поскольку платья часто шили и перешивали, драгоценности переделывали, а жемчуг заново нанизывали в ожерелья. При дворе Елизаветы это порой приходилось делать ночью, чтобы королева появлялась в новых облачениях каждый день. Что касается Марии, опись ее гардероба насчитывала 131 предмет, и даже ее маленькие собачки имели ошейники из синего бархата.
В Холируде были зал для танцев, «блиставший геральдическими изображениями», столовая, стены которой были затянуты черным бархатом, а стол покрыт скатертью, расшитой золотыми лилиями. Золотая и серебряная посуда и бокалы венецианского стекла поблескивали в свете свечей в позолоченных канделябрах.
Это был пышный дворец, способный выдержать сравнение с любым дворцом Европы.
Одним из главных его сокровищ была личная библиотека Марии, заменившая дворцовую библиотеку, которую сжег во время «Грубого ухаживания» граф Хартфорд. Библиотека насчитывала 240 томов «на греческом, латинском и современных языках», хотя на самом деле греческих текстов было немного, а преобладали книги на латыни и французском языке. Это были латинские исторические сочинения и библейские комментарии, а в числе работ на «современных языках» были труды на испанском и итальянском. Основой собрания «современных» книг были франкоязычные труды Маро, чьи песни Мария слушала, и, конечно, поэзия дю Белле и Ронсара. Гордостью библиотеки была «Первая книга стихотворений» Ронсара, который, без всякого сомнения, был любимым автором королевы. Однажды она подарила ему серебряную посуду стоимостью 200 марок с выгравированной надписью: A Ronsard l'Apollon des Français[52]. Среди сочинений были два издания «Амадиса Галльского», «Декамерон» Боккаччо, «Гептамерон» Маргариты Наваррской, «Неистовый Роланд» Ариосто и «Пантагрюэль» Рабле, но, удивительно, не «Гаргантюа». Книг на английском языке было совсем немного — ни Чосера, ни Томаса Мора, только «Правила игры в шахматы», катехизис и экземпляр актов парламента, изданных при Марии Тюдор. Нам сейчас может показаться странным, что у Марии не было ни одного экземпляра Библии и она, как благочестивая католичка, полагалась на молитвенники, часословы и жития святых.
Библиотека создала Марии репутацию образованной дамы, любящей ученость, что вполне может оказаться необоснованным. В конце концов, в наши дни Дебора, герцогиня Девонширская, владеет одной из лучших частных библиотек, но нет никаких доказательств, что она когда-либо ею пользовалась. Считают, что однажды она произнесла: «Я некогда прочла книгу, она мне не понравилась, и с тех пор я не прочла ни одной»[53].
Время, проведенное Марией с Джорджем Бьюкененом, похоже, было не более чем попыткой продолжить свое школьное образование. Бьюкенен тем не менее был важен для Марии, так как он писал пьесы для многих придворных масок[54]. Они представляли собой популярные фантазии на античные сюжеты. Придворные принимали участие в представлениях, призванных поражать сценическими эффектами, а также обожествлять правительницу. Одна из масок, в которой участвовал весь двор, включая Марию, одетую в черное и белое — отзвук времен Дианы, — длилась три дня. В более поздних масках на сцене появлялись одетые в белый шелк пастушки и играли на серебряных свирелях или горцы и их жены в козлиных шкурах. Горский наряд, принадлежавший Марии, состоял из длинной черной накидки, расшитой золотой нитью.
Мария наслаждалась всем этим от души. Примером пышности придворных развлечений может служить свадьба лорда Джеймса и Агнес Кит в феврале 1562 года. Религиозная церемония была совершена в церкви Сент-Джайлс, причем проповедовал Нокс, а потом все приглашенные — уже без Нокса — прошли пешком по Хай-стрит до дворца, где их приветствовала Мария. Перед банкетом, за которым последовали фейерверки и маска, она даровала лорду Джеймсу титул графа Мара и возвела в рыцарское достоинство двенадцать его джентльменов. На следующий день гости отправились в бывшую городскую резиденцию покойного кардинала Битона в Блэкфрайарз Уинд, где были организованы еще одна маска и банкет. Мария выпила за здоровье Елизаветы из золотого кубка весом в двадцать одну унцию, который потом пожаловала Рэндолфу. В мае он сообщал, что двор Марии «тратит время лишь на праздники, банкеты, маски и игры с кольцом». Весной погода позволяла устраивать маски на открытом воздухе в полумиле от дворца, у Сент-Маргарет Лох, рядом с романтическими руинами капеллы Святого Антония.
Это был веселый двор, возглавлявшийся девятнадцатилетней девушкой, окруженной четырьмя лучшими подругами со сходными вкусами и полными жизненных сил. Маски давали им отличную возможность наряжаться. Придворные дамы порой переодевались эдинбургскими горожанками и, непрестанно хихикая, отправлялись в город без сопровождения. В данном случае важнейшей частью развлечения была возможность сбежать от наблюдавших за каждым их шагом алебардщиков, камергеров и слуг Когда Мария переодевалась в мужское платье, выставляя напоказ длинные ноги, по признанию Брантома, трудно было определить, прекрасная ли это женщина или же красивый мальчик. Эта смесь свободы и лести ударяла в голову королеве, ограниченной строгими правилами поведения. Даже для придворных среднего возраста созданная Марией атмосфера праздника и веселья казалась желанным глотком свежего воздуха. Тайный совет заседал 29 февраля, а потом не собирался до 19 мая; Мария — все это время находившаяся в Эдинбурге — не присутствовала ни на одном заседании. Ее существование казалось беззаботным.
Мария воспроизвела жизнь двора Валуа времен ее детства, свободного от политических проблем. Ее ближайшее окружение не занималось делами Шотландии, и если не считать третей, королева ничего стране не стоила, при этом устраивая в Холируде постоянный праздник. Если она готова была гарантировать невмешательство в шотландские дела своих придворных, особенно иностранцев, ее терпели бы как прекрасный символ.
В мае со всей неприглядностью проявилось одно из последствий того факта, что Мария была прекрасной и незамужней правительницей. Нокс, имевший крайне эффективную сеть информаторов, получил известие о том, что Арран и Босуэлл сговорились прибыть со своими людьми в Фолкленд, где находилась Мария, захватить ее и убить врагов Нокса — Мара и Летингтона. Нокс был фанатиком, но не дураком, и он постарался предотвратить опасность, послав за Арраном. Тот сказал ему, что, когда королеву захватят, ее принудят заключить с ним, Арраном, брак. Арран также сказал Ноксу, будто бы знает, что Мария тайно влюблена в него. Нокс понял, что его собеседник не в себе, и посоветовал ему выждать; вместо этого Арран бежал в дом своего отца, герцога Шательро, в Киннейл, неподалеку от Бонесса, и признался отцу во всем. Раз в жизни проявив надлежащий здравый смысл, Шательро запер своего безумного сына в его комнате, однако не выставил надлежащую охрану, поэтому Арран сумел отправить Мару при помощи Рэндолфа письмо неизвестного содержания. Затем он сбежал традиционным способом — связав простыни и спустившись по ним в сад. Рэндолф получил письмо, когда катался верхом в Холируд-парке вместе с Марией; он немедленно дал знать Мару, что Арран и Босуэлл замышляют измену. Оба были быстро арестованы, хотя Босуэлл, как всегда, сумел бежать в свой замок Хэрмитедж. Аррана, теперь окончательно потерявшего рассудок, заперли в Эдинбургском замке, и он верил, что там Мария разделяет с ним постель. Его заковали в цепи, но он приказал принести пилу, чтобы отпилить себе ноги. Поскольку он больше не представлял ни для кого угрозы, его в конце концов препоручили заботам семьи, державшей его, вплоть до смерти в 1606 году, под довольно мягким домашним арестом. В данном случае Нокс поднял тревогу ради безопасности Марии.
Отдаленные раскаты грома донеслись и из Франции, где свобода отправления протестантского культа получила серьезный удар. В октябре 1561 года была произведена попытка примирить католиков и протестантов на коллоквиуме в Пуасси, но из этого не вышло практически ничего, не считая шаткого перемирия. Позднее, 1 марта 1562 года, в Васси, деревне гугенотов в провинции Шампань, герцог де Гиз застал жителей деревни во время протестантской службы, отправление которой противоречило достигнутому соглашению. По свидетельству одного источника — существует много версий произошедшего — он послал вооруженных слуг остановить то, что считал богохульством, столкновение переросло в вооруженный конфликт, закончившийся смертью тридцати гугенотов. Для гугенота Луи де Конде этой искры оказалось достаточно, чтобы разжечь первую из семи французских Религиозных войн. Шотландские добровольцы, желавшие сражаться за гугенотов, забросали Рэндолфа просьбами об охранных грамотах для проезда по территории Англии. Более тысячи шотландцев покинули королевство Марии, чтобы поднять оружие против ее дяди. Екатерина Медичи была вынуждена поддерживать гугенота Конде, чтобы не дать Гизам стать слишком могущественными; тем самым она поставила политику и семейные интересы выше интересов католической церкви. Это решение привело к опасным последствиям, когда Конде представил ее поддержку как призыв ко всем гугенотам взяться за оружие, и Екатерине пришлось быстро отказаться от своих слов.
Сама Мария оказалась в контакте с католической Европой в июле, когда в Эдинбург прибыл обещанный папский нунций — Никола де Гуда. Он путешествовал тайно, но сведения о его приезде просочились, и на улицах зазвучали призывы к истинным последователям реформистской церкви принести «благородную жертву Господу и омыть руки в его крови». Передвигаясь от одного безопасного дома до другого, де Гуда вошел в столицу пешком в компании шотландского священника Эдмунда Хея, и ему была дана аудиенция у Марии. По легенде, четыре Марии охраняли дверь, а сама встреча состоялась за час до того, как Нокс должен был начать проповедь в церкви Сент-Джайлс. Де Гуда говорил на латыни, который Мария, по собственному утверждению, понимала, но на самом деле ей приходилось почти полностью полагаться на перевод Хея. Де Гуда передал Марии призыв папы Пия IV, просившего ее все же принять письма, снова приглашавшие шотландских епископов приехать на Тридентский собор. По словам де Гуда, на протяжении всей встречи Мария нервничала, но уверила его, что скорее умрет, чем отречется от своей веры. Она также отказала нунцию в охранной грамоте и посоветовала ему «схорониться в тайном укрытии».
Позднее она приняла письма, но Джон Синклер отказался встретиться с де Гуда, прокомментировавшего: Нос de illо! («Что с него взять!») После встречи с епископом Данкелдским, ради которой ему пришлось переодеться клерком банкира, де Гуда совсем отчаялся: «Et haec quidem de Episcopis!» («И это епископы!») О Марии нунций пренебрежительно заметил: «Она выросла в королевской роскоши, ей нет и двадцати… Хотя ей дорога вера, однако, как я уже сказал, она не может воплотить священные желания своего сердца, потому что одинока и почти совсем лишена человеческой помощи». Не нужно объяснять, что под «человеческой помощью» он подразумевал наставления в католической вере.
Желание Марии лично встретиться с Елизаветой теперь стало настойчивым. Она написала Елизавете 5 января 1562 года, предлагая заключить новый договор в пользу английской королевы «и ее законных наследников»: «Мы представим миру такую дружбу, какой еще никогда не видели». В тот же день ее письмо получило поддержку Летингтона, просившего Сесила «способствовать продвижению» плана, а 29 января он сообщал, что Мария «гораздо больше склоняется к нему, чем смеют предположить ее советники». В Шотландии протестанты радовались предстоящей встрече, католики беспокоились по ее поводу, а в Англии Тайный совет испытывал серьезные опасения. Летингтон отправился в Лондон, чтобы лично просить Елизавету о встрече, но она возражала на том основании, что такая дружба показалась бы союзом с племянницей лидеров антигугенотской партии. Позднее, 29 мая, Мария дала аудиенцию Рэндолфу, попытавшемуся еще раз отложить встречу королев, предложив организовать ее через год, потому что во время французского кризиса Елизавета не могла отъезжать далеко от Лондона. Мария, «по щекам которой текли слезы», поклялась, что скорее откажется от любви к дядям, чем потеряет «дружбу» своей сестры. В середине июня Елизавета написала Марии, в принципе согласившись на встречу. Мария была так счастлива, что послала Елизавете бриллиант в форме сердца и весьма мелодраматично показала Рэндолфу, что хранит письмо Елизаветы на груди. «Если бы я могла поместить его ближе к сердцу, я бы так и сделала».
Длинный меморандум Сесила указывал подходящее для встречи место между Йорком и рекой Трент в период между 20 августа и 20 сентября. Предварительным условием встречи была ратификация Марией Эдинбургского договора, а Елизавета не была обязана обсуждать неприятные для нее темы. Марии предстояло оплатить собственные расходы — Елизавета была осторожна с деньгами — и обменять шотландские деньги на английские в Берике, который она не могла проехать со свитой более чем 200 человек, хотя в целом могла привезти с собой 100 сопровождающих. Все их имена следовало сообщить Сесилу по крайней мере за десять дней до их отъезда из Шотландии. Марии разрешалось посещать мессу частным образом. Это был образец соглашения, в котором были расставлены все точки над «и». Елизавета послала Марии свой портрет, и последняя спрашивала Рэндолфа, похож ли он. Рэндолф ответил, что вскоре она сама сможет об этом судить. К 8 июля Сесил, скрипя зубами, подготовил охранную грамоту для Марии, которая готовила совет к путешествию на юг. Сесил даже приобрел слона, который должен был нести изображение, символизировавшее Мир, во время неизбежного торжественного представления. Шательро заявил, что у него больная рука и путешествовать он не может, а у Хантли, католическая подозрительность которого в отношении Елизаветы не знала границ, болела нога, так что ему тоже предстояло остаться дома. Рэндолф не поверил ни одному из этих оправданий, достойных школьников.
Спустя четыре дня, 12 июля, протестантская Англия вступила в войну с католической Францией, поскольку герцог де Гиз усилил свою армию, наняв еще швейцарцев, а во Францию со всех сторон — из Испании, Савойи и Папского государства — устремились католические войска. Елизавета писала Марии: «Наша добрая сестра прекрасно поймет, что нам и нашему совету в такое время не подобает уезжать отсюда». Все планы были отменены, причем обе стороны заявляли, что это лишь временная задержка. Однако все, кроме самой Марии, предвидели, что подобные задержки станут неотъемлемой чертой планов предстоящей встречи.
Причины, побуждавшие Марию к личной встрече, были политически наивными. Если бы она стала законно признанной наследницей Елизаветы, то в отсутствие у той детей — а Елизавете было тридцать — дети Марии унаследовали бы корону Англии. По иронии судьбы именно это и произойдет в будущем. Мария полагалась исключительно на личное обаяние, стремясь достичь понимания с Елизаветой, ведь Елизавета ничего, кроме мира и «дружбы» с северным соседом, не выигрывала от такого урегулирования. Очарование Марии было легендарным, его взрастила Диана де Пуатье, ему аплодировал французский двор. Но придворные по натуре льстецы, а на самом деле очарование подвело Марию в общении с погруженной в политику Екатериной Медичи. Шансы Марии достичь успеха у Елизаветы, опиравшейся на Сесила, одного из самых проницательных политиков Европы, — а разработанный им Эдинбургский договор она решительно отказалась подписать, — практически равнялись нулю.
Мария не могла понять, что поднять вопрос о наследовании означало затронуть две запретные темы: намерение Елизаветы вступить в брак и, что еще опаснее, неизбежность ее смерти, перед которой она испытывала необъяснимый ужас. В Елизавете глубоко укоренился страх из-за того, что она — плод союза, осужденного папой, и поэтому должна присоединиться к отцу в аду. Она не имела никакого желания любоваться на собственный саван раньше времени. Конечно, этот страх появлялся только в моменты глубокой депрессии, но обсуждение вопроса престолонаследия также могло вызвать его.
Что касается брака, то Елизавета часто говорила ближайшему окружению: «Сначала любовь, потом брак, а затем смерть». Именно таков был жестокий опыт ее матери. Понимая, что брак считался династическим императивом, она соглашалась принимать ухаживания поклонников, радуя тем самым всех, а потом сбивала всех с толку, отказывая им. Ее политика благосклонности и проволочек прекрасно работала, хотя порой приводила в ярость даже Сесила. Ситуация осложнялась тем, что речь могла идти только о династическом браке, скорее всего, без всякой любви. Молодая королева Елизавета была влюблена в своего конюшего лорда Роберта Дадли. В то время Дадли был женат на Эми Робсарт, которой позорно пренебрегал; весь двор перешептывался, обсуждая этот странный брак, 8 сентября 1560 года закончившийся трагедией. Эми, жившая одна в Оксфордшире, разрешила своим слугам пойти на местную ярмарку. По возвращении они обнаружили хозяйку мертвой у подножия лестницы: у нее была сломана шея. Узнав об этом, Мария, как утверждают, сказала: «Королева Англии собирается выйти замуж за своего грума, а он убил свою жену, чтобы добиться ее». Вернувшись из неизбежной ссылки, Дадли, которого королева прозвала «мои глаза», оставался рядом с ней до самой своей смерти, последовавшей 4 сентября 1588 года, — для Елизаветы явный пример любви, заканчивающейся смертью.
Елизавета вовсе не собиралась встречаться с женщиной, считавшейся более красивой, чем она сама, чьи права на престол при этом не были запятнаны разводами, да еще и вести политически невыгодные переговоры, касавшиеся брака и смерти. Чтобы осознать это, Марии не хватало искусности политика, однако в августе она поняла, что в 1563 году встреча не состоится. Сесил вздохнул с облегчением и отослал обратно своего слона.
В ситуации, когда планы Марии наталкивались на препятствия, ее обычной реакцией было расплакаться, а затем слечь, однако на этот раз она предпочла чем-нибудь отвлечься и 11 августа отправилась в поездку по северным провинциям королевства. Территории севернее Перта были для нее фактически чужой страной. Гэльскими землями к северу от Дамбартона и до Внешних Гебрид на северо-западе страны правил граф Аргайл, а на северо-востоке землями от Абердина до Инвернесса управляли Гордоны — графы Хантли. Оба лорда назначали свой суд шерифа, и каждый рассматривал свои территории как личные фьефы. Сами же горцы проявляли больше лояльности своим вождям, чем монарху в Эдинбурге, ведь его они никогда не видели. Обитатели Нижней Шотландии считали горцев недочеловеками; акт шотландского парламента от 1600 года определял их как «варварский, расположенный ко злу народ».
Показать этим людям всю роскошь Гизов было прекрасным предлогом для поездки, а Мария знала: королевские выезды — это та сторона правления, в которой она поистине блистала. Тем не менее лорд Джеймс и Летингтон полагали, что для поездки была еще одна, более важная причина. Мария собиралась посетить Абердин, центр владений Хантли. После встреч во Франции и Сент-Эндрюсе королева не доверяла Хантли и считала его опасным человеком, чья преданность католической вере способна натворить так же много бед, как и протестантский фанатизм Нокса. Но если проповеди Нокса могли привести лишь к общественным беспорядкам, то Хантли командовал большой личной армией. Он провел бблыиую часть жизни в тюрьме, так как англичане захватили его в плен при Пинки, а потом его арестовывали и освобождали по приказу Марии де Гиз. Хантли было пятьдесят лет, он любил поесть и выпить, отличался неимоверной толщиной и имел жену, о которой Джордж Бьюкенен отозвался так: «Она была женщиной с мужскими страстями и устремлениями». Марию легко убедили в том, что Хантли следует призвать к порядку, если только окажется возможным найти законный предлог.
Очень кстати третий сын Хантли — у него их было девять — сэр Джон Гордон только что бежал из тюрьмы в земли Хантли на севере. Сэр Джон был красивым молодым человеком с горячей головой, а его отец неизменно прощал ему все сумасбродные выходки. Летингтон и лорд Джеймс цинично поощряли его считать себя подходящим женихом для Марии, уверяя его в том, что она согласится на брак. Летингтон и лорд Джеймс надеялись, что экстравагантные выходки сэра Джона приведут к его неизбежному аресту и искоренению католиков Гордонов. Сэр Джон угодил в ловушку: его арестовали за уличную драку, явившуюся следствием запутанной вражды между Гордонами и Огилви. В ходе стычки был ранен лорд Огилви.
Огилви из Финдлейтера лишил наследства собственного сына Джеймса в пользу сэра Джона Гордона, так как его жена сказала ему, что Джеймс пытался соблазнить ее. Распустившая слух жена затем открыто стала любовницей сэра Джона, но не передала ему земли, которые он рассчитывал получить, поэтому он сначала подверг ее домашнему аресту, а затем бросил. Теперь же он попался на удочку, поверив, что в него влюблена Мария — а они встречались только во время придворных приемов — и что ее благосклонность защитит его. Когда он столкнулся на улице с лишенным наследства Джеймсом Огилви, началась драка. Из тюрьмы сэр Джон сбежал, что дало Марии прекрасный предлог соединить в своей поездке развлечения с карательной экспедицией. В сопровождении недовольного Джеймса Огилви она отправилась на север по следам правонарушителя.
Мария направлялась в Абердин с большой свитой и по пути дважды устраивала заседания Тайного совета — 14 и 15 августа в Перте. Одним из не слишком довольных членов ее свиты был Рэндолф: «Путешествие тяжелое, мучительное и очень долгое, погода отвратительная, очень холодно, а все продукты очень дороги». Хантли остался в своем доме в трех милях от города и отказался выехать навстречу королеве Марии, отправив вместо себя графиню с эскортом из слуг. Мария подобным же образом отказалась посетить графа. Графиня молила ее оказать милость ее сыну, но Мария отказала и ей. Тогда Джон собрал тысячу всадников, чтобы напасть на королевский конвой по дороге на Инвернесс. Рэндолф был уверен, что сэр Джон поднял превратившее его в изменника восстание по прямому совету отца.
Еще одним камнем преткновения было то обстоятельство, что с 1549 года Хантли без королевской на то санкции именовал себя графом Мореем. Когда Мария даровала лорду Джеймсу титул графа Мара, она забыла, что то был наследственный титул Эрскинов. Поэтому ей пришлось передать титул лорду Эрскину, а лорд Джеймс, к ярости Хантли, стал графом Мореем.
11 сентября Мария добралась до Инвернесса и, поскольку то был королевский замок, потребовала его сдачи. Комендант замка Александр Гордон отказался это сделать, но местные жители поднялись на защиту Марии. В результате замок, гарнизон которого насчитывал только двенадцать или четырнадцать человек, был взят. Рэндолф сообщал: «Капитана повесили, а его отрубленную голову поместили на башне замка; еще нескольких приговорили к пожизненному тюремному заключению, а остальные получили помилование».
Мария провела в Инвернессе пять дней, принимая лояльных горцев, которых считала довольно странными, но милыми созданиями, говорившими на гэльском и носившими килты и плащи. Они были столь же забавны, сколь и горцы, выходившие на сцену во время театральных представлений в Шамборе, и Мария пришла от них в восторг. 18 сентября Рэндолф сообщал Сесилу:
«Уверяю Вашу честь, что никогда не видел ее счастливее, чем в ходе этих приключений. Я никогда не думал, что найду в ней столько силы характера! Когда лорды и прочие в Инвернессе по утрам возвращаются с постов, она ни о чем не жалеет больше, чем о том, что она — не мужчина, и не знает, что значит проводить ночь в полях или же идти по крепостной стене в кольчуге и шлеме, со щитом и мечом в руке».
Юная задорная Мария наслаждалась всем происходящим. Окруженная многочисленной личной охраной, она делала вид, что ведет вооруженных людей на войну; она была королевой-воительницей; она была героиней романов, и она была далека от хитроумных маневров политиков. Это было самое приятное актерство.
По возвращении в Абердин она и в самом деле едва не угодила в стычку: сэр Джон организовал засаду, когда она переправлялась через реку Спей, но армия Марии теперь увеличилась за счет верных ей горцев, а сторонники сэра Джона попрятались в лесах. Мария послала трубачей призвать две крепости Гордонов к сдаче, но оба гарнизона ответили отказом, поэтому королева обрадовалась теплому приему в Абердине, где ей подарили посеребренный кубок с пятьюстами кронами. К сожалению, город не был готов к появлению столь многочисленной королевской свиты, поэтому растущее удовольствие Рэндолфа от кампании было подпорчено тем, что ему пришлось делить постель с Летингтоном.
События теперь неизбежно вели к решающему столкновению с Хантли, которому 25 сентября было приказано вернуть пушку, которой он владел от имени королевы. Капитан Хэй вернулся из замка Хантли, расположенного в Стратбоги, с поразительными известиями: Хантли утверждал, что возмущен поведением сына, и «с обильными слезами и рыданиями» заверял Хэя, что пушка будет возвращена в течение сорока восьми часов; графиня же отвела Хэя в свою часовню, где «все украшения и облачения священника для мессы лежали на алтаре рядом с крестом и свечами», и поведала ему, что Хантли преследуют дурные советники Марии за его преданность Риму. Когда об этом уведомили Марию и совет, она заявила, что не верит ни одному слову и что все они просто «хорошо провели время».
Обе стороны неоднократно устраивали стычки, и 17 октября Хантли был поставлен вне закона, его имущество было объявлено конфискованным, а сам он получил королевский приказ отдаться «на милость королевы». Когда люди Марии подошли к Стратбоги, Хантли — без сапог и меча — перелез через стену, окружавшую сад позади дома, оставив в доме графиню и нескольких слуг. Теперь Хантли перешел к прямым действиям и выступил к Абердину, имея под своим командованием 700 воинов. 28 октября против него более чем с двумя тысячами воинов, включая аркебузиров, вышли лорд Джеймс, графы Атолл и Мортон. То было сражение при Корричи, закончившееся через несколько минут. Два сына Хантли — провинившийся сэр Джон и его младший брат Кеннет — были взяты в плен, а самого Хантли захватили, когда он пытался бежать. Его посадили на лошадь, «и внезапно, без всякого удара или толчка… он упал с седла мертвым». «Хроника ежедневных событий» утверждала, что «он весь распух», однако наиболее вероятной причиной смерти являлся сердечный приступ. Тело Хантли было доставлено в Толбут в Абердине, там его набальзамировали и отправили в Эдинбург: в случае измены государю тело должно было предстать перед судом.
Сумасбродный сэр Джон был осужден в Абердине и быстро казнен, молодой Кеннет получил прощение благодаря своему возрасту, так же как и следующий сын Хантли — Джордж, который был помещен под домашний арест в Данбаре. По словам Бьюкенена, сэр Джон был «красивым мужчиной в расцвете юности, достойный того, чтобы разделить королевскую постель, а не того, чтобы его ввели в обман, предложив ее». Его казнь была страшной и грязной, поскольку палач не справился с делом и потребовалось несколько ударов, чтобы отделить голову от тела. Все это время сэр Джон провозглашал свою любовь к Марии. Поскольку его казнили за измену короне, Мария была обязана присутствовать на казни, но упала в обморок и ее унесли в ее покои. Позднее Марии пришлось присутствовать на не менее страшном суде над уже разлагавшимся телом Хантли, состоявшемся в Эдинбурге 18 мая 1563 года, когда напротив ее трона был поставлен открытый фоб. Мертвого Хантли признали виновным, титул графа Хантли, как и прочие его титулы, официально перешел к лорду Джеймсу как графу Морею. Как ни странно, но результатом поездки католической королевы стало падение самой могущественной католической семьи в Шотландии.
По возвращении в Эдинбург Марию ждали добрые известия из Франции.
Глава IX
«ПЛЯСКИ СТАНОВЯТСЯ ЖАРЧЕ»
Семья Гизов усиливала свои позиции в ходе конфликта, ставшего известным как французские Религиозные войны. 26 октября 1563 года после долгой и тяжелой осады армия Гизов оккупировала Руан. Отряды Елизаветы, поддерживавшие гугенотов, были оттеснены в Гавр. В Холируде Мария отпраздновала победу своей семьи серией балов, ставших прелюдией к великолепному рождественскому празднеству. Нокс, возмущенный тем, что смерть протестантов превратили в торжество, отметил: «Пляски здесь становятся жарче».
Марии следовало бы понять, что в протестантской стране празднование победы ее родственников-католиков над гугенотами станет крайне провокационным. И Нокс немедленно начал атаку на нее страстной проповедью в церкви Сент-Джайлс. В середине декабря он проповедовал на текст «Внемлите, цари, и постигайте, вы, кто судит на земле», сосредоточившись на том, что Мария «танцевала ночи напролет». Эту проповедь слышали некоторые придворные и тотчас же доложили об этом королеве. Она могла бы проигнорировать этот всплеск негодования, но решила прихлопнуть муху, и за Ноксом было послано.
Беседа была скорее формальной, на ней присутствовали Летингтон, Морей и Мортон. Мария начала с длинной, заранее подготовленной речи, обвиняя Нокса в попытке подорвать ее престиж в глазах людей. Нокс просто — и конечно же весьма многословно — ответил, что королеву неверно информировали, ведь он осуждает танцы, только когда удовольствие от них у танцоров превосходит долг — то есть христианскую веру. Он также осуждал танцы, которыми отмечали «бедствие людей Божьих» — в данном случае гугенотов. Мария отступила, признав, что он может расходиться во мнениях с ее дядями, но если у него были претензии к ней, «он должен был прийти к ней и она бы выслушала его». Нокс ответил, что убежден: ее дяди «враги Господа», а его она может слушать каждый день в церкви. Мария и придворные были изумлены явной грубостью Нокса, и королева легкомысленно ответила: «Вам не всегда предстоит заниматься своими делами», а затем вышла из зала. Когда один из придворных спросил Нокса, не боится ли он вести себя подобным образом, он пожал плечами и ответил: «Почему же меня должно пугать приятное женское лицо?»
Мария теперь осторожно вступила на поле шотландской, а также английской и французской политики. Мария осознала, что падение Хантли было на руку Морею, чья власть усилилась. Она стала постепенно отстранять его от участия в заседаниях совета, используя как главного советника Летингтона и назначив Мортона канцлером. Затем в конце декабря 1562 года она дала Летингтону поручение предложить Елизавете ее услуги посредника между Гизами и Конде («Чтобы помочь завершить дело полюбовно, заключив его на разумных и почетных для обеих сторон условиях… я готова стать посредницей»), а также проследить, чтобы ее претензии на английский престол были рассмотрены английским парламентом. Почему Мария, католичка из семейства Гизов, вообще решила, что ее кандидатура окажется приемлемой для Конде или Екатерины Медичи, понять невозможно. Что же до второго поручения, то и она, и Летингтон должны были бы знать, что Сесил пытался провести через парламент билль о лишении ее прав престолонаследия. Позднее, в январе 1563 года, она написала три письма. Первое, от 29 января, было адресовано коннетаблю Монморанси, которого в декабре в сражении при Дрё захватил в плен Конде. В письме она выражала сочувствие пленнику. Второе письмо было адресовано дяде, кардиналу Лотарингскому, собиравшемуся нанести визит папе Пию IV. Мария просила дядю уверить его святейшество в том, что она скорее умрет, чем сменит веру и окажет покровительство ереси, и что она полна решимости вернуть в Шотландию католичество и подчиниться всем решениям Тридентского собора. Третье письмо было отослано самому Пию IV; в нем было повторено то же самое, о чем она уже написала дяде. Два последних письма были написаны на итальянском языке, которым Мария владела не совсем свободно, хотя учила его с детства. Письма, должно быть, отредактировал Давид Риццио, ставший теперь не только певцом Королевской капеллы, но и секретарем Марии; вскоре ему предстояло заменить ее личного секретаря Роле. Однако на всем протяжении своего пребывания в Шотландии Мария предприняла лишь символические попытки изменить положение католиков, хотя покровительствовала им и прилагала усилия, чтобы предотвращать казни. Ее письма Пию содержали пустые обещания. Совершенно очевиден конфликт политических и религиозных интересов, а саму идею, что Мария займется внешней или хотя бы внутренней политикой, стоит считать абсурдной.
Выдвижение Риццио и многочисленные французские придворные из личной свиты Марии указывали, что ее сердце не вполне лежало к Шотландии. Вся ее семья была во Франции, и она думала по-французски, а не на нижнешотландском. Она также благоволила придворным манерам французов с их цветистыми комплиментами и ничего не значащим флиртом, а ее шотландский совет находил такие привычки своей правительницы слишком экстравагантными. Мария же тосковала по искусственной элегантности Шенонсо.
Воспоминание о тех днях явилось ей в лице Пьера де Бокоселя, сеньора де Шателяра. В 1562 году он, будучи пажом Дамвилля, сопровождал ее во время возвращения из Франции, но уехал обратно во Францию. Он вновь присоединился к ее двору, когда путешествовал в Абердин. Шателяру было двадцать два года; он приходился внуком скончавшемуся в 1524 году легендарному рыцарю времен Людовика XII и Франциска I шевалье де Байару[55]. Шателяр утверждал, что из любви к Марии оставил во Франции жену. Доставив ей письмо от Дамвилля, он также преподнес ей подарок, описанный позднее хронистом как «книга собственного сочинения, написанная стихами, не знаю о чем». Шателяр был незначительным последователем поэтов Плеяды, и к Марии вернулись воспоминания о ее обожаемом Ронсаре.
Этого было достаточно, чтобы заставить Марию совершить множество опрометчивых поступков. Она взяла Шателяра под свое крыло, подарила ему гнедую лошадь, которая в свое время была ей преподнесена лордом Робертом Стюартом, и, к ужасу Нокса, постоянно избирала его партнером по танцам. Мария, возможно, хотела лишь научиться наимоднейшим французским танцам, однако придворные сплетники сообщали, что однажды она поцеловала Шателяра. Шотландской знати казалось, что любой иностранный попугай скорее обретет ее благосклонность, чем увенчаются успехом их усилия отвлечь Марию от вышивания во время не столь уж частых появлений на заседаниях Тайного совета.
13 февраля 1563 года Мария допоздна занималась делами с Мореем и Летингтоном, а ее слуги и стражники в это время, как обычно, проверяли все шкафы и закоулки в ее спальне.
К своему невероятному изумлению, под кроватью они обнаружили спрятавшегося Шателяра; его немедленно схватили и вытащили оттуда. По некоторым сообщениям, он был в сапогах со шпорами, что кажется невероятным, но все были единодушны в том, что в руке он сжимал шпагу, так что цель его осталась неясной. У Шателяра не было сообщников или ждавших наготове лошадей, так что если его костюм для верховой езды подразумевал намерение похитить королеву, то вряд ли он мог осуществить подобную затею. Если его целью было соблазнение, непонятно, почему он был полностью одет и вооружен, хотя, возможно, он собирался изнасиловать Марию, угрожая ей шпагой. Самым вероятным объяснением кажется то, что он, как ранее Арран, лишился рассудка и счел, что его с радостью примут в королевской постели.
После обсуждения того, как именно Шателяр проник в покои королевы — где же были алебардщики? — новость скрыли от Марии до утра. Она приказала Шателяру удалиться от двора. Но, несмотря на запрет, на следующую ночь — праздник святого Валентина — Шателяр опять проник в королевские покои и бросился к полураздетой Марии, собиравшейся ложиться спать. При королеве были только две дамы. Шателяр умолял простить его и приводил смешное оправдание: он-де «плохо соображал от недостатка сна», а спальня Марии была «ближайшим убежищем». Результатом стало не прощение, а истерика; вполне объяснимые крики немедленно привели в комнату графа Морея. Мария умоляла его:
— Если вы любите меня, убейте Шателяра и не позволяйте ему произнести ни слова!
Морей, хотя и со шпагой в руке, колебался.
— Мадам, я умоляю вашу милость позволить мне не проливать кровь этого человека. Раньше ваша милость обращалась с ним с фамильярностью, оскорбившей всю вашу знать, и если теперь его тайно убьют по вашему приказу, что подумает об этом свет? Я немедленно отдам его в руки правосудия, и пусть он получит все, что причитается ему по закону, — ответил он.
Мария продолжала:
— О, вы не позволите ему говорить?
— Мадам, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы спасти вашу честь.
Шателяра связали и увезли в Сент-Эндрюс; там его признали виновным в измене и восемь дней спустя, 22 февраля, отправили на плаху. Во время допросов он признался, что «пытался получить то, чего не мог добиться убеждением», а положив голову на плаху, прочитал «Гимн к смерти» Ронсара. Его последними словами были: «Прощай, самая прекрасная и самая жестокая принцесса в мире!»
Сплетники немедленно заработали с мстительным торжеством. Шателяра считали гугенотом, и венецианскому послу во Франции сказали, что ему платила сторонница новой религии мадам де Курсель, а его миссией было очернить имя Марии. Если это было правдой, почему же Мария хотела заставить его замолчать? Признание вероломного гугенота сработало бы на руку Гизам, а добыть его самыми жестокими средствами было бы нетрудно. Мария знала, что слишком часто позволяла Шателяру находиться в ее обществе, поэтому он неверно истолковал «фамильярность со слугой». Четырьмя месяцами раньше Мария была свидетельницей ужасной казни сэра Джона Гордона, признававшегося в любви к ней, а Арран все еще был прикован к полу в донжоне Эдинбургского замка, где тоже кричал о любви. Смерть еще одного доведенного до сумасшествия мужчины была выше сил Марии; она не хотела слышать его признаний, но поскольку он покушался на жизнь правительницы, она была обязана присутствовать при его казни. С тех пор и до свадьбы Марии в ее спальне спала Мэри Флеминг.
Страдания этих трех молодых людей говорят о красоте Марии гораздо больше, чем цветистые комплименты, произносимые французскими придворными и поэтами. Мария Стюарт явно была очень красива, и ее привлекательность и шарм выделяли ее из числа современниц. Диана де Пуатье, использовав свой шарм, добилась того, что ее восхваляли за божественную красоту. Это давало ей влияние и власть. Естественную красоту Марии Диана отточила, сделав ее почти роковой, но Мария так никогда и не сделала следующего шага, необходимого, чтобы использовать свою привлекательность как основу власти в мужском мире. По сути, она не имела интереса к политике и особых амбиций, ничего, кроме желания наслаждаться придворной жизнью. Ее обязанности как королевы состояли в том, чтобы обеспечить спокойствие и благополучие своих подданных, а также защитить королевство и расширить его пределы, однако у Марии не были сильного желания выполнять их. Тайный совет от ее имени занимался делами управления, ее наставляли Морей и Летингтон, и, если не учитывать нелепого случая, когда она ударила лицом в грязь во время дебатов с Ноксом, Марии удавалось избегать конфликтов. Летингтон, однако, назначил членом Тайного совета Рутвена, к большому неудовольствию Морея, обвинившего Рутвена в колдовстве; этому обвинению многие верили.
В апреле Мария вновь попыталась примириться с Ноксом. Она находилась в замке Лохливен, стоявшем в идиллическом месте: на острове посреди озера, в котором водился особый вид форели, отличающийся великолепным вкусом. Для Нокса приглашение королевы означало тридцатимильную поездку верхом, а затем путешествие на лодке, чтобы прибыть в замок к ужину. Нокса к столу не пригласили, вместо этого Мария просила его смягчить суровые меры против католиков, имея в виду несколько недавних арестов. Нокс, однако, напомнил ей, что искоренение католической веры подтверждено законом Шотландии, а без такого закона люди вполне могут вершить правосудие и сами. Королева тут же спросила: «Позволяете ли вы им взять закон в свои руки?» Нокс сказал, что истинная справедливость исходит от Бога и светская власть не имеет на нее монополии. Мария ответила ему тем, что удалилась ужинать. К тому времени уже стемнело, поэтому Нокс остался в замке на ночь. В половине шестого утра его позвали на новую встречу с Марией, которая охотилась с соколами на берегу озера. Участники встречи ехали верхом, и теперь Мария испытывала свое очарование на голодном и невыспавшемся клирике. Она сплетничала о своих дворянах и просила Нокса использовать его влияние, чтобы урегулировать семейные дрязги графа Аргайла[56]. Нокс обещал попытаться и поскакал в Эдинбург. Обе стороны так и остались при своем.
Испытываемое Марией чувство одиночества многократно усилилось, когда 15 марта ей сообщили о гибели герцога де Гиза. «Красота наших дам сильно пострадала. Сама королева сильно грустит, а ее дамы проливают потоки слез». В феврале дядя Марии пытался освободить осажденный армией гугенотов Орлеан, когда его застрелил наемный убийца-гугенот Жан де Польтро. Под пыткой Польтро обвинил Колиньи — впрочем, он обвинил бы любого человека, чье бы имя ему ни назвали, — и Гизы теперь жаждали мести. Смерть герцога и последовавшее за ней ослабление власти Гизов несколько облегчило положение Екатерины Медичи, которая теперь могла свободно вести переговоры, завершившиеся Амбуазским миром. Это соглашение допускало ограниченную свободу вероисповедания для гугенотов и давало обеим сторонам передышку.
Реакцией Марии на известие о смерти дяди — после того как высохли неизбежные слезы — было желание отвлечься: она много ездила по стране, а свободное время проводила на соколиной и псовой охоте. В конце концов, герцог де Гиз был ей приемным отцом, он направлял все ее политические шаги, а его смерть разорвала важную связь с Францией. Марии было всего двадцать лет, но она уже потеряла многих близких. Ее муж, бывший другом детства, был уже мертв, так же как и ее мать, чей прах уже упокоился во Франции. Дяди Марии вернулись во Францию и не могли больше давать ей советов, а теперь один из них погиб. 19 апреля она излила свое горе Рэндолфу, поведав ему, что лишена друзей, а ее бедам нет конца. Рэндолф, никогда не забывавший о своем долге посла, напомнил ей, что у нее нет лучшего друга, чем Елизавета.
Вскоре последовал новый удар — смерть другого дяди, однако эту новость на время скрыли от королевы. Рэндолф доставил письмо от Елизаветы. Мария в это время охотилась и, к большому неудовольствию четырех Марий и прочих охотников, прервала охоту, чтобы прочитать письмо на месте. Письмо — с соболезнованиями — заставило ее плакать, но на этот раз слезами радости от сочувственных слов кузины, и она «немедленно спрятала письмо на груди, близко к сердцу». Все это происходило на глазах охотников: Мария демонстрировала свою любовь к Елизавете, поскольку была уверена, что у Сесила есть, по крайней мере, один осведомитель среди ее слуг. Искренность ее любви не имела значения, важно было только публичное действо.
Мэри Битон — «сильнейшей и мудрейшей» из Марий — выпало на долю сообщить королеве о том, что в марте 1563 года умер ее дядя Франсуа, великий приор, и это известие вместе с сообщением о том, что кардинал Лотарингский захвачен в плен гугенотами, поверг весь двор в отчаяние. «Здесь у нас все очень тихо… Я отродясь не видел столько веселящихся душ за грустными лицами», — писал Рэндолф.
Невероятное предложение Марии о посредничестве между Англией и Францией теперь, когда начало действовать Амбуазское соглашение, оказалось ненужным, но у Летингтона нашлись другие важные дела в Англии и Франции. Растущее ощущение одиночества наконец заставило Марию решиться урегулировать один из самых главных вопросов: ее брак.
Королева Мария была богатой и бездетной вдовой, а ее брак создал бы могущественный политический союз. Мария несла на себе двойное проклятие политических и религиозных пристрастий, поэтому любой брачный союз неизбежно создал бы ей врагов среди других европейских государей. Обычный для нее метод игнорирования всех неприятностей или затруднений больше не срабатывал, к тому же она постоянно жила в атмосфере лихорадочных перешептываний, поскольку в центре внимания вновь оказались достоинства и недостатки всех кандидатов, рассматривавшихся сразу после смерти Франциска II. По словам Нокса, «у всех на устах брак нашей королевы». Намеки на желания Марии прозвучали в словах савойского посла Моретты, который сообщил испанскому послу при дворе Елизаветы, епископу Авильскому де Квадре, что шотландская королева метит «очень высоко» и возможным кандидатом является дон Карлос Испанский. Находившийся в Лондоне Летингтон тонко намекнул де Квадре, что рассматривается и возможность брака Марии с ее деверем Карлом IX Французским. Перспектива повторного брака Марии с членом французской королевской семьи заставила Филиппа II отправить послания, предлагавшие кандидатуру дона Карлоса. Кардинал Лотарингский по собственной инициативе начал переговоры с эрцгерцогом Карлом, сыном императора Фердинанда I. Эрцгерцог приносил с собой Тироль, но не более того, и его отвергли из-за его бедности. Основным претендентом оставался дон Карлос, который, хотя уже и проявлял признаки душевной болезни, не был еще вполне сумасшедшим. Этот союз значительно усилил бы позиции Филиппа II против Франции и Англии, а мысль об испанской армии вызывала кошмары у Елизаветы и Сесила. Шотландцы, совсем недавно пережившие присутствие «дружественных» армий на своей территории, также были настроены враждебно. Шотландия недавно приняла протестантскую Реформацию со всем фанатизмом новообращенного и не стремилась к союзу с католиками, хотя перспектива отъезда Марии за новой короной в Мадрид, оставлявшая Морею и Летингтону возможность самим управлять страной, сильно их привлекала. Слухи о предполагаемом браке Марии и дона Карлоса дошли до Нокса, и в мае 1563 года он высказал свое мнение в проповеди, обращенной к знати: «Я скажу, милорды, — запомните этот день и будьте мне свидетелями, — если знать Шотландии, исповедующая Господа Иисуса, согласится принять неверного (а все паписты суть неверные) в качестве своего суверена, то вы, насколько это в вашей власти, изгоните Иисуса Христа из королевства; вы навлечете возмездие Господне на страну, чуму на самих себя, а правителю мало будет радости». Нокс признавал, что проповедь отвратила от него даже сторонников, поэтому не был удивлен, когда его вызвали в Холируд на встречу с «пылавшей гневом» Марией.
Мария показала ярость оскорбленной де Гиз: «Никогда с государем так не обращались… Я допустила вас к своей особе и выслушала ваши увещевания, и все же не могу избавиться от вас. Клянусь Богом, я отомщу!» В этот момент пажа отправили за новыми носовыми платками, чтобы осушить слезы королевы, «а ее вытье, сменившее подобающий женщинам плач, не давало ей вымолвить ни слова». Нокс ответил, что его направляет Господь и что он не является себе хозяином, но Мария немедленно вернулась к главной теме: «Что вам за дело до моего брака?» — и, когда Нокс не ответил, задала новый вопрос, совершенно лишний: «Кто вы такой в моем королевстве?» Ответ Нокса на этот вопрос считается краеугольным камнем шотландской демократии: «Подданный, рожденный в его пределах, мадам. И хотя я не граф, не лорд и не барон, однако Господь сделал меня (каким бы подлым я ни был в собственных глазах) важным членом вашего королевства». Для Марии это было уж слишком, она впала в истерическую ярость и оказалась не в состоянии произнести ни слова. Джон Эрскин из Дина пытался успокоить ее, лорд Джон из Колдинхэма[57] безрезультатно предлагал свою поддержку. Ноксу было приказано удалиться, и позднее его отослали из дворца.
Вызвав Нокса для аудиенции, Мария дала ему возможность оскорбить себя и выслушала лекцию о демократии, не добившись решительно ничего. То была детская вспышка, похожая на ее попытку помериться силами с мадам де Паруа — хотя в том случае она и добилась незначительного успеха, — но одновременно и попытка утвердить собственную королевскую власть, и закончилась она полной потерей лица. Ни Диана де Пуатье, ни Екатерина Медичи не повели бы себя настолько по-детски.
24 июня 1563 года прибыли послы от протестанта Эрика XIV, но ему быстро отказали. Эрик был сыном Густава Вазы, объединившего Швецию и изгнавшего датских угнетателей. Став королем объединенной Швеции, Густав женился на Катарине фон Саксен-Лавенбург, основав тем самым могущественную скандинавскую династию, стремившуюся установить связи с Западной Европой. Послы также хотели укрепить торговые связи на Балтике, где шведской торговле угрожала Россия. Такие официальные связи означали бы укрепление благосостояния шотландских купцов, уже смотревших в сторону Северного моря в поисках выгодных скандинавских контактов. Однако Елизавета уже отвергла Эрика, и Мария также сочла его неподходящим мужланом из далекой и варварской страны. Она не имела ни малейшего интереса к торговле, и устремления купцов ее не заботили. Послы вернулись с пустыми руками. Поведение Эрика стало непредсказуемым — четыре года спустя он даже попытался убить министра своего правительства, — но в 1568 году он женился на шведской дворянке Карин Мансдоттир. На следующий год он был смещен с престола братом, герцогом Иоанном Финляндским, и шанс шотландских торговцев воспользоваться коммерческими возможностями Ганзейской лиги был навсегда утрачен.
Почти сразу после отъезда шведских послов Мария решила воспользоваться последними летними днями, прежде чем шотландская зима запрет придворных во дворце. Самая приятная форма развлечений на свежем воздухе состояла в королевских поездках по стране. Весь двор, включая колебавшегося Рэндолфа, отправился в западные и юго-западные графства, нарядившись так, как, по мнению придворных, выглядели горцы. Всё шло обычным порядком: Мария показывала себя восхищенному населению, посещала местных дворян и, конечно, с радостью охотилась и танцевала, свободная от государственных забот. Королева устанавливала контакты с незнакомой ей частью населения, которое по большей части никогда не видело монарха. Личная верность лэрдов королеве никогда не ставилась под вопрос несмотря на религиозные различия, однако эта верность была формальной и в любой момент могла быть отброшена. Летингтон оставался в Лондоне, где Елизавета при помощи своей прекрасной шпионской сети с большим интересом наблюдала за брачными переговорами. Ее собственные брачные планы были такими же расплывчатыми, как и раньше, и поэтому в отсутствие прямого наследника вопрос о передаче короны приобретал первостепенное значение. Если бы Елизавета умерла бездетной — а это было вполне вероятно, — то прямая линия Тюдоров оказалась бы прерванной. Однако почти сто лет тому назад сестра Генриха VIII Маргарет Тюдор вышла замуж за графа Энгуса и родила дочь — Маргарет Дуглас, впоследствии ставшую графиней Леннокс и матерью Генри, лорда Дарнли. Дарнли, следовательно, был Стюартом и наследником Тюдоров. Муж Маргарет Дуглас, Мэтью Стюарт, граф Леннокс, происходил, хотя и по женской линии, от Мэри, дочери Якова II Шотландского. В число потомков последнего входил также дом Хэмилтонов в лице герцога де Шателяра и теперь уже совершенно сумасшедшего Аррана. Однако королева Мария, представительница дома Стюартов и родственница Тюдоров, оставалась вероятной наследницей Елизаветы и рожденный ею сын унаследовал бы английский престол. Если бы Мария вышла замуж за дона Карлоса и родила от него сына, тогда Испания, Шотландия и Англия управлялись бы из Мадрида. Летингтон получил ясное и однозначное указание Елизаветы — подобный брак превратит Шотландию во врага Англии. Рэндолфу были отправлены инструкции передать Марии три условия: во-первых, между мужем и женой должна быть любовь; во-вторых, избранника Марии должны полюбить ее подданные; наконец, ее муж не должен был вмешиваться в дружбу Англии и Шотландии. Это было всего лишь мягкое напоминание. Летингтона также попросили «намекнуть со значением, что не стоит стремиться к столь могущественному союзу, как брак с доном Карлосом». Сесил и Елизавета теперь обращались с суверенным монархом как с непослушным ребенком.
1 сентября 1563 года Мария и ее свита прибыли в замок Крейгмиллар неподалеку от Эдинбурга. Она и не подозревала, что ее уже поджидали инструкции Елизаветы. Члены королевской свиты спешились во дворе и поднялись в главный зал, слуги Марии отправились готовить покои королевы, а она сама отправилась ужинать. После ужина Мария приняла Морея, Летингтона и Рэндолфа, предъявившего ультиматум своей королевы. Поначалу Мария как будто не поняла, о чем идет речь, и потребовала письменной декларации, четко обозначающей намерения Елизаветы. Теперь вопрос о браке превратился в затянувшуюся игру «кто первым моргнет». В ноябре Елизавета слегка увеличила давление и рекомендовала следующее: Мария должна выйти за «подходящего дворянина, уроженца нашего острова». Английская королева провозгласила, что «сыновья Франции, Испании или Австрии не могут быть сочтены подходящими». Наконец, она открыто пригрозила, «что право Марии на корону Англии зависит от ее брака». На тот случай, если Мария готова предпочесть эрцгерцога Карла, Елизавета давала ей знать, что сама не отвергнет его предложения. Елизавета без всяких угрызений совести давала обещания, которые не собиралась выполнять.
Большая часть этих махинаций совсем не интересовала Марию, которая охотилась и скакала по прекрасным долинам своей страны. Она не ожидала от брака ничего другого, кроме династического союза, подкрепленного рождением принца, а ее первый брак показал, что, если бы она произвела на свет дофина, ее роль на этом бы закончилась. Она не спешила выполнять ожидаемую всеми, как она прекрасно знала, миссию производительницы. Однако когда она вернулась в Эдинбург, то обнаружила, что Нокс в ее отсутствие не терял времени. Он сочинил молитву, которую надлежало читать всей семьей после благословения: «Избави нас, Господи, от оков идолопоклонничества. Спаси и сохрани нас оттирании иностранцев». Нет сомнений в том, что те члены свиты Марии, кто оставался в Холируде, нарушили соглашение с лордом Джеймсом и служили мессу не в королевской часовне, а открыто — в аббатстве. 15 августа толпа, возглавляемая Патриком Кранстоном и Эндрю Армстронгом, ворвалась туда и прервала церемонию. Получив такие известия, Мария высокомерно приказала арестовать их за «умышленное преступление, проникновение в чужой дом, насильственное проникновение во дворец и осквернение его». Нокс столь же высокомерно написал своим главным сторонникам, призывая их созвать в Эдинбурге конвокацию и воспротивиться практике служения мессы в часовне Марии. Суд над Кранстоном и Армстронгом был отложен, и о нем в конце концов забыли, но Мария сочла письмо Нокса изменой, и его опять вызвали в Холируд. 21 декабря 1563 года он встретился с Марией в последний раз.
В тот день Нокс прибыл с таким количеством сторонников, что они не поместились в приемном зале и заняли два лестничных пролета, а также внутренний двор дворца, в то время как члены Тайного совета расселись за столом, напротив которого с непокрытой головой стоял Нокс. Затем они поднялись и приветствовали Марию, вошедшую в зал с «немалой торжественностью». Ее сопровождали Летингтон и молодой лорд Максвелл[58], они сели по обе стороны от королевы и нашептывали ей советы. Ко всеобщему удивлению, она взглянула на Нокса и засмеялась, сказав: «Этот человек заставил меня плакать, а сам не пролил ни слезинки. Посмотрим, смогу ли я заставить его плакать». Затем Ноксу показали несколько писем, подтвердили, что они принадлежат ему, и приказали прочесть их вслух. Потом Мария спросила советников, считают ли они письма доказательством измены. К ее ужасу, Рутвен указал, что, поскольку, будучи пастором церкви Сент-Джайлс, Нокс регулярно созывал конвокации, письма не могут считаться изменническими. Мария резко прервала Рутвена и велела Ноксу отвечать на обвинение в том, что он вменил своей правительнице в вину жестокость. Нокс отрицал свою вину, однако заявил, что жестокость имела место, хотя и была совершена не ею, но «смердящим папистом», настроившим ее против чистых людей. Мария предупредила его, что он не на проповеднической кафедре. Нокс парировал, заявив, что находится в месте, где обязан говорить правду, тем самым поставив Марию в незавидное положение, поскольку она сама навлекла на свою голову последовавшую за этим тираду. Нокс продолжал, приводя длинные цитаты из Библии, подтверждавшие, что боговдохновенных проповедников преследовали. Летингтон качал головой и улыбался, восхищаясь виртуозной способностью Нокса дискутировать в лучших традициях средневековой схоластики. Затем он шепнул на ухо Марии, что она проиграла спор. Мария взорвалась, однако Летингтон сказал Ноксу: «Вы можете вернуться домой на эту ночь». Совет проголосовал, и подавляющим большинством Нокс был оправдан. Мария в ярости выбежала из зала.
Со стороны Марии было глупо пытаться судить Нокса, вероятно, вопреки совету Л етингтона. Последний, должно быть, порадовался, когда Мария воочию увидела, что случается, если игнорировать его наставления. У Марии не было причин провоцировать столкновение, и если бы она продолжала придерживаться своей политики невмешательства, то не получила бы в ответ ужесточения позиции реформистов.
1563 год выдался тяжелым, и Мария явно предпочла бы забыть его. Сразу после двадцать первого дня рождения она слегла с сильной болью в правом боку и оставалась в своих покоях во время празднований Рождества и Нового года. Королева утверждала, что «подхватила простуду во время долгой церковной службы», однако Рэндолф, которого неизменно поддерживал Нокс, полагал, что болезнь происходит от усталости, вызванной ночными танцами.
Что касалось вопроса о браке, Рэндолф сообщал о следующей личной беседе, состоявшейся 21 февраля: «Иногда она любит поговорить о браке. Обычно она предпочитает вдовство, порой говорит, что выйдет замуж за того, кого выберет, порой — что за ней никто не ухаживает». Рэндолф просил ее хотя бы оказать милость четырем Мариям, которые ради нее дали обет не выходить замуж. На самом деле Мэри Ливингстон была уже замужем, и еще две Марии выйдут замуж раньше своей госпожи.
Комментарии Марии весьма откровенны для королевы, до того избегавшей сопровождающей власть ответственности. Мария жила в то время, когда женщину определял статус жены. Конечно, были и три великих исключения — Екатерина Медичи, Диана де Пуатье и Елизавета I, но в целом незамужние женщины представляли интерес постольку, поскольку были потенциальными женами, а относительная важность жены зависела от влиятельности мужа. С другой стороны, считалось, что вдовы уже исполнили свой долг перед обществом и потому их можно предоставить самим себе. Тот факт, что вдовы часто были финансово независимыми и властно вмешивались в жизни младших родственников, выделяет их в особую категорию, находившуюся вне нормальных общественных структур. Мария полагала, что не обязана предпринимать дальнейшие усилия, чтобы утвердить собственную личность, но могла просто наслаждаться жизнью, танцуя, пируя и охотясь.
Кроме того, желание Марии «выйти замуж за того, кого она сама выберет», было совершенно нереализуемо в силу ее положения и религиозных пристрастий, но поскольку она с детства привыкла прислушиваться к советам других, то не склонна была проявлять свою волю, если не считать мелких и незначительных дел.
Жалоба Марии на то, что «за ней никто не ухаживает», представляла собой не более чем детское нытье. Ей уж сделали предложение как минимум три европейских правителя, и она могла бы принять любое из них. Однако Мария видела, как многие члены ее свиты вступают в брак по любви. За ее дамами ухаживали, их соблазняли и обожали, а сорванные украдкой поцелуи вели к любви и замужеству. Мария обязательно присутствовала на свадьбах и крестинах их детей и всегда наслаждалась этими простыми домашними праздниками. Она явно завидовала их свободе обычных людей; мало кто из монархов никогда не завидовал беззаботности своих подданных. Всегда легко завидовать бедным, сидя на обтянутом бархатом стуле во дворце.
Правда, Мария не выбирала долю королевы — мало кто из королев когда-либо этого хотел, — но она радовалась привилегиям своего положения. Многие королевы оказались на троне неожиданно — и пример тому обе королевы Елизаветы, управлявшие Англией и Великобританией, — и стали прекрасными монархами, однако они приняли необходимость приносить жертвы не жалуясь. Мария избегала королевских обязанностей, но продолжала наслаждаться своим положением и с удовольствием посещала свадьбы своих фрейлин. Она все еще ждала своего Амадиса[59], странствующего рыцаря, который увез бы ее на белом коне.
Одна свадьба, правда, совсем ее не порадовала. С 1560 года Нокс был вдовцом, и 1 марта 1564 года было оглашено объявление о его браке с Маргарет Стюарт, дочерью лорда Окилтри. Ей было семнадцать, а Ноксу — пятьдесят, поэтому возник скандал. Что важнее, юная невеста была дальней родственницей Марии «по крови и по имени». Королева «страшно бушевала».
Вопрос о ее собственном браке был отложен до тех пор, пока в марте того же года Летингтон не сказал Рэндолфу, что от императора последовало еще одно предложение; он был готов выделить своему сыну, эрцгерцогу, два миллиона франков сразу и пять миллионов после своей смерти, «чтобы тот жил с ней в Шотландии, приведя с собой настолько небольшое количество слуг, насколько это покажется уместным ее совету». Летингтон добавил, что император ожидал ответа до конца мая. Эту новость поведали Рэндолфу «под большим секретом»; посол подозревал, что это предложение — не более чем игра, призванная вынудить Елизавету принять решение.
Рэндолф получил достаточный стимул для того, чтобы «подробно продекларировать то, о чем ему написала Ее Величество». Возможно, Рэндолф получил свои инструкции заранее и ему было приказано огласить их, когда, по его мнению, наступит время. Он сделал это 30 сентября 1564 года, когда Мария была в Перте, городе, который она ненавидела, поскольку считалось, что именно там с проповеди Нокса в церкви Святого Иоанна началась шотландская Реформация. Здесь Мария распустила заседание Тайного совета, чтобы принять посла Елизаветы. Английская королева настоятельно рекомендовала Марии выйти замуж за лорда Роберта Дадли.
Мария была поражена новостями и сказала, что Рэндолф «захватил ее врасплох», поскольку она ожидала новостей о мире Елизаветы с Францией. Это была всего лишь проволочка, пока королева собиралась с мыслями. Поначалу она оскорбилась, что ее кузина рекомендует ей выйти замуж за простолюдина, которого Мария еще недавно именовала «грумом Елизаветы», а Рэндолф предположил, что подобный союз в конце концов сможет принести Марии английский престол. Мария отбросила это соображение: «Я имею в виду свои интересы и интересы своих друзей, которые, полагаю, вряд ли согласятся на то, чтобы я настолько унизилась!» Затем она заставила Рэндолфа повторить предложение нескольким советникам, которые еще находились во дворце. Потом она официально задала послу вопрос: что, по мнению Елизаветы, будет с ней, если у самой Елизаветы родятся дети, а она, Мария, сделает королем Шотландии простолюдина? Рэндолф смог только невнятно пробормотать, что он уверен: Елизавета предвидела этот вопрос и решит его правильно. Мария в обществе Аргайла, Морея и Летингтона отправилась ужинать «в довольно хорошем настроении», и Морей спросил Рэндолфа: почему бы ему не убедить саму Елизавету выйти замуж, а не беспокоить голодную Марию перед ужином? Морей втайне благоволил лорду Роберту, бывшему его личным другом; ему было бы очень выгодно считаться сторонником Дадли в его борьбе за шотландскую корону.
После ужина Летингтон сказал Рэндолфу, что трое государственных мужей обсудили вопрос между собой и теперь хотят обсудить его с подходящей персоной — предложили графа Бедфорда — на будущей конференции в Берике. «Со стороны нашей правительницы ничего не будет упущено в ее стремлении к дружбе».
Почему Елизавета сделала такое предложение, остается загадкой. Нет сомнений в том, что она любила Дадли, хотя это чувство так и не получило физического выражения, и, возможно, считала, что с его помощью сможет контролировать Марию. Хотя Дадли повиновался бы Елизавете как своей королеве, он был амбициозен и заносчив, так что в качестве марионеточного правителя Шотландии стал бы настоящим бедствием. Кроме того, предлагать Марии в мужья человека, бывшего не только недостаточно знатным, но также, по мнению многих, брошенным любовником, было в высшей степени оскорбительно. Впрочем, Дадли был холостым протестантом, а Елизавета теперь страстно желала разрешить брачную проблему. Одна из величайших в истории мастериц промедления, она всегда любила решать за других их дела.
К ужасу Сесила, Елизавета и вправду разрешила одну проблему. Граф Леннокс уже двадцать лет пребывал в изгнании в Англии, и Елизавета просила Марию разрешить ему вернуться. Ужас Сесила был вызван тем, что женой Леннокса была католичка, лишь недавно освобожденная из Тауэра, куда была посажена за разжигание недовольства. Кроме того, его сын, двадцатилетний Генри Дарнли, был главным претендентом не только на руку Марии, но и на корону Шотландии. Религиозные взгляды самого Дарнли трудноопределимы, ведь его отец служил Генриху VIII и протектору Сомерсету, а мать, Маргарет Дуглас, оставалась убежденной католичкой. Пожалуй, лучшее, что можно сказать о Генри Дарнли, так это то, что он плыл по течению. В апреле 1564 года Елизавета выдала Ленноксу паспорт для путешествия на север.
Мария теперь намекала, что ей в общем все равно, но скорее всего она не выйдет замуж за лорда Роберта. Вместо этого она благоволила к Дарнли и, чтобы продемонстрировать свою беззаботность, в июле отправилась в очередную поездку по стране, на этот раз в Аргайл и на говоривший по-гэльски северо-запад. Особенностью ее личности было резкое неприятие критики или указаний, поэтому она была склонна в ярости поступить прямо противоположным образом. Летингтон не сопровождал королевскую свиту, но остался в Эдинбурге: «Я занимаю такую должность, что не могу путешествовать да и не люблю поездок (поскольку они опасны), если только они не ведут к какой-либо хорошей цели».
Елизавета, осознавшая, что создала взрывоопасную ситуацию, впала в панику и теперь отказывалась позволить Ленноксу уехать. Летингтон написал ей 13 июля, уверяя, что слухи о враждебности к Ленноксу в Шотландии преувеличены: Леннокса ненавидели и раньше — после его бегства в Англию в 1544 году, и возвращение его «не представляет собой ничего особенного». Страхи Елизаветы возросли: теперь она опасалась, что, если Мария умрет раньше Дарнли, ей наследует его мать леди Леннокс, в тот момент являвшаяся для королевы настоящим жупелом.
Затем два удивительных предложения сделала Екатерина Медичи: во-первых, Елизавета должна выйти замуж за Карла IX, а во-вторых, Марии следовало стать женой его брата — герцога Анжуйского. Оба предложения были отклонены, однако французский посол Мишель де Кастельно де Мовиссьер был — вполне предсказуемо — очарован Марией, которую он нашел «женщиной в расцвете юности». Елизавета уже отчаялась сдвинуть дело с мертвой точки и писала Сесилу 23 сентября: «Я настолько запуталась, что не знаю, как отвечать шотландской королеве… Придумайте что-нибудь получше, чтобы я могла это включить в инструкции Рэндолфу». Теперь Мария, что для нее нетипично, взяла дело в свои руки и отправила к Елизавете собственного посла, призванного пролить масло на бурные воды. Послом был джентльмен королевской опочивальни сэр Джеймс Мелвилл из Холхилла.
Мелвиллу было двадцать восемь лет; он служил пажом в свите Марии, когда ей было всего шесть лет, потом перешел на службу к коннетаблю Франции Анну де Монморанси, затем — к Казимиру, сыну электора Пфальцского. Мелвилл вернулся в Шотландию 5 мая 1564 года и встречал Марию в Перте, как раз после того она узнала о предложении Елизаветы выйти замуж за лорда Роберта Дадли. Не стоит и упоминать, что Мелвилл был ею очарован: «Я считал, что лучше служить ей за скромное вознаграждение, нежели любому другому государю Европы за огромные деньги». Она послала его в Англию 28 сентября «с инструкциями из уст самой королевы». Записки Мелвилла представляют дословную запись бесед с Елизаветой, но историк Гордон Доналдсон предупреждает, что он, вероятно, сообщает «не то, что они на самом деле говорили, а то, что они потом предпочли считать сказанным».
В ходе первого разговора с Елизаветой, который шел по-французски, поскольку Мелвилл так долго пробыл за границей, что «не мог говорить на своем языке столь же свободно», королева сказала ему, что решила покончить со своим девственным состоянием, однако будет рада браку Марии с лордом Робертом, которого она собиралась сделать графом Лестером и бароном Денби. Мелвиллу было приказано остаться и стать свидетелем этой церемонии, состоявшейся в Вестминстерском аббатстве, причем Елизавета прервала церемонию, чтобы пощекотать шею Лестера. Мелвилл признал, что тот — достойный подданный королевы, но Елизавета указала на Дарнли, который как принц королевской крови нес королевский меч, и произнесла: «Однако вам больше нравится этот долговязый юнец». Мелвилл уверил ее, что ни одна уважающая себя женщина не полюбит такого человека, больше похожего на женщину — безбородый, с девичьим лицом, — чем на мужчину. Дарнли был утонченным и женственным даже в большей степени, чем того требовала мода. Его явная бисексуальность заслужила ему прозвище «петушок-курочка». Мелвилл не сказал Елизавете, что у него были тайные инструкции получить у леди Леннокс разрешение для Дарнли посетить Шотландию: официально — чтобы сопроводить своего отца на юг.
Елизавета вновь объявила о своем желании остаться девственницей, и Мелвилл, по его собственному утверждению, сказал ей: «Мадам, я знаю о вашем королевском аппетите. Вы считаете, что если выйдете замуж, то будете всего лишь королевой Англии, тогда как сейчас вы — и король, и королева».
Елизавета, продолжая льстить Мелвиллу, показала ему портрет Марии, находившийся в ее личной коллекции миниатюр. Но Мелвилл заметил, что одна из миниатюр завернута в бумагу, на которой рукой Елизаветы было написано: «Портрет моего господина», — то была миниатюра Лестера. Она показала Мелвиллу «большой, размером с теннисный мяч, рубин», и он заметил, что она могла бы отослать его королеве Марии как знак своей любви. После резкого тюдоровского вдоха Елизавета ответила, что если Мария последует ее пожеланиям, то получит и ее рубин, и ее мужчину, но пока что она пошлет ей бриллиант. На следующий день Елизавета поинтересовалась у Мелвилла, которая из них двоих прекраснее, и он ответил, что Елизавета — прекраснейшая королева Англии, а Мария — прекраснейшая королева Шотландии. Елизавета довольно резко потребовала выбрать между ними, и Мелвилл признал, что хотя Мария очень красива, у Елизаветы кожа белее (из-за более чем щедрого употребления ядовитых свинцовых белил). Каковы ее любимые развлечения? Мелвилл теперь отчаянно импровизировал: он сказал Елизавете правду — что Мария только что вернулась с охоты из Хайленда, и солгал — что она любит читать серьезные книги и исторические хроники; правдой было и то, что она также играет на лютне и клавесине. Елизавета тоже гордилась своими музыкальными способностями, поэтому спросила у Мелвилла, хорошо ли играет Мария, и тот дал рискованный ответ, что для королевы она играет совсем неплохо. В тот вечер Мелвилла пригласил на прогулку лорд Хансдон, и тогда — совершенно случайно, конечно! — ему удалось услышать, как Елизавета играет на клавесине. Елизавета позвала Мелвилла к себе и заговорила с ним по-немецки, но ее немецкий был несовершенен, поэтому она перешла на итальянский, на котором Мелвилл не говорил. Таким образом, этот вечерний лингвистический поединок закончился вничью.
Следующим пунктом программы Мелвилла была прогулка по реке в обществе самого графа Лестера, сказавшего ему, что брачное предложение исходило от Сесила, а он оказался бессилен: «Если бы я показал стремление к этому браку, то потерял бы расположение обеих королев». Он явно был несчастен оттого, что женщина, которую он любил, использовала его как пешку в брачной игре.
На следующий день Мелвилл вернулся в Шотландию, осыпанный подарками: среди них были подаренная ему Сесилом золотая цепь и предназначавшийся Марии бриллиант от Елизаветы. Леди Леннокс превзошла обоих, добавив к подаркам «прекрасный бриллиант» для Марии, изумруд для ее будущего мужа, бриллиант для Морея, часы с бриллиантами для Летингтона, а также кольцо с рубином для его брата сэра Роберта. Мелвилл пришел к выводу, что графиня Леннокс — мудрая и осторожная старая дама. Рэндолф сказал, что «те, кто ее знали, скорее боялись, нежели любили ее». В Шотландии ее мужа пригласили в парламент, и начался процесс возвращения ему земель и доходов. Тем временем он втерся в доверие к Марии, играя с ней в кости и дипломатично проиграв хрустальную посуду, оправленную в золото.
Летингтон и Морей встретились с Рэндолфом и Бедфордом в Бервике, но их встреча ничего не дала. Сесил продолжал настаивать на кандидатуре Лестера, а Мария колебалась. Она просто ждала, когда события вынудят ее к каким-либо действиям, но все происходило очень медленно. С политической точки зрения обе стороны колебались по разным причинам: если бы брак состоялся (а теперь всем уже было ясно, что он состоится), а затем распался бы, никто не захотел бы взять на себя ответственность за это. Летингтону не нравился Лестер, потому что тот был англичанином, а Морею не нравился Дарнли, потому что тот стал бы оказывать покровительство католикам, если бы ему это было выгодно. Оба лорда «обменялись страстными речами».
Сесил все еще надеялся на брак Марии с Лестером и подготовил меморандум: «Видя, что два королевства не могут быть объединены браком, второй способ сделать их и их жителей счастливыми состоит в том, чтобы Мария вышла замуж за того, к кому Елизавета благоволит и кого любит как брата… Она уже начала осыпать его почестями и доходами и не собирается жалеть для этого средств». Здесь содержится намек на то, что приданое Лестера могло оказаться вполне щедрым.
Дело, казалось, сдвинулось с места, когда, к большому удивлению, 12 февраля Рэндолф отметил, что и Сесил, и Лестер поощряли выдачу Дарнли разрешения отправиться в Шотландию. Он сначала приехал в Берик, а потом через Данбар и Хаддингтон отправился в Эдинбург. О нем много говорили, хотя он был плохо экипирован и Рэндолфу даже пришлось одолжить ему пару лошадей.
Когда Мелвилл описывал Дарнли Марии, его рассказ отличался от дипломатичного ответа Елизавете. Теперь он сказал Марии, что Дарнли — «крепкий, отлично сложенный и высокий мужчина… с прекрасной осанкой, изящный, стройный и подтянутый, с юности привыкший ко всем подобающим физическим развлечениям». На портрете, написанном тремя годами ранее, он, безусловно, строен и элегантен, но его лицо имеет самовлюбленное выражение, он презрительно смотрит из-под изогнутых бровей на зрителей, которых, кажется, едва терпит. Дарнли получил подобающее образование и теперь, имея перспективу королевского брака, с присущей ему галантностью взял на себя роль поклонника.
Дарнли пересек Форт и остановился в доме лэрда Уэмисса в Файфе. Там 17 сентября он встретился с Марией и был «ею хорошо принят». В Шотландию прибыл второй муж Марии.
Глава X
ДОЛГОВЯЗЫЙ ЮНЕЦ
Прибытие Дарнли в Шотландию немедленно развязало языки всем сплетникам: «Если ей понравится этот новый гость, тогда стоит ждать беды». Ленноксу, отцу Дарнли, должны были вернуть его земли на западе, в частности замок Дамбартон, который конфисковали во время его пребывания в Англии. Шательро пришел в ярость из-за возвращения земель, последствием чего стало заключение весьма нестабильного союза между ним и Мореем, который теперь ясно видел перспективу восхождения Леннокса на престол и рождения детей, которые наследуют ему, тем самым еще больше отодвигая в тень его собственные права на корону: «Если он вступит в этот брак, это приведет к падению и подчинению нас самих и наших семей». Однако Мария, по крайней мере пока, проявляла дружелюбие к Дарнли. Рэндолф продолжал настаивать на предложении Лестера, но без большой надежды на успех. Мария резко отвергла идею замужества с Лестером и, чтобы устранить некоторые возражение против Дарнли, вновь опубликовала свою прокламацию от 1561 года, заверявшую шотландцев в том, что она не имеет намерений менять официальную религию. Узнав, что на севере «опять укоренилась» месса, Мария написала заинтересованным лицам, прося их «не делать ничего такого, чего опасаются протестанты».
Возможно, Мария оказалась под впечатлением от незначительного, но трогательного события, произошедшего с ней в Файфе, когда она отправлялась на встречу с Дарнли.
Когда она приехала в дом лэрда Ланди, древнего старика с седой головой и белой бородой, тот преклонил перед ней колени и произнес: «Мадам, это ваш дом, и вся земля, к нему относящаяся, все мое имущество принадлежит вам. Мои шесть сыновей… и я сам готовы расстаться с нашими телами, служа вашей милости… Но, мадам, в ответ на это я молю Ваше Величество о том, чтобы в этом доме не служили мессу, пока вам угодно в нем находиться».
Его просьба была удовлетворена, и «он счел себя счастливым вдвойне, принимая королеву в своем доме, но не запятнав его идолопоклонничеством». Это был яркий пример должного подчинения, проявленного простыми людьми по отношению к правительнице, но не к ее религии.
Продолжая очищать свой двор от французов, Мария отослала обратно во Францию своего личного секретаря Огюстина Роле вместе с его женой, управлявшей штатом личных слуг королевы. Роле — одна из теневых фигур, окружавших Марию. Он служил кардиналу Лотарингскому и приехал из Франции вместе с королевской свитой, постепенно поднявшись по карьерной лестнице до должности хранителя ключей от шкафов с личными бумагами Марии. Королева, заподозрив Роле в недобросовестности, уволила его. Перед отъездом все его личные бумаги были конфискованы. Позднее Роле вернется на службу к Марии.
Первая встреча Марии и Дарнли была формальной и проходила в присутствии придворных, поэтому и первые впечатления Марии были положительными. Она сказала Мелвиллу, что Дарнли «сложен лучше, чем любой другой мужчина, которого она когда-либо видела». Через десять дней Мария вернулась в Холируд; там ее личным секретарем стал Давид Риццио, причем считалось, что «все делается через него», к большому раздражению Тайного совета.
Беспокойный граф Босуэлл нарушил условия изгнания и вернулся в Шотландию, бормоча оскорбления в адрес Марии: она-де «кардинальская шлюха» и он ни за что не примет почестей из ее рук. Дарнли последовал за Марией в Эдинбург и присутствовал на проповеди Нокса, перед тем как отправиться на бал в Холируд. Там Морей предложил ему станцевать гальярду с королевой. Впервые в жизни Мария танцевала с мужчиной, который был выше нее, и веселые прыжки «долговязого юнца» в гальярде порадовали ее так же, как и спокойные моменты формальных приветствий, когда она наконец смогла посмотреть на своего партнера снизу вверх. Первая карта в брачной игре Дарнли была разыграна успешно.
Впрочем, элегантность осанки и изящество движений предназначались для того, чтобы произвести впечатление на мужчин-придворных, хотя Дарнли понимал: если он женится на Марии, то в какой-то момент придется завести детей. Он был готов пережить этот несколько неприятный опыт как часть своих обязанностей. На самом деле он не интересовался ничем, кроме собственных удовольствий, и, подобно Марии, не собирался утруждать себя практическими делами управления.
В апреле двор переехал в Стирлинг, где Дарнли заболел «корью», и хотя его держали в изоляции, ему присылали блюда со стола Марии. Симптомы его болезни, впрочем, мало напоминали корь; вероятнее всего, это слово использовалось в качестве эвфемизма, скрывавшего нечто более серьезное. Во время периодов улучшения Дарнли и Мария играли в шары против Рэндолфа и Мэри Битон. Рэндолф и Битон победили, и Дарнли уплатил свой долг кольцом и брошью с агатами «ценой в 50 крон». При поддержке отца Дарнли тратил на свое ухаживание гораздо больше, чем оба они могли себе позволить. К маю у Леннокса кончились деньги, и ему пришлось занять 500 крон у Летингтона. Леннокса пока еще не утвердили в правах владения крепостью Дамбартон.
Сесил беспокоился все больше, и 28 апреля отправил в Эдинбург Николаса Трокмортона, бывшего английского посла во Франции, уже знакомого шотландской королеве, с длинным меморандумом, суть которого заключалась в следующем: «Ради бога, постарайтесь узнать, что происходит». Из Стирлинга Рэндолф сообщал, что забота Марии о Дарнли, проявленная ею во время его болезни, вызывает большое беспокойство и что, по всеобщему мнению, Морей вскоре присоединит свой голос к хору недовольных. Недовольны были эдинбуржцы: одного католического священника поставили к позорному столбу и забросали яйцами. Католики ответили насилием на насилие, и провосту пришлось прервать ужин, чтобы не дать вспыхнуть бунту. Священника заковали в цепи в Толбуте и известили об этом Марию. Она приказала освободить его «к великому недовольству всего народа», а Тайному совету было велено собраться в Эдинбурге и наказать провоста. Морей и Аргайл отказались приехать.
В Лондоне Елизавета запаниковала и заявила своему Тайному совету, что брак Марии и Дарнли окажется «неподходящим, невыгодным и будет угрожать искренней дружбе двух королев». Трокмортону было поручено передать это Марии и сказать ей также, что она может выбрать любого аристократа, кроме Дарнли. Сесил добавил, что, если Мария выйдет замуж за Лестера, может быть разрешен вопрос о наследовании ею английского престола. Совет Марии открыто разделился: Летингтон, Рутвен и Риццио поддерживали решение Марии, а Шательро, Морей и Аргайл выступали против этого брака. Морей был в такой ярости, что Мария стала подозревать его в желании «возложить корону на собственную голову».
Поскольку знать была совершенно поглощена вопросом о браке, лэрды пограничных земель ухватились за возможность напасть друг на друга. 3 мая Рэндолф писал о «ежедневных стычках между шотландцами и Эллиотами — все они виновны в грабежах, а правосудием и не пахнет».
Воинственность Марии проистекала из ее упрямого отказа прислушаться к словам советников или к общественному мнению. Как только ей сказали, что брак с Дарнли нежелателен, она приняла решение — совершенно по-детски — настоять на своем. В конце концов, она была королевой, а желания королевы нельзя игнорировать, напротив, их должно немедленно удовлетворять. Выйти замуж за Дарнли означало пойти против стремлений Елизаветы к более тесному союзу двух наций, отвергнуть богатейших поклонников Европы — даже отвергнутый эрцгерцог Карл принес бы ей большой кусок Австрии, а также отцовский миллион — и все ради брака с ненадежным, но очаровательным бедняком гораздо ниже ее по происхождению. Чтобы разрешить дело, 8 мая Мария дала аудиенцию Морею и потребовала у него подписать брачное соглашение; поскольку Дарнли еще не было двадцати одного года, ему нельзя пока было даровать брачную корону. «Из-за этого возникла большая ссора, и королева наговорила Морею много недобрых слов». Мария получила согласие на ее брак из Испании и Франции и попросила разрешение Рима, необходимое для того, чтобы выйти замуж за своего кузена. Заносчивость Марии привела к тому, что теперь ей приходилось править разделенной страной. Шотландская знать терпела ее переменчивость, но теперь всем пришлось выбирать: «за» или «против» брака, «за» или «против» королевы.
Елизавета получила послание Рэндолфа: «Сообщают, что королева влюблена, а Дарнли так раздулся от гордости, что стал невыносим для всех честных людей» — и теперь, когда речь шла об этом браке, старалась делать хорошую мину при плохой игре. 3 июня французский посол Поль де Фуа был принят Елизаветой, игравшей в шахматы. Она заверила его, что Дарнли столь же важен, как и пешка на ее доске. То была бравада, поскольку на следующий день ее Тайный совет собирался «разрешить вопрос о наследовании обеих корон в связи с браком. Паписты в этом королевстве воспользуются любыми средствами, чтобы нанести королеве ущерб, и не остановятся перед употреблением силы». Было решено укрепить границу — «на тот случай, если мир будет нарушен», — а также поместить леди Леннокс в «безопасное место» — другими словами, ее отправляли обратно в Тауэр — и отозвать в Англию Леннокса и Дарнли. Возникли даже планы войти в Шотландию «с враждебными намерениями», если прочие действия не возымеют успеха, и Елизавета опять послала Трокмортона выяснить, каковы намерения Марии, и озвучить ее серьезные предостережения. Две недели спустя Трокмортон прибыл в Стирлинг и после довольно продолжительной проволочки получил аудиенцию у Марии в присутствии большей части Тайного совета. Трокмортон передал королеве возражения Елизаветы, которые Мария отбросила, ответив, что Елизавета, предостерегая ее от любого иностранного поклонника, предоставила ей свободный выбор среди британских дворян. «Мы несколько раз спорили об этом», — сообщал Трокмортон. В конце концов его отпустили с подаренной золотой цепью в пятьдесят унций. Впоследствии он говорил: «Я нахожу, что королева полностью побеждена любовью или колдовством (или же, говоря по правде, хвастовством и глупостью)». И добавлял: «Королева зашла настолько далеко в деле с лордом Дарнли, что теперь его нельзя расторгнуть ничем, кроме силы».
Мария теперь уж точно не собиралась никого слушать, и это стало очевидно, когда всего через час после отъезда Трокмортона она сделала Дарнли рыцарем Тарболтона, лордом Ардмэнноком, бароном Ротерсеем и графом Россом. Дарнли все время пребывал в плохом настроении. Его гнев возбудил тот факт, что Мария обещала сделать его герцогом Олбани — это был титул, дававшийся членам королевской семьи, — а теперь решила придержать его до тех пор, пока не узнает, как Елизавета отреагирует на провал посольства Трокмортона. Когда Рутвен сообщил о проволочке, Дарнли охватил приступ неконтролируемой ярости: он набросился на Рутвена, размахивая кинжалом, и его пришлось скрутить. После церемонии новоиспеченный граф отправился дуться в свои покои и напился до беспамятства.
Загнав себя в угол, Мария проявляла по отношению к Дарили больше страсти, «чем это подобает любому достойному человеку», и «всякий стыд был отброшен». Мария пренебрегла своим королевским достоинством, красота покинула ее, «а ее радость и довольство превратились неизвестно во что». Конечно, Рэндолф, автор этих комментариев, был против этого брака, но он рисует узнаваемый портрет избалованной женщины двадцати двух лет, переживавшей первую любовь, знавшей, что она влюблена в совершенно неподходящего человека, который разлучит ее со всеми друзьями и в конце концов принесет беду ей самой, но при этом полной решимости идти до конца, какова бы ни была цена.
9 июля 1565 года Мария, теперь уже полностью отдавая себе отчет, к чему могут привести ее действия, тайно обвенчалась с Дарнли — в присутствии всего семи свидетелей, — и чета отправилась в постель в находящийся неподалеку дом лорда Сетона. На самом деле это было не более чем формальное обручение, и, поскольку Мария совершенно обоснованно опасалась общественного мнения, оно, вероятно, состоялось в покоях Риццио в замке Стирлинг.
Через три дня, 12 июля, Мария попыталась исправить ситуацию, обнародовав новую прокламацию с целью предотвратить распространение слухов среди «дурных, нечестивых людей и бунтовщиков», заверяя своих подданных-протестантов, что она по-прежнему не станет вмешиваться в дела реформистской церкви. Продолжая заверять народ в том, что его религия в безопасности, она, очевидно, не осознавала или просто игнорировала основную причину протестов против ее брака с Дарнли и союза с домом Ленноксов. Любой брак с иностранцем сделал бы другие страны, за исключением владений ее будущего мужа, враждебными ей, но, вероятно, оказался бы более приемлемым для шотландской знати, хотя и не для Елизаветы. Но, выходя замуж за наследника графа Леннокса, она одним махом возрождала давнее соперничество Ленноксов и Хэмилтонов, возглавляемых герцогом де Шательро, а также возбуждала ненависть сводного брата и его ветви Стюартов, которая теперь практически отстранялась от наследования престола. Ни один из лордов, чьи интересы каким-либо образом пересекались с интересами Ленноксов, а таких было много — Аргайл, Роте, Гленкайрн, — не стал бы терпеть подобный брак. Вместо того чтобы сеять семена недовольства во владениях других европейски монархов и создавать беспорядки в Лондоне, Мария слепо готовила почву для масштабного восстания у себя дома.
Религиозные соображения также вызывали большое беспокойство Генеральной ассамблеи шотландской церкви, которая 26 июля попросила Марию искоренить мессу на всей территории королевства. Мария тянула время, объявив, что «не станет принуждать ничью совесть», и выражая надежду, что «ее не станут принуждать поступать против собственной совести». Ассамблее не понравился ее ответ, но она на время отложила ответные действия. Только на это и можно было рассчитывать в той быстро ухудшавшейся ситуации. К 20 июля Дарнли получил наконец титул герцога Олбани, и в церкви Сент-Джайлс прозвучали объявления о его браке с Марией. В тот самый день епископ Данбланский прибыл в Рим за папской диспенсацией. Свадьба была назначена на 29 июля 1565 года, за день до нее герольдам были отправлены патенты, объявлявшие, что впредь Дарнли следует именовать «королем нашего королевства». Этот шаг, совершенный без согласия парламента, «стал основанием для недовольства народа, как будто объявить короля без согласия парламента значит посягнуть на его свободы». В Шотландии «королевская власть определяется соединением ее интересов с интересами политического сообщества». Нокс был страстным проповедником этой философии и озвучивал ее даже перед самой Марией, но короли из династии Валуа считали свою власть данной от Бога, и Мария слепо следовала их примеру.
Свадьба состоялась в королевской капелле Холируда рано утром — в пять часов — 29 июля 1565 года, причем Мария была одета в черное траурное платье. Это не подразумевало печали, но указывало на тот факт, что она была вдовой и вдовствующей королевой. Леннокс и Атолл под руки подвели ее к алтарю, затем привели Дарнли. Церемония следовала католическому ритуалу; в ходе ее она получила три кольца, среднее из них — «с большим бриллиантом». Затем чета преклонила колени, над ними прочитал молитвы Джон Синклер, настоятель Ресталрига и епископ Брекинский. Дарнли не остался на брачную мессу, он быстро поцеловал жену и затем ждал в ее покоях. Предполагалось, что после мессы Мария позволит снять с нее вдовий траур и надеть праздничный наряд, который должен был указывать на наступающую счастливую жизнь, однако королева сократила эту церемонию, позволив ближайшим придворным лишь вынуть из ее платья по булавке. На этом символический акт был сочтен совершённым, и Мария удалилась к мужу.
Все это было совсем не похоже на ее роскошную свадьбу с дофином. Ни Морей, ни Рэндолф не присутствовали на свадьбе, и хотя там танцевали и раздавали милостыню, многие из присутствовавших, включая и саму Марию, боялись представить, что из всего этого выйдет. На следующий день, в девять часов утра, герольды провозгласили Дарнли королем Шотландни и объявили, что брак — который был заключен задолго до получения папской диспенсации — «торжественно завершен», и поэтому впредь вся корреспонденция должна адресоваться «их величествам». Леннокс воскликнул: «Боже, храни короля!» — однако остальные дворяне промолчали, а страна затаила дыхание. Мрачный Морей надеялся, что с королевской четой можно будет иметь дело, так как они молоды и внушаемы.
Елизавета отправила некоего Джона Тарнуорта выступить посредником в условиях ширящихся разногласий знати и, невзирая «на странные дела в собственной стране», «увещевать ее по-дружески и по-соседски». Тарнуорту было приказано не признавать Дарнли мужем Марии и напомнить ему и его отцу, что от их поведения зависит обращение с графиней Леннокс в Тауэре. Елизавета глубоко сожалела о том, что когда-то считала Дарнли подходящим мужем для Марии.
Еще до прибытия Тарнуорта Морею было приказано в течение шести дней предстать перед Марией и дать ей объяснения. Знатным дворянам было предписано ждать Марию в Линлитгоу 24 августа с припасами на пятнадцать дней военной кампании. Никого не удивило, что Морей не явился, и «о нем протрубили рога»: это означало, что он теперь был вне закона и от имени королевы мог быть арестован и убит любым, а его земли и имущество конфисковывались короной. Вскоре вслед за ним вне закона оказались Роте[60] и Киркалди из Грэнджа[61].
Когда Тарнуорт наконец прибыл, — «задержавшись в пути из-за плохих лошадей», — его приняли с вполне предсказуемой холодностью — «она была удивительно неприветлива» — и дали неизбежные заверения в том, что никаких перемен в религии не последует. Ему также было заявлено, что бедствия графа Морея являются внутренним делом Шотландии. Мария даже пригрозила Елизавете: «Я не простолюдинка, и у меня достаточно влиятельных друзей за границей, так что, если ваша госпожа вынудит меня вступить с ними “в комплоты”, они могут оказаться не такими уж незначительными, как она полагает». Эта же мысль была изложена более дипломатично в письме от Дарнли и Марии Елизавете, в котором последнюю заверяли в неизменной дружбе и просили признать их право наследовать за ней и ее потомками английский престол актом парламента, а также поставить другого отпрыска графини Леннокс[62] третьим в линии наследования. То была высокомерная отповедь Елизавете за попытку вмешаться в дела Шотландии. Несчастный Тарнуорт, которому было приказано игнорировать Дарнли, отказался принять подписанный им паспорт и был захвачен в Данбаре лордом Хьюмом, который запер его в своем пограничном замке на два или три дня. Мария и Дарнли вполне по-детски сочли это очень забавным и одобрили действия Хьюма.
Вероятно, для того, чтобы заверить эдинбуржцев, что их религия находится в надежных руках, Дарнли выразил желание присутствовать на службе в церкви Сент-Джайлс 19 августа, и для него возвели специальный трон, позволявший ему возвышаться над прихожанами. Это означало, что ему пришлось сидеть практически напротив кафедры Нокса. Тот решил проповедовать на стихи из 26-й главы Книги Исаии: «Господи Боже наш! Другие владыки кроме Тебя господствовали над нами… ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие». Было совершенно очевидно, что это — прямой личный выпад против Марии и Дарнли. Все собравшиеся смотрели, как Дарнли на своем возвышении все сильнее и сильнее сжимал зубы, пока, наконец, по завершении особенно длинной инвективы, представлявшей собой поток ясно сформулированных обвинений, не выскочил из церкви, бледный от бешенства. «Хроника ежедневных событий» свидетельствует, что он «скривился» от ярости. По возвращении в Холируд он отказался есть приготовленную для него еду, вскочил на коня и провел день в обществе близких друзей на соколиной охоте.
Через неделю Мария вместе с Дарнли в сопровождении шестисот аркебузиров, двухсот копейщиков и шести пушек выступила из Эдинбурга к крепости Хэмилтонов на западе, чтобы «выкурить» оттуда Морея. Мария надела стальной шлем, заткнула за пояс пистолет, а под ее корсетом, говорят, скрывалась «тайная защита», вероятно кольчуга. Дарнли же посверкивал позолоченными доспехами. Так началась кампания, получившая название «Загонный рейд». Поскольку обе армии так и не встретились, а просто маневрировали на юге Нижней Шотландии, кампания, если ее можно так назвать, для обеих сторон представляла скорее путешествие, нежели серьезный конфликт.
6 сентября Тайный совет гарантировал — что оказалось совершенно излишним — компенсации семьям погибших. Интересно, что на этом заседании совета отсутствовавшего Дарнли именовали не королем, а лордом Дарнли.
Он и Мария от души наслаждались жизнью. Наступила такая же славная осенняя погода, как во время карательной экспедиции против Хантли, и все рыцарственные фантазии Марии получили более чем достаточно пищи.
Мария отправилась в Глазго с теперь уже довольно значительными силами, и это дало возможность Морею и недовольным лордам 30 августа совершить набег на Эдинбург. Они заняли столицу, но не замок, комендант которого дал артиллерийский залп, обозначив его неприступность и верность королеве. Затем пришли известия о том, что Мария возвращается в Эдинбург, и артиллерия начала стрелять по городу, к большому раздражению готовившегося к проповеди Нокса — «ужасный рев орудий», заставив мятежников, заявлявших теперь, что они хотят лишь одного — гарантий безопасности реформированной религии, осознать, что горожане вот-вот повернут против них. В три часа утра Морей и его отряды поспешно ретировались в Ланарк, а потом опять направились на юго-запад, в Дамфриз.
В Глазго Мария призвала к всеобщей мобилизации и потребовала, чтобы мятежники сдались ей в Сент-Эндрюсе 11 сентября. Атолла назначили генеральным лейтенантом Севера вместо Аргайла; Ленноксу были даны в управление западные графства — от Стирлинга до Солуэя; а Босуэлл после целого букета приключений — судов, оправданий, изгнаний и побега из пиратского плена — был назначен генеральным лейтенантом Средней марки. Тем временем Мария написала Филиппу II Испанскому, заверяя его как защитника католической веры, что она неколебима в своем благочестии, и просила уверений в его поддержке.
Вскоре после своей свадьбы Мария освободила лорда Джорджа Гордона из-под домашнего ареста в Данбаре и вернула ему титул графа Хантли. Поскольку Гордон считал Морея виновным в смерти отца и брата, он был только рад присоединиться к армии возмездия. Теперь у Марии были три компетентных военачальника — Атолл, Босуэлл и Хантли. По поводу поста главнокомандующего начались раздоры, и в итоге Леннокса назначили командовать авангардом, а Босуэлл и Дарнли без всякого удовольствия разделили должность командующего главными силами. Это вызвало «стычки» между Марией и Дарнли. С учетом всех этих разногласий оказалось весьма кстати, что армии не пришлось участвовать в сражении. Мария и Дарнли чувствовали, что могут стать жертвами народного восстания, а французскому послу Мовиссьеру поведали, что они боялись быть убитыми. Посла попросили передать Елизавете просьбу о помощи.
Проигнорировав Эдинбург, Мария проследовала к северо-востоку — в Файф, а затем — через Тэй к Данди. Город отказался объявить о своей лояльности, и Мария, у которой уже кончались деньги, вынуждена была заплатить городу за поддержку две тысячи шотландских фунтов. Она вернулась в Эдинбург, заняла 10 тысяч марок (6667 шотландских фунтов) и написала Елизавете, заверяя ее в любви и дружбе. Она также попросила у Елизаветы три тысячи солдат. Просьбу вежливо проигнорировали. Мятежники тоже писали Елизавете, прося денег и людей для защиты своей религии, жизни и наследства. Елизавета вполне разумно призвала к прекращению военных действий и общей амнистии. Теперь, когда Босуэлл и Хантли объединились ради общей цели — 22 февраля в церкви Канонгейт в Эдинбурге Босуэлл должен был жениться на леди Джин Гордон, сестре Хантли, — королевская армия промаршировала на юг, чтобы встретиться с мятежниками лицом к лицу в Дамфризе, но по прибытии обнаружила пустой город: мятежники бежали в Ньюкасл. 18 октября Мария вернулась в Эдинбург из «упомянутого рейда, в котором ничего не было достигнуто».
Для Марии рейд оказался возможностью организовать королевскую поездку и показать себя народу в доспехах и шлеме. Однако вместо того, чтобы собираться в восторженные толпы, «при их приближении народ ускользал». Популярность королей в Шотландии была условной; верность нужно было заслужить, и даже если этого удавалось достичь, сохранение ее требовало дополнительных усилий. Диана де Пуатье знала, что показное смирение время от времени приносит богатые плоды, однако Марии смирение не было знакомо.
Распространилось множество слухов, поскольку вся Европа ожидала, что Мария может воспользоваться своей кажущейся победой, чтобы восстановить позиции католической церкви. Мария и Дарнли отправили посольство к Филиппу II, прося помощи в восстановлении католичества и смещении Елизаветы в Англии. Филипп немедленно информировал нового папу о том, что может произойти. Оба понимали, что просьба была предназначена лишь для того, чтобы обосновать свою позицию на случай настоящей войны с Англией. Однако папа Пий V ошибочно полагал, что рейд являлся войной католиков и протестантов, и 10 января похвалил Марию: «Мы поздравляем Ваше Величество с тем, что благодаря этому важному деянию Вы начали рассеивать тьму, в течение многих лет собиравшуюся над королевством, и возвращать его к свету истинной веры — завершите то, что начали». Мария в данном случае проявила мудрость и проигнорировала этот совет.
Удовлетворение, ощущавшееся Марией по окончании этого галантного фиаско, отразилось в проявлении чувств по отношению к Дарнли, с энтузиазмом игравшему роль рыцаря-сотоварища. 31 октября Рэндолф сообщал о слухе касательно беременности королевы: «Каковы его основания, я не знаю».
Мятежные лорды собрались теперь в Ньюкасле, надеясь на невозможное, а именно — на помощь Елизаветы. Чтобы получить ее, Морей отправился в Лондон, предварительно написав Сесилу, что он никогда не начал бы восстание, если бы не данное Елизаветой обещание поддержки. Английский Тайный совет немедленно написал Морею, умоляя его не приезжать, но тот был исполнен решимости и 23 октября, взяв с собой для моральной поддержки аббата Килвиннинга, лично встретился с Елизаветой. Он совершил непростительную ошибку, принудив Елизавету к принятию решения, и ее реакция оказалась совершенно предсказуемой.
В ходе встречи Морею пришлось обращаться к Елизавете, стоя на коленях, и унизить себя перед всем ее двором, а также представителями Франции и Испании. Морею было сказано, что из-за присутствия послов беседа будет вестись на французском языке. Он ответил, что его французский недостаточно хорош, однако Елизавета настаивала. Морею пришлось признать, что Елизавета никогда не побуждала лордов противодействовать браку Марии или, хуже того, восстать против нее с оружием в руках. После этого признания Морею позволили подняться, и Елизавета нелицеприятно заявила: «Теперь вы сказали правду; ни я, ни кто-либо от моего имени не побуждали вас выступить против вашей королевы. Ваша отвратительная измена может послужить примером для моих подданных, и они восстанут против меня. Поэтому убирайтесь отсюда; вы — недостойные моего внимания предатели». Затем она сказала парочке кающихся грешников, что попросит Марию проявить к ним милость по их возвращении, и они покинули дворец, поджав хвосты, понимая, что едва не попали в Тауэр. В XVIII веке историк Ричард Кит описал поведение Елизаветы как «образчик утонченного обмана, встречавшегося в любое время и при любом дворе».
Шательро согласился отправиться в изгнание на пять лет и уехал в свое французское герцогство. Остальным мятежникам приказали явиться к рыночному кресту в Эдинбурге 18 и 19 декабря. Там они получили прощение и приказ предстать перед парламентом 12 марта 1566 года для вынесения окончательного приговора.
Мария искренне верила в то, что сохранила привязанность простого народа — она всегда убеждалась в этом после королевских поездок, — а также что она одержала победу над знатью. Но это чувство безопасности оказалось иллюзией, потому что недовольство знати ее высокомерием в вопросе о браке возрастало, и теперь, когда она нуждалась в совете, ей все и больше и больше приходилось полагаться на своих личных слуг. Летинггон, которого во время «Загонного рейда» нигде не было видно, лишился благосклонности королевы, которая перенесла ее на Давида Риццио. Марии пришлось также признать, что Дарнли ведет себя все более вызывающе и, кроме того, он предпочитал двору бордели с мальчиками или же соколиную охоту «в обществе готовых удовлетворить его желания джентльменов». Дарнли еще не была дарована брачная корона, и, хотя Тайный совет разрешил ему подписывать документы, его имя всегда стояло после имени Марии. Дарнли требовал, чтобы с ним обращались как с королем Шотландии, и в конце концов совет, приходивший в отчаяние от его продолжительных отлучек, приказал изготовить факсимиле на металлическом штампе, именовавшемся «ручная подпись», а королевские печати были отданы Риццио.
Мария отправилась в путешествие навстречу Дарнли 3 декабря 1565 года, причем было отмечено, что она ехала не верхом, а в носилках, которые несли лошади, тем самым подтверждая слухи о своей беременности. На Рождество 1565 года Дарнли в первый раз присутствовал на мессе, «благочестиво стоя на коленях; королева же большую часть ночи провела за картами и отправилась в постель, когда уже почти рассвело».
В тот же день Рэндолф отметил перемены, произошедшие с находившимися в обращении монетами. В ознаменование королевской свадьбы была выпущена новая серебряная монета — риал стоимостью в тридцать шотландских шиллингов. На ней были изображены Мария и Дарнли, лицом к лицу, а по окружности были выгравированы их имена: Henricus et Maria D(ei) Gra(tia) R(ex) etR(egina) Scotorum[63], причем первенство отдавалось Дарнли. Эту монету изъяли из обращения, а на новом риале имена были помещены в обратном порядке.
В начале февраля 1566 года в Эдинбург из Франции прибыл новый посол — сеньор де Рамбуйе, и Дарнли был пожалован орден Святого Михаила, высший рыцарский орден Франции. В состав посольства входил некий Торнтон, которого отправил с письмом к Марии от ее дяди, кардинала Лотарингского, шотландский посол во Франции Битон. В письме к Марии было рассказано о Католической лиге, формировавшейся между Францией, Испанией и империей, а также дан совет присоединиться к союзу. Мария подписала документ «в недобрый час», однако она должна была знать, что, если о ее участии в лиге станет известно всем, у Елизаветы появится повод выступить против нее и ее престол окажется в большой опасности. Риццио, которого ошибочно считали агентом папы, с энтузиазмом выступил в поддержку Католической лиги и совершил глупость, позволив другим узнать об этом.
Летингтон теперь с полным основанием опасался формировавшихся при дворе партий, обвиняя Марию в том, что она выдвигала Риццио вместо других членов Тайного совета. Летингтон был влюблен в Мэри Флеминг, и Рэндолф издевался над ним, говоря, что, поскольку Риццио отеснил его, у него появилось время, чтобы сходить с ума от любви.
Недовольство знати, «которой по рождению принадлежали должности, но не верность», росло. Джордж Дуглас сказал графу Рутвену, что, по мнению Дарнли, Риццио неподобающе с ним обращается и именно из-за его вмешательства Мария «удержала руку» и не даровала мужу брачную корону. Так как Дарнли не был коронован, он не мог унаследовать престол, если бы Мария умерла первой. Дарнли также считал — как выяснилось, справедливо, — что Риццио презирал его как короля только по имени, не участвовавшего в решении государственных дел и никогда не присутствовавшего на заседаниях Тайного совета. У высокомерного Дарнли, склонного к самообману, все это разожгло страстную ненависть, питавшую заговор с целью убийства Риццио.
Главным заговорщиком стал Патрик Рутвен. Ему было сорок шесть лет, и он был почти калекой из-за воспаления печени и почек. Он также был известным некромантом и колдуном. Рутвен согласился присоединиться к заговору против Риццио на условии, что Дарнли простит изгнанных мятежников, которые впоследствии присягнут ему на верность как королю Шотландии. В качестве короля он мог использовать свое влияние на Елизавету, чтобы освободить графиню Леннокс из Тауэра. Мортон, «настроенный на всяческие уловки», планировал захватить Риццио в его покоях во дворце, однако Дарнли убедил заговорщиков захватить его во время приватного ужина у королевы — Дарнли был оскорблен тем, что его не приглашали на эти ужины и сопровождавшие их карточные игры. Садистски демонстрируя свою власть, Дарнли стремился к тому, чтобы Мария увидела: именно он стоит за убийством, а поскольку комната для ужина была небольшой, не заметить его она не смогла бы. Договорились о дате — 8 или 9 марта. Мортон был убежден, что остается лишь один способ искоренить католическую веру и обезопасить Реформацию и этот способ — убить Риццио, отложить созыв парламента, отправить Марию в заключение до тех пор, пока она не родит ребенка, вверить номинальную власть Дарнли и поставить Морея во главе правительства. Леннокса отправили в Лондон с советом Морею — готовиться к возвращению, и — невероятно! — было подписано «соглашение», обрисовывавшее эти планы. Под ним стояли подписи Дарнли, Рутвена, Джорджа Дугласа и Патрика Линдси. Изгнанные мятежники подписали «соглашение» 2 марта 1566 года в Ньюкасле. В «соглашении» упоминалась мрачная деталь — убийство должно было произойти во дворце «в присутствии ее величества королевы».
Почему слухи о заговоре достигли ушей Марии столь поздно, остается загадкой, ведь 13 февраля Рэндолф писал графу Лестеру: «Я точно знаю, что королева сожалеет о своем браке; она ненавидит мужа и его родню. Я знаю человека, участвовавшего в его играх и развлечениях. Я знаю, что отец и сын замышляют силой захватить корону против ее воли. Я знаю, что, если случится то, что замышляют, Давиду [Риццио] с согласия короля перережут горло в течение десяти дней». Лестер должен был быть счастлив, что Мария не вышла за него замуж.
Однако 19 февраля Мария приказала Рэндолфу покинуть страну в течение трех дней в наказание за то, что он одолжил Морею три тысячи крон. Елизавета пришла в ужас от ее «странного и неучтивого обращения с Рэндолфом». Тот отправился в Берик к графу Бедфорду[64], которому по предложению изгнанников рассказал о готовящемся заговоре. Изгнанники должны были немедленно вернуться в Шотландию, даровать Дарнли брачную корону и поставить мессу вне закона, несмотря на то, что 7 февраля Дарнли присутствовал на мессе. Бедфорд и Рэндолф также информировали Елизавету, что «в Шотландии назревают важные события» и что они произойдут до 12 марта.
Заговорщики собрались в Эдинбурге: Мортон, чьи должности были переданы Риццио, Бойд[65] и Рутвен — в ожидании возвращения Морея. Конечно, у заговора не было никаких шансов остаться тайным, но до Марии дошли только слухи, и она отвергла их: «Что они могут сделать, да и что они посмеют?» Сам Риццио утверждал, что шотландцы горазды хвастаться, но не драться: «Они как утки: выстрели в одну, и все улетят», однако из предосторожности завел себе личную охрану из итальянских наемников. Мудрый Летингтон не подписал «соглашение», но просто позволил событиям идти своим чередом.
События 9 марта 1566 года относятся к числу наиболее известных в шотландской истории. Мария ужинала в малой столовой в обществе пятерых близких друзей: сводного брата лорда Роберта Стюарта, епископа Оркнейского[66]; сводной сестры Джейн, графини Аргайл, чьи общеизвестные измены сделали ее брак совершенно скандальным; конюшего Эрскина, пажа Стандена и Давида Риццио. Было еще холодно, и в комнате пылал камин. Поскольку она была совсем небольшой — двенадцать квадратных футов — и учитывая многослойные наряды того времени, в комнате должно было быть душно, особенно для Марии, которая тогда находилась на шестом месяце беременности. Риццио, известный денди — после его смерти обнаружилось, что у него было восемнадцать пар бархатных штанов, а содержимое кошелька составляло две тысячи фунтов стерлингов, — был одет в шелковый халат и атласный камзол. Они уже завершали ужин, к которому, несмотря на Великий пост, подали немного мяса — ведь беременной королеве было позволено не поститься, — и готовились насладиться музыкой и игрой в карты.
Все присутствовавшие были удивлены неожиданным появлением Дарнли, который теперь редко встречался с королевой и явно не принадлежал к ее кружку. Он поднялся в покои королевы по потайной лестнице из своих покоев и оставил дверь открытой, зная, что в здание вошли 150 вооруженных людей. Он не проявил никакого внимания к Марии и не извинился перед присутствовавшими, но встал рядом с изумленной женой, облокотившись на ручку ее кресла. Дарнли сделал все, что от него требовалось: отпер дверь на лестницу и обеспечил присутствие жены в столовой, чтобы она могла полюбоваться на ожидавшее ее зрелище.
Удивление собравшихся возросло после появления пошатывавшегося графа Рутвена. Тот был пьян, под его верхней одеждой виднелся доспех, на боку был кинжал, он тяжело дышал, а лицо его налилось кровью. Мария спросила: «Что за странный вид, милорд? Вы сошли с ума?» Рутвен, запинаясь, ответил: «Мы слишком долго были не в себе. Да будет вашему величеству угодно, чтобы этот молодой человек, Дэви, вышел из ваших покоев. Он и так провел в них слишком много времени». На смену удивлению пришел ужас. Мария просила, чтобы Риццио предали суду, если он совершил какое-либо преступление, но Рутвен не обратил внимания на ее слова и сказал Дарнли: «Сэр, держите вашу жену, королеву». Мария спросила мужа, знает ли он, что происходит, хотя всё было убийственно ясно, и Дарнли пробормотал, что понятия не имеет. Осознав, что его жизнь в опасности, Риццио забился в оконную нишу, а когда пьяный Рутвен попытался наброситься на него, между ними встал Роберт Стюарт. Рутвен закричал: «Руки прочь от меня, я никому не поддамся!» — и обнажил кинжал.
То был сигнал для остальных заговорщиков — Керра из Фаудонсайда, Патрика Беллендена, Джорджа Дугласа, Томаса Скотта и Генри Иейра. Они ворвались в комнату с оружием в руках, опрокинув стол. Леди Аргайл предотвратила пожар, подхватив и задув свечу, так что страшная сцена освещалась только пламенем камина. В крошечной комнате было теперь тринадцать человек, и Риццио упал на колени, цепляясь за юбки Марии и вопя от страха. Керр отцепил его пальцы от материи одной рукой, в другой же он держал заряженный пистолет, направив его на живот беременной Марии. Риццио спрятался за Марию, но Джордж Дуглас выхватил кинжал у Дарнли из ножен и «ударил его поверх наших плеч». Затем заговорщики выволокли вопящего итальянца из столовой и протащили его через спальню в приемный покой, так что Марию по крайней мере избавили от зрелища самой резни. Крики Риццио: Sauvez та vie, madame, sauvez та vie[67] — быстро прекратились, когда на его тело посыпался град ударов. Риццио получил более пятидесяти ударов кинжалом, прежде чем его обезображенное и окровавленное тело было сброшено с парадной лестницы вниз. Один из привратников снял с него золотые цепи, кольца и даже туфли. В груди покойника по-прежнему торчал кинжал Дарнли.
В столовой Мария и ее гости опасались, что их убьют вслед за Риццио, но Рутвен, подняв одно из перевернутых кресел, сел в него, вытер лоб и попросил принести ему выпить, прежде чем прочесть Марии наставление о том, что не стоит предпочитать фаворитов-иностранцев собственной знати. Мария спросила Дарнли, какое отношение он имеет ко всему случившемуся: «Я взяла вас из низкого сословия и сделала вас своим мужем. Какое преступление я совершила против вас, что вы так опозорили меня?» Дарнли обвинил ее в том, что она изменяла ему с Риццио, не допускала его до своей постели и не давала ему стать господином в собственном доме. Затем Дарнли произнес длинную оправдательную речь, подобие которой, к сожалению, можно услышать и в наше время:
«Вспомните, как вначале вы всегда приходили в мою спальню, приходили до тех пор, пока этот Дэви не стал вам близок. Разве у меня есть телесный недостаток? Или вы обижены на меня? Что я вам сделал, что вы не обращаетесь со мной так же, как раньше? Ведь я готов делать все, что хорошему мужу полагается делать с женой… В день нашей свадьбы вы обещали повиноваться мне, а также сказали, что я буду равен вам и стану участвовать во всех делах. Полагаю, что вы стали вести себя иначе по отношению ко мне по наущению этого Дэви!»
Мария обернулась к Рутвену, ставшему свидетелем этой семейной ссоры, и призвала на его голову гнев всей Европы: короля Франции, кардинала Лотарингского, ее дядей во Франции и даже папы. Рутвен ответил, что он слишком незначителен для таких важных людей. Мария продолжала: «Если я или мое дитя умрем, отвечать за это придется вам». Рутвен неубедительно произнес, что собирался только повесить Риццио и даже принес с собой веревку, но теперь королева — пленница и ее отвезут в замок Стирлинг, где ей предстоит ждать рождения ребенка. Если Марию попытаются освободить, «ее разрежут на кусочки и сбросят с крыши». Рутвену нравилась эта угроза. Мария спросила Дарнли, где его кинжал, и тот ответил, что «точно не знает». «Что ж, — ответила она, — это станет известно потом». Мария также заверила Рутвена и Дарнли: «В моем животе находится тот, кто отомстит за эти жестокости и оскорбления».
Семейная сцена могла бы продолжаться, однако дворец был охвачен смятением и тревогой. Одна из Марий прибежала к королеве с известиями о резне в приемном покое, и та крикнула ей: «Довольно слез! Теперь я буду думать о мести!» Графы Атолл, Босуэлл и Хантли, чьи комнаты находились в восточном крыле дворца, сбежали, «выпрыгнув из окна в маленький сад, где держали львов». Атолл и Летингтон укрылись в замке Атолла неподалеку от Данблейна, а Хантли и Босуэлл бежали в Крайтон, замок Босуэлла в Восточном Лотиане. Зазвонил «общинный колокол» Эдинбурга, и ко внешнему двору прибыл провост с наскоро собранными горожанами, однако Дарнли, свесившийся из окна, прокричал им, что все в порядке.
Затем Дарнли удалился, и Мария, оставшись в одиночестве, оценивала ситуацию. Выйдя замуж за Дарнли, она оттолкнула от себя партию Морея и Аргайла, дошедших до вооруженного восстания. Полагаясь на совет католика-иностранца Риццио, она подтолкнула к убийству партию Мортона и Рутвена. Она знала, что Морей и Аргайл скоро окажутся в Эдинбурге, если уже не приехали туда. Если бы Марии удалось нейтрализовать влияние Дарнли и хотя бы внешне получить контроль над ситуацией, тогда она смогла бы простить мятежников и привлечь их на свою сторону. С их помощью и благодаря советам мудрого Летингтона — которого нигде не было видно — она смогла бы вернуть себе уважение и, при благоприятных обстоятельствах, произвести на свет наследника. Но ее первой задачей было подчинить себе блудного мужа и сбежать из-под стражи, установленной партией Мортона — Рутвена.
Ночью Дарнли написал приказ о роспуске парламента, однако ему было запрещено видеть Марию, ставшую пленницей в собственных покоях. На следующее утро, в воскресенье 10 марта, Мелвилл убедил заговорщиков позволить ему выйти из дворца, чтобы посетить утреннюю службу в церкви Сент-Джайлс. Когда он выходил из ворот, Мария прокричала ему из окна приказ поднять город. Поскольку Дарнли заверил провоста в том, что все в порядке, а народ «был так недоволен правительством, что желал перемен», из этого ничего не вышло.
В тот же день, когда Мария находилась в туалете, леди Хантли подала ей закрытую чашу, однако присутствовавший при этом Патрик Линдси сорвал крышку и обнаружил веревочную лестницу. В последовавшей за этим суматохе Мария передала леди Хантли письмо, излагавшее ее планы. Возникло подозрение, что Мария может попытаться сбежать, переодевшись служанкой, — что было маловероятно для самой высокой женщины во дворце, — и был отдан приказ «не пропускать ни одной дворянки, не сняв с нее вуали».
Втайне заговорщики опасались влияния Марии на Дарнли: «Она убедит вас следовать ее воле и желаниям, ведь она училась этому с юности во Франции», однако она согласилась принять мужа в своей постели, хотя он возражал против присутствия ее придворных дам. Женщин подобающим образом отослали, но в ту ночь Дарнли заснул в собственных покоях и Марии не пришлось спать с ним. Заговорщики отметили, что «король опять обабился», однако у них на руках оставался козырь — Мария была у них в плену.
Мария наконец показала, что во Франции она усвоила политические уловки. Теперь, когда ее собственной жизни и жизни еще нерожденного ребенка угрожала опасность, она употребила их с пользой. Дарнли понятия не имел, что делать дальше, осознав, что отдал себя в руки Мортона и заговорщиков. Если бы его даже и провозгласили королем, он стал бы их марионеткой, но в то воскресенье Мария убедила его, что вместе они справятся с трудностями. Мария имела опыт общения со слабыми принцами, и ей легко удалось убедить Дарнли, играя на его тщеславии и амбициях.
На следующий день, в понедельник 11 марта, Мария вызвала заговорщиков к себе и, к их изумлению, простила им их действия. Морей явился в Эдинбург и ужинал с Мортоном, когда прибыл посланник от Марии, предлагавшей ему прощение. В пронизанной лицемерием сцене они бросились в объятия друг друга, клянясь в вечной любви. Заговорщики понимали, что им следует остерегаться французского шарма Марии, однако были бессильны ему противостоять. Изгнанные мятежники прибыли в Эдинбург, чтобы услышать о своей судьбе от лордов статей[68], однако, поскольку Дарнли распустил парламент, те не были назначены. В любом случае покаяние заговорщиков было излишним. Мария приняла их и даровала им прощение, но прежде чем они успели потребовать компенсации, она сложилась пополам, стеная от боли и крича, что начались роды. Позвали повитуху, которая теперь постоянно находилась во дворце, а джентльменов отослали. Мария также убедила своих тюремщиков, что не может уехать из Холируда до следующего дня, иначе ребенку может угрожать опасность. Будучи мужчинами, приходящими в ужас от всего, связанного с родами, они в смущении дали согласие. Мария, конечно, симулировала родовые схватки.
Однако прежде чем предпринять какие-либо действия, Марии необходимо было оказаться на свободе. Ей было легко убедить Дарнли сопровождать ее, хотя он и попытался уговорить Марию позволить его отцу, графу Ленноксу, ехать с ними. Мария отказалась и послала за капитаном своей гвардии лордом Тракейром, а также за Эрскином и Станденом — двое последних были свидетелями убийства Риццио. Их она попросила организовать ее побег. Ночью Дарнли и она спустились по тайной лестнице, по которой раньше вошли заговорщики, затем проследовали в комнаты слуг, а оттуда в винный погреб. Французский посол сообщал: «Хотя она была беременна, но сбежала по колокольной веревке». История выглядела очень романтичной, однако никто ему не поверил. Прежде чем беглецы добрались до лошадей, им пришлось пройти мимо свежей могилы Риццио. Мария села верхом позади Эрскина, а Тракейр вез на своей лошади одну из Марий, скорее всего — Сетон. За ними последовали другие слуги — на тех лошадях, каких смогли найти. Благодаря усилиям леди Хантли, доставившей тайное письмо Марии, в замке Сетон, в двадцати милях к востоку от Эдинбурга, их ждали сторонники с лошадьми. Увидев в Сетоне солдат, Дарнли сначала испугался и попытался ехать дальше, совершенно игнорируя положение жены. Несмотря на увеличение эскорта, он настоял на том, чтобы пуститься в галоп, жестоко стегая лошадь Марии, и часто отрывался от отряда, теряя из виду беременную жену и остальных беглецов. Когда ему приходилось останавливаться, чтобы дать им возможность нагнать его, он вел себя оскорбительно по отношению к Марии, говоря ей: «Если этот ребенок умрет, у нас будут еще дети!» — а затем опять уезжал вперед один. Мария прекрасно знала, что обычным результатом выкидыша являлась смерть матери, и даже тень привязанности, которая еще оставалась у нее к Дарнли, теперь явно исчезла.
Детали этого путешествия подробно описаны Клодом Но, ставшим в 1575 году секретарем Марии. Он был автором «Истории Марии Стюарт», основанной на рассказах, которые он услышал спустя девять лет после тех событий. Эти детали неизбежно отражали ненависть Марии к ее покойному мужу, поэтому необходимо допустить, что автор позволил себе некоторые преувеличения.
Прибыв в замок Данбар неожиданно рано, спутники Марии разбудили изумленных слуг. Мария сама сварила яйца, и беглецы принялись за завтрак. Мария передала управление замком от лэрда Крейгмиллара, одного из убийц Риццио, графу Босуэллу. Остальные представители знати теперь полностью разочаровались в Дарнли. Клод писал: «Они нашли короля непостоянным, и все жаловались на него. Одни отказывались говорить с ним или общаться с ним; другие (особенно лорд Флеминг) открыто обвиняли его в неподобающем поведении по отношению к королеве, своей жене… Никто из знати не признавал его своим королем».
Мортон и Рутвен бежали в Англию, а бывшие мятежники «Загонного рейда» перешли на сторону Марии, так что 18 марта она оказалась в состоянии выступить к Хаддингтону, где к ней присоединились четыре тысячи человек. На следующий день она отправилась в Масселбург на встречу с Хэмилтонами, Атоллами, Хантли и Босуэллом с их отрядами. В тот же день она вновь заняла Эдинбург, куда ее внесли на носилках четыре аркебузира. Недавние события сделали Холируд нежеланным местом пребывания, а покои в Эдинбургском замке еще не были готовы, так что Мария на первое время остановилась в доме на Хай-стрит, а 28 марта перебралась в замок. Одна из приготовленных для нее комнат имела особое назначение: в ней королеве предстояло родить своего ребенка.
Глава XI
«ОНА ПРЕДПОЧЛА БЫ НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ»
Страна нуждалась в стабильности, и в Тайный совет, возглавляемый Мореем, Аргайлом и Гленкайрном, теперь вошли Босуэлл и Хантли. Дарнли попытался самоутвердиться и посоветовал удалить оттуда Летингтона, который все еще находился под своеобразным домашним арестом, однако Мария немедленно отменила его решение. Дарнли закатил истерику и выбежал из зала, говоря, что впредь будет спать с двумя заряженными пистолетами под подушкой. В ту ночь Мария спокойно отправилась в его спальню, совершенно верно предположив, что Дарнли успеет напиться до бесчувствия, и забрала пистолеты. Она оказала последние почести своему убитому слуге Риццио, приказав перезахоронить его тело по католическому обряду в своей часовне в Холируде.
Наказание за смерть Риццио оказалось на удивление мягким. Томаса Скотта за участие в убийстве повесили, а затем его тело, из которого были извлечены внутренности, четвертовали. Жестокую судьбу Скотта разделил Генри Иейр, который вскоре после смерти Риццио убил монаха-доминиканца, решив, что был подан сигнал ко всеобщей резне. Двое других — мелкие сошки — Маубрей и Харлоу взошли на эшафот и стали свидетелями казней, однако в последнюю минуту получили помилование. Мортон и Рутвен находились теперь в изгнании в Англии: Мортон — в Алнвике, а Рутвен — в Ньюкасле. В мае Рутвен умер, к тому времени став совершенно сумасшедшим: он утверждал, что видит, как перед ним открываются двери рая и сонмы ангелов приветствуют его. В тщетной надежде на примирение мятежные лорды отправили Марии оригинал соглашения, подписанный Дарнли, в котором он давал согласие на участие в заговоре в обмен на брачную корону. Получив неопровержимое доказательство предательства мужа, Мария «так тяжко вздыхала, что ее было больно слышать».
Дарнли теперь находился при дворе, который покинула большая часть его приятелей, понявших, что любой контакт с ним опасен, даже отец обвинял его в крушении всех семейных планов. Удивительно, но Дарнли продолжал ежедневно ходить к мессе и даже обмывал ноги бедных в Чистый четверг. В то же самое время он работал над планом вторжения в Англию — по крайней мере в Скарборо, — что немало повеселило Сесила, шпионы которого легко проникли в компанию окружавших короля неудачников.
В Шотландию в качестве тайного агента был отправлен Кристофер Роксби; он выдавал себя за лидера недовольных английских католиков и стремился заручиться поддержкой Марии для заговора с целью смещения Елизаветы. Роксби был немедленно арестован, и среди его бумаг нашли зашифрованные инструкции Сесила. Однако Мария теперь была полностью поглощена грядущими родами, и дело Роксби было отложено. Сесил, возможно, был готов принести его в жертву ради того, чтобы проверить эффективность контрразведки Марии; позднее будут предприняты новые, более хитроумные попытки вовлечь ее в восстание католиков.
Марии было необходимо видеть свою знать единой и замиренной, ведь она знала, что Дарнли, хотя и находившийся в политической изоляции, попытается использовать рождение наследника — если это окажется мальчик, — чтобы вернуться к власти. Более того: если бы она умерла при родах, а этот риск существовал всегда, могущественный Тайный совет мог позволить Дарнли потребовать корону для себя одного — если бы ребенок оказался девочкой, или не позволить назначить его регентом при сыне — если бы родился мальчик.
Рэндолф, хотя и остававшийся персоной нон грата и официально замещенный Томасом Киллигру, пересказывал слухи о том, что представитель епископа Морейского Джеймс Торнтон отправился в Рим, чтобы начать переговоры о разводе Марии и Дарнли. Трудно понять, какими могли быть основания для развода, разве что тот факт, что Дарнли был внуком бабки Марии Маргарет Тюдор от ее второго брака с графом Энгусом. Конечно, для Святого престола немаловажен был и другой факт: Мария была племянницей кардинала Лотарингского и католической правительницей. Торнтону были даны инструкции посетить Гизов — родственников Марии во Франции, которые помогли бы обосновать апелляцию в Рим. Если бы развод был получен, он мог бы поставить под сомнение законнорожденность ребенка Марии[69] — чрезвычайно важное обстоятельство в том случае, если бы родился мальчик, поэтому задержка с папским решением давала всем время на размышление.
На данный момент Мария могла рассчитывать на единство совета, необходимое для поддержания мира; знатные дворяне разместились либо в замке, либо на квартирах в Эдинбурге. Дарнли был отстранен от власти, и, как сообщал Рэндолф, этот беспокойный супруг собирался отправиться во Фландрию, «чтобы изложить свое дело перед любым государем, который его пожалеет». На самом деле, планируя отъезд из Шотландии, Дарнли продолжал поощрять идею высадки испано-голландской армии в Скарборо, на восточном побережье Англии. Однако когда Мария обустраивалась в личных покоях в замке, не только Шотландия, но и вся Европа на время затаила дыхание. Примечательно, что королева не распустила личную охрану из аркебузиров.
Несмотря на кажущееся спокойствие, Мария на самом деле поддалась одному из постоянно возвращавшихся приступов депрессии. Вероятнее всего, он был спровоцирован осознанием того, что обозначали неотвратимо приближавшиеся роды: ее положением династической матки, обеспечивавшей будущее Шотландии. 18 мая Мария сказала французскому послу Мовиссьеру о своем желании вернуться во Францию: либо на три месяца, чтобы оправиться после родов, либо насовсем, навсегда умыв руки от шотландских дел. Летингтон страстно желал последнего, ведь тогда страна перешла бы под контроль регентского совета. Отсутствие твердой руки и постоянно формирующиеся и видоизменяющиеся альянсы знатных родов становились нестерпимыми. И Мовиссьер, и Сесил сочли желание Марии абсурдным и мимолетным капризом.
Подготовленная для родов маленькая комната находилась в юго-западном крыле того, что сейчас именуют Королевским двором в центре дворцового комплекса; ее единственное окно смотрело на юг с крутого обрыва скалы, на которой стоял замок. От внешнего мира комнату отделяли короткий коридор и две смежные комнаты, обеспечивая уединение. Крайняя серьезность, с какой в то время рассматривались роды, подчеркивается тем, что, как только Мария обосновалась в своих покоях со своими служанками, повитухой Маргарет Астин и кормилицей, она составила завещание. Имелись три копии: одна у самой королевы, другую отправили в Жуанвилль на хранение семье Гизов, а третья должна была оставаться у того, кто захватил бы власть в случае ее смерти.
Завещание начиналось вполне обычным образом: все имущество Мария оставляла своему ребенку. Однако на случай смерти их обоих она дала точные инструкции относительно распределения ее личных драгоценностей. Документ представляет собой просто перечень личных вещей Марии, и против каждого пункта на полях королева указывала, что следовало сделать с каждым предметом. Указания, как и сам список, составлены по-французски и засвидетельствованы Мэри Ливингстон, отвечавшей за королевские драгоценности, и Маргарет Карвуд, самой опытной дамой королевской опочивальни, отвечавшей за постельное белье и кружево. Подпись Маргарет Карвуд выписана с большим трудом: возможно, она была неграмотной. Драгоценность «Большой Генрих», подаренную Марии Генрихом II в день ее свадьбы с Франциском II, следовало включить в состав драгоценностей шотландской короны, а семь самых крупных бриллиантов предполагалось сохранить для будущих королев. Интересны предметы, оставленные Дарили. Всего их двадцать шесть: украшенные драгоценными камнями пуговицы и часы с бриллиантами, часы, полученные от Леннокса, и ее обручальное кольцо с рубином — напротив этого пункта Мария приписала в документе: «С ним я вступила в брак; я оставляю его королю, давшему его мне». Два кольца с рубинами и бриллиантами причитались ее свекру и свекрови — графу и графине Леннокс.
На этом завершается список официальных предметов, остальные в большей степени отражают личные пожелания Марии. Много драгоценностей она оставила своим родственникам Гизам, а также незаконнорожденным Стюартам. Драгоценности причитались леди Джейн Стюарт, графине Аргайл, поймавшей упавшую свечу в ночь убийства Риццио; лорду Джону, другому свидетелю резни; ее сводному брату лорду Джеймсу, теперь графу Морею, и верным королеве дворянам.
Наследство, оставленное четырем Мариям, кажется незначительным, если не считать множества драгоценностей, — в основном это вышивки и расшитое постельное белье. Мэри Ливингстон вышла замуж за Джона Семпилла 6 марта 1564 года, королева присутствовала на ее свадьбе и подарила ей подвенечное платье. Мэри Битон стала женой Александра Огилви из Бойна в мае 1566 года, ей королева оставила свои итальянские и французские книги. Мэри Флеминг выйдет замуж за Летингтона 6 января 1567 года. Мэри Сетон, однако, так и не вышла замуж, оставшись верной своей госпоже, и рассталась с Марией лишь в 1584 году, отправившись в монастырь Сен-Пьер в Реймсе, аббатисой которого по-прежнему оставалась тетка королевы Рене де Гиз. Упоминались в завещании и придворные дамы: графиня Атолл, мадам де Бриант, мадам де Кри, а Эрскину из Блэкгрэнджа, на чьей лошади Мария в ночи скакала в Данбар, должна была достаться брошь с сапфиром и жемчугом. Брату Риццио Джузеппе причитались две драгоценности, а кольцо с изумрудом должно быть отдано человеку, чье имя Мария прошептала ему на ухо. Он так и остался неизвестным. Маргарет Карвуд причитался миниатюрный портрет Марии в оправе из бриллиантов, а также серебряная шкатулка. Постельное белье Марии следовало продать, а деньги поделить между тремя служанками, присматривавшими за ним; посуду и мебель также следовало распродать в пользу привратников, грумов и слуг. Наконец, латинские и греческие книги королевы предназначались Сент-Эндрюсскому университету.
Завещание ясно показывает, по крайней мере, две черты натуры Марии. Во-первых, она принадлежала к семье Гизов и, подобно всем хорошо образованным аристократам, уделяла большое внимание заботе о слугах. Во-вторых, ее присутствие на свадьбах и крестинах слуг доказывает, что она наслаждалась неформальностью семейных праздников, пиров и танцев. Действительно, в окружении своих дам Мария могла вести себя как равная, будь то дни, когда она наряжалась горожанкой, или во время празднования Двенадцатой ночи, когда Мэри Битон нашла в праздничном пироге «боб», а она на одну ночь уступила ей место королевы, — с тех пор Мэри Битон была известна как Бобовая королева. В обществе придворных-мужчин Мария наслаждалась охотой, а во дворце их ждали карты и кости, музыка и пение, а также легкий флирт и осторожные интриги. Королевские обязанности: заключение выгодных для страны союзов, сохранение мира, как того желал народ, забота о благосостоянии нации никогда ее не интересовали, однако у нее был один долг, избежать выполнения которого было невозможно, — брак и рождение ребенка. Катастрофический выбор мужа поставил страну на грань гражданской войны, а теперь Марии предстояло исполнить самую важную династическую обязанность.
Приготовленная для роженицы комната была соответствующим образом убрана, и 3 июня 1566 года Мария перебралась в нее. Началось ожидание. 15 июня случилась ложная тревога и уже было зажженные фейерверки пришлось срочно гасить. Роды у королевы начались 19 июня. Любопытно, что сестра Мэри Флеминг леди Маргарет, графиня Атолл, по слухам, бывшая практикующей ведьмой, наложила защитные чары на Маргарет Битон — леди Рерс, тетку Мэри Битон, лежавшую в соседней комнате и испытывавшую все родовые муки. Симуляция леди Рерс, впрочем, не смогла облегчить страдания Марии, которые «были сильными и длительными». Мария молилась о том, что, если случится худшее, она была бы принесена в жертву ради спасения ребенка. Ей «было так плохо, что она предпочла бы никогда не выходить замуж». Королева была отнюдь не единственной матерью в истории, высказавшей подобное пожелание.
Около десяти утра 19 июня 1566 года Мария родила здорового принца, на лицо его натянулась тонкая «сорочка» — околоплодная мембрана. Это считалось знаком большой удачи и предвещало, что дитя не утонет. Мэри Битон немедленно поспешила из покоев роженицы к Джеймсу Мелвиллу, чтобы сообщить ему новости. Тот сразу направился в Лондон. «Все пушки замка палили, и повсюду запускали фейерверки в великой радости» — но, вероятно, к большому раздражению Марии, желавшей покоя и восстанавливающего силы сна.
Мелвилл провел первую ночь путешествия в Берике, за шесть часов проделав шестьдесят миль, и четыре дня спустя был уже в Лондоне — это примерно сто миль в день, чтобы сообщить новости Сесилу. Елизавета находилась в Гринвичском дворце и проводила время «после ужина в веселии и танцах». Когда ей поведали новости, танцы прекратились, а она села, подперев щеку рукой, и произнесла: «Королева Шотландии разрешилась прекрасным мальчиком, а я — бесплодна!» Даже для Елизаветы, одной из величайших обманщиц, такое замечание было ужасным. Ее плодовитость никогда не подвергалась испытанию, да это и вряд ли было возможно для той, которая поклялась «жить и умереть девственницей», однако она воспользовалась ситуацией, чтобы возбудить сочувствие к себе при получении хороших новостей от другой женщины. Елизавета Тюдор всегда оставалась начеку.
Мелвилл попросил Елизавету быть крестной матерью, на что она согласилась, а затем предположил, что это может стать предлогом для встречи с Марией, «на что она ответила улыбкой». Карл IX Французский также согласился быть крестным, хотя впоследствии оба монарха прислали своих представителей для участия в церемонии. Мелвилл встретился и с Сесилом и сообщил ему, что Мария простила его задело Роксби.
22 июня в Эдинбург прибыл назначенный послом Киллигру. Ему было сказано, что Мария рада ему и примет его, «как только отпустит боль в грудях». Тем временем она распорядилась, чтобы в его покоях поставили кровать с ее собственным покрывалом из алого бархата. Затем новый посол отправился слушать проповедь в обществе Морея, Хантли, Аргайла, Мара и Крауфорда. Он заметил вражду между Аргайлом, Мореем, Атоллом и Маром, с одной стороны, и Босуэллом, Хантли и лордом Максвеллом — с другой. Босуэлл, казалось, пользовался наибольшим доверием королевы. Он вместе с Летингтоном, все еще запятнанным подозрениями относительно соучастия в убийстве Риццио, собирался отправиться во Фландрию. Не требовалось быть гением дипломатии, чтобы понять: в среде лишенной лидера знати назревает новый конфликт.
Через пять дней после родов, 24 июня, Киллигру увидел принца, которого принесла кормилица. Принца «показали обнаженным. Его голова, ноги и руки весьма пропорциональны». Посол говорил с Марией, все еще весьма слабой и отвечавшей сквозь слабое покашливание. Однако для нее худшее было позади. Шотландия теперь имела наследника, Дарнли был оттеснен от престола, а Елизавете следовало понять, что ее преемник уже появился на свет и криком требует молока в Эдинбургском замке. Можно и не упоминать о том, что такую неделикатную мысль, намекавшую на ее смерть, никто не посмел облечь в слова.
Дарнли пришел посмотреть на новорожденного принца в обществе сэра Уильяма Стенли[70], и Мария, знавшая, что Стенли сообщит о ее действиях, заявила, что Дарнли — отец ребенка, которому со временем предстоит объединить королевства Шотландию и Англию. Дарнли понял, что его из этой схемы просто выбросили, и взорвался: «Это ли ваше обещание все простить и забыть?» Мария ответила: «Я простила, но никогда не забуду. Если бы пистолет Фаудонсайда выстрелил, что стало бы с ним (принцем) и со мной?» Дарнли выбежал из зала в безмолвной ярости.
Дарнли понял, что его лишили всякой возможности добиться власти в Шотландии, и поэтому начал альтернативные — притом изменнические — приготовления. Он состоял в переписке с Филиппом II, а также поддерживал контакты с недовольными католиками в Англии, изучал возможность превратить Скарборо в место высадки армии вторжения из Голландии и потребовать себе управление островами Силли. 5 июля он получил заверения в поддержке от своих союзников на островах, а из Скарборо сэр Ричард Семпл писал, что город и его укрепления будут переданы ему по первому требованию. Дома Дарнли вел себя крайне эгоистично, «шляясь по ночам» и требуя не запирать ворота замка, чтобы он, напившись, мог туда вернуться, и его ничуть не заботило, что этим он ставит под угрозу безопасность Марии и принца.
В июле Мария достаточно оправилась от родов, чтобы посетить Ньюхэйвен близ Эдинбурга, а потом отправиться вверх по реке Форт в Эллоа, крепость графа Мара. Там она снова предалась развлечениям на свежем воздухе. Дарнли присоединился к жене, но провел с ней всего несколько часов. В отсутствие Марии в Эдинбурге при дворе неизбежно возникло соперничество. Начиналось восхождение Босуэлла в качестве королевского фаворита, и он быстро превращался в «самого ненавидимого человека среди всей шотландской знати».
Земли Босуэлла в Пограничной марке — основа его власти — были, как всегда, в волнении. 17 июня был убит аббат Келсо[71] — по слухам, ему отрубили руки и ноги. Преступление совершили лэрд Сессфорда и братья лэрда Фернихёрста. Поскольку аббат находился под покровительством Босуэлла — и, очевидно, немало за это платил, — преступление не могло остаться безнаказанным. 28 июня Босуэлл прибыл в Келсо. Там до него дошел слух, что Мария через восемь дней должна прибыть в Джедбург, расположенный в девяти милях. 8 августа поездка в Джедбург «казалась сомнительной», но к 14 августа Мария была в Меггетленде к югу от Пиблса. Она охотилась с Босуэллом, Мореем и Маром и планировала вернуться в Эдинбург, остановившись по пути в доме Джона Стюарта из Тракейра.
Разногласия между Марией и Дарнли усилились, и тот, обидевшись, уехал в Дамферлайн, а оттуда неожиданно нагрянул в Тракейр. Клод Но рассказывает о следующем эпизоде: «Когда все ужинали, король, ее супруг, пригласил королеву поохотиться с ним на оленя. Зная, что, если она согласится, ей придется скакать быстрым галопом, она прошептала ему на ухо, что находится в тягости. Король ответил: “Неважно. Если мы потеряем этого, то сделаем еще одного”. За это лэрд Тракейра резко сказал ему, что такие слова не подобают христианину. Король ответил: “Что? Разве мы не гоняем кобылу, даже если она с жеребенком?”».
Трудно поверить, что события происходили именно так, как описано, однако ясно, что Дарнли прибыл незваным и вел себя вызывающе. Невозможно представить себе, чтобы Мария могла быть беременна всего через два месяца после рождения Якова — причем от мужа, которым она пренебрегала. А если она — более или менее публично — намекала, что ребенок не от него, то вела себя более чем с обычной безответственностью.
По возвращении в Эдинбург Мария, однако, приказала перевезти младенца Якова в полную безопасность замка Стирлинг — традиционное место пребывания королевских детей, где прошло и ее собственное детство. 22 августа двухмесячного наследника осторожно перевезли в замок в сопровождении леди Рерс, причем королевский эскорт включал в себя 500 аркебузиров. Любопытно, что королева не отдавала приказа об отделке детской до 5 сентября, но уж когда это произошло, расходов не пожалели: было закуплено десять мотков золотой нити и столько же серебряной, четырнадцать фунтов перьев для подушек и двадцать восемь фунтов шерсти для матраса. К ним прибавились пятнадцать елей[72] синей шерстяной ткани на покрывало для колыбели, двенадцать елей на одеяла, два гобелена, а также специально изготовленная кровать. Особые кровати надлежало изготовить для леди Рерс и «госпожи кормилицы». За все упомянутое следовало «отчитаться немедленно, потому что все уже заказано и должно быть срочно получено».
Совет Марии теперь объединился, хотя бы только из ненависти к Дарнли. Летингтона полностью простили, и он отчасти примирился с Босуэллом. По сути, единственным облачком на горизонте было все более выходившее из-под контроля поведение Дарнли. Тот отказался приехать в Холируд, пока там находился королевский совет, и довольно прямо намекал на возможность отъезда из страны, но королева убедила его появиться в замке и «допустила его до постели». Поскольку они провели ночь, ссорясь из-за намерения Дарнли удалиться в самовольное изгнание, поспать им так и не удалось. На следующий день Дарнли приказали предстать перед Тайным советом, на котором в присутствии французского посла Филибера дю Крока Мария и советники потребовали от него изложить все свои претензии. Епископ Росский Джон Лесли потребовал, чтобы Дарнли подтвердил или опроверг сообщение о том, что его ждет готовый к отплытию корабль. Результат оказался неожиданным. Дарнли подтвердил существование корабля, объявив, что больше не собирается оставаться в Шотландии, что покинет страну и станет жить за границей. Лорды пришли в негодование от мысли о том, что такой ненадежный человек будет предаваться невообразимым интригам за границей, а Мария, взяв его за руку, спросила, почему он этого желает. Дарнли пробормотал: потому, что не был сделан королем, а затем, ко всеобщему ужасу, не попросив разрешения удалиться, обратился к Марии со словами: «Прощайте, мадам, вы не скоро увидите мое лицо». Потом повернулся к изумленным лордам, сказал: «Прощайте, джентльмены» и выбежал из зала.
Такое поведение сочли бы непростительным где угодно, но оскорбить королеву в присутствии иностранного посла, перед лицом собравшейся знати — знати, которая уже глубоко презирала его, — означало подписать свой смертный приговор. Марию немедленно заверили в поддержке: «Невозможно представить себе, чтобы он смог поднять мятеж, потому что ни один человек в королевстве, дворянин или простолюдин, не испытывает к нему уважения». И совет нашел удовлетворение в том, что направил Екатерине Медичи письмо, предупреждая ее, что лорда Дарнли считают сумасшедшим.
Теперь Мария осознала, что ее собственное, продиктованное детским упрямством стремление поступить вопреки Елизавете заставило ее выйти замуж за Дарнли, а теперь его высокомерное поведение разрывает страну на части. Она была неспособна на решительные действия, а ее совет пока еще оставался единым в силу собственных интересов, но без королевского руководства, придавшего бы его действиям общую цель. Чтобы разрешить проблему Дарнли, стоявшего выше них в иерархии знатности, члены совета нуждались в руководстве и наставлениях королевы, но их-то и не было. Мария понятия не имела, что делать. Она доверилась дю Кроку, сказав ему, что настолько несчастна, что всерьез помышляет о возвращении во Францию, оставив Шотландию под управлением регентского совета, а именно: Морея, Хантли, Мара, Атолла и Босуэлла Это означало бы оставить новорожденного сына и признать, что ее возвращение в Шотландию привело к катастрофическим последствиям. Подобный выход был совершенно неприемлем, диктовался эмоциями и представлял собой не более чем отчаянный крик о помощи женщины, осознающей личную ответственность за создавшуюся ситуацию, но оказавшейся не в состоянии найти способ навести порядок и установить твердое управление.
Как обычно, застигнутая волной несчастий Мария нашла утешение в верховой езде и развлечениях. В Джедбурге должно было состояться заседание разъездного суда[73], и Мария в обществе Морея, Летингтона, Аргайла и Хантли направилась на юг. Разъездные суды спорадически устраивали в королевских городах[74], подобно английским судам по ассизам. Они существовали еще относительно недолго, и монархи порой присутствовали на заседаниях. Разъездные суды также предоставляли совету возможность собраться вне столицы. Судебные заседания продолжались неделю и были прерваны 15 октября, когда Мария в сопровождении Морея и свиты придворных нанесла визит Босуэллу, который был ранен и выздоравливал в своем замке Хэрмитедж.
Босуэлл провел карательный рейд против Эллиотов, которых возглавлял объявленный вне закона Джон Эллиот из Парка. Босуэлл захватил Эллиота, но тому удалось бежать. Босуэлл устремился за ним в погоню и был ранен в голову, грудь и руку, прежде чем ему удалось застрелить Эллиота. Потом Босуэлл потерял сознание от потери крови, слуги нашли его и отвезли в Хэрмитедж, где он теперь выздоравливал, отослав голову Эллиота в Эдинбург.
Босуэлл отныне занимал центральное место в делах Марии, хотя раньше ему говорили, что он никогда не получит от нее никаких пожалований или должностей. Эгоистичный интриган до мозга костей, теперь он превратился в одного из ведущих придворных, непримиримого врага Дарнли и, поскольку ему это было выгодно, фанатичного сторонника Марии. Он был одним из самых интересных мужчин в жизни королевы, а его миниатюрный портрет способен поведать о многом. Босуэлл был хорошо сложен, хотя и невысокого роста, и, судя по описаниям, «обладал сильным телом и красотой, однако его привычки отличались греховной распущенностью». Его прямой взгляд с портрета не оставляет никаких сомнений в том, что он не только ничего не боялся, но и сам был страшен в гневе. Короче говоря, если вы хотите спокойной жизни, не стоит находиться рядом с таким человеком. Жизнь самого графа, как и его предков, отнюдь не была мирной. Его отец, Патрик Хёпберн, соперничал с отцом Дарнли за руку Марии де Гиз, а прочие Хёпберны состояли в «подозрительных связях» с вдовой Якова I[75], а также с Марией Гельдернской, женой Якова II[76]. Владея замками Хэрмитедж, Крайтон, а теперь и Данбар — причем два последних располагались в Лотиане, — Босуэлл мог контролировать территорию Южной Шотландии, одновременно блокируя наступление англичан, а также держать в подчинении Спорные Земли. В одном только Хэрмитедже мог разместиться гарнизон до тысячи человек. Члены семьи Хёпбернов всегда были склонны сначала хвататься за оружие, а уж потом садиться за стол переговоров.
Босуэлл получил хорошее образование, говорил по-французски и на латыни, много путешествовал по Европе, порой едва успевая бежать от неприятностей. Мария встретила его во Франции, куда он бежал от судебного процесса по обвинению в нарушении брачного обещания, инициированного его норвежской любовницей Анной Трондсен. Ему случалось оказываться узником и Эдинбургского замка, и лондонского Тауэра. Одной из его первых любовниц была некая Дженет Битон[77], тетка служившей королеве Мэри Битон; ей был 61 год, она пережила пятерых мужей и имела репутацию самой страшной ведьмы в Шотландии. Какие бы уроки она ни преподала 24-летнему Босуэллу, они скорее касались темных искусств, нежели куртуазной любви. Теперь, счастливо женатый на богатой Джин Гордон — счастливо, потому что Босуэллу вечно не хватало денег, — он по-прежнему завязывал интрижки, более того, занимался любовью с некой дочерью кузнеца Бесси Крауфорд на колокольне Хаддингтонской церкви. Когда королевский кортеж скакал по холмам Пограничного края, придворные не могли удержаться от пересудов по поводу внезапного желания королевы нанести ему визит.
Хэрмитедж находился на расстоянии тридцати миль от Джедбурга, поэтому Мария и ее эскорт добрались туда за один день. Верная своему эффектному стилю, Мария ехала верхом на белой лошади, которая, к несчастью, завязла в болоте и которую пришлось вытаскивать. Болото до сих пор называется «Королевская кобыла». Шестидесятимильная поездка верхом плюс несколько часов, проведенных у постели Босуэлла, — то был поистине долгий день. Мелвилл проехал все расстояние между Эдинбургом и Бериком за день, но он был один и путешествовал по лучшей дороге, чем ухабистые проселки Пограничного края. Подобное приключение в опасной стране навлекало на весь кортеж риск быть похищенными, ограбленными или и того хуже. В Хэрмитедже состоялось импровизированное заседание Тайного совета, придавшее всей поездке некую значимость.
Катастрофа, похоже, разразилась по возвращении в Джедбург: Мария тяжело заболела. Боль в боку, беспокоившая ее со времени родов, резко усилилась и теперь сопровождалась постоянной тошнотой и рвотой — более шестидесяти раз за три дня, — а на третий день Мария потеряла зрение. Немедленно возникло подозрение, что она была отравлена, «в особенности потому, что помимо прочего из ее желудка изверглась некая зеленоватая субстанция, густая и твердая». Мария созвала совет и вверила ему обязанность присматривать за принцем и обеспечить его право наследования, подразумевая, что Дарили попытается потребовать корону себе. Она просила дю Крока рекомендовать принца своему господину, Карлу IX. Затем епископ Росский прочел над ней молитву, а Мария выразила намерение умереть в католической вере. Она также написала второе завещание, включавшее в себя все распоряжения, сделанные перед родами. Тем не менее королева чувствовала, что если сумеет пережить следующий день, то не умрет. Утром она лишилась речи и у нее начались жестокие конвульсии. К ночи у нее подергивались конечности, лицо исказила гримаса, а температура тела упала так низко, что ее слуги сочли ее мертвой. «Граф Морей начал прибирать к рукам самые дорогие ее вещи, такие как серебряная посуда и кольца, были заказаны траурные платья и отданы распоряжения относительно похорон. Однако хирург королевы Арно заметил, что еще есть некоторые признаки жизни в одной из ее рук и… использовал крайние меры в крайних обстоятельствах». Арно туго спеленал ее тело от пальцев ног до головы и заставил ее проглотить немного вина, что слегка восстановило чувствительность. Поскольку этот рассказ основывается на повествовании Клода Но, который не имел причин любить Морея, обвинение в попытке украсть кольца и посуду следует рассматривать с разумной долей скептицизма.
Этот приступ болезни был самым сильным из всех, какие пришлось вынести Марии, но у нее на протяжении всей жизни регулярно случались боли в левом боку, «пониже малых ребер». Приступы часто сопровождались рвотой, а облегчение приносили упражнения на свежем воздухе. Предпринимались многочисленные попытки диагностировать болезнь Марии. Выдвигалось предположение, что под влиянием стрессов у нее развилась язва желудка, а тот факт, что боль возникала в области левой почки, делает более вероятным другой диагноз — хроническое воспаление почек. В любом случае диагноз, основанный на наблюдениях пятисотлетней давности, сделанных ее слугами, вряд ли будет клинически надежным.
Дарнли прибыл в Джедбург в отвратительном настроении, поскольку его не пригласили участвовать в заседании совета. Он провел там всего несколько часов, разместившись в собственных покоях, отдельно от Марии. Ему пришлось позаимствовать постель, предназначавшуюся епископу Оркнейскому. Дю Крок сказал о Дарнли: «Он наделал столько ошибок, что я понятия не имею, как можно добиться за них прощения». Летингтон писал послу в Париже: «Она оказала ему столь великую честь, а он отплатил ей такой черной неблагодарностью и в дурном обращении с ней зашел так далеко, что ее сердце разбивается при мысли о том, что он — ее муж; она не видит никакого способа освободиться от него». Мария была опасно близка к той ситуации, в какой оказался английский король Генрих II, попросивший своих рыцарей избавить его от «этого беспокойного священника»[78] или, в данном случае, мужа.
Босуэлл присутствовал еще на одном заседании совета, состоявшемся до отъезда Марии из Джедбурга, хотя его и пришлось везти туда на носилках. Отъезд Марии был ускорен тем, что в укрепленном доме близ аббатства, в котором она расположилась, случился пожар. Перед тем как покинуть Джедбург, Мария заплатила лютнисту Джону Хьюму 40 шиллингов, а Джон Херон обогатился на четыре шотландских фунта за «игру на свирели и рожке».
Мария продемонстрировала свою удивительную способность быстро оправляться от болезни, организовав королевскую поездку по Пограничному краю и дальше, к восточному побережью. Поездка не обошлась без инцидентов: когда сэр Джон Форстер, попечитель Английской марки, выехал ей навстречу, его конь укусил лошадь Марии в шею, та дернулась, и рыцарь задел ногу королевы своей шпорой. Форстер упал на колени, однако она заверила его, что все в порядке. Королевская вежливость была в крови у Гизов. Процессия достигла Данбара, когда Мария получила известия о том, что Дарнли ведет переписку с Филиппом II Испанским и папой и утверждает, что Мария не проявила особого стремления вернуть католицизм в Шотландию, тогда как он, Дарнли, с их поддержкой организует в стране католическую революцию. Мария доверительно сказала Морею, Хантли и Летингтону, что до тех пор, пока она каким-либо способом «не избавится от короля, у нее не будет спокойного дня. А если она не сможет этого добиться, то скорее наложит на себя руки, нежели продолжит влачить столь несчастное существование». Она написала Елизавете из Данбара, прося ее быть защитницей принца в случае ее смерти, ведь душевное состояние Дарнли, близкое к помешательству, делало убийство Марии вполне реальной перспективой.
В результате 7 ноября 1566 года Елизавета приказала Бедфорду передать Марии следующее: «Мы никогда не позволим и не допустим ничего, что угрожало бы ее правам, и запретим и воспрепятствуем любым попыткам, прямым или косвенным, нанести им ущерб, так что она может быть уверена в нашей дружбе». Главным камнем преткновения на пути Марии к английскому престолу всегда оставалось завещание Генриха VIII, лишавшее наследства всех шотландских претендентов и передававшее корону не им, а семейству Саффолков[79]. Но на завещании, составленном, когда король лежал на смертном одре, не было его личной подписи, на нем стоял оттиск факсимильного штампа, так что Генрих, вполне возможно, вообще никогда этого завещания не видел. Елизавета явно склонялась к тому, чтобы проигнорировать его. Она отказалась ратифицировать Эдинбургский договор, заменив его простым договором о вечной дружбе. То было приемлемое для обеих сторон соглашение. Елизавете не нужно было признавать неизбежность своей смерти без наследника, Мария становилась предполагаемой наследницей, а ее сын оказывался следующим по порядку наследования в обоих королевствах. По сути, в 1566 году был очерчен путь к объединению корон.
Религиозная ситуация в Шотландии находилась в состоянии относительного равновесия, и в октябре Гусман де Сильва сообщал своему господину, Филиппу II, то, что знал о шотландских делах из Лондона: «Мессу служат повсюду, и католики могут свободно ее посещать, а остальные могут служить свои службы, не опасаясь вмешательства». Это утверждение отражало скорее надежды, нежели реальность.
Однако 14 ноября Гусман сообщал:
«Сегодня я получил письмо от королевы Шотландии, датированное 1 ноября; оно было доставлено ее слугой, ехавшим во Францию и Рим. Ему были даны инструкции передать мне, что королева прослышала: ее муж писал Вашему Величеству, папе, королю Франции и кардиналу Лотарингскому о том, что она нетверда в вере, и просила меня заверить Ваше Величество: в отношении религии она, с Божьей помощью, никогда не устанет поддерживать ее со всем рвением и постоянством, которых требует римская католическая религия».
Мария отвергла обвинения Дарнли.
20 ноября Мария прибыла в окрестности Эдинбурга, в замок Крейгмиллар. Там произошло самое противоречивое событие из всех случившихся с ней за время ее короткого пребывания в Шотландии.
Все еще не вполне оправившись, Мария «извергла из себя большое количество испорченной крови и после этого наконец исцелилась». Однако новый визит Дарнли в Крейгмиллар отнюдь не улучшил ее настроения. Она доверилась дю Кроку: «Лучше бы я умерла». Настоящий дипломат, дю Крок переговорил с Дарнли и уверился, что браку приходит конец: «Нанесенное ей оскорбление столь велико, что Ее Величество никогда его не простит. Я не жду улучшения отношений между ними, если только Господь не возьмет дело в свои руки». Шотландская знать была полностью с этим согласна.
Поскольку Мария обозначила проблему: как избавиться от неверно выбранного мужа, ее дворяне взяли на себя задачу придумать решение. Однажды утром в конце ноября Морей и Летингтон обсуждали между собой, как убедить Марию простить Мортона за участие в убийстве Риццио, а также каким образом им устранить Дарнли. Пара посовещалась с Аргайлом, все еще находившимся в постели; придя к общему согласию, они отправили слугу за Хантли. Тот согласился на их предложения, однако в качестве ответной услуги потребовал возвращения ему его земель. С этим решением все четверо нанесли визит Босуэллу, который выступал за развод Марии и Дарнли, будучи убежденным в том, что существует возможность легитимировать сына Марии. Его семья имела долгую историю легитимации незаконных отпрысков. Затем все они затаив дыхание отправились излагать свои планы Марии, которая завтракала после утренней прогулки верхом. Сначала Летингтон предложил, что, если Мария простит Мортона и убийц Риццио, их показаний окажется достаточно для получения развода. В любом случае, учитывая влиятельные связи Марии в Риме, всегда можно было получить развод на основании кровного родства. Мария немедленно ухватила суть, ответив, что все это не должно нанести ущерб правам ее сына. Другими словами, брак нельзя было провозгласить недействительным, поскольку это означало бы сделать принца незаконнорожденным, однако если бы Рим согласился расторгнуть союз на других основаниях, Мария приняла бы это решение. Данный способ решения проблемы был чреват затруднениями, поэтому обсудили и более надежный план. Однако все участники понимали: поскольку Дарнли — король, его нельзя судить за измену, ведь он просто приводил в исполнение свои намерения. Возможно, он бы и согласился отправиться в более или менее вынужденную ссылку, но его непредсказуемость делала такой выход маловероятным. Затем Летингтон сказал, что есть и третье решение, о котором они все хорошо знали, однако не смели говорить. Летингтон просто сказал о «прочих средствах», на что Морей начал было возражать, но его убедили посмотреть на них «сквозь пальцы». Мария прекрасно знала, что имеется в виду, и произнесла лишь, что надеется: «ее честь не понесет ущерба». Королева знала, что «прочие средства» означают насилие и, скорее всего, убийство, однако просто попросила, чтобы ее не впутывали в это дело. Услышав от Марии эту слабую оговорку, Летингтон понял, что решение может быть претворено в жизнь. Он заверил Марию: «Позвольте нам управиться с этим делом, и ваша милость увидит лишь благие последствия, одобренные парламентом». Совет знал, что получил carte blanche на убийство короля, однако необходимо было удостовериться, что Мария не ведает ни о каких деталях заговора. Советники также знали, как хорошо королева умеет игнорировать все то, что ей неудобно. Летингтон, Босуэлл, Аргайл и Хантли вместе с сэром Джеймсом Бэлфуром, получившим юридическое образование, составили осторожно сформулированный документ, впоследствии подписанный и Мортоном, в котором давали клятву: «Он [Дарнли] должен быть устранен, и кто бы ни взял дело в свои руки, остальные обязываются защищать и поддерживать его, как если бы они сами это сделали». То было печально известное Крейгмилларское соглашение.
Впоследствии не подписавший соглашения Морей утверждал, что, хотя и присутствовал при его составлении, не давал своего явного согласия, а Хантли и Атолл твердо стояли на том, что Мария ничего не знала о деталях плана. Летингтон и остальные оберегали ее неведение, но она прекрасно знала, что скоро станет вдовой во второй раз. Существует правовая максима: Qui tacet consentit — «Тот, кто молчит, соглашается», а Мария, безусловно, хранила молчание.
В декабре все внимание Марии занимали приготовления к крестинам принца. Елизавета отправила в Шотландию графа Бедфорда в сопровождении сорока всадников. 25 ноября граф добрался до Донкастера; 3 декабря он находился в Берике, ожидая от Марии приглашения на аудиенцию. Он привез с собой украшенную эмалью золотую купель стоимостью в тысячу фунтов в качестве подарка Елизаветы младенцу, имя которого все еще оставляло место полету фантазии. Приглашение Бедфорду прибыло через два дня, поскольку церемонию отложили из-за опоздания дю Крока, теперь выступавшего в роли представителя герцога Савойского. Францию представлял граф де Бриенн. Честь встречать иностранных послов была доверена Босуэллу. Карл IX послал в подарок ожерелье из жемчужин и рубинов и великолепные серьги, а герцог Савойский подарил усыпанный драгоценностями веер стоимостью в четыре тысячи крон.
Крестины должны были стать для Марии прекрасным шансом продемонстрировать предполагаемое единство ее королевства, а также непрерывность рода Стюартов. Это также был последний всплеск того великолепия, которое она еще девочкой видела при дворе Генриха II. Мария распланировала церемонию с вдумчивостью Гизов, однако у нее не было их дохода, и крестины вынудили ее занять у эдинбургских купцов 12 тысяч шотландских фунтов, а потом — впервые за все царствование — ввести особый налог.
Крестины состоялись 17 ноября в Королевской капелле замка Стирлинг. Принцу было шесть месяцев — больше, чем положено для католического крещения, но всевозможные волнения при дворе вызвали неизбежные проволочки. Младенец находился в особых покоях, окруженный собственной свитой под руководством воспитателя — графа Мара и его жены, назначенной гувернанткой. Гардероб принца находился в ведении Элисон Синклер, а колыбель качали пять благородных дам, пока принца убаюкивал его личный музыкант. Нет доказательств тому, что Элисон Синклер была дочерью Дженет Синклер — няни Марии, но, если это так, возникает очаровательная параллель. В пять вечера принца отнес в капеллу граф де Бриенн, выступавший в роли личного представителя Карла IX; его сопровождала графиня Аргайл, представлявшая королеву Елизавету. Бароны и нетитулованная знать выстроились вдоль коридоров замка на всем пути от покоев принца до часовни, все с зажженными свечами, непосредственно напоминавшими о крещении Франциска II в Фонтенбло. У дверей капеллы процессию встретил архиепископ Сент-Эндрюсский в сопровождении Уильяма Чизхолма, епископа Данбланского, Роберта Крайтона, епископа Данкелдского, и Джона Лесли, епископа Росского, а также всего клира Королевской капеллы в полном облачении. Принц был крещен как Яков Карл Стюарт, причем имя Яков указывало на принадлежность к роду Стюартов, а имя Карл отдавало честь крестному — королю Франции Карлу IX. Яков был провозглашен принцем и лордом-стюардом Шотландии, графом Кэрриком, лордом островов и бароном Ренфру. По просьбе Марии в ходе церемонии была опущена та часть обряда, когда священник плюет в рот младенца, но в остальном все было совершено со всей пышностью, свойственной католической церкви. На самом деле трудно было найти католических лордов подходящего ранга для участия в церемонии.
Хантли, Морей, Босуэлл и Бедфорд — все протестанты — не присутствовали на службе, но стояли снаружи, у дверей капеллы. Они, однако, присутствовали на последовавшем за ней торжественном пире, во время которого Морей разрезал мясо, а Хантли был кравчим; за пир отвечал граф Босуэлл. Даже пир оказался пронизан безошибочно распознаваемыми политическими намеками, поскольку были приняты меры к тому, чтобы католики прислуживали протестантам и наоборот. «Там много танцевали и веселились», а Бедфорда убедили в том, что его слуги тоже должны принять участие в развлечениях, тем самым показывая, что Англия празднует наравне с Шотландией. На следующий день состоялся турнир, а на 19 декабря пришелся пик празднеств, ознаменовавшийся новым пиром. Еду подавали на круглом столе нимфы и сатиры, помещенные на подвижную платформу. Наряженный ангелом ребенок был спущен из-под потолка на веревке, он продекламировал латинское стихотворение Патрика Адамсона, заканчивавшееся триумфальным утверждением, что «корона Марии ожидает ее внуков». К несчастью, механизм, крутивший платформу, сломался в разгар пира и остальные блюда подавали обычным образом.
Вечером того же дня празднование продолжалось на эспланаде замка, где возвели макет крепости. Там были горцы, одетые в козлиные шкуры и метавшие огненные шары, демоны и мавры в овечьих шкурах, атаковавшие крепость с огненными мечами в руках. Солдаты защищали крепость от всех пришельцев, и она осталась неприступной. После этого запустили фейерверки. Их заранее, на протяжении семи предшествовавших дней, тайно разместили в стенах и среди камней под руководством командующего королевской артиллерией. Мария устраивала подобное представление, хотя и в меньшем масштабе, по случаю свадьбы лорда Флеминга в 1562 году. Тогда в Дансаппи-Лох близ Холируда было разыграно морское сражение с фейерверками и артиллерийскими залпами. На этот раз Бедфорд мог сообщить в Англию, что был свидетелем «фейерверков, артиллерийской канонады и прочих зрелищ, приятных человеческому глазу». Он, впрочем, был оскорблен одним из представлений — масок, — придуманным слугой Марии Себастьяном Паже. В ходе представления мужчины, наряженные сатирами, намеренно трясли своими хвостами, указывая на англичан, а шотландцы при этом закатывались от смеха. Поскольку англичане знали о традиционной шотландской (и французской) шутке — у англичан есть хвосты, — представление задумывалось, чтобы их шокировать. Хаттон, один из членов свиты английского посла, сказал Мелвиллу, что «если бы не присутствие королевы, он вонзил бы кинжал в сердце этого негодяя-француза Себастьяна». Но это был всего лишь незначительный эпизод в ходе трехдневного праздника.
Крестины оказались успешными, а Мария «вела себя великолепно» и развлекала «всех благородных гостей самым наилучшим образом», хотя почти все время испытывала боль: незадолго до этого она во время поездки верхом поранила грудь, которая теперь распухла. Хотя то, что символизировал праздник, и было полной иллюзией, а верность всех шотландских дворян короне Стюартов — не более чем пропагандистской уловкой, по своей роскоши и великолепию он, безусловно, приближался к триумфам Валуа, и Мария знала: дяди полностью одобрили бы его. Тот факт, что праздник поверг корону в долги и привел к росту налогов, не имел значения, а утрата гобелена и турецкого ковра, обнаружившаяся при составлении инвентарных описей, была совершенно не важна.
Дарнли не присутствовал на празднике. «В своей нерешительности он не знал, появиться ли ему на крестинах или же отправиться к отцу в Глазго. На самом деле Дарнли дулся в своих покоях в Стирлинге, куда пригласил для аудиенции дю Крока. Господин последнего недвусмысленно приказал ему воздержаться от подобных визитов. Однако посол посетил Дарнли и рассказал об одной из причин, по которой король не желал появляться на публике: “Его дурное поведение неисцелимо, и от него не стоит ждать ничего хорошего по причинам, о которых я расскажу вам лично”». В реальности Дарнли перешел от второй к третьей стадии сифилиса, хотя его болезнь придворные обычно прикрывали эвфемизмом «ветрянка».
Болезнь Дарнли стала очевидной с момента его прибытия в Шотландию, где ее назвали «корью». На той стадии у него во рту должны были образоваться гнойники, а дыхание стать поистине зловонным. «Сыпь» представляла собой гнойники, или «гуммы»; и только из высочайшего чувства долга Мария могла позволить себе забеременеть от него. Ей повезло, что она сама не заразилась. Когда дю Крок посетил Дарнли, тот проходил курс лечения ртутью и медицинскими ваннами с водой, насыщенной парами сероводорода. Дю Крок отметил, что король потерял почти все зубы и волосы, а ртутные лекарства вызывали повышенное слюноотделение — другими словами, у него изо рта капала слюна. Если бы младенец Яков умер, королевская чета не сумела бы произвести на свет его брата, чтобы обеспечить наследование престола.
Глава XII
ДУРНОЕ ДЕЛО
В канун Рождества 1566 года Мария даровала королевское прощение Мортону и другим участникам заговора против Риццио, распространив свое милосердие даже на Керра из Фаудонсайда, наставлявшего пистолет на ее живот. Прощения не получили Джордж Дуглас и Эндрю Мар, хотя в Крейгмилларе лорды просили ее простить всех. Они обещали освободить ее от Дарнли «прочими средствами» после того, как заговорщикам будет оказана милость, и теперь, хотя прощение и оказалось частичным, чувствовали себя связанными торжественным обязательством выполнить свою часть сделки. Впрочем, Мария вряд ли понимала, что после дарования ею прощения заговорщикам вступает в силу Крейгмилларское соглашение.
10 января Мортон был в Бервике, откуда написал Сесилу, благодаря его за благородное поведение по отношению к нему, пока он находился в изгнании. Его послание выглядит как записка, отосланная хозяйке дома с благодарностью за приятный уик-энд, проведенный в загородном поместье.
2 января 1567 года Мария написала Елизавете, благодаря ее за то, что она решилась подвергнуть исследованию «предполагаемое» завещание Генриха VIII, и обещая отправить к ней членов своего совета для переговоров по данному делу. Мария поблагодарила Бедфорда за его приезд и подарила ему золотую с бриллиантами цепь стоимостью две тысячи крон. Можно предположить, что с дю Кроком и де Бриенном обошлись столь же щедро. Мария прекрасно знала о неудачных интригах Дарнли, в том числе и о его безумном плане захватить власть, собрав во Франции армию вторжения. Хотя теперь король перебрался в дом своего отца в Глазго, истерически утверждая, что его отравили, он по-прежнему находился в опасной близости от замка Стирлинг и принца Якова. Поэтому королева вздохнула с облегчением, когда 14 января свита Якова прибыла в Холируд, доставив принца к матери, под ее защиту и покровительство.
Теперь Дарнли был изолирован, и королева, казалось, поступала согласно планам заговорщиков, начавших приводить в действие Крейгмилларское соглашение.
Арчибальду Дугласу, брату Мортона и родственнику Босуэлла, принадлежал замок Уиттинхэм у самого Данбара. Именно туда 14 января 1567 года и прибыл Мортон для встречи с Босуэллом и Летингтоном. Там они пришли к соглашению относительно деталей убийства Дарнли. Лорды также понимали, что Марии скоро исполнится двадцать пять лет и она, согласно действующим шотландским законам, в день своего рождения может отменить все сделанные ею ранее земельные пожалования. Поощряемая Дарнли, она могла бы отменить все пожалования протестантам, однако теперь у них появилась возможность устранить угрозу своему благосостоянию, выполнив не произнесенное вслух пожелание своей королевы.
Мария отправила собственного врача лечить Дарнли, прекрасно осознавая, что на западе усиливается соперничавшее с ее собственной властью могущество Ленноксов. Провост Глазго Уильям Хейгейт привез ей известия о заговоре Дарнли, ставившем целью захватить принца Якова и провозгласить себя регентом, отправив Марию в тюрьму. Поэтому королеве было выгоднее держать Дарнли в Эдинбурге под постоянным надзором. В сопровождении Босуэлла и Хантли она отправилась в Глазго. Подобный эскорт был необходим, ведь Дарнли, находившийся теперь в наследственных землях Ленноксов, мог попытаться совершить переворот. Понимая, что присутствие графов в Глазго может быть истолковано как враждебное действие, лорды проводили королеву до Крейгмиллара, а последний этап путешествия был проделан под охраной Шательро, поскольку владения клана Хэмилтонов располагались неподалеку. Мария взяла с собой и собственную охрану — алебардщиков.
В Глазго Марию встретил слуга Дарнли Томас Крауфорд и сказал ей, что граф Леннокс опасается встречаться с королевой лично после «резких слов», произнесенных в Стирлинге. Мария ответила, что «против страха нет лекарства». Она и Дарнли встретились 25 января. Дарнли был прикован к постели, а при приближении к нему чувствовалась отвратительная вонь. Маска из тафты прикрывала его лицо, от которого отвалились куски сгнившей плоти, от носа почти ничего не осталось. Он смиренно молил Марию: «Я все еще очень молод (мне всего двадцать лет), и вы готовы сказать, что уже много раз меня прощали. Но разве человек моего возраста не может при отсутствии доброго совета, а его я полностью лишен, пасть дважды или трижды, но затем покаяться и обрести мудрость в своем опыте?.. Я не хочу ничего другого, кроме как жить с вами как муж с женой». Мария допросила его относительно обвинений Хейгейта, и Дарнли ответил, что узнал о некоем соглашении, заключенном в Крейгмилларе, и боится, что его зарежут во сне. Мария проигнорировала эти слова и обещала, что, когда он оправится от болезни, они снова станут «делить стол и постель», а она лично будет делать ему сероводородные ванны, когда они поселятся в Крейгмилларе. В конце концов тщеславие Дарнли одержало победу над здравым смыслом, и он согласился на предложение Марии. Позднее в частной беседе Крауфорд сказал ему, что теперь он будет не свободным человеком, а скорее пленником.
Дарнли прибыл в Эдинбург 31 января после длительной поездки, в ходе которой его везли на конных носилках. Он немедленно начал жаловаться, что Крейгмиллар находится слишком далеко от столицы — расстояние составляло три мили, — а в Холируде было слишком сыро. Босуэлл тут же предложил превосходный выход из положения: дом на Кирк-о-Филд был свободен и Дарнли мог поселиться там. Король, знавший, что у Шательро есть дом в окрестностях Кирк-о-Филд, решил, что его поселят именно в нем, и сразу согласился. Его предположение оказалось неверным. Дом, о котором шла речь, принадлежал Роберту Балфуру, брату сэра Джеймса Балфура, который составил Крейгмилларское соглашение. Дом служил Босуэллу, а сам Роберт Балфур разместился в соседнем доме. Смотрителем дома был Хёпберн из Болтона, родственник Босуэлла, и, разместив Дарнли и свиту, он немедленно сделал дубликаты всех четырнадцати ключей от дома и покоев. Дарнли легкомысленно оказался во власти Босуэлла, так что появилась возможность приступить к последней части заговора.
События следующих нескольких дней исследовались и обсуждались так часто, как ни одно другое историческое событие, за исключением, может быть, убийства президента США Кеннеди в 1963 году. Не существует беспристрастных показаний, а все свидетели, многие из которых заговорили только под пыткой, были полны решимости избегать упоминаний о каком-либо личном соучастии.
Кирк-о-Филд являлся резиденцией настоятеля церкви Сент-Мэри-ин-де-Филдс (Святой Марии в полях). Перед церковью был квадратный двор, за ней — небольшой сад, а дом настоятеля находился в его юго-западной части и соседствовал с владениями сэра Джеймса Балфура. Это было двухэтажное здание с большим приемным покоем, или залом, на первом этаже, дверь из которого вела в меньшую комнату, иногда использовавшуюся в качестве спальни. Под ней находился винный погреб. Небольшая винтовая лестница вела на второй этаж, в коридор которого выходили двери двух маленьких комнат для слуг и, с восточной стороны, большей комнаты размером шестнадцать на двенадцать футов. Эту комнату и занял Дарнли. Ее окно выходило на городскую стену и переулок, именовавшийся Воровским. Постель Дарнли стояла у противоположной стены, а чтобы сдержать распространение запаха сероводорода, ванна была накрыта дверью, которую для этого специально сняли с петель в другой комнате. Убранство завершали небольшой турецкий ковер на полу, подушки, стол и стул, стены прикрывали несколько гобеленов; одни изображали сцены охоты на кроликов, другие — победу над Гордонами при Корричи, словом, все выглядело довольно примитивно. На первом этаже в комнате, находившейся непосредственно под спальней Дарнли, Николя Юбер по приказу Маргарет Карвуд поставил небольшую кровать, обитую желто-зеленым бархатом и застланную меховым покрывалом. В этой комнате в пятницу 7 февраля и субботу 8 февраля спала Мария. Она проводила время с мужем или леди Рерс, порой напевала для Дарнли в саду, под его окнами, поскольку ее, по всей видимости, изгоняло из спальни сочетание запаха сероводорода и тела самого больного. Пока Мария проводила ночи в Кирк-о-Филд, Дарнли был в безопасности. Однако убийцы знали, что 9 февраля Мария собиралась посетить свадьбу своего слуги Себастьяна Паже и одной из своих дам — Кристины Хогг. Поэтому в ту ночь Дарнли должен был остаться практически один: все его слуги — Джордж Далглиш, Уильям Поури, Джеймс и Хоб Ормистоны, а также Патрик Уилсон — получили плату от Босуэлла, а Джон Хёпберн и Джон Хэй приходились ему родственниками. Камердинер Дарнли Уильям Тейлор спал в его комнате на полу, двое личных слуг — Томас Нелсон и Эдвард Саймондс — у двери в коридоре. Кроме них в доме оставались только прислуживавший Тейлору мальчик и два грума. Сейчас, прежде чем улучшение в ходе болезни позволило бы ему вернуться в Холируд, Дарнли был наиболее уязвим. Предвидя такую возможность, сэр Джеймс Балфур купил пороха на 60 шотландских фунтов; этот порох был размещен в находившемся рядом доме его брата. Порох в качестве орудия убийства давал возможность совершить его, не находясь непосредственно на месте преступления — насколько это позволяли технологии того времени.
В субботу, 9 февраля Дарнли пребывал в отличном настроении. Его гнойники исчезли, и он считал себя излечившимся, хотя на самом деле болезнь просто достигла очередной стадии. Однако королю больше не нужно было принимать сероводородные ванны, и он предвкушал возвращение в Холируд. Таким образом, у заговорщиков оставался последний шанс добраться до него. Мария тоже была в хорошем настроении, поскольку это был последний день перед Великим постом. Утром Мария, подарившая невесте подвенечное платье, присутствовала на венчании Себастьяна и Кристины и удалилась, обещав вернуться на свадебный пир позднее. В четыре часа дня она была на официальном обеде, данном епископом Аргайлским в честь отбывавшего на родину савойского посла Моретты. Затем около восьми часов Мария в сопровождении Босуэлла, Аргайла и Хантли посетила Дарнли. Позднее она сдержит обещание и посетит свадебный пир, и некоторые источники утверждают, что она прибыла в Кирк-о-Филд в маскарадном костюме. Примечательно, что в этот момент Морею пришлось срочно вернуться в свой дом в Сент-Эндрюсе к жене, незадолго до того пережившей выкидыш. Находясь на пароме, пересекавшем реку Форт, Морей сказал стоявшему рядом с ним лорду Херрису и другим спутникам: «В эту ночь король расстанется с жизнью». У Летингтона оказалась не менее срочная работа во дворце, а Мортон все еще должен был соблюдать комендантский час — то было одним из условий его прощения. Таким образом, алиби были тщательно подготовлены.
Мария провела вечер с Дарнли, а ее дворяне в это время играли в карты и кости. В комнате на первом этаже постель королевы сдвинули с места, а Уильям Гаури перенес порох из дома Балфура и поместил его непосредственно под комнатой Дарнли. Чтобы добиться наибольшего разрушительного эффекта, порох нужно воспламенить в замкнутом пространстве.
Похоже, что заговорщики использовали кожаные сумки. За работой наблюдал Джеймс Куллен, солдат-наемник из Эдинбургского замка, имевший большой опыт обращения с боеприпасами. После того как дело было завершено, Марии напомнили, что она обещала посетить свадебный пир Себастьяна, и королева начала готовиться к отъезду. Она нежно поговорила с Дарнли, который выказывал ей свою привязанность на протяжении всего вечера и, к ужасу заговорщиков, умолял ее остаться. К их великому облегчению, Мария пожелала ему спокойной ночи, подарила кольцо и обещала допустить в свою постель на следующую ночь. Когда она вышла из дома во двор, то встретила там своего французского пажа Николя Юбера по прозвищу Французский Парис, который весь перемазался в порохе, и воскликнула: «О Господи, Парис, как же ты перемазался!» В этот момент Мария была опасно близка к тому, чтобы признать: она понимает, что происходит, однако сразу после этого эпизода она ускакала на свадьбу и приняла участие в слегка неприличной церемонии укладывания новобрачной в постель. После полуночи Мария уже благополучно спала в своей спальне в Холируде.
В доме на Кирк-о-Филд Дарнли продолжал напиваться в компании Уильяма Тейлора, а потом тоже отправился в постель. Тейлор, как обычно, заснул на полу в спальне короля. Однако не все в доме спали: Хэй и Хёпберн несли стражу на первом этаже, рядом с запасами пороха.
Картину того, что произошло потом, можно составить из отрывков различных сообщений, которые подозрительно схожи в одном: практически все они обвиняют Босуэлла. Около двух часов утра к стенам Кирк-о-Филд по приказу Мортона и Босуэлла прибыл Кер из Фаудонсайда с отрядом вооруженных людей. Сад к тому времени уже заполнили люди, приведенные Арчибальдом Дугласом, все с факелами — ночь была безлунной — и хорошо вооруженные. Дугласы были родственниками Босуэлла, и именно в Уиттинхэме, замке Арчибальда Дугласа, были согласованы последние детали. Прибытие этих людей отнюдь не было бесшумным и разбудило двух местных домохозяек — Барбару Мартин и Маргарет Крокетт, которые впоследствии показали под присягой, что видели, как тринадцать мужчин прошли через Каугейт. Шум разбудил и Дарнли, и Уильяма Тейлора, которые догадались, что им грозит опасность, и попытались бежать. Поняв, что если они выйдут из парадной двери, то окажутся в руках Дугласа и его людей, они вылезли из окна, причем Дарнли по-прежнему был одет в ночную рубашку, но завернулся в меховое покрывало. Мужчины использовали сооружение из веревки и стула, чтобы спуститься на шестнадцать футов по стене, а затем взяли веревку и стул с собой, чтобы перебраться через стену сада. Именно когда они перелезали через дальнюю стену сада в Воровской переулок, их и заметили люди Дугласа. Беглецов быстро схватили и задушили на месте. Но даже если бы Дарнли и Тейлору удалось перебраться через стену, они бы оказались в засаде, устроенной Кером из Фаудонсайда и его людьми. Нападавшие, возможно, и не ведали, кого убили, хотя Дарнли, похоже, узнал ливрею Дугласов из Уиттинхэма. Сам Дуглас сначала не знал, что обоих беглецов убили. В любом случае в первый момент он мог решить, что убитые были простыми слугами.
Примерно в то же время Босуэлл и два его друга покинули Холируд и пошли по Хай-стрит, идущей параллельно Каугейт. Затем они вошли в пределы Эдинбурга через Незербоу Гейт, спустились по Блэкфрайарс Винд, пересекли Каугейт и пришли к Кикр-о-Филд. Они появились там сразу после того, как задушили Дарнли. Подойдя к дому, Босуэлл нашел у дверей Хэя и Хёпберна. Заговорщики подожгли запал, заперли двери дома и быстро отступили во двор. Спустя некоторое время Босуэлл решил, что запал потух, и уже собирался войти в дом, чтобы проверить его, но Хёпберн вовремя остановил его: в этот момент порох под опустевшей спальней взорвался.
«Там ничего не осталось, все разметало по сторонам и разорвало в клочья, не только крышу и полы, но и стены до самого фундамента, так что на месте не было ни одно камня». Все было «разрушено». На самом деле людям Дугласа повезло — они не были ранены разлетевшимися по сторонам камнями, пока отъезжали в безопасное место; именно тогда их опять заметили две домохозяйки, назвавшие их изменниками и решившие, что те занимались каким-то «дурным делом». В своих показаниях добрые женщины также утверждали, что слышали, как Дарнли умолял своих родственников о милосердии (ведь Дугласы были его родственниками). Когда эти женщины, единственные беспристрастные свидетельницы, давали свои показания, «у них вырвались слова, которых дознаватели не ожидали и отвергли как поспешные и глупые».
Что до прочих обитателей дома, то двое слуг, спавших в коридоре, — Нелсон и Саймондс — похоже, последовали за Дарнли и Тейлором и тоже вылезли из окна, возможно, услышав, как закрыли двери. Нелсон был жив и здоров, на полпути к городу, когда его обнаружили. Двух других слуг нашли мертвыми среди обломков, но все остальные остались живы. Дарнли был мертв, однако для этого взрыв оказался не нужен.
Взрыв, сравнимый с «залпом 25 или 30 пушек, перебудил весь город», и люди устремились на место преступления, где осевшая пыль обнажила размеры разрушений. Неподалеку обнаружили капитана Уильяма Блэкедерра, сторонника Босуэлла; его немедленно арестовали, однако освободили, когда выяснилось, что он был всего лишь ночным гулякой, возвращавшимся домой после попойки неподалеку от Трона, общедоступного подвесного моста. Босуэлла, как шерифа Эдинбурга, призвали заняться расследованием. В своих сомнительных показаниях, данных в 1568 году, он утверждал, что был тогда в постели с женой, «своей первой принцессой, сестрой графа Хантли». В своей биографии Марии Стюарт Антония Фрейзер мудро указывает, что к подобному алиби питали пристрастие преступники всех времен. Босуэлл устроил так, чтобы тело Дарнли осмотрели те члены Тайного совета, которые тогда находились в Эдинбурге, — почти все они принимали участие в заговоре, — но иностранным послам, которые просили разрешения взглянуть на тело, было в этом отказано. Тело перевезли в Холируд; там Мария заплатила 42 фунта 6 шиллингов за его бальзамирование. Мария «не выказала никаких признаков, по которым можно было бы судить о глубоких чувствах, таившихся в ее сердце». 15 февраля 1567 года Дарнли похоронили в Холирудском аббатстве рядом с Яковом V и отслужили погребальную мессу. Для Марии начался сорокадневный траур, и по соображениям безопасности она вернулась в Эдинбургский замок.
На самом деле Мария была потрясена вполне предсказуемыми результатами Крейгмилларского соглашения и, издав прокламацию, в которой за информацию об убийстве предлагалось две тысячи шотландских фунтов и пожизненная пенсия, не знала, что делать дальше. Находясь практически в состоянии шока, 12 февраля, во вторник после убийства, она посетила свадьбу дамы своей опочивальни Маргарет Карвуд. Затем она направилась в Сетон, где сумела забыться настолько, что приняла участие в соревновании лучников на стороне Босуэлла против Хантли и Сетона. Последние проиграли состязание, и им пришлось заплатить за обед победителей в соседнем городке Транент.
Сразу после убийства не были произведены аресты, и «Хроника повседневных событий» сообщала: «Говорили, что на это изменническое деяние, подобного которому никогда не случалось в королевстве, дали согласие многие знатные люди. Граф Босуэлл был ближе королеве, нежели то дозволяла честь». В июне 1567 года были собраны свидетельские показания, тогда официально допросили и основных подозреваемых. Всех подвергли серьезным пыткам, и показания их приобрели подозрительное сходство. В них утверждалось, что Босуэлл привез порох из Данбара и разместил его в своих покоях в Холируде. На самом деле порох купил Балфур, а поскольку в его доме, расположенном рядом с домом настоятеля, имелся отличный винный погреб, его наверняка хранили там. Хэй показал, что Босуэлл приказал ему быть готовым 7 февраля, а потом — что он, Гаури, Хёпберн и оба Ормистона получили от графа указания в четыре утра 9 февраля; в десять утра порох переместили в дом на Кирк-о-Филд, перевезя его на лошадях в «больших седельных сумках». Затем Босуэлл оставил Дарнли и вернулся во дворец, чтобы сменить свои одежды, расшитые серебром, на более практичный черный бархат. Люди видели, как он входил в Эдинбург через ворота Незербоу, так что, по крайней мере, эта деталь «показаний» соответствовала истине. Далее утверждалось, что Босуэлл лично наблюдал, как порох в бочонках переносили в комнату под спальней Дарнли, хотя согласно одной из версий порох находился в больших бочонках, которые не проходили через двери, так что его пришлось пересыпать. Однако Мария увидела Французского Париса с перепачканным лицом, когда вместе с Босуэллом покидала дом вечером 9 февраля, так что порох должен был быть перенесен раньше. Все версии сходились на том, что порох насыпали горой на полу. Однако в таком состоянии порох легко-воспламеним, но не взрывоопасен. Чтобы вызвать взрыв такой разрушительной силы, порох должен был быть упакован в небольшие сумки наемником Джеймсом Кулленом. Затем Хёпберн поджег запал, запер дверь и присоединился к Босуэллу в саду, где они и оставались, пока не произошел взрыв. После этого заговорщики разошлись в разные стороны; по дороге домой, в Лит, Хёпберн обронил копию ключей у ближайшего колодца, Кварри Хоул. Босуэлла заметила дворцовая стража; он, однако, уверил их, что является «другом лорда Босуэлла», и его пропустили. Потом он отправился в постель в своих покоях в Холирудском замке. Через полчаса его поднял дворцовый страж Джордж Хэкетт, принесший известие: «Короля взорвали. Король мертв!» Показания Французского Париса от 9 августа 1569 года и Ормистона от 13 декабря 1573 года подтверждают эти невероятные рассказы. Специалист по взрывчатке Куллен был допрошен и подтвердил слова остальных, после чего ему позволили бежать.
Правдоподобие практически не имело значения, так как все показания без исключений возлагали вину на Босуэлла; ни один другой представитель знати не был упомянут. Из добытых показаний явно вытекало, что Босуэлл действовал один и только он несет ответственность. Поскольку все остальные были его подчиненными, они были обязаны выполнять его приказы. Это было очень удобное решение, поскольку к тому времени, когда были собраны все эти показания, сам Босуэлл находился в изгнании.
Сразу после убийства распространились слухи о соучастии Марии. Гусман, испанский посол при дворе Елизаветы, слышал, что Мария была в Данбаре с Аргайлом, Босуэллом и Мортоном. Он немедленно решил, что Мария заранее знала о готовящемся убийстве, и пришел к заключению: «Даже если королева сумеет оправдаться, дело все равно останется темным». На самом деле Марии в Данбаре не было, однако Гусман уже связал ее с основными заговорщиками.
Когда известия достигли Елизаветы, она реагировала со своей обычной практичностью, приказав запереть все двери, ведущие в ее покои, оставив лишь один хорошо охраняемый вход. Королева высказала Гусману свои сомнения в том, кто был настоящим виновником, и вновь был поднят роковой вопрос о новом браке. Елизавета послала Киллигру расследовать положение дел в Шотландии и передала с ним письмо к Марии, написанное в самых сильных выражениях:
«Мадам, я не верю своим ушам, а сердце мое исполнено ужаса после получения известий о страшном и отвратительном убийстве… Я не могу скрывать от Вас, что жалею Вас больше, чем его. Я не исполнила бы своего долга верного друга и родственницы, если бы не призвала Вас защитить свою честь, а не смотреть сквозь пальцы на необходимость отомстить тем, кто сослужил Вам такую службу… Я советую Вам принять это дело близко к сердцу, так, чтобы Вы не опасались затронуть тех, кто ближе всех к Вам. Тем самым Вы покажете всему свету, какой благородной правительницей и верной женой являетесь».
Письмо демонстрирует всю эффективность тайной службы Елизаветы. Точное воспроизведение фразы «смотреть сквозь пальцы» может быть совпадением, однако явно намекает, что подслушивавший под дверями слуга сообщил Елизавете о содержании Крейгмилларского соглашения. Кроме того, настолько прямо, насколько это возможно между двумя независимыми правительницами, Марии было сказано арестовать Босуэлла — «тех, кто ближе всех к вам». В то же самое время Лондона достиг ложный слух, будто бы лорды Марии сказали ей, что «так как она теперь — одинокая женщина… ей стоит разделить ложе с Босуэллом». Киллигру немедленно были даны инструкции прекратить всякие намеки на сохранение «дружбы» и непременно настаивать на ратификации Эдинбургского договора. В начале марта Киллигру был принят Марией «в темной комнате и не мог видеть ее лица», однако счел ее весьма огорченной.
Савойский посланник Моретта тоже имел подозрения о непосредственном соучастии Марии в преступлении. Он сообщал, что на воротах Холируда был помещен плакат со следующими словами: «Я вместе с графом Босуэллом и прочими, чьи имена вскоре будут объявлены, совершила это деяние». Босуэлл реагировал на это вполне типичным для него образом: пообещал, что, когда автор этого поклепа будет обнаружен, он «омоет руки его кровью». Друри сказал о нем: «Когда он говорит с любым, кто не служит ему, его рука ложится на рукоять кинжала, а лицо приобретает странное выражение».
В начале марта появился новый плакат, снова выдвигавший обвинения в убийстве и прямо связывавший Марию с Босуэллом. На нем была изображена обнаженная русалка с короной на голове (в то время «русалка» на уличном жаргоне означала проститутку). В правой руке русалка держала морской анемон, символизировавший женские половые органы, а в левой ее руке была свернутая сеть, с помощью которой она пленяла неосторожных моряков. Поскольку изображение русалки было обрамлено королевскими инициалами «МЯ», не оставалось никаких сомнений в том, кого оно подразумевало. Под ним был изображен заяц — символ Босуэлла, принадлежавшего к семейству Хёпбернов, — и буква «Н», окруженная обнаженными мечами. Для людей XVI века, разбиравшихся в тонкостях геральдики, намек был прозрачен: шлюха Мария соблазнила жестокого Босуэлла.
У Марии была возможность продемонстрировать свою власть правящей королевы, предприняв решительные действия. В подобной ситуации Диана де Пуатье легко побудила бы своего монарха к массовым арестам; Екатерина Медичи отдавала бы приказы лично, и после лишь совершенно необходимых для пользы дела пыток за истину был бы принят сценарий, освобождавший ее даже от малейшего подобия вины; Елизавета принялась бы все отрицать и разыграла бы целый спектакль, обратив гнев на тех, кто подписал Крейгмилларское соглашение, и отправив их всех в Тауэр. Мария же, казалось, впала в прострацию и, находясь под полным влиянием Босуэлла, не сделала ничего. Сэру Джеймсу Балфуру, однако, было не до прострации: его обвиняли, и, пожалуй, справедливо, в том, что он приказал убить одного из своих слуг из опасения, что тот донесет на него. Морей, который конечно же находился в Файфе в ту роковую ночь, настойчиво просил паспорт для заграничного путешествия. Документы были ему выданы, и 7 апреля он спешно отправился в добровольную пятилетнюю ссылку. Теперь заговорщики были изолированы друг от друга, и настало время для их ареста. Но у Марии не было верных союзников, которые подтолкнули бы ее к действиям, которые она не хотела предпринимать. Единственным голосом, требовавшим правосудия, был голос графа Леннокса, отца Дарнли и заклятого врага Шательро и Морея. Мария лишилась поддержки всей знати, за исключением заговорщиков, которых она молчаливо поощряла; они же без всяких угрызений совести готовы были бросить ее на произвол судьбы. Как часто случалось в жизни Марии, она создала вакуум власти, и его заполнил граф Босуэлл. В конце марта Друри сообщал Сесилу: «Все делается через Босуэлла». Ходили упорные слухи, что Мария выходит за него замуж.
Босуэлл был человеком, готовым воспользоваться сложившимися обстоятельствами, а его жизненная философия была достойна главы мафиозного клана. У него не было продуманного плана по обретению короны Шотландии, он просто хватал то, что само шло ему в руки и приносило выгоду. В военном отношении он был известен как мастер быстрой внезапной атаки — эта тактика была наиболее эффективна при управлении беспокойным Пограничным краем. Как дипломат он предпочитал применять силу, а в случае сопротивления увеличивал ее до тех пор, пока противник не решал присоединиться к нему, чтобы не быть уничтоженным. Теперь же он осознал, что никто в стране не контролирует ситуацию, а королева сама по себе никогда ничего не предпримет. Плод власти созрел, его оставалось только сорвать.
Изумленная бездействием Марии, Екатерина Медичи писала ей, что если она не отомстит за смерть мужа, то будет не просто опозорена, а станет врагом Франции. Однако Мария по-прежнему бездействовала. После убийства Дарнли «она все время была либо больна, либо пребывала в меланхолии». Историк XIX века Дж. П. Лаусон утверждал: «Поведение королевы Марии в этот период демонстрирует такую покорность судьбе и такую глупость, какая может быть объяснена исключительно тем, что она находилась тогда под влиянием сильной, всепоглощающей и неконтролируемой страсти». В Тайном совете теперь не было Морея, да и единства между его членами тоже не было. Босуэлл, чья жена была больна, сделал первый шаг к власти. Он контролировал перемещение принца обратно в традиционную детскую — замок Стирлинг под присмотр опекуна графа Мара. Это позволило ему назначить сэра Джеймса Балфура, которого он считал верным союзником, комендантом Эдинбургского замка. То была почти фатальная ошибка.
Теперь Босуэлл располагал большим влиянием, чем когда-либо имел Дарнли, и Леннокс подал официальную петицию с требованием судить Босуэлла за убийство. 21 марта все еще пребывавшая в Сетоне Мария согласилась созвать парламент; пять дней спустя Леннокс потребовал, чтобы Босуэлла арестовали. Ничего не было предпринято, но 28 марта колебавшийся Тайный совет приказал Босуэллу 12 апреля предстать перед судом. После этого Леннокс заявил, что этого времени ему недостаточно, чтобы подготовить обвинение, и потребовал отсрочки. Он также написал Елизавете и попросил ее вмешаться.
Общественное мнение вынуждало Марию дать согласие на действия, направленные против «тех, кто ближе всех» к ней, но Босуэлл располагал собственными средствами, чтобы разобраться с судьями. В день суда Босуэлл привел с собой в город четыре тысячи вооруженных человек и разместил вокруг Толбута, где заседал суд, двести аркебузиров. Он полностью контролировал доступ на заседание, и «ни у кого не было достаточно храбрости, чтобы признать виновным такого опасного и беспринципного человека».
Когда Босуэлл собирался выехать из Холируда в сопровождении Летингтона и Мортона, прибыл Друри с письмом от Елизаветы, поддержавшей просьбу Леннокса об отсрочке. Друри передал письмо Летингтону, однако тот сказал, что королева все еще спит, и всадники двинулись в путь. Но дю Крок обратил внимание Друри на то, что «спящая» королева вместе с женой Летингтона Мэри Флеминг стоит у окна и живо машет рукой отъезжающему Босуэллу.
Босуэлл прибыл к Толбуту «в веселом и довольном расположении духа», несомненно, обеспеченном присутствием у дверей его двухсот аркебузиров. Ленноксу закон дозволял иметь шестерых сторонников, однако он послал только одного, Роберта Каннигэма, а его адвокаты желали получить сорокадневную отсрочку для сбора доказательств и грозили, что, если суд оправдает Босуэлла, они подадут апелляцию на основании сознательно допущенной судом ошибки. «Граф Мортон отказался судить в этой ассизе. Подтверждено, что во время заседания ни один судья не был приведен к присяге. Босуэлл объявил себя невиновным в убийстве и вызвал любого сомневающегося в этом на поединок». Обвинение зачитали, и судьи «долго совещались», однако никто не удивился, когда Босуэлла «оправдали в отношении убийства, хотя многие шептались, что он был виновен». Суд даже не заметил, что Босуэлла обвиняли в убийстве Дарнли, произошедшем 9 февраля, то есть за день до того, как оно на самом деле случилось. Менее чем через три недели Леннокс и его семья уехали в Англию.
Босуэлл, которого совершенно очарованная Мария осыпала подарками, усугубил положение, выехав верхом на лошади Дарнли и приказав перешить для себя некоторые его одежды. Портной, рискуя жизнью, сказал Босуэллу, что это правильно, поскольку «по обычаю нашей страны одежду покойного отдают палачу». После угрожающей паузы Босуэлл решил, что то была шутка, и портной остался жив.
Война листовок продолжалась: еще две оказались прикрепленными к Маркет Кросс. В одной из них приводился подробный список заговорщиков, другая же предупреждала о развитии событий, утверждая, что никто не может «по совести» разлучить Босуэлла и его жену даже после того, как он убил мужа своей предполагаемой невесты, «которая дала ему обещание задолго до убийства».
16 апреля Мария прибыла в Толбут, чтобы открыть заседание парламента. Она всегда блистала в ходе этой церемонии — осыпанная драгоценностями, уверенная в том, что услышит приветственные крики обожающей ее толпы, окруженная своей знатью. Теперь Босуэлл нес ее скипетр, Аргайл — вместо Морея — корону, а Крауфорд — королевский меч. Ее почетный караул, обычно предоставлявшийся бейлифами Эдинбургского совета, теперь не просто выполнял церемониальные функции, но реально защищал королеву и состоял из ее собственных аркебузиров. Жители Эдинбурга больше не радовались своей королеве.
Парламент не объявил прямо о невиновности Босуэлла, однако пожаловал ему земли, составлявшие одно держание с замком Данбар, а также подтвердил права Хантли и его родственников на их владения. Все действо оказалось куда менее торжественным, чем обычно, и Мария, вернувшись в Холируд, несомненно, осознала, что утратила любовь народа и передала всю власть, которой располагала — но которую никогда не использовала, — в руки Босуэлла. Ее двор больше не был площадкой для веселых праздников, балов и маскарадов, но превратился в тщательно охраняемый анклав, полный политических интриг.
Обретенная Босуэллом власть была властью победившего диктатора, полученной наутро после государственного переворота. Он превратил Марию в марионеточную королеву, и она согласилась на это; знать, все еще изумлявшаяся его действиям, поддерживала его; он использовал рабски прислуживавший ему суд для того, чтобы устранить все юридические препятствия, а неизбежный процесс падения еще не начался. Следующим шагом Босуэлла должна была стать попытка придать оказываемой ему поддержке, так сказать, упорядоченную форму. Именно это он и сделал по возвращении в Холируд после завершения заседаний парламента.
Вечером 19 апреля Босуэлл устроил обед в таверне Эйнсли неподалеку от дворца; среди гостей, помимо прочих, присутствовали Аргайл, Хантли, Кассилис, Мортон, Сандерленд, Роте, Гленкайрн и Гейтнесс. Официальный протокол этой встречи указывает среди участников Морея, но поскольку он находился за границей, это было невозможно. Морей уехал из Шотландии «из-за недовольства» и оставил вместо себя Мортона, «человека, который знает, как вести дела, ведь он — мое второе “я”». Присутствовавший там Эглингтон «ускользнул», не подписав неизбежного соглашения, а подписавшие обязывались защищать Босуэлла от обвинений в убийстве и поддерживать его намерение жениться на Марии — «если ей это будет угодно».
Казалось, Босуэлл многого добился, но на следующий день Киркалди из Грэнджа написал Бедфорду, что, если Елизавета окажет поддержку преследователям убийц, этим она завоюет сердца шотландцев. Он также сообщал, что Мария настолько потеряла голову от любви к Босуэллу, что «не боится ради него утратить расположение Франции, Англии и собственной страны и скорее пойдет за ним на край света в одной нижней юбке, чем оставит его». Это были собственные слова шотландской королевы, детский лепет, неуместный даже для эмоционально незрелой 24-летней женщины. Как сильно отличается эта фраза от заявления Елизаветы, что даже если бы ее изгнали из королевства в одной нижней юбке, она бы все равно преуспела!
Мария же отнюдь не преуспевала: ее охрана, находившаяся на грани бунта, требовала платы, которую ей задолжали. Босуэлл подошел к решению этой проблемы своим традиционным путем: схватил вожака за горло и занес над ним кинжал. Однако того освободили, а Мария немедленно вмешалась, заплатив охране 400 крон. По настоянию Босуэлла Летингтон обратился к Марии с просьбой снова выйти замуж во имя стабильности королевства, но она ответила отказом. Это было разумное решение, учитывая историю ее двух предыдущих браков. На следующий день она отправилась в Стирлинг, чтобы увидеть сына, а Босуэлл объявил, что собирает свои силы для рейда на Лиддсдейл. Никто этому не поверил, напротив, распространился слух, что он собирается захватить королеву и отвезти ее в Данбар. Тем временем Сесил составил одну из своих записок для Елизаветы, в которой писал о необходимости содействовать аресту убийц, а также о том, что многие по-прежнему верят, что Мария была соучастницей преступления, и о том, что нужно любыми средствами предотвратить брак шотландской королевы с Босуэллом.
Убедившись, что младенец Яков здоров и весел, Мария оставила его на попечении графа и графини Мар. Она не знала, что видит своего сына последний раз… Королева выехала в сопровождении Летингтона, Мелвилла, Хантли и своей обычной вооруженной стражи, остановившись на ночь в Линлитгоу. В нескольких милях к западу от Эдинбурга, там, где у деревни Крамонд Рогар Берн впадает в реку Алмонд, королевская свита была захвачена врасплох внезапно появившимся Босуэллом с отрядом в 800 человек. Охранники Марии, число которых было несравнимо меньше, схватились за оружие, но королева остановила их, сказав, что не желает, чтобы из-за нее проливали кровь. Босуэлл взял ее лошадь под уздцы и заявил, что в Эдинбурге их поджидают враги. Затем он сопроводил ее через Грантон и Лит в свой «безопасный» замок Данбар. Там за королевой заперли ворота, оставив снаружи весь королевский кортеж, в том числе Летингтона и Мелвилла. «Журнал»[80] сообщал: «Граф Босуэлл в сопровождении множества людей похитил королеву и увез ее в тот же вечер в свой замок Данбар (отнюдь не против ее воли). Капитан Блакаддер, ночной гуляка, а теперь — один из людей Босуэлла, заявил: вся сцена была разыграна с согласия королевы».
На самом деле Мария отправила в Эдинбург посланца за помощью, однако он только что слышал приказ королевы, что следует избегать кровопролития, поэтому его усилия были скорее формальными, чем эффективными. Босуэлл знал, что его звезда будет сиять лишь до тех пор, пока он держит в руках власть, Мария же — «перышко, гонимое любым порывом ветра». Она отказала Летингтону, когда он просил ее снова выйти замуж, и тогда граф решил захватить инициативу способом, наиболее подходящим для бандита из Пограничного края. Мария была на самом деле захвачена врасплох, но она видела, как на террасах Шамбора благородных дам спасали их верные рыцари. Возможно, наконец появился ее Амадис. Однако блестящие доспехи Босуэлла были изрядно запятнаны.
Согласно общему убеждению сразу по возвращении в Данбар Босуэлл изнасиловал Марию, но «Журнал» утверждает: «Он похитил ее и увез в свой замок». Босуэлл явно не мог изнасиловать ее перед всей свитой в Крамонде; в XVI веке «похитить» означало «захватить». Сама Мария, голова которой шла кругом от романтики обстоятельств, легко могла согласиться стать любовницей Босуэлла в Данбаре. Как бы там ни было, к концу месяца Мария была беременна от Босуэлла.
Когда Мария благополучно оказалась в Данбаре, следующим шагом Босуэлла была женитьба на ней. Поскольку королева была им обесчещена, у нее не оставалось выбора, но сначала ему нужно было развестись с леди Джин Гордон. 26 апреля он поехал в Эдинбург, чтобы подать на развод. В качестве доказательства супружеской измены Босуэлл с восхитительной тщательностью перечислил свои тайные свидания с Бесси Крауфорд на колокольне церкви Хаддингтона и одновременно просил суд архиепископа Сент-Эндрюсского аннулировать брак на основании близкого родства. Никто не оспаривал его петиции о разводе, и 7 мая было принято решение об аннулировании брака. Последствием этого циничного действия оказался переход брата леди Джин, Хантли, в стан врагов Босуэлла. Удивительно, но католик епископ Росский, некогда сторонник Хантли, проявил свой дипломатический талант, сумев остаться другом Босуэлла, возможно потому, что мог перепить хозяина Пограничного края.
За день до развода Босуэлл был уже настолько уверен в своей добыче, что вернулся вместе с Марией в Эдинбург. В сопровождении Летингтона и пока еще верного Хантли он въехал в город через Западные ворота, проехал через Грассмаркет, а затем вверх по Хай-стрит к замку. Этот путь был короче и предоставлял толпе меньше шансов продемонстрировать чете свое недовольство. Въезд был далек от оставшихся в прошлом торжественных процессий: Босуэлл шел пешком, ведя лошадь Марии под уздцы, так что она вернулась в столицу скорее как пленница, нежели как правительница. Босуэлл, однако, разоружил своих людей, и королевская свита выглядела относительно мирно. Граф незамедлительно попросил пастора церкви Сент-Джайлс Крейга сделать объявление о предстоящем браке. Крейг отказался, заявив, что этот брак станет прелюбодеянием, а Мария была взята силой. В своей типичной манере Босуэлл потребовал от городского совета повесить пастора, но судейский клерк принес письмо Марии, в котором утверждалось, «что ее не похищали и не держали в плену». После долгих колебаний Крейг в конце концов сделал объявление о браке. 12 мая Мария провозгласила перед Тайным советом, что «она довольна графом и забыла весь свой гнев, порожденный тем, что он тогда захватил ее в плен».
Мария даровала Босуэллу титул герцога Оркнейского и, как уверяют, сама возложила ему на голову герцогскую корону. 15 мая чету обвенчал в капелле Холируда Адам Босуэлл, епископ Оркнейский, в соответствии с протестантским обрядом. Это произошло в десять вечера, и за венчанием не последовали «ни праздник, ни развлечения». Один из современников заметил, что брак «заключили неподобающим образом». Лорд Херриес умолял Марию не выходить замуж за Босуэлла, а дю Крок предупреждал, что такой шаг ей будет стоить дружбы с Францией. По иронии судьбы из первых двух браков Марии один был династическим, а второй — поспешным, хотя и необходимым для продолжения королевского рода, однако обе свадьбы праздновались с большим размахом. Третий же брак, по крайней мере для невесты, был браком по любви, но свадьбы практически не было. Первый супруг оставил Марию вдовой, второй был убит всего тремя месяцами ранее, и прошло всего пятнадцать месяцев с тех пор, как она сама подарила леди Джин Гордон подвенечное платье из серебряной парчи по случаю ее свадьбы с Босуэллом. Великолепное образование, достойное Гизов, оказалось совершенно бесполезным: теперь Мария изолировала себя даже от тех представителей шотландской знати, которые оставались ей верны. Общественное мнение отразилось в памфлетах, прибитых к воротам Холируда; в них цитировался Овидий: Mense malas maio nubere vulgus ait («Только шлюхи выходят замуж в мае»). Дэвид Юм в своей «Истории Англии» пишет: «На живших за границей шотландцев обрушилась такая волна неодобрения, что они старались не показываться в публичных местах». Мария написала Елизавете: «Здесь все время возникали раздоры и заговоры, и поскольку это случалось так часто и в таких ужасных формах, мы оказались неспособными в одиночку выносить бремя и страдания». Королева не объявляла Босуэлла невиновным, но утверждала только, что «он был оправдан по нашим законам». Елизавета сказала об этом браке, что «ей, как и любому монарху, трудно его переварить».
Вскоре после похищения Мария прочувствовала весь ужас своего положения. 1 мая в Стирлинге была сформирована конфедерация знатных дворян, поставивших своей целью «добиться освобождения королевы, уберечь принца от врагов под опекой графа Мара, очистить королевство от позорящих его последствий убийства нашего короля». На языке политики это означало, что выскочка Босуэлл зарвался и его пора поставить на место. Полная перемена в позиции знати, ранее с энтузиазмом подписавшей соглашение в таверне Эйнсли, показала, как быстро Босуэлл достиг своего: от короны его отделял лишь один шаг.
После смерти Якова V Шотландией управляла королева-регентша, за ней — девочка, получившая образование во Франции, но не сумевшая стать для страны сильной правительницей. Теперь, когда принц Яков находился в пределах досягаемости лордов благодаря опеке графа Мара, дворяне готовились к ставшей им хорошо знакомой за 130 лет ситуации — регентству при несовершеннолетнем короле. Среди прочих за это выступали Аргайл, Атолл, Мортон и Мар. Трое из них подписали Крейгмилларское соглашение. В новой конфедерации к ним присоединились графы Гленкайрн, Кассилис, Эглингтон, новый граф Рутвен и еще одиннадцать человек. Учитывая, что Шательро и Морей все еще находились за границей, нужно отметить, что эта конфедерация почти точно воспроизводила ту, что выступила против брака Марии с Дарнли во время «Загонного рейда».
Лорды чувствовали себя настолько уверенными, что, находясь в Стирлинге, заказали постановку маски «Убийство Дарнли и судьба Босуэлла». В заключительной сцене игравшего Босуэлла мальчика повесили под громкие аплодисменты. Повешение оказалось слишком реалистичным, и прошло некоторое время, прежде чем мальчик-актер смог прийти в себя. После спектакля участники конфедерации отправились в свои владения собирать войска.
Марии никогда раньше не приходилось собирать армию, а ее доход от «третей» исключал такие траты. Поэтому она впервые за все время правления столкнулась с серьезной нехваткой средств. Она повысила налоги лишь однажды — чтобы заплатить за крестины сына. Теперь она продала золотую и серебряную посуду и драгоценности и даже хотела расплавить подарок Елизаветы — золотую купель, чтобы начеканить монеты и заплатить войскам.
Романтические мечты Марии быстро развеялись под натиском реальности. Похоже, она не подозревала о том, что все отношения Босуэлла с женщинами сводились к сексуальному подчинению, вслед за чем женщины оказывались брошенными. Босуэлл не таил своих измен — «слезам и жалобам Марии не было конца». Его разведенная жена Джин Гордон все еще жила в замке Крайтон, и граф регулярно посещал ее. Дю Крок сообщал, что граф продолжал считать Джин своей женой, а королеву — своего рода законной сожительницей. Никакие правила общественной жизни не касались графа Босуэлла. Он постоянно ревновал Марию, свое последнее приобретение, не дозволяя ей никаких контактов с мужчинами, и устроил ей жестокую выволочку за сравнительно невинный жест — она позволила себе подарить коня все еще не вполне вменяемому графу Аррану. Босуэлл также удалил всех служанок Марии и заменил их своими доверенными слугами, которые держали ее под постоянным наблюдением. Насколько глубоко несчастной из-за всего этого чувствовала себя Мария, можно судить по ее словам, сказанным дю Кроку в день свадьбы: «Я хочу умереть». В другой раз она в присутствии Мелвилла потребовала принести нож, заявив, что хочет убить себя, и добавила: «Или же я утоплюсь». Разумеется, королева не имела намерений совершить самоубийство, ее поведение — это невольный жест отчаяния, показывающий всю его глубину. Поразительным образом ранее презираемого всеми Дарнли теперь в памфлетах именовали «благородный Генри», а эдинбуржцы, встречая Марию, приветствовали ее возгласами: «Боже, храни королеву!» — но при этом добавляли: «Если она невиновна в смерти короля». По рукам ходила баллада на смерть Дарнли, начинавшаяся строками: «Прощайте, счастье и невинные забавы! Прощайте, ночь и день». Время придавало его образу очарование мученика.
На людях Мария поддерживала впечатление полного счастья, выезжала на верховые прогулки с Босуэллом, участвовала вместе с ним в состязаниях. Босуэлл часто пренебрегал придворным протоколом, появляясь в обществе Марии с непокрытой головой, а она превращала все в шутку, лично надевая шляпу ему на голову. Он издавал прокламации, словно был уже королем или протектором. Нет нужды упоминать, что Мария покорно следовала за ним, издав еще одну прокламацию в защиту протестантской религии. Придворные отметили, как огрубел ее язык. Следуя примеру вечно сквернословящего мужа, Мария однажды очень резко выразилась в адрес лордов: «Атолл — слабак, что же до Аргайла, я хорошо знаю, как заткнуть ему рот. Мортон же только что стянул сапоги, и они все еще грязны; его стоит послать обратно туда, откуда он пришел» — то есть обратно в ссылку.
Жизнь при дворе была лишена всякой радости. Слуг стало меньше, но зато появилось гораздо больше солдат, а из советников только Летингтон и Хантли оставались верны Марии. На самом деле Хантли стал весьма сомнительным союзником Босуэлла после того, как тот цинично развелся с его сестрой, и даже просил разрешения удалиться от двора. Мария отказала ему, заметив, что знает: он хочет пойти против нее, подобно его отцу, сражавшемуся при Корричи. Это замечание было не просто неуместным, оно было обидным и оскорбительным. В результате Хантли и его сторонники немедленно укрылись в безопасности Эдинбургского замка. Замок находился под контролем сэра Джона Бал фура, тайно перешедшего на другую сторону, о чем Босуэлл не подозревал. Летингтон чувствовал, что Босуэлл угрожает его жизни, и в конце концов примкнул к лордам конфедерации. После этого Шотландия фактически лишилась правительства, если не считать Босуэлла, которого теперь считали узурпатором.
Первый шаг сделали лорды, выступив против Марии и Босуэлла, когда те находились в замке Бортвик, в двенадцати милях к югу от Эдинбурга. Вражеские силы появились на рассвете 10 июня, и Босуэлл, как обычно беспокоившийся о своем благополучии, бежал, оставив Марию противостоять лордам, находившимся под стенами замка и перешедшим к откровенным оскорблениям. На следующую ночь переодетая в мужское платье Мария также бежала верхом на лошади слуги и в три часа утра присоединилась к Босуэллу. Они укрылись в Данбаре, а Босуэлл спешно собирал армию: оборона была не его типом военных действий.
На следующий день Тайный совет объявил, что, поскольку Мария является пленницей, она не может управлять, поэтому в интересах нации необходимо использовать все средства для ее освобождения. Затем совет открыто обвинил Босуэлла в убийстве, заключении незаконного брака, «осквернении тела правительницы» и призвал горожан собраться через три часа с оружием в руках. Сэр Уильям Друри сообщал Сесилу: «Даже если бы не было иной причины для гнева, то слова, которыми стороны обменялись в Бортвике, все равно приведут к кровопролитию». Он оказался прав.
В тот же день Тайный совет обвинил Босуэлла в том, что тот «взял королеву силой, и соблазном побудил к бесчестному браку, и убил Дарнли», вследствие чего лорды оккупировали Эдинбург и собрали все наличные силы, чтобы защитить принца. Тот факт, что принц уже находился в их руках, а Босуэлла судили за убийство и оправдали, проигнорировали в попытке легитимировать призыв к гражданской войне. В Эдинбурге сэр Джон Балфур — вероятный автор Крейгмилларского соглашения и главный пособник убийства Дарнли — получил от Босуэлла командование замком. Теперь он спросил лордов-конфедератов, может ли он сохранить свой пост, если предоставит замок в их распоряжение. То был несомненный акт измены. Джон Нокс знал Балфура с тех пор, как оба они были рабами на галерах, и говорил о нем так: «В нем нет ни страха Божьего, ни любви к добродетелям, за исключением тех, что диктуются сиюминутной выгодой». Лорды немедленно согласились, тем самым получив самую мощную крепость в Шотландии и арестовав Хантли без единого выстрела. Они захватили контроль над монетным двором, а также получили и последнее сокровище Марии — золотую крестильную купель. Балфур доказал верность новым господам, отправив Марии послание, в котором призвал ее и Босуэлла вернуться в Эдинбург, где их ждет безопасность, обеспеченная пушками замка. Не зная о его измене, они согласились, а Мария призвала подданных собраться для оказания ей помощи в Масселбурге. С отрядом в 600 человек она подошла к Хаддингтону — страна в целом проигнорировала ее призыв — и встретилась там с Босуэллом, собравшим две тысячи человек и имевшим три пушки. Чета провела свою последнюю ночь вместе в замке Сетон.
Лорды под командованием Мортона и Аргайла остановились на ночлег в Масселбурге. Они подняли знамя, на котором был изображен мертвый Дарнли под деревом и рядом с ним ребенок, преклонивший колени. Надпись на знамени гласила: «Рассуди и отомсти за меня, Господи!» Знамя призвано было оправдать действия лордов, выступавших не против своей законной королевы, но только против Босуэлла — убийцы Дарнли.
15 июня в пять часов утра королевские войска выступили к Эдинбургу. Мария была во главе армии, хотя теперь на ней не было доспехов, которые она надевала во время «Загонного рейда», — серебряной кирасы и стального шлема с ярким плюмажем: большая часть ее гардероба находилась в Холируде, в руках лордов, или же была оставлена в Данбаре. На королеве были простое красное платье, шарф и бархатная шляпа. Интересен ее выбор красного цвета, традиционно символизировавшего христианское мученичество. Законность ее армии обозначалась знаменем с королевской эмблемой — стоящим на задних лапах львом. Обе стороны сошлись лицом к лицу в двух милях к югу от Масселбурга, на Карберри-Хилл близ деревни Инвереск. Ни одна сторона не хотела начинать рискованного сражения, поскольку лорды сознавали сомнительную законность своих действий — ведь они выступали против своей правительницы, а Босуэлл знал, что даже если он одержит победу, ему еще нужно будет войти в Эдинбург. Он уже прослышал о предательстве Балфура и понимал, что окажется бессильным перед залпами замковых орудий. Он надеялся, что ему на помощь придут Хантли и Хэмилтоны, однако Хантли был пленником, а Хэмилтоны мудро оставались в Эдинбурге. Мортон и Хоум со своими отрядами заняли позиции в первых рядах, а Босуэлл — на склоне холма, где его артиллерия могла отразить кавалерийскую атаку. Обе стороны нервно ожидали, чтобы противник сделал первый шаг.
Дю Крок последовал за лордами из Эдинбурга и после долгого препирательства убедил Мортона признать, что для почетного отступления достаточно выдачи Босуэлла. Когда он изложил свой план Марии, она гневно ответила, что лорды изменнически отвергают соглашение, подписанное в Айнсли Таверн, а их владетельные права на земли были ранее подтверждены только благодаря Босуэллу. Мария попросила дю Крока передать лордам, что простит каждого, кто попросит об этом, однако недвусмысленно отвергла предложение Мортона. Дю Крок отметил, что армия Босуэлла была лучше организована, «ведь командовал ею один человек, с другой же стороны было слишком много военачальников, вечно несогласных друг с другом», и заключил: «Я простился с королевой и отбыл со слезами на глазах». Он также отметил, что королева располнела, так как была беременна ребенком Босуэлла, который стал бы наследником престола в том случае, если бы что-то случилось с принцем Яковом. Граф Гленкайрн встретил предложение Марии презрением и повторил требование к Босуэллу сдаться. Поняв, что не способен добиться перемирия, дю Крок вернулся в Эдинбург, а обе стороны продолжали стоять друг против друга в мареве летней жары.
В одиннадцать часов солнце стояло уже высоко и жара усилилась. Лорды могли лишь пить воду из реки Эск, но люди Босуэлла имели при себе изрядный запас vins et viandes[81] и, нарушив строй, принялись утолять голод и жажду. Воздействие вина и жары заставило около трехсот из них ускакать обратно в Данбар по причине головной боли.
Лорд Киркалди из Грэнджа явился с белым флагом и официально потребовал, чтобы Босуэлл сдался. Прежде чем Мария успела открыть рот, Босуэлл приказал аркебузиру стрелять — невзирая на цвет флага, — но королева отменила его приказ. Затем Босуэлл выехал вперед на своем вороном боевом коне и предложил уладить дело поединком, вопросив лордов: «Какой ушерб я нанес?» Лорды немедленно назначили своим представителем Грэнджа, но Мария, выказав познания в рыцарских правилах, отвергла его как недостаточно высокородного, чтобы сражаться с Босуэллом. Тогда вызвался лэрд Таллбардина, однако его отвергли по той же причине, хотя он обиженно объявил, что его кровь столь же благородна, что и кровь Босуэлла. И Грэндж, и Таллбардин немедленно стали злейшими врагами Босуэлла.
Фарс детского позерства продолжался; теперь Босуэлл назвал Мортона в качестве подходящего противника. Это допускалось рыцарским кодексом, однако было непрактично, поскольку Мортон был на пятнадцать лет старше Босуэлла и не имел опыта личного участия в поединках. Босуэлл же был опытным бойцом, искусно владел мечом и в поединках убил нескольких противников. Поэтому заменить Мортона немедленно вызвался молодой лорд Линдси. Мортон дал Линдси свой собственный меч. То был двуручный меч шести футов в длину, принадлежавший отцу Мортона, совершенно неподъемный и неудобный для поединка, однако Линдси его принял — он вряд ли мог отказаться — снял доспехи, помолился о божественном заступничестве, а затем, вновь вооружившись, вскочил на коня; у его пояса болтался гигантский меч. Юному лорду, несомненно, предстояло умереть.
Удивительно, но Мария не пожелала, чтобы Босуэлл сражался за нее, и запретила поединок. Мелвилл из Хэлхилла сообщает, что затем королева вновь обратилась к Грэнджу, предложив выдать Босуэлла в обмен на подчинение ей лордов. Как часто бывает с Мелвиллом, невозможно утверждать, было ли это правдой. Однако Босуэлл увидел, что его армия постепенно рассеивается, и рекомендовал Марии отступить к Данбару, чтобы собрать дополнительные войска. Мария же верила обещанию лордов подчиниться ей, она также предварительно переговорила с обещавшими ей свою верность Летингтоном и Атоллом. Теперь она попросила о гарантиях безопасности для Босуэлла, но Грэндж ответил, что не имеет полномочий принимать такое решение. Тем не менее он заверил Босуэлла, что приложит все усилия, чтобы графа не преследовали, и Мария решила сдаться лордам в том случае, если они пообещают провести еще один суд над Босуэллом в парламенте.
На глазах у обеих армий Босуэлл и Мария обнялись, клянясь друг другу в верности. Босуэлл, любивший извлекать из рукава козырную карту, отдал Марии свою копию Крейгмилларского соглашения с подписями Летингтона, Аргайла, Хантли и Балфура, также компрометирующую Мортона. Босуэлл держал копию при себе на тот случай, если бы его схватили и обвинили в том, что, организуя убийство Дарнли, он действовал в одиночку. Затем он и Мария расстались; она в последний раз смотрела на него, пока его лошадь галопом неслась к Данбару.
Оставшуюся часть истории можно рассказать в двух словах. Босуэлл не смог собрать новую армию в Шотландии и отплыл во Францию, однако его корабль был захвачен датскими пиратами. Графа продали датскому королю Фредерику II. Канцлер Фредерика Эрик Розенкранц был кузеном Анны Трондсен, преследовавшей Босуэлла по всей Европе за нарушение обещания жениться. Теперь граф предстал перед правосудием. Сначала условия его заключения были достаточно мягкими, несмотря на то, что сильно компрометировали Данию. Ни Англия, ни Франция не желали выдачи графа, а выслать его в Шотландию означало проявить враждебность к королеве Марии. Босуэлла окружало множество заговоров, и в конце концов Розенкранц одной леденящей кровь фразой рекомендовал Фредерику отправить его туда, «где люди о нем забудут». Этим местом оказался замок Дразхольм, где графа приковали цепью в донжоне, обрекая его на темноту и одиночество. Человек, проведший жизнь в седле на холмах Пограничного края, умер, «лишившись ума», в апреле 1578 года, почти одиннадцать лет спустя после несостоявшегося сражения при Карберри-Хилл.
В Карберри «со стороны королевы выступил человек с длинной пикой, которую он опустил перед всадниками противной стороны в знак того, что победа осталась за ними». Принять сдачу королевы послали Грэнджа; тот подъехал и поцеловал ей руку. Она обратилась к нему довольно официально: «Лэрд Грэнджа, я вверяю себя вам на условиях, которые вы изложили мне от имени лордов». Подчинившись минутному побуждению, Мария немедленно оттолкнула от себя Мортона — подъехав к нему верхом в сопровождении верной Мэри Сетон, она спросила: «Как же так, милорд Мортон? Мне говорят, что все это совершается ради того, чтобы совершить правосудие в отношении убийц короля. Мне также говорят, что вы — один из их главарей». Высокомерие Гизов сослужило ей плохую службу.
Мария ожидала, что ее приветствуют раскаявшиеся лорды, пусть и не преклонившие колени, но, по крайней мере, готовые просить прощение, которое она затем милостиво даровала бы. Вместо этого мятежные дворяне встретили ее достаточно почтительно, а вот простолюдины восклицали: «На костер убийцу! На костер шлюху!» Грэндж и другие заставили толпу замолчать, раздавая удары мечом плашмя направо и налево.
Испытания Марии начались после того, как от нее отделили служанок, а затем отвезли в Эдинбург, причем перед ней везли знамя, изображавшее смерть Дарнли. Вскоре стало ясно, что она теперь пленница: ведь ее отвезли не в Холируд, а в дом, принадлежавший провосту сэру Саймону Престону. То было старое полуразвалившееся здание, именовавшееся из-за узкой лестницы Блэк Тёрнпайк[82], и находилось оно на углу нынешнего Хантер-сквер и Хай-стрит. Когда Мария прибыла туда около полуночи, лордам подали ужин и они пригласили ее присоединиться к ним. Это было полное нарушение этикета, возмутившее Марию. Она ответила, что ей уже дали довольно пищи и теперь, в ее нынешнем состоянии, она нуждается лишь в отдыхе. То была обманчивая бравада, ведь Мария боялась за свое будущее, однако лорды, тоже проведшие долгий день в седле, лишь пожали плечами, когда слуга вернулся с отказом королевы разделить с ними трапезу. Марию бесцеремонно поместили в комнату размером тринадцать квадратных футов и восьми футов в высоту, в которой находилась только узкая кровать. Все еще пытаясь сохранить остатки королевского достоинства, она ждала появления служанок, которые помогли бы ей раздеться, но вместо этого на посту за дверью разместились вооруженные охранники. Было уже за полночь, а Мария последний раз ела на рассвете, в Сетоне. На ней по-прежнему была одежда, в которой она появилась при Карберри, покрытая пылью, — а она всегда была внимательна к своей внешности, она была совершенно одна и не знала, как долго ей придется находиться в таких условиях. Впервые в жизни ей пришлось провести ночь одной. Когда она была ребенком, при ней всегда находилась няня, а начиная с подросткового возраста в комнате Марии всегда спала фрейлина. Она переодевалась по нескольку раз за день, а слуги всегда находились на расстоянии окрика. Теперь же она приобрела новый опыт, чрезвычайно неприятный для женщины ее ранга. И этот опыт был не последним.
Марии позволили написать письмо Грэнджу с жалобами на свое плачевное положение, но даже это означало для нее еще больший позор. Она, Мария, королева Шотландии, должна была лично обратиться к стражнику, без посредства придворного слуги, и попросить принести письменные принадлежног сти, которые обычно хранились под рукой, а затем написать письмо под его присмотром. Ответ пришел подозрительно быстро, вероятно, Грэндж так и не получил письма королевы. Грэндж сообщал, что ее верные дворяне, опасаясь, как бы она не причинила себе вреда, вынуждены были держать ее под постоянным присмотром и не смели отдать ей ключ от комнаты. Королеву одолела усталость, и она, все еще одетая, прилегла на кровать, где могла слышать болтовню своих стражников. Но упоминание о ее возможной смерти пробудило в ней подозрение, что, если она заснет, наложенная на ее лицо подушка даст мятежным лордам возможность сказать: она отравилась или как-то иначе покончила с собой, впав в отчаяние после расставания со своим мужем-убийцей. В конце концов, Мария знала, что некоторые из ее тюремщиков участвовали в убийстве Дарнли, поэтому, несмотря на то, что была совершенно измучена, боялась заснуть.
К утру Мария с ума сходила от необъяснимого страха, который только усилился за ночь. Окно комнаты выходило на Хай-стрит, и под ним разместили плакат с описанием убийства Дарнли, так что эдинбургской толпе было легко определить, где находится их королева-шлюха. Из толпы кричали, требуя, чтобы она появилась перед ними. Мария крикнула из окна, что ее держат в заключении ее собственные подданные, а толпа ответила свистом и выкриками: «Шлюха! Изменница! Убийца!» Тогда от недостатка сна, страха и бессилия, совершенно потеряв способность соображать, Мария распустила свои грязные и спутанные волосы, так что «они свисали с плеч», и обнажилась до пояса, открыв грудь взглядам толпы, теперь откровенно наслаждавшейся зрелищем ее помешательства. Мария увидела, что по Хай-стрит едет направляющийся на заседание совета Летингтон, и обратилась к нему, однако тот «надвинул шляпу на глаза и сделал вид, что не видел и не слышал ее величества». Толпа разозлилась и стала кидать находившиеся под рукой небезобидные булыжники, требуя принести лестницу, однако мудрые стражники оттащили королеву от окна, дали ей немного хлеба и воды.
Совет провел весь день в спорах относительно исхода сражения при Карберри. Раньше лорды предполагали держать королеву в плену и править от имени младенца Якова, однако они не были готовы к обрушившейся на них реальности — присутствию в столице полуобнаженной королевы-пленницы, вопящей из окна второго этажа как сумасшедшая. Вразумить ее отправили Летингтона как самого хладнокровного и дипломатичного из всех. Мария продолжала кричать на Летингтона, обвиняя его в измене, до тех пор, пока тот не успокоил ее и не заставил поверить в то, что он — ее единственный друг из числа знати. В девять вечера королеву навестил Мортон и сказал ей, что, как только стемнеет, ее перевезут в Холируд. Поскольку была середина июня, Марию доставили во дворец только в одиннадцать часов вечера и там наконец приготовили ужин и прислали к ней служанок. Возможно, теперь ей создадут подобающие условия, думала Мария, хотя слуги больше не преклоняли колени, прислуживая ей, а Мортон все время ужина простоял за ее креслом. Королеве не дали возможности переодеться, и ей пришлось самой зашить разорванный корсет, поскольку чистую одежду ей обещали принести утром.
Все это на самом деле было обманом. Пока голодная королева торопливо поглощала первый ужин за два дня, слуга подтвердил Мортону, что можно отправлять Марию дальше. По приказу графа посуда была убрана, хотя Мария еще не закончила есть, и ей сказали, что теперь ее будут сопровождать только двое слуг, но зато ей разрешат навестить принца Якова. Королеве даже не позволили взять ночную рубашку, и это навело ее на мысль, что за ней последует обычная свита. Было уже за полночь, когда Марию под охраной отправили в Лит и отдали в руки Рутвена и Линдси, которые переправили ее через Форт в Норт-Квинсберри. Она ожидала, что кортеж последует на запад, к Стирлингу. К ее полному изумлению, лорды устремились на север, к Лохливену. Там, на острове посреди озера, стоял замок сэра Уильяма Дугласа. Мария посещала замок много раз и наслаждалась охотой на берегах озера, однако теперь поняла, что ее везут туда как пленницу. Надеясь, что ее спасут, пока она проделывает последние десять миль по направлению к озеру, она решила ехать медленнее — в конце концов, она была на третьем месяце беременности, — но члены ее кортежа стали сами подстегивать ее лошадь. На берегу королеву встретили сэр Уильям и его братья; ее перевезли через озеро на остров и ввели в комнату на первом этаже, составлявшую часть покоев Дугласов и торопливо обставленную принадлежавшей семье старой мебелью. Дверь заперли, и Мария вновь осталась одна, на ней все еще было платье, которое она надела в Сетоне два бесконечных дня тому назад.
Глава XIII
«ПОДДАННЫМ НЕ ПОДОБАЕТ НАКАЗЫВАТЬ СВОЕГО ГОСУДАРЯ»
Совет решил, что Марии не следует дозволять «предаваться своей неразумной страсти», поэтому «ее нужно лишить общества упомянутого графа Босуэлла», чье местонахождение было по-прежнему неизвестно. В оказавшуюся бесплодной погоню за графом были посланы Грэндж и Таллбардин, которых он оскорбил при Карберри. Тем временем сэру Уильяму Дугласу был отдан официальный приказ содержать Марию под стражей, «не нанося ей вреда», до тех пор, пока «не созовут новый суд по случаю жестокого и коварного убийства благородного короля Генри, супруга королевы».
В числе прочих обитателей замка Лохливен была мать сэра Уильяма, «старая дама»; то была не кто иная, как Маргарет Эрскин, также приходившаяся матерью незаконнорожденному сыну Якова V графу Морею. Она всем сердцем ненавидела Марию за то, что та была законной дочерью. Из остальных членов семьи в замке присутствовал лишь младший сын — красавец Джордж Дуглас. Тюремщиками королевы должны были стать Рутвен и Линдси. Остров почти полностью занимали замковые строения. Замок, построенный в XIV веке, представлял собой четырехэтажное здание с единственным входом на уровне третьего этажа и соседствовавшей с ним круглой башней; вид из нее на озеро закрывался основным зданием замка. Именно в эту мрачную башню после пребывания в покоях Гордонов в конце концов поместили Марию. Местоположение башни лишало королеву возможности подавать сигналы людям на берегу. Теперь она была полностью отрезана от друзей и находилась в руках совета, который 16 июня отдал приказ о ее аресте, подписанный Мортоном, Гленкайрном и Хоумом. На Линдси и Рутвена была возложена неприятная обязанность оставаться на острове и присматривать за заключенной. Остров представлял собой идеальное место для тайного убийства.
Аргайл, Хантли, Арброт и восемь менее влиятельных лордов поклялись спасти Марию, но были бессильны сделать что-либо, разве что объявить о своей верности. Враждебные ей лорды теперь пытались завершить дело, уничтожив католический алтарь в Королевской капелле Холируда, затем захватили посуду и одежду во дворце; впрочем, большая часть драгоценностей Марии находилась в Данбаре под защитой Патрика Уилсона. Лордам было необходимо опровергнуть обвинения в их причастности к убийству Дарнли, но даже если они знали о том, что в распоряжении Марии находится копия Крейгмилларского соглашения — хотя трудно себе представить, что она смогла оставить ее при себе, несмотря на все ожидавшие ее в Эдинбурге испытания, — она не могла использовать ее. Что же до остального, то лорды выследили всех людей, вовлеченных в заговор Кирк-о-Филд, начав с несчастного капитана Блэкаддера, которого, хотя он скорее всего ни в чем не был виновен, повесили; ему также вспороли живот и четвертовали. Схватили Поури, Хэя, Хёпберна и остальных; они под пыткой дали показания, очернявшие Босуэлла. Всех их повесили. Единственных независимых свидетельниц — двух домохозяек — так и не допросили подробно; вероятнее всего, им сказали, что от их молчания зависит их жизнь. Французский Парис дал довольно путаные показания, подтверждавшие, впрочем, принятую всеми версию, а когда Сесил стал настаивать на повторном его допросе, несчастного пажа поспешно повесили. Уилсону и Ормистону удалось бежать, и они бесследно исчезли. Так удалось установить удобную всем истину: Босуэлл с согласия королевы и при помощи подчинявшейся ему банды головорезов убил Дарнли, намереваясь захватить корону. Все остальные были невиновны. Некоторые даже поверили в эту историю.
19 июня, возможно, произошло событие, породившее многотомные исторические труды. Мортон утверждал, что в тот вечер он ужинал с Летингтоном, когда слуга доложил ему: в Эдинбурге видели Томаса Хёпберна, Джона Кокбёрна и Джорджа Далглиша. Все они были людьми Босуэлла, всех их разыскивали, так что Мортон отправил своих людей арестовать их. Томас Хёпберн бежал, Джона Кокбёрна арестовали. У Далглиша нашли «различные улики и письма», однако он отрицал, что хранит другие документы. Мортон не поверил ему и приказал поместить его на ночь в Толбуте в клетку, настолько маленькую, что в ней невозможно было встать во весь рост или лечь. В Тауэре подобное устройство называлось «малой клеткой». После ночи, проведенной в клетке, в дальнейших пытках не было необходимости: на следующий день Далглиш с готовностью отвел Роберта Дугласа, агента Мортона, в свою комнату и вытащил из-под кровати серебряную шкатулку. Эта шкатулка принадлежала Босуэллу, но ранее находилась на хранении у Балфура в замке. Перед сражением при Карберри Босуэлл послал за шкатулкой, однако предатель Балфур передал ее в руки Далглиша. На следующее утро в присутствии Атолла, Мара, Гленкайрна, Летингтона и еще пяти лордов вскрыли замок шкатулки. В ней обнаружили «письма, контракты, сонеты и прочие бумаги». Мортон лично хранил шкатулку. Он не сообщает о том, что свидетели удосужились хотя бы просмотреть ее содержимое. Впрочем, все они желали очернить Марию и Босуэлла и предпочли бы сначала внимательно прочесть документы, а уже потом делать утверждения. Шкатулка стала знаменитой бомбой замедленного действия в истории Марии Стюарт, причем к тому времени, когда ее содержимое было предано гласности, Джордж Далглиш — единственный человек, который мог подтвердить или опровергнуть историю Мортона, — был к всеобщей радости казнен.
Письма подтверждают участие Марии в собственном похищении Босуэллом и ее вину в убийстве Дарнли. Теперь они находились в руках ее врагов. Противники, впрочем, все еще пребывали в замешательстве. 1 июля лорды продолжали утверждать, что Босуэлл захватил королеву силой, хотя могли бы заявить, что располагают весомыми доказательствами обратного.
23 июня 1567 года Елизавета написала Марии, которой в Лохливене позволили получать письма:
«Всегда считалось, что преуспеяние привлекает друзей, а бедствия подтверждают истинность их дружбы. Мы знаем о Вашем положении и о Вашем браке от Вашего доверенного слуги Роберта Мелвилла. Говоря откровенно, наше горе весьма велико; ведь невозможно было сделать худший для Вашей чести выбор, нежели в такой спешке выйти замуж за подданного, которого помимо прочих недостатков молва обвинила в убийстве Вашего покойного супруга, указывая и на Ваше соучастие, хотя мы полагаем, что это последнее сообщение ложно!»
Затем английская королева посочувствовала бедствиям Марии и уверила, что сделает все, что в ее власти, во имя ее чести и безопасности, а также даст подданным Марии знать, что поддерживает ее. Другими словами: «Если Вы настолько глупы, чтобы выйти замуж за убийцу, сделавшего Вас соучастницей, чего же Вы хотели?»
Елизавета отправила Трокмортона в Шотландию с подробными инструкциями: «Надлежит призвать к согласию между правительницей и лордами, а также провозгласить, что, будучи сестрой-правительницей, их королева не может содержаться в плену или быть лишена монаршего статуса». Послу надлежало также предупредить шотландцев, что «подданным не подобает наказывать своего государя, они могут лишь давать ему советы». В качестве посла Елизаветы Трокмортон получил свободу пожурить Марию за ее ошибки — его положение давало право на подобное оскорбление величества. Елизавета всегда подчеркивала нерушимость прав помазанника Божьего. Шотландцев также предостерегли против союза с Францией.
Трокмортон, которому нельзя не посочувствовать, принимая во внимание возложенную на него задачу, получил также меморандум Сесила: необходимо установить фактические доказательства вины Босуэлла, Мария должна поручить лордам начать судебное разбирательство в его отношении; надо созвать парламент; все земли Босуэлла нужно конфисковать и передать Марии для обеспечения приличного образования принца Якова; вопрос о престолонаследии должен быть «заново подтвержден» — конечно же на условиях Эдинбургского договора; реформистская церковь должна быть официально признана всеми, за исключением «только самой королевы»; наконец, четыре или шесть советников должны регулярно раз в месяц совещаться с ней. Трокмортону не дали никаких инструкций относительно того, каким образом он должен был добиться всего этого от мятежных лордов, однако наставления хорошо согласуются со страстным желанием Сесила установить протестантский режим, действующий в рамках закона. Затем министр добавил к меморандуму постскриптум: латинский текст «Athalia 4 regum, interrempta par Joas Regem». Это — ссылка на Ветхий Завет, где говорится о том, как царица Израильская Гофолия была убита священниками и знатью на четвертом году правления за искоренение «королевского семени Иуды»; она рвала на себе одежды и восклицала: «Измена! Измена!» Царицу сменил юный царь, мальчик Иоас, при котором правили регенты, пока он, повзрослев, сам не занял престол. Итак, Трокмортон должен был соблюдать букву закона, однако, если бы случилось что-то еще, Сесил не стал бы удивляться: ведь существовал библейский прецедент.
Трокмортон, явно в ходе личной беседы, ответил, что согласен с Сесилом: принцу Якову будет лучше жить в Англии, а он сам обеспокоен усиливающимся конфликтом лордов — сторонников Марии и сторонников возможного регентства. Он также добавил, что будет сопровождать французского посла, «чтобы узнать о его инструкциях». Джеймс Мелвилл сообщает о том, какие были образованы коалиции: с одной стороны Мортон, Хьюм, Атолл, Летингтон и сэр Джеймс Балфур — партия короля, а с другой стороны их враги Хэмилтоны и Хантли — партия королевы. «Лорды, которым было отказано в дружбе, собрались в Дамбартоне под предлогом освобождения королевы с оружием в руках… Они бы и не подумали этого делать, если бы были допущены в общество остальных».
Другой причиной, по которой Трокмортон желал держаться поближе к французскому послу, была информация о том, что все еще находившийся во Франции Морей обращался за помощью к кардиналу Лотарингскому и пытался оказать давление на Екатерину Медичи. Достигнув Уэра, что лежит в двадцати милях от Лондона, отправлявший депеши по мере своего продвижения Трокмортон все еще считал освобождение Марии главной «мишенью, по которой нужно стрелять». Из Ферри Бриддж в Йоркшире он написал, что Аргайл, Флеминг, Сетон и Бойд присоединились к Хэмилтонам и Хантли, а замок Дамбартон предоставлен в распоряжение Босуэлла — если тот вернется. В Берике, где, судя по его жалобам, жилье было больше похоже на тюремную камеру, чем на место отдыха, Трокмортон встретил Летингтона. Когда того спросили, на чем стоят лорды, Летингтон улыбнулся, покачал головой и ответил: «Для нас было бы лучше, если бы вы оставили нас в покое, в противном случае плохо будет и нам, и вам; боюсь, что в конце концов так и выйдет». До Трокмортона дошел слух, что Марии предложили убежище во Франции, в аббатстве, которым управляла ее тетка, а принц Яков будет сопровождать ее «во время благочестивого паломничества во Францию», оставив Шотландию под управлением регентского совета. Но поскольку ни французский посол, ни какой-либо другой дипломат не имели доступа к Марии, этот слух явно был абсурдным. Трокмортону не оставалось ничего другого, кроме как «вскочить в седло и отправиться в Эдинбург». Там он получил новое письмо от Елизаветы, предписывавшее ему уверить Марию, что для нее лучше всего отослать принца Якова в Англию, где с ним будут обращаться как с сыном английской королевы, а он «познакомится с ее страной». Трокмортон также быстро усвоил, «что ни один посол или иностранец не должен говорить с Марией до тех пор, пока не арестуют графа Босуэлла». Его доля на самом деле была незавидной.
Тем временем Мария восстанавливалась после сильного потрясения, вызванного пленением. 14 июля Трокмортон сообщал, что при шотландской королеве находились пять или шесть дам и две служанки и что она предавалась всем активным развлечениям, какие только были возможны на острове. Мария все еще могла присматривать за делами своей свиты и дала Трокмортону разрешение прибыть в Эдинбург, хотя на самом деле он уже был там. Вполне возможно, что эта информация не соответствовала действительности, поскольку Трокмортону представили приукрашенную картину жизни Марии в надежде смягчить гнев Елизаветы: при Марии по-прежнему находились только две служанки, прибывшие с ней из Холируда. Однако ее соблазнительное очарование возвращалось к ней. И молодой Рутвен, находясь так близко к несравненной красавице, свалял большого дурака.
Однажды он ворвался в спальню Марии в четыре часа утра, упал на колени и стал умолять ее выйти за него замуж в обмен на организацию ее побега. Это не стало для Марии сюрпризом, ибо Рутвен раньше отправил ей любовное письмо. Поэтому в ту ночь Мария приказала служанке спрятаться за гобеленом и засвидетельствовать происходящее. Можно предположить, что Рутвен предварительно уведомил Марию о своих намерениях, а затем, собравшись с духом — не без помощи алкоголя, — сделал предложение. Мария была на четвертом месяце беременности, все еще замужем за Босуэллом, а ее будущее казалось весьма туманным, но Рутвен был молод и самоуверен. Мария с негодованием отказала ему и сообщила о его поведении леди Дуглас. Рутвена отозвали. Эту историю Мария рассказала Клоду Но во время своего английского плена, поэтому она вполне может быть одной из сказок, какие любят рассказывать стареющие красавицы, с сожалением вспоминающие: «Конечно, все они были влюблены в меня!» — но кажется вполне вероятной, учитывая характер Рутвена.
Трокмортона не допускали к Марии, однако он регулярно сообщал об улучшении условий ее содержания, а также о ее решительном нежелании порывать с Босуэллом. Женщины Эдинбурга «были полны ярости и оскорбляли королеву», так что, находясь среди них, Трокмортон опасался за собственную безопасность. Все затаили дыхание, ожидая, пока лорды решат, какой следующий шаг стоит предпринять. Некоторые из дворян начали раздумывать, как отнесется к ним Мария, если выйдет на свободу. Все они косились на календарь: всего через пять месяцев Марии должно было исполниться двадцать пять лет, когда она по закону могла отменить сделанные ею ранее земельные пожалования в их пользу, лишив их доходов. Трокмортон передал лордам просьбу об освобождении Марии и проведении разбирательства в отношении Босуэлла. В лучших традициях дипломатии лорды попросили время на размышление.
Около 16 июля Марию посетил Роберт Мелвилл. К тому времени Трокмортон уже подозревал, что ее принудят отречься от престола. Существует вполне правдоподобная история о том, что он написал ей, сообщая, что подпись, данная под принуждением, не имеет законной силы. Мелвилл обернул письмо Трокмортона вокруг острия своей шпаги, вложил ее в ножны и таким образом доставил королеве. Мария, однако, передала ему свои просьбы к лордам. Нельзя ли перевести ее в Стирлинг, чтобы она могла быть рядом с сыном? Нельзя ли прислать к ней еще дам, аптекаря, «скромного пастора», кружевницу и пажа? Мария попросила разрешения увидеться с иностранными послами и сказала, что если лорды не желают обращаться с ней как с королевой, то не могли бы они обращаться с ней как с дочерью покойного короля и матерью молодого принца. Она отказалась отречься от Босуэлла, потому что это сделало бы ее нерожденного ребенка незаконнорожденным. Она также заявляла, «что уже семь недель беременна». Это означало, что ребенок был зачат, когда она уже была замужем за Босуэллом, однако она скорее всего изменила дату — на самом деле ребенок был зачат до свадьбы, в Данбаре, так что она была беременна уже три с половиной месяца.
Проблема законности ее ребенка была решена самым жестоким образом около 24 июля, когда Мария выкинула близнецов неопределенного пола. Тот факт, что эмбрионы были достаточно большими, чтобы их смогли разглядеть ее служанки — повивальной бабки при этом не случилось, — ясно указывает на то, что зачатие состоялось в Данбаре.
Учитывая ее состояние после выкидыша — у Марии было сильное кровотечение, следующий шаг лордов был чрезвычайно жестоким. Они наконец решили разрубить гордиев узел, и королеву посетил Линдси в сопровождении нотариев. Линдси привез с собой письма, в которых Мария официально обвинялась в соучастии в убийстве Дарнли и в совершении прелюбодеяния с Босуэллом. Кроме того, были три документа, которые Мария должна была подписать. Первый из них представлял собой отречение от престола. В нем говорилось, что она «столь опечалена и сломлена» бременем правления, что не может его больше выносить и по собственной воле и «из материнской любви» отдает корону и власть своему сыну. Поскольку Мария должна была признать, что бремя власти сломило ее, возложение этого бремени на младенца-сына вряд ли выглядит как акт материнской любви, но у составителей документа не было времени продумать такие тонкости — он был призван расчистить путь для коронации Якова. Второй документ передавал Морею власть регента вплоть до достижения Яковом семнадцати лет, а третьим документом Мария должна была назначить регентский совет из Шательро, Аргайла, Мортона, Гленкайрна и Мара, которому надлежало править, пока в Шотландию не вернется Морей, а потом и помогать ему в делах управления, если бы он того пожелал. Лорды предусмотрели всё. Линдси попросил Марию прочитать документы, но из его поведения было ясно: не имеет никакого значения, прочтет она их или нет. Некоторые источники утверждают, что на самом деле она их вовсе не читала.
Мария, находившаяся в постели и все еще очень слабая от потери крови, естественно, отказалась подписать документы, и атмосфера резко изменилась. Ей намекнули, что, если она не подпишет, ее выведут из замка и утопят в озере или же отвезут на «некий остров посреди моря, где будут содержать всю оставшуюся жизнь, и никто об этом не узнает». Мария «настойчиво» попросила дать ей возможность ответить перед парламентом на все содержавшиеся в письмах обвинения. Линдси сказал, что у него нет полномочий вести переговоры, а нотарии зачитали королеве документы. Затем они вновь спросили, каково ее решение, и Мария опять отказалась подписать их. Теперь, однако, Мария встала с постели и перебралась в кресло. Она осознала, что в мире реальной политики корона ей больше не принадлежит: ее отберут у нее либо законным образом — через отречение, либо силой — убив ее. Поскольку ей некуда было деваться, она подписала документы, попросив нотариев засвидетельствовать, что подписывает их под принуждением. Она запомнила совет Трокмортона, содержавшийся в переданном ей тайно письме. Так началась длинная череда заговоров и тайной переписки, которая будет продолжаться до самой ее смерти.
Именно тогда Марию перевели из покоев Дугласов в средневековую башню и отобрали бумагу, перья и чернила. Как обычно в безвыходной ситуации, Мария заболела, на этот раз желтухой, вызвавшей отеки и «окрашивание всего ее тела в ярко-желтый цвет». Отек, вероятно, был вызван спровоцированным выкидышем тромбозом вен. К ней допустили врача, который давал ей стимулирующие сердечные средства и делал кровопускания до тех пор, пока она не поправилась. Болезнь и более строгий режим содержания отрезали Марию от новостей, не давая ей возможность узнать о том, что происходило в Эдинбурге и Стирлинге.
Трокмортон сначала встретился с Летингтоном, немедленно известившим его, что любая попытка Англии оказать поддержку Марии поставит под угрозу ее жизнь. Затем посол встретился с лордами — уже надевшими шпоры и готовыми скакать в Стирлинг — и просил их повременить с отречением, поскольку не на благо государству передавать власть ребенку. Ему ответили: «Королевство еще никогда не управлялось хуже, ведь королева получала дурные советы или не получала их вовсе», а затем лорды удалились. Потом Трокмортон просил Сесила, и совершенно напрасно, как оказалось, отозвать его в Лондон, потому что ему больше нечего здесь делать. Это спасло бы его от неловкости, ведь лорды пригласили его принять участие в коронации, и его согласие означало бы, что Елизавета признала свершившееся. Дилемма была разрешена 26 июля, когда Трокмортон получил длинное письмо от Елизаветы, приказывавшей ему оставаться в Эдинбурге и продолжать настаивать на освобождении Марии. Она должна знать, насколько «мы не одобряем их действия», писала Елизавета. Однако Сесил вычеркнул слово «их» и вставил вместо него «ее», изменив тем самым весь тон письма. Трокмортон должен был передать лордам: «Мы откровенно выступим против вас, мстя за вашу правительницу в назидание потомству… Вы можете заверить их, что мы не менее их ужасаемся убийству нашего кузена короля и нам точно так же не нравится брак королевы с Босуэллом. Однако им не пристало… призывать ее… к ответу на обвинения силой; ведь мы считаем неестественным, чтобы голова отвечала перед ногой». Наконец, ему «ни в коем случае» не разрешалось присутствовать на коронации.
Мелвилл написал Елизавете 29 июля 1567 года, что Мария «предпочла бы, чтобы она сама и принц находились скорее в Вашем королевстве, нежели где бы то ни было еще в христианском мире». Что более важно, в тот же самый день тринадцатимесячного мальчика короновали в приходской церкви Стирлинга как Якова VI, а шотландские дворяне прикоснулись к короне в знак своей верности. Мятежники держали все под контролем: Мортон и Эрскин из Дана принесли за принца присягу, Рутвен и Линдси подтвердили отречение Марии, а Нокс произнес проповедь на текст из Первой книги Царств, где речь шла о коронации восьмилетнего Иосии, «делавшего угодное в очах Господних»[83]. Единственная причина разногласий состояла в том, что Яков был помазан священником, против чего «протестовали Нокс и прочие проповедники», однако собравшийся для коронации кортеж торжественно проследовал к замку: Атолл нес корону, Мортон — скипетр, Гленкайрн — меч, а Мар как королевский гувернер — самого короля. В записях значится, что церемонию засвидетельствовали Нокс, судебный клерк и Кемпбелл из Кинзенклоха. В Эдинбурге жители провозгласили Якова королем «с радостью, танцуя и восхваляя его», а «по всей Шотландии трещали фейерверки, палили пушки и звонили церковные колокола». Дуглас из Лохливена, злонамеренно продемонстрировав отсутствие такта, устроил фейерверк, а вся его свита танцевала в саду. Мария в своей темнице со страхом осведомилась о причине торжеств, и кто-то из слуг бестактно объяснил ей, что «в своем бахвальстве она утратила власть и не имеет больше силы отомстить им». В ответ Мария сказала, что теперь у них есть король, который отомстит за нее, а затем с полным на то основанием упала на колени и «долго и горько плакала». Можно сказать, что она не была больше шотландской королевой, однако когда в середине августа она написала Трокмортону «из своей тюрьмы на острове Лохливен», то подписалась «Marie R»[84]. Раньше ее подпись представляла собой просто «MARIE», но теперь она утверждала свой королевский статус.
Мария, впрочем, была отнюдь не лишена друзей. Ходили слухи, что на западе собирает силы партия Хэмилтонов, стараясь не спровоцировать лордов на действия против нее. Партия королевы, однако, не позволила герольдам объявить о ее отречении и коронации Якова. В день коронации в Дамбартоне было подписано соглашение между Хэмилтоном, архиепископом Сент-Эндрюсским, Аргайлом, Хантли, Арбротом, Гэллоуэем, Джоном Лесли, епископом Росским, Херрисом и другими. Документ требовал освобождения Марии. В Англии гнев Елизаветы не уменьшался, и Сесил боялся, что она может решиться на открытую войну. Впрочем, он доверительно сообщил Трокмортону, что причины ее поведения состояли в том, что, во-первых, она желала создать у народа впечатление, что ни в коем случае не одобряет содержания монарха под арестом, а во-вторых, она не хотела допустить прецедента, который можно было бы впоследствии обратить против нее самой.
Как только 12 апреля Морей прибыл в Эдинбург, Трокмортон нанес ему визит. Морей сказал ему, что примет на себя регентство, хотя и не без дипломатичного колебания. Вместе с Мореем приехал французский посол де Линьероль, который открыто заявлял: тонкости дипломатии требуют создать впечатление, будто Франция оказывает давление с целью освободить Марию, которая была суверенной правительницей, невесткой его короля, а между странами существовала долгая традиция дружеских отношений. Посол не имел намерений добиваться доступа к Марии и, сообщив о своем поручении лордам, должен был немедленно вернуться во Францию.
Три дня спустя, 15 августа, Морей в сопровождении Атолла, Мортона и Линдси навестил Марию. После ужина Морей проговорил со своей сводной сестрой два часа наедине. Их беседа странным образом напоминала их встречу в Реймсе шесть лет назад, в 1561 году. В тот раз Морей, тогда еще просто лорд Джеймс, был отправлен лордами узнать, «что у королевы на уме»; вместе они выработали условия, на которых Мария могла вернуться и править в Шотландии. Теперь Морей должен был указать причины, по которым она не могла больше оставаться королевой, а он заменял ее в качестве регента. Существуют две сильно отличающиеся одна от другой версии этой встречи.
Первая версия была изложена Мореем Трокмортону. «Он (Морей) вел себя по отношению к ней скорее как духовный наставник, нежели советник». Мария вынуждена была посмотреть в лицо фактам: она пришла к власти в относительно благополучной стране, поддерживавшей добрые отношения с Англией и Францией, официально признавшей Реформацию и теперь постепенно ее принимавшей; прошлые раздоры знати постепенно отходили в прошлое по мере того, как дворяне принимали власть сильного монарха, а торговля с Англией и континентальной Европой процветала. Вместо сильного монарха Шотландия получила прекрасную девушку, предпочитавшую политике развлечения и своим своевольным браком испортившую отношения с Англией; ее игнорировала французская королева, пришедшая в ужас из-за ее возможного участия в убийстве короля, а ее невнимание к государственным делам поставило страну на грань гражданской войны. Морей оставил Марию в тот вечер, «не надеясь ни на что, кроме милосердия Божьего». Неудивительно, что Мария горько плакала.
Собственную версию событий Мария изложила Клоду Но десять лет спустя. Морей прибыл на берег озера, высокомерно оседлав одну из лошадей Марии, и, к ее большому удовольствию, свалился с нее прямо в воду. Как именно она рассмотрела это происшествие из своей тюрьмы, остается тайной. Морей повел себя вовсе не так почтительно, как подобало бы человеку, ужинавшему в обществе своей правительницы; позднее ей пришлось напомнить ему о долге по отношению к королеве. Он спросил ее совета относительно того, стоит ли ему принять регентство, ведь другие кандидаты могут и не относиться к Марии со свойственной ему мягкостью. Она напомнила ему, что единственная обладает законной властью перед Богом, а те, кто готовы ее узурпировать, с легкостью заменят его. Мария сказала Морею: «Тот, кто не держит слова, когда должен, вряд ли сдержит его, когда нет обязательств». Все его слова о ее покровительстве и защите Мария сочла обманом. Она попросила вернуть ей кольцо, которое было подарено ей Генрихом II. Морей отказался, заявив, что лорды вынуждены конфисковать ее драгоценности на тот случай, если она решит использовать их, чтобы финансировать свой побег. Клод Но прокомментировал: «Тут проявилось все высокомерие этого несчастного, который не поколебался обратить личную собственность королевы против нее».
Как всегда, истина лежит посередине между этими двумя версиями, ведь оба участника помнили только то, что им хотелось помнить в соответствии с их намерениями. Морей был по понятным причинам зол на свою сводную сестру и сожалел, что в свое время отправился за ней во Францию, тогда как Мария, словно бы заткнув уши, не слышала ничего, кроме несправедливых упреков в адрес монарха, который по данному ему от Бога праву стоял над людьми.
Шесть дней спустя, 22 августа 1567 года, «герольды и трубачи» у Хай-кросс в Эдинбурге провозгласили Морея регентом Шотландии. Он поклялся, подчиняясь королю, охранять истинную веру, созывать парламент и не поддерживать контактов с Марией без ведома Тайного совета. Де Линьероль уехал во Францию с обычной коллекцией серебряной посуды, а Трокмортон немедленно сообщил о произошедшем Елизавете, которая в ответ дала ему позволение сообщить партии Хэмилтона о ее поддержке. Партия королевы опять отказалась позволить герольдам сделать объявление на западе страны.
Когда Мария прослышала о том, что 15 декабря Морей созывает парламент, то увидела в этом возможность публичного рассмотрения ее дела и написала Морею длинное письмо. Она напомнила, что всегда обращалась с ним как с родным братом, а не как с незаконнорожденным, и доверяла ему управление всем королевством с тех пор, как оно перешло к ней. Она требовала разрешения на парламентские слушания, обещая, что, если парламент того потребует, она «отречется от власти, данной ей Богом».
Морей отказался дать разрешение, а 4 декабря Тайный совет подтвердил существование бумаг, «написанных ею собственноручно», которые указывали на соучастие Марии в убийстве Дарнли и даже обвиняли ее в заговоре с целью погубить младенца Якова. Постепенно стали распространяться слухи о Крейгмилларском соглашении, и, по сообщению Друри, Летингтон сжег все существовавшие его копии, за исключением одной, касавшейся «участия королевы; сохраненной, чтобы показать при случае». Чтобы увязать между собой тюремное заключение Марии и регентство Морея, собравшийся 15 декабря парламент придал действиям мятежных лордов законную форму. Убийство Дарнли, мятеж Босуэлла и заключение Марии в Лохливене произошли «по вине самой королевы». Босуэлла описали как «главного исполнителя указанного ужасного убийства». Прозвучало требование заслушать письма Босуэлла и Марии, но их не предъявили, хотя парламентариев заверили в том, что они доказывали: «Она заранее знала и соучаствовала в упомянутом убийстве короля, своего законного супруга». Парламент также отметил «передачу короны и власти в королевстве, совершенную ее милостью королевой, дражайшей матерью нашего господина, подтвержденную ее письмами, подписанными лично и запечатанными ее личной печатью 24 июля». Парламент также мудро ратифицировал все сделанные Марией земельные пожалования, тем самым не давая ей возможности отозвать их в день своего рождения. Мария больше не была королевой Шотландии, она сама провозгласила: «Мы так расстроены и опечалены, что наши тело и дух не в состоянии сохранять силу в данной ситуации. Поэтому мы отказались от управления нашим королевством».
Довольно неуклюже высказывая пожелание, чтобы такое никогда больше не случалось в будущем, парламент выступил против женщин в целом: «Женщин не дблжно ни в коем случае допускать к публичной власти в королевстве или позволять им иметь ее в стране».
Лорд Херрис объявил протест в отношении писем об отречении, назвал их недействительными и потребовал нанести визит Марии, чтобы лично услышать ее пожелания. Он возглавил парламентское меньшинство, отказавшееся подписать акт об отречении. Этот акт тем не менее был принят наряду с остальными актами, укреплявшими реформированную церковь, включая исповедание веры, заново утверждавшее положения кальвинистского учения, а также более радикальными актами, направленными против католиков. Партия Хэмилтонов на заседании парламента не присутствовала.
Морей провел два дня в Эдинбургском замке, а затем начал свое регентство с конфискации всего имущества Босуэлла, немедленно вынудив Патрика Уилсона, объявленного убийцей короля, передать ему замок Данбар. Эти действия имели более важное значение, нежели просто подчинение территорий, ведь именно в Данбаре хранилась основная часть драгоценностей Марии. Как она справедливо полагала, Морей наложил руку на всё, включая ее кольца. Мария знала, как это случается: так было с Дианой де Пуатье после смерти Генриха II и с ней самой после смерти Франциска II. В обоих случаях драгоценности становились собственностью короля, однако теперь Морей подарил некоторые из них жене, а остальные сохранил для себя.
В сентябре Морей принял делегацию лордов, преподнесших ему позолоченную посуду и задавших вопрос о его намерениях в отношении Босуэлла. Морей ответил им, что «не стоит делить шкуру неубитого медведя». Трокмортон также отметил, что Хэмилтоны «созвали вассалов на западе страны». 5 сентября Бедфорд сообщил Сесилу, что Морей собирается выступить против них с оружием в руках. Однако 15 сентября Морей принял Аргайла и Хэмилтонов для обсуждения спорных вопросов. Это, должно быть, оказалось бесполезным, поскольку 17 сентября Хэмилтоны потребовали освободить королеву и призвать к ответственности убийц Дарнли. Они поклялись в верности Якову, однако как принцу, а не королю, и вознамерились «помочь лордам, которые поддержали наше дело». К тому времени они смогли собрать 400 пехотинцев и получили обещание, что будут присланы еще 9 тысяч. Ясно обрисовались противоборствующие стороны, хотя 14 октября Морей уверял Сесила: «Состояние королевства указывает на всеобщее спокойствие». Однако подводный камень — тайные письма из шкатулки, становившиеся все менее и менее тайными, — оказался на виду 16 сентября, когда Морей в присутствии лордов Тайного совета подписал расписку в получении ларца. Как и Мортон, он объявил письма подлинными.
Морею также пришлось столкнуться с извечной проблемой любого правительства: у него теперь «почти не осталось денег», и он начал распоряжаться драгоценностями Марии, продав некоторые из них всегда готовой к новым приобретениям Елизавете. Сама Мария постепенно смирялась со своим заключением, «нарастила жирок», «вместо ярости проявляла благодушие и уже разжалобила многих». Вероятно, она всегда имела склонность к полноте, но раньше контролировала свой вес при помощи постоянной физической активности. Лишенная этой возможности, она быстро располнела. Начиная с июня в замок стали приходить сундуки с одеждой и прочими вещами для пленной королевы, к которой теперь присоединилась Мэри Сетон, хотя от прежней роскоши королевского гардероба не осталось и следа. Среди присланного были ткань для вышивания и для платьев, новые туфли, головные платки, нижнее белье и даже накладные волосы для прически. Подобно всем заключенным, Мария постоянно надеялась на освобождение, но в то же время страшилась событий, которые разворачивались за стенами ее темницы.
У второстепенных участников заговора против Дарнли исторгли признания, и они были казнены с варварской жестокостью. Их признания показывали, что главным организатором заговора был Босуэлл, теперь благополучно пребывавший в заграничной тюрьме, а его жена, бывшая королева, являлась его соучастницей. Все это было вполне удовлетворительно, и прочие лорды, подписавшие Крейгмилларское соглашение, могли спать спокойно в своих постелях. Лорды даже размышляли о возможности нового брака для Марии — она все еще оставалась женой Босуэлла, но эту неприятную деталь легко было исправить — и приняли во внимание целый ряд возможных кандидатов из числа знати, хотя саму Марию вряд ли спросили.
Она все еще оставалась пленницей, мечтавшей о побеге. Однако Мария хотела бежать из Лохливена не для того, чтобы бороться за королевскую власть, но скорее чтобы вновь наслаждаться жизнью принцессы. Она написала Екатерине Медичи и Елизавете, прося о помощи, причем ей удалось тайно переправить письма за пределы замка. Впрочем, ни одна из правительниц не была склонна рисковать, чтобы спасти королеву, обвинявшуюся в убийстве мужа. Возможности самой Марии организовать побег были незначительными, ведь, чтобы написать эти письма, ей даже пришлось изготовлять чернила из каминной сажи. Она смогла очаровать лодочника, переправившего ее послания, но вся остальная прислуга находилась под постоянным наблюдением: тюремщики Марии были такими же пленниками, как и она сама. Королева, однако, превратила в своего добровольного помощника Джорджа Дугласа, младшего брата сэра Уильяма. Когда брат приказал ему покинуть остров после одной из многочисленных ссор в семействе Дугласов, Джордж сумел вступить в контакт с лордом Сетоном, верным сторонником Марии.
Первая попытка побега Марии, состоявшаяся в конце весны, предполагала переодевание в прачку, а Мэри Сетон в это время должна была оставаться на острове и играть роль королевы. Однако один из лодочников заподозрил, кем на самом деле являлась служанка шести футов ростом, и попытался сорвать закрывавший ее лицо шарф. Мария инстинктивно схватилась за шарф, выдав себя — ведь руки у прачки красные и огрубевшие от постоянной стирки, а руки женщины в лодке были белыми, с изящными длинными пальцами. Хотя королева вернулась в свою тюрьму, лодочник никому не сказал о попытке побега.
Теперь Мария использовала в качестве курьера юного сироту Уилли Дугласа, однако он был ненадежен и даже умудрился потерять адресованные ей письма, которые нашла дочь лэрда. Девочка обещала сохранить все в секрете, если Мария возьмет ее с собой, но та, почувствовав возможную ловушку, ответила, что не имеет намерения бежать. Уилли, которого Мария вознаградила золотыми, был обвинен в подготовке побега и изгнан с острова. Удивительно, но сэр Уильям и леди Дуглас не усилили мер безопасности, однако похвалялись перед самой Марией, что хорошенько о ней позаботятся. Тем временем Джордж Дуглас и лорд Сетон собрали группу вооруженных людей в прибрежной деревне у Лохливена и ждали там известий. Юному Уилли позволили вернуться, и он сообщил Марии, что ее побег запланирован на 2 мая.
Незадолго до назначенного срока произошла случайная заварушка, когда слуги подняли ложную тревогу, обернувшуюся бедой: один из людей сэра Уильяма схватил аркебузу — считая, как он утверждал позднее, что она заряжена только пыжом, — и выстрелил в толпу, ранив двоих зевак.
2 мая Уилли организовал праздник Неразумия, на котором он сам был Аббатом Беспорядка, и настоял на том, чтобы Мария следовала за ним повсюду, куда бы он ни пошел. Благодаря этому ему удалось нарушить заведенный в замке распорядок и отвлечь внимание от действий, которые в обычной обстановке вызвали бы всеобщую тревогу. В прибрежной деревне появилась большая группа вооруженных всадников во главе с Джеймсом Хэмилтоном из Ормистона, а сама Мария до ужина удерживала леди Дуглас беседой, чтобы та не увидела их. Сэр Уильям заметил, как Уилли сковывал цепью и привязывал все лодки на острове, кроме одной, но Марии удалось отвлечь и его внимание. Мария получила от Джорджа Дугласа жемчужину при посредничестве подкупленного крупной взяткой лодочника — это был сигнал, означавший, что все готово.
Сэр Уильям лично подал ужин Марии и затем оставил ее на попечении «человека по имени Драйсдейл», который позднее ушел играть в ручной мяч. Мария покинула двух дочерей хозяина замка, сказав им, будто идет молиться, что и делала весьма благочестиво до тех пор, пока не пришло время надеть плащ с капюшоном. Так же поступила одна из ее служанок. Все фрейлины Марии, в том числе Мэри Сетон, Джейн Кеннеди и француженка Мари де Курселль, были посвящены в план побега. Тем временем Уилли, прислуживая сэру Уильяму, выкрал ключ от главных ворот. Затем он и Мария на глазах нескольких слуг миновали главный двор и вышли в ворота, Уилли запер их за собой и бросил ключ в дуло ближайшей пушки. Марию узнали несколько прачек, но Уилли приказал им молчать, а затем королева села в лодку. Лодочник посоветовал ей лечь на дно лодки на случай, если начнут стрелять. Путь через озеро — от заключения к свободе — занял всего несколько минут. На берегу королеву встретили Джордж Дуглас и Джон Битон с лошадьми, а также верный Уилли Дуглас. После того как они проехали две мили, к эскорту королевы присоединились лорд Сетон и лэрд Риккартона, они переправили ее через реку Форт у Квинсферри. На южном берегу реки Марию приветствовал Клод Хэмилтон, второй сын герцога Шательро, приведший еще двадцать лошадей. Около полуночи кортеж благополучно прибыл в замок Сетона в деревне Ниддри.
Наши познания о последующих событиях основываются на воспоминаниях Марии, записанных Клодом Но. Она припоминала, что в Ниддри ее ожидали — нет, не новости о политических делах в Шотландии — «платья и прочие вещи, подобающие ее полу и положению». Поскольку личный гардероб Марии находился в руках Морея и лордов-конфедератов, эти платья, должно быть, у кого-то одолжили. Из замка Ниддри Мария, проехав двадцать пять миль, попала в Хэмилтон, где могла не беспокоиться о возможном нападении лордов. Трокмортон, впрочем, не доверял побуждениям Хэмилтонов: «Те, кто организовал побег, сделали это исключительно ради того, чтобы захватить власть в королевстве».
Тем временем в замке Лохливен дочери Дугласа быстро обнаружили отсутствие Марии, и сэр Уильям осознал, что самая важная заключенная в Шотландии только что сбежала у него из-под носа. Его театральная и неудачная попытка совершить самоубийство, заколовшись, была отмечена властями, и возмездия не последовало. Сэр Уильям не производил впечатления очень умного человека, однако он находился в сложном положении: ему приходилось угождать своему сводному брату Морею и одновременно вести себя благородно по отношению к Марии на тот случай, если бы ей удалось вернуться к власти. Как многие люди, застигнутые государственным переворотом, он вполне разумно воздерживался от того, чтобы открыто принять ту или иную сторону. Три дня спустя он отправил вслед Марии ее вещи, так что она опять получила обратно часть имущества.
При Марии теперь находились два новых человека — Джордж и Уилли Дугласы; оба они поддались ее чарам и добровольно продолжали ей служить. Королева — теперь в качестве свободной женщины — стала магнитом для своих сторонников. 8 мая в Хэмилтоне было подписано новое соглашение. Среди подписавших были девять графов, девять епископов, восемнадцать лордов и многие другие; они обещали «служить и повиноваться королеве, отдавая ей свои тела, земли, друзей и т. п.». Тем не менее «их силы не слишком велики и совсем не организованы».
Регент Морей в это время отнюдь не бездействовал. 3 мая он, как говорят, «пребывая в сильном изумлении», приказал собрать армию в Глазго, а четыре дня спустя Роберт Лепревик напечатал объявление, ставившее всех сторонников Марии вне закона как изменников. Поскольку сам Морей находился в Глазго, всего в восьми милях от Хэмилтона, и обе стороны могли быстро встретиться, шансы на повторение нелепого «Загонного рейда» были невелики. Мария объявила свое вынужденное отречение недействительным, а Друри сказал Трокмортону: он сомневается, что она вообще прочла документ. Мария теперь вела себя так, как если бы вернула себе полную власть. Она отправила Хёпберна из Риккартона в Данбар с инструкциями захватить замок, а потом отправиться в Данию и отозвать Босуэлла. Путешествие оказалось досадно неудачным, и ни одна из целей не была достигнута.
Марии, однако, надлежало решить, насколько жестко она будет добиваться восстановления собственной власти. Мелвилл сообщал, что «она не собиралась сражаться или рисковать в полной превратностей битве» — вполне объяснимое настроение после Карберри, — но Хэмилтоны посоветовали ей начать войну, так как поняли, что имеют численное преимущество над силами Морея, причем рекомендовали наступать и немедленно ввязываться в сражение. Мария 5 и 6 мая написала письма «всем королям, принцам, герцогам, владетелям и магистратам, нашим подданным… всем нашим законным и благонамеренным друзьям». Письма были крайне резкими: королева назвала Морея «бесчестным ублюдком», «чудовищным изменником», убившим Дарнли и подстрекавшим Босуэлла похитить ее. Шательро теперь был ее «приемным отцом»; она отказалась от собственного отречения и назначила Шательро и его наследников регентами и наставниками Якова «на случай ее отсутствия за границей». В случае ее смерти Шательро и дом Хэмилтонов должен был унаследовать корону. Летингтона и Балфура осудили как изменников вместе с лэрдом Крейгмиллара, а Сессфорд и Керр из Фаудонсайда были названы бездушными проклятыми тиранами. Список продолжался в том же духе, однако сомнительно, чтобы письма были подписаны или доставлены по назначению. Историк Хэй Флеминг считает, что Мария, безусловно, видела их и одобрила, возможно, даже участвовала в их составлении, но подлинным автором был Хэмилтон, архиепископ Сент-Эндрюсский.
Наилучшим решением было бы занять выгодную оборонительную позицию и там сосредоточить объединенную армию для выступления против Морея, отряды которого уже начали переходить на сторону Марии и присоединяться к ее войскам под командованием Аргайла. Быстрое передвижение на север, чтобы обойти Глазго с востока, открыло бы дорогу на Дамбартон, а численное преимущество сдержало бы действия Морея. В Дамбартоне Мария смогла бы перевести дух и собрать силы — «постепенно призвать своих подданных к подчинению». Более того, если бы она двигалась достаточно быстро, то смогла бы достичь Стирлинга, находившегося под контролем Мара, прежде, чем последний успел бы соединиться с силами Морея. К несчастью, возобладали воинственные намерения Хэмилтонов и Аргайла, и Мария, отвергнув свой прежний план «не рисковать в сражении, а отправиться к замку Дамбартон», приняла худшее решение и выступила на северо-запад с шестью тысячами человек. Морей был удивлен этим шагом, однако направился на юго-восток к воротам Галлоугейт и разместил свои куда менее внушитедьные силы на холме у деревни Лэнгсайд. Мария не ожидала никаких военных действий и вела свою армию как обычно — словно бы «на парад».
Лэнгсайд имела форму буквы «Т», а длинная узкая улица Лонг Лоан — всего сорока футов в ширину — шла с севера на юг. Она состояла из домов, окруженных небольшими садами. Там Киркалди из Грэнджа разместил аркебузиров, которые должны были играть роль снайперов. Копейщиков и кавалеристов он разместил на западной стороне деревни.
Авангард армии Марии составлял Херрис и его кавалеристы из Пограничного края. Они смело ворвались в деревню, однако, оказавшись в пределах Лонг Лоан — худшая тактика для конницы, — попали под уничтожающий огонь людей Киркалди. Кавалерия не предназначена для рукопашной схватки, и отряд Киркалди с легкостью устранял одного всадника за другим. Но, даже несмотря на потери, Херрис продвигался вперед, ему была жизненно необходима помощь основной армии, находившейся под командованием Аргайла. В этот критический для сражения момент граф Аргайл не отдал приказа наступать.
Расположенные к нему хронисты утверждают, что у него внезапно случился приступ «каменной болезни» и граф потерял сознание от боли. Скептики же указывают, что, будучи шурином Морея, он мог рассчитывать на высокое положение в случае, если бы Мария проиграла сражение. Один анонимный комментатор утверждал, что он «упал в обморок в начале сражения от трусости». В любом случае не был отдан приказ поддержать Херриса, а Киркалди приказал своим копейщикам атаковать оставшихся без командира горцев Аргайла. Мария, находившаяся на ближайшем холме, видела, как горцы Аргайла побросали оружие и бежали с поля боя. Копейщики яростно напали на главные силы ее армии, а когда их копья были сломаны, «бросали в лицо врагу кинжалы, обломки копий, камни и все, что попадалось под руку». Все закончилось в течение часа. Морей потерял одного человека, тогда как армия Марии потеряла сто человек убитыми и еще триста были взяты в плен.
Юный Яков VI. Портрет работы Арнольда ван Бронкхорса. 1589 г.
Давид Риццио, секретарь Марии Стюарт. Гравюра на меди. 1564 г.
Лорд Джеймс Стюарт, граф Морей, сводный брат Марии
Мария и Риццио
Убийство Риццио
Знамя лордов-конфедератов, под которым они сражались при Карберри.
На нем изображен убитый Дарнли, лежащий в саду; в руках ребенка надпись: «О Господи, рассуди мое дело и отомсти за меня»
Джеймс Хёпберн, граф Босуэлл, — третий супруг Марии Стюарт
Замок Крейгмиллар.
Здесь лорды-конфедераты планировали убийство Дарнли
Замок Хэрмитедж, неприступная крепость Босуэлла. Предание гласит, что любой, кто не рожден в этих местах, сойдет с ума, если решит провести ночь в его стенах
Замок Лохливен, в котором содержалась под стражей Мария Стюарт
Английская королева Елизавета I
Молитвенник Марии Стюарт
Мария-пленница
Страница из письма Елизаветы I
Мария Стюарт в возрасте 36 лет
Томас Говард, герцог Норфолк
Процесс Марии Стюарт в Фотерингее.
Рисунок современника
Последнее письмо Марии Стюарт, написанное в ночь перед казнью Генриху III Французскому
Мария перед казнью. Картина С. Ванутелли. 1861 г.
Казнь. Рисунок очевидца
Казнь Марии Стюарт. Художник Голл. 1613 г.
Надгробие на могиле Марии Стюарт в Вестминстерском аббатстве
Скульптурное изображение Марии Стюарт в Люксембургском саду в Париже
Можно и не упоминать, что Брантом — которого там не было — рассказывал, что Мария лично обращалась к войскам, стремясь воодушевить их. Однако истина менее романтична: единственный шанс сохранить свободу заключался в том, чтобы ускакать на юг, в Гэлоуэй. Сначала Мария думала ехать дальше на север, по направлению к Дамбартону, однако вскоре повернула на юг. Морей отказался от преследования Марии, он считал, что она — беглянка, ее сторонники рассеяны, внешность ее известна всем и прятаться ей негде.
Реальность была совсем иной. Сторонники Морея покидали его уже с начала апреля, когда он держал открытый суд в Глазго и вынес крайне суровые приговоры. Несмотря на все парламентские акты, власть регента подвергалась сомнению, а число сторонников Марии росло. Французский посол в Лондоне де ла Форе считал, что две трети шотландцев выступали за Марию, а не за Морея. Даже его сторонники советовали ему не идти на юг к Лэнгсайду, а отступить к Стирлингу, где Мар держал для него замок и короля. Если бы Мария придерживалась собственного плана занять Дамбартон, она на самом деле создала бы опору собственной власти, вокруг которой можно было бы собрать достаточно сторонников для восстановления ее на троне.
Вместо этого, приняв первое из целой серии катастрофических решений, королева в сопровождении лорда Херриса и нескольких личных слуг обратилась в бегство, хотя обстоятельства того не требовали. Королевская свита направилась в долину Лох Кен, чтобы пересечь реку Ди у деревни Тонгленд. Там она сожгла мост, чтобы задержать несуществующих преследователей. Вся еда, которой располагала Мария, заключалась в хлебе, размоченном в воде источника, отдохнуть ей удалось в близлежащем поместье, пока ее спутники поджигали мост. В конце концов они добрались до замка лорда Максвелла в Террегле, в миле от Дамфриза. Мария побывала в этой части страны во время «Загонного рейда», однако теперешнее путешествие совсем не напоминало триумфальное продвижение королевы по стране. В письме кардиналу Лотарингскому, написанном три дня спустя, она рассказала о своем путешествии:
«Я испытала оскорбления, бедствия, тюремное заключение, голод, холод, жару, бегство в неизвестном направлении; я проделала 92 мили, не останавливаясь и не сходя с седла. Мне приходилось спать на голой земле, пить прокисшее молоко и есть овсянку без хлеба. Три ночи я провела без сна, без спутницы-женщины, в стране, где вдобавок ко всему этому я почти что пленница… Мне все равно, что случится со мной, но я не хочу, чтобы мои подданные были обмануты и погублены. Ведь у меня есть сын, которого мне больно оставлять в руках изменников».
Прошло шесть лет с тех пор, как Рэндолф написал: «Она жалеет лишь о том, что она — не мужчина, и не знает, каково это — провести всю ночь на поле боя или же ходить по замковой стене, надев шлем и взяв в руки выкованные в Глазго щит и меч». Столкновения Марии Стюарт с реальностью всегда оказывались неприятными. Теперь же на кону стояло само ее существование и необходимо было принять решение относительно будущего.
Находясь в Террегле, Мария могла выбирать из нескольких вариантов. Первый из них, к которому склонялись ее сторонники, заключался в том, чтобы собрать войска в Дамфризе и Гэлоуэе и вновь двинуться на север. Морей покинул Глазго, он совсем утратил популярность, конфисковав имущество сторонников Марии и тем самым только увеличив их число. Оставаться в Шотландии и сражаться против регента было не только реальной возможностью, но и наиболее разумным решением.
Другим вариантом было бегство во Францию, где Мария была не только герцогиней Туренской, но и вдовствующей королевой. Во Франции Екатерина Медичи уж конечно позаботилась бы о том, чтобы Мария Стюарт не имела никакого политического влияния — этого Мария в любом случае не хотела, — но там ей бы позволили вести относительно комфортную жизнь в сельском уединении. Двадцатишестилетняя Мария еще могла выйти замуж, и под неусыпным контролем Екатерины опять превратилась бы в пешку на поле династических игр, хотя теперь была бы не в состоянии упрямо следовать собственным идеям. Кроме того, во Франции всегда возможно было достаточно длительное время жить в богатом монастыре.
Последним, и наименее привлекательным вариантом было бегство в Англию и обращение за помощью к кузине Елизавете. Однако Елизавета ни за что не стала бы тратить деньги на войну ради восстановления Марии на престоле, не получив гарантий какой-либо выгоды для себя. Присутствие младенца-короля в Лондоне могло бы оказаться выгодным, но он находился в руках регента Морея. Возможно, Мария смогла бы просто жить в качестве королевской гостьи с собственным двором. Но Сесил быстро указал бы, что за Марией придется постоянно наблюдать, так как она станет естественным центром притяжения для католиков, а ее личная безответственность приведет ее к опасным играм. Елизавета была бы счастлива видеть свою кузину удобно устроившейся в сказочном замке на Луаре со шпионами Сесила в составе свиты.
Наряду с другими сторонниками Марии Херрис решительно выступал за то, чтобы остаться в Шотландии. Если бы Мария отвоевала свой трон — а у нее были на то хорошие шансы, — они могли быть уверены в щедрой благодарности, в противном случае они отдавались на милость Морея и его союзников. Возможность бегства во Францию зависела от способности Марии принять унижение от своей бывшей свекрови, но умение смиряться никогда не относилось к числу добродетелей семейства Гизов. Елизавета вряд ли могла отказать мольбам кузины о помощи, ведь та тоже была помазанной королевой. Английская королева открыто выразила свое возмущение ужасным событием — смещением Марии, и та предпочла забыть ее сдержанные высказывания по поводу брака с Босуэллом. Она отправится в Англию. Как и в случае брака с Дарнли, Мария сделала худший выбор из возможных, а сделав его, упрямо отказалась слушать любые советы.
Возможно, Мария полностью разочаровалась в родной стране. За семь лет пребывания в ней она столкнулась с враждебностью Нокса и подозрительностью протестантских лордов; выполняя свой долг, вышла замуж за сифилитика-бисексуала; стала свидетельницей того, как ее любимого советника закололи у нее на глазах; поставленная в безвыходное положение, оказалась в курсе планов убийства собственного мужа. Потом она вышла замуж еще раз, была пленена, родила мертвых близнецов в тюрьме, видела, как ее солдаты бежали перед мятежниками, которых возглавлял ее сводный брат. Марию можно простить за то, что она больше не хотела иметь ничего общего с Шотландией. Лорд Херрис против своей воли написал Ричарду Лоуэру, заместителю коменданта замка Карлайл, предупреждая его о предстоящем приезде Марии.
Было решено сначала отправиться к аббатству Дандреннан. Там Мария передохнула достаточно, чтобы написать короткое письмо Елизавете. В нем она выражала надежду в скором времени увидеть английскую королеву и лично рассказать ей о своих бедствиях. В воскресенье 16 мая 1568 года в три часа дня Мария Стюарт в сопровождении путешествовавших без всякого желания Херриса, Максвелла, Флеминга и лорда Клода Хэмилтона, а также еще шестнадцати личных слуг взошла на борт небольшой рыбачьей шхуны и отправилась в Англию. Она больше никогда не увидит свою родную страну.
Часть IV
АНГЛИЯ
1568–1587
Глава XIV
ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
Клод Но сделал все что мог для мифологизации прибытия Марии в Англию. «Когда королева переправилась через залив и выбиралась из лодки, она упала на берег, что многие истолковали как знак успеха, понимая его в соответствии с обычаем и имея в виду, что она претендовала на Англию, обладая на это законным правом». Такую же историю рассказывали о Вильгельме Завоевателе, так что падение прибывающих монархов имеет под собой солидную традицию.
Мария высадилась у небольшого порта Уоркингтон — теперь эта деревня называется Мэрипорт — 16 мая 1568 года около семи часов вечера. Пока она ела свой ужин, лорд Херрис отправил посланца к сэру Генри Карвену из Уоркингтон Холла. Пытаясь — и совершенно напрасно — скрыть личность Марии, Херрис сообщил Карвену, что он сопровождает молодую шотландскую наследницу, которая не прочь будет выйти замуж за его сына. К несчастью, Карвена не оказалось дома, но его особняк и слуги были немедленно переданы в распоряжение Марии. Местные жители тут же догадались, кто она такая, а один из слуг Карвена это подтвердил, поскольку видел Марию «в лучшем положении, нежели сейчас». Присутствие Марии в Англии теперь стало общеизвестным.
Известие о бегстве Марии из Шотландии поразило всех, кто его получил. В своих фантазиях Мария вскоре по прибытии встречалась с Елизаветой и рассказывала ей, как знать отвергла ее, помазанную королеву, как угрожала ей смертью и принудила отречься от престола. Кроме того, если, конечно, Мария продумывала свои действия на много шагов вперед, она сказала бы кузине, что желает вернуться в свое королевство, а Елизавета незамедлительно предоставила бы ей армию. Реальность оказалась совсем иной. Мария прибыла в Англию вопреки всем советам, повинуясь внезапному импульсу. Она вряд ли имела какой-то план действий, если не считать желания доверить разрешение своих проблем кому-нибудь другому. Чтобы добиться этого, она, находясь в Уоркингтоне, написала второе, более длинное письмо Елизавете, описывая свое положение и все оскорбления, нанесенные ей ее дворянами. Оно начиналось с описания «Загонного рейда» — было там и единственное упоминание о Дарнли: le feu roy mon mari[85] — причем Мария подчеркивала, что простила его участников по совету Елизаветы, хотя эти люди убили Риццио у нее на глазах. Мария просила помощи не как королева, а как несчастная, лишившаяся всего женщина, которая проскакала шестьдесят миль, а потом боялась передвигаться в дневное время. Она подписалась как «добрая сестра, кузина и беглая пленница». Елизавета могла считать письмо формальным началом переговоров о том, как оказать помощь шотландской кузине и при этом получить выгоду для Англии.
Однако Сесил и Елизавета внимательно наблюдали за сильно изменившейся ситуацией. С Шотландией под управлением Морея было легко иметь дело: регент согласился бы заплатить высокую цену за признание Англией его режима. Но возвращение Марии поставило бы это соглашение под угрозу. С другой стороны, если бы Елизавета отказалась помочь Марии, та могла бы обратиться к другим монархам, и ее очевидным выбором стала бы Франция. Францию разрывали Религиозные войны, дворяне враждовали между собой и не были готовы поддерживать дело католической церкви, а у короля Карла IX отчаянно не хватало денег. Годом раньше Карл конфисковал церковные земли на сумму в 1,8 миллиона ливров, но этого все равно не хватало даже на внутренние потребности, так что военное вмешательство Франции в шотландские дела было маловероятно. Однако Мария по-прежнему могла выйти замуж. Выпущенная на просторы континентальной Европы, дважды овдовевшая королева превратилась бы в неконтролируемое и сексуально привлекательное орудие. Поэтому ей нельзя было позволить покинуть пределы страны, хотя в Англии она теперь стала центром притяжения для католиков, число которых увеличилось благодаря агитаторам из Европы. Елизавета не могла просто посадить Марию в тюрьму — сама мысль о том, чтобы поступить так с помазанницей Божьей, заставляла кровь стыть в жилах, но если бы удалось доказать, что Мария принимала активное участие в убийстве Дарнли, то открылись бы новые возможности. Самым суровым вариантом из них было бы отослать ее в Шотландию, чтобы ее там судили как убийцу короля, а самым мягким стало бы заключение в Англии. Елизавете удалось достичь оптимального решения: она согласилась встретиться с Марией, но лишь после того, как будет доказана невиновность последней. То был блестящий образец умения потянуть время.
Необходимо было урегулировать практическую сторону дела, поскольку Мария, чья свита разрослась до двадцати человек, явно не могла оставаться в Уоркингтоне. С визитом к Елизавете прибыл помощник коменданта Карлайла Ричард Лоутер, он также привез письмо от изумленного Сесила, в котором тот писал, что Марию отвезут в Карлайл, где она останется до тех пор, «пока я не узнаю, какова воля Вашего Величества». Лоутер также желал знать, является Мария почетной гостьей королевы или же пленницей.
Елизавета отправила к Морею Томаса Лейтона, дав ему инструкции сначала посетить Марию и обрисовать ей условия, на которых она могла остаться в Англии на пока неопределенный срок. Послание Елизаветы начиналось с выражения радости по поводу того, что Мария теперь свободна, далее сообщалось, что всем подданным английской королевы приказано подчиняться ей, что она «не замедлит получить помощь той властью, что Господь даровал королеве (Елизавете). Если она согласна оставаться в распоряжении королевы, пока та улаживает противоречия среди ее подданных, не призывая на помощь Францию, она получит от королевы всю необходимую помощь, чтобы убедить или принудить их».
Однако если бы Мария стала искать помощи Франции, тогда «Елизавета заключила бы, что ее главная цель — разжечь старые распри», и Лейтон должен будет объявить о ее недовольстве. Таким образом, Марию заверяли в том, что Елизавета окажет ей помощь лишь в том случае, если не будет военного вмешательства Франции. Морея же Лейтон «должен убедить передать спорный вопрос» на суд королевы Елизаветы. Елизавета и Сесил сразу поняли, что Мария может спровоцировать вооруженное вторжение, замаскированное под попытку освободить ее из английской тюрьмы.
Тем временем Лоутер, все еще не получивший разъяснений относительно статуса Марии, 18 мая перевез королевскую свиту в замок Карлайл. Замок, основанный в 1092 году Вильгельмом II, был достаточно величествен, чтобы разместить там королеву, однако не мог противостоять пушечным залпам. Поэтому в долговременной перспективе он был неподходящим местом для Марии, если бы Елизавета решила, что та — и в самом деле пленница и необходимо исключить возможность побега. Лоутер опасался, что Мария, которую разместили в покоях коменданта, «сбежит ночью из окна спальни при помощи полотенец, ведь женщина, столь крепкая духом и телом, легко может сбежать, находясь столь близко от границы». Он писал Сесилу: «Одежда ее милости износилась», однако с удовольствием сообщал, что оплатил все долги Марии в Кокермуте и обеспечил лошадей для ее переезда. Лоутер стал первым в длинном списке вынужденных оказывать Марии гостеприимство людей, которые посылали счета за расходы Елизавете. Им редко возмещали траты и практически никогда — полную сумму. Мария Стюарт недорого обошлась Шотландии, но в Англии стала очень дорогим иммигрантом.
Лоутер по-прежнему выражал сомнения относительно статуса Марии: «Если Ее Величество примет ее при дворе… то как и в какой форме?» Мария проливала слезы, получив известия о том, что Морей казнил некоторых из ее сторонников, и призвала отомстить за них Елизавету или — неразумная угроза! — она будет просить об этом своих друзей во Франции.
Всего лишь через два дня после прибытия Марии в Карлайл ее положение прояснилось, что явствует из письма английского Тайного совета: «Совет приказывает шерифу, мировым судьям и джентльменам Камберленда оказать шотландской королеве и ее свите почетный прием, который устроит граф Нортумберленд[86], и не позволить никому из них сбежать». Упоминание о побеге показывало, что Мария — скорее пленница, нежели гостья.
В конце месяца ситуация стала еще яснее. Граф Нортумберленд попытался получить право охранять Марию, но Лоутер отказал ему в доступе к ней. Елизавета же официально препоручила Марию заботам лорда Скроупа из Болтона[87]. Скроуп был попечителем Восточной пограничной марки и комендантом замка Карлайл. Елизавета также направила туда своего вице-канцлера, сэра Фрэнсиса Ноллиса[88], которому предстояло стать попечителем Марии. Ноллис был 55-летним опытным придворным, близким другом Елизаветы, а его многочисленные родственники связывали его с большинством знатных семей Англии. Его дочь Летиция, овдовевшая после смерти графа Эссекса, недавно вышла замуж за Роберта Дадли, графа Лестера[89]. Хотя Ноллис был пуританином, он оставался другом Марии, тогда как многие другие из близкого окружения Елизаветы были заклятыми врагами шотландской королевы. В Лондоне граф и графиня Леннокс нанесли визит Елизавете и истерически требовали, чтобы Марию судили за убийство.
Тем временем Мария создавала собственную дипломатическую службу: она послала Херриса в Лондон с письмами для Елизаветы и Сесила, лорду Флемингу были даны инструкции нанести визит во Францию с письмом к Екатерине Медичи, заверяющем ту в неувядающей любви Марии. Екатерина, со своей стороны, написала Елизавете и поблагодарила ее за то, что та заботится об интересах Марии, а также отправила в Лондон месье де Монморена в качестве посла. Подразумевалось, что Екатерина от души благодарна Елизавете — ведь теперь Мария была ее проблемой. Инструкции Марии Флемингу были, однако, гораздо более взрывоопасными. Поскольку Елизавета не собиралась употреблять силу для того, чтобы восстановить Марию на шотландском престоле, и, более того, оказала поддержку Морею, Мария теперь просила Францию предоставить ей две тысячи пехотинцев, а также деньги для найма пятисот кавалеристов, приобретения артиллерии и боеприпасов и отправки их в Дамбартон. В качестве платежного средства могли быть использованы ее драгоценности, все еще находившиеся во Франции. Мария предупредила французского короля о шотландских агитаторах, прибывавших во Францию, и советовала ему не принимать никого, кроме носителей паспортов, подписанных ею. Флеминг также вез письмо с аналогичными требованиями кардиналу Лотарингскому. На самом деле Флеминг не уехал дальше Лондона, где его остановил Сесил. Карл IX был избавлен от постыдной необходимости ему отказать. Мария отправила Херриса в Лондон, с тем чтобы разрешить все сомнения, какие могла иметь Елизавета. Письмо начиналось с искренней просьбы о личной встрече, однако Мария добавляла: «Если по какой-либо причине я не могу приехать к Вам, хотя я добровольно предала себя в Ваши руки, Вы, я уверена, позволите мне искать поддержки других союзников — ведь, благодаря Господу, у меня их достаточно». То была неразумная угроза человека, находившегося в уязвимом положении, и Елизавета спокойно проигнорировала ее. Мария жаловалась дальше: «Меня держат в Вашем замке как пленницу уже 15 дней, а по прибытии Ваших советников мне было позволено не отправиться к Вам, но всего лишь поведать Вам истину о моих бедствиях». Под конец она вспомнила о своих манерах: «Я не могу не поблагодарить Вас за благожелательный прием… особенно со стороны помощника коменданта мистера Лоутера, который оказал мне любезность без прямого на то приказа».
В тот же день Скроуп и Ноллис встретились с Херрисом, который собирался отбыть в Лондон, и все трое принялись обсуждать сложившееся положение. Одно из самых серьезных опасений Елизаветы, несомненно, состояло в возможности, хотя и весьма отдаленной, появления в Шотландии освободительной французской армии. Тогда Елизавете пришлось бы ответить на это введением туда собственных войск; восемь лет назад она уже оказывала помощь силам Реформации. Эта кампания оказалась весьма дорогостоящей, и Шотландия выиграла больше, чем Англия. Все стороны согласились, что Мария не может быть допущена к аудиенции у Елизаветы до тех пор, пока полностью не опровергнет обвинения в соучастии в убийстве Дарнли. Сойдясь на этом, Скроуп и Ноллис были впервые приняты Марией. Они передали, что Елизавета сокрушается относительно «достойного сожаления бедствия и вынужденного обстоятельствами приезда». Против обыкновения, двое мужчин не высказали Марии комплиментов по поводу ее красоты, однако «нашли, что она весьма красноречива и хладнокровна, а из ее действий следует, что она обладает мужеством и щедрым сердцем». Когда ей сообщили об условиях встречи, выдвинутых Елизаветой, Мария разрыдалась и немедленно попросила об охранной грамоте на проезд через территорию Англии, поскольку Франция и Испания непременно окажут ей помощь. Оказавшись на грани истерики, она обвинила шотландских лордов в том, что они силой захватили земли, которые она собиралась вернуть короне в день своего рождения. Она опять пригрозила обратиться за помощью к Франции, и на этом встреча закончилась. Скроуп и Ноллис считали, что предоставленная самой себе, она не вернется в Шотландию без французской помощи, но может попытаться пробраться через Шотландию по пути во Францию, хотя это легко предотвратить, вовремя передав сообщение Морею. Кроме того, они осознали, что дилемма состояла в следующем: хотя Марию нельзя было держать в настоящем заключении, сама ее близость к границе требовала бдительной охраны. Однако перемещение ее вглубь страны рассматривалось как «путь к опасному мятежу». Любой выбор таил угрозу, а Марию было невозможно уговорить. Елизавета желала услышать совсем не это, и Сесил, как обычно, подготовил длинный меморандум, обрисовывавший ситуацию.
К Марии не должны были допускать посетителей, не имевших особого разрешения, а все тайные письма надлежало перехватывать. Любого человека, подозревавшегося в соучастии в убийстве Дарнли или в поддержке брака с Босуэллом, следовало «заключить под стражу и призвать к ответу». Францию нужно предупредить не вмешиваться. Необходимо найти неопровержимые доказательства соучастия Марии в убийстве Дарнли. Если она окажется невиновной, Елизавета может помочь восстановить ее на троне, но в случае, если она виновна, Елизавета должна поселить ее в Шотландии, свободной от французской тирании. Марию ни в коем случае не следует отпускать из королевства. «Ее Величеству подобает разрешить любые споры относительно шотландской короны — ведь она по древнему праву принадлежит английской короне, что можно доказать множеством документов, исторических примеров и прецедентов». Если бы Марию оправдали, тогда Литский договор — здесь Сесил допустил редкую ошибку, ведь договор, подтверждавший права Елизаветы на престол, назывался Эдинбургским — следовало немедленно ратифицировать. Если бы Марию сочли виновной, тогда ее могли бы восстановить на престоле при определенных условиях. Далее в меморандуме говорилось:
«…Если ее преступления окажутся слишком велики, ее следует поселить в безопасном месте, но не возвращать ей королевство. Если восстановить ее на престоле, она и ее сын станут править совместно, а регент сохранит свою должность вплоть до совершеннолетия сына. Если она уедет во Францию, Англия окажется окруженной могущественными врагами, а Франция обладает большими силами, чем мы. Если она останется, то поощрит дурных подданных к мятежу. Если она вернется в Шотландию, то друзья Англии потеряют свое положение, а друзья Франции возвысятся».
Это был длинный документ, в котором проанализирована каждая возможность и предусмотрены все варианты. Хотя Сесил и не говорит этого прямо, подразумевается, что Мария останется в заключении до тех пор, пока не состоится некое подобие суда, и хотя его результаты и не предсказывались, понятно, что Сесил предпочел бы держать Марию под арестом в Англии. Сесил также опасался, что в Шотландии Хэмилтоны совершат переворот, который поставит границы Англии под угрозу — тем самым увеличивая расходы на их оборону. (Если Елизавета прочла меморандум — а она скорее всего так и сделала — то, несомненно, пришла в ужас от мысли, что ей придется действовать против кузины, и от объема возможных расходов.) Сесил также приказал, чтобы «ни англичане, ни французы или шотландцы не допускались к ней… и были приняты серьезные меры для перехвата писем, которые будут ей тайно посылать».
За ужином в воскресенье, 30 мая, Ноллис прямо заговорил с Марией о ее предполагаемом участии в убийстве Дарнли, и «в своей обычной манере» она расплакалась. Три дня спустя он обсудил с Сесилом возможные места ее содержания под стражей — места, где «папизм не так силен, как у нас на севере», — от души надеясь, что не он окажется «постоянным тюремщиком» Марии. Шпионы Сесила донесли, что, по их подозрениям, она уже состоит в секретной переписке с Францией. Патовая ситуация затягивалась. Мария вела себя так, как если бы находилась на свободе, Ноллис же, со своей стороны, обязан был держать ее под постоянным наблюдением, одновременно он и Сесил пытались подготовиться к ее длительному заключению под стражей. Ноллис жаловался Тайному совету: ему вменили в обязанность следить, чтобы королева не сбежала, однако «у нас нет приказа оправдать ее или держать в заключении». Елизавета позволила событиям идти своим чередом, уверенная в том, что Сесил обеспечит ее безопасность. 8 июня она написала длинное письмо Марии, вновь заверяя в вечной любви и горячем желании увидеть, как она очистится от «обвинений, которые эти люди выдвинули против вас». Письмо было доставлено Миддлмором, новым посланником, «хорошо известным», однако, Марии.
Бездействие Елизаветы делало Марию все более нетерпеливой. Она намекала Ноллису, что использует свою вдовью долю — 12 тысяч фунтов стерлингов в год, — чтобы нанять солдат против Англии и Шотландии и удовлетворить «страстное желание пролить кровь своих врагов».
Мария первый раз приняла Миддлмора в воскресенье 13 июня в восемь часов утра. Она потребовала объяснить ей, как она может доказать свою невиновность Елизавете, если та не изволит ее принять. «Никто не может заставить меня обвинить себя, однако если я и скажу что-то о себе, то только ей и никому другому. Но я вижу, что дело оборачивается не в мою пользу. У меня много врагов среди приближенных моей доброй сестры-королевы». Миддлмор сообщал, что все это было произнесено со слезами и жалобами на дурное обращение с ней. Если Елизавета не желает помочь, говорила Мария, «не позволит ли она мне отбыть к другим государям? Я бы обратилась к турецкому султану за помощью». Мария также жаловалась, что Елизавета явно предпочитает ей Морея. В надежде успокоить впавшую в истерику королеву хорошими новостями, Миддлмор сказал ей, что Елизавета пожелала перевезти ее ближе к себе, «где ей будет удобнее и спокойнее и не будут угрожать ее враги». Мария «немедленно спросила, отправляется ли она в качестве пленницы или же по собственному выбору», сообщал Миддлмор. «Я сказал: уверен, что ее величество не имела в виду помещать ее под стражу… но считаю, что она хотела доставить ей удовольствие, перевезя поближе к себе». Миддлмор полагал, что Мария не хотела переезжать дальше на юг, так как это затрудняло побег. Встреча завершилась, когда Мария, исполненная жалости к себе, пленнице своей сестры, передала Миддлмору письмо для Елизаветы, состоявшее из одних жалоб. Мария так и не поняла, что угрожать Елизавете означало лишь укрепить свойственную Тюдорам решимость, а жалобы, адресованные женщине, пережившей ужасы Тауэра[90], воспринимались как жалкое нытье и сочувствия не вызывали. То, что могло тронуть сердце льстеца-придворного, не оказало совершенно никакого действия на королеву Елизавету.
Однако на следующий день все это было забыто. Ноллис сообщал:
«Вчера она вышла на прогулку на площадку для игр, обращенную в сторону Шотландии. Ее сопровождали Скроуп и я сам, а также 24 алебардщика Рида и некоторые из ее джентльменов. 20 человек из ее свиты в течение двух часов играли перед ней в мяч — сильно, ловко и без обмана. С момента прибытия она уже дважды наблюдала за игрой и один раз выезжала на охоту на зайцев; она скакала так быстро, а ее свита имела таких хороших лошадей, что мы не раз опасались, что ее шотландские друзья выручат ее, и не собираемся позволять такого в будущем».
Вероятно, Мария и не думала о побеге, а просто наслаждалась летним солнцем и ветром, развевавшим ее волосы. Она и ее дамы регулярно гуляли вдоль южной стены замка, это место и в наши дни по-прежнему именуется Тропой королевы.
Переговоры относительно условий пребывания Марии в Карлайле зашли в тупик. В Лондоне Тайный совет с тревогой прочел отчет Миддлмора о его встрече с Марией и немедленно рекомендовал перевести ее в Ноттингем, Фотерингей или в Татбери. Поскольку Мария отказалась предстать перед публичным судом, о ее несговорчивости следовало информировать королей Франции и Испании.
Тем временем Морей проводил карательную кампанию на юго-западе Шотландии, вешая «воров», уничтожая имущество и усмиряя противников голодом. Клод Но назвал его действия «актом отвратительной и беспрецедентной жестокости». Мария продолжала писать Елизавете, настаивая, чтобы они, две королевы, уладили дела между собой. 22 июня она написала: ей стало известно, что Морей хвастает, будто располагает доказательствами ее соучастия в убийстве Дарнли, жаловалась на «изготовление фальшивых писем». На заднем плане постоянно присутствовали письма из ларца.
Обращения Марии к Елизавете спустя несколько дней звучат еще жалобнее: «Уверяя себя в том, что Вы либо призвали бы меня к себе, либо позволили бы отбыть в другие страны так же свободно, как я прибыла сюда… я умоляю Вас, королева, сестра, кузина, посочувствовать равной себе». Мария явно писала свои письма под влиянием обуревавших ее чувств, не думая ни о стратегии, ни об убедительности доводов. Ее главной — и практически недостижимой — целью было убедить Сесила признать справедливость ее дела и открыть дверь к Елизавете. Однако Мария вела себя так, как если бы Елизавета была другом ее детства и только и ждала случая ответить на ее детское нытье.
Ноллис пришел к убеждению, что Марию необходимо перевезти дальше на юг, и выбрал для этой цели принадлежавший Скроупу замок Болтон в Йоркшире. Мария отказалась дать согласие на переезд, однако обрадовалась возвращению своей придворной дамы Мэри Сетон, ведь «теперь каждые два дня она делала новую прическу совершенно бесплатно, и это приносит ей великую радость».
Но радовалась Мария недолго: 5 июля Ноллис официально объявил ей, что ее переводят в замок Болтон. Мария отказалась переезжать. Ноллис сказал ей, что замок гораздо удобнее и комфортнее, чем «это шумное и нездоровое место», но она продолжала отказываться сделать «хотя бы один шаг» из Карлайла без прямого приказа Елизаветы, если только ее не принудят к этому силой. Ноллис возразил, что если Мария отказывается переехать в замок, находящийся всего в двух или трех днях пути от места, где пребывает Елизавета, тогда речь явно идет «о некоем тайном умысле». Мария, проливая потоки слез, ответила: ему не стоит опасаться, что она «ускользнет», и вновь написала Елизавете длинное и довольно драматическое письмо, соглашаясь перебраться в Болтон «под принуждением», но прося о возвращении ей лорда Херриса. Повторила она и просьбу о личной встрече: «Если бы Цезарь не пренебрег прочтением предостерегающих писем или прочел жалобу советника, он бы не умер жалкой смертью… Я не обладаю натурой василиска… И даже если бы я была такой опасной и несла на себе проклятие, как говорят люди, Вы достаточно вооружены силой, удачливостью и справедливостью». Мария понимала, что проигрывает сражение, а после того, как получила три сундука с одеждой от Морея, ее печаль усилилась: в них, помимо седел и «прочих вещиц», было только одно целое платье. Большая часть ее туалетов по-прежнему находилась в замке Лохливен.
В качестве посла Марии в середине июля Херрис встретился с Мидштмором в Лондоне и, если верить письму Миддлмора Сесилу, полностью отрекся от Марии, резко переменив свои взгляды. По утверждению Мидштмора, Херрис предложил, чтобы Елизавета правила Шотландией, французов вышвырнули вон, а Мария никогда не возвращалась бы домой. Так как Херрис постоянно оказывал поддержку Марии, это письмо выглядит полной клеветой. Бестактность Миддлмора привела к его полному провалу в роли посланника к Марии, хотя, как мы увидим, он достиг большего успеха у Морея. Возможно, при помощи этой довольно неуклюжей уловки он пытался вернуть расположение Сесила.
Первая стадия перемещения недовольной Марии в Болтон — в сопровождении сэра Джорджа Боуэса и сорока вооруженных всадников, которые якобы должны были защищать ее от врагов, — привела королеву в дом Доутера в Уортоне, в двадцати милях от Карлайла. Здесь Ноллис нашел Марию более сговорчивой. В конце концов, все было решено без нее, а у нее не было никаких средств к сопротивлению, хотя прямых приказов от Елизаветы Ноллис до сих пор не получил. Мария добилась права отправлять и принимать посланцев от своих сторонников в Шотландии; она также сказала Ноллису, что пожаловала управление страной на время своего отсутствия герцогу Шательро.
Королевский кортеж прибыл, наконец, в Болтон 15 июля, когда уже стемнело. Мария была «тихой, сговорчивой и не создавала никаких неприятностей». Ее свита выросла до 51 человека, 21 из которых были «простолюдинами». Их было больше, чем ожидал Ноллис, поэтому ему «пришлось нанять 4 маленькие повозки, 20 тяжеловозов и 23 верховых лошади для ее слуг — все это к большому ее удовлетворению». Марию поселили на третьем этаже северо-западной башни, в просторной комнате с камином и прекрасным видом на долины Йоркшира. Рядом была ее спальня, так что здесь королева располагала большими удобствами, нежели в Карлайле.
Строительство замка Болтон было завершено в 1399 году, он представлял собой великолепный пример соединения дворца и крепости. Ноллис сообщал: «Этот дом хорошо укреплен, красив и величествен. Он выдержан в старинном стиле и является самым высоким укрепленным дворцом, какой я видел; у него всего один вход. Его можно защищать с половиной солдат карлайлского гарнизона… Там [в Карлайле] покои королевы выходили в сторону Шотландии, и если подпилить оконную решетку, она смогла бы выбраться, а между замком и Шотландией лежит равнина».
Теперь Шотландия находилась на расстоянии 150 миль, и Мария была вне досягаемости шотландских налетчиков, которых так опасались в Карлайле. Более того, были предприняты особые меры по усилению защиты Болтона. Пять дней спустя после прибытия Марии из Лохл и вена доставили «5 небольших повозок и 4 тюка одежды». Сэр Джордж Боуэс прислал Марии ковры и гобелены, а граф Нортумберленд регулярно поставлял к ее столу дичь. Наконец прибыли и ее парчовые занавеси. Теперь двор Марии обустроился на новом месте; кроме того, определился ее статус в Англии — хотя Мария и не хотела этого признавать, но она была здесь пленницей.
Через несколько дней, 24 июля, к Марии явился Херрис с предложением от Елизаветы. Та не должна была председательствовать на суде над Марией, поскольку Марию, как помазанную королеву, нельзя было предать суду. Вместо этого Елизавета вызвала бы Морея, чтобы он объяснил свои действия. Если бы его объяснение оказалось удовлетворительным, в чем Елизавета сомневалась, Мария вернулась бы в Шотландию, но ее статус еще следовало определить, а лорды сохранили бы свои привилегии. Однако если бы объяснения оказались неудовлетворительными, Елизавета восстановила бы Марию на престоле силой, но на определенных условиях: Мария должна отказаться от всяких претензий на английский престол, от союза с Францией, отречься от мессы и принять Книгу общих молитв. Это предложение на самом деле было не чем иным, как способом заставить Марию согласиться на судебный процесс. Более того, от нее требовали отречься от своей религии и стать отступницей. Мария ни в коем случае не приняла бы это предложение, но, вместо того чтобы впасть в ярость, услышав это, королева, по сообщению Ноллиса, «отправилась на охоту и приятно провела время».
Елизавета оказалась в состоянии сделать Марии такое предложение потому, что неделей ранее Миддлмор вернулся со встречи с Мореем и сообщил, что лорды шотландского Тайного совета имеют в своем распоряжении письма, «убедительно, по нашему мнению, доказывающие, что она [Мария] выразила согласие на убийство короля, ее законного мужа». Механизм подготовки к судебному процессу был уже запущен, и Сесил с Елизаветой уверились, что смогут доказать вину Марии. Мария не знала, что Морей уже уверил Елизавету: «шотландские лорды не стали бы обвинять Марию без веских на то оснований».
К удивлению Ноллиса, Мария согласилась на все предложения Елизаветы, в том числе на принятие Книги общих молитв. Мария даже включила в состав своей свиты капеллана, принадлежавшего англиканской церкви, и посещала службы, хотя Ноллис сомневался в ее искренности. Он завершил свой доклад Сесилу очередной просьбой о деньгах, но Сесил обычно игнорировал такие просьбы.
Всего три недели спустя, 16 августа, Морей созвал парламент. Пока тот заседал, он продал часть драгоценностей Марии, чтобы расплатиться с армией. Парламент также объявил всю семью Хэмилтонов вне закона. Несмотря на это, Мария не отдала приказ о возмездии, к ярости Херриса: его земли также были конфискованы вместе с имуществом других сторонников королевы. Он обвинял Елизавету в том, что та задерживала восстановление Марии на престоле, тем самым запутывая шотландские дела.
Пока Сесил с помощью исполненного энтузиазма Морея готовил обвинительное заключение против Марии, в Болтоне жизнь текла спокойно. Мария убедила себя в том, что увещевания Елизаветы были на самом деле написаны не ею, а одним из ее «влиятельнейших подданных» — она явно имела в виду Сесила, — и выразила пожелание, чтобы ее дело слушалось в Вестминстер-холле. Из ее корреспонденции исчезла просьба о личной встрече с Елизаветой, и она прилагала больше усилий к тому, чтобы задобрить своих хозяев в Йоркшире. Мария даже посещала церковные службы. Стоит вспомнить, что сама Елизавета в свое время спрашивала сестру, католическую королеву Марию, может ли она получить наставления в католической вере, и даже посещала мессу — все это ради выживания. Мария Стюарт вряд ли была столь искусна в обмане, но, подобно многим заключенным, стремилась к разнообразию. Мария никогда, даже на мгновение, не сомневалась в своей вере. Единственная жалоба Ноллиса состояла в том, что численность ее свиты продолжала расти: теперь даже ее пажи имели слуг. Ноллис подпал под чары Марии и, когда ему сообщили о возможности побега, устроенного неким Джорджем Хероном, просто отказался поверить, что она предпримет «такую опасную авантюру».
В конце августа Мария высказала Ноллису свое особое расположение, написав ему по-английски и обещая подарить его жене памятный подарок. То была первая попытка Марии писать по-английски. Обычно Мария говорила по-французски, а когда возникала необходимость, употребляла вариант шотландского наречия с сильным французским акцентом. Современный ученый, доктор Чарлз Маккин, назвал ее речь «франко-шотландской». Мария, несомненно, чувствовала себя комфортно, только говоря по-французски. Написанные по-английски послания Елизаветы переводились для нее на шотландский.
Пока Мария пребывала в Англии, Морей улаживал англо-шотландские дела, а его первостепенной задачей было убедить Елизавету, что она укрывает убийцу короля. Через пять дней после Лэнгсайда Морей отправил в Лондон Джона Вуда с копиями документов, ставших известными как «письма из ларца». Странно, но эти копии представляли собой переводы французских оригиналов на шотландское наречие. Поскольку Елизавета с трудом понимала шотландский язык, но свободно говорила по-французски, непонятно, почему Морей приказал сделать такой перевод, но это лишь первая загадка, из которых состоит запутанная история «писем из ларца». Морей, впрочем, прекрасно знал, что Елизавета нуждается в «таких явных доказательствах, которые удовлетворили бы совесть ее величества». С этой целью регент 27 мая отправил «секретные документы» в Сент-Эндрюс Джорджу Бьюкенену, которого сам ранее назначил главой колледжа Святого Леонарда. Эти документы явно представляли собой еще один набор копий, которые Бьюкенен должен был использовать при подготовке обвинительного заключения. Бьюкенен был 62-летним поэтом и другом Марии в ее счастливые годы в Холируде, писал тексты для масок и придворных представлений, наставлял ее в латыни и вел себя словно придворный мудрец шотландской королевы. Теперь, после нескольких лет весьма выгодной для него дружбы, он превратился в главного обвинителя, написав «Detectio Mariae Reginae»[91], оскорбительный памфлет, прямо обвинявший Марию в том, что она изменила мужу с Босуэллом. В одном из эпизодов Бьюкенен поведал, что леди Рерс опустили из окна на поясе от ее платья в покои Босуэлла. Пояс будто бы порвался, но «добрая» женщина тем не менее вытащила Босуэлла из постели, в которой он спал с женой, и отправила его прямо в похотливые объятия королевы Марии. Эта невероятная история была рассказана Джорджем Далглишем непосредственно перед казнью, когда воспоминания о недавних пытках могли заставить его поклясться в чем угодно. В любом случае леди Рерс была любовницей Босуэлла и вряд ли стала бы сводничать.
Прежде чем написать клеветнический памфлет, Бьюкенен подготовил официальное «Обвинение», которое противоречиво назвал «информацией о возможных и неопровержимых заключениях и соображениях». Первый вариант был готов к 22 июня. Памфлет был написан на латыни, но переведен на шотландский и послан Ленноксу, отцу Дарнли, который уже давно требовал суда. Теперь Морей предлагал Елизавете устроить суд «торжественно и с великими церемониями», чтобы принять окончательное решение. Используя свое дипломатическое искусство, Морей предложил, чтобы объектом рассмотрения на суде стали его собственные действия в качестве регента «против… моих соотечественников»; таким образом, он получил бы возможность привести в качестве оправдания необходимость сместить с престола преступницу — убийцу и прелюбодейку. При этом все стороны смогут утверждать, что сама Мария не подвергалась суду.
Это было важно Елизавете, хорошо понимавшей, как внимательно наблюдают за ней из Лувра, Эскориала и Ватикана[92], ожидая, посмеет ли она предать суду помазанную королеву. Поэтому она прилагала огромные усилия к тому, чтобы избежать слова «суд» и казаться беспристрастной, в то время как уже формировалась стратегия, которая должна была подтолкнуть ее к решению. Стратегия состояла в том, чтобы обе стороны представили свое дело перед назначенной Елизаветой беспристрастной комиссией. 27 августа Мария узнала, что возглавлять комиссию должен герцог Норфолк[93], обязанный потом доложить о том, что будет установлено. Сесил и Елизавета затем могли поразмышлять о решении комиссии. Поскольку Марию не предавали суду, она не подвергалась унизительной обязанности лично появиться перед судьями. Сначала сочли, что комиссия будет заседать в Ньюкасле, однако потом место сбора перенесли в Йорк. В середине сентября Мария подала просьбу о выдаче охранных грамот графу Кассилису, епископам Росскому и Гэлоуэйскому, лордам Херрису и Бойду, сэру Джону Гордону[94] и сэру Джеймсу Кокбёрну. Мария была настолько уверена в том, что ее оправдают, что 15 сентября заверила своего свояка, Карла IX Французского, в том, что Елизавета обещала восстановить «ее честь и королевское достоинство в ее стране». Морей, со своей стороны, получил паспорта для ста человек свиты; кроме того, графы Мортон и Гленкайрн, лорд Линдси, епископ Оркнейский и коммендатор Данфермлайнский[95] также явились со свитами в сто человек.
Наконец, 24 сентября Елизавета отправила членам комиссии «Меморандум, как надлежит поступать Норфолку, Сассексу[96] и Сэдлеру по отношению к королеве Шотландии и посланцев ее сына в городе Йорке». Рассмотрению должны были подвергнуться обвинения Марии в соучастии в убийстве Дарили, а также история ее предполагаемого прелюбодеяния с Босуэллом; в случае полного оправдания Елизавета должна была восстановить Марию на престоле. Морей, со своей стороны, хотел ни больше ни меньше, чем осуждения Марии и признания Елизаветой его режима. Елизавета лично дала детальные инструкции членам комиссии. Им надлежало выслушать обе стороны отдельно, причем первой — сторону Марии, и если бы обвинениям не нашлось твердых доказательств, ее следовало восстановить на престоле. Условия будущего договора должны были исходить от Марии или Морея и быть принятыми Елизаветой, Марией и Мореем совместно. Условия договора должны были включать в себя акт о прощении прошлых преступлений; в помощь Марии назначался совет; все три сословия должны были дать согласие на будущий брак Марии; Босуэлл подлежал наказанию; нужно было утвердить правовой статус реформистской церкви; младенца Якова отправляли в Англию, но воспитывать его должны были шотландцы; права шотландской династии на английскую корону должны были быть уточнены. Гарантом договора явилась бы Елизавета, и если бы Мария нарушила хотя бы одно его условие, правителем немедленно стал бы Яков. Эдинбургский договор подлежал обязательной ратификации, а Марии запрещалось вступать в союз с иностранными державами.
Елизавета и Сесил рассматривали работу комиссии как прекрасную возможность разрешить старую проблему и считали, что могут положиться на ее членов. Норфолк был единственным английским герцогом и недавно овдовел в третий раз. Официально он был протестантом, однако имел множество родственников-католиков и нуждался в разрешении Елизаветы на новый брак; таким образом, на него можно было положиться. Сэдлер, который двадцать шесть лет назад видел Марию младенцем, был, как и граф Сассекс, придворным до мозга костей, и королева могла рассчитывать, что он выполнит волю монарха без особых размышлений. Марии пришлось бы полагаться на доклады, которые доставляли бы ей в Болтон из Йорка. Ее жизнь подверглась бы публичному рассмотрению, однако она смогла бы отвечать лишь через доверенных лиц.
29 сентября Мария отправила членам своей комиссии документ, который должен был стать для них единственным правовым основанием выступать от ее имени, поскольку ее личная печать осталась в Шотландии. В документе она перечислила все преступления лордов: захват ее после Карберри и заключение под стражу в замке Лохливен, настаивала на том, что ее отречение было незаконным, так как совершилось под влиянием угроз и было ратифицировано парламентом, который она не созывала. Подобным же образом коронация Якова без ее разрешения являлась недействительной. Затем, ступив на тонкий лед, она отвергла обвинения в том, что знала о готовившемся убийстве Дарнли, и заявила, что «следовала совету шотландской знати». Мария явно знала о существовании тайных «писем из ларца», она настаивала на том, что, если эти письма попытаются использовать в качестве улик против нее, ей должны позволить взглянуть на оригиналы «и дать на них ответ». Она также указала, что в Шотландии есть люди, которые могут подделать ее почерк и копировать ее стиль письма. Она не просила отомстить Морею, но обещала принять суждение Елизаветы, признать свободу протестантов и уверяла ее, что вопрос о наследовании престола согласован. Здесь не было нелепых угроз иностранного вторжения, а обвинения в адрес мятежных лордов были изложены разумно и спокойно. Мария была уверена, что ее оправдают и восстановят на престоле.
Пятью днями раньше, 24 сентября, Мария написала длинное письмо подруге детства — испанской королеве Елизавете. Она заверила ее в том, что окружена обожающими ее католиками, более того, Елизавета Английская завидует крепости ее, Марии, веры, которая поможет ей вернуть утраченное, несмотря на возводимые на нее несправедливые обвинения. Мария рассказала Елизавете о своих планах женить Якова на испанской принцессе, однако не знала, что Елизавета умрет родами прежде, чем ее найдет письмо подруги прежних дней, делившей с ней давние развлечения — турниры в Шамборе и детскую в Сент-Жермене. Мария Стюарт выдавала желаемое за действительное, и Сесил, перехватывавший ее корреспонденцию, был хорошо об этом осведомлен. Он также знал о том, что его католическое величество Филипп II Испанский был теперь свободен и мог вступить в новый брак. Получив удовлетворительный вердикт из Йорка, Сесил смог бы увязать все концы этой истории, которые пока что напоминали разъяренных змей.
Глава XV
УЗНИЦА ЗАКОНА?
7 октября в Йорке встретились три комиссии; их члены поклялись говорить только правду, и каждая сторона продемонстрировала глубокое недоверие к двум другим. В первый день, 8 октября, представители Марии официально изложили дело, а два дня спустя Морей потребовал гарантии того, что, если Марию признают виновной, ее «передадут в наши руки», заявив, что без такой гарантии не может продолжать участвовать в разбирательстве. Пока Норфолк размышлял об этой странной просьбе, от Леннокса прибыло обвинительное заключение. Оно объединяло в себе фантазии Бьюкенена и измышления самого Леннокса. Как пишет Джон Хосак в своем труде «Мария, королева Шотландии, и ее обвинители», «английские представители не слишком впечатлялись тирадами Леннокса; им требовались более убедительные улики, и они их получили».
11 октября Летингтон, Бьюкенен и Джеймс Макгилл встретились с членами комиссии, не известив об этом представителей Марии. Макгилл был клерком, заведовавшим регистром Тайного совета, его описывали как «искусного крючкотвора и толкователя закона». Эта группа представила комиссии разнообразные подписанные ими соглашения, «очищавшие» Босуэлла от обвинения в убийстве, соглашение из Таверны Айнсли об оказании ему поддержки, а также документ, выражавший согласие лордов на его брак с королевой. Они утверждали, что все эти соглашения были заключены под угрозой применения силы со стороны Босуэлла и его двухсот аркебузиров. Поскольку Босуэлл был «очищен» от обвинения в измене в связи с похищением королевы, они утверждали, что по закону он также оправдался и в отношении меньших преступлений, включая убийство Дарнли. Этот фантастический пример юридической игры с логикой — «политика, подобающая отвратительному факту [убийства]» — получил продолжение, когда шотландская сторона открыла свою козырную карту: представители показали членам елизаветинской комиссии «письма из ларца».
Этот акт был недействительным в глазах закона, и ни один суд не допустил бы письма к рассмотрению в качестве улик.
Письма находились «в небольшой шкатулке из позолоченного серебра, подаренной ею Босуэллу», но не было никаких доказательств, связывавших их с Марией или с Босуэллом. Членам комиссии не предложили никакого способа верифицировать письма. Их не видели ни Мария, ни ее представители; у них не было возможности ни подтвердить, ни опровергнуть ее авторство. Не было проведено сравнения с известными образцами ее почерка. Норфолк, устанавливавший правила работы комиссии по ходу дела, прочел письма и пришел в ужас, обнаружив «незаконную страсть между ней и Босуэллом, а также то, что она испытывала отвращение к мужу, который затем был убит, и гнушалась им». Затем письма были снова заперты в шкатулку.
Столь ужаснувшие Норфолка «письма из ларца» являлись объектом многолетних споров и темой ряда книг. Они включают в себя письма и прочие документы, которые Мария предположительно послала Босуэллу, и он держал их в знаменитом серебряном ларце, попавшем в руки Мортона 19 июня 1567 года. Впоследствии они находились в собственности Морея. Оригиналов больше не существует, они исчезли в 1584 году, а улики, основанные на переведенных с французского копиях, весьма сомнительны.
В первом письме, известном как короткое письмо из Глазго и, как все прочие документы, недатированном и неподписанном, автор, предположительно Мария, сообщает Босуэллу, что везет Дарнли в Крейгмиллар. Это теплое и подробное письмо, в котором она делится хорошими новостями о здоровье младенца Якова, но жалуется на боль в боку. Мария, должно быть, написала его в Стирлинге, а приписка в конце документа: «Глазго, утро субботы» — представляет собой позднейшее добавление, призванное придать правдоподобие тому, что почти точно было подлинным документом.
Однако второе письмо — длинное письмо из Глазго — совсем другое дело. Оно повествует о визите, нанесенном Марией Дарнли в январе 1567 года, перед тем как он поехал в Крейгмиллар, и стиль его варьируется от прозаического: «Я думала, вонь из его рта убьет меня» до влюбленного: «Да простит меня Господь, и да соединит он нас навсегда». Хотя такое разнообразие допустимо для влюбленной корреспондентки, прочие письма Марии обычно коротки и деловиты, насколько это возможно. Документ выглядит как подлинное письмо Марии, «пересыпанное» интерполяциями со страстными признаниями, чтобы создать впечатление ее виновности. Она предстает разочарованной в Дарнли и влюбленной в Босуэлла, но в этом нет свидетельства ни самого прелюбодеяния, ни даже намерения его совершить. Это письмо — явная подделка, причем в качестве связующих звеньев использовались подлинные фрагменты.
За ним следует послание, похожее на настоящее любовное письмо; в нем автор посылает адресату медальон и выражает желание «находиться под вашим покровительством» после грядущей свадьбы. Стиль разительно отличается от обычного стиля писем Марии, кроме того, письмо изобилует сложными грамматическими конструкциями, которых Мария всегда избегала. Это письмо могло быть написано Босуэллу одной из его многочисленных возлюбленных, но безусловно не Марией Стюарт.
За ним идет еще одно признание в вечной любви, в котором содержится так много ошибок в переводе с французского, что его смысл сложно уловить. Много ошибок и во французской грамматике, а паж Бастьен поменял пол и превратился в Бастьену. Это неуклюжее послание выглядит как неудачная попытка взрослого имитировать стиль юной девушки. Возможно, так оно и было.
Пятое письмо, как утверждалось, нашли в бумагах Маргарет Карвуд, и оно представляет собой бесстыдное любовное послание, автор которого стремится к браку. В нем опять появляются длинные сложные предложения влюбленного подростка, и на этот раз автор представляет себя графиней. Поскольку Мария была королевой, а Босуэлл должен был стать королем, утверждение, что это письмо написала Мария, — явная чепуха.
Клерк надписал на шестом письме: «Из Стирлинга незадолго до ее похищения — показывает, что оно было подстроено». Письмо было явно написано другой женщиной, упрекавшей Босуэлла в том, что он был не слишком настойчив: «Вы обещали мне, что все разрешите… Вы так ничего и не сделали». Хантли описан здесь как «Ваш лживый шурин», хотя в то время он и Босуэлл были близкими друзьями. Автор продолжает: «Я не могу выйти за Вас замуж, ведь, будучи женатым, Вы увезли меня», однако похищение невест продолжалось в шотландском Пограничном крае, по крайней мере, до XVIII века, поэтому письмо, вероятнее всего, было написано одной из прежних пассий Босуэлла.
Седьмое письмо, однако, выглядит именно так, как можно ожидать от письма Марии. Если в нем и идет речь о предложенном Босуэллом похищении, преамбула типично коротка: «Что касается времени и места, я вверяю себя Вашему брату и Вам». Босуэллу предписывается «удостовериться в поддержке лордов и быть свободным для брака». Здесь монарх пишет подданному. Последнее письмо было, скорее всего, написано Марией после ее свадьбы, во время поездки Босуэлла в Мелроуз. В нем она впервые говорит о своих страхах перед возможным восстанием дворян.
К восьми письмам прилагались двенадцать стихотворений, которые ошибочно именуют сонетами. Все вместе они образуют неоконченную любовную поэму, написанную чрезвычайно плохо, порой с ошибками в размере. Невозможно поверить, чтобы женщина, воспитанная дю Белле, ученица Ронсара, произвела на свет столь несовершенные вирши. Естественной склонностью Марии было имитировать стиль Возрождения, к которому она привыкла с детства. Важное указание на фальшивку обнаруживается в семнадцатой строке, где автор описывает Шотландию как «мою страну». Мария всегда писала о Шотландии как о «моем королевстве», «этой нашей земле», поскольку всегда относилась к Шотландии с чувством собственности.
Членам комиссии предъявили также два брачных контракта, подписи на которых были подделаны. Подпись Марии была формальной, и ее легко было подделать, поэтому непонятно, почему фальсификаторы не смогли справиться с такой легкой задачей.
Короче говоря, некоторые письма были подлинными, а другие представляли собой письма, некогда присланные Босуэллу другими женщинами и исправленные так, чтобы создалось впечатление, будто они написаны Марией. Даты отсутствуют — по крайней мере, до тех пор, пока письма не попали в руки Мортона, подписей тоже нет.
В 1754 году Уолтер Гудалл опубликовал «Исследование писем, которые, как говорят, были написаны Марией, королевой Шотландской, Джеймсу, графу Босуэллу», в котором утверждал, что письма являются фальшивками. В 1849 году адвокат Джон Косак был более осторожным: «Если внешние заключения скорее в пользу подлинности писем, то внутренние исследования указывают на то, что письма фальшивые».
Остаются два вопроса: кто выполнил подделки и почему члены английской комиссии приняли их так серьезно? Когда Мортон нашел ларец, то очень надеялся, что обнаружил компрометирующие документы, но письма не были в достаточной степени уличающими. Мария, конечно, признавалась в том, что предпочитает Босуэлла Дарнли, и могло возникнуть впечатление, что она дала согласие на собственное похищение, но все эти допущения необходимо было усилить. Более того, как только было принято решение иметь дело с копиями, а не с оригиналами, вся корреспонденция Босуэлла оказалась в руках Летингтона, который, как было известно, умел подделывать почерк королевы. Членам комиссии же было сказано, что им показывают «секретные» документы, которые имели решающее значение, и с этого момента все были только рады поверить им. Письма предоставляли свидетельства женской страсти, отвратительной для морали знати. Здесь были доказательства того, что Мария сопровождала Дарнли в Эдинбург, но не было ни одного доказательства, что она знала: там его убьют. В написанных по-французски стихах усматривали доказательства неконтролируемой похоти, хотя маловероятно, что хоть кто-нибудь их вообще читал. Всего этого оказалось достаточно, чтобы члены комиссии передали дело на рассмотрение высшей инстанции.
Убедительным доказательством соучастия Марии стал бы текст Крейгмилларского соглашения, — хотя она сама его и не подписывала, — но, поскольку оно компрометировало большую часть знати, все его копии были сожжены, но и без него было достаточно «улик».
Члены английской комиссии также получили перевод «Книги статей», составленной Бьюкененом. Она представляла собой компиляцию «улик», содержавшихся в «письмах из ларца», сведений, предоставленных Ленноксом, а также сумму аргументов «Обвинения» самого Бьюкенена. Теперь Марию и Босуэлла обвиняли в неудачной попытке отравить Дарнли на пути из Глазго. Увидев все это, Норфолк сделал то, что делают все хорошие чиновники, столкнувшиеся с необходимостью принять трудное решение: он предоставил право решать вышестоящей инстанции — написал длинное письмо Елизавете и спросил ее приказа. Понимая, что он вряд ли получит его, Норфолк также написал Сесилу, сообщая ему о письмах, а также о том, что они послужат окончательному осуждению Марии — если, конечно, им верить — или же полностью ее оправдают — если их сочтут фальшивкой.
Когда известия о предъявлении писем достигли Болтона, Мария изобразила изумление и заверила Ноллиса в том, что ее представители ответят на все обвинения. Ее опровержение было весьма простым: убийство Дарнли вообще не упоминалось, тогда как измена знати расписывалась в деталях. Лорды уверяли, что действовали под принуждением, Мария же утверждала, что они подняли мятеж по собственному желанию. Босуэлл покинул поле боя при Карберри для того, чтобы избежать кровопролития, а она добровольно отдалась под покровительство знати, была несправедливо заключена в тюрьму и вынуждена отречься от престола под угрозой «ожидавшей ее немедленной смерти». По причине мятежа «было необходимо, чтобы ее милости оказала помощь королева Англии».
Замешательство Норфолка усилилось еще и потому, что, пока комиссия заседала в Йорке, Летингтон нанес герцогу визит и предложил устроить брак между ним и Марией. Если бы Мария согласилась признать свое отречение от престола, Морей с радостью принял бы ее в Шотландии в качестве герцогини Норфолк. Елизавета была бы только рада, если бы ее беспокойная кузина уехала. При этом появлялась возможность ратификации Эдинбургского договора, а в качестве герцогини Норфолк Мария оказалась бы под контролем английской короны. Норфолка, которого отправили в Иорк с недвусмысленным указанием Сесила: его долг состоит в признании вины Марии в прелюбодеянии и убийстве, теперь поощряли жениться на ней. Герцогу было бы не слишком сложно прийти к какому-нибудь соглашению относительно католической веры Марии — его собственные религиозные взгляды зависели от политических обстоятельств, — а ее вина, по сути, определялась довольно шаткими уликами «писем из ларца». Мало кто лучше Летингтона знал, насколько ненадежными могут оказаться документы, а Норфолк вряд ли был самым проницательным придворным в Англии. Он мог вернуться в Шотландию вместе с Марией. Летингтон прекрасно понимал, что можно предъявить любые доказательства — «подделанное досье» — и Мария предстанет белее свежевыпавшего снега. Незамужняя Мария представляла собой угрозу, но она же в качестве жены Норфолка была практически неопасна. Норфолк был склонен поверить всему, что ему говорили, а будучи знатным и амбициозным человеком, он вполне мог одобрить идею брака с королевой, даже если ее мужья и не задерживались на этом свете.
15 октября Ноллис по собственной инициативе попытался устранить некоторые опасности, вытекавшие из незамужнего статуса Марии, предложив ей выйти замуж за его кузена Генри Кэри[97], которого она встретила в сентябре. Предложение тихо проигнорировали.
Несмотря на все детальные инструкции, посланные Норфолку Елизаветой, он по-прежнему терялся в догадках относительно того, какого исхода расследования желали королева и Сесил. Пока брачное предложение еще витало в воздухе, 16 октября Норфолк имел длительную беседу с Летингтоном, и оба они согласились, что лучшим результатом оказался бы компромисс, в результате которого Мария осталась бы с висевшим на ней грузом недоказанной вины, предоставив тем самым Елизавете возможность дольше держать кузину под стражей, не давая ей официальной аудиенции. Не имея окончательного заключения, Елизавета получала предлог не оказывать полной поддержки Морею. Этот туман нерешительности предоставлял Елизавете возможность двигаться в том направлении, какое она пожелала бы избрать.
Елизавета завершила работу комиссии в Йорке, отправила Норфолка инспектировать оборону Северных марок и дала Сассексу инструкции оставаться на посту главы совета Севера. Сэдлер, Летингтон, Макгилл, Херрис и аббат Килуиннинга были вызваны в Лондон, где расследование должно было продолжаться под бдительным присмотром Сесила и самой королевы. Наивная Мария радовалась: «Ее добрая сестра сама рассмотрит дело».
21 октября, через несколько дней после того, как завершились разбирательства в Йорке, Морей написал Сесилу, что в качестве регента или правителя обязан вернуться в Шотландию, чтобы позаботиться о безопасности короля, но на самом деле его просто не пригласили в Лондон. Он также посоветовал Сесилу игнорировать все доводы в пользу того, что подлинным наследником Марии являлся герцог Шательро. Морей настоятельно рекомендовал Сесилу поддержать его правительство в Шотландии без всякого промедления, «в противном случае разрастутся враждующие партии, ущерб будет нанесен ее [Елизаветы] друзьям, а поддержка будет оказана ее врагам, религия и дружба с Англией окажутся под угрозой, а на остров вторгнутся чужеземцы». В контексте возрожденного соперничества Стюартов и Хэмилтонов вина — или невиновность — Марии была совершенно забыта. Сесил, вероятно, сохранил это письмо в числе прочих сообщений, говоривших о «политическом фоне». Впрочем, он также получил письмо от Сассекса, в котором говорилось о необходимости найти некий компромисс «для спасения чести Марии, если она окажется опозоренной», чтобы предотвратить возможность переворота в пользу Хэмилтона, весьма вероятного в случае полного признания ее вины, на котором настаивал Морей. В конце письма Сассекс приходил к выводу, что лучшим выходом было бы предоставление Мореем таких улик, которые помогли бы признать Марию виновной по закону, а потом содержать ее в Англии «за счет Шотландии».
Дотошный Ноллис тоже написал Сесилу, вновь выражая надежду на то, что его вскоре освободят от обязанностей тюремщика, и утверждая, что чем быстрее Елизавета примет решение, тем лучше, поскольку, если Мария заподозрит, что ее будут держать в вечном заточении, она «ни перед чем не остановится, лишь бы совершить побег». Мария каталась на лошади каждый день, если позволяла погода, и группе сторонников легко было бы освободить ее, ведь никто из свиты Ноллиса не был в состоянии догнать ее верхом.
Тем временем Елизавета готовилась перевести Марию в замок Татбери неподалеку от Дерби, еще на сто миль южнее. Ноллис указывал, что вся мебель и утварь в Болтоне взяты напрокат и их нельзя везти на юг. Он завершил письмо Сесилу следующей фразой: «Я молю вас о том, чтобы ни мне, ни моим сыновьям не приходилось больше выполнять эту службу». Сесил проигнорировал его мольбу.
Проигнорировал он и письмо Фрэнсиса Уолсингема, отосланное 20 ноября. Уолсингем информировал Сесила, что, если невозможно будет найти убедительных улик против Марии, один из его агентов готов их предоставить. Уолсингем был ревностным пуританином и членом елизаветинского Тайного совета. Он управлял самой эффективной шпионской сетью в Европе, используя шифры, агентов и пытки для того, чтобы защитить Елизавету. Его обожание королевы доходило до мании, причем сама Елизавета не доверяла порой слишком дорогостоящим результатам его рвения.
Через несколько дней, 24 ноября, Елизавета приказала второй комиссии собраться в Вестминстере и завершить дело, начатое в Йорке. Изначальная троица была расширена за счет маркиза Норхэмптона, графов Эрендела, Пемброка и Лестера, лордов Сайя, Клинтона и Ховарда, сэра Уильяма Сесила, сэра Уолтера Майлдмея и сэра Николаса Бэкона[98]. Это впечатляющее собрание английских аристократов постановило: они собираются не в качестве судебного трибунала, но лишь как члены комиссии. Вновь вызвали Морея, формально для того, чтобы представлять Якова VI, от имени Марии выступали епископ Росский, лорд Херрис и другие. Поскольку Яков не мог присутствовать, Марии тоже не было нужды появляться на заседаниях лично, а сама Елизавета не собиралась принимать участия в разбирательстве. Елизавета утверждала также, что лондонское разбирательство было призвано допросить Морея, посмевшего обвинить Марию в столь ужасных преступлениях. Английская королева, вероятно, не верила ни одному из произнесенных ею слов, но приняла меры для того, чтобы ее не обвинили в том, что она заставила свою сестру и королеву дважды предстать перед судом за одно и то же преступление.
Слушания — слова «суд» тщательно избегали — открылись 25 ноября в Расписной зале Вестминстерского дворца. Члены комиссии восседали вдоль длинного стола, на котором был помещен внушительный документ, дававший им полномочия. После того как они принесли присягу, первый шаг был сделан Мореем: на следующий день его сторона сделала «добавление» к обвинению — теперь речь шла о том, что Босуэлл не просто убил Дарнли с согласия Марии, более того, преступная пара замышляла убить младенца Якова и тем самым «передать корону от законной линии кровавому убийце и безбожному узурпатору». Поэтому верные дворяне вынудили Марию отречься, короновали ее сына и назначили Морея регентом.
Поскольку в Лондоне началась вспышка чумы, работа комиссии была перенесена в Хэмптон-корт; там, выслушав «добавление», представители Марии попросили для нее разрешения появиться на слушаниях и лично ответить на обвинения. Елизавета ответила, что сначала должен быть прояснен вопрос о виновности Марии в убийстве Дарнли, так как она «никак не может поверить, что она дала на это согласие»; появиться же перед комиссией — «значит нанести ущерб ее чести и сану». Поскольку такое решение благоприятствовало Морею, представители Марии отказались его принять и 6 декабря покинули заседание комиссии.
В качестве ответа Морей предоставил «Книгу статей» Бьюкенена и указал также на акт шотландского парламента, утверждавший его в звании регента. На следующий день после того, как представители Марии удалились, Морей снова предъявил «небольшой позолоченный ковчежец меньше фута длиной». «Письма из ларца» зачитали и исправно скопировали — с добавлением ошибок и неверных переводов на английский — клерки Сесила. Морей огласил показания Хэя, Поури и Далглиша, а также «подписанное Макгиллом письмо», в котором Мария давала согласие на свое похищение Босуэллом. Епископ Росский решительно протестовал против предъявления ничем не подкрепленных утверждений, сделанных под пыткой или под угрозой пытки, однако Мортон торжественно поклялся в истинности своей истории обнаружения ларца. Согласившись с этой версией, Морей в свою очередь поклялся, что письма подлинные и «написаны рукой самой королевы». Потребовали дальнейшего подтверждения путем сравнения писем с известными посланиями Марии, однако результат оказался неоднозначным: среди присутствовавших не было экспертов по почерку. Члены комиссии не имели намерения приходить к какому бы то ни было четкому выводу без инструкций от Елизаветы, которая не выносила решения и в то же время отказывалась встречаться с Марией до тех пор, пока не заслушает дело полностью. Мария отказалась делать заявления или даже наносить визит кому-либо еще, кроме Елизаветы. Тюдоровский темперамент Елизаветы дошел до точки кипения, и она потребовала, чтобы Мария ответила на обвинения либо в письменном виде, либо — «знатным дворянам, которых она пошлет, иначе она [Елизавета] сочтет ее виновной». Положение казалось безвыходным. Непримиримость Марии означала, что она не могла больше игнорировать обвинения Морея, ведь это равнялось бы признанию вины. Елизавета, однако, не собиралась принимать их без дополнительных улик, и, поскольку она знала, что ее кузина отказалась предстать перед кем-либо, кроме нее самой, дело не могло быть разрешено. А сама Елизавета не желала, чтобы ее принуждали предпринять то или иное действие.
Летингтон и епископ Росский продолжали устраивать встречи с Норфолком, внешне выглядевшие как поездки на соколиную охоту, время от времени напоминали о перспективе брака с Марией и даже учитывали возможность обручения дочери Норфолка Маргарет с младенцем Яковом VI. Они прилагали усилия, чтобы сохранить свои планы в секрете, особенно от Елизаветы, однако «среди влиятельных людей прошел слух», а Трокмортон и Лестер высказывались в поддержку этой идеи. При этом никто, похоже, не озаботился спросить Марию, что она думает о человеке, готовом делить с ней ложе.
Летингтон предпринял новую попытку вывести дело из тупика, предложив тонкую уловку: Мария признает свое отречение как передачу короны Якову, так что она по-прежнему будет титуловаться королевой, а он будет признан королем, но, если он умрет раньше нее, она вернет себе полноту власти. К несчастью, из этого изящного предложения ничего не вышло. Ответ Марии на «добавление» Морея, с полным на то основанием, представлял собой «обвинение их самих (обвинителей Марии. — А. С.) в том, что они замыслили и совершили то преступление, в котором обвиняют нас». Сесил тем временем набросал для себя еще несколько длинных меморандумов о том, что Марию можно удержать в Англии — как «узницу закона».
Ноллис умолял Марию подчиниться требованию Елизаветы и предстать перед Мореем и членами английской комиссии. Мария ответила просто: «Я не равна восставшим против меня и никогда не позволю судить себя наравне с ними». Это практически точная аналогия линии защиты, избранной ее внуком Карлом I, утверждавшим позднее, что, будучи королем, он не имеет себе равных и поэтому никто по закону не может его судить. Итог в обоих случаях оказался одинаковым.
В декабре 1568 года Мария неосторожно написала неизвестному адресату, приказывая «собрать наших друзей, моих подданных, созвать и провести заседание парламента, если получится». Это был неразумный поступок, поскольку письмо, как и большая часть ее корреспонденции, было перехвачено Сесилом и переправлено им Морею. В другой раз, 10 января, посланник Марии Томас Керр был перехвачен в Берике комендантом замка лордом Хадсоном; при нем было письмо «о делах, достойных размышления», однако его секрет остается нераскрытым.
Елизавета же устала от противостояния, вызванного, как она считала, действиями своей несговорчивой кузины. Двор полнился слухами о том, что Марию подвергнут тюремному заключению где-нибудь в Англии. Хотя комиссия все еще заседала, в середине декабря граф Шрусбери писал жене: «Дела королевы Шотландской совсем плохи… Теперь уже точно известно, что она прибывает в Татбери под мою ответственность».
Елизавета и Сесил смогли обнародовать все обвинения против Марии, а ее отказ предстать перед комиссией толковался как признание вины. В начале января 1569 года Хантли и Аргайл обратились к членам комиссии, рассказав им о заключении Крейгмилларского соглашения, тем самым обвинив себя наряду с Босуэллом, Летингтоном, сэром Джеймсом Балфуром и Мореем. Мария здесь упоминается как соучастница, которая никоим образом не могла отрицать, что знала о заговоре против Дарнли, даже принимая во внимание ее слабую попытку настоять на том, чтобы не было совершено ничего, «наносящего мне вред». Если бы утверждение графов оспорили, они готовы были вызвать Морея и Летингтона на поединок — Летингтон не был достаточно знатен, однако они проявили великодушие и согласились отступить от строгих рыцарских правил и позволить ему сразиться с ними. Ответ Морея на вызов был весьма прост: он решительно отрицал, что был в Крейгмилларе в указанные дни. Поэтому, по крайней мере в этом отношении, обвинение было выдумкой.
Впрочем, прежде чем были обнародованы оба заявления, 7 января Елизавета объявила:
«Королева Шотландии ни в коем случае не должна считать, что Ее Величество собирается дальше рассматривать это дело, учитывая, что она не дала ответа на обвинения в убийстве мужа. Граф Морей должен вернуться к делам управления, и Ее Величество не нанесет ущерба тому положению, какое он занимал до того, как был сюда призван. Королеву Шотландии отправят в Татбери, и к ней больше не будут свободно допускаться посетители, как раньше. Общее правило состоит в том, что никто не должен посещать ее или писать ей, не сообщив об этом Ее Величеству».
После этого резкого приказания не осталось и тени сомнения в том, что Мария являлась узницей. 10 января Елизавета написала представителям шотландской стороны: «До сих пор против них (представителей Морея. — А. С.) не было доказано ничего, наносившего бы ущерб их чести, но и, с другой стороны, не было приведено достаточно доказательств против их правительницы, вследствие чего английской королеве пришлось бы плохо думать о своей сестре-королеве, исходя из того, что она видела». Это — прекрасный образец тюдоровской уклончивости, который на языке шотландского права описывается как вердикт «не доказано». Он предоставлял Елизавете абсолютную свободу действий в отношении Марии, но при этом заставлял ее задуматься о том, что же именно она собирается с ней делать.
Когда Мария начала осознавать всю серьезность своего положения, ее поведение изменилось. Филипп II Испанский вновь сделал ей предложение от имени дона Хуана Австрийского, однако Мария ответила, что, поскольку ее судьба находится в руках Елизаветы, она не может заключать подобные соглашения. Несмотря на это, в своем письме Елизавете от 22 января Мария не сделала ни одной уступки и не предложила никакого выхода, но лишь неразумно порицала английскую королеву за ее поведение по отношению к ней. Елизавета не приняла ее, ей не показали копии «писем из ларца», а позволив Морею вернуться в Шотландию после небольшой выволочки, она фактически приняла решение в его пользу и осудила Марию. Кроме того, было множество «мелких грубостей»: Мария не получала известий от своих французских родственников и была лишена возможности получать новости из Шотландии. В ее письме не было больше ни радостной надежды на то, что личная встреча королев все исправит, ни высокомерия Гизов, с которым она раньше требовала обращения, подобающего ее статусу. Теперь Мария говорила умоляющим тоном арестанта, просящего о милости.
Елизавета, с другой стороны, с обычной деловитостью расчистила себе путь. Сообщения о том, что Яков прибудет в Англию, что Эдинбург, Стирлинг и Дамбартон примут английские гарнизоны, а Морей будет объявлен законнорожденным и наследует Шотландию в случае смерти Якова, были объявлены совершенно не соответствующими действительности. Мария не предстала перед судом, но в глазах общественного мнения была признана виновной на основании сомнительных улик и тайных слухов. Теперь Елизавета переместила ее в более безопасное и удобное место. И по крайней мере, на время могла забыть о своей беспокойной шотландской кузине.
Перемещение Марии в Татбери должно было быть несложным. Сесил получил от графа Сассекса описание предполагаемого маршрута: из Болтона в Рипон (шестнадцать миль), из Рипона в Уэзерби (десять миль), потом из Помфрета (Понтефракта) в Ротерхэм (шестнадцать миль) и так далее короткими перегонами вплоть до Татбери. Поскольку дом в Татбери тогда не был полностью обставлен, предполагалось, что Мария поселится сначала в доме Шрусбери в Шеффилде. Все, однако, запуталось, когда хозяйка обоих поместий леди Шрусбери послала за мебелью для Татбери в Шеффилд, и в то время как Марию утром 26 января 1569 года вынудили покинуть Болтон, в поместьях царил организационный хаос. Пленница задержалась на несколько дней из-за плохой погоды и нездоровья, но теперь ее свита должна была пуститься в дорогу. Для Марии и ее свиты наняли шестнадцать лошадей, еще шестнадцать предназначались для ее охраны, тридцать две — для слуг, а также шесть повозок для багажа и восемь тягловых лошадей. Пар от дыхания лошадей стоял в морозном воздухе, когда Мария наконец вышла из дверей, закутанная в теплые одежды, и неуклюжая процессия двинулась сквозь сугробы, прибыв в Рипон поздно вечером.
В Рипоне Марию встретил сэр Роберт Мелвилл с инструкциями обсудить возможность ее брака с Норфолком. Поскольку одним из главных опасений Морея было то, что, оставшись на свободе в Шотландии, она может выйти замуж за иностранного принца, идею брака с Норфолком следовало поощрить. Учитывая дурное настроение и крайнюю усталость Марии, неудивительно, что обсуждение ни к чему не привело, хотя она нашла время написать Елизавете, жалуясь на принудительное перемещение из Болтона и отрицая подлинность «писем из ларца». Мария сообщила Елизавете, что написала длинное оправдательное письмо Сесилу, но она избавит «добрую сестру и королеву» от необходимости его читать. Ведь Сесил, несомненно, уже передал все его важные положения королеве.
Ноллис, «глубоко обеспокоенный своими грустными обязанностями в чуждой ему стране», все еще рассчитывал разместить кортеж в одном из домов Шрусбери в Шеффилде, но 28 января получил известие, что в них теперь жить невозможно, а ему надлежит двигаться прямо в Татбери. Из-за суровой зимней погоды путешествие становилось все более затруднительным. В Ротерхэме леди Ливингстон так сильно разболелась, что ее пришлось там оставить. В Честерфилде постоянно жаловавшаяся на боль в боку Мария отказалась продолжать путешествие без своей дамы. Леди Ливингстон — Агнес Флеминг — была кузиной Марии и дальней родственницей двух других Марий. Настроение Марии в Честерфилде не стало лучше от получения письма от Елизаветы, которая не понимала, почему Мария расстроена, и советовала ей: «Успокойте свое благородное сердце принцессы, данное вам от Бога».
Мария не нуждалась в покровительственных советах, словно бы предназначавшихся упрямому ребенку, и в конце января написала Норфолку: «Наше заблуждение не таит в себе позора. Вы обещали быть моим, а я — вашей; полагаю, что королева Елизавета и страна одобрят это. Если вы считаете, что опасность велика, поступайте так, как сочтете наилучшим… Ради вас я навсегда останусь пленницей и с готовностью подвергну свою жизнь опасности. Ваша верная до самой смерти королева Шотландии, мой Норфолк». Двадцатишестилетняя Мария вела себя как взбалмошная школьница тринадцати лет.
3 февраля Мария прибыла, наконец, в Татбери, где была передана на попечение графа и графини Шрусбери. Неделей раньше Елизавета послала Шрусбери, самому знатному пэру Англии после герцога Норфолка, инструкции, подтверждая принятое в середине декабря решение. Граф и графиня должны обращаться с Марией как с королевой, но не подчиняться ее власти и не позволить ей обрести свободу без прямого распоряжения Елизаветы, которое она собиралась отдать, «когда придут удобное время и обстоятельства». Шрусбери было предписано сократить свиту Марии — содержать их было слишком накладно — и не позволять никому выше ранга «низкорожденных слуг» приезжать к ней из Шотландии. Поскольку Елизавета знала, что дом в Татбери был не в лучшем состоянии, Марию следовало поселить в доме Шрусбери в Шеффилде. В Лондоне явно не представляли себе все домашние осложнения графа Шрусбери. Ясно обозначив свои пожелания, Елизавета недописала письмо; его продолжение написано рукой Сесила: если Мария позволит себе жаловаться на Елизавету, тогда будут опубликованы все обвинения против шотландской королевы; если она заболеет или пожелает поговорить с графиней, ее контакты будут ограничены, ни одной даме, за исключением графини, не полагается ухаживать за ней.
Хозяином дома, на попечении которого Марии предстояло пребывать еще пятнадцать лет, был Джордж Тэлбот, граф Шрусбери. Елизавета, несомненно с одобрения Сесила, тщательно выбирала тюремщика для Марии. Тэлботу было около сорока лет, он был чрезвычайно богат и, что более важно, владел семью дворцами, не считая двух великолепнейших дворцов Англии, принадлежавших его жене. Все они находились неподалеку друг от друга в центральных графствах. Шрусбери был мирным человеком и, как многие богатые люди, ненавидел лишние расходы. Его переписка изобилует отчаянными жалобами Сесилу на высокую цену гостеприимства, оказываемого им Марии и ее свите. Можно и не упоминать, что все жалобы остались без внимания.
Не менее важна для Марии была хозяйка дома — Элизабет, графиня Шрусбери. Более известная как Бесс из Хардвика, она была второй женой графа, однако он был ее четвертым мужем. Ее первый муж, Роберт Барлоу, умер, оставив ее обладательницей его имущества. Затем она вышла замуж за сэра Уильяма Кавендиша, там самым ступив на первую ступеньку аристократической лестницы. Десять лет спустя он скончался, и затем она вышла замуж за сэра Уильяма Сент-Лоу, который на смертном одре исключил из числа наследников членов своей семьи, оставив все Бесс. Она теперь владела Хардвик-Холлом и Чатсворт-Хаусом, а по богатству уступала лишь королеве. Один из современников сказал о ней: «Ее ум был прекрасно приспособлен к ведению дел, она была амбициозна, высокомерна, эгоистична, горда, коварна и бесчувственна». Такова была Бесс из Хардвика, полностью подчинявшая себе Джорджа Тэлбота в те минуты, когда он не выполнял приказы Елизаветы Тюдор. Этому семейству предстояло теперь приветствовать Марию Стюарт.
Татбери, пожалуй, был наименее комфортабельным из всех домов Шрусбери: то был средневековый замок, периодически использовавшийся как охотничий дом; он был приспособлен для кратковременного пребывания — в течение одной-двух ночей. В некоторых местах прохудилась крыша, а стены не были целиком закрыты гобеленами. В одних комнатах были кровати, в других же — лишь матрасы на каменном полу. Постепенно из лондонского Тауэра доставили серебряную посуду, стены больших залов завесили гобеленами, поставили кровати, а затем прибыл и балдахин Марии. К облегчению Шрусбери, Мария отвечала ему «сдержанно, не выказывая признаков раздражения». Она даже приняла сокращение ее свиты с шестидесяти до тридцати человек без жалоб. Однако спустя много лет Мария обнародовала свое подлинное мнение о Татбери:
«Я заключена за высокими стенами, на холме, открытом всем ветрам и превратностям погоды. В пределах стен, напоминающих Венсенский лес, находится старый охотничий дом, построенный из дерева и оштукатуренный, повсюду трещины, а штукатурка отходит от деревянных стен и во многих местах облупилась. Упомянутый дом стоит на расстоянии двух фатомов от крепостной стены и расположен так низко, что находящийся за стеной вал стоит на том же уровне, что и самая высокая часть здания, так что с той стороны никогда не светит солнце и не бывает свежего воздуха. По этой причине там так сыро, что невозможно поставить ни одного предмета мебели без того, чтобы тот не покрылся плесенью за несколько дней. Я предоставляю вам догадаться, как это действует на человеческое тело. Короче, большая часть здания — просто тюрьма для низкорожденных преступников, а не место, приспособленное для обитания знатной персоны… Покои, которыми я там располагала, состояли — и я могу призвать в свидетели тех, кто там был, — из двух жалких маленьких комнат, настолько холодных — особенно по ночам — что без размещения повсюду ковров и гобеленов, которые я сама расшила, в них невозможно было бы находиться и днем. Те же, кто оставались там со мной ночами во время моей болезни, не могли избежать насморка, простуды или иного заболевания. Окрестности дома выглядят скорее похожими на свинарник, нежели на сад… В том доме нет отхожего места, и в нем постоянно воняет; каждую субботу очищали выгребные ямы, а одна из них находится прямо под моим окном, и оттуда до меня доносится не самый приятный аромат».
Тем не менее Татбери как нельзя лучше подходил для целей Елизаветы. Он находился достаточно далеко от Шотландии, чтобы предотвратить попытку побега, а сообщение с Лондоном было легче, чем из Болтона. Елизавета могла честно сказать, что ее сестра-королева, не признанная виновной в ходе расследования, не была помещена в тюрьму. Однако Мария находилась под строгим надзором доверенного придворного, который к тому же владел еще семью домами по соседству; то было важное преимущество, учитывая долговременное заключение Марии в Англии. Большие дворцы того времени не отвечали санитарным нормам, их каменные или деревянные полы были устланы сеном или, у более богатых владельцев, небольшими коврами, их следовало чистить хотя бы раз в год; полы и стены подметали и мыли, из-под крыш и из погребов изгоняли паразитов; очищали конюшни и отхожие места, а экскременты вывозили на телегах; тушили кухонные очаги, а каминные трубы прочищали — так что каждый год в течение некоторого времени эти дома были непригодными для жилья. Поэтому Марии и ее свите не нужно было далеко ехать, а Шрусбери мог оставаться ее гостеприимным хозяином, вернее — тюремщиком.
9 февраля в Татбери остановился Николас Уайт, везший на север послание Сесила Морею. Он оказался свидетелем того, как Мария посетила англиканскую службу с Книгой общих молитв в руках. Приглашенный побеседовать с королевой, он услышал, что ее английский не слишком хорош и она часто использует перевод службы. Гость и Мария поговорили об искусстве, обсудив резьбу, живопись и вышивание. Уайт знал о страсти Марии к вышиванию, однако оба они сошлись на том, что лучшим из искусств является живопись. Мария сказала Уайту, что вышивает в дурную погоду, хотя постоянная боль в боку делает любое движение затруднительным. Он отметил, что на парчовом балдахине была вышита надпись En та fin est та commencement[99], однако он не «понял этой загадки». Он, естественно, счел ее «привлекательной, изящной, говорящей с милым шотландским акцентом, скрывающей остроумие под мягкостью манер». Он также восхищался ее волосами цвета воронова крыла, хотя Ноллис сказал ему, что они почти наверняка фальшивые. Мария признала, что считает Сесила своим непримиримым врагом. Николас Уайт явно входит в длинный список очарованных ею мужчин. Даже в несчастье и плену Мария Стюарт по-прежнему демонстрировала привитые ей воспитанием изящные манеры, хотя у нее оставалось все меньше и меньше людей, на которых можно было бы их практиковать.
Мария должна была признать, что ее жизнь радикально изменилась. Она больше не была гостьей в королевстве своей сестры, ожидавшей, пока Елизавета подготовит армию и отстранит Морея от власти в Шотландии. Ее личная свита сократилась до тридцати человек, хотя это правило Шрусбери никогда не соблюдал слишком строго, и порой число ее придворных удваивалось. Шрусбери также содержал ее лошадей — за свой собственный счет — и позволял ей вышивать вместе с Бесс в присутствии леди Ливингстон и Мэри Сетон. Маски и балы отошли в прошлое, и Мария проводила дни на охоте и в разговорах. То был не ориентировавшийся на Валуа двор в Холируде, но скорее «двор-пародия»: на возвышении под полотнищем с вышитыми гербами находились парчовый балдахин и красное бархатное кресло. Мария восседала там, окруженная фрейлинами. Она ела блюда, которые предварительно пробовали, с серебряной посуды, подававшейся ей слугами, а на ее кровати ежедневно меняли простыни. Сэр Джон Мортон находился при ней в качестве ее священника, и в целом соблюдались все подобавшие королеве церемонии. Ей не нужно было заниматься политикой, если не считать назначения Шательро, Хантли и Аргайла своими лейтенантами в Шотландии. Единственной ложкой дегтя было то, что увеличившиеся в числе домочадцы Шрусбери уничтожили в окрестностях Татбери все запасы дерева и угля, и 20 апреля 1569 года, спустя всего два с половиной месяца после прибытия, вся свита перебралась в дом Шрусбери в Уингфилде.
Мария все еще поддерживала переписку с Францией при посредничестве посла Бертрана де Салиньяка да ла Мот Фенелона, хотя шифры, принятые ею в марте, были быстро дешифрованы, и Сесил читал ее письма. Она просила Фенелона поздравить Екатерину Медичи с победой короля Карла IX в битве при Жарнаке, где был убит захваченный в плен гугенот Конде. На самом деле командование принял Колиньи, сумевший вывести войска гугенотов без больших потерь[100]. Поздравления Марии по случаю гибели лидера гугенотов вряд ли могли понравиться Сесилу, они только подкрепили его мнение о том, что с Марией необходимо покончить как можно скорее. Именно Фенелону Мария справедливо жаловалась на то, что Морей посадил Шательро и Херриса в Эдинбургский замок. Когда многократно задерживавшийся посланец Сэнди Бог рассказал Марии об их помещении под стражу, она расплакалась, а Бог вместе с епископом Росским был отправлен в Лондон. Елизавета изобразила ярость при получении этих новостей, но лишь одна Мария верила этому театральному представлению.
Елизавета также сформулировала условия, на которых Мария могла бы вернуться в Шотландию: ратификация Эдинбургского договора, отправка Якова в Англию для получения образования и продолжение регентства Морея; все эти условия надлежало обсудить в июле. Вероятно, Елизавета была бы рада возвращению своей незваной гостьи в Шотландию, однако в 1615 году Уильям Кемден намекал наличные причины, по которым Елизавета желала более благоприятных условий урегулирования для своей кузины. Кемден полагал, что Елизавета «вступила в конфликт с самой собой; с одной стороны, ею руководил страх, выросший из постоянного обмана, которому всегда предаются государи, с другой же — она ощущала жалость и сочувствие, свойственные человеческой природе». Тем самым он представил идею о царствовании Елизаветы как Via Media[101].
Глава XVI
«СУДЬБА БЫЛА СТОЛЬ ЖЕСТОКА КО МНЕ»
Возможность брака с Норфолком уже обсуждалась, когда Марию начал склонять к этому епископ Росский. Морей высказал свое одобрение — после того как Мария разведется с Босуэллом, — поскольку это покончило бы со слухами о супруге-иностранце. Норфолк был 33-летним вдовцом безупречного происхождения, хотя довольно скучным и совсем не романтичным. По его мнению, жизнь холостяка была неприемлема, а брак с шотландской королевой повысил бы его статус в рамках сообщества аристократов. Со своей стороны, Мария готова была принять его предложение, если оно означало конец ее плена. Она говорила: «Судьба была столь жестока ко мне в течение всей моей жизни, особенно в том, что касается моих браков, поэтому мне трудно даже подумать о новом муже». Первый ее брак был платой за помощь французов против «Грубого ухаживания» английской стороны, второй, как считала Мария, должен был удовлетворить Елизавету и ее знать, а третий, как она утверждала, стал результатом похищения и плена. Мария никогда не встречалась с Норфолком, но предоставленные ей епископом Росским описания были достаточно приятными; дело продолжил неизбежный обмен драгоценностями и портретами. Только Елизавета не знала о сделанном предложении, и даже Сесил старательно выбирал момент, чтобы упомянуть об идее династического брака.
В мае Мария опять заболела. Ей прописали пилюли от разлития желчи, однако она «несколько раз впадала в конвульсии» и ее мучила рвота; у нее случился новый приступ болезни, от которой она страдала в Джедбурге. Но на следующий день она достаточно оправилась, чтобы в одиннадцать часов вечера наброситься на Шрусбери со слезами и жалобами на то, что одного из ее слуг, Джорджа Бартли, задержали в Бервике.
Как всегда практичная Елизавета прислала для лечения Марии двух докторов — Калдуэлла и Фрэнсиса, и та ухватилась за возможность поблагодарить кузину через них, уверяя, что «ни одно лекарство не помогает ей лучше, чем это утешение в несчастье», то есть неизменная любовь Елизаветы. Шрусбери писал, что Мария «молилась о том, чтобы понять истинное расположение и намерения Елизаветы и чтобы Ему было угодно позволить ей увидеть английскую королеву: здесь на глаза ее навернулись слезы». Даже попустительствовавший ей Шрусбери уже успел усвоить тот факт, что эпические потоки слез были неизбежным приложением к действиям Марии.
Доктора указали, что в комнате, соседствовавшей со спальней Марии, даже в комфортабельном Уингфилде «стоял неприятный и очень сильный запах, вредный для ее здоровья», поэтому Шрусбери устроил переезд Марии во дворец Бесс в Чатсуорте, в восьми милях, так что Уингфилд можно было «очистить». Пребывание Марии в Чатсуорте было кратким, в конце того же месяца она вернулась обратно в Уингфилд.
Мария по-прежнему просила о помощи Францию и Испанию, а письмо Филиппа II своему послу в Лондоне дает представление о диких планах, которые она строила: «Королева Шотландии не имеет власти над своим сыном, чтобы отправить его к испанскому двору для воспитания». Не предлагала ли Мария отправить Якова в Испанию как символ своей доброй воли, в то время как Альба, генерал Филиппа II в Нидерландах, вторгся бы в Англию? Все узники быстро теряют реальное представление о мире за пределами их тюрьмы, и им представляется вполне возможным то, что на самом деле является лишь их фантазиями.
28 июля 1569 года Морей созвал представительное собрание в Перте, где обсуждались предложения Елизаветы по восстановлению Марии на престоле, они были отвергнуты большинством в сорок голосов против девяти. Мария должна была оставаться в Англии, и Елизавете надлежало самой найти способ решить эту проблему. Шрусбери страдал от приступа подагры, в то же время бедняга получил суровый нагоняй от Елизаветы за то, что посмел покинуть Уингфилд и отправился на лечебные воды в Бакстон. Граф оставил Марию на попечении непобедимой Бесс, указав, что его дом в Уингфилде, где обитали 240 человек, «источает нездоровый запах». Он предложил перевести Марию в Шеффилд, где у него было два дома, и, соответственно, ее легко можно было бы перемещать из одного в другой без необходимости отправлять через полстраны длинные караваны. Елизавета настаивала на том, чтобы Шрусбери лично присматривал за своей узницей: 14 августа ему отказали в разрешении посетить воды в Бакстоне в качестве лечебной меры против подагры, а 29 августа Марию «без всяких церемоний, собиравших толпы чужаков», перевезли в Шеффилд. Она стала камнем на шее Джорджа Тэлбота.
За пять дней до того, однако, Мария писала «своему Норфолку», что отказывается выполнить его просьбу и приказывать ему, поскольку охотнее выказала бы ему покорность жены. Выходили памфлеты, высказывавшие различные мнения относительно их брака. «Рассуждение о предполагаемом браке между герцогом Норфолком и королевой Шотландии», например, утверждало: «Безопасность нашей правительницы зависит от брака между герцогом Норфолком и королевой Шотландской, в противном случае брак с иностранным государем может так усилить ее, что наша государыня окажется не в состоянии сопротивляться ей, а это весьма опасно, учитывая ее высокомерие. Если она изменит вере, никакие мольбы не помогут, лекарством станет меч». Считалось, что трактат был написан «неким проповедником Сэмпсоном».
Джон Лесли, епископ Росский, вступил в публичную полемику, издав памфлет «Защита чести королевы Марии». Печатник Александр Харви утверждал, что памфлет был плодом совместного творчества епископа, Херриса и Бойда. В нем утверждалось, что Мария — законная наследница Елизаветы, что она не имела никакого отношения к убийству Дарнли и, самое удивительное, что члены комиссии были убеждены в ее полной невиновности и вине Морея и его сторонников: «Я говорю фи! фи! в ответ на дерзость этих злонамеренных изменников… Дворяне Англии, назначенные выслушать и оценить все обстоятельства, вменяемые в вину королеве мятежниками, не только сочли ее невиновной в смерти мужа, но поняли, что сами обвинители замыслили и исполнили это преступление».
Учитывая все это, епископ Росский утверждал, что Мария свободна выйти замуж за Норфолка, если она того пожелает. Слухи о предполагаемом браке дошли до ушей Елизаветы «благодаря придворным дамам, которые быстро разнюхали все, касавшееся любовных дел». В Фарнэме (Сарри), загородном поместье епископа Винчестерского, во время прогулки в саду Елизавета предостерегла Норфолка «остротой», попросив его подумать, «на какую подушку он кладет свою голову». Норфолк осознал, что ему грозит впасть в серьезную немилость и дал подобающий ответ: «Стал бы я жениться на ней, грешной женщине, известной прелюбодейке и убийце! Я предпочитаю спать на безопасных подушках». Елизавета приказала ему покончить с помолвкой, и обиженный герцог удалился от двора. Шотландским послам было поручено посоветовать Марии «вести себя тихо, иначе она вскоре увидит, как те, на кого она полагается, лишатся головы». Однако слухи по-прежнему распространялись, а улицы наводнили памфлеты, высказывавшиеся «за» и «против» брака герцога и Марии.
Елизавета же впала во впечатляющую тюдоровскую ярость и приказала перевести Марию обратно в Татбери и усилить режим, причем дополнительным тюремщиком должен был стать презираемый шотландской королевой граф Хантингдон. Предлогом послужила болезнь Шрусбери, хотя, если не считать приступа подагры, он был совершенно здоров. Презрение Марии к Хантингдону основывалось на том, что граф имел права на английский престол, так как происходил от дочери герцога Кларенса[102]. Тот был братом Эдуарда IV, и именно ему Шекспир приписал смерть в бочке с мальвазией в 1478 году.
Мария и Хантингдон встретились 21 сентября 1569 года; он нашел, что она отчаялась получить помощь от Елизаветы и вновь начала угрожать обращением за помощью к «другим государям». Четыре дня спустя Елизавета приказала, чтобы Марии не разрешали покидать замок, количество ее слуг подлежало сокращению, а все сундуки, принадлежавшие королеве и ее слугам, должны были подвергнуться обыску. Ответом Марии через четыре дня стала трагическая жалоба на Елизавету. Обыск провели с применением силы, причем проводившие его люди были вооружены, ее слуг прогнали из дома, а она теперь превратилась в настоящую арестантку. Мария просила Елизавету встретиться с ней, отослать ее обратно в Шотландию или даже отпустить ее за выкуп, но не позволить ей «увянуть от слез и бесплодных сожалений». Елизавета обезопасила Норфолка, отправив его 11 октября в Тауэр, а Джона Лесли поместили в доме епископа Лондонского.
9 ноября Мария опять заболела — «цвет ее лица и кожа сильно пострадали», и обеспокоенный Шрусбери известил об этом столицу, тем временем он и Бесс по очереди сидели у постели больной. Мария всегда принимала решение, сначала выслушав советы — братьев Гизов, Летингтона или Морея. Теперь у нее не было советников, она не могла попробовать свое очарование на ком-либо, облеченном властью, и понятия не имела, что делать. Она поняла — хотя так никогда и не признала этого, — что бегство в Англию было ужасной ошибкой, и по мере того, как условия ее содержания становились все строже, а количество членов свиты сокращалось, ее статус арестантки становился все более очевидным. Очередной поклонник Марии, которого она не искала, но которого бездумно поощряла, ведь кокетство было ее второй натурой, теперь испытывал последствия королевской опалы в Тауэре. Единственным выходом была болезнь, и тело не подвело Марию.
Но в середине ноября Мария невольно подверглась еще большей угрозе со стороны Елизаветы. Северяне — графы Уэстморленд[103] и Нортумберленд были полны решимости восстановить католическую веру и выступили на юг с плохо организованной армией в тысячу пехотинцев и полторы тысячи кавалеристов. Они выслушали мессу в Даремском соборе, восстановили алтари и купели с освященной водой и сожгли все протестантские служебники. Смотритель Северной марки Сассекс не посмел атаковать численно превосходящие силы восставших, и те быстро захватили замок Барнард и нацелились на Йорк. К 23 ноября они подошли к Тадкастеру, всего в пятидесяти милях от Татбери, и возможность того, что они в течение ближайших нескольких дней освободят Марию и провозгласят ее королевой Англии, стала вполне реальной. Епископ Росский написал им, стараясь убедить восставших захватить Харлтпул, который можно было бы использовать как порт высадки прибывшей из Нидерландов армии Альбы. Понятно, что эти события породили в Татбери настоящую панику. Сама Мария опасалась, что у Хантингдона есть приказ убить ее, если освобождение покажется вероятным. По прямому приказу Елизаветы Марию поспешно перевезли в Ковентри.
Поскольку елизаветинский совет в Лондоне рассматривал Ковентри как удобно расположенную точку на карте, он и не подозревал, что там нет подходящего замка или дворца аристократа, в котором могла бы остановиться Мария. Отчаявшийся Шрусбери разместил ее сначала в Булл-Инне, куда она прибыла, когда уже стемнело, и была заперта в комнате, чтобы избежать «скопления народа». С Елизаветой чуть не случился удар от ярости, когда она узнала, что предполагаемый центр притяжения Северного восстания помещен в обычную таверну. Королева немедленно потребовала, чтобы Марию отправили «в более удобный дом».
Силы восставших рассеивались по мере продвижения на юг, а к 20 декабря их остатки повернули на север и искали убежища в Шотландии. Шестьсот человек повесили, Морей захватил Нортумберленда и, словно в насмешку, поместил его в замок Лохливен, а затем отправил на юг — на казнь. Немногие выжившие бежали в Испанские Нидерланды, превратившись в вечных изгнанников. Не в последний раз неразумная привязанность к лишенному власти представителю рода Стюартов приводила к гибели или изгнанию.
Оба графа, Нортумберленд и Уэстморленд, пытались утверждать, что Норфолк был причастен к неудачному восстанию, но он прямо отрицал это в длинном письме Елизавете, а также тот факт, что просил Марию выйти за него замуж. В начале 1570 года Мария вернулась в Татбери и паника начала стихать.
Тем не менее один из людей Эрендела, а тот был одним из многочисленных родственников Норфолка[104], планировал «увезти ее из Татбери, переправить в Эрендел в Сассексе, а оттуда — на корабле во Францию». Когда об этом сообщили шотландской королеве, она ответила: «Если граф Эрендел или Пемброк пошлют для этого своего рыцаря, я соглашусь на этот план, в противном случае я не рискну». В конце декабря 1569 года Мария написала Норфолку, благодаря за подаренный ей бриллиант, поклялась носить его «незаметно на шее», любить его «верно до самой смерти» и предостерегала его от вернувшегося в Лондон Хантингдона. 15 января она умоляла его «не верить ни одному человеку, который скажет, что я когда-либо хотела оставить вас». Хотя Мария и использовала шифр, она должна была знать, что Сесил читает ее корреспонденцию, поэтому, поощряя Норфолка, все еще находившегося в Тауэре, она надевала веревку на шею несчастного очарованного мужчины. Тот факт, что они никогда не встречались, делает ее девчоночье поведение еще более достойным порицания, но для Марии Стюарт граф Норфолк олицетворял возможность освобождения. В сочетании с романтической идеей о том, как ее спасет благородный лорд, этот план вытеснил из ее головы всяческое представление о реальной политике, если оно у нее вообще было.
Во время восстания Мария нашла возможность отправить своему сыну, трехлетнему Якову, несколько предметов одежды, а также «двух пони-иноходцев», а Джон Лесли, епископ Росский, подобающим образом запросил паспорта для сопровождавших их слуг. Как и в прошлом, воспитание Гизов не дало Марии забыть о тщательном исполнении своих общественных и семейных обязанностей, хотя материнский долг для арестантки превращается в трагедию. Паспорта выдали, однако их задержали до 29 декабря 1569 года. Около месяца спустя, 22 января, Мария написала Якову, напоминая ему, что у него есть «любящая мать, которая желает Вам в надлежащее время научиться любить и бояться Бога». Получил ли Яков подарки, сомнительно, ведь его воспитание находилось в руках Джорджа Бьюкенена, автора самой отвратительной клеветы на Марию. Королева также послала сыну несколько нарядов и букварь — «показывающий, как пишутся буквы», — при посредничестве графини Мар, умоляя ее не дать Якову забыть, что у него есть любящая мать.
Казалось, Морей полностью контролировал Шотландию, перепуганный Норфолк был готов выполнять все желания Елизаветы. Северное восстание подавили, а за Марией постоянно наблюдали — с дверей комнат, где спали ее слуги, сняли замки, так что их можно было проверять в любое время, даже когда они спали.
В начале 1570 года наступил период спокойствия. Но дипломатические маневры продолжались по-прежнему. Испанский посол Герау де Спее уверился, что, если Альба и Филипп окажут помощь, английские католики «поднимутся в один день и будут сражаться до тех пор, пока страна опять не станет католической, а на престоле не утвердится королева Шотландская». В некоем противоречии с этим Филиппу поклялись в том, что Мария всегда желала «найти убежище в его владениях». Английских католиков должна была поощрить к восстанию папская булла, объявлявшая об отлучении Елизаветы от церкви. Филипп, которому не хватало денег, не собирался делать ничего, кроме как высказывать свое ободрение письменно и ждать. К хору просивших освобождения Марии присоединил свой голос французский посол Монлюк.
Трудно поверить, что все эти махинации были чем-то большим, нежели вежливыми ответами на мольбы Марии, передававшиеся через епископа Росского. Ни Франция, ни Испания не имели ни малейшего намерения провоцировать войну с Англией ради восстановления на престоле шотландской королевы. Они отправили подобающие благочестивые обращения в Рим, который в тот момент был практически бессилен, и старались предотвратить взрыв, раздавая невнятные обещания, которым никто не верил.
Спокойствие, однако, было нарушено 23 января, когда, игнорируя многочисленные предостережения, касавшиеся его личной безопасности, регент Морей медленно ехал верхом по улицам Литлингоу. Из принадлежавшего архиепископу Сент-Эндрюсскому дома прозвучал выстрел: его произвел Джеймс Хэмилтон из Босуэллхолла, прятавшийся за развешанным бельем. Ждавший поблизости мул помог убийце скрыться. Пуля попала регенту «немного ниже пупка», тем не менее он смог спешиться и пешком добраться до своего жилища. Однако в течение дня его состояние резко ухудшилось, и в одиннадцать часов вечера он был мертв.
Морей был сводным братом Марии и одним из ее доверенных советников по ее возвращении из Франции. Вместе с Летингтоном он всегда находился рядом с Марией в течение ее короткого царствования; он и сам стоял рядом с престолом, а шотландская знать наделила его властью регента. Но он никогда не пытался использовать политические меры, чтобы отвратить династические претензии клана Хэмилтонов, а вместо этого погрузил страну в состояние не прекращавшейся гражданской войны. Сам Хэмилтон, с типичной для его семьи нерешительностью, не воспользовался открывшейся благодаря гибели Морея возможностью, и конфликты, едва не развязавшие новую гражданскую войну, продолжались всю весну. Только летом 1570 года был назначен новый регент — Леннокс, в затылок которому дышали Хэмилтоны. Отец Дарнли, Леннокс был заклятым врагом Марии, он также был противником партии Хэмилтонов, но Елизавета считала, что его регентство может быть полезным Англии. Как только стало известно о ее поддержке, королева получила длинное умоляющее письмо от Маргарет, графини Леннокс: «Я не представляю, как его кошелек сможет выдержать такое дорогостоящее путешествие, какое ему предстоит… Я была вынуждена заложить мои драгоценности».
Хотя Северное восстание было подавлено, опасность все еще существовала: ее олицетворял кузен Нортумберленда Леонард Дейкр[105], «один из самых буйных людей», планировавший освобождение Марии. 19 февраля Генри, лорд Скроуп, смотритель Уэльской марки, издал предостережение к населению относительно Дейкра. Еще в январе Сесил говорил о нем: «Если бы Ее Величество правильно поняла, какую роль мистер Леонард Дейкр играл с начала до конца Северного восстания, она бы повесила его выше всех остальных». Различие между Дейкром и восставшими графами заключалось в том, что Северное восстание было политическим движением, ставившим своей целью восстановление католической веры, Марию предполагалось использовать как замену Елизавете. Дейкр же планировал просто освободить ее из сурового заключения. В своих собственных глазах он был странствующим рыцарем, собиравшимся освободить прекрасную принцессу из «отвратительного заключения» у жестокого тирана. Мария, уже имевшая рыцаря — хотя и колеблющегося — в лице Норфолка, отговорила его. Так же поступил и Норфолк, опасавшийся, что действия Дейкра помешают его собственным брачным планам. Епископ Росский утверждал, что Дейкр встретился с Марией «в окрестностях Уингфилда и изложил ей план побега, но по совету Норфолка она решила отказаться от него». Поощрение Марией Норфолка было частью той же игры, и после того, как ее фантазия получила подпитку в виде идеи побега при помощи верного ей рыцаря, всякое чувство реальности было потеряно и Мария с готовностью приняла новую роль окруженной врагами принцессы, заключенной в темной башне. Вместе со всеми людьми, которых он сумел завербовать, Дейкр 20 февраля атаковал армию Хансдона у Карлайла и был наголову разбит. Дейкр, однако, сумел бежать и даже отправил свои извинения Елизавете при посредстве Шрусбери. Извинения приняты не были.
В марте Мария написала графине Мар, справедливо жалуясь на то, что все ее подарки — пони, книги и наряды — были перехвачены на пути к Якову. Их так никогда и не доставили, и благодаря воспитанию Джорджа Бьюкенена Яков вырос, имея ложное представление о Марии как о бесчувственной и никогда не заботившейся о нем матери.
Европейские монархи продолжали с интересом наблюдать за событиями в Англии, пока Мария слала напрасные просьбы Екатерине Медичи и Карлу IX. Столь же неэффективными оказались действия папы Пия V, который 15 мая издал буллу, столь желанную английским католикам. Озаглавленная «Regnans in Excelsis» [106], она отлучила Елизавету, но не привела к восстанию «в один день», как было обещано. Де Спее считал, что «Его Святейшество в своем рвении зашел слишком далеко, и булла заставит королеву и ее друзей еще сильнее преследовать немногих добрых католиков, еще остающихся в Англии». По легенде, некий Джон Фелтон прибил экземпляр буллы к двери дома епископа Лондонского, оспорив тем самым его власть.
9 августа посол наблюдал за тем, как Фелтон за свою дерзость был казнен «с великой жестокостью»[107]. Булла была издана в феврале вопреки совету Филиппа и Альбы и невзирая на противодействие Екатерины Медичи, которая прямо отказалась обнародовать ее во Франции. Это представляло собой разительный контраст с временами, когда папы обладали некоторой светской властью, теперь же булла просто означала, что папа признал предполагаемую незаконнорожденность Елизаветы. Булла, впрочем, придавала духовное измерение любой кампании, ставившей целью посадить Марию на английский трон.
Это также означало, что католические подданные Елизаветы больше не были связаны клятвой верности, а оппозиция больше не являлась изменой. Краткосрочное воздействие буллы оказалось минимальным, однако долговременные последствия стали огромными.
Елизавета использовала возможность преследования остатков сил Северного восстания, послав Хансдона с карательной армией в Шотландию. Он достиг значительного успеха в грабежах и разрушениях, завершив кампанию сражением с Дейкром. Считается, что это заставило саму Елизавету обратиться к стихосложению:
Качество этого стихотворения невысоко по сравнению с тем, на что она была способна. Кампания Хансдона дала, однако, Шотландии знать, что было бы разумнее оказать искреннюю поддержку приемлемому для Елизаветы регенту. К несчастью, в июне Шотландия снова была на грани гражданской войны между сторонниками Леннокса — партией короля и теми, кто поддерживал Марию, — партией королевы.
Лесли был освобожден из своего заключения в доме епископа Лондонского и нанес визит Марии в надежде, что сможет отправиться в Рим и начать юридические процедуры, необходимые для аннулирования брака королевы с Босуэллом. Ему были даны инструкции встретиться с испанским послом и сказать ему: «Если его господин поможет мне, я через три месяца стану королевой Англии и по всей стране зазвучит месса». Мария также рекомендовала Норфолку Лесли как верного слугу. Саму королеву в конце мая перевели в более комфортабельный Чатсуорт, там она охотилась в хорошую погоду и вышивала в плохую. В июле начали проявляться первые внешние признаки того, что вынужденное воздержание от физических упражнений подрывало ее здоровье: Мария жаловалась, что у нее опять начались боли в боку из-за того, что новое платье «слишком тесно». Другими словами, Мария Стюарт опять набрала вес.
Мария по-прежнему не могла избавиться от интриг безумных романтиков, и следующим в череде странствующих рыцарей стал Джон Холл. Холл был уроженцем Уорикшира, получил образование в судебных иннах и служил у графа Шрусбери. Совершенно не зная графа и Марию, которую он никогда не видел, Холл отправился на остров Уайт и даже в Уиторн и Дамбартон, чтобы прозондировать возможность побега. Во всех упомянутых местах он встретил осторожную поддержку его идее в принципе, если не на практике. Он нашел полных энтузиазма союзников во Фрэнсисе Роллстоне и его сыне Джордже, а 28 июля к заговору присоединился сэр Томас Джерард, местный землевладелец-католик, хотя Холла предупреждали: Джерард может «говорить слишком свободно». На этой стадии заговорщики предполагали увезти Марию на остров Уайт через Ливерпуль, а потом — в другое, неназванное место. Джерард, в свою очередь, завербовал сэра Томаса и сэра Эдварда Стенли. Теперь уже всем было ясно, что в планы заговорщиков вовлечено слишком много людей, к тому же не все они были надежными, однако Холл и Ролстон были слишком большими романтиками, чтобы обращать внимание на такие практические детали. 3 августа, в пять часов утра, на высоком холме неподалеку от Чатсуорта они встретились с камергером двора Марии Джоном Битоном. Сэр Томас Стенли замыслил вывести Марию из Чатсуорта через окно и укрыть ее в близлежащем лесу. Мария проявила разумную осторожность относительно безумного плана и через Битона спросила об именах заговорщиков и деталях их плана, а также об использовавшихся ими шифрах и о том, куда ее увезут. Более всего она желала гарантий собственной безопасности, которых явно не могла получить, однако все детали были должным образом записаны, зашифрованы и переданы Битону во время еще одной встречи на холме, состоявшейся двумя неделями позже.
Через два дня Роллстон сообщил детали заговора Томасу Стенли, который «даже не прочел письмо, но немедленно разорвал в клочья и его, и шифр, сказав: мы все погибли». Заговорщики скрылись, а затем попытались бежать, однако их преследовала неудача. Роллстон 2 марта 1571 года бежал на остров Уайт, к 27 мая он через Дамбартон добрался до Лондона, а Холл был захвачен в Дамбартоне 2 апреля 1571 года. Все остальные заговорщики тоже были арестованы. 15 июля Стенли отрицал все, однако просил прощения у королевы за то, что не предпринял никаких действий против Холла. 20 июля Фрэнсис Роллстон признал, что доставлял зашифрованные послания, встречался с Битоном и знал некоторые детали заговора, но утверждал, что никогда не встречался с епископом Росским, и «умолял о прощении во имя своего возраста, болезни и бедности и неспособности выдержать тяготы тюремного заключения». Сам Холл рассказал о планах заговорщиков: «Я никогда не слышал ничего определенного о том, как освободить королеву Шотландии; предполагалось, что ее освободят во время охоты или поездки верхом». Битон «от имени своей госпожи, королевы», заявлял, что умолял их «отказаться от этого и отверг их планы». Стенли не был первым, кто придумал освободить королеву Шотландии, и никогда не имел намерения воплотить планы в жизнь. Все они должны были умереть смертью изменников, и Холл действительно был казнен, однако остальным вынесли мягкие приговоры, вероятно из-за их полной некомпетентности, сэр Томас Джерард провел в Тауэре всего два года.
16 июля 1570 года Леннокса наконец утвердили в качестве нового регента Шотландии. Он был «обременен тяжелыми и опасными обязанностями государственного управления». Летингтон подытожил для Марии состояние дел в Шотландии, где ее сторонники находились в растерянности. Мария обещала Елизавете, что они не превратятся в вооруженную оппозицию, но противоборствовавшие партии справедливо опасались встречаться друг с другом безоружными. Летингтон и Аргайл «никак не могли решить, как себя вести». Киркалди из Грэнджа все еще удерживал Эдинбургский замок, где хранилась большая часть драгоценностей Марии, в частности «ее золотая и серебряная утварь», наряды и мебель. Летингтон послал лорда Сетона вместе со своим братом Томасом Мейтлендом к Альбе в Нидерланды, а затем во Францию. Он надеялся получить помощь для возвращения Дамбартона, который был захвачен Хансдоном от имени Елизаветы.
Норфолк поклялся отказаться от любого контакта с Марией и в августе 1570 года был освобожден из Тауэра, где разразилась вспышка чумы, и отправлен под домашний арест. В письме Джону Лесли, епископу Росскому, Летингтон написал, что это лучшие новости, на какие он мог надеяться, не считая восстановления Марии на престоле или же вести о том, что «королева Англии отправилась к праотцам». Он также сослался на более раннее письмо епископу, в котором шла речь о возможном побеге Марии — возникли планы увезти ее «за западные моря», но точная цель не была определена, — и Норфолк умолял его быть осторожным: «Я смертельно боюсь коварства ее врагов, которые не постесняются предложить увезти ее, а затем заманить в ловушку и так привести в исполнение свои злобные намерения в отношении нее». Его осторожность была оправданна.
Елизавета опять попробовала решить проблему положения Марии путем переговоров. В октябре Сесил и сэр Уолтер Майлдмэй отправились в Чатсуорт с проектом договора об урегулировании. В нем не было никаких новых уступок со стороны Елизаветы, но предполагалось, что Шотландия вернется к состоянию, в котором находилась до сражения при Карберри (15 июня 1567 года). Марию неизбежно просили ратифицировать Эдинбургский договор и отправить Якова на воспитание в Англию. Можно и не говорить, что, хотя обсуждения продолжались в Чатсуорте, а затем в Лондоне и обе стороны вплоть до середины 1571 года посылали своих представителей на переговоры, никакого соглашения достигнуто не было. Они, однако, создали впечатление, что Елизавета желает мирных переговоров: она могла утверждать, что все ее мирные предложения были отвергнуты ее неблагодарной кузиной. Тем не менее Сесил встретился лицом к лицу со своим заклятым врагом — Марией и нашел, что она «по натуре мягкая и податливая и склонна подчиняться тому, кому доверяет». Лесли сообщил Норфолку, что Сесил «потрудится» для того, чтобы устроить встречу двух королев. Сесил, казалось, благоволил браку Марии и Норфолка, но говорил, что, по мнению королевы, если эта пара поженится, то «окажется слишком влиятельной».
26 октября Сесил и Майдлмэй вернулись в Виндзор, поблагодарив Шрусбери от имени Елизаветы за его гостеприимство и посоветовав ему не позволять Марии отъезжать дальше чем на милю-другую от его дома, «за исключением пустошей на холмах» — другими словами, где можно не опасаться возможных контактов с людьми.
Упражнения на свежем воздухе по-прежнему были жизненно необходимы Марии, и 27 ноября она писала: «По правде говоря, наше состояние здоровья оставляет желать лучшего… В нашей голове есть сосуд, который наполняет ее великой болью, отдающейся в живот, так что последнее время у нас не было аппетита». Шрусбери позволял Марии проводить на свежем воздухе так много времени, сколько считал безопасным. Позже она писала: «Мы отправились на небольшую прогулку верхом и, пока находились на воздухе, чувствовали себя прекрасно, но с тех пор наше состояние ничуть не улучшилось». Шрусбери перевез свою свиту в Шеффилдский замок, и 11 декабря туда приехал епископ Росский с двумя докторами. Мария все еще была тяжело больна, ее часто рвало, а аппетит практически отсутствовал; она испытывала боль в левом боку, «под малыми ребрами, она не спала по-настоящему 10 или 11 дней, что вызвало приступы истерики». Доктора дали ей лекарства, которые она немедленно извергла обратно, и епископ написал Сесилу и Елизавете, что ее болезнь была вызвана продолжительным заключением. Поскольку сходные симптомы беспокоили Марию с подросткового возраста, можно считать, что они усилились из-за того, что сократилась физическая активность. Эта болезнь останется с Марией на всю жизнь.
Шрусбери продолжал присматривать за Марией, получив от Хансдона информацию о том, что из Эдинбурга едет юноша, которого можно опознать по примечательному шраму на левой щеке, а в пуговицы его камзола зашиты секретные письма. Юноша был немедленно задержан, а письма отправлены Сесилу. Представители сторон продолжали формулировать доводы, уже многократно звучавшие на прошлых переговорах с Марией и не имевшие никакого успеха. Мария писала длинные письма Елизавете, умоляя ее о личной встрече, но они не привели к каким-либо переменам в отношении к ней.
В начале 1571 года, 25 февраля, Елизавета возвела своего верного сэра Уильяма Сесила в ранг пэра, даровав ему титул барона Бёрли. Среди его многочисленных занятий, которым он предавался еще со времен предыдущего царствования Марии Тюдор, было устройство финансовых дел, причем не только короны, но и различных аристократов. Одним из многих иностранных финансистов, с которыми он контактировал в этих делах, был некий Роберто Ридольфи, флорентиец, брат которого управлял банком в Риме. Бёрли использовал Ридольфи как собственного банкира; тот, подобно всем иностранцам в Британии, находился под постоянным надзором, а его дела с Норфолком были отмечены особо.
В начале марта Шрусбери обнаружил под камнем письма и отослал их Бёрли, сумевшему их расшифровать. Это были, во-первых, послания Марии к герцогу Альбе, подтверждавшие, что она поддерживает Ридольфи, и, во-вторых, письма Марии к Грэнджу и Летингтону, удерживавшим Эдинбургский замок от имени королевы; в последних говорилось, что они должны вскорости ожидать отправки к ним денег. В том же месяце Мария передала Ридольфи длинное письмо, написанное по-итальянски. В нем содержалась информация для папы, герцога Альбы и испанского короля. Мария горько сетовала на обращение с ней Елизаветы, на преследование католиков в Англии и Шотландии и на заговоры против нее. Герцог Норфолк упомянут в качестве лидера движения за восстановление католической веры в Англии, а Ридольфи было поручено убедить папу римского в благочестии герцога. Мария затем заверила Ридольфи, что разорвала все связи с Францией, а когда она станет королевой Англии, то подпишет соглашение между Англией и Нидерландами, более того, она желает для Якова брака с испанской инфантой. Она объявила также, что лично поведет армию на Дамбартон и Эдинбургский замок, что Босуэлл изнасиловал ее и что брак был заключен под принуждением.
Это полное компрометирующей информации письмо почти наверняка не было перехвачено Бёрли, поскольку оригинал находится в секретных архивах Ватикана вместе с написанным примерно в то же время письмом аналогичного содержания от Норфолка. В этом письме Норфолк просил Ридольфи от его имени, а также от имени других аристократов, находившихся в том же положении, что и он сам, и неспособных публично свидетельствовать о вере, заверить папу и короля Испании в преданности католической религии. Он просил Филиппа II одобрить его брак с Марией. Затем он приложил список необходимого количества военной силы и оружия: 20 тысяч пехотинцев, три тысячи кавалеристов под командованием опытного капитана, шесть тысяч аркебузиров и почему-то всего четыре тысячи аркебуз, две тысячи кирас, 25 легких пушек и, конечно, побольше звонкой монеты. Из этих сил две тысячи человек должны были отправиться в Ирландию, столько же — в Шотландию, а главным силам надлежало высадиться либо в Хариче, либо в Портсмуте; Филипп должен был нести расходы на всю экспедицию. Целью этой экспедиции было предотвратить брак Елизаветы с французом, герцогом Анжуйским, — Норфолк полагал, что переговоры об этом браке вели французские протестанты! — а затем восстановить католическую веру в Англии и возвести Марию на престол Англии и Шотландии. Все это нужно было проделать как можно быстрее.
Письмо Норфолка, несомненно, было изменническим; узнай о нем Елизавета, она превратилась бы в непримиримого врага Марии. Несмотря на все заявления о том, что она прервала свою переписку с Францией, в конце месяца Мария писала Фенелону, выражая полную уверенность во французской поддержке. Однако было ясно, что если бы Елизавета вышла замуж за герцога Анжуйского — что было маловероятно, — тогда всякая поддержка Марии со стороны Франции немедленно прекратилась бы. Эта поддержка была уже ослаблена Блуаским договором 1571 года, скрепившим англо-французский оборонительный союз; обе стороны проявляли разумную обеспокоенность маневрами Филиппа и герцога Альбы в Нидерландах.
Ридольфи доставил оба письма адресатам, и никакой опасной информации не просочилось вплоть до марта 1571 года, когда Томас Крауфорд из Джорданхилла, член партии короля, захватил в ходе ночного рейда замок Дамбартон, находившийся под контролем человека королевы лорда Джона Флеминга. Он захватил не только замок, но и документы, принадлежавшие Клоду Хэмилтону из партии королевы и предоставлявшие детальную информацию о состоянии переговоров с Альбой. Бёрли немедленно оповестил все порты Ла-Манша, и в том же месяце в Дувре был арестован некий Шарль Бальи, прибывший в Англию из Нидерландов.
29-летний фламандец Шарль Бальи в течение семи лет был курьером Джона Лесли, епископа Росского. Он вез копию «Защиты чести королевы Марии». Эта книга была напечатана в Льеже в 1571 году, ее автором значился Морган Филипс, хотя на самом деле то была версия первоначального памфлета епископа, переписанного, чтобы показаться более приемлемым Елизавете. Бальи также вез письма от Ридольфи Норфолку, испанскому послу и самому епископу. Бальи быстро доставили в тюрьму Маршалси, где он удивительным образом сумел наладить общение с внешним миром. Под его окном находилась крыша дома некоего бедного человека, в которой была дыра; «туда», сообщал он, «я мог легко просунуть руку». Бальи передал своему корреспонденту, что каждый день он будет находиться у окна в семь часов утра, в полдень, в три часа дня и между семью и восемью часами вечера. Бальи также подружился с другим заключенным, Уильямом Херлом, не зная, что Херл был двойным агентом, работавшим на Бёрли. Херл сообщил, что Бальи — человек шотландской королевы и слуга Лесли, из которого «можно вытянуть многое», а также человек «легко предсказуемый и быстро тонущий в бутылке».
От всех этих компрометирующих вопросов отвлекает письмо Шрусбери Бёрли от 11 мая 1571 года, в котором граф просил даровать ему право опеки над юным сэром Энтони Бабингтоном, чей отец, его сосед, недавно умер. Просьба была удовлетворена, и Бабингтон встретился с Марией, возможно, испытав первую юношескую любовь. Пятнадцать лет спустя за это чувство Бабингтона четвертовали.
На тот момент Бёрли собрал толстую папку документов, сообщавших детали различных планов побега Марии; одни были посланы ему графом Маром, ставшим регентом Шотландии в августе 1571 года после смерти Леннокса, другие — вечно нервным Шрусбери. Мария скорее всего ничего о них не знала, но попросту использовала все дипломатические источники, какие только могла, обещая что угодно всем, кто только мог помочь. Бёрли допросил Бальи в Маршалси 26 апреля и запугал его до крайности угрозой отрезать ему уши. Бальи посетил его наниматель епископ Росский, который попросил его предоставить шифр и сказал, что арестанту не стоит бояться, а угрозы Бёрли — «только слова». После безрезультатного допроса Бальи в пять часов утра 29 апреля был передан на попечение лейтенанта Тауэра Уильяма Хэмптона. Ему Бальи рассказал, что встречался с Уэстморлендом, графиней Нортумберленд и Дейкром в Мехельне — неподалеку от нынешнего Маастрихта — и те передали ему письма. Он утверждал, что понятия не имеет об их содержании и никогда не слышал о Ридольфи. Бальи сказал своему палачу: Ils те mennent sur la gehenne[108]. (Геенна — место человеческих жертвоприношений, посвященное Молоху, также именуется Долиной убийства.) Другими словами, его должны были отправить на дыбу, чтобы заставить раскрыть шифр.
Дыба — инструмент пытки; подвергавшегося мучениям мужчину — только одну женщину подвергли пытке на дыбе[109] — клали на спину, затем его ноги привязывали к неподвижному пруту, а руки прикручивали над головой к большому вращающемуся блоку. При повороте блока суставы растягивались, а затем смещались. Обычно это касалось плечевых суставов, но страдали и запястья, локти, бедра. Боль была невероятной, а инструмент предоставлял палачу дополнительные возможности, потому что в отличие от ударов или ожогов боль была постоянной, ее можно было длить, не опасаясь убить арестанта, а потом жертве грубо вправляли вывихнутые суставы и отправляли «отдохнуть», прежде чем допрос возобновлялся.
Бальи выдержал первый допрос на дыбе, но был обманут другим двойным агентом Бёрли, человеком по имени Стори, и раскрыл ему шифр: цифра «40» обозначала Марию, а «30» — испанского посла. Получив эту информацию, Бёрли ослабил свою хватку, и епископ снова посетил Бальи, наказав ему не беспокоиться. На самом деле Бальи освободили в 1573 году, и он умер в Брюсселе в почтенном возрасте восьмидесяти пяти лет.
Шрусбери теперь усилил охрану Марии, потребовав, чтобы слуги покидали ее покои в девять часов вечера и не возвращались до шести часов утра; чтобы ни один из них не имел шпаги; чтобы никто из них не имел луков и стрел, за исключением тех случаев, когда они сопровождали Марию; чтобы не было никаких прогулок, если его не предупредили за час; и наконец, если бы прозвучал сигнал тревоги, вся свита Марии должна была немедленно вернуться в свои покои. По всему королевству запирали двери конюшен.
Мария сразу потребовала от епископа Росского обратиться к Елизавете за разрешением для нее отправиться на воды в Бакстон ради излечения от ее болезни «и приступов дурноты», а также попросить, чтобы из Франции к ней прибыли врачи, «которые лучше знают мою болезнь», и чтобы, «поскольку королева решила держать меня в этой стране постоянно», ей разрешили выезжать на псовую и соколиную охоту. Мария заверяла Елизавету, что не станет пытаться бежать, но просила увеличить число ее слуг, а также выплатить ей доход от владений в Шотландии. Мария устанавливала условия того, что она считала жизнью в плену. Она стала бы ее уделом, если бы все заговоры провалились, а помощь не пришла. Ей предлагали много планов заменить ее другой женщиной или освободить с применением силы. Тайные письма прятали внутри посоха, однако благодаря постоянной бдительности Шрусбери все попытки провалились, а в Лондоне продолжалось расследование заговора Ридольфи.
Третьим адресатом перехваченных писем был епископ Росский. 13 мая 1571 года его арестовали и поместили в доме епископа Илийского в Холборне. Условия его заключения были мягкими: он путешествовал в свите епископа и получал в подарок дичь и даже надушенные перчатки. Лесли признался, что Ридольфи вез написанные в марте письма от Марии герцогу Альбе, папе и Филиппу II. Некоему персонажу, обозначенному в письме шифром «40», должны были быть выплачены деньги; «после длинной паузы» Лесли подтвердил, что цифра «40» обозначала Марию. От имени Марии Ридольфи должен был убедить Альбу высадиться в Дамбартоне или Лите с полученными от папы деньгами. Ридольфи рекомендовал Херрису и Флемингу в Дамбартоне некоего Джонсона как «человека, испытанного в боях». Он также предложил испанцам высадиться на восточном побережье, возможно в Хариче, который он ошибочно помещал в Норфолке.
В ходе длинного признания Лесли сказал Бёрли, что еще в августе 1570 года, будучи в Эренделе, Ридольфи предложил Норфолку, Эренделу и Пемброку захватить казначейство в Тауэре. Он также привел детали того, что Ридольфи делал в прежних поездках. Бёрли сообщили, что Мария верила — папа и Филипп на ее стороне, друзья в Англии помогут освободить ее — и просила епископа выяснить мнение Норфолка. Она также просила папу выдать Ридольфи 12 тысяч крон, а поскольку его брат был банкиром в Риме, это легко было устроить. Ридольфи должен был выделить средства для Уэстморленда и леди Нортумберленд и сохранить остальное для собственных целей. Норфолк теперь запрашивал меньше средств, чем в марте, а Лесли явно брал свои цифры из воздуха. Ридольфи убедил епископа уговорить Норфолка написать для него рекомендательные письма, хотя герцог «был против этого». Заботившийся только о собственном выживании Лесли сообщил Бёрли, что Норфолк вскоре открыто объявит себя католиком. Он также утверждал, что Норфолк был доволен договором об урегулировании, но боялся появления короля Якова в Англии, и предложил, чтобы о ребенке заботился граф Шрусбери.
Со своей стороны, Шрусбери допросил Марию, решительно отрицавшую факт переписки с Ридольфи или кем-либо, обозначенным шифром «40» или «30». Она признала, что писала иностранным государям, прося помощи против шотландских мятежников, но решительно отрицала, что злоумышляла против Елизаветы.
В результате допроса епископа и предательства Бальи в руках правительства оказалось более чем достаточно улик, и 3 августа 1571 года сэр Ральф Сэдлер арестовал Норфолка в его лондонской резиденции Ховард-Хаус. При Норфолке «находилось два человека, пять или шесть поваров, готовивших ему еду, и не более того». За герцогом присматривали сэр Генри Невилл и шесть охранников. Норфолк получил 600 фунтов золотом от французского посла и отправил деньги в Шотландию. По пути гонец открыл сумку и обнаружил там золото и зашифрованное письмо, которые были немедленно переправлены Бёрли.
Примером проявления полной поддержки Елизаветы может служить графство Норфолк, где поселились протестанты, бежавшие из Нидерландов от карающей длани Альбы. Местные католики во главе с тремя местными землевладельцами — Трокмортоном, дальним родственником посла, Эпплйярдом и Редменом — были арестованы и признались в подготовке восстания с целью освобождения герцога Норфолка и смещения Елизаветы с престола. Мария в признаниях не упоминалась и скорее всего, не знала о восстании, но между строк прочитывалось желание заговорщиков поместить ее на трон вместо Елизаветы. 30 августа трех зачинщиков повесили, выпотрошили и четвертовали, а некого Херберта и еще одиннадцать других приговорили к пожизненному заключению. На плахе Трокмортон сказал: «Сейчас они радуются, но через несколько дней пожалеют об этом». Это вызвало у Елизаветы новый приступ озноба, а прочерченная заботами борозда на лбу Бёрли углубилась. Сначала Северное восстание, затем эта попытка мятежа, а шотландская королева все время ждет своего часа где-то в стороне. Шрусбери немедленно отправили гонцов с приказом еще усилить охрану.
Месяц спустя после ареста Норфолк вернулся в Тауэр «без всяких затруднений; при нем были только те слуги, что являются нашими друзьями». На следующий день Сэдлер сообщал: «Он вел себя смиренно, опустившись на колени, со слезами молил Ее Величество о милосердии, сокрушаясь о том, что оскорбил ее, и страстно желая загладить вину».
Сначала Норфолк утверждал, что ничего не знал о заговоре, так как не читал писем и не знал, где хранится шифр. Это было явной ложью, так как за несколько дней до того слуга Норфолка Роберт Хигфорд показал, что «Алфавит» находился «под подушкой у окна у входа в покои милорда».
8 сентября Норфолк написал Елизавете длинное и многословное оправдательное письмо, а три недели спустя показал, что кодовым обозначением Роберто Ридольфи были буквы «ИЛ», но утверждал, что встречался с итальянцем лишь однажды. По его мнению, многие признавали права Марии на престол, а сам он собирался писать Альбе. Он не знал ни о каком договоре с Альбой, ни о списке заговорщиков и никогда не говорил о портах высадки. С момента «последних затруднений» он не обсуждал с Марией брак или оказание ей помощи, будь то устно, письменно или через посредников. Он только говорил с Джоном Лесли, епископом Росским, относительно «Условий освобождения» Марии и ничего не знал о Ридольфи, так как тот покинул страну. Герцог просто пытался увязать никак не желавшие сходиться концы, а поскольку он считал, что казнь близка, то о правде совершенно не заботился.
Условия содержания Норфолка в Тауэре были такими мягкими, что он передавал оттуда сообщения и получал золото, а в его экземпляре Библии были обнаружены шифры для новых посланий. 13 октября он высказал свое мнение относительно договора об урегулировании, полагая, что Якова нужно отправить на юг, а замки Шотландии должны остаться в руках друзей Марии. Он также сказал, что понятия не имел о переписке с Шотландией, и хотя Хью Оуэн, человек Эрендела, рассказал ему о плане побега, а также о планах Стенли, он ответил Оуэну, что ему все это не нравится, и не принял в этом участия. Он сказал Ридольфи, что не станет иметь дело ни с одним иностранным государем или подданным. Помимо этого он ничего не знал. Он отверг предложение брака с Марией, сделанное ему Летингтоном в Йорке, и знал, что Мария была расстроена его обещанием не иметь с ней больше ничего общего, но ему было необходимо сделать это заявление, чтобы обеспечить свое освобождение из Тауэра в прошлый раз.
В сентябре Бёрли приказал Шрусбери: «Дайте ей (Марии) знать, что ее зашифрованные письма и изложенные в статьях предложения герцогу Норфолку были найдены, а герцог во всем признался и передал нам шифровальную таблицу. Теперь ей не стоит считать странным, что Ее Величество обращается с ней таким образом, но скорее нужно удивляться тому, что с ней не обращаются гораздо хуже. В самом деле, мы имеем шифры и письма шотландской королевы». Эта инициатива, возможно, была призвана подготовить Марию к тому, что случилось бы, если бы Елизавета решилась предать кузину суду за явную измену.
Норфолк предстал перед судом пэров, председателем которого в качестве лорда-стюарда был Шрусбери. Результаты процесса были предсказаны заранее; 16 января герцога признали виновным и приговорили к обезглавливанию. 6 февраля он составил своеобразное завещание: Сассекс получил его орден Подвязки, орден Святого Георгия и цепь — речь шла об очень дорогой золотой цепи ордена Подвязки и усыпанной драгоценностями подвеске Святого Георгия, а Бёрли предстояло унаследовать золотую парчу и кольцо с рубином. 26 февраля герцог произнес свою последнюю исповедь, заявив, что всегда был протестантом и очень сожалеет, что некогда давал основание считать, что он благоволит католикам. Он признал, что «высокомерно решил, без позволения на то Ее Величества, вести дела с шотландской королевой» даже после того, как обещал Елизавете отказаться от этого. Норфолк также признал, что общался с Ридольфи больше, чем сообщал ранее, а длинный и трагичный документ был подписан «рукой раскаивающегося теперь, когда уже слишком поздно, Томаса Ховарда».
Ридольфи написал Марии 30 сентября, сообщая ей о своих странствованиях по Европе. Он добрался до Рима — «остановившись на несколько дней в моем доме во Флоренции, чтобы позаботиться о собственных делах» — и там получил одобрение папы Пия V, выразившего сочувствие бедствиям Марии, а оттуда отправился в Мадрид, но к тому времени, когда он смог убедить осторожного Филиппа II, было уже слишком поздно. Епископ Росский и Норфолк находились в Тауэре, и Ридольфи пришлось удалиться «в некое место, где никто не станет проявлять ко мне враждебности». Он никогда больше не возвращался в Англию. Ридольфи умер в возрасте пятидесяти лет и был похоронен в родной Флоренции.
Норфолк, как и многие другие ее поклонники, принявшие смерть от руки палача, никогда не был влюблен в Марию. Будучи представителем одной из самых знатных семей Англии, он стремился укрепить династию, заботясь о роде Норфолков так же, как он пекся о случке собак и лошадей. Его высокомерию льстила перспектива жениться в четвертый раз на помазанной королеве, представительнице рода Стюартов, в жилах которой текла кровь Тюдоров. Герцог был слишком глуп, чтобы понять — такие амбиции представлялись изменой королеве, от которой проистекала его собственная власть, и это сочетание глупости и амбиций привело его на плаху. Трудно не испытывать к Томасу Ховарду, герцогу Норфолку, хотя бы крупицу симпатии.
9 апреля Елизавета отправила шерифам Лондона приказ «привести в исполнение приговор, произнесенный бывшему герцогу Норфолку». Затем Елизавета отменила приказ, как обычно, проявляя колебания прежде, чем пролить кровь. Однако 2 июня 1572 года герцог был все же обезглавлен, виновный в том, что «замыслил лишить королеву ее короны и королевских прав, имени и достоинства, а затем и жизни; в том, что оказывал помощь мятежникам, поднявшим восстание на Севере, после того, как они бежали за пределы королевства; в том, что оказывал помощь врагам королевы в Шотландии, которые поддерживали и давали средства упомянутым английским мятежникам; в том, что стремился жениться на шотландской королеве; а также в том, что хотел добиться этого брака силой».
Поскольку Мария не присягала на верность Елизавете как своему суверену, она, строго говоря, не была виновна в измене, хотя с того времени общественное мнение в Англии решительно обратилось против нее. Ее угасающей популярности был нанесен еще один удар, когда в Англии был опубликован трактат Бьюкенена «Обвинение». Хотя там и не упоминался заговор Ридольфи, вновь всплыли намеки на соучастие Марии в убийстве Дарнли, все больше черня ее в глазах людей. Это была последняя публичная атака Бьюкенена на свою бывшую щедрую покровительницу. Историк Алистер Черри в своей книге «Государи, поэты и покровители» сказал об этом: «Теперь всеми признано, что его история недостоверна в том, что касается личного правления Марии; она основывается на тесно сплетенных воедино предположениях, полуправдах и прямой фальсификации». Книга представляет собой отвратительный образчик работы наемного клеветника.
Советники Елизаветы требовали казни Марии, но в тот момент она оказала им сопротивление. Поэтому в конце 1572 года Джон Лесли, епископ Росский, приказал своему повару подготовиться к рождественскому пиру.
Глава XVII
ИНОСТРАНКА, ПАПИСТКА И ВРАГ
Пока Шрусбери находился в Лондоне, председательствуя на суде над Норфолком, его место в Шеффилде занял сэр Ральф Сэдлер. Наступила его очередь выслушивать жалобы Марии на условия ее заключения. Мария проявила несомненное высокомерие, сказав о Норфолке и прочих заговорщиках: «Пусть отвечают за себя», и заявила Сэдлеру, что никогда не встречала Ридольфи. Что же до ее посла, епископа Росского, он «скажет все, что вы от него захотите». Сэдлер и Бесс получили отправленные для нее из Франции лекарства, прибывшие с невинным на вид сопроводительным письмом, которое, однако, содержало наполовину пустой лист бумаги. Сэдлер пытался нагреть лист — невидимые чернила, например, лимонный сок, темнеют от нагревания и становятся заметными — но так ничего и не обнаружил. На следующее утро Мария в сопровождении Бесс гуляла в саду замка, когда Сэдлер доставил письмо, отмахнувшись от жалоб на то, что его подали уже вскрытым. Сэдлер отметил, что Марии не хватало физических упражнений, так что порой ее приходилось вести. При известии о том, что Норфолку был вынесен приговор, она расплакалась горькими слезами. Мария погрузилась в печаль и строго постилась, через день посылая Елизавете резкие письма. Та ответила на них, передав письмо с возвращавшимся графом Шрусбери. Марии неизбежно напомнили об ее отказе признать Эдинбургский договор, а также предъявили длинный список претензий; она отвергла дружбу Елизаветы, настояла на том, чтобы выйти замуж за Дарнли наперекор пожеланиям английской королевы; она вместе с Норфолком и Ридольфи планировала захватить престол и использовать иностранную военную помощь для вторжения в Англию. Шрусбери было приказано зачитать Марии этот документ «один, два раза или чаще, если она потребует». Дни, когда Елизавета была ее «дражайшей сестрой», закончились.
В течение 1572 года надежды Марии на освобождение становились все более и более призрачными. Шрусбери вновь пришлось сократить свиту Марии, отчасти из соображений безопасности, поскольку она стала центром притяжения для всех недовольных католиков, а отчасти из-за высокой цены, в которую обходилось ее содержание Елизавета предоставляла графу 52 фунта в неделю, но выплаты производились, мягко говоря, неаккуратно. На февраль 1570 года корона задолжала Шрусбери 2808 фунтов, а выплатила только 2500, и не было никаких шансов получить недостающие 300 фунтов. Выплаты рассчитывались исходя из того, что двор Марии состоял из тридцати человек, но когда число ее придворных увеличивалось, а такое происходило часто, графу приходилось самому восполнять недостачу. Выделенное Марии содержание не было рассчитано на то, чтобы джентльменам ее двора за обедом подавали восемь блюд, а дамам — пять. Признаком высокого статуса дворянина была щедрость, проявляемая к слугам, а Мария была воспитана как принцесса Валуа. Кроме этого, после раскрытия попытки побега Шрусбери был вынужден увеличить число охранников. Елизавета предпочла бы, чтобы Мария жила на пенсию вдовствующей королевы, выплачивавшуюся во Франции, а также на ее шотландские доходы, но французская пенсия выплачивалась крайне нерегулярно, а шотландский регент вообще прекратил все выплаты. Шрусбери имел все основания жаловаться на то, что даже его несметное богатство пострадало от необходимости содержать двор, который, помимо всего прочего, ежемесячно выпивал 500 галлонов вина. Шрусбери был достойным человеком и старался сделать жизнь Марии в заключении как можно более удобной, однако он находился в суровых финансовых тисках. Хотя его жена Бесс сама была богата, она была одной из самых амбициозных женщин в Англии и он не мог рассчитывать на ее доход.
26 мая 1572 года Елизавета получила письмо от «клириков верхней палаты» (то есть епископов, заседавших в палате лордов), требовавших покарать Марию «вплоть до смерти». Вскоре после этого Елизавета написала Марии, сообщая ей о том, что парламент хочет принудить ее заставить Марию ответить на тринадцать пунктов обвинения в нелояльности, сформулированных в акте об объявлении вне закона. Парламентская депутация прибыла в Шеффилд, и Мария ответила на обвинения, повторив старые доводы относительно совмещения своего герба с английским гербом по настоянию покойного свекра и заявив, что ничего не знала о последних событиях, включая заговор Ридольфи. Она не знала о том, что могли делать ее друзья, однако «не существует доказательств того, что она утверждала — она является или должна быть королевой Англии или что такие утверждения делались от ее имени или с ее ведома». Елизавета не желала, чтобы парламент судил ее сестру-королеву и, возможно, приговорил ее к смерти за измену, которой та, строго говоря, не совершала, поэтому она использовала весь свой немалый талант убеждать для того, чтобы билль не прошел.
В августе положению Марии в Англии был нанесен еще более серьезный удар из-за событий во Франции. Лидер гугенотов адмирал Колиньи приобретал все больше власти и популярности. В результате вечером 23 августа 1572 года, в канун праздника святого Варфоломея, у дома Колиньи в Париже появился Генрих де Гиз, сын убитого дяди Марии Стюарт, вместе с отрядом солдат. Колиньи был убит, а по Парижу распространился ошибочный слух о том, что король приказал убивать протестантов. В течение трех последующих дней в столице разыгралась вакханалия убийств; в общей сложности погибло около трех тысяч человек, многих калечили и сбрасывали в Сену. Дома убитых, конечно, были разграблены, а затем сожжены. По стране аналогичные взрывы насилия спорадически возникали вплоть до октября. В целом во всей Франции убили около 12 тысяч протестантов.
После Северного восстания и недавних событий в Восточной Англии всем было понятно, что за внешне мирной жизнью в королевстве скрывается воинствующий католицизм. Известия о резне во Франции, а также мысль о возможном ее повторении в Англии были худшим кошмаром Елизаветы и Сесила. Оба они едва сумели уцелеть в правление Марии Тюдор, закончившееся всего четырнадцатью годами ранее. В некоторых сельских церквях, которые перешли от протестантского обряда, соблюдавшегося при Генрихе VIH, к католической мессе при Марии — порой с тем же самым священником, — алтарные покровы и литургическая утварь были просто спрятаны с приходом к власти Елизаветы, поскольку люди ожидали, что официальной религией в стране вскоре вновь станет католичество. В целом общественное мнение Англии вовсе не приветствовало возвращение к мученичествам времен Марии Тюдор и связывало существование Марии как католического претендента на престол с возможностью того, что и в Англии произойдут события, подобные Варфоломеевской ночи. Народ Англии никогда раньше не проявлял дружеского расположения к Марии, но теперь он настроился резко враждебно к католикам. Раньше Мария представляла собой головную боль для королевского двора, теперь же ее считали гнойной язвой на протестантском политическом теле.
Кампанию против Марии продолжил епископ Лондонский[110], предложивший Бёрли обезглавить ее, а Лестеру было отправлено длинное анонимное письмо, в котором провозглашалось: «для нашей королевы, нашего королевства и всего христианского мира нет другого лекарства, кроме как казнь шотландской королевы. Нарыв на теле мира нужно вскрыть». Тон этого письма аналогичен тому, что было написано «высшим духовенством» 26 мая.
Число слуг Марии уменьшилось до шестнадцати, а Елизавета приказала, чтобы ей «строго препятствовали иметь всяческое общение». Никому не позволялось появляться во владениях Шрусбери без явного разрешения Елизаветы. Как писал граф, «Мария довольно спокойна, но жалуется, что не может поехать верхом на охоту в поля. Я полагаю, что Ее Величество на это не согласится». Шрусбери удостоверился, что зараза не распространится, приказав часто обыскивать покои Марии и просматривать ее бумаги; вся корреспонденция немедленно пересылалась Бёрли для дешифровки. Бёрли, в свою очередь, просил Шрусбери «испытывать ее терпение и провоцировать ее на ответ»; другими словами, действовать как агент-провокатор и поощрять ее к нелояльным высказываниям. Однако для Шрусбери подобное поведение выходило за рамки приемлемого. Марию держали под строгим присмотром в стенах Шеффилдского замка, но 10 октября Шрусбери докладывал: «Леди жалуется на болезнь, вызванную ограничением ее свободы перемещений по окрестностям, поэтому я вынужден гулять с ней поблизости от замка. Это частично удерживает ее от того, чтобы беспокоить Ее королевское Величество легкомысленными письмами». За все заботы и беспокойство Елизавета наградила Шрусбери званием графа-маршала Англии. Этот наследственный пост раньше принадлежал герцогам Норфолкам, и передача его не принесла Шрусбери никакого дохода, но, напротив, порой вызывала необходимость нести еще большие расходы. Елизавете это ничего не стоило.
В октябре 1572 года вся Англия была глубоко обеспокоена, так как Елизавета заболела оспой. Поскольку вполне вероятным исходом была ее смерть, Шрусбери теперь выступал в роли тюремщика будущей королевы Англии; он мог ожидать как вестей о том, что Елизавета поправилась, так и появления на горизонте группы всадников, вероятно, католиков, прибывших для того, чтобы доставить новую королеву в Вестминстер — королеву, которая, вполне вероятно, проявит мстительность по отношению к своему прежнему тюремщику. Он слал в Лондон тревожные письма, и 22 октября был вознагражден трогательным ответом: «Мой верный Шрусбери, не позволяйте печали или страху коснуться своего сердца по случаю моей болезни; уверяю вас, если бы моему слову не верили больше, чем моей внешности, никто даже и не поверил бы, что меня коснулась эта болезнь. Ваша верная и любящая правительница, Елизавета Я». Шрусбери поклялся навечно сохранить письмо, «намного превосходящее приказы, обычно отдаваемые подданным», «в своей памяти».
Мария тоже была больна и отправила Елизавете письмо, в котором сообщала, что «застудила» руку и не могла держать перо, а также писала: «Если бы я не боялась слишком Вам надоесть, я бы попросила Вас разрешить мне поехать к Бакстонскому источнику… который, как я полагаю, вылечит мою руку и сильно меня мучающую боль в боку». Шрусбери, посещавший воды в Бакстоне в поисках исцеления своей подагры, не верил, что они помогут Марии, и из ее просьбы ничего не вышло. Однако граф все же проявил к ней жалость, пожелав, впрочем, задержать ее отъезд на воды до 1573 года, «когда тамошний дом будет готов; сейчас же работы не закончены и он не подходит для этой цели».
Источник святой Анны в Бакстоне был популярным местом исцелений в Средние века, поэтому его стены были украшены обязательными костылями и посохами, брошенными там чудесно исцеленными людьми. В XV веке он оказался в руках семейства Тэлбот. Популярность источника сохранялась вплоть до царствования Генриха VIII — ему, возможно, и самому не повредило бы исцеление. От имени Генриха в Бакстон явился сэр Уильям Бассет, считавший источник рассадником папистского суеверия. Он опечатал «все купальни и источники Бакстона, так что никто не может войти и принять омовение до тех пор, пока не станет известна воля Вашего Величества на этот счет». Однако к 1570-м годам Бакстон вновь приобрел репутацию лечебницы. Шрусбери купил там четырехэтажный дом, примыкавший к главному источнику. В нем было тридцать комнат, а также «большой зал» вокруг самого источника, с сиденьями вокруг купален и каминными трубами «для сушения одеяний рядом с купальней». Аллеи для игры в шары и мишени лучников соперничали с игрой «Попади в мадам», в которой нужно было забросить в отверстия шары различного размера, получая при этом разное число очков. Бакстон начал привлекать модных клиентов, и Бесс стала еще богаче, взимая с них плату: от 12 пенсов с йомена до 3 фунтов 10 шиллингов с герцога и 5 фунтов с архиепископа.
В июле 1573 года Шрусбери писал Уолсингему: «Мария в прошедшем году выглядела более здоровой, чем раньше, да и сейчас выглядит так же. Не знаю, какая ей нужда в Бакстонском источнике». Граф просил прямого приказа из Лондона, и в августе 1573 года Елизавета дала Марии разрешение посетить воды, но с увеличенным числом охранников. Шотландская королева не должна была иметь никаких контактов с посторонними, и приказ из Лондона четко оговаривал: поездка имела медицинские, а отнюдь не увеселительные цели. Елизавета не была жестокой и сочувствовала более молодой женщине, подорвавшей здоровье, однако она должна была учитывать и вечное подозрение, что Мария может быть вовлечена в некий новый заговор — ведь ее новый канцлер де Верже только что выехал из Франции, не везет ли он тайные послания? — а находившийся рядом Бёрли подпитывал ее беспокойство, у английской королевы были причины для волнения. Обладание властью всегда порождает подозрения в том, что другие сговариваются отнять ее у вас, и подобная паранойя охватывала всех правителей, от египетских фараонов до нынешних президентов и премьер-министров.
Поездка в Бакстон оказалась успешной, и не только потому, что облегчила боль в боку, но и потому, что предоставила Марии необходимый перерыв, избавивший ее от несомненной монотонности существования в Чатсуорте или Шеффилде. Поскольку мебель и занавеси Марии путешествовали вместе с ней, интерьеры во всех домах были схожими, за единственным исключением ненавистного Татбери, а ограниченная подвижность не давала облегчения. Мария была весьма общительной дамой, обожавшей новые знакомства и сплетни, но когда каждого посетителя помещали под строгий надзор и рассматривали как возможного шпиона, развлечения оказывались сильно ограниченными. Бакстон же — совершенно другое дело. То был модный городок, в котором теперь появилась королева-изгнанница — королева с весьма пикантной репутацией, известная как одна из величайших красавиц своего времени, — посещавшая воды в обстановке секретности. Каждый стремился хотя бы одним глазком взглянуть на нее, и даже самые строгие меры безопасности не могли полностью исключить контактов Марии с внешним миром.
В 1950-х годах Эшторил в Португалии превратился в refuge dugouf[111] для королей-изгнанников со всей Европы и Ближнего Востока и все модники стекались, чтобы поглазеть на бывших монархов на пляже или в казино. Четырьмя столетиями ранее в Бакстоне зеваки тянули шеи, чтобы увидеть опасную королеву. Хотя Марии был уже тридцать один год — средний возраст для того времени — и она уже начинала сутулиться и набирать вес, она все еще сохраняла привлекательность, и Бакстон зарабатывал на этом точно так же, как впоследствии Брайтон станет наживаться на визитах принца-регента[112].
Мария нашла в Бакстоне облегчение и верила, что, «если в наступающем году ей [Елизавете] будет угодно, в более благоприятное время года, даровать мне подобное же позволение и разрешить мне провести здесь больше времени, я, полагаю, совсем исцелюсь». Теперь Мария, казалось, приняла тот факт, что ее заключение будет долгим и выльется в периодические переезды из одного дома Шрусбери в другой, перемежаемые нерегулярными визитами в Бакстон.
Последняя слабая надежда на восстановление Марии на шотландском престоле умерла вместе с регентом Маром 29 октября 1573 года. Его место занял Мортон, который был решительно настроен покончить с хаосом постоянно возобновлявшейся гражданской войны. Теперь не было никакого шанса вернуть Марию на трон в Шотландии, а после заключения в Эдинбурге в феврале 1573 года мирного договора верны ей остались только Летингтон, Киркалди из Грэнджа и несколько других лордов, осажденных в Эдинбургском замке. Елизавета послала в Лит полторы тысячи человек, и 16 июня гарнизон из 164 мужчин, 34 женщин и 10 мальчиков сдался. Большинство, включая Киркалди из Грэнджа, были повешены, а 9 июля последний сторонник Марии, Мейтленд из Летингтона, шотландский Макиавелли, принял яд и умер. Его тело было обнаружено четыре дня спустя, когда его уже пожирали черви. Теперь Мария Стюарт оставалась королевой Шотландии только по имени.
Примерно в это время Мария также осознала, что кардинал Лотарингский удерживает большую часть ее французской пенсии для собственных нужд. Она имела серьезные, хотя и необоснованные, надежды на то, что де Верже сможет остановить грабеж, совершавшийся ее собственной семьей, но поскольку для Гизов она больше не имела никакой политической ценности, они считали, что могут грабить ее безнаказанно. Ее деверь Карл IX просто отмахнулся от Марии: «Бедная дура так и не успокоится до тех пор, пока ей не отрубят голову. Честно говоря, им стоит предать ее смерти. Я считаю, что виной всему ее собственная глупость. Не вижу, чем можно было бы помочь».
Тот факт, что Мария находилась в заключении и в изоляции, получил подтверждение и в том, что все известия о громадных переменах в ее королевстве теперь доставлялись к ней через вторые руки и по усмотрению Бёрли. Теперь не имело значения, знает ли она что-то о состоянии дел в Шотландии или нет. Поскольку она стала центром притяжения заговорщиков, чем меньшей информацией она располагала, тем лучше.
В декабре информатор Хэйуорт предупредил Лестера о заговоре папистов в Ланкашире. Те якобы собирались доставить шотландскую королеву во Францию, Испанию или Шотландию. Предупреждение было крайне расплывчатым, не давало точных деталей и могло оказаться истинным по отношению к любому моменту пребывания Марии под стражей. Письмо выглядит как обвинение фанатичного и озлобленного человека в адрес своих соседей-католиков, однако Мария являлась центром самых мелких споров на локальном уровне. Уильям Уортон предложил, чтобы Марии послали поддельные письма с фальшивыми новостями, которые вовлекли бы ее и ее друзей в заговор, так что потом их всех можно было бы арестовать. План был отвергнут, но Уолсингем отметил, что эта идея достойна дальнейшей разработки.
1574 год начался с получения утешительного письма от кардинала Лотарингского, в котором тот советовал Марии «еще ненадолго притвориться и не усугублять положение» и неубедительно клялся потрудиться ради ее «величия и свободы». Мария снова написала Елизавете, выражая обеспокоенность долгим молчанием кузины и умоляя дать ей знать через Фенелона, как угодить ей, пока она «ждет, когда Господь вдохновит вас положить конец моим затянувшимся бедствиям». Она не получила ответа. Политика Шрусбери, одновременно проявлявшего строгость и сочувствие, подверглась критике, и в апреле два человека, Коркер и Хэуорт, обвинили его в неподобающей мягкости по отношению к Марии и высказали предположение, что граф поддерживает ее претензии на престол. В итоге тот написал письмо Бёрли: «Я не сомневаюсь в великой благости Господней и в том, что Ее Величество будет править долго и счастливо годы спустя после того, как я умру… Как можно вообразить, что я склоняюсь поддержать претензии этой королевы на наследование после Ее Величества? Я знаю, что она — иностранка, папистка и мой враг». Слух, выросший из мелкой зависти, а не из каких-либо фактов, не развеялся, и годом позже, 24 декабря 1574 года, граф написал снова, отвергая сплетни о том, что в Бакстоне он стал союзником Марии. Елизавета резко одернула его, «прямо обвинив в благосклонности к королеве Шотландии». Он ответил: «Что же до шотландской королевы, я и в самом деле не желаю ей зла. Но я не желаю и иметь дело с претензиями на престол: если она вознамерится нанести ущерб Ее королевскому Величеству, моей правительнице, то ради нее я обвиню ее, и в этом я ей не друг, а то и хуже». Другими словами, у него не было личной неприязни к Марии, если она не представляла угрозы для Елизаветы.
Еще одна нить, связывавшая Марию с Францией, была разорвана, когда ее шурин, король Карл IX, умер от туберкулеза в мае 1574 года. Ему наследовал его брат, герцог Анжуйский, под именем Генриха III. Европа затаила дыхание, ожидая, в какие союзы вступит новый король, — он уже был королем Польши, и ему пришлось поспешно возвращаться, чтобы получить французский престол; его уже успели обвинить в инцесте с сестрой, гомосексуализме и черной магии. Ему пришлось столкнуться с экономической катастрофой, растущей силой гугенотов под предводительством их лидера Генриха Наваррского и возмущенной аристократией. Все это дало Елизавете свободу вести переговоры с Филиппом по поводу беспокойных Нидерландов. Мария написала теперь уже не Екатерине Медичи, но Джеймсу Битону, архиепископу Глазго и своему послу в Париже, выражая печаль по случаю смерти Карла и желая Генриху III всех благ.
Все заключенные на длительные сроки ищут разные способы отвлечься, причем многие из них держат птиц в клетках и даже становятся настоящими их знатоками. В июле 1574 года Мария написала архиепископу Глазго, прося его прислать ей горлиц и «барбарийских цыплят»[113], чтобы она могла их разводить: «это развлечение узницы». Она также попросила прислать ей золотой парчи, серебряных нитей и головных уборов, и кроме того напомнить ее дядям прислать ей еще птиц. Позднее в том же году кардинал прислал нескольких мелких собак, а Мария писала: «Маленькие животные — единственная радость, какая у меня есть». Мария начала своими руками делать подарки разным людям, в особенности же Елизавете. В мае Фенелон поднес Елизавете юбку из красного атласа, расшитую серебряной нитью; «подарок ей очень понравился».
Мария вновь написала архиепископу в середине августа, и по ее стилю видно, что она, наконец, осознала — все ее письма читают Бёрли и Уолсингем. Она упомянула слухи о том, что ее прочат в жены Генриху III, графу Лестеру и дону Хуану Австрийскому[114], и подчеркнула, что все это неправда. Существовал, однако, шанс, что союз с доном Хуаном может быть заключен на самом деле, поскольку тот был незаконнорожденным сводным братом Филиппа II и в марте 1576 года стал губернатором Нидерландов. Дон Хуан принял этот пост, считая его необходимой опорой для возвращения Англии к католичеству, а также спасения пленной королевы Шотландии и брака с ней. Ситуацию усложнял тот факт, что Мария формально была все еще замужем за Босуэллом, но тот, к счастью, скончался в апреле 1578 года в датской тюрьме, ослепший и лишившийся рассудка. В октябре сам дон Хуан Австрийский умер во время осады в Нидерландах; тем самым был устранен еще один возможный, хотя и маловероятный претендент на руку Марии. Он был, по крайней мере, романтичен, однако близость к испанскому престолу делала его опасным. Бёрли заявил, что дон Хуан скончался от венерической болезни, хотя прекрасно знал, что это ложь. Скорее всего, тот умер от тифа. Уолсингем писал: «Господь выказывает свою любовь к Ее Величеству, прибирая ее врагов». На самом деле в 1574 году переписка Марии с Францией сильно пострадала в результате продолжительной болезни ее французского секретаря Огастена Роле, впервые отмеченной 20 февраля. Роле был назначен секретарем Марии в Шотландии герцогом де Гизом в 1560 году, но был отослан во Францию после убийства Риццио. Потом он вернулся и верно служил Марии в изгнании, однако скончался утром 30 августа 1574 года, предоставив ревностному служаке Шрусбери возможность обыскать бумаги Марии. Обыск не принес плодов, но смерть Роле вновь дала клану Гизов шанс поместить рядом со своей непредсказуемой родственницей своего человека. Им стал Клод Но де ла Буазильер, и он прибыл к Марии в начале лета 1575 года. Клод Но был протеже кардинала Гиза, который отправил его учиться праву. Во многих отношениях Но напоминал Риццио — экстравагантно одевался и усвоил манеры французских придворных. Почти не говорившего по-французски Шрусбери он раздражал, но Мария находила его присутствие успокаивающим. Уолсингем, как более объективный свидетель, счел, что Но прекрасно владел итальянским, латынью и английским. Он лишь улыбнулся в ответ на заявление Но о том, что, если его госпожа пострадает в отсутствие помощи, «ее величество Елизавета будет отвечать за это перед всеми христианскими государями». Мария была так им очарована, что продиктовала ему свои воспоминания о днях, проведенных в Шотландии. Он, в свою очередь, был так ослеплен ею, что принял ее рассказ за непреложную истину.
В сентябре 1574 года Мария проявила свою обычную заботу о слугах, попросив архиепископа найти для Мэри Сетон часы. Мэри Сетон была последней из четырех Марий, оставшейся незамужней, и являлась объектом страсти Эндрю Битона, унаследовавшего после отца, Джона, должность камергера двора Марии. Однако Мэри Сетон утверждала, что дала обет хранить целомудрие, еще когда девочкой вместе со своей госпожой прибыла во Францию. Битон, человек явно решительный, отправился в 1577 году во Францию, чтобы получить для Мэри разрешение от обета. Удалось ли ему этого добиться или нет, остается тайной, поскольку несчастный Битон утонул на обратном пути, а шесть лет спустя Мэри Сетон, все еще девственница, вернулась во Францию и прожила остаток дней в монастыре Сен-Пьер в Реймсе, аббатисой которого была Рене де Гиз.
22 сентября Мария попросила архиепископа приобрести для нее несколько собак в добавление к паре очаровательных маленьких собачек, которые, как она была уверена, отправляет ей ее дядя-кардинал; ведь кроме чтения и необходимой работы у нее нет никаких удовольствий. Она закончила свое грустное письмо, напомнив архиепископу о том, что щенков необходимо тепло укутать во время путешествия.
Пока Мария беспокоилась о своей растущей своре, ее хозяйка Бесс высматривала династический союз. В течение некоторого времени она вела переговоры о браке между своей дочерью Элизабет и графом Саффолком[115], но, прослышав, что недавно овдовевшая графиня Леннокс и ее сын, молодой граф Чарлз Стюарт, отправляются на север, немедленно предложила им встречу. Елизавета запретила графине посещать Чатсуорт. От одной мысли о том, что мать Дарнли, неисправимая заговорщица и постоянная обитательница Тауэра, приблизится к Марии, у нее кровь стыла в жилах. Однако аббатство Раффорд было собственностью Шрусбери и лежало на пути графини на север, так что визит был запланирован. Он продлился пять дней; две матери были заняты предсвадебными переговорами, а их пятнадцатилетние дети были предоставлены сами себе. Чарлз Стюарт был правнуком Маргарет Тюдор и, таким образом, имел прямые права на английскую корону, хотя и по женской линии. Если бы в результате брака на свет появился сын, он в свою очередь стал бы графом Ленноксом и, пожалуй, имел бы более серьезные права на английский престол, нежели Яков VI. Шрусбери желал этого брака хотя бы во имя собственного спокойствия: «Когда это произойдет, я вздохну спокойно, ведь в Англии мало найдется сыновей знатных дворян, с которыми она бы не просила меня переговорить в тот или иной момент». Брак в самом деле совершился с великой быстротой.
Елизавета была вне себя от гнева. Обеих графинь сразу вызвали в Лондон, чтобы бросить в Тауэр. Обе эти устрашающие женщины так часто вызывали недовольство Елизаветы, что не будет большим преувеличением представить себе: у них были свои собственные апартаменты в этой мрачной крепости, однако благодаря заступничеству друзей они были всего лишь помещены под домашний арест. Все, кроме Бесс, вздохнули с облегчением, когда осенью 1575 года у пары родилась дочь, леди Арабелла. Для Бесс это означало, что на ее пути к превращению в королеву-мать объединенного королевства стояли Мария и ее сын Яков VI, а Бесс не любила препятствий.
Паранойя Елизаветы не знала никакой логики, и она включила Шрусбери и Марию в число обвиняемых во время приступов ярости, убежденная в том, что они вместе с Бесс сговорились устроить этот брак. Мария боялась что ее, в лучшем случае, передадут на попечение графу Хантингдону или, в худшем, просто отравят. Она писала Генриху III, прося либо спасти ее, либо отомстить за ее смерть. Ощущение изоляции усилилось после того, как 26 декабря в Авиньоне умер кардинал Лотарингский. Он был последним из ее советников, и хотя и присвоил большую часть ее дохода и использовал ее как пешку в политических играх семейства Гизов, все же представлял собой нить, соединявшую Марию с золотыми днями ее юности, проведенными во дворцах на Луаре. Она готова была принять его смерть как волю Бога, подобно всем остальным несчастьям, выпавшим на ее долю.
Еще не зная о смерти кардинала, Мария в тот же день писала архиепископу Глазго, объясняя, почему отвергает все предложения признать Якова королем Шотландии. Он был коронован в возрасте тринадцати месяцев, сразу после ее отречения, однако его мать впоследствии объявила отречение недействительным и, следовательно, в собственных глазах оставалась истинным правителем Шотландии. Мария желала, чтобы ее посол отчетливо прояснил: договоры о дружбе между Францией и Шотландией означали договоры с ней и ни с кем иным.
Одним из долговременных последствий отлучения Елизаветы от церкви стало усиление преследования католиков, и Мария не была исключением. Ее духовником был Ниниан Винзет, официально считавшийся ее секретарем, но его изгнали вместе с Джоном Лесли, епископом Росским, и поэтому в течение некоторого времени Мария была лишена утешения религиозных обрядов. Они были столь важной частью ее жизни, что лишившись их, она написала папе Григорию XIII в октябре 1575 года, прося о различных послаблениях. Мария желала, чтобы тайно посещавшему ее капеллану, иезуиту по имени Самери, было позволено давать ей отпущение грехов после исповеди. Она также просила, чтобы отпущение грехов было дано двадцати пяти католикам, посещавшим протестантские службы только из страха быть обнаруженными. Она просила прощения у папы за то, что не опровергала оскорбления со стороны еретиков. И наконец, она желала получить indulgentiam in articulo mortis dicendo Jesus Maria, то есть полное отпущение грехов в момент смерти после произнесения — даже мысленного — слов «Иисус Мария». Ведь возможность насильственной смерти от руки убийцы или же в результате судебного приговора была вполне реальной.
Примерно в это же время Мария написала несколько поэтических строк в часослове, который она хранила при себе с тех пор, как приехала во Францию. Казалось, она использовала этот бесценный средневековый молитвенник как записную книжку, чтобы занять чем-либо время в моменты депрессии, и ее комментарии до крайности грустны. Многие записи, например, такие как «была ли чья-либо судьба грустнее, чем моя?», полны отчаяния и могли быть внесены на протяжении большого промежутка времени. Теперь она приняла свою судьбу — «Теперь я уже не та, что была раньше!» — и, кажется, рассматривала жизнь как нечто, что нужно претерпеть в ожидании смерти. Мария не была глубоким мыслителем, но эти строки показывают темную сторону ее характера. Сияющая улыбка и придворное очарование покинули ее, а тюремное заключение начало разъедать ее оптимизм. Через пять лет, в 1580 году, она, как считается, написала «Эссе о бедствиях», сборник кратких заметок, посвященных ее заключению, не имеющий четкого плана. Оно выглядит так, как если бы она начала собирать свои размышления и подкреплять их затем примерами. Поскольку ее лишили возможности выполнять долг, к которому «Господь предназначил меня с колыбели», Мария стремилась привести примеры жизненных бедствий — «столь хорошо знакомый мне предмет», — считая, что вряд ли кто испытал больше, и никто из правителей уж точно здесь с ней не сравнится.
Поэтому она начала с обоснования данного ей Богом права на власть и уникальности своего положения. Она изложила план — которому сама потом не стала следовать — рассмотрения душевных и физических страданий, после чего Господь, наконец, простит всех грешников. За неизбежными примерами из Писания следовало отступление к античным авторам и знаменитым случаям самоубийства. Она обвиняла «знатного и благородного государя, которого я имею честь числить среди своих родственников», в том, что тот запятнал «знаменитое имя», не исповедовавшись в небольшом бесчестье. Мария не сказала, кого из родственников имела в виду, но у нее был богатый выбор. Она завершила труд предупреждением о том, что хотя смирение есть великая добродетель, те, кто призван к величию, не должны избегать предназначенной им Богом обязанности. Вся работа, с ее многочисленными зачеркиваниями, пропусками и исправлениями, представляет собой написанную подростком версию ученой проповеди князя церкви, однако во время ее составления Марии было тридцать восемь лет и от нее можно было бы ожидать большей зрелости. Она больше не думала о побеге и возвращении к власти, и ее единственной надеждой на будущее была ее неколебимая вера в Бога и мелкие улучшения и послабления, предоставляемые узникам, заключенным в тюрьму пожизненно.
Главными среди этих послаблений были, конечно, ее визиты в Бакстон, которые, как она находила, облегчали боль в суставах. В конце мая 1577 года Но упоминал об обнадеживавших слухах. Мария и он получили «тайное» сообщение о том, что Елизавета собиралась посетить Бакстон, а оттуда она, переодевшись, поедет в Чатсуорт, чтобы встретиться с Марией. Но был не вполне в этом убежден, однако Мария была уверена, что наконец увидит свою кузину. Это была иллюзия, а информация оказалась ложной. От встречи невозможно было выиграть ничего, кроме устных заверений в любви и дружбе, кроме того, она могла привести к нелицеприятному сравнению внешности обеих женщин. Елизавету обвиняли в том, что она боялась подчиниться несомненному очарованию Марии, но оно сильнее всего действовало на мужчин, а Елизавета поддавалась только на мужские комплименты. Если Елизавета и имела сомнения относительно того, как себя вести, она великолепно затянула время, и если даже здесь и была возможность оказаться в ситуации, когда необходимо было действие, она искусно избежала ловушки. Две королевы так никогда и не встретятся, и во всех художественных изображениях такой встречи драматический эффект оказывался в лучшем случае слабым, ничего не добавляя пьесе.
Отражением тогдашнего настроения Марии служит факт составления ею варианта нового завещания. В случае смерти в тюрьме, чего королева теперь ожидала, она просила о том, чтобы ее тело перевезли в собор Сен-Дени и похоронили рядом с первым мужем, Франциском II, а также о том, чтобы Яков наследовал все ее имущество и права на английскую корону при условии, что он обратится в католичество. Если бы обращения не состоялось, Мария передавала все права Филиппу Испанскому, с тем чтобы он распорядился ими по собственному усмотрению и по совету папы. Если бы Яков скончался раньше нее, корона Шотландии досталась бы графу Ленноксу или Клоду Хэмилтону; выбрать из них предстояло Лотарингскому дому на том условии, что избранник должен был вступить в брак с представительницей этого семейства. Леди Арабелла должна была стать графиней Леннокс. История должна быть благодарна тому, что это завещание не вступило в силу, поскольку результатом стала бы война между Англией и Испанией и гражданская война в Шотландии.
В июне 1577 года в Бакстон нанес визит граф Лестер — гость графа Шрусбери. Он, по всей видимости, страдал от лишнего веса, и Елизавета прислала Шрусбери комические распоряжения относительно его диеты. Две унции мяса следовало запивать одной двадцатой пинты вина и таким количеством «святой воды Св. Анны, какое он пожелает выпить». По праздничным дням диета разнообразилась крылышком крапивника на обед и ножкой на ужин. Елизавета по-прежнему была способна на глупые шутки, достойные школьницы. Мария, инстинкты которой были отточены при дворе Валуа и настроены на обнаружение заговора, хотя и не были достаточно сильными для определения его шансов на успех, заподозрила, что Лестер явился в Бакстон для того, чтобы выведать у представителей знати, есть ли у него шанс жениться на Елизавете. Поскольку Лестер в 1575 году[116] тайно женился на Летиции Ноллис, дочери бывшего тюремщика Марии, сэра Фрэнсиса Ноллиса, это было маловероятно. Сама Мария вполне могла находиться в это время в Бакстоне, поскольку 25 июня Елизавета поблагодарила Шрусбери за то, что тот так хорошо заботился о Лестере, а всего через два дня Уолсингем отметил, что Татбери — тюрьма, которую он предпочитал, — была в неподходящем состоянии и Марию нужно вновь отвезти в Шеффилд.
Сам Бёрли прибыл в Бакстон с такой скоростью, на какую только было способно его «старое сморщенное тело». Соблазнительно представить себе, что во время всех этих разъездов Мария смогла возобновить свое знакомство с Бёрли и, возможно, даже встретила, наконец, бывшего кандидата на свою руку, Лестера. Обе эти возможности требовали соучастия графа Шрусбери, и оба путешественника обладали большей властью, нежели он. Однако оба они прекрасно знали, что, если об их встрече станет известно, гнев Елизаветы будет ужасен. И Бёрли, и Лестер, будучи елизаветинскими политиками, располагали собственными шпионами, они также знали, что многие из них были двойными агентами, но всех их превосходил глава разветвленной сети, сэр Фрэнсис Уолсингем. Один из самых зловещих его помощников, сэр Ричард Топклифф, находился тогда в Бакстоне.
Топклифф был фанатичным врагом католиков и психопатом. Уолсингем часто использовал его для того, чтобы пытать на дыбе заключенных в Тауэре, а Топклифф наслаждался этой ролью. Если пытка на дыбе не приносила результатов, арестантов отправляли в дом самого Топклиффа — окна которого были окрашены в черный цвет — для более изощренных истязаний. Топклифф пользовался полным доверием Уолсингема и утверждал — хотя его слова нельзя подтвердить, — что видел тело Елизаветы «обнаженным выше колена». 30 августа 1577 года он писал Шрусбери о «папистских тварях» в Бакстоне — «некий Дёрхэм, как я припоминаю, находился при купальнях или же таился там, охотясь на женщин», — и просил графа арестовать Дёрхэма. В присутствии такого человека, пользовавшегося покровительством Уолсингема, даже Бёрли пришлось бы соблюдать осторожность. Неизбежно возникли слухи о побеге, и Бёрли утешался тем, что близ Чатсуорта «не было ни города, ни убежища, где можно было бы устроить засаду».
Мелкие кусочки политической головоломки вновь пришли в движение, оказав косвенное воздействие на Марию. В 1579 году в Шотландию прибыл новый представитель беспокойной семейки Стюартов в лице 37-летнего красавца Эмэ Стюарта, сеньора д’Обиньи. Его послал герцог де Гиз, с тем чтобы тот втерся в доверие к Якову и подрезал крылья Мортону. Стюарт отчасти преуспел, так как пятнадцатилетний Яков в 1581 году даровал ему титул герцога Леннокса. Отчасти благодаря влиянию Эмэ в июне 1581 года Мортон был обезглавлен; за этим последовало официальное отречение Стюарта от католичества. Некогда самым крупным козырем в колоде Гизов была Мария, теперь же она гуляла в садах Чатсуорта, окруженная охранниками, а известия о последних махинациях родственников приходили к ней через третьи или четвертые руки.
Наконец, в Лондон прибыл герцог Алансонский, хотя это и держали в секрете. Он и раньше выступал в качестве претендента на руку Елизаветы, когда носил еще титул герцога Анжуйского. Младший из шуринов Марии, он был более чем на двадцать лет моложе Елизаветы, ниже среднего роста, а лицо его было изрыто оспинами. Тем не менее он был готов играть в брачные игры, и пара, старательно избегавшая совместных появлений на публике, обменялась личными любовными дарами при посредничестве посла Алансона, Жанаде Симие. Елизавета, которой неимоверно польстили изысканные ухаживания человека намного ее моложе, называла Алансона своим «лягушонком», а Симие — «обезьяной». Во Франции Алансон явно проявлял отчетливую склонность к гугенотам — к ужасу Екатерины Медичи — и дружил с Конде.
Марию возможность брака Елизаветы с Алансоном ужасала, и тому было несколько причин. Во-первых, брак означал шанс появления на свет наследника, даже учитывая преклонный, по мнению современников, возраст Елизаветы, а это разбивало все династические мечты Марии в отношении Якова и ее самой. Во-вторых, в таком случае единственным источником иностранной помощи для Марии стала бы Испания, но до сих пор осторожный Филипп не оказывал ей никакой поддержки, кроме моральной. Папа, конечно, пришел бы в ярость, но поскольку Елизавету уже отлучили от престола, он мало что мог сделать. Мария позволила себе излить свои чувства в беседе, и до Елизаветы неизбежно дошли слухи о том, что Мария критикует ее брачные планы. Когда Мария узнала о том, что навлекла на себя гнев Елизаветы, она написала французскому послу Мовиссьеру, полностью отвергая обвинения: «Кто бы ни сказал это моей доброй сестре, королеве Англии, это человек отвратительно и подло солгал… спросите у Шрусбери и его жены, в каких выражениях я говорила о герцоге». Пожалуй, более честным было письмо Марии архиепископу Глазго, в котором она выразила надежду на то, что брак может облегчить участь английских католиков. Флирт Елизаветы и Алансона продолжался; молодой человек пытался избежать политических когтей своей семьи, а стареющая женщина разыгрывала юную влюбленность, какую ей не было дозволено пережить раньше. Это продолжалось до тех пор, пока при финансовой поддержке Елизаветы Алансон не предпринял кампании в Нидерландах. Там он скончался 10 июня 1584 года от приступа лихорадки. Тогда стало ясно, что Елизавете суждено умереть бездетной.
Надеждам Марии на улучшение положения английских католиков был нанесен сильный удар в июне 1580 года, когда из семинарий Дуэ и Рима начали прибывать первые миссионеры-иезуиты[117]. В Риме рассчитывали, что они объединят католиков и подвигнут их на поддержку захвата Марией престола и смещения, насильственного или иного, Елизаветы. Результат оказался полностью противоположным, поскольку почти все первые миссионеры попали в безжалостные руки Уолсингема и Топклиффа и закончили свои дни в жесточайших мучениях. Их изобразили предателями, намеревавшимися отдать Англию в руки испанцам и вновь разжечь костры времен Марии Тюдор. Кроме того, сама продемонстрированная ими в час смерти сила веры способствовала усилению представления о протестантской Англии как об осажденной крепости. А Бёрли с легкостью увидел в Марии Стюарт главного врага внутри крепостных стен.
Мария уже одиннадцать лет являлась нежеланной гостьей графа Шрусбери, и его жалобы на тяжелое финансовое положение становились все более пространными. Вино, специи и топливо обходилось ему в тысячу фунтов в год, а кроме того, «разбитая посуда, покупка оловянной утвари и всевозможных предметов домашнего обихода, которые они (свита Марии) портят и расходуют сверх всякой меры, обходится мне в одну тысячу фунтов в год». В августе 1580 года граф спрашивал, не оскорбил ли он чем-либо Елизавету и не является ли ее отказ возместить его расходы неким видом наказания. На это ему прислали резкий ответ, напомнив о его обязанностях. Хотя Шрусбери снизил расходы Марии до уровня голодного пайка, Лестер тихо предупредил его, что при дворе циркулируют слухи о его романтической связи с шотландской королевой.
Яков рассердил Елизавету, задержав ее посольство в Берике — это, скорее всего, была ошибка его чиновников, о которой он сам ничего не знал, — и этот инцидент был использован Елизаветой, а также секретарем «по делам Севера» Робертом Биллем, клерком Тайного совета и фанатичным врагом католиков, для того, чтобы еще больше ужесточить режим содержания Марии. Впредь ей позволялось писать Якову только при условии, что она покажет, что «не станет иметь дела с папистами, мятежниками, беглецами, иезуитами и прочими бунтовщиками, какие могут выступить против нынешнего положения дел в отношении правления и признанной религии и будут пытаться их изменить». Марии предписывалось прекратить все дела, которые она вела с иностранными государями, и убедить Якова в том, что Елизавета — его лучший друг. Это требование было слишком резким, и о нем тихо забыли.
От чего не отказались, так это от предложенного договора, согласно которому Мария и Яков должны были совместно править Шотландией. Мария должна была публично отказаться от всех претензий на английский престол, присоединиться к лиге против Франции, публично осудить буллу об отлучении Елизаветы от церкви, амнистировать англичан и шотландцев за все правонарушения и даже согласиться остаться в Англии в качестве «почетной» заложницы. Другими словами, подписавшись под двадцатью восемью пунктами договора, Мария отказалась бы от всего, на что претендовала, в обмен на ограниченную свободу. Однако втайне Марии посоветовали соглашаться на любые условия, лишь бы они принесли ей освобождение, и в любом случае испанский посол тайно предложил ей остаться в Англии. Если бы Филипп в союзе с герцогом Гизом решился начать «предприятие» — вторжение в Англию, — Мария оказалась бы на месте и смогла возглавить армию. К несчастью, Елизавета осознала, что может рассчитывать на лояльность Якова, не обещая ничего его матери, и делу не был дан ход.
Марию по-прежнему продолжали окружать ядовитые пары интриг, и она испытывала одну из немногих радостей, доступных узнице, наблюдая за ними из своей темницы. В мае 1582 года был арестован испанский агент, переодетый лекарем. Мария дала своим собственным агентам детальные инструкции относительно способов тайной переписки. Английские католики по-прежнему устраивали заговоры с целью убить Елизавету: один джентльмен из Уорикшира заявил своим друзьям, что собирается ехать в Лондон и там застрелить королеву. По прибытии его встретила стража и отвела в Тауэр. А в ноябре 1583 года был арестован Фрэнсис Трокмортон, еще один католик из числа беспокойных родственников бывшего посла. У него нашли список католиков-заговорщиков, а также информацию о местах возможной высадки армии вторжения. Он явно был человеком исключительной храбрости: только после семидесяти двух часов пытки он признался и «открыл секреты той, что для меня дороже всего на свете». На самом деле Мария ничего не знала об этом заговоре и все «секреты» были изобретены под пыткой.
В июне 1584 года был убит Вильгельм Оранский, лидер европейских протестантов, и антикатолические страсти достигли точки кипения. Тайный совет составил проект договора, создававшего ассоциацию защиты королевы. Согласно этому документу в случае реального или даже планировавшегося или замышлявшегося покушения на жизнь Елизаветы каждый, хотя бы отдаленно связанный с заговором, должен был быть казнен. Публичные проявления нелояльности, какими бы мелкими они ни были, теперь считались изменой. Договор просто придал форму существовавшему представлению о том, что Елизавете постоянно угрожают силы католицизма, а воплощением этой угрозы была Мария Стюарт. 5 января 1585 года Мария проявила неискреннюю лояльность, публично объявив о своем признании договора. Поддержка договора была повсеместной, однако Елизавета лично отредактировала его новую версию, в которой требовались доказательства того, что в покушении участвовала и третья сторона. Парламент превратил договор в акт об ассоциации.
В это время вновь распространились слухи о романтических отношениях между Шрусбери и Марией; говорили даже, что Мария родила от графа ребенка. Эта смехотворная сплетня, вероятно, была пущена Бесс из Хардвика, находившейся в состоянии ожесточенного конфликта с мужем по поводу собственности. Граф теперь жил отдельно от своей грозной супруги. Мария пришла в ярость и немедленно написала Елизавете, вполне предсказуемо прося о встрече, в ходе которой она смогла бы все объяснить. Мария была вполне способна защитить себя, и когда ее просьба о встрече была также предсказуемо отклонена, она написала Елизавете другое письмо, где рассказала о том, какое мнение о своей королеве Бесс высказывала в частных беседах. Бесс сказала Марии, что Елизавета была любовницей Лестера, предавалась любви втроем с сэром Кристофером Хаттоном[118] и еще одним мужчиной, была также любовницей Симие, которому в постели выбалтывала государственные секреты. Мария также поведала Елизавете о том, что Бесс советовала ей поощрять молодого Якова попытаться удовлетворить похоть нимфоманки Елизаветы. Письмо так никогда и не было отослано, однако Бесс знала о его существовании и понимала, что оно доведет до крайности и без того сильную неприязнь к ней Елизаветы. Таким образом, Мария намекнула, что держит палец на спусковом крючке. Ситуация превратилась в патовую. Елизавете хватило здравого смысла понять, что положение Марии — пешки в исполненной ненависти игре Шрусбери и Бесс — было нестерпимым, и 1 апреля 1584 года был приготовлен черновик приказа об освобождении графа от обязанностей тюремщика. Мария понимала, что ей вряд ли предоставят больше свободы — в предыдущем году имела место еще одна попытка освободить ее, — и в июле она попрощалась с Бакстоном и его целительными водами.
В начале сентября 1584 года Мария прибыла в Уингфилд, а в середине месяца Тайный совет освободил Шрусбери от его обязанностей. Мария была передана на попечение сэра Ральфа Сэдлера; судьба часто сводила их вместе. Его сопровождали сорок три охранника, и он начал очищать свиту графа Шрусбери от возможных шпионов Марии. Мария и не подозревала, что конечным пунктом путешествия является не Уингфилд, но ненавистный Татбери. Там ее должны были охранять 150 человек, причем сорок или пятьдесят из них составляли конные патрули. Сэдлер составил опись и описал все, что требовалось для обустройства Марии. У нее были четыре тягловые лошади, а у ее джентльменов — шесть верховых лошадей. Ее свита насчитывала пятьдесят семь человек, среди которых: «пять джентльменов, шестнадцать слуг, три повара, четыре пажа, три слуги джентльменов, шесть дам, две жены, десять девиц и детей». У Марии не было своей мебели, занавесей, скатертей и салфеток, и она использовала те, что принадлежали Шрусбери и уже успели поизноситься. Марии во время каждого приема пищи подавали шестнадцать блюд. Пиво доставляли из Бёртона, «что в трех милях отсюда», а сама королева и ее свита выпивали поразительное количество вина — 10 бочек, или 2500 галлонов, в год. Спальня Марии составляла двадцать семь футов в длину, включая личный покой, а обеденный зал был длиной в тридцать шесть футов, с личным будуаром и очагом. «Итак, она, по моему мнению, удобно разместится здесь», — пришел к выводу Сэдлер. Ему полагалось сдать ее с рук на руки новому тюремщику, сэру Эмиасу Паулету, передача произошла 1 января 1585 года.
Разлученный с Бесс, Шрусбери дожил до 1590 года. Он скончался в возрасте шестидесяти двух лет. Грозная Бесс пережила его и умерла в 1608 году, достигнув девяноста лет. Между ней и Марией не было ничего общего. Бесс привыкла к прямолинейным атакам, наталкивавшимся на хитрость и остроты Марии, а ее неукротимые амбиции и жадность контрастировали с пассивностью и смирением Марии. Их совместные занятия вышиванием были всего лишь удобным времяпрепровождением для Бесс, и если бы Мария оказалась на ее пути, та, не задумываясь, сокрушила бы ее. Шрусбери не любил Марию за то, что она была католичкой и представляла угрозу для его правительницы, но ему было дано поручение, и он выполнял его, проявляя как можно больше учтивости. Ему легче было находиться в обществе лошадей и собак, нежели женщин, и он был счастлив, когда в 1585 году его освободили от Марии.
Глава XVIII
СИЛКИ РАССТАВЛЕНЫ
Новые условия содержания Марии под стражей были гораздо более суровыми, чем снисходительный режим графа Шрусбери, а сэр Эмиас Паулет являл собой разительный контраст с Джорджем Тэлботом. Не аристократ, а сквайр из западных графств, Паулет не испытывал глубокого почтения к сану Марии и скрупулезно соблюдал данные ему Елизаветой инструкции вплоть до последней запятой. Паулет был назначен лейтенантом Джерси в 1559 году, когда ему было двадцать три года — его отец являлся наследственным капитаном острова, — а спустя семнадцать лет его возвели в рыцарское достоинство и отправили послом во Францию. Женился он на Кэтрин Харви, дочери землевладельца из Девоншира; у четы родилось шестеро детей, пятеро из которых пережили родителей. Карьера Паулета не была блестящей, скорее он был трудягой без всякого воображения, и правительство могло рассчитывать на то, что он точно выполнит все распоряжения. Он был ревностным пуританином безупречной честности и ненавидел всё католическое; у него не было чувства юмора, и он отвергал все, что не являлось строго необходимым для его спартанского образа жизни. Очарование Марии он считал отражением ее неискренности и был глух ко всем ее жалобам. Непоколебимая верность Паулета Елизавете явствует из его письма от 1586 года, в котором он говорит о королеве, «которую Господь в своей милости да убережет от опасных уловок леди, находящейся под моей охраной, и ее сторонников». На роль тюремщика Паулета лично выбрал Уолсингем. Этот выбор представлял собой первый шаг к цели, которую вся Англия считала необходимой, но о которой никто не хотел задумываться всерьез. Этой целью было окончательное устранение Марии.
Елизавета категорически отказалась даже думать о такой крайней мере. Ее природный дар промедления — полная противоположность порывистости ее отца — в сочетании с политическим чутьем сказали ей, что попытка превратить Марию в католическую мученицу легко может сделать ее саму мученицей протестантской. Не существовало прецедента для казни королев-изгнанниц, и Елизавета была полна решимости не создавать его. Бёрли и члены ее совета хорошо знали, что одно упоминание о суде над Марией вызовет серьезное недовольство королевы, и все они слишком ценили свое положение, чтобы рискнуть навлечь на себя королевский гнев. Уолсингем, однако, никогда не пользовался расположением королевы, а его собратья-придворные были только рады поощрять его в его действиях против Марии.
Даже в парламенте зрели заговоры против Елизаветы. Оказалось, что некий доктор Парри участвовал в такой интриге, а во время допроса он назвал имя Томаса Моргана, клерка-шифровальщика на службе посла Марии во Франции. Морган был у иезуитов на подозрении как двойной агент, работавший на Уолсингема, и не без основания. Французы услужливо посадили Моргана в Бастилию, но парламент был настолько шокирован откровениями Парри, что обратился к Елизавете с просьбой дозволить более экстремальную форму казни, нежели та, что допускалась законом. Их петиция была отвергнута, и доктора Парри кастрировали и освежевали в соответствии с традиционным порядком.
Сама Мария могла ждать своего часа, не отказываясь ни от каких предложений, никого не отталкивая и демонстрируя готовность ради свободы согласиться на что угодно. Ее было бы трудно привлечь к ответственности на основании акта об ассоциации, даже с учетом того, что она, как известно, поощряла Ридольфи и Норфолка, поскольку не существовало реальных доказательств того, что она выражала согласие захватить трон после убийства Елизаветы. Стремление к свободе не являлось изменой, так же как и обещание дружбы своим родственникам, однако католицизм был загнан в подполье, а миссионеров-иезуитов общественное мнение превратило в политических агитаторов и предполагаемых убийц.
В августе 1584 года голландские власти захватили в море иезуита Крайтона. Он разорвал документы и попытался выкинуть их в море, но лучше разбираясь в Писании, нежели в морских делах, он бросил обрывки против ветра, который вернул их обратно на борт корабля. Сложенные вместе, они представляли собой новую версию плана предприятия — вторжения в Англию — и Крайтон был передан людям Уолсингема. Он неизбежно признался во всем, открыв свои контакты в Англии. Волна ненависти к Марии вздымалась все выше.
В Татбери Паулет следовал букве закона. Марии было запрещено выходить за пределы замка, ее слугам не разрешалось гулять по крепостным стенам на тот случай, если бы они решили дать сигнал сторонникам, хотя зевак там и не было — замок на мили вокруг был окружен исключительно доверенными людьми. Воздействие строго режима заключения на Марию было опустошающим; чувство изоляции усилилось, оставив ей лишь неясные воспоминания о том, как она скакала галопом в лесах Фонтенбло. Ей не дозволялось переписываться с внешним миром и разрешалось лишь получать письма от ее посла в Лондоне, причем после того, как они вскрывались и прочитывались Паулетом. Марии было запрещено раздавать милостыню, потому что она могла представлять собой взятку или способ передачи тайного послания. Практика дарения одежды бедным прекратилась — годом раньше Уолсингем перехватил ее письмо с точными инструкциями относительно того, как разными способами использовать квасцы для изготовления невидимых чернил, которыми можно писать на ткани, так что это ограничение едва ли удивительно. В любом случае Паулет не одобрял такой благотворительности, так как она лишь поощряла бедняков к лени. Уолсингем в этом отношении выразился точнее: «Под предлогом раздачи милостыни и прочих своих уловок она завоевывала сердца людей, обитающих поблизости от тех мест, где она раньше жила». Четки, распятия, благочестивые изображения и вышивки рассматривались Паулетом как «католические игрушки», и, когда некоторые из них прислали Марии в качестве подарка, он даже попытался их сжечь.
Каждая из этих мер в отдельности может показаться разумной с точки зрения обеспечения безопасности, но все вместе они граничили с жестокостью, и Мария пожаловалась Елизавете. Ее ответ не принес никакого облегчения. Мария в прошлом говорила, что готова принять все, что бы Елизавета ей ни уготовила, поэтому теперь она должна принять сэра Эмиаса Паулета в качестве бесспорного представителя королевы: «Вам не стоит сомневаться в том, что человек, чтящий Бога, любящий свою государыню и благородный не только по рождению, но и по натуре, никогда не совершит ничего недостойного».
Начав в таком духе, Паулет и дальше намеревался придерживаться данной политики. Один из первых его поступков глубоко ранил Марию. Он убрал помост и парчовый балдахин с гербом Марии, располагавшийся над ее креслом. То были осязаемые символы ее королевского происхождения, пребывавшие с ней уже сорок лет. Мария была воспитана в ощущении, что все то, что она собой представляла, отражалось в висящем над ее головой гербе, по поводу которого разыгрывались самые жестокие конфликты с Елизаветой. Сэр Эмиас считал, что в Англии только одна королева и поэтому в пределах ее королевства могут висеть только ее гербы. В его глазах Мария была просто Марией Стюарт, убийцей, прелюбодейкой, а возможно, и заговорщицей, замышляющей убийство государыни, и его пленницей. После этого Мария настояла на том, чтобы есть одной и в течение шести недель придерживалась такой строгой диеты, что Паулет в конце концов уступил и согласился, что, когда она в следующий раз станет обедать в присутствии других, балдахин с гербом вернут на место.
10 июля 1585 года Мария написала французскому послу Мовиссьеру, жалуясь на отсутствие вестей от Елизаветы и о своем ужасе перед перспективой провести зиму в Татбери. В потолке образовались дыры, сквозь которые проникал продувавший ее спальню ветер, и доктор отчаялся сохранить ей здоровье в таких условиях. Даже летом приходилось разводить очаги, и сотня крестьян в деревне под стенами замка жила лучше, чем она, — даже их уборные превосходили ее покои. За все время ее пребывания в Англии Марию никогда еще не размещали в таких плохих условиях. Якову давали «дурные и опасные» советы, изображая ее «неблагодарной, непокорной и неверной». Мария надеялась, что Мовиссьер сможет убедить Екатерину и Генриха обратиться к Елизавете. Через два месяца, в сентябре, она повторила просьбу, добавив, что — удивительное дело — на одном из ее окон обнаружили повешенное тело священника, изуродованное пытками, а еще одно тело через несколько дней нашли в колодце. В своих регулярных донесениях Уолсингему Паулет не упоминает ни один из этих эпизодов.
Мария утверждала, что все ее физические упражнения сводятся к перемещению по территории размером в четверть акра рядом со свинарником — ее тюремщики назвали это садом, — там она могла гулять, или ее выносили на стуле, однако ее везде сопровождали аркебузиры с заряженным оружием, готовые открыть стрельбу. Мы можем предположить, что часть их инструкций гласила: в случае попытки освободить Марию им надлежало застрелить ее. Паулет заверил Уолсингема, что скорее сам лично выполнит эту инструкцию, нежели позволит комулибо освободить ее, как это обещали сделать Шрусбери и Сэдлер до него.
Паулет, однако, был готов позволить «спокойные» верховые прогулки в пределах двух миль, и позволял Марии наблюдать за тем, как ее свора загоняет оленя, хотя ее священнику не дозволялось присутствовать на охоте. Потрясенная внешне беспорядочными переменами условий ее содержания, Мария отметила: «Ну что же, каждый день меня ждет что-то новое».
Паулет тем не менее согласился, что замок Татбери был непригоден для проживания, и после того, как было отвергнуто несколько вариантов — отнюдь не все аристократы желали превращать свои дома в тюрьму для Марии, — был выбран Чартли-Холл. Он принадлежал графу Эссексу[119], возражавшему на том основании, что все его деревья вырубят для того, чтобы обеспечить свиту Марии топливом. Однако его заверили, что его древесина не пострадает. В качестве альтернативы Эссекс предложил находившийся по соседству дом некоего Роберта Гиффорда, рекузанта[120], жившего в Чиллингтоне, но эту идею отвергли, так что Эссексу пришлось согласиться и оставить в распоряжении заключенной свою мебель и занавеси. Паулет одобрил Чартли-Холл, так как здание было окружено рвом с водой. Ров не просто представлял собой линию обороны, но означал также, что прачкам Марии не придется выходить из дома, чтобы набрать воды, — в Татбери эти девушки создавали постоянную головную боль для Паулета, так как он подозревал, что во время своих вылазок с бельем они выступают в роли курьеров. Чартли находился всего в двенадцати милях к западу от Татбери — сразу за Аттоксетером, — так что перемещение Марии можно было осуществить всего за один день. Окна комнаты Марии выходили прямо в парк, но никакой опасности того, что она попробует через них сбежать, не существовало: она теперь была «слишком больна, чтобы бежать на своих ногах». Ее ноги сильно отекали и болели, что было симптомом задержки воды в организме из-за плохой циркуляции. Похожим заболеванием страдала ее мать. Вдобавок состояние сердца Марии ухудшалось. Паулет старался убедить Марию остаться в Татбери до начала следующего года, однако она настояла на том, чтобы переехать при первой же возможности. 24 декабря она была размещена в новой тюрьме.
Несмотря на многочисленные переезды и лишения, Мария все еще сохраняла значительный гардероб, насчитывавший двадцать семь платьев, двенадцать из которых были черными, из различных тканей, в основном из бархата и шелка. Юбки, накидки и нижние юбки из красной материи она теперь носила под ставшим привычным черным одеянием. А на голову надевала вдовий капор из белых кружев. У нее было одиннадцать гобеленов, четыре ковра и, самое удивительное, три помоста рядом с ее кроватями, а также два бархатных покрывала. Распятие, без которого она не показывалась на людях, было сделано из чистого золота. Мария потеряла свободу, но не была узницей в лохмотьях, ютившейся в подземелье замка.
Во Франции происходили опасные перемены. 15 октября к Томасу Моргану, все еще находившемуся в Бастилии, хотя и на довольно сносных условиях, прибыл посетитель по имени Гилберт Гиффорд. Морган говорил: Гиффорд был «джентльменом-католиком, хорошо мне известным, потому что он учился по сю сторону моря много лет назад». Его дядя, Роберт Гиффорд, был тем самым рекузантом, который обитал поблизости от Чартли, а семья состояла в родстве с Трокмортонами. Гилберт готовился к рукоположению в Риме, однако его изгнали из семинарии; позднее он возобновил свои контакты в Дуэ. В Париже он представился послу Мовиссьеру и сменившему его Гийому дел’Обеспену, барону де Шатонефу. Теперь он предлагал себя Томасу Моргану в качестве возможного курьера для доставки писем Марии. Гиффорд также контактировал с Томасом Пэджетом, членом свиты архиепископа Битона — посла Марии во Франции. Пэджет был близким другом Моргана и верным агентом Фрэнсиса Уолсингема. Шпионская сеть Марии во Франции была полна двойных агентов.
Гилберт Гиффорд был арестован сразу по прибытии в Рай[121]; ему предоставили выбор: подвергнуться пытке или стать двойным агентом и работать на Уолсингема. Он сразу согласился, и его, демонстрируя поразительное пренебрежение требованиями безопасности, поселили в Лондоне с Томасом Филипсом, шифровальщиком и главным помощником Уолсингема. Морган по-прежнему был полностью убежден в честности Гиффорда и написал ему теплое рекомендательное письмо, которое надлежало показать Марии. Гиффорд также вез с собой корреспонденцию из парижского посольства за последние несколько месяцев, поэтому Филипс нанес Паулету визит, чтобы организовать его приезд и бесперебойную доставку писем к Марии и от нее.
Филипс обеспечил Гиффорда секретным шифром, которым должна была пользоваться только Мария, — на самом деле большая часть полученных ею в Чартли писем вышла из-под пера Филипса. Уолсингем позаботился о том, чтобы информировать Елизавету, так что в апреле она сказала французскому послу: «Я знаю все, что происходит в моем королевстве… Я знаю, какими уловками пользуются узники».
16 января 1586 года Мария встретилась с Гиффордом и, преисполненная радости, впервые за целый год прочла адресованные ей письма. Помимо официальной переписки между королевой и ее посольствами, Морган писал ей длинные, полные сплетен письма о том, что происходит в королевских семьях Европы, открывая ей окно в мир, в котором она раньше жила и от которого теперь была отрезана. Гиффорд также объяснил Марии и ее секретарям ту систему, которая теперь должна была обеспечить сообщение с внешним миром. Марии надлежало диктовать письма Но или Гилберту Кёрлу, своему конюшему, порой выполнявшему секретарские обязанности, а они затем должны были представить ей чистовую копию письма, или «минуту». Получив одобрение Марии, секретари затем должны были зашифровать письмо, используя шифр, предоставленный Филипсом. Затем письма надлежало положить в кожаную сумку, ее в свою очередь помещали в пустую пивную бочку, которую отправляли в Бёртон, чтобы заново наполнить. В Бёртоне сумку передавали Гиффорду, который либо вручал ее содержимое Филипсу в Чартли, либо скакал в Лондон. Там письма расшифровывали и показывали Уолсингему, прежде чем передать во французское посольство, переправлявшее их дальше Моргану. Если письма предназначались для Марии, процесс повторялся в обратном порядке. Возчика всегда характеризовали как «честного малого», но, поскольку его жена передавала сумку в его отсутствие и не подозревала о получаемом им вознаграждении, в его честности стоит усомниться. Гиффорд сказал о нем: «Никогда не встречал такого удачливого мошенника». Система была очень проста, и Мария поверила, что все получаемые ею через этот канал письма надежны. Гиффорд настолько уверился в благоволении Марии, что даже попросил ее обеспечить его пенсией за труды.
Мария была обманута этой уловкой и немедленно написала Моргану: «Сердечно благодарю вас за этого курьера (Гиффорда); я считаю, что он стремится зарекомендовать себя честным поведением». Филипс был, вероятно, счастлив прочесть это письмо. Мария описывала его следующим образом: «Этот Филипс невысокого роста, стройный, с волосами темно-рыжего цвета на голове и ярко-рыжей бородой, лицо его изъедено оспинами, он близорук, на вид ему лет тридцать, и он, говорят, человек секретаря Уолсингема». Он не только успешно организовал систему коммуникации при помощи пивоваров и возчика, которым платили как он сам, так и Мария, но также собирал информацию для своего господина Уолсингема. Тому, в свою очередь, нужно было лишь подождать, пока Мария не окажется замешанной в заговоре, который можно будет с разумными основаниями счесть изменническим в рамках акта об ассоциации. Нет свидетельств того, что Уолсингем прямо поощрял возникновение такого заговора — ему не было в том нужды, — но если бы заговор появился, он узнал бы о нем, пожалуй, раньше самой Марии. Силки были расставлены, колокольчики вот-вот могли зазвенеть, все, что оставалось сделать Уолсингему, это дождаться появления жертвы.
В феврале Марии подарили новую кровать. Паулет счет «немилосердным отказывать», и в конце месяца к Марии прибыл месье Арно из французского посольства в Лондоне. При их разговоре присутствовал вечно бдительный Паулет; он запаниковал, когда Арно оставил в подарок Марии пояс с серебряными кружевами, а также книги с таблицами, скорее всего альманахи, для Но. Мария дала Арно 500 крон, и Паулет, сильно встревоженный последними письмами, полученными от Филипса, боялся «передавать пояс, таблицы или что-то подобное» и без промедления отослал все подарки Уолсингему.
Такая бдительность была необходимой, так как 16 марта Мария предложила Шатонефу пересылать тайные письма в подошвах туфель. Посол отверг эту идею, поскольку он скорее всего знал, что всю корреспонденцию читают, а длинные письма от Моргана и епископа Росского написаны рукой Филипса. Мария использовала не взломанный шифр для переписки с изгнанным испанским послом Мендосой, но тот сообщал, что ни Екатерина, ни Генрих III не желали «быстрого покорения Англии и наказания ее королевы». Филипп Испанский в принципе был согласен на восстановление Марии на престоле, как и папа, но ни один из них не предлагал ничего реального.
Мы уже видели, что в прошлом немало романтически настроенных молодых людей готовы были рискнуть жизнью ради освобождения Марии и возведения ее на английский престол. Но к 1586 году центр внимания сместился. Теперь заговоры касались Марии лишь постольку, поскольку она стабилизировала бы ситуацию с политической точки зрения и вознаградила бы заговорщиков после убийства Елизаветы. Смерть Елизаветы явилась бы мощным ударом по ереси и была бы, как ошибочно считали многие, санкционирована буллой об ее отлучении от престола и одобрена католическими державами континентальной Европы. Мендоса сгорал от ненависти из-за своего позорного изгнания и обещал военную помощь Испании, не имея на то полномочий от Филиппа II. 12 мая он сообщил испанскому королю: «Четыре высокопоставленных человека из Англии, принятых при дворе королевы, уведомили меня о том, что уже три месяца обсуждают свое намерение убить ее». Мария заверила Мендосу в том, что, если Яков останется протестантом, она завещает Испании все свои права на английскую корону. Вокруг Мендосы кружил Джон Баллард, порой известный как Фортескью, священник-фанатик, веривший, что его богоданной миссией является убийство Елизаветы. Бёрли говорил о нем, что тот был «человеком тщеславным и стремившимся к самовосхвалению и вмешивался в дела выше его понимания». Все эти заговорщики постоянно контактировали с Морганом и Пэджетом, а всю их переписку с Марией читал Уолсингем. Об их планах историк-иезуит отец Дж. Г. Поллен сказал: «У штурвала стоял лунатик. Кораблекрушение было неизбежно».
Баллард тайно пробрался в Англию и обратился к сэру Энтони Бабингтону. Бабингтон был богатым 25-летним католиком из Дербишира. Он провел некоторое время в свите Шрусбери как его подопечный и в этот период, несомненно, проникся романтической страстью к королеве-узнице. Он посещал Францию и встречался с Морганом, однако теперь он превратился в центр группы друзей-католиков в Лондоне. Их привлекала не только его истовая вера, но и щедрость, с какой он распоряжался своим богатством. Одним из заговорщиков — собратьев Бабингтона был Джон Сэведж, не отличавшийся умом фанатик, который сказал ему, что в любое время готов убить Елизавету. Когда Бабингтон предложил ему отправиться ко двору и исполнить свое намерение в тот же день, Сэведж ответил, что не может появиться при дворе, не «имея нарядов». Бабингтону и его собратьям для успеха не хватало безжалостной деловитости; их фанатизм настолько мешал им трезво рассуждать, что они даже позировали для заказанного группового портрета.
Мария прослышала о том, что у Бабингтона хранится несколько писем для нее, и 25 июня она написала ему, прося переслать ей через Гиффорда все послания, какие могли оказаться у него в руках. Уолсингем пристально наблюдал как за Баллардом, так и за Бабингтоном, и с интересом прочитал его ответ. Бабингтон угодил прямо в силки: в его ответе приводились детали плана освобождения Марии, убийства Елизаветы и иностранного вторжения, за которым должна была последовать католическая гегемония. Бабингтон сообщил Марии, что решил отправиться за границу, однако заверял ее в поддержке извне: «Баллард, человек добродетельный и ученый… сообщил мне о великих приготовлениях христианских государей, предпринимаемых ради освобождения нашей страны из того крайне бедственного положения, в котором она давно пребывает». Он заверил Марию в том, что ее освободят, а «узурпировавшую ее трон соперницу» убьют: «Здесь есть шесть благородных джентльменов, все они — мои личные друзья. Они во имя своего рвения к католическому делу и во имя служения Вашему Величеству возьмут на себя эту трагическую казнь». Он сам «с десятью джентльменами и сотней сторонников освободит ее». Бабингтон предполагал ждать ответа Марии на его план в Личфилде.
Прежде чем Мария смогла ответить, Гиффорд сообщил Уолсингему, что к нему явился Баллард, жаловавшийся на бездействие Моргана и Пэджета. Уолсингем составил заметки относительно того, как следует поступать с «участниками и заговорщиками», поскольку теперь у него в изобилии имелись улики, чтобы арестовать и судить Бабингтона, Балларда, Сэведжа и всю группу. Благодаря бездействию — ведь она не информировала Паулета о намерениях Бабингтона немедленно — Марию уже можно было счесть виновной в измене согласно условиям акта об ассоциации, но Уолсингем хотел получить письменное свидетельство одобрения ею заговора. Филипс просто сказал: «Мы ждем, что со следующим письмом она откроет свое сердце».
16 июля Мария наконец ответила Бабингтону, и из всех ее сомнительных действий составление этого письма, несомненно, было самым глупым. Ее прежнее решение вернуться в Шотландию и затем бежать в Англию привело к катастрофическим последствиям, ее соучастие в составлении Крейгмилларского договора было крайне опрометчивым, как и ее брак с Босуэллом, но теперь она клала голову прямо на плаху. Письмо было длинным. Сначала она продиктовала черновик Но по-французски, затем Кёрл перевел его и зашифровал.
Послание гласило:
«Пишите мне так часто, как сможете, обо всех делах, которые сочтете важными для моего блага, а я не замедлю ответить со всей тщательностью, на какую способна… Тем временем католики здесь подвергаются всевозможным преследованиям и жестокостям и ежедневно уменьшаются в числе, теряют могущество, деньги и власть… Ради общего блага этого государства я всегда готова рискнуть жизнью и всем, что имею и на что надеюсь в этом мире».
Затем Мария обратилась к вопросам снабжения, затронутым Бабингтоном:
«Сколько всадников и пехотинцев Вы можете собрать? На какие города, порты и гавани Вы можете рассчитывать без помощи из Нидерландов, Испании и Франции? Какие места Вы считаете самыми подходящими для сбора главных сил? Какие иностранные силы Вы собираетесь использовать и как долго им будут платить? Какие укрепления и форты лучше всего подходят для их высадки в этом королевстве? Каковы распоряжения относительно обеспечения их доспехами и деньгами?»
Пока что в своем ответе Мария дает согласие на открытое восстание, принимая план Бабингтона поставить ее во главе армии вторжения. Но затем следует самая спорная фраза. Когда все вышеупомянутое окажется на месте: «Отправьте шестерых джентльменов выполнять их работу, приказав, чтобы, как только они исполнят свой план, меня немедленно увезли из этого места». Или в другой версии, о которой речь пойдет дальше: «Пусть те шесть джентльменов, что решились убить Елизавету, возьмутся за работу, а когда она будет мертва, придите и освободите меня». Мария хотела знать: «Как именно меня увезут отсюда?» Необходимо было информировать Мендосу, а шифр писем Марии оставался нераскрытым. Она просила о военной помощи — «отправьте меня в самую гущу хорошей армии» — и выражала страх, что если Елизавета захватит ее, то «запрет… навсегда в какой-нибудь дыре, из которой я не смогу сбежать, если не сделает чего похуже». Мария обещала попытаться подстегнуть католиков Шотландии к восстанию и передать своего сына в их руки. «Я считаю, что стоит побудить к восстанию и ирландцев».
Затем она перешла к деталям: «В назначенный день я отправлюсь на верховую прогулку на вересковые пустоши между Чартли и Стаффордом. Там, как вы знаете, обычно бывает мало людей; пусть пятьдесят или шестьдесят вооруженных всадников на хороших лошадях прибудут туда и увезут меня. Они легко смогут это сделать, так как мой тюремщик обычно берет с собой восемнадцать или двадцать всадников, имеющих только кинжалы». Второй предложенный метод заключался в том, чтобы поджечь амбары и конюшни и помочь ей бежать в создавшейся суматохе. В качестве третьего варианта Бабингтон мог использовать повозки, чтобы доставить своих людей в Чартли прежде, чем гарнизон подняли бы по тревоге. Она мудро приписала: «Немедленно сожгите это письмо». Послание оканчивается припиской, в которой Мария спрашивала об именах «шести джентльменов», хотя теперь ее обычно рассматривают как фальшивку, вставленную Уолсингемом, чтобы увеличить шансы на их арест. Письмо написано почерком Филипса, на нем значится: «Это — копия письма королевы Шотландии». Прежде чем отправить расшифрованную версию Уолсингему, Филипс нарисовал на внешней стороне листа виселицу. Он был уверен в том, что это письмо должно отправить Марию на эшафот. 29 июля — через двенадцать дней после того, как Мария его отправила, — письмо было доставлено Бабингтону и расшифровано им и его собратом Чидиоком Тичборном.
Неужели Мария недвусмысленно одобрила заговор, ставивший целью убийство ее кузины? Если поверить второй альтернативной версии, то в этом нет сомнений. Но то, что сохранилось, — это копия Филипса, а он держал письмо при себе в течение нескольких дней, прежде чем отправить его Уолсингему. Оригинал и все заметки были, несомненно, уничтожены в Чартли. Если фраза оригинала — «отправьте шестерых джентльменов выполнять их работу» — и в самом деле там была, остается мало места для уверток. Задавалась ли Мария вопросом: какую «работу» эти шесть джентльменов должны были выполнить? Письмо Бабингтона к ней указало весьма четко: он открыто говорил о «казни». Считала ли Мария, что они захватят Елизавету и увезут ее в некую надежную тюрьму, так что женщины поменяются ролями? Подобное можно было утверждать, поскольку Мария настаивала, чтобы ее непременно освободили, даже если бы Елизавета была все еще жива и способна заточить ее в какую-нибудь «дыру». Вполне возможно также, что Мария просто находилась в стадии отрицания, не желая признаваться самой себе, в чем состоит цель «шести джентльменов», точно так же, как она не спросила, почему Французский Парис так «перемазался» перед убийством Дарнли. То, что она пыталась бежать, совершенно объяснимо. Мария была суверенной королевой, отправленной в заключение на весьма сомнительных основаниях, но теперь, сознательно или нет, она высказывала одобрение убийству монарха, за которым должен был последовать политический и религиозный переворот.
Филипс, вероятно, счел бы оригинальную версию достаточной для обвинения в измене, однако он знал обо всех трудностях, которые возникали, когда необходимо было убедить не только Тайный совет, но и Елизавету, так что он, вероятно, приправил это блюдо. Но даже и без них намек абсолютно прозрачен.
В тот же хлопотный день Мария написала пять других длинных писем Мендосе, Моргану, Шатонефу, архиепископу Глазго и сэру Фрэнсису Инглфилду[122], благодаря их за обещанную помощь и сообщая, что одобряет планы Бабингтона. Она отметила, что в Чартли прибыл Филипс, но ничего не заподозрила. Теперь она готовилась к освобождению и возведению ее на английский престол. Однако 19 июля Филипс писал Уолсингему о Бабингтоне: «Я рассчитываю на то, что вы его быстро задержите». Он надеялся, что Елизавета повесит Но и Кёрла, и с сожалением узнал о том, что Балларда не арестовали. 2 августа Бабингтона и остальных объявили изменниками, хотя перед арестом Бабингтон писал Марии, чтобы она не волновалась: «Они выполнят то, что поклялись сделать, или умрут». Уолсингем надеялся, что Бабингтон пришлет Марии подробный ответ, но решил, что «лучше не иметь ответа, чем не иметь человека», и отдал приказ о массовых арестах. 21 июля Гиффорд бежал во Францию, написав 3 сентября Уолсингему с просьбой оплатить его счет на 40 фунтов, а на следующий год его рукоположили в священники. Впоследствии его арестовали в борделе за неподобающее поведение, и он скончался в тюрьме в ноябре 1590 года.
Балларда схватили 4 августа, его «поместили в Тауэр, чтобы под пыткой вынудить признаться в том, чего он иначе не раскроет». Составили подробный список того, в чем он должен был признаться. Сэведж был арестован 8 августа вместе с неким Робертом Поли, чье признание занимает двенадцать страниц и предоставляет улики против некоего Парсонса и Джорджа Гиффорда, а также людей из свиты сэра Уолтера Рэли[123]. Поли признался бы в чем угодно, и после казни Бабингтона Рэли получил часть его конфискованных поместий в качестве компенсации за клевету.
Бабингтон укрылся на севере от Лондона и был арестован вместе с собратьями-заговорщиками, когда прятался в Сент-Джонс Вуд (лес Святого Иоанна)[124]. Его допросили, но не подвергли пытке, и между 18 августа и 8 сентября он в деталях рассказал о заговоре, включая и согласие на него Марии: «Я написал ей обо всех подробностях этого заговора, и она ответила». В конце концов он сделал слабую попытку заявить о своей невиновности, но признал, что, по его собственному мнению, ему никто не поверит. «Он говорит и клянется спасением души, что не помнит, чтобы совершил или собирался совершить нечто против личности Ее Величества, или вторжение в королевство, или освобождение шотландской королевы, но только то и таким образом, о чем он уже заявил. Однако он говорит, что должен признать: его письма к шотландской королеве выглядят совсем иначе».
Бабингтон, возможно, и избежал ужасов пытки на дыбе, однако его казнь, состоявшаяся 20 сентября, была ужасающей даже по тюдоровским стандартам. Елизавета «стала более жестокой, пережив страх перед опасностью, в которой оказалась», и приказала сделать казнь более суровой и вследствие этого более запоминающейся. Предполагалось, что казни займут два дня. Бабингтон и еще шесть заговорщиков должны были быть казнены первыми, и после того, как их еще живыми срезали с веревки, их тела были рассечены несколько раз при помощи «ужасающе выглядевших вил» прежде, чем им отсекли руки и ноги. За этим последовала кастрация, потрошение и расчленение. На второй день Елизавета приказала, чтобы оставшимся приговоренным позволили умереть в петле прежде, чем расчленят их тела.
За месяц до этого Уолсингему пришлось решать проблему доказательств вины Марии. Для этой цели ему необходимо было провести тщательный обыск ее покоев и бумаг. Особенно интересовали его черновики ее письма Бабингтону; возможно, он хотел их уничтожить.
Мария не подозревала об арестах и о провале заговора и пребывала в отличном настроении, которое еще улучшилось, когда Паулет 11 августа предложил ей и ее свите отправиться на охоту на оленя. Она с радостью согласилась, не зная, что Паулет получил точные распоряжения «как можно быстрее, под предлогом охоты и прогулки на свежем воздухе, перевезти находящуюся на вашем попечении королеву в другой дом неподалеку; там она останется на некоторое время на тех условиях, которые вы сочтете подобающими, до тех пор, пока вы не получите приказ о том, куда ее перевезти». Паулет также должен был арестовать Но и Кёрла и, не дав им ни с кем переговорить, отправить их в Лондон.
По случайному совпадению Мария попросила у Паулета разрешения отправиться на прогулку; вероятнее всего, ее должны были нести в кресле, но, к ее большому удовольствию, Паулет, знавший, что она была в состоянии ездить верхом, предложил отправиться на охоту. В день, назначенный для фальшивой охоты, Мария оделась с особым тщанием, выбрав давно не использовавшийся, но все еще красивый костюм для верховой езды, в надежде, что встретит местных дворян. Страдавший ревматизмом Паулет отстал от основной группы охотников, а Мария внимательно относилась к поездкам верхом, поэтому она вернулась для того, чтобы помочь ему. Во время охоты Марию сопровождали Но и Кёрл, Мел вилл, ее врач Доминик Бургойн и ее паж Бастьен, а один из ее грумов, Хэннибал Стюарт, выполнял почти забытые обязанности — вез ее лук и стрелы. «Свежий воздух, лай собак, звук охотничьих рожков заставили ее забыть о своих бедствиях и, несомненно, вызвали в памяти забытые картины большой охоты в Сен-Жермене и Фонтенбло».
В нескольких милях от Чартли Мария увидела группу быстро приближающихся всадников, и на минуту она, должно быть, подумала, что это ей на выручку скачут «десять человек» Бабингтона. Паулета, однако, их приближение не встревожило, хотя Мария видела, что они вооружены. Ее надежды испарились, когда предводитель всадников, наряженный в зеленую саржу, спешился и приблизился к ней. То был пятидесятилетний сэр Томас Горджес, восходящая звезда двора, недавно назначенный на должность хранителя королевского гардероба; он был полон решимости показать, что способен выполнить свою задачу как можно эффективнее. Он отдал приказ об аресте Но и Кёрла, которых Мария никогда больше не увидела. Горджес, явно следуя точным распоряжениям, заявил: «Мадам, моя госпожа — королева находит весьма странным, что вы, вопреки вашей с ней договоренности, вступили в заговор против нее и ее короны, чего она уж вовсе не ожидала. Она полагает, что один из ваших слуг виновен. Его заберут немедленно, а сэр Эмиас скажет вам остальное». Мария позвала Но, но ей запретили говорить с ним. Осознав, что они не собираются возвращаться в Чартли, Мария спешилась и, поддерживаемая сестрой Кёрла Элизабет, спросила, куда они направляются. Паулет показал ей приказ Елизаветы «перевезти упомянутую королеву в другое место по вашему усмотрению». Мария заковыляла прочь, преклонила колени на траве в тридцати шагах и начала молиться, прося прощения за свои грехи, будучи в полной уверенности, что ее казнят на том же месте. Все присутствовавшие замерли в изумлении, люди Горджеса нервно хватались за оружие, не понимая, что происходит. Мария решила, что ее вина раскрыта, и произносила свою последнюю исповедь без священника. Она объявила себя совершенно недостойной и сказала, что ее освобождение состоит в святой католической церкви. Наконец Бургойн, опасаясь за собственную жизнь, подошел к ней и осторожно поднял ее на ноги. Затем он помог ей вернуться к лошади и взобраться в седло. Бургойн сказал Паулету, что он проявляет ненужную жестокость по отношению к стареющей и больной женщине, на что тот не ответил, но просто отъехал с каменным лицом.
Все поскакали к Тиксаллу, красивому дому, принадлежавшему сэру Уолтеру Астону. Мария, впрочем, не радовалась его привлекательности и не выходила из своей комнаты все две недели, которые ей пришлось провести здесь в заключении. Паулет не позволил Марии писать Елизавете, но разрешил двум дамам присоединиться к ней и привезти смену одежды, ведь на ней все еще был изящный костюм для верховой езды, в котором она рассчитывала насладиться охотой.
Тем временем Чартли подвергся обыску, в котором принимал участие сэр Уильям Уад; были конфискованы три кованых сундука с бумагами, а также ящики и коробки, куда поместили остальные документы, хотя важные черновики так и не были обнаружены. Был составлен перечень драгоценностей, которые забрали у Джейн Кеннеди. Он резко контрастировал с тем, что составили во Франции, когда Мария в первый раз овдовела, однако для узницы был весьма впечатляющим. Там были кольца с алмазами и рубинами, а также предметы личного благочестия: история Страстей Христовых, выгравированная на золотом распятии, изображенная на живописных панелях, а также наполненный пометками Марии часослов. Там были маленькие золотые животные — медведь, корова и попугай. Присутствовала там и личная коллекция портретов: портрет Елизаветы на слоновой кости, портрет Якова VI в золотой рамке, миниатюрные портреты представителей французской королевской семьи, а также родственников Марии — Гизов. Там были двойная миниатюра — портреты Марии и Елизаветы, маленькая шкатулка, усыпанная бриллиантами, рубинами и жемчугом, шесть небольших украшений и цепь с красной и белой эмалью — такая цепочка принадлежала Марии, когда она ребенком жила во Франции. Все сокровища прошлого были утрачены, а то, что осталось, подводило грустный итог личной жизни Марии.
Перспективы на будущее были заданы письмом от Елизаветы Паулету: «Господь многократно вознаградит тебя за отличное выполнение столь беспокойной обязанности. Пусть злобная убийца знает, с каким сердечным сожалением ее гнусные поступки вынудили нас отдать такие приказы; и просите ее от моего имени вымаливать у Бога прощение за измену той, что многие годы спасала ей жизнь». Теперь Елизавета уже не претендовала на роль сестры-королевы, исполненной сочувствия к бедствиям кузины. Она пришла в ужас от заговора Бабингтона и от того, что, как ей казалось, Мария одобрила ее убийство. С тех пор ее главной проблемой было решить, как безопаснее избавиться от шотландской кузины, не спровоцировав нежелательной реакции католиков.
После обыска и конфискации документов Марию вернули в Чартли, хотя при отъезде из Тиксалла дело не обошлось без драматических сцен. Паулет говорил: «Когда она выходила за ворота дома сэра Уолтера Астона, то, проливая слезы, громко обратилась к собравшимся беднякам: “У меня для вас ничего нет. Я — такая же нищенка, как и вы. У меня все забрали”. А когда она обратилась к джентльменам, то сказала им, плача: “Добрые джентльмены, я не знаю ни о каком заговоре против королевы”. Она навестила жену Кёрла Барбару Маубрей, которая в отсутствие Марии родила дочь; девочка за неимением священника оставалась некрещеной. Мария положила девочку себе на колени, нарекла ее Мэри и сама окрестила ребенка. Для нее было типичным выказать заботу о слугах и одновременно использовать любую возможность для публичного спектакля».
Вернувшись в Чартли, Мария, осознавшая теперь, что против нее выдвигают обвинение, слегла в постель, однако и там ей не удавалось укрыться от внимания Паулета, который подробно расспрашивал ее относительно тех самых «шести человек». Паулет понимал, что Мария едва способна сопротивляться, и прилагал все усилия, чтобы заставить слабеющую узницу признаться в участии в заговоре, но она отрицала, что ей были известны планы Бабингтона. Она с трудом припоминала те времена, когда он был подопечным Шрусбери: «Я часто получала письма с предложением помощи, но никогда не участвовала в этих планах». Паулет также желал получить доступ к шкафу в спальне, где хранились оставшиеся у Марии деньги. Шкаф оказался заперт, так что Паулет послал за топором. Мария, все еще лежавшая в постели в ночном облачении, послала Элизабет Кёрл за ключом и, «не надев шлепанцев или туфель», открыла для Паулета шкаф под бдительным присмотром вооруженных стражников. В шкафу обнаружили пять полотняных свертков более чем с пятью тысячами французских крон и две кожаные сумки, в одной из которых было 104 фунта золотом, а в другой — три фунта серебром. Мария сказала, что деньги предназначались для того, чтобы заплатить за ее похороны и расплатиться со слугами после ее смерти. Все деньги были отосланы в Лондон вместе с сэром Уильямом Уадом, захватившим и личные печати Марии. Паулет отметил на полях: «Эта леди в настоящий момент хранит немало денег у французского посла».
Тем временем Но и Кёрл подвергались допросу относительно содержания письма Марии Бабингтону. Кёрл прочел письмо Бабингтона и показал: «Я признаю, что расшифровывал такое письмо, написанное на одном листе бумаги и отправленное мистером Бабингтоном. Ответ на него был написан пофранцузски месье Но, а я должен был перевести его на английский и зашифровать». На это Уолсингем ответил: «Если бы только нашлись эти черновики».
Допрос двух секретарей продолжался; им показали те самые письма, что они отослали Бабингтону. Теперь Клод Но заявил, что писал под прямую диктовку Марии, а Кёрл признался, что сжег английскую версию письма. Это была знакомая история верных слуг, точно выполнявших приказы, а потом пытавшихся спасти свою шкуру, переложив вину на Марию. Вскоре после этого Но вернулся во Францию, а Кёрл, будучи англичанином, провел год в тюрьме.
В Лондоне же Уолсингем теперь имел все необходимое, чтобы предать Марию суду даже без черновиков; он сказал Елизавете, что этих документов больше не существует. Чартли не был подходящим местом для судебного процесса, и Уолсингем предложил Тауэр, но Елизавета отвергла этот вариант; она теперь явно стремилась к двум противоречивым целям. Она не могла позволить заточить сестру-королеву в Тауэр, но настаивала на том, чтобы Марию разлучили с ее слугами, а деньги конфисковали. Она отвергла также предлагавшиеся в качестве возможных мест для суда Хартфорд, Вудсток, Норхэмптон, Ковентри и Хантингдон, пока, наконец, не остановила свой выбор на замке Фотерингей близ Питерборо. Елизавета страшно боялась, что Мария станет символом какого-нибудь восстания, но была решительно настроена на то, что с шотландской королевой нужно обращаться хотя бы с внешним почтением. Бёрли указал, что поскольку Мария в Лохливене подписала статьи отречения, она больше не была правящей королевой, но это не изменило мнения Елизаветы. Уолсингем был в ярости из-за поведения Елизаветы, опасаясь, что суровое обращение с больной Марией — уже стало известно, что она очень плохо себя чувствовала и новый переезд мог стать последней каплей, — ускорит ее смерть и позволит ей тем самым избежать публичного суда, который он готовил. Лестер прямо написал Уолсингему, предлагая ему тихо отравить Марию, а на тот случай, если бы у Уолсингема оказались какие-либо религиозные возражение против убийства, рекомендовал ему англиканского священника, готового оправдать это деяние на основании Писания. Это предложение было отвергнуто. Некоторые члены парламента полагали, что, учитывая сообщения о состоянии здоровья Марии, все эти махинации были пустой тратой времени, так как женщина и так вот-вот умрет.
5 сентября 1586 года Елизавета учредила особый трибунал, которому надлежало рассмотреть обвинение против Марии, а его решение должно было быть рассмотрено судом Звездной палаты[125] и затем ратифицировано парламентом. Чтобы обеспечить быстрое завершение дела, Бёрли вновь созвал парламент, сказав: «Таким образом, ответственность распределена между всеми, и все довольны».
Мария поняла, что вскоре состоится еще один, вероятно последний, переезд, и попросила разрешения расплатиться со слугами, но Паулет неразумно отказал ей. В любом случае ее деньги теперь находились в Лондоне. Мария дала слугам расписки и приказала им обратиться во французское посольство за выплатой задолженности или за помощью в возвращении во Францию. В день отъезда Паулет запер девятнадцать слуг, которые не ехали в Фотерингей, в их комнатах, а к окнам приставил охрану. Уолсингем выбрал хорошего тюремщика.
Мария была слишком больна, чтобы ехать верхом, поэтому хорошо вооруженные люди везли ее в карете в сопровождении двухсот всадников под командованием сэра Томаса Горджеса. На всем протяжении путешествия — а Марии не сказали, куда ее везут, — она сидела в карете выпрямившись, глядела на вооруженную охрану и допрашивала своего кучера Роджера Шарпа. «Несчастная государыня опасалась, что ей перережут горло». Она боялась не смерти, а того, что умрет без публичного покаяния, а ее убийство представят как самоубийство.
Кортеж покинул Чартли 21 сентября и провел ночь в Бёртоне. Затем он передвигался медленно, делая от семи до пятнадцати миль в день, и прибыл в Фотерингей 25 сентября. Единственным путем в этот мрачный замок была дорога под названием Перрио-Лейн. Мария взглянула на Фотерингей и произнесла: «Перрио! Я пропала!»
Фотерингей представлял собой огромную крепость в незнакомой Марии плоской равнине Норхэмптоншира. Его окружал двойной ров, намеренно затруднявший приближение к замку: внешний ров был семидесяти пяти ярдов в ширину, а внутренний простирался еще на шестьдесят шесть ярдов. Вход в сам замок располагался с северной стороны; подъемный мост и лестница вели в большой двор и Большой зал на первом этаже. Налево располагались капелла, обеденный зал и увешанные гобеленами парадные залы, а на верхних этажах находились королевские покои. Замок был зловещим местом, и его использовали исключительно в качестве государственной тюрьмы. Все мрачные обстоятельства усугублялись тем фактом, что Мария в тот момент была его единственной обитательницей, если не считать пяти-шести слуг. Фотерингей казался идеальным местом для тайного убийства, хотя Мария справедливо предположила, что, поскольку и остальные комнаты подготовлены для прибытия гостей, ожидаются и другие постояльцы.
Марию можно было предать суду на основании статута Эдуарда III — даже несмотря на то, что она не была английской подданной, — поскольку в нем говорилось, что изменой является заговор против суверена, ведение войны на территории королевства и переписка с врагами суверена. Однако было решено, что достаточно акта об ассоциации, так как по этому закону любой человек, признанный виновным, лишался всех прав на английский престол и мог быть приговорен к смерти. Поскольку суд рассматривал дело об измене, в силу вступали правила, связанные с подобным обвинением. У Марии не было адвокатов, не могла она и вызывать свидетелей. Ей заранее не объяснили, в какой форме будет проходить процесс. Мария говорила и думала по-французски, достаточно хорошо выучила нижне-шотландское наречие, чтобы свободно на нем изъясняться, однако по-прежнему с трудом писала и говорила по-английски. Таким образом, она, располагая лишь природной сообразительностью и зная, что ей предстоит сражаться за собственную жизнь, готовилась вступить в схватку с лучшими юристами тюдоровской Англии.
1 октября Паулет, несомненно вооружившись инструкциями от Бёрли, попросил Марию признать свою вину, заверяя ее в милосердии Елизаветы. Мария ответила, что «не знает за собой никакой вины, за которую должна была бы давать кому-нибудь ответ». У Марии не могло быть никаких сомнений в том, что ее предадут суду, ставкой на котором будет ее жизнь. Ее страдания усилились, когда 12 октября сэр Уолтер Майлдмэй, Паулет и нотарий Эдвард Баркер передали ей письмо от Елизаветы. Это одно из самых жестоких посланий в истории:
«Вы всевозможными средствами и способами пытались лишить меня жизни и привести мое королевство к гибели и кровопролитию. Я никогда не действовала против Вас столь сурово, но Вы, напротив, уверяли, что подобны мне. Все Ваши измены будут перед Вами доказаны и станут явными. Однако моя воля состоит в том, чтобы Вы дали ответ дворянам и пэрам королевства, как если бы я сама там присутствовала. Поэтому я приказываю Вам ответить перед ними, так как мне многократно сообщали о Вашем высокомерии.
Действуйте просто и без уловок, и Вам легче удастся добиться милости от меня.
Елизавета Я».
Не остается никаких сомнений в том, какой именно вердикт суда удовлетворил бы Елизавету. Она также частным образом дала знать, что предложила Марии: если та признается, ее ждут королевское прощение и заключение в комфортных условиях. Однако нет никаких доказательств того, что такое письмо существовало.
На следующий день Мария возразила, что никогда не пользовалась покровительством английских законов, на основании которых ее предавали суду, а днем она встретилась с Бёрли, лорд-канцлером, сэром Томасом Бромли и лордом-председателем[126]. Она заявила им, что не является английской подданной и даст ответ только перед всем парламентом или лично перед Елизаветой. Поскольку она понимала, что комиссия может просто осудить ее в ее отсутствие, то предупредила их: «Театр всего мира гораздо больше, чем королевство Англия».
Мария отвергла акт об ассоциации как юридическое основание для суда над ней и попросила пригласить экспертов-правоведов из Павии или Пуатье. Просьба была проигнорирована. Марии напомнили о письме Елизаветы, но она ответила, что помнит лишь отрывки из него — «ее королевскому величеству не подобает разыгрывать из себя писца». Марии сказали, что Елизавета «возрадуется, если будет доказано, что она невиновна», но она возразила, что не даст ответа «суду врагов»: «Я не подчинюсь! Я сама королева и дочь короля, иностранка и родственница королевы Англии… Как абсолютная королева, я не могу подчиниться приказу, не могу я и подчиниться законам страны, не нанеся ущерба себе, моему сыну-королю и всем прочим государям».
Бёрли напомнил Марии, что Елизавета однажды уже спасла ее от суда по обвинению в измене вместе с Норфолком и «защитила ее от гнева ее собственных подданных». Мария на это лишь улыбнулась. Вмешался Хаттон: «Если вы невиновны, вы только погубите свою репутацию, избегая суда. Отбросьте бесполезную привилегию королевского сана, предстаньте перед судом и докажите свою невиновность». Этот довод показался Марии весомым, и 14 октября она согласилась предстать перед комиссией. На самом деле у нее не было выбора. Ее попытка призвать на помощь союзников за границей была почти безнадежной, но 21 ноября Генрих III писал своему послу де Курселю: «Теперь я желаю, чтобы вы побудили короля Шотландии… выступить на защиту своей матери».
Суд проходил в большой комнате над Большим залом, в холодном и мрачном помещении, подавлявшем всю наскоро расставленную там мебель. На одном конце комнаты находился помост, на котором стоял пустой трон под балдахином с гербом Елизаветы. На скамьях без спинок, протянувшихся вдоль одной стены, поместились лорд-канцлер Бромли, Бёрли, пять графов и виконт. Одним из графов был ее прежний тюремщик Шрусбери, который сделал все возможное, чтобы ему позволили не являться на суд, даже предложил прислать свой вердикт о виновности еще до суда. Но Бёрли решительно напомнил ему его обязанности. На противоположной скамье располагались тринадцать баронов. Рядом с ними поместились Хаттон, Уолсингем, Сэдлер, Майлдмэй и Паулет. Вокруг них находились судьи и прочие светила юриспруденции. У всех них были столы, заваленные документами. В центре стояло кресло, предназначенное для Марии, с подушечкой для ног. Стола у нее не было. Ее должны были поместить у подножия королевского помоста, сделав ее положение наиболее унизительным, а судьи угрожающе расположились бы по сторонам.
Мария вошла, поддерживаемая Мелвиллом и Бургойном, а также хирургом, аптекарем и тремя дамами. Члены комиссии почтительно сняли шляпы и склонили головы, пока она, страдая от боли, медленно двигалась к креслу, заявляя при этом, что ей следовало бы сесть на трон на помосте, под балдахин. Как только она села, лорд-канцлер сообщил ей, что Елизавета «не без великой скорби» уведомляет: «Вы замышляли погибель для нее и Англии и изменение религии». Мария, все еще сидя, дала ответ, заговорив не о своей вине или невиновности, но о своем положении и об отношении к суду:
«Я — абсолютная королева и не сделаю ничего, что нанесло бы ущерб моему собственному королевскому величию, или же величию государей моего ранга, или же моего сына. Я пока еще не ослабела умом и не склонюсь под тяжестью моих несчастий… Мне совершенно неизвестны законы и статуты Англии; я лишена советников и не знаю, кто будет моими пэрами. У меня забрали бумаги и записи, и ни один человек не смеет выступить в роли моего защитника. Я невиновна в преступлениях против королевы. Я не подстрекала ни одного человека против нее, и меня нельзя обвинить иначе, чем посредством моих собственных слов, высказанных или собственноручно написанных, а таких улик против меня нет. Однако я не могу отрицать, что вверяла себя и мое дело иностранным государям».
Мария затем вновь заговорила о своем сане независимой и коронованной правительницы, а также о том, что Елизавета не помогла ей в беде. Все это попросту проигнорировали, и комиссия спокойно пошла дальше — к прямым обвинениям.
Королевский адвокат Годи, одетый в эффектную синюю мантию с красным капюшоном, подробно описал заговор Бабингтона и признал, «что Мария знала о нем, одобряла его, выразила свое на него согласие, обещала свою помощь и предложила пути и способы его осуществления». Это был ключевой момент, и Мария это знала. Она вполне могла догадаться о том, что по крайней мере часть ее корреспонденции — в руках суда, и предположить, что часть показаний против нее добыта под пыткой. Однако она не могла знать, какими именно сведениями располагает Уолсингем, и ей не сообщили о том, какие улики будут представлены на суде. Мария была убеждена в том, что комиссия признает ее виновной, а парламент приговорит ее к смерти, хотя и могла питать слабую надежду на то, что приговор не приведут в исполнение. Поэтому, зная, что терять ей нечего, Мария не колеблясь делала самые крайние заявления.
Выбрав тактику полного отрицания, которой она придерживалась перед Паулетом в Чартли, Мария утверждала, что не знакома с Бабингтоном, Баллардом или кем-либо еще из заговорщиков. Она «не подстрекала никого к совершению преступления, а находясь в тюрьме, и не могла знать или догадываться о том, что они пытались сделать». Она признала, что страстно стремилась обрести свободу, и это — «вполне естественное желание». Было зачитано признание Бабингтона, но Мария просто заявила, что ей писали многие и «из этого нельзя вывести, что она знала об их греховных намерениях». Затем были оглашены письма к ней от Бабингтона, а она сказала, что никогда не писала ему сама. На это был дан немедленный ответ — зачитали также и обличающее ее письмо от 12 июля 1585 года.
Теперь суд мог связать «шесть благородных джентльменов» Бабингтона, собиравшихся «взять на себя трагическую казнь» или «порешить соперницу-узурпатора», с просьбой Марии к Бабингтону дать ей знать о том, как «собираются действовать шесть джентльменов» и когда «настанет время джентльменам взяться за работу», долженствовавшую привести к ее освобождению и восстановлению католической веры. Мария была ошеломлена тем, как глубоко Уолсингем проник в тайну ее переписки. Тут она осознала: если суд решит, что письмо было написано ею, а она хорошо знала, что судьи склоняются именно к этому, тогда ее вина окажется несомненной. Она опасалась, что всеми делами заправляет желавший ее смерти Уолсингем, «который, как она слышала, злоумышлял против ее жизни и жизни ее сына».
Мария должна была реагировать без промедления, и ее защита оказалась очень простой. Она сказала суду, что хотя письмо и вправду было написано ее шифром, этот шифр был украден у ее агентов во Франции, а письмо представляет собой подделку. Мария вполне разумно потребовала, чтобы ей показали оригиналы писем: «Если они находятся у моих врагов, почему же они их не показывают?» Уолсингему оставалось лишь кусать губы. Мария продолжала, провозгласив, что даже и не думала о гибели королевы; «и здесь она пролила множество слез». В этот момент Уолсингем улыбнулся и медленно поднялся на ноги. Он ответил: «Заботясь о безопасности королевы и королевства, я тщательно изучил все умышления против них». Мария ответила, что на шпионов нельзя полагаться, и вновь залилась слезами: «Я бы никогда не погубила свою душу замыслом убить мою дражайшую сестру».
В этот момент Уолсингем отчаянно нуждался в подлиннике черновика письма, но при его отсутствии ему пришлось перейти к показаниям Но и Кёрла. Они не появились на суде лично, но их показания зачитали. Если бы у Марии была возможность допросить эту парочку, она вполне могла бы, апеллируя к их верности, добиться хотя бы частичного отказа от показаний, но ей не оставили другого выхода, кроме как отвергнуть их свидетельства: «Величие и безопасность государей низвергается, если оно зависит от сочинений и показаний секретарей… Если они написали что-то, наносящее ущерб королеве Елизавете, я об этом не знала… Я уверена: если бы они присутствовали здесь, то очистили бы меня от всякой вины в этом деле. Если бы я располагала своими записями, то смогла бы точно ответить на обвинение».
На следующий день она вновь заявила протест по поводу своего положения, «видя, что лишена всякой надежды на свободу», и выразила надежду на то, что состоится другой суд, на котором ей будет позволено иметь адвоката. Мария также заметила, что все члены комиссии явились в зал заседаний в сапогах и костюмах для верховой езды, и пришла к справедливому выводу, что это будет последний день суда. Она начала с нападения на своих обвинителей: «То, как со мной обращаются, кажется мне очень странным. Я ошеломлена назойливостью толпы адвокатов и юристов, которые, похоже, лучше разбираются в формальностях малых судов из небольших городишек, нежели в расследовании таких серьезных вопросов, какой рассматривается сейчас. Поскольку это собрание сошлось здесь для того, чтобы обвинить меня, я требую, чтобы было собрано другое собрание, на котором я смогу говорить открыто и свободно, защищая мои права и честь, и удовлетворить мое желание доказать свою невиновность». Бёрли ответил: ее протест будет отмечен, но письма, находящиеся у Уолсингема, являются достаточным доказательством. Демонстрируя искусность правоведа, Мария указала: «Могут быть доказаны обстоятельства, но не сам факт». Далее Бёрли обвинил ее в том, что она завещала свое английское наследие Филиппу Испанскому. Мария ответила: переход короны к католику некоторым кажется «благом». Затем Бёрли сказал ей, что Морган послал Парри убить королеву. Однако связать Марию с интригами третьей стороны без всяких улик не было никакой возможности, и Мария набросилась на него: «А! Вы — мой враг!» Бёрли ответил: «Да, я — враг врагов королевы Елизаветы».
Мария прервала это состязание в оскорблениях и попросила выслушать ее перед полным парламентом или же лично перед королевой. Затем она встала, «излучая уверенность», и простила всех присутствовавших за то, что они сделали. Суд был окончен. Мария переговорила с Уолсингемом лично, «и это, казалось, обеспокоило его», а потом обернулась к собравшимся, которые теперь встали: «Милорды и джентльмены, я вверяю свое дело Господу». Членам комиссии удалось не сказать «аминь», и Мария двинулась вон из комнаты. Чтобы скрыть необходимость передохнуть после нескольких шагов, она остановилась у стола юристов: «Джентльмены, вы выказали мало милосердия, представляя свое обвинение… тем более что я мало знакома с искусством уверток, да сохранит меня Господь от того, чтобы иметь с вами дело еще раз». Юристы сочли это королевской шуткой и улыбнулись. После того как Мария покинула комнату, атмосфера разрядилась и, прочистив глотки, благородные члены комиссии вскочили на ожидавших их лошадей и отбыли из Фотерингея. Уолсингем написал Лестеру: «Мы уже перешли к вынесению приговора, но у нас был тайный контр-приказ». Так Елизавета начала затягивать дело. Мария и ее маленький двор вместе с Паулетом и его вооруженными охранниками остались одни в огромном замке Фотерингей.
25 октября члены комиссии вновь собрались в Звездной палате Вестминстера. После того как Но и Кёрл «под присягой, лично и добровольно, без надежды на вознаграждение, клятвенно засвидетельствовали перед ними, что все письма и копии писем, показанные им ранее, подлинные, шотландской королеве был вынесен приговор». За преамбулой и датой следовал приговор: «Упомянутая Мария претендовала на корону королевства Англии и поэтому соучаствовала в различных планах нанести ущерб, причинить смерть и погибель личности нашей правительницы, королевы Елизаветы, вопреки тому, что говорится в статуте, оговоренном в мандате комиссии». Приговор «никоим образом не ущемлял права и честь Якова, короля Шотландии; они остаются неизменными, как если бы этот приговор вообще не был вынесен». Через несколько дней парламент составил длинный список преступлений Марии и провозгласил: «Мы не можем найти способа обеспечить безопасность Вашего Величества иначе, чем при посредстве справедливой и скорой казни вышеупомянутой королевы». Реакция Елизаветы была предсказуемой:
«Моя жизнь подверглась опасности… и ничто не печалит меня больше, чем то, что такое преступление совершила женщина, сходная со мной полом, рангом и положением, происхождением и близкая мне по крови. Я же далека от того, чтобы питать к ней злобу. После того как были раскрыты ее изменнические замыслы против меня, я тайно написала ей, что, если она во всем признается в адресованном мне личном письме, все это дело будет предано забвению».
Затем в длинном послании, написанном, надо признать, изящным литературным стилем, Елизавета обещала «обнародовать наше решение в удобный момент». Она попросила лорд-канцлера придумать лучший способ пощадить Марию. Лордканцлер и спикер парламента Пакеринг долго умоляли ее принять решение, и она дала им «ответ без ответа». Бёрли дал личному секретарю Елизаветы Дэвисону инструкции побудить ее принять решение и отдать приказ казнить Марию. Но побуждения Дэвисона не возымели никакого действия.
Историки по-прежнему безрезультатно спорят о том, отложила ли Елизавета принятие окончательного решения из-за своей обычной склонности к промедлению или же из-за более серьезного нежелания отдавать приказ о казни сестры-правительницы, однако могли сыграть свою роль и другие факторы. Католические державы Европы усмотрели бы в казни Марии атаку на них самих, а такое требовало ответа. Рим и английские католики сочли бы Марию католической мученицей, что превратило бы Елизавету в главную мишень фанатиков. Рядом с Елизаветой находились Бёрли и Уолсингем, умолявшие ее действовать незамедлительно, но ведь кинжал убийцы угрожал не их глоткам. Наконец, Елизавету постоянно информировали о состоянии здоровья Марии, и она знала, что, если подождет достаточно долго, Мария скорее всего скончается раньше нее от естественных причин. В тот момент было больше доводов в пользу отсрочки. Марии же оставалось только ждать решения своей судьбы.
Глава XIX
«ВЫ — ПОКОЙНИЦА»
После отъезда членов комиссии и в ожидании неизбежного приговора Паулет стал более снисходительным к Марии, а она — менее церемонной в его присутствии. Бургойн никогда не видел ее «столь радостной или столь свободной в обращении за все семь лет службы у нее. Она говорила только о досуге и развлечениях, высказывала свои размышления об истории Англии; сочинения о ней она читала на протяжении большей части дня, а затем проводила время со своим двором радостно и по-семейному, без тени печали».
Все люди страшатся смерти, но нас чаще беспокоит то, что ни время, ни обстоятельства ее прихода неизвестны. Мария же теперь была уверена в том, что умрет в соответствии с требованием закона, который она сама считала недействительным, и хотя точный способ предания ее смерти был пока неизвестен, она знала, что, учитывая ее ранг, он окажется настолько безболезненным и исполненным достоинства, насколько это возможно. В прошлом Марии случалось быть свидетельницей подобных казней — поэта Шателяра, например, — и она видела, как быстро делает свою работу топор, если с ним умело обращаются. Она также видела и бойню, в которую превратилась казнь лорда Джона Гордона, но мудро выкинула это из головы.
1 ноября 1586 года, День Всех Святых, Мария провела в молитве, а затем долго беседовала с сэром Эмиасом, который был поражен ее самообладанием, ведь «ни одного из ныне живущих людей не обвиняли в таких ужасных и отвратительных преступлениях». Мария сказала ему, что «не имеет основания чувствовать себя расстроенной или обеспокоенной, так как не сделала ничего дурного». Она смирилась с тем фактом, что члены комиссии прибыли в замок, заранее приняв решение, а весь суд был лишь представлением. Мария и Паулет поспорили относительно претензий Елизаветы на титул главы церкви, право на который провозгласил ее отец Генрих VIII. Устав от бесплодного спора, Мария заявила, что на самом деле факты не имеют значения, потому что они таковы, какими их хочет видеть Елизавета. Паулет был сердечно рад удалиться и не слушать «ненужные и праздные речи» Марии: «Я ушел, иначе она ни за что не позволила бы мне удалиться».
Через две недели, 13 ноября, на помощь Паулету был прислан сэр Дрю Друри, а 19 ноября в Фотерингей прибыли лорд Бакхёрст[127] и Роберт Билль с инструкциями от Елизаветы сообщить Марии, что парламент приговорил ее к смерти. Им было также дано распоряжение подслушивать везде, где только можно, разрешались и тайные встречи с Марией на тот случай, если бы она пожелала «открыть некие секреты, с тем чтобы о них сообщили нам». Совесть Елизаветы была неспокойна, потому что у нее по-прежнему не было признания Марии в предательстве. Марии велели приготовиться и сказали, что к ней приедет настоятель собора в Питерборо. Она отвечала: «Англичане многократно убивали своих монархов, поэтому не стоит удивляться тому, что они проявляют жестокость ко мне, ведь я происхожу из королей». Она подчеркнула, что не боится смерти и решила принять ее спокойно. Она невиновна в организации заговоров против Елизаветы, но участвовала в союзах с христианскими и католическими государями «не ради честолюбия — но во имя Бога и Его церкви, а также для того, чтобы освободиться от плена и страданий, которые я претерпевала». Теперь Мария освобождалась от бремени мирской политики и готовилась умереть во славу Бога и Его церкви.
Паулет также претерпевал страдания, так как ненавистным ему обязанностям тюремщика, казалось, не будет конца. Очевидный конец — смерть Марии — выглядел столь же далеким, как и раньше. В своих письмах Паулет находил эвфемизмы для желанного события: «Жертвоприношение правосудия, совершенное в отношении этой леди, моей подопечной, корня и источника всех моих бедствий». Существовала также ужасающая, не отступающая возможность того, что Марию пощадят и она переживет Елизавету. Тем не менее следующий поступок Паулета стал одним из самых жестоких и мелочных.
Когда Бакхёрст покинул Фотерингей, доставив свои известия, к Марии пришли Паулет и Друри и объявили ей, что она опять должна убрать возвышение для трона и балдахин, на этот раз навсегда. Их объяснение было хладнокровным и садистским: «Вы — покойница, лишенная чести и достоинства королевы». Как мы уже видели, геральдические символы имели жизненно важное значение для Марии. На ее гербе присутствовали французские лилии, шотландский лев и три английских льва, и три этих символа достоинства охватывали собой ее прошлое королевы Шотландии, затем — Франции, а затем, по желанию ее свекра, и ее претензии на английский престол. В глазах Паулета она была вдовствующей королевой Франции и потому не имела значения для его англо-центричного сознания. Она отреклась от шотландского престола и не имела никаких прав на трон английский. Осужденная на смерть английским парламентом, она поэтому представляла собой незавершенное дело. Мария возразила Паулету, а ее слуги отказались убрать возвышение и балдахин, однако эта задача была быстро выполнена шестью или семью людьми Паулета. Затем Паулет сел в ее присутствии без разрешения — страшное оскорбление — и приказал убрать бильярдный стол Марии. Она ответила, что не использовала бильярдный стол с тех пор, как его привезли в Фотерингей, так как была занята другими делами. Затем она сказала Паулету, что чтение трудов по английской истории заставляет ее сравнить себя с Ричардом II, поскольку ее тоже лишили знаков королевского достоинства. Паулет не ответил ей, но вышел из комнаты, не дожидаясь разрешения удалиться.
Мария заменила балдахин из золотой парчи распятием и изображением Страстей Христовых, тем самым отказываясь от светской власти ради веры. Она также написала Елизавете, горько жалуясь на действия Паулета и выражая надежду, что эти распоряжения не исходили от самой королевы. Мария сообщила Елизавете и то, что с ней обращаются «недостойным принцессы и благородной женщины образом», и рассказала о нанесенных Паулетом оскорблениях ее достоинству.
К ее страданиям добавилась и ревматическая боль. 23 ноября Мария все-таки сумела написать четыре письма, одно из которых предназначалось ее послу во Франции. В послании она объявляла о своей вере: «Я желаю умереть в подчинении церкви, а не убивать кого-либо, чтобы осуществить свои права». Второе письмо было адресовано папе Сиксту V, и в нем выражалась надежда, что она умрет, успев исповедаться священнику. Исповедник Марии, или раздатчик милостыни, де Про, находился в Фотерингее, но, проявив ненужную жестокость, ему запретили посещать свою госпожу до самого кануна казни. Мария также просила папу уговорить Генриха III использовать ее приданое для выплаты жалованья ее слугам и для служения ежегодных поминальных месс. Неспособная отказаться от интриг и сплетен, Мария предупредила его святейшество, что сеньор де Сен-Жан был, как она подозревала, шпионом Бёрли. Третье письмо было для Мендосы: «Мне хватило смелости смиренно принять несправедливый приговор еретиков… Не противореча им, я приняла высокую честь, которую они мне оказали, признав меня ревнительницей католической веры, ради которой я публично отдаю свою жизнь». Она продолжала: «Обвинители сказали мне: что бы я ни говорила или ни делала, я умру не из-за моей религии, но потому, что замышляла убить их королеву». Далее она сообщала Мендосе о том, что ее балдахин с гербом убрали, а также о том, что «они теперь ведут работы в зале — полагаю, возводят эшафот, на котором мне предстоит сыграть последний акт трагедии». Наконец, она просила сообщить Филиппу II, что, если ее сын Яков останется протестантом, тогда ее права на английский престол перейдут испанскому королю. Мария послала ему алмаз, который некогда получила от Норфолка. Последнее письмо предназначалось герцогу де Гизу, которому она писала в сентябре, «опасаясь отравления или тайного убийства». Она повторила просьбу, уже высказанную папе, о выплате жалованья слугам, уплате долгов и организации ежегодных поминальных месс.
Может показаться, что это всего лишь деловые письма человека, приводящего в порядок свои дела перед смертью, однако они помогают объяснить изменение в поведении Марии в то время, переход от образа несчастной государыни к образу узницы — мученицы за веру. Снятие балдахина Паулетом и его замена изображением Страстей Христовых подчеркивали ее позицию невинной жертвы. Мария Стюарт готовилась сыграть свою последнюю роль — мученицы за католическую веру.
Четыре дня спустя, 27 ноября, Шатонефа послали к Елизавете убедить ее отменить приговор. 1 декабря к нему присоединился личный посланник Генриха III Помпон де Бельевр. Через шесть дней им обоим дали аудиенцию в Ричмонде. Они заявили о неприкосновенности Марии как независимой правительницы, напомнили о священных правах гостеприимства и указали, что Елизавета приобретет врагов в лице «католических государей», если казнь все-таки состоится. Завершили они речь, заверяя Елизавету в вечной благодарности Франции, если она проявит милосердие.
Елизавета по большей части игнорировала их доводы, сказав лишь, что нынешняя ситуация беспрецедентна и ничто из сказанного ими не заставит ее передумать, а затем добавила: «Я молю Бога о том, чтобы Он уберег меня и дал мне власть охранить покой моего народа». Она закончила словами о том, что невозможно сохранить ее собственную жизнь и одновременно — жизнь той, другой, королевы.
10 декабря Елизавета сделала еще один маленький неверный шажок к утверждению смертного приговора, сказав Паулету, что парламент вынудил ее «вопреки ее естественной склонности… согласиться на это». Мария должна была оставаться в Фотерингее на попечении Паулета, но поступала в распоряжение шерифа Ноттингемского, который обязан был «без промедления казнить ее», очевидно после получения соответствующего приказа. Позднее в том же месяце Бёрли составил для себя еще один меморандум: «Королева Шотландии настолько больна, что может прожить всего несколько лет или даже дней, поэтому ее надо не опасаться, а жалеть». Однако он не сделал ничего, чтобы остановить набравший обороты маховик закона.
Паулет дал Марии понять, что распоряжение снять балдахин с гербом исходило от Тайного совета, а не лично от Елизаветы, и 19 декабря, после его протестов и мелких препятствий, Марии наконец позволили написать Елизавете. Пришедшая в ярость от поведения Паулета, Мария показала ему незапечатанное письмо, затем, насмехаясь над ним, потерла его о щеку, показывая, что оно не отравлено, потом завернула его в белый шелк и запечатала испанским воском. После этого она отдала письмо Паулету для дальнейшей передачи.
Мария сообщила своей кузине: Иисус Христос наделил ее способностью «выносить несправедливые измышления, обвинения и приговоры (тех, кто не имеет надо мной власти) с неизменной решимостью претерпеть смерть во имя апостольской римской католической церкви». Затем она попросила похоронить ее вместе «с королевами Франции, моими предшественницами, особенно рядом с покойной королевой, моей матерью» и надеялась, что ей «не отведут места рядом с вашими предками-королями». Она просила сделать казнь публичной, чтобы не распространялись слухи о самоубийстве. Мария вернула Елизавете алмаз, который та подарила ей по прибытии ее в Шотландию в 1561 году, и попросила отослать его в Шотландию сыну в качестве прощального дара. Она подписалась: «Ваша сестра и королева, несправедливо заключенная, Marie Royne[128]». До отречения ее подпись была проще — MARIE.
Прячась за слабыми оправданиями — перевязанными руками и отсутствием прямого приказа, Паулет отложил отправку письма Марии, так как надеялся, что вскоре прибудет приказ о казни и письмо станет бесполезным, однако начался 1587 год, а Елизавета и не думала отдавать роковое распоряжение.
Елизавета вновь увиделась с послами 6 января и спросила их, видят ли они иной выход из затруднительного положения, ведь она «никогда не проливала столько слез… сколько она пролила в связи с этим злосчастным делом». Решения у них не было: обе стороны знали, что просто выполняют дипломатические маневры. Страх Марии перед убийством усилился, когда 7 января был раскрыт новый заговор с целью устранения Елизаветы. Речь шла о признании находившегося в лондонской тюрьме несостоятельного должника по имени Томас Стаффорд, «распутной и мятежной персоны». Он намеревался пропитать ядом туфли или стремена Елизаветы при помощи метода, который так и не был обнародован. Большинство людей заподозрили, что этот заговор придумал Уолсингем, чтобы вывести Елизавету из состояния инерции.
Паулет продолжал политику мелких лишений, приказав Мелвиллу покинуть свиту Марии. Мелвилл был ее мажордомом и служил ей чуть ли не дольше всех остальных. Затем, в конце января, Елизавета написала Паулету — но то был не долгожданный смертный приговор. Королева благодарила его за бдительность и уверяла его: «Если вознаграждение не окажется тем, какого вы заслуживаете, пусть я недосчитаюсь вашей помощи, когда она мне будет нужнее всего». Это было странным, так как королева, казалось, обещала вознаграждение за еще несовершенное действие. Все прояснилось 2 февраля, в письме Уолсингема и Дэвисона Паулету:
«Королева недовольна тем, что вы за все это время… не нашли способа сократить дни шотландской королевы, учитывая, что каждый прожитый ею час увеличивает опасность для нашей королевы. Поэтому она [Елизавета] сердится на то, что люди, клявшиеся ей в верности, в этом деле не выполняют свои обязанности и возлагают бремя на нее, зная о ее нелюбви к пролитию крови, особенно же особ того же пола и ранга и столь близких ей по крови, как та королева».
Паулета просили тайно убить Марию, а учитывая тот факт, что письмо Уолсингема должно было прибыть после письма Елизаветы, та впоследствии могла бы заявлять, что ничего об этом не знала. Она могла бы просто сказать, что благодарила Паулета за его прошлую службу и не намеревалась провоцировать его на убийство.
Паулет ответил незамедлительно: «Мне горько, что я дожил до такого несчастного дня, в который от меня требуется по приказу моей милостивой правительницы совершить деяние, воспрещаемое Богом и законом. Мое имущество и жизнь принадлежат Ее Величеству, и я готов потерять их завтра, если ей так будет угодно… Но не дай Господь мне погубить свою совесть или запятнать мой род таким страшным пятном, как пролитием крови не по закону и без приказа». Хотя Паулет был лоялен и не отличался избытком воображения, для него существовала черта, которую он не собирался переступать. Мария рассказала Паулету о своем ужасе перед тайным убийством, и он пришел в ярость оттого, что она сочла его способным на такое. «Он не отличался жестокостью турка».
Мельница слухов, которую активно, несмотря на тяжелую болезнь, вращал Уолсингем, продолжала подпитывать истерию, направленную против Марии. «Из Ирландии и Уэльса ежедневно приходили сообщения о группах вооруженных людей, а изза границы слали известия о том, что замок Фотерингей захвачен, а узница сбежала». Констебль Хонитона объявил погоню за сбежавшей Марией в западных графствах. Елизавета поняла, что ее загнали в угол. Она «медлила, не желая делать того, чего желало все королевство и чего от нее просили». Члены Тайного совета постоянно наблюдали за ней, когда она встречалась с послами Франции и Шотландии, которые безуспешно пытались спасти жизнь Марии.
Приказ о казни был составлен, и однажды в Гринвиче, когда послы покинули королеву, лорд-адмирал Ховард[129] отвел Дэвисона в сторону и просил его отнести приказ Елизавете.
То, что произошло потом, как и многие другие события в жизни Марии Стюарт, окружено легендами. Согласно показаниям, данным впоследствии на суде, Дэвисон пришел к Елизавете с целой пачкой документов, ожидавших ее подписи. Она отметила, что погода стоит хорошая — было 1 февраля, — и выразила надежду, что он проводит достаточно времени на свежем воздухе. Дэвисон согласился с ней в отношении погоды и сказал, что чувствует себя хорошо. Затем она спросила его, содержат ли бумаги в его руках документ от лорд-адмирала Ховарда. Он ответил, что так и есть, и передал документы ей. Она прочитала приказ о казни, велела принести перо и чернила, а затем подписала его. Потом королева спросила Дэвисона, не сожалеет ли он о том, что это сделано, и тот ответил, что предпочитает видеть королеву живой, даже ценой другой жизни. Елизавета велела ему отнести приказ лорд-канцлеру, чтобы приложить к нему Большую печать и «привести его в исполнение в величайшей тайне». Дэвисон должен был рассказать обо всем Уолсингему, хотя Елизавета и считала, что облегчение может его убить, и сообщить ему, что казнь должна состояться в помещении, а не на замковой лужайке, у всех на виду. Затем она приказала Дэвисону не говорить с ней об этом деле до тех пор, пока все не будет кончено.
Согласно другой версии событий, не подтвержденной Дэвисоном, он передал Елизавете пачку бумаг, и она подписала их все не читая, а затем, повернувшись к нему, спросила: «Вы знаете, что сейчас произошло?» Дэвисон ответил, что знает, и отправился искать лорд-канцлера. Эта версия, похоже, отредактирована тюдоровскими политтехнологами.
На следующий день Елизавета спросила Дэвисона, приложена ли к приказу печать, и, когда ей ответили, что это уже сделано, сказала: «Зачем такая спешка?» 5 февраля королева получила известие о том, что Паулет не возьмет на себя тайное убийство. Елизавета разгневалась на этого «щепетильного малого, Паулета», однако планы относительно убийства не были окончательно забыты. Елизавета заявила: «Я и без него обойдусь. У меня есть Уингфилд, который колебаться не станет». Тайный совет, осознав, что королева опять колеблется, послал клерка совета Билля в Фотерингей с приказом. Билль отметил: «Для этого дела (убийства. — А. С.) должны были назначить Уингфилда… но… основываясь на примерах Эдуарда II и Ричарда II, было сочтено неудобным и небезопасным действовать втайне, и предпочли поступать открыто, в соответствии со статутом».
Чтобы привести приказ в исполнение, Уолсингем послал в замок в качестве палача некоего Булла с его «орудием». У Булла должны были быть с собой топор и заранее подготовленные «сдерживающие веревки», если Мария откажется подчиниться. Палача замаскировали под слугу, а за услуги ему причиталось 10 фунтов. «Были предприняты усилия для того, чтобы сохранить дело в тайне», а Уолсингем дал подробные распоряжения относительно того, кто должен был присутствовать при казни. Драгоценности Марии надлежало конфисковать на тот случай, если бы ее слуги решили «присвоить их», а после смерти ее надлежало «как можно скорее» похоронить ночью в приходской церкви. Распоряжаться подготовкой в качестве граф-маршала должен был Джордж Тэлбот, граф Шрусбери, хотя он и пытался — безуспешно — отказаться от должности в пользу Бёрли. Помогать ему надлежало графу Кенту[130], а юридические тонкости должен был уладить шериф Ноттингемский Томас Эндрюс.
Паулета полностью информировали о том, что происходило в Лондоне, поэтому он был весьма смущен, когда 4 февраля Бургойн попросил разрешения выехать из замка для сбора лекарственных трав — средств против ревматизма Марии. Паулет медлил, а на следующий день Мария поняла, что в замок прибывают посланцы. Одним из них был Билль. Поэтому она сказала Бургойну, что ему не нужно собирать травы, поскольку ей они больше не понадобятся. Мария пребывала в спокойствии и контролировала свои эмоции.
К 7 февраля все участники действа прибыли в замок, хотя Шрусбери расположился вне его стен, и около семи-восьми часов вечера все они, вместе с Паулетом и Друри, собрались у дверей покоев Марии на втором этаже замка, чтобы сообщить ей новости. Дамы Марии сказали им, что она раздевается и готовится ко сну. Тем не менее их впустили.
В воздухе висело чувство неловкости. Мария набросила накидку поверх ночной рубашки, ноги ее были босы. Она сидела в стоявшем у ее кровати кресле, напротив нее стоял небольшой столик. Рядом с ней находились ее дамы, а вечно бдительный Бургойн стоял за ее плечом.
Прежний тюремщик, Шрусбери, извинился, сказав, что действия Елизаветы вызваны необходимостью, а затем Билль зачитал приказ о казни. Мария выслушала его, после чего восхвалила Бога за эти известия: «Я ни на что не гожусь, и от меня никому нет толка». Она рада грядущему освобождению из заключения и прекращению постоянных страданий: «Вся моя жизнь была полна трагедий, и я рада, что Господь забирает меня из рук врагов». В последний раз она заявила, что, если бы она могла встретиться с Елизаветой, все их разногласия были бы улажены ко всеобщему удовлетворению. Затем она положила руку на английскую Библию и поклялась, что невиновна в приписываемых ей преступлениях.
Будучи «ревнителем веры», Кент умолял ее подумать о своей совести и обратиться к англиканской церкви, ведь ей оставалось жить всего несколько часов. Марии еще раз предложили утешение в лице настоятеля собора в Питерборо доктора Флетчера, но она попросила, чтобы к ней пустили ее собственного капеллана де Про. Эта просьба, однако, была отвергнута. Она поинтересовалась, просили ли другие христианские государи пощадить ее, и ей ответили, что такие просьбы были, но не возымели действия. Ей не сказали, вступился ли за нее ее сын Яков, да она и не спросила об этом. Затем Мария спросила, когда она умрет. «Завтра, в восемь утра», — запинаясь, ответил Шрусбери. Она попросила, чтобы ее тело отправили для похорон в Реймс или Сен-Дени, но ей сказали, что Елизавета это запретила. Просьба о том, чтобы были выполнены все ее распоряжения относительно слуг, тоже была отвергнута графами, ответившими, что они не имеют власти дать ей такие гарантии. Она спросила о Но и Кёрле и, когда ей сказали, что оба они все еще живы, заявила: они предали ее, но остаются жить, тогда как она, сохранившая твердость, умрет.
На всем протяжении беседы Мария сохраняла спокойствие и деловой тон, к большому изумлению и облегчению Шрусбери и его спутников. Однако к тому времени все слуги Марии, включая Бургойна, были в слезах. Поскольку всё уже было сказано, чиновники удалились.
Мария помолилась со своими дамами и служанками, затем, все еще пребывая в спокойном состоянии, положила оставшиеся у нее деньги в бумажные пакеты и надписала на них имена. Ей принесли ужин, но ела она мало. Мария простила слуг за все, в чем они могли провиниться, и попросила у них прощения за любую резкость, какую когда-либо проявила к ним. Она раздала все, что оставалось в ее гардеробе, Бургойн получил два кольца, две небольшие серебряные шкатулки, две лютни, ноты Марии и ее красные покрывала на кровать. Затем она написала письмо де Про, спрашивая его, какие молитвы ей следует читать, и умоляя дать ей отпущение грехов.
Потом Мария составила свое последнее завещание, назначив душеприказчиками герцога де Гиза, епископа Росского и де Руиссо, своего номинального канцлера, занимавшегося ее делами во Франции. Она просила, чтобы были выделены средства на поминальные мессы в Реймсе и Сен-Дени, на которых смогли бы присутствовать ее слуги. Ежегодный реквием должен был быть обеспечен продажей ее собственности в Фонтенбло. Далее, 57 тысяч франков надлежало распределить между ее слугами и друзьями после уплаты всех ее долгов и выплаты слугам жалованья. Мария также завещала деньги бедным детям и студентам в Реймсе.
Затем Мария собственноручно написала письмо своему деверю, Генриху III. Крупные буквы тверды и четки, ничто не выдает волнения; письмо занимает три страницы. Начав следующим образом: «Мой брат-король, я, по воле Господней и за мои грехи, предавшая себя во власть моей кузины-королевы, в чьих руках я страдала почти двадцать лет», Мария продолжила, заявив о своей невиновности, и уверила, что ее осудили за ее католическую веру и «богоданное право на английскую корону». Она пожаловалась на то, что ее лишили общества капеллана, «хотя он и находится в здании», и она не может получить последнего причастия. Она рекомендовала королю своих слуг и сына, «насколько он этого заслуживает, потому что я не могу за него отвечать», и послала ему «два редких камня, талисманы против болезни». Подписала письмо она так: «Среда, два часа пополуночи. Ваша любящая и верная сестра MARIE R».
Затем Мария, полностью одетая, прилегла на постель и попросила Джейн Кеннеди почитать ей о жизни некоего великого грешника. Кеннеди начала читать историю доброго разбойника, но Мария прервала ее: «Он был поистине великим грешником, но не таким страшным, как я. Я бы хотела, чтобы он стал моим покровителем на то время, что мне еще осталось.
Да вспомянет меня мой Спаситель в память о его страстях и да смилуется он надо мной, как смиловался над тем в час его смерти». Она попросила даму принести ей повязку, которой надлежало завязать ей глаза на эшафоте, и выбрала расшитый золотом шелковый платок. Затем она легла на спину и сложила руки на груди.
В шесть утра, «когда наступил упомянутый 8-й день февраля, время и место, назначенные для казни, упомянутая королева, высокого роста, крупного телосложения, с покатыми плечами, полным и широким лицом, двойным подбородком, ореховыми глазами и рыжими накладными волосами» начала собираться. Мария оделась продуманно: на ней были юбка и корсаж из черного атласа поверх красновато-коричневой нижней юбки и черная атласная накидка, расшитая золотом и отороченная мехом. На голове у нее были белый креповый убор и длинная кружевная вуаль. На шее висели ароматические шарики, а также Agnus Dei[131] а на поясе — распятие и золотые четки. Полностью одевшись, она вышла в приемный покой и там, с трудом преклонив колени на подушку, помолилась в окружении своих дам. Теперь все могли слышать, как под ними, в Большом зале, спешно сколачивают эшафот. Видя, что королева плохо себя чувствует, Бургойн дал ей немного хлеба и вина, а затем в дверь постучал шериф Ноттингемский, который должен был сопровождать ее на казнь. Бургойн немного задержал его, но, когда тот постучал во второй раз, Мария ответила: «Да, пойдемте».
Она взяла с собой обещанное Бургойну распятие из слоновой кости. Пока же, в отсутствие священника, она отдала его своему камердинеру Хэннибалу Стюарту, чтобы тот нес его перед ней. Из-за слишком серьезных мер безопасности слугам было запрещено сопровождать Марию дальше, на тот случай, если бы они решили окунуть свои платки в ее кровь, а затем превратить их в мощи. Еще более абсурдным было другое опасение охранников — что служанки расплачутся и расстроят этим солдат. Двое из людей Паулета подхватили Марию под руки, и она, с распятием в руках, прихрамывая, спустилась по лестнице в зал, где ее встретили Кент и Шрусбери. Эшафот уже возвели, а в камине развели огонь. Все собравшиеся, число которых достигало почти трехсот человек, замолчали, когда Мария вошла.
Она одна оставалась спокойной, ее слуги, все еще разлученные с ней, в отчаянии рыдали, а официальные лица — вероятно, припоминая ее замечание о «театре мира», — нервничали и страшно боялись, что что-то пойдет не по задуманному. Никто из них не имел соответствующего опыта. И в Англии, и в Европе многих правителей предавали насильственной смерти, но казнь в соответствии с законом не имела прецедентов.
Необъяснимым образом, учитывая строгость, проявленную к ней по другим поводам, Марии позволили проститься с Мелвиллом у подножия лестницы. Она просила его служить Якову так же, как он служил ей, а тот отвечал: «Мадам, это — самое грустное известие, которое мне когда-либо приходилось сообщать, ведь мне придется доложить ему, что моя госпожа-королева мертва». Мария сказала: «Сегодня, мой добрый Мелвилл, ты видишь завершение страданий Марии Стюарт». Уверившись, что все идет по плану, Кент и Шрусбери разрешили пяти-шести слугам сопровождать Марию и даже, после недолгих колебаний, позволили двум женщинам — Джейн Кеннеди и Элизабет Кёрл — последовать за ней вместе с Мелвиллом, Бургойном, а также хирургом Гурьоном и аптекарем Жервэ.
Свидетельств казни — каждое со своими собственными уникальными воспоминаниями — было так много, что рассказы о последующих событиях различаются во многих деталях. Современные полицейские подтвердят, что четыре свидетеля представят четыре совершенно разные версии одного события. Казнь Марии не стала исключением из правил. По словам Роберта Уайза, написавшего для Бёрли отчет сразу после казни, Мария поднялась на две ступеньки и оказалась на эшафоте двенадцати футов в ширину, затянутом черной тканью. Сама плаха тоже была обтянута черным — другие свидетели говорили, что она составляла всего несколько дюймов в высоту. Паулет помог королеве подняться по ступенькам, и она сказала ему: «Благодарю вас, сэр. Это последнее беспокойство, которое я вам причиняю». Затем она села на низкий стул рядом с Кентом и Шрусбери и молча слушала, пока Билль снова зачитывал приказ о казни. Мария, впрочем, не молчала, когда настоятель собора из Питерборо начал длинную проповедь, пытаясь обратить ее в протестантизм. В XVII веке историк Уильям Кемден назвал эту проповедь «занудной речью». Мария прервала проповедника: «Добрый господин настоятель, вам не стоит больше об этом беспокоиться, потому что я родилась в этой религии [католической], жила в ней и решилась в ней же умереть». Невозмутимый настоятель продолжал, призывая Бога покарать врагов Елизаветы и молясь о милости ко всем. Тогда Мария начала громко читать молитвы на латыни, затем преклонила колени и стала по-английски молиться за католическую церковь, Якова, Елизавету и за окончание своих бедствий. Палач Булл и его помощник затем попросили ее о прощении, и Мария ответила: «Я прощаю вас от всего сердца. Ведь я надеюсь, что смерть положит конец всем моим страданиям». Когда Мария начала снимать верхнюю одежду, один из палачей взял ее Agnus Dei, ведь по традиции драгоценности и одежда приговоренных доставались им. Однако Мария забрала их обратно, сказав, что обещала их одному из слуг. Затем, когда Булл продолжил снимать с нее одежду, она прервала его: «Я не привыкла к тому, чтобы меня раздевали такие помощники, да и к тому, чтобы снимать одежду в подобном обществе, — тоже». Она сама вынула шпильки из волос, а Кеннеди и Кёрл сняли с нее верхнее платье, оставив нижнюю юбку и корсаж, и прикрепили другие рукава. Все эти одеяния были алого цвета, так что Мария, единственная из всех присутствующих, не была больше облачена в черное. Теперь она была облачена в красное — цвет, символизировавший католическую мученицу. Мария Стюарт тщательно подготовилась к своему апофеозу.
Ее служанки, вопреки обещанию, теперь не могли унять слез. Мария, чьи глаза оставались сухими, попросила их не плакать и заверила, что станет за них молиться. Она начертала знак креста в воздухе перед слугами, а затем ей завязали глаза шелковым платком. Другой свидетель, Бургойн, говорит, что она преклонила колени перед стулом и прочла покаянный псалом «In te, domine, confîdo»[132], a затем вытянула шею вперед. Возможно, Мария ожидала, что ей отрубят голову на французский манер — мечом. Булл понял, что Мария не заметила низкой плахи, и подвел ее к ней. Там она нащупала ее и легла ничком. Другие свидетели сообщают, что королева, завершая свои молитвы, преклонила колени. Однако теперь она, поняв, что должно произойти, положила голову на плаху. В веревках не было нужды, хотя одному из палачей и пришлось сдвинуть ее руки с плахи, чтобы их не коснулся топор. Затем в полной тишине, заполнившей зал, Мария громко произнесла: In manus tuas, domine, commendam spiritum meum[133] — «три или четыре раза», и Булл взмахнул топором.
Вероятно, из-за нервозности палач плохо прицелился, и удар пришелся на затылок Марии. Она не пошевелилась, а следующий удар отделил ее голову от тела, за исключением части сухожилия, которое Булл затем перепилил. Наконец, ее голова покатилась по соломе. «Так умерла Мария, королева Шотландии, на 45-м году жизни и 19-м году ее заключения». Было около десяти часов утра.
По обычаю Булл поднял голову и провозгласил: «Боже, храни королеву», а настоятель из Питерборо добавил: «Так погибнут все враги королевы», на что один лишь граф Кент ответил «аминь». Торжественность момента была нарушена, когда голова Марии выскользнула из рук Булла, оставив ему шелковую повязку и рыжий парик. Волосы на голове были редкими и совершенно седыми. Булл и его помощник сняли подвязки Марии и в изумлении обнаружили под ее юбками маленькую собачку. Она явно пришла сюда из спальни, и никому не удалось сдвинуть ее с места до тех пор, пока она, вся покрытая кровью Марии, не решила лечь между шеей и отрубленной головой.
Мелвилл приказал было слугам Марии забрать ее тело, но их вытеснили из зала и заперли в комнатах, а позднее у них отобрали маленькие бумажные пакеты с личными подарками. По приказу Паулета после того, как сын Шрусбери, лорд Тэлбот, ускакал в Лондон с известием о казни, ворота Фотерингея заперли. Охранники отнесли тело Марии в примыкавшую к залу комнату, использовавшуюся в качестве приемной, и там почему-то завернули его в зеленое сукно, снятое с бильярдного стола. Эшафот, плаха и одеяния Марии были публично сожжены, а зал отмыт от ее крови, так что никаких мощей покойной королевы не должно было достаться ее сторонникам. Даже маленькую собачку дочиста отмыли.
Через час отрубленную голову положили на черную бархатную подушку и поместили в окне зала так, чтобы ее было видно собравшейся во дворе толпе. На следующий день тело Марии поспешно забальзамировал «сельский лекарь, которому помогал деревенский цирюльник». «Сельский лекарь» рассмотрел ее внутренние органы и не нашел никаких аномалий, за исключением наличия внутренней жидкости, «что подтверждает мнение о том, что ее болезнь была результатом водянки». Затем шериф тайно сжег их. С ее лица была снята посмертная восковая маска, а тело завернуто в провощенное полотно и помещено в двухслойный гроб из дуба и свинца. Этот огромный гроб поставили в центре большого зала. Паулет запретил слугам Марии молиться рядом с ним и опечатал все двери в зал.
Когда наступила ночь 9 февраля, только слуг Марии по-прежнему держали в заточении, а охранники Паулета и Друри оставались в своих помещениях. Маленькая собачка Марии отказалась от пищи и умерла от тоски. Ворота замка были заперты, а в самом центре огромного здания находился большой зал, он стоял запечатанный и пустой, если не считать гроба, заключавшего в себе бренные останки Марии Стюарт.
Глава XX
МЕСТО РЯДОМ С КОРОЛЯМИ
Когда лорд Тэлбот привез в Гринвич долгожданное известие, Елизавета разыграла одно из самых замысловатых, хотя и совершенно неправдоподобных, представлений своего царствования.
Пока звонили церковные колокола, а ее подданные по всей Англии фейерверками праздновали смерть Марии, Елизавета проливала «обильные слезы» и сменяла истерическое оплакивание на политически рассчитанную ярость, утверждая, что весь Тайный совет предал ее, а она подписала приказ о казни «ради безопасности» — чтобы это ни означало, — и немедленно отправила Дэвисона в Тауэр. Прекрасно зная, что его избрали на роль козла отпущения, он в подробностях описал все свои поступки и действия Елизаветы, понимая, что его признают виновным в том, что он предал королеву Его приговорили к заключению в Тауэре и огромному штрафу в 10 тысяч фунтов. Уплаты штрафа так никогда и не потребовали, он продолжал получать жалованье личного секретаря Елизаветы, пользовался весьма мягкими условиями заключения в Тауэре и был через год выпущен на свободу с пожизненной пенсией. Бёрли временно запретили появляться перед Елизаветой, Уолсингем дипломатично заболел, а Хаттон, приложивший в качестве лорд-канцлера печать к приказу, с минуты на минуту ожидал ареста. Доставившего приказ Билля сослали в Йорк на менее значительную должность, что было совершенно несправедливо. Пожалуй, только он по-настоящему и пострадал. В апреле Паулета назначили канцлером ордена Подвязки, и он вздохнул с облегчением.
На три недели были закрыты все морские порты и прекратилось сообщение с Европой, однако благодаря Шатонефу искаженная версия событий все-таки просочилась. Английских послов в Париже отлучили от двора, а в Лондон было отослано заключение французских юристов о том, что суд над Марией был незаконен. 12 марта 1587 года в соборе Парижской Богоматери отслужили поминальную мессу, на которой присутствовал весь французский двор, облаченный в глубокий траур, полностью проигнорировав при этом пожелания Марии относительно Реймса или Сен-Дени. Надгробную проповедь произнес Рено де Бон, архиепископ Буржский, и она была переполнена похвалами: «Трудно найти человека, в котором сошлось бы столько добродетелей, ведь помимо удивительной красоты, привлекавшей взгляды всего света, она обладала прекрасным характером, ясным умом и здравостью суждений, какую редко встретишь у лица ее пола и возраста… Она обладала большой храбростью, которая умерялась женской мягкостью и нежностью». Архиепископ далее вспомнил о том, как видел ее свадьбу в этой самой церкви. Он сокрушался по поводу ее казни, ужасаясь тому, что «та, что оказала честь брачной постели французских королей, пала, обесчещенная, на эшафоте… Представляется, что Господь решил прославить ее добродетели страданиями». Он призвал всех христианских государей вторгнуться в Англию и отомстить за смерть мученицы. Антония Фрейзер указывает, что эту речь, возможно, через 200 лет использовал Эдмунд Бёрк для похвалы Марии Антуанетте. Смыслом проповеди являлось не выражение личной скорби, но публичное прославление от лица монархии Валуа, и эту поминальную мессу можно считать началом культа Марии Стюарт.
Вскоре после поминальной службы во множестве появились жизнеописания и сочинения о Марии, многие из которых не имели никакого отношения к истине. Первым был издан опус Сарторио Лошо — романтическое повествование о том, как Мария покинула Шотландию, чтобы бежать во Францию, однако противные ветра пригнали ее корабль к английским берегам. Анонимные памфлеты, появившиеся вслед за «Discours de la Mort de Marie, Royne d’Ecosse»[134], сменились анонимным жизнеописанием на немецком языке. В Кёльне вышел латинский памфлет, в котором вместо настоятеля из Питерборо фигурировал пастор-кальвинист, а его проповедь была полна «дьявольских соблазнов». Автор завершил текст фразой: «Да здравствует Мария, светская мученица во Христе». Первый английский поклонник Марии, Адам Блэквуд, издал «La Mort de la Royne d’Ecosse»[135]. Там шериф Ноттингемский — дерзкий и бесстыдный человек — врывается в комнату Марии, когда она молится, топчется позади нее, а затем тащит ее к двери. Палачи — «мясники» — пытаются сорвать с нее одежду; потом они бесцеремонно уволакивают ее тело, несмотря на стенания отчаявшихся служанок. В изобилии появлялись и хвалебные поэмы, в которых Елизавета фигурировала в качестве Иезавели. Среди них были сонеты, анаграммы имени Марии и оды на смерть, принадлежавшие перу Малерба, Роббера Гарнье и кардинала дю Перрона. Неудобные факты игнорировали или меняли местами, чтобы они соответствовали обвинениям. В одном памфлете Елизавету обвинили в том, что она придумала акт об ассоциации исключительно для того, чтобы завлечь Марию в заговор Бабингтона, тогда как совершенно ни в чем не виновная Мария просто стремилась освободиться из несправедливого заключения. Вокруг Марии Стюарт начал сгущаться туман легенды.
В Шотландии казнь могла бы стать причиной скорой и враждебной реакции, поскольку Елизавета убила их королеву и мать их только что достигшего совершеннолетия короля. Послы Якова находились в Лондоне с предыдущего декабря, умоляя о помиловании Марии. Елизавета и в самом деле не желала дать им решительный ответ и позволить им вернуться в Шотландию. Между Елизаветой и Яковом существовал договор о дружбе, поэтому послам приходилось ходить по минному полю, но в любом случае представления короля о его матери, тщательно сформированные Елизаветой и Джорджем Бьюкененом, были двойственными. Он говорил: «Честь обязывает меня настаивать на сохранении ей жизни», но при этом советовал Уолсингему: «Пусть ее посадят в Тауэр или другую крепость и не дают возможности переписываться». Ходили слухи о том, что некая «неназванная персона» предложила выторговать жизнь Марии в обмен на отказ Якова от притязаний на английский престол. Яков умолял Елизавету не считать его хамелеоном, каковым он казался, и объявлял: «Пусть все судят о том, каким любящим и непостоянным я бы оказался, если бы предпочел мать своему праву». Это утверждение, как и многие заявления Якова, можно прочесть по-разному. Елизавета была раздражена его кажущейся двусмысленностью и написала ему: «Великим препятствием в наших переговорах является убеждение, что либо Ваше Величество поверхностно судит о деле, либо что вы со временем сможете прийти к соглашению». Ее ответ послам Якова был гораздо более прямым: «Скажите вашему королю, что я сделала ему немало добра, с самого его рождения удерживая над его головой корону, и что я собираюсь сохранить дружбу между нами, а если она нарушится, это будет его двойная вина».
На самом деле в Шотландии не было единой реакции. Жители Пограничного края сочли смерть Марии достаточным оправданием возобновления набегов, и дипломатические связи на время были разорваны «из-за ярости этих людей». Сам Яков на людях сокрушался, но «в ту ночь он сказал тем, кто был рядом с ним: “Теперь я — единственный король”». Придворные сообщали также: «Король сохранял спокойствие во время рассказа о казни его матери, он не оставляет своих развлечений и охотится чаще, чем прежде». В Шотландии, несомненно, чувствовали горечь, и Якова осуждали за трусость и глупость, когда он просто приказал всем облечься в траур вместо того, чтобы послать армию. Ходили слухи о созыве ополчения, и собирались вооруженные люди, готовые вторгнуться в Англию. Но Яков осторожно обращался с договором о дружбе между ним и Елизаветой. Он хорошо знал, что от него требуется только спокойно ждать и английский престол достанется ему. Формально оправданием его бездействия служило то, что он был «не в состоянии отомстить за ужасное убийство его дражайшей матери». В прошлом он был слишком молод, «а в давние времена содержался в плену», затем, освободившись от хватки мятежной знати, он не имел денег, наконец, он не мог объединить за собой Шотландию «из-за множества духовных и светских партий, каждая из которых думает о себе, а не обо мне». Он написал Елизавете, безуспешно умоляя ее о милосердии, причем говорил не о невиновности Марии, но лишь просил даровать ей прощение. В двадцать один год он уже заслуживал свое прозвище — «мудрейший дурак во всем христианском мире».
Год спустя в Шотландию вернулась Джейн Кеннеди. Она дала Якову подробное описание событий, свидетелем которых стала в Большом зале замка Фотерингей. Она «повергла его в грусть и задумчивость». В мае 1588 года Елизавета даже предложила, чтобы Яков и она «выпили большой глоток из реки Леты» и забыли об этом событии, по крайней мере, как о яблоке раздора между ними. Паулет наконец разрешил доставить письма Марии, и Мендоса начал переписку с Филиппом II относительно его прав на английский престол — ведь было ясно, что Яков не станет рисковать своим будущим, обращаясь в католичество. На самом деле последнее завещание Марии не содержало фразы, лишавшей Якова наследства, следовательно, Филипп никаких прав не имел.
Таким образом, Шотландия, Англия, Франция и Испания лишь разыграли возмущение. Елизавета утверждала, что никогда не имела намерения казнить кузину, и публично наказала придворных, на которых возложила ответственность за это событие. В Европе же католики почувствовали облегчение, поскольку не существовало больше несчастной католической королевы Марии Стюарт, которую нужно было освободить и восстановить в правах, хотя ее родственники Гизы, несомненно, почувствовали личную утрату. Однако тело Марии Стюарт все еще не было похоронено и лежало в Большом зале замка Фотерингей. Приказ Уолсингема о временном захоронении в приходской церкви проигнорировали, но даже Елизавета понимала, что необходимо принять окончательное решение. В конце июля она дала распоряжения относительно похорон Марии. Живая Мария представляла собой католическую угрозу, но мертвая она превратилась в королеву-изгнанницу и кузину Елизаветы, и ей поэтому полагалась вся роскошь государственных похорон. Кроме того, пышная церемония могла несколько облегчить совесть Елизаветы.
В десять часов вечера 30 июля 1587 года глава коллегии герольдов сэр Уильям Деттик вместе с пятью другими герольдами выехал из Фотерингея при свете факелов в сопровождении сорока всадников. Он сопровождал тело Марии, находившееся в королевской карете, которую влекли четыре лошади. Карету превратили в катафалк, покрыв ее черным бархатом и «богато украсив щитами с гербом Шотландии и небольшими вымпелами». Кортеж двигался медленно, а сразу за герольдами шли Мелвилл, Бургойн и четыре члена свиты Марии. Остальных привезли из Чартли и разместили в Фотерингее. В два часа утра похоронная процессия достигла реки Нин близ Питерборо. Там их встретили епископ Питерборо, настоятель собора с капитулом и герольд Кларенсье[136]. В соборе их ждали «хористы и певцы», а внутри, в приделе, напротив могилы Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII, была вырыта свежая могила. Екатерина умерла неподалеку отсюда, в Кимболтоне, двадцать один год назад[137], и соборный могильщик Роберт Скарлет, которому исполнился уже 81 год, мог гордо утверждать, что рыл могилы двум королевам. Огромный двойной гроб опустили в могилу, которую потом заложили кирпичами.
На следующий день прибыли участники предстоявшей церемонии королевских похорон; их разместили на ночь в епископском дворце, где в зале стоял трон с гербом Елизаветы. Сама она не приехала, ее представляла графиня Бедфорд[138].
На следующее утро, в восемь часов, графиня в сопровождении джентльменов гофмейстеров под балдахином фиолетового бархата прошествовала в парадной процессии в большой зал епископского дворца, где теперь находилось восковое изображение Марии в полном облачении. Восковые изображения были частью традиции, поскольку королевские похороны часто проходили спустя много месяцев после смерти, а техника бальзамирования была несовершенной. В случае с Марией тело лежало в неприкосновенности пять месяцев, погода стояла жаркая, а процесс разложения, вероятно, зашел уже довольно далеко. В состав похоронной процессии теперь влились герольды, пэры и их супруги, рыцари и дамы в трауре. За изображением Марии в собор проследовали около 240 человек. Стены собора были затянуты черным бархатом на высоту шести-семи ярдов, каждая вторая колонна была украшена гербами — самой Марии, Франциска II или Дарнли, причем их гербы соединялись с шотландским гербом. Хоры были также затянуты черным. Свите Марии было позволено присутствовать, хотя слуги-католики вышли из храма после процессии и ждали окончания службы в клуатре. Протестанты Мелвилл и Барбара Маубрей остались. Де Про позволили быть на похоронах; «на его шее было золотое распятие, которое он носил открыто, а когда ему сказали, что люди перешептываются и проявляют недовольство, он ответил, что не снимет его, даже если ему придется за это умереть». Нет свидетельств тому, что Паулет присутствовал на похоронах; он, вероятно, был счастлив наконец освободиться от своих обязанностей. Восковое изображение положили на катафалк, покрытый черным сукном и украшенный гербами. На крышке гроба «поместили два позолоченных щита с шотландскими гербами и позолоченную имперскую корону». Распорядителем впечатляющей церемонии был настоятель Флетчер, но удивительно бесцветную проповедь произнес епископ Линкольнский[139]. Затем лорд Бедфорд положил на алтарь кольчугу, шлем, меч и щит; их впоследствии повесили на стену над могилой. Герольды сломали свои жезлы над могилой, и процессия вернулась в епископский дворец на обед. «Слуги покойной королевы находились в отдельной комнате, где разбавляли еду и питье обильными слезами». В целом церемония была достаточно роскошной, чтобы удовлетворить привитые Марии вкусы Валуа, а для Елизаветы она означала окончание отношений с беспокойной кузиной. Похороны обошлись Елизавете в 321 фунт.
На могиле не было надписи до тех пор, пока слуга Марии Адам Блэквуд не совершил паломничество в Питерборо и не поместил на ней табличку с эпитафией. Оригинал был написан на латыни. В переводе он звучит следующим образом:
«Здесь покоится Мария, королева Шотландии, дочь короля, вдова короля Франции, кузина и наследница королевы Англии, наделенная королевскими добродетелями и королевским умом (ведь к правам государей часто обращаются втуне). Это украшение наших дней и светоч истинного монаршего достоинства погашен варварской жестокостью и тиранией. Один и тот же несправедливый приговор привел Марию, королеву Шотландии, к физической смерти, а всех оставшихся государей — к смерти гражданской (ведь они стали обычными персонами). Это — странный и необычный памятник, в котором живые объединяются с мертвыми; ибо знайте, что вместе со священным прахом блаженной Марии здесь лежит растоптанное и поруганное величие всех королей и государей. А поскольку тайна королевской власти наставляет государей в их обязанностях — путник, я не скажу ни слова больше».
Эту эпитафию быстро убрали.
Оставшихся слуг освободили через два месяца. Бургойну позволили вернуться в Англию, и он получил должность при дворе Генриха III, вероятно, после того, как доставил королю последнее письмо Марии. Гурьон отправился к Мендосе и передал ему предназначавшееся Филиппу II кольцо с алмазом. Филипп, в свою очередь, выполнил просьбу Марии и выплатил жалованье ее слугам. Элизабет Кёрл присоединилась к Барбаре Маубрей в изгнании; обе они похоронены вместе в церкви Святого Андрея в Антверпене. Джейн Кеннеди вернулась в Шотландию, вышла замуж за Эндрю Мелвилла и присоединилась ко двору Якова VI. В 1589 году ее в составе королевской свиты отправили в Данию за принцессой Анной — невестой Якова, но она, к несчастью, добралась только до Фиртоф-Форт. При переправе из Бёрнтайленда в Эдинбург лодка перевернулась и она утонула.
Замок Фотерингей был заброшен и разделил судьбу всех заброшенных зданий: местные фермеры использовали его как удобную и бесплатную каменоломню, и к концу XVIII века от него почти ничего не осталось.
Могила Марии в Питерборо оставалась нетронутой до 14 августа 1603 года. Через пять месяцев после восшествия на английский престол Якова VI, ставшего Яковом I в Англии, новый король послал верховного герольда Деттика в Питерборо с «роскошным бархатным покровом», который надлежало повесить над могилой его матери. Мемориальные проповеди должен был произнести епископ и его вездесущий настоятель.
Почти десять лет спустя Яков вновь написал настоятелю: «Мы распорядились, чтобы ее упомянутое тело, ныне похороненное в нашей кафедральной церкви в Питерборо, должно быть перенесено в Вестминстер». Демонстрируя прекрасную память и не упуская возможности сэкономить, король настоял на том, чтобы во время перемещения использовали тот же самый бархатный покров. Яков уже приказал соорудить мраморное изображение Елизаветы на ее надгробии в приделе погребальной капеллы Генриха VII в Вестминстере. Генрих VII предназначал капеллу для себя самого и своей жены, Елизаветы Йоркской; ее архитектором был Роберт Вёрчью, а в интерьере доминирует великолепное королевское надгробие, сделанное Торриджано. Елизавета Тюдор лежала в безымянной могиле до тех пор, пока Яков не решил почтить ее память надгробием из белого мрамора. Вырезанная Максимилианом Колтом и позолоченная Иоханном де Критцем каменная Елизавета лежала, усыпанная жемчугами и другими драгоценностями, держа в руках символизировавшие ее власть и могущество державу и скипетр.
Теперь Яков приказал Виллему и Конелиусу Куру создать скульптурное изображение своей матери, которое должно было быть помещено в противоположном приделе. В отличие от Елизаветы, держащей в руках символы королевской власти, Мария Стюарт лежит со сложенными, словно в молитве, руками. Она вновь в высоком вдовьем чепце и королевском платье. Хотя у ее ног размещен лев Шотландии, ее изображение больше напоминает аббатису, нежели королеву. Памятник Марии — «большего размера, словно бы для обозначения превосходства матери перед предшественницей, жертвы над палачом».
В сентябре 1612 года тело Марии в большом свинцовом гробу было наконец перенесено из Питерборо и захоронено в Вестминстерском аббатстве. Все подробные распоряжения Марии о захоронении ее во Франции рядом с семьей были проигнорированы. Ей предстояло упокоиться в протестантской церкви, всего в нескольких ярдах от своей кузины Елизаветы. Надежда Марии на то, что «мне не найдут место рядом с королями, вашими предшественниками», оказалась тщетной. Нужно, впрочем, отдать должное Якову I — он, вполне возможно, вообще не знал о том, что она высказывала такое пожелание.
Могила Марии неизбежно превратилась в центр притяжения для католиков, и начали распространяться слухи о совершавшихся там чудесах. По прошествии тринадцати лет католический апологет Уильям Демпстер, никогда эту могилу не посещавший, писал из Болоньи: это место «полнилось чудесами». Начиная с того момента, как тело Марии упокоилось в запертом зале в Фотерингее, люди начали молиться о ее заступничестве как можно ближе к гробу, однако людей, молившихся ей в Вестминстере, прогоняли.
В 1750 году Генри, кардинал Йоркский[140], — брат прямого наследника Марии принца Чарли — просил папу Бенедикта XIV о ее канонизации. Хотя Бенедикт XIV был известен как «просвещенный» папа, а Мария продемонстрировала «великодушие и христианскую любовь» в час смерти, что квалифицировало ее как мученицу, Рим счел, что ее дело не может продвинуться, пока не будет найдено убедительное доказательство ее невиновности в убийстве Дарнли и прелюбодеянии с Босуэллом. Святые Петр, Павел, Августин и Игнатий Лойола были грешниками, прощенными Ватиканом и канонизированными, поэтому отказ Святого престола даровать необходимое прощение Марии не может рассматриваться исключительно в теологическом контексте. Чтобы даровать прощение, нужно признать виновность Марии; если отказаться признать его необходимость, следует заявить о ее невиновности. Каждое из этих решений было чревато политическими осложнениями.
В 1887 году, на трехсотлетнюю годовщину казни Марии, к папе Льву XIII обратились вновь, на этот раз после хорошо организованной кампании, возглавлявшейся не кем иным, как королевой Викторией, «проявлявшей энтузиазм в отношении своей великой предшественницы в благодарность за то, что она не происходила от королевы Елизаветы». Риму предложили канонизировать Марию и еще сорок других мучеников-англичан. Кардинал Мэннинг, а также глава незадолго до того воссозданного католического диоцеза Сент-Эндрюс и Эдинбург архиепископ Уильям Смит при поддержке английских иезуитов возглавил кампанию, состоявшую из речей и выставок, хотя главный католический пэр Англии герцог Норфолк выступил против канонизации. Кампания захлебнулась в 1892 году после смерти кардинала Мэннинга и архиепископа Смита; в результате к 1902 году Мария была единственной кандидатурой, и дело застопорилось. Ватикан уверяет, что «ее дело все еще открыто». Предложение отметить 400-летнюю годовщину ее казни выпуском марки с ее портретом было также отвергнуто.
Место ее могилы в Питерборо, так же как и могила Екатерины Арагонской, было осквернено солдатами Кромвеля в годы гражданской войны в Англии. Сейчас это место обозначено флажками, преподнесенными собору Каледонским обществом Питерборо.
К сожалению, нельзя утверждать, что Мария наконец упокоилась с миром в Вестминстерском аббатстве. В феврале 1869 года произвели раскопки королевских могил с целью найти безымянную могилу Якова I. Под присмотром Джайлса Гиберта Скотта и главного каменщика аббатства настоятель собора Артур Стенли вскрыл могилу. Настоятель вспоминал:
«Я решил сделать проход, убрав камни с южной стороны южного придела капеллы, один из которых был помечен как “вход”. Он вел к большому лестничному пролету, шедшему вниз, под могилу шотландской королевы. Моим глазам открылась поразительная, почти ужасающая сцена. От самого пола поднималась гора свинцовых гробов; одни из них были большими, размер прочих колебался от детского до младенческого, и они громоздились один на другом».
У северной стены находилось два гроба, «сильно расплющенных» под весом четырех или пяти меньших гробов, наваленных на них сверху. Вторым снизу был гроб Арабеллы Стюарт, причем кости и череп виднелись сквозь трещину в свинцовой крышке. Нижний гроб стал черным как смоль и сильно сжался под весом остальных, однако свинцовое покрытие выдержало. Это и был большой гроб Марии, и его решено было не открывать и не перемещать. Остальными обитателями этой королевской свалки были скончавшийся в 1612 году Генри, принц Уэльский, сын Якова I[141]; два младенца Карла I; Мария, принцесса Оранская[142]; принц Руперт[143]; Анна Хайд, первая жена Якова II[144]; Елизавета Богемская[145], десять детей Якова II[146] и трагедия королевы Анны — ее восемнадцать детей[147], ни один из которых не дожил до совершеннолетия. «Невозможно было смотреть на эти обломки династии Стюартов без того, чтобы не пожелать восстановить среди остатков былого величия порядок и благопристойность». Исследователи привели в порядок детские гробики и многочисленные погребальные урны, но гроб Марии оставили нетронутым. Гроб Якова нашли в противоположном приделе, ближе к Елизавете, чем к его матери.
Надгробие Марии в Лондоне поражает величием, однако она лежит среди людей, которых не знала, причем многие являлись ее врагами. В Шотландии о Марии напоминает копия этого надгробия, хранящаяся в Шотландском музее. Во Франции нет ничего.
Мария Стюарт, родившаяся в то «время, когда преобладающей литературой эпохи были поэзия и рыцарский роман», прожила жизнь, столь наполненную событиями, какую только можно себе представить. Однако трудно найти другую такую пассивную жизнь. Почти все из множества событий, с которыми ей пришлось столкнуться, были случайными, а то единственное событие, которое она в некотором роде инициировала, в конце концов привело ее на плаху. Поэтому о Марии Стюарт вспоминают как о героине романтической трагедии — причем ей принадлежит роль трижды овдовевшей королевы удивительной красоты. Она отличалась изяществом, прекрасно танцевала и ездила верхом, любила развлечения на свежем воздухе, но проявляла более чем средние для своего положения способности. Загнанная в угол в споре, она всегда вспоминала о своем происхождении и королевской крови. Политические и богословские уроки ее дядей Гизов не пошли ей впрок, она забыла об искусных наставлениях Дианы де Пуатье относительно женского очарования и пренебрегла придворной дипломатией Екатерины Медичи. Мария обожала галантные игры и флирт, но, похоже, секс ее не слишком интересовал. Она предпочитала общение в тесной компании подруг и слуг, к которым всегда была благосклонна, и поощряла общение с придворными-мужчинами только в формальной обстановке танцев и придворных развлечений.
Смерть Марии оказалась неизбежной из-за действий ее сторонников, многие из которых сами взошли на плаху или подверглись еще более страшной казни, а она не сделала ничего, чтобы заслужить такое рвение. Она позволила случаю определять ее судьбу, пока сама не оказалась побежденной в финальной трагедии, предопределенной игрой все того же случая.
Генеалогические таблицы
Основные даты жизни и деятельности Марии Стюарт
1542, 8 декабря — во дворце Линлитгоу родилась Мария Стюарт. Отец — король Шотландии Яков V, мать — французская принцесса Мария де Гиз.
14 декабря — скончался король Шотландии Яков V, отец Марии Стюарт.
1543, 1 июля — подписан Гринвичский договор, в соответствии с которым Мария должна была выйти замуж за принца Эдуарда, сына короля Англии Генриха VIII.
9 сентября — коронация юной Марии в Стерлингском замке королевой Шотландии — ей ровно десять месяцев от роду.
1547, 28 января — скончался Генрих VIII, король Англии, на престол взошел его сын Эдуард VI.
1548, 7 июня — подписан договор о браке королевы Марии Стюарт и французского дофина Франциска.
29 июля — Мария на галере «Реал» отплыла во Францию.
15 августа — Мария со своей свитой прибыла во Францию, королевой которой ей предстояло стать.
1554 — Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, отстранила от власти графа Аррана и сама возглавила правительство Шотландии.
1558, 19 апреля — обручение с дофином Франциском.
24 апреля — бракосочетание с дофином Франциском в соборе Парижской Богоматери.
17 ноября — скончалась Мария Тюдор. На английский престол взошла королева Елизавета I.
1559, 10 июля — скончался Генрих II и на престол Франции взошел Франциск II. Мария Стюарт стала королевой Франции.
18 сентября — коронация Франциска II в Реймском соборе.
1560, 11 июня — скончалась Мария де Гиз, мать Марии Стюарт.
6 июля — между Англией и Францией заключен Эдинбургский договор, обеспечивший вывод из Шотландии как английских, так и французских войск и закрепивший победу протестантства в стране. 5 декабря — скончался Франциск II, супруг Марии Стюарт.
1561, 15 мая — коронация Карла IX, короля Франции.
14 августа — Мария Стюарт покинула Францию и отплыла в Шотландию.
1562–1563 — официально признала протестантство государственной религией.
1564, 17 сентября — первая встреча с Генрихом Стюартом, лордом Дарили, сыном графа Леннокса.
1565, 9 июля — брак с Генри Дарнли.
Август — граф Морей попытался поднять мятеж против Марии Стюарт, но был атакован армией королевы и бежал в Англию.
1566, 9 марта — убийство в результате заговора партии Морея и Аргайла секретаря Марии Давида Риццио.
19 июня — Мария Стюарт родила сына (впоследствии король Шотландии Яков VI и одновременно король Англии Яков I).
17 ноября — крещение Якова в Королевской капелле замка Стирлинг. 1567 — во Франции скончалась Диана де Пуатье, фаворитка Генриха II, друг и наставница Марии Стюарт.
9 февраля — убийство в результате заговора Генри Дарнли.
15 мая — бракосочетание Марии с графом Босуэллом в Холируде.
15 июня — поражение у Карберри, Мария сдалась лордам конфедерации и была препровождена в замок Лохливен.
24 июля — подписала отречение от престола в пользу своего сына Якова VI.
12 августа — Морей объявлен регентом Шотландии.
1568, 2 мая — Мария бежит из замка Лохливен.
13 мая — ее армия разбита войсками Морея при Лэнгсайде.
16 мая — Мария бежит в Англию, где обращается за помощью к Елизавете I.
1569 — подавлен мятеж католиков в Северной Англии, ставивших своей целью освобождение Марии Стюарт.
1572 — раскрыт заговор Ридольфи, участники которого хотели сместить Елизавету I и возвести на английский трон Марию Стюарт.
1573 — в Шотландии подписано Пертское перемирие между сторонниками королевы и партией короля, в соответствии с которым королем Шотландии признавался Яков VI.
1578, апрель — в Дании, в замке Дразхольм, скончался граф Босуэлл.
1586 — раскрыт заговор католических фанатиков, собиравшихся убить Елизавету I и освободить Марию Стюарт. Мария была признана соучастницей и призвана к ответу.
1587, 1 февраля — Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.
8 февраля — казнь Марии Стюарт.