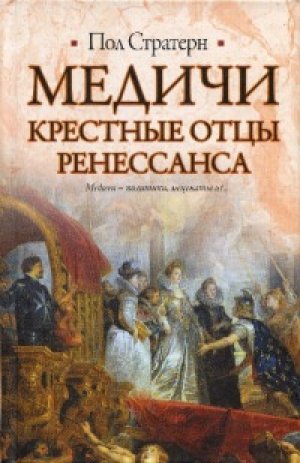
ПРОЛОГ. СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ
Глядя на групповой портрет семейства Медичи, испытываешь, в какой-то части, чувство преклонения и уважения, а во всем остальном — потрясение и ужас. Чтобы преклоняться и уважать, надо оценить их щедрость, благодеяния, политику, созданные ими научные учреждения. А чтобы почувствовать потрясение и ужас, достаточно вслушаться в оглушительное рычание, исходящее из недр их частной жизни.
Джон Бойл, граф Корк и Оррери, друг поэта Александра Попа и один из первых британцев — жителей Флоренции (1755)
Флоренция, воскресенье 26 апреля 1478 года, с башен, нависающих над крышами домов, доносится колокольный звон. Лоренцо Великолепный в окружении приближенных лиц направляется сквозь празднично одетую толпу горожан к собору Санта-Мария дель Фьоре.
Двадцатидевятилетний Лоренцо — глава семейства Медичи, которое, вместе со своими союзниками, с опорой на мощную политическую машину и соблюдением внешних форм республиканской демократии, безраздельно правит Флоренцией. Здесь, в самом развитом из итальянских городов со всем его богатством и расточительностью, средневековый богобоязненный мир постепенно уступает дорогу новому, уверенному в себе гуманизму. Банк Медичи уже успел стать самым преуспевающим и уважаемым финансовым учреждением Европы, с отделениями и представителями в крупнейших коммерческих центрах, от Лондона до Венеции. Даже недавняя потеря весьма выгодного папского заказа, доставшегося флорентийским соперникам Медичи, семейству Пацци, была не страшнее комариного укуса; доходы от банка Медичи превратили Флоренцию в одно из архитектурных и вообще культурных чудес Европы, давая семейству возможность приглашать на работу таких художников, как Донателло, Боттичелли и Леонардо да Винчи. Но даже в кругу гениев подобного калибра именно Лоренцо воплощает сам дух нового гуманизма — гуманизма эпохи Ренессанса. Не зря все называют его Il magnifico — Великолепный; это флорентийский князь во всем, кроме имени, и последователи жаждут заполучить его в качестве крестного отца своим первенцам мужского пола. Сам Лоренцо рассматривает свою власть как празднество: людям дарят фестивали и карнавалы. Заказывая произведения искусства, Лоренцо демонстрирует очевидно эстетический вкус; он понимает художников, которых привлекает ко двору, побуждает их добиваться совершенства, развивая именно свои лучшие качества, — и они платят ему уважением как равному в вопросах искусства. Сам он — состоявшийся музыкант, спортсмен и фехтовальщик; он недурно продвинут в философии и вскоре завоюет репутацию одного из лучших итальянских поэтов своего времени; при всем при том, однако же, Лоренцо гордится тем, что он — человек из народа: одевается куда скромнее большинства флорентийских вельмож. Да и вид у Лоренцо, если оставить в стороне некую окружающую его ауру, намекающую на внутреннюю силу, довольно невзрачный. Самый известный из его портретов — бюст из цветной терракоты работы Верроккьо — изображает на удивление угрюмую фигуру с грубыми чертами лица: удлиненный, как у всех Медичи, нос, выдающаяся нижняя челюсть, глаза с тяжелыми веками, большой, но почему-то совершенно не чувственный с тонкими губами рот. Нелегко угадать за этими застывшими чертами исключительную личность, хотя, бесспорно, одушевленные его внутренней силой, они излучают тот магнетизм, который делал его столь привлекательным в глазах женщин и одновременно не только не оставлял равнодушными, но вызывал восхищение философов, художников, даже и простых людей.
Под звон колоколов Лоренцо и его свита доходят до конца виа Ларга и направляются к кафедральной площади. Прямо перед ними плывет в сторону неба купол, созданный гением Брунеллески, — самое, быть может, выдающееся архитектурное сооружение раннего европейского Возрождения, уступающее только римскому Пантеону, который был построен за тысячу лет до того: лишь сейчас Европа начинает приближаться к величию собственного прошлого. Лоренцо и его друзья входят под прохладные сумрачные своды собора.
На виа Ларга, за Лоренцо, прихрамывая — его мучает приступ ишиаса, — поспешает Медичи-младший, Джулиано. Его сопровождают Франческо де Пацци и друг последнего Бернардо Бандини; в какой-то момент Франческо дружески обнимает Джулиано за плечи, помогая ему справиться с хромотой и уверяя, что торопиться некуда. Он весело подталкивает Джулиано под бок, убеждаясь, что под его пышным камзолом кольчуги нет. Оказавшись в соборе, Джулиано видит, что его брат уже приблизился к главному престолу. Лоренцо окружают друзья и двое священников, в одном из которых Джулиано узнает домашнего учителя семейства Пацци. Начинается служба, и Джулиано Медичи решает остаться у двери с Франческо де Пацци, Бернардо Бандини и другими. Звуки хорового пения взмывают в вышину, наполняя собой все пространство собора под мощным куполом; затем хор умолкает, и священник, отправляющий службу, готовится начать церемонию торжественной мессы. Звенят ризничные колокола, заглушая шушуканье вольно ведущих себя прихожан; но вот и их голоса утихают, и священник поднимает перед главным престолом гостию.
В этот самый момент одновременно происходят два события. Бернардо Бандини выхватывает кинжал, круто поворачивается и с такой силой вонзает его в затылок Джулиано, что из расколовшегося черепа последнего вырывается фонтан крови. Стоящий рядом Франческо де Пацци начинает яростно, словно обезумев, покрывать ударами заваливающееся на пол тело Джулиано. Льющаяся кровь ослепляет его настолько, что, бросаясь на распростертое тело Джулиано, он случайно задевает кинжалом собственное бедро.
В тот же миг стоящие возле главного престола позади Лоренцо двое священников стремительно выхватывают из-под сутан кинжалы. Один, собираясь ударить его в спину, хватает его ладонью за плечо, но Лоренцо уворачивается, и острие кинжала просто оставляет царапину у него на шее. Отступая назад, он срывает с себя плащ, заматывает им руку, образуя нечто вроде щита, другой же рукой поспешно выхватывает из ножен меч. Священники в растерянности отступают, впрочем, не выпуская из рук кинжалов. Лоренцо немедленно окружают собравшиеся, раздаются крики, мелькают лезвия, его ближайшие друзья обнажают мечи, давая ему перескочить через ограду алтаря и уйти через открытую дверь, ведущую в ризницу. Решив, что с Джулиано Медичи покончено, Бернардо Бандини с обнаженным мечом устремляется через толпу к алтарю. Он пытается преградить путь Лоренцо, но на его пути становится друг Великолепного Франческо Нори. Бандини скользит мимо него, словно по маслу, убивая одним ударом на месте. В возникшей суете ранят кого-то еще, и когда Бандини наконец прорывается вперед, Лоренцо с друзьями уже запирают за собой тяжелую медную дверь ризницы.
Лоренцо трогает ладонью шею, кровь сочится, но рана неглубокая. Стоящий рядом с ним Антонио Ридольфи бросается к нему и, обняв Лоренцо за плечи, словно собирается поцеловать его в шею; Лоренцо чувствует, что его друг высасывает кровь из раны и сплевывает ее на пол — не исключено, что острие кинжала священника было отравлено. Даже через медную дверь слышны крики и восклицания — паства охвачена волнением. Лоренцо порывисто подается вперед:
— Джулиано? С ним все в порядке?
Друзья переглядываются. Никто не решается ответить.
В переполохе, возникшем в соборе, убийцы Джулиано и двое священников растворяются в толпе; тем временем снаружи уже распространяются всяческие слухи. Одни утверждают, что треснул огромный купол, и люди бросаются прочь, стремясь поскорее укрыться под надежной крышей своего дома; другие призывают вернуться под своды собора; большинство разбивается на группы и группки, успокаивая рыдающих и потрясенных. По прошествии нескольких минут, убедившись, что все вроде спокойно, друзья Лоренцо тайком выводят его через боковую дверь собора и направляются вниз по улице, в сторону дворца Медичи.
Между тем всего в четверти мили отсюда продолжает разворачиваться, согласно плану, другая часть заговора. Архиепископ Сальвиати, глава второй группы заговорщиков, входит в сопровождении своего сообщника Якопо Браччолини и еще нескольких спутников в Палаццо делла Синьория и требует проводить его к гонфалоньеру справедливости, выборному главе города-государства Флоренции: дворецкому он говорит, что должен передать гонфалоньеру Чезаре Петруччи важное послание от папы Сикста IV. Пока дворецкий поднимается по лестнице, ведущей в частные покои гонфалоньера, через парадные двери дворца один за другим входят сопровождающие архиепископа люди. Но на свиту столь высокого церковного лица они не похожи — никакая маска не может скрыть их грубых, внушающих страх лиц. На самом деле это до зубов вооруженные наемники из Перуджи.
Гонфалоньер Петруччи обедает с восемью своими коллегами — избранными членами синьории, когда в столовую входит посланный с поручением дворецкий. Гонфалоньер просит проводить архиепископа в главный зал приемов, а его спутники пусть подождут в коридоре; что касается всех остальных членов свиты, их следует направить в близлежащее здание канцелярии. Возвращаясь к столу, гонфалоньер Петруччи смутно слышит отдаленный шум на улицах.
Когда гонфалоньер наконец появляется в главном зале приемов и протягивает архиепископу руки, он замечает, что те у него дрожат: Сальвиати явно чем-то возбужден. Архиепископ начинает передавать папское послание, его голос срывается, речь становится все более невнятной, кровь отливает от щек, он все чаще поглядывает на дверь. Гонфалоньеру Петруччи все это кажется подозрительным, он вызывает стражу, и в тот же момент архиепископ бросается к двери и требует, чтобы его спутники привели наемников.
Но люди из Перуджи недоступны: двери канцелярии, куда их проводили, не открываются изнутри, так что им остается лишь колотить по дереву и требовать, чтобы их выпустили. Как только гонфалоньере Петруччи выходит в коридор, к нему бросается Якопо Браччолини, вытаскивая на ходу оружие, но гонфалоньеру удается схватить его за волосы и швырнуть на пол. Гонфалоньер хватает первый попавшийся под руку предмет — это был кухонный вертел — и начинает размахивать им, не подпуская к себе архиепископа и его спутников. Голоса людей из Перуджи звучат все громче, похоже, им удалось вырваться из канцелярии; это заставляет гонфалоньера Петруччи и его коллег ринуться к входу в башню и поспешно запереть за собой тяжелую дверь на засов. Далее они бегут вверх по лестнице и начинают бить в колокол. Его тяжелые удары отражаются эхом от крыш: это общепринятый сигнал тревоги, призывающий в минуту опасности всех граждан города на пьяцца делла Синьория.
Вскоре под продолжающийся звон колоколов на большой открытой площади собираются встревоженные жители. Неожиданно из переулка во главе нескольких десятков вооруженных мужчин появляется один из главарей заговора Якопо. Вновь прибывшие начинают скандировать: «Popolo e Liberta» («Народ и Свобода!») — традиционный флорентийский революционный клич, призывающий к свержению диктатуры. Вооруженные мужчины разъезжают по площади, пытаясь привлечь собравшихся на свою сторону, но те остаются настороже. В какой-то момент из бойниц башни гонфалоньер и обслуга синьории начинают швырять камни в Якопо и его людей, которые сразу ощущают, что настороженность толпы быстро превращается во враждебность.
Тем временем на северной части площади, из другого переулка, ведущего к дворцу Медичи, появляется еще одна группа — несколько десятков вооруженных всадников. Это приверженцы Медичи. Они прокладывают себе путь к Палаццо делла Синьория, спешиваются, обнажают мечи и идут к двери. Оказавшись внутри, они бросаются наверх и обрушиваются на перуджийцев, быстро расправляясь с ними при помощи мечей и копий. Через несколько минут они вновь появляются на площади, высоко подняв копья с отсеченными головами людей из Перуджи. Упавшие духом, сломленные, Якопо и его люди покидают площадь, направляясь на восток, под кров палаццо Пацци.
Весь город пребывает в растерянности, повсюду множатся самые противоречивые слухи: был заговор, Лоренцо заколот, семейство Пацци во главе целой армии готовит вторжение в город; устрашающий вид отсеченных голов наемников из Перуджи пробуждает в толпе жажду крови. Охваченные яростью и страхом, выкрикивая нечто бессвязное, люди мечутся по городу, отыскивая членов семейства Пацци и их сторонников, нападая на действительных и воображаемых врагов, в то время как другие спешат к дворцу Медичи. Жив ли Лоренцо? Кто теперь будет править городом? Кто спасет его в минуту опасности? Лоренцо был вынужден выйти на балкон палаццо Медичи, где его появление было встречено громкими криками восторга. В то же время люди были напуганы, ибо шея Лоренцо была замотана бинтом, а туника покрыта устрашающими пятнами крови.
Лоренцо обращается к собравшимся с балкона, говорит, что семейство Пацци стало во главе заговора, имеющего целью свергнуть законное правительство города. Он уверяет людей, что заговор провалился, и хотя заговорщики убили его брата Джулиано, сам он в полной безопасности, жив и здоров, не считая небольшой раны. Для паники оснований нет — все должны сохранять спокойствие, никому не следует подменять собой закон или пытаться отомстить самолично; враги города будут выявлены и предстанут перед судом. Но попытка Лоренцо успокоить толпу имела противоположный эффект; убедившись, что угроза миновала, люди принялись за поиски козлов отпущения — заговорщиков, их друзей и союзников. Все разбились на группы и, одержимые жаждой крови, рассеялись по городу.
Франческо де Пацци обнаруживают у него во дворце с раной, нанесенной по случайности самому себе. Его вытаскивают неодетым из кровати, волокут по всему городу к Палаццо делла Синьория и поднимают наверх в покои гонфалоньера. Здесь дело берет в свои руки Петруччи. Он выносит суровый приговор — повесить Франческо де Пацци без промедления. Все еще обнаженному, с полузапекшейся раной, из которой сочится кровь, Франческо де Пацци набрасывают на шею петлю; другой конец веревки прочно закрепляют на массивной металлической фрамуге окна и вышвыривают жертву наружу. При виде раскачивающегося, извивающегося в смертных судорогах тела толпа ревет от восторга. Дальше настает очередь архиепископа Сальвиати, которого волокут к гонфалоньеру все еще одетым в пурпурную сутану; затем, с удавкой на шее и прочно связанными за спиной кожаным ремнем руками, его тоже выбрасывают из окна. Архиепископ болтается в воздухе с вылезающими из орбит глазами; тщетно пытается он освободиться от пут, впившись зубами в болтающееся рядом с ним голое тело; а люд внизу ликует.
На протяжении нескольких последующих дней толпа прочесывает город, творя свой собственный суд. Двух священников, пытавшихся заколоть Лоренцо, находят в бенедектинском аббатстве, в Бадии, неподалеку от палаццо Пацци; их немедленно вытаскивают на улицу, срывают сутаны, кастрируют и уводят, чтобы тут же повесить. Немало еще можно привести примеров подобных жутких проявлений ярости толпы, когда победители вымещают ее на побежденных и сводят старые счеты; по словам Макиавелли, писавшего свою «Историю Флоренции» менее пятидесяти лет спустя после этих событий, «убитых было так много, что повсюду на улицах города валялись части человеческих тел».
Известия о неудавшемся заговоре Пацци вскоре выходят за пределы Флоренции и достигают Рима. Папа Сикст IV, поддерживавший заговорщиков, приходит в ярость, особенно когда узнает, что одного из его архиепископов подвергли публичной казни облаченным в церковное одеяние. Истинное святотатство! Издается специальная папская булла, в которой Лоренцо отлучается от церкви и характеризуется как «дитя порока, обреченное на вечные муки»; помимо того, следует интердикт, запрещающий служение мессы во всех церквах Флорентийской республики. Связавшись со своим союзником, королем Неаполитанским, и заключив с ним договор, папа заявляет, что Неаполь и Папская область идут на Флоренцию войной.
Ну а дома во Флоренции Лоренцо Великолепный ведет себя с характерным для себя размахом. Провал заговора Пацци, по его мнению, следует отметить на широкую ногу. В соответствующие инстанции, а именно в Совет восьми, объединяющий функции политической полиции и административного управления, Лоренцо передает свое желание запечатлеть триумфальную победу над заговорщиками в нетленном художественном образе. В соответствии с этим совет призывает любимого живописца Лоренцо Сандро Боттичелли и предлагает ему щедрый заказ: за 40 золотых флоринов расписать боковой фасад Палаццо делла Синьория большой фреской на тему недавних событий. Согласно давней флорентийской традиции обращения с опальными согражданами или предателями, эта фреска будет включать восемь во весь рост портретов главарей заговора из семейства Пацци (у тех, кого поймали, вокруг шеи будет перехлестнута петля, указывая на понесенное ими наказание), а также Бернардо Бандини, того самого, кто первым нанес удар кинжалом брату Лоренцо Джулиано, а затем скрылся: этот будет изображен подвешенным за ногу. Под каждым из этих портретов Боттичелли выведет уничижительную стихотворную подпись — текст напишет сам Лоренцо. В двустишье, относящемся к Бандини, злодей предстанет как
Беглец, кому судьбы не обмануть: В геенну огненную держит путь.
Боттичелли приближался к расцвету своих творческих сил, и эта работа потребовала от него большого напряжения. По традиции портреты должны быть выполнены в безусловно реалистическом духе, так чтобы все сразу узнали своих прежних сограждан. Точно так же их следовало изобразить в той же по цвету и фасону одежде, что они носили при жизни. Архиепископ Сальвиати должен был, естественно, предстать в пурпурной сутане. Работа отнимет у Боттичелли целых двенадцать недель и станет в своем роде шедевром.
Однако же не пройдет и семи месяцев, как изображение архиепископа Сальвиати будет смыто — по настоянию папы Сикста IV этот пункт был специально включен в договор о мире между Флоренцией и Папской областью. Еще через несколько месяцев будет переписан и портрет Бандини, которому удалось после провала заговора достичь побережья, где он сел на венецианскую галеру, направляющуюся в Константинополь. Лоренцо было особенно важно захватить убийцу своего любимого брата Джулиано, и турецкому султану была передана по дипломатическим каналам просьба выдать Бандини, что и было сделано. Того в кандалах переправили во Флоренцию, где он был повешен. Новый портрет Бандини считался делом немаловажным, но Боттичелли не мог заняться решением этой задачи; тогда ее поручили самому Леонардо. В тетрадях последнего был обнаружен набросок болтающегося на виселице Бандини — почти наверняка этюд к портрету.
Иных изменений в эту огромную фреску, уникальную в наследии обоих художников, вноситься не будет, и она останется для всеобщего обозрения на стене дворца на пьяцца делла Синьория равно как образец высокого искусства и предупреждение любому, кто замыслит бунт против Медичи. Она продержится на своем месте до тех самых пор, пока Флоренцией будет править это семейство.
ЧАСТЬ I.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДИНАСТИИ
1. ДРЕВНИЕ КОРНИ
Утверждают, что семейство Медичи восходит к рыцарю по имени Аверардо, служившему у Карла Великого во время завоевания Ломбардии в VIII веке. Согласно семейному преданию, пересекая Муджелло, заброшенную долину близ Флоренции, Аверардо услышал рассказ о некоем гиганте, терроризирующем всю округу. Он отправился на поиски того и бросил ему вызов. Они сошлись, и гигант размахнулся своей палицей. Аверардо уклонился, и удар пришелся в щит, оставив на нем глубокие вмятины от металлических шипов; в конце концов рыцарю удалось убить гиганта. Узнав о подвиге Аверардо, восхищенный Карл постановил, что отныне его храбрый рыцарь может считать поврежденный щит своим личным знаком доблести.
Говорят, что штандарты Медичи с их алыми горошинами на золотом поле восходят как раз к помятому щиту Аверардо. По другой версии, первые Медичи, на что указывает само имя, были аптекарями, а горошины — это просто таблетки. Правда, сами Медичи эту версию всегда отвергали, и эта позиция имеет историческое обоснование: в качестве лекарственного средства таблетки вошли в широкое употребление уже после того, как появились семейные знаки различия. Самый вероятный их источник — изображение монеты, какие вешали над входом в лавку средневековые менялы. Ведь именно обмен денег был первоначальным семейным делом Медичи.
Легендарный рыцарь Аверардо так и осел в Муджелло, плодородной долине у реки Сьеве, бегущей по горам в двадцати пяти милях к северо-востоку от Флоренции. И поныне это весьма живописное место, где разбиты виноградники, а по неровным берегам реки зеленеют оливковые рощи, над которыми нависают крутые холмы, а за ними горы. Этот район площадью менее двадцати квадратных миль обладает, наверное, исключительной генетикой: отсюда вышли не только многообразно одаренные Медичи, но также такие, столь несхожие меж собой гении, как Фра Анжелико, Галилей и Джотто. Что касается семейства Медичи, то оно происходит из деревни Кафаджоло, и члены его навсегда сохранят связи с этим уголком земли.
Незадолго до наступления XIII столетия Медичи оставляют Кафаджоло, чтобы попытать счастья во Флоренции. Местные крестьяне не были единственными, кто в ту пору искал удачи на стороне: по некоторым сведениям, за сто лет между серединой XII и серединой XIII столетия население Флоренции увеличилось в пять раз, достигнув пятидесяти тысяч жителей. Правда, средневековые способы подсчета населения, как известно, весьма причудливы, так что, коль скоро речь идет о цифрах, всегда остаются вопросы. Флоренция в этом смысле не исключение. Рождения регистрировались путем простого подсчета фасолевых горошин: при рождении ребенка родители должны были бросить в близлежащий ящик для переписи населения горошину — черную, если родился мальчик, белую — если девочка. Так или иначе, фактом остается то, что в этот период население Флоренции стремительно росло. По этому показателю она оставила позади Рим и Лондон, хотя уступала крупнейшим средневековым центрам — Парижу, Неаполю и Милану.
Медичи поселились в районе Сан-Лоренцо, сосредоточенном вокруг церкви того же названия, самая первая часть которой была заложена и освящена еще в IV веке. Таким образом, святому Лоренцо предстояло сделаться покровителем семейства, и этим именем будут названы некоторые из самых ярких его представителей. От Сан-Лоренцо всего ничего идти до Mercato Vecchio (Старый рынок) — центра торговой жизни города (теперь это центральная площадь — пьяцца делла Репубблика). Издалека, проделав многомильный путь, сюда сходились покупатели за одеждой, которой славился город, за тканями самой разнообразной расцветки, разложенными на прилавках, — пока продавец с покупателем торговались, шла примерка. Рано утром улицы, стекающиеся к этой большой площади, запруживались повозками, на которых фермеры везли свой товар; оглушительно визжали свиньи, блеяли овцы, мычали коровы. Перекрывая этот гвалт, продавцы зазывали покупателей к прилавкам, где торговали свежей, только что пойманной в Арно рыбой, мясом, туши, которого болтались на крюках, многообразными сортами сыра, вином в бочонках. Вдоль стены были живописно, аккуратными горками, разложены овощи и фрукты: весной — лук и увядшая зелень; летом — сладкий укроп и инжир, ягоды и апельсины; зимой — скудные кучки корнеплодов. Посреди городского и деревенского люда мелькали монахи нищенствующих орденов, вымаливающие подаяние у прохожих. Раздается звук трубы, и толпа валит к выходу на виа дель Корсо поглазеть на истекающего кровью, в лохмотьях и кандалах, преступника, которого ударами плети гонят по улице к Барджелло, где завтра утром состоится публичная казнь.
Первым из Медичи в архивных документах Флоренции, точнее — в судебных бумагах, упоминается некий Кьяриссимо. Запись относится к 1201 году. Как именно протекала в ту пору жизнь семейства, мы мало что знаем; единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это что Медичи стали менялами и постепенно богатели, так что к концу XIII века стали одним из самых процветающих кланов в городе. Но даже при этом они не принадлежали к числу ведущих семейств — обычно в этот круг входили либо именитые землевладельцы, либо купцы с широкой клиентурой. А в 1296 году Ардинго де Медичи стал первым представителем семейства, избранным на пост гонфалоньера.
Флоренция была независимой республикой с демократической — в принципе — формой правления. Власть представлял комитет из девяти членов (синьория) во главе с гонфалоньером, занимавшим свою должность в течение двух месяцев. Гонфалоньер, как и все члены синьории, избирался жребием из состава членов разных гильдий. Но постепенно выбор все более и более сужался, так что синьория представляла, как правило, наиболее влиятельную в тот или иной период семью (или семьи). В 1299 году гонфалоньером стал Гуччо де Медичи, второй представитель семейства. Наверное, он убедил своих благожелателей в том, что на эту семью можно полагаться, ибо в 1314 году Аверардо стал третьим Медичи-гонфалоньером.
Пусть в политическом влиянии и историческом величии Флоренция и уступала таким городам, как Париж и Милан, но вскоре она начала компенсировать это отставание стремительно растущим богатством. Обязан этим город был пришедшемуся на XIII век подъему новой отрасли — банковского дела, которое в большой степени стало итальянским открытием (английский термин происходит от итальянского banco, что исторически обозначало конторку, на которой торговцы заключают свои сделки). В это время, когда Генуя и Венеция контролировали импорт шелка и специй с Востока, Италия была самой мощной экономической силой в Европе. Марко Поло отмечает, что в последнее десятилетие XIII века генуэзские торговые суда заходят даже в Каспийское море, а, например, в 1291 году бесследно исчезли две галеры, прокладывавшие морской путь из Генуи на Восток вокруг Африки. Международная торговля крепнет, несмотря на то что сухопутные маршруты ощетинились всякого рода шлагбаумами, а на морских хозяйничают пираты. Семисотмильное путешествие из Флоренции, через Альпы, в Брюгге — торговый центр на севере, во Фландрии, занимало от двух до трех недель. Морской путь, через Пизу и Бискайский залив, был менее опасен, но времени на него уходило почти вдвое больше.
Помимо одежды, шерсти и зерна, в торговый оборот входила восточная роскошь, предназначенная главным образом для дворов влиятельных вельмож и королевских особ. Учреждение банков в крупнейших торговых центрах значительно способствовало развитию международной торговли, и по ходу дела купцы-банкиры сосредоточивали в этих центрах крупные активы, которые вскоре начали ссужать под проценты, хотя церковь и запрещала ростовщичество. Многие банки этот запрет обходили, ссылаясь на то, что всегда рискуют потерять большие суммы; потому любая дополнительная плата — это просто страховка от «риска», но вовсе не ростовщичество. Другие утверждали, что вообще знать ничего не знают ни о каких процентах — любое увеличение суммы при возврате долга объясняется исключительно колебаниями в обменном курсе. При всей искусственности этих оправданий, банковское дело вскоре стало общепринятой практикой.
В конце XIII века главным банковским центром была Сиена, небольшой город в горах, милях в сорока к югу от Флоренции. Но в 1298 году семейство Бонсиньори — главные сиенские банкиры — разорилось. Объясняется это главным образом тем, что они одалживали огромные суммы королевским дворам или дворам могущественных вельмож, этим главным заемщикам на мировом рынке, которым часто было просто невозможно отказать, а проблема состояла в том, что у банков не было решительно никакой возможности востребовать эти долги: люди такого ранга были сами себе законом, в чем сиенским банкирам пришлось убедиться на собственной шкуре. От этого удара Сиена так и не оправилась, и ее место в банковском деле сразу же заняла Флоренция. Во главе его стали три наиболее влиятельные в городе семьи: Барди, Перуцци и Аччайуоли. Вскоре они выдвинулись на первое место в Европе, при том что у банка Перуцци образовалась целая сеть филиалов (всего их было пятнадцать), от Кипра до Лондона.
Во времена раннего расцвета одним из символов Флоренции был лев, чье изображение время от времени появлялось на памятных медалях, вытесняя более привычную флорентийскую лилию. Этому льву предстояло стать чем-то большим, нежели просто необычным символом, ибо именно тогда город заполучил своих первых живых зверей, наверное, благодаря своим торговым связям с Левантом. Эти экзотические животные содержались в большой клетке на пьяцца Сан-Джованни, невдалеке от собора, и сразу стали источником постоянного восхищения и гордости жителей города; а их рыки, время от времени взрывающие тишину улиц, воспринимались суеверными людьми как некое предзнаменование. В какой-то момент — это было уже в XIV веке — львов переместили в другое место, по соседству с Палаццо делла Синьория, где клетка была установлена на улице, которую и поныне иногда называют виа дей Леони. И тем не менее при всей популярности этих животных, которые к тому же были всегда на виду у горожан, льва не выбрали в качестве украшения наиболее распространенной городской монеты, эта честь была отдана лилии.
Выдающееся положение Флоренции в банковском мире, надежность самих банкиров привели к тому, что городская валюта превратилась в международный институт. Еще в 1252 году Флоренция выпустила fiorino (Того — монету, содержащую 54 грана золота. Впоследствии она стала известна как флорин. Благодаря неизменному золотому содержанию (большая редкость для монет того времени), а также его использованию флорентийскими банкирами флорин на протяжении XIV века стал общеевропейской валютой. Для банкиров это было большое преимущество — иначе им приходилось иметь дело с колеблющимся обменным курсом большого количества монет.
Именно в ту эпоху закладывались основы современного капитализма, утверждались способы ведения дел, а банки вырабатывали свою тактику и методы. Была введена система бухгалтерского учета по двойной записи (впервые опробована в 1340 году); буквально из ничего возникли фидуциарные деньги (то есть кредиты, основанные на чистом доверии и не обеспеченные никакими активами); быстрое развитие получила оплата в форме банковских переводов и векселей. И все же, несмотря на весь этот прогресс, флорентийские банкиры вскоре повторили ошибку своих коллег из Сиены, открыв кредит королям Неаполя и Англии — Роберту и Эдуарду III. В 1340 году Европа переживала экономическую депрессию, и венценосцы, которым нечем было оплачивать свои долги, просто отказались от них. Эдуард III уже приступал к войне с Францией, которая войдет в историю под названием Столетней, и считалось, что он задолжал банку Перуцци «стоимость целого королевства». В результате один за другим рухнули три крупнейших флорентийских банка. Впрочем, еще и до этой катастрофы Флорентийская республика пережила в начале XIV века смутные времена, когда политическая власть часто переходила из одних рук в другие, причем насильственным образом. Общество было разделено на две главные партии — гвельфов и гибеллинов, естественно, внутри каждой имелись свои фракции. Гибеллины опирались в основном на аристократию, гвельфы — на преуспевающих негоциантов и popolo minuto, то есть «малый народ», иными словами — на простолюдинов или трудящихся. (Помимо уничижительного, в определении popolo minuto содержался и реальный смысл: дело в том, что беднейшие слои населения сидели на чрезвычайно скудном рационе, что замедляло физическое развитие людей, так что popolo minuto и впрямь был даже не столько малым, сколько буквально маленьким народом.)
Несмотря на подобного рода политическую нестабильность, начало XIV века во Флоренции стало золотым веком культуры, породившим на протяжении каких-то пятидесяти лет троих крупнейших итальянских писателей — Данте, Боккаччо и Петрарку. Порывая с клерикальной традицией, они писали не на латыни, а на тосканском наречии, это не только превратило его в общепринятый литературный итальянский язык, но и привнесло в литературу светский гуманистический элемент, выведя ее за пределы языка церкви. Светский гуманизм отразился также в профессиональных занятиях этих авторов. Петрарка, например, станет известен как первооткрыватель античных рукописей, забытых и рассеянных по монастырям Европы. Боккаччо, со своей стороны, обретет мировую славу создателя «Декамерона», цикла порой непристойных, а чаще юмористических новелл, изображающих жизнь своего времени как она есть, а не как власть (особенно церковная) полагала ее должной быть. Два выдающихся живописца того времени, Джотто и Пизано, также жили во Флоренции и также выказывали склонность к гуманистическому восприятию действительности: их полотна порывали со средневековыми канонами в пользу более современной, реалистической стилистики, отмеченной явным присутствием чувственного элемента. Эти знаменитости приблизили Флоренцию к рубежам Ренессанса; но прежде чем стать на путь дальнейшего развития, Европе было суждено пережить крупнейшую катастрофу в своей истории.
За экономическим упадком начала сороковых годов XIV века последовало нашествие Черной Смерти. Она пришла в Европу из Китая на генуэзских судах, возвращавшихся в 1347 году с Черного моря. В хрониках того времени, подтвержденных позднейшими исследованиями, отмечается, что в последующие четыре года чума унесла около трети населения Европы. Из-за ужасной антисанитарии и полного неведения относительно того, как болезнь распространяется, особенно тяжелая ситуация складывалась в городах, где, например, семьи, куда, по подозрениям, проникла зараза, попросту замуровывались в своих домах, будучи обреченными на смерть. Те, кто мог себе это позволить, бежали из Флоренции в близлежащую сельскую Тоскану; оставшиеся значительно больше, чем наполовину, вымерли. Неудивительно поэтому, что первые проблески нарождавшегося гуманизма быстро уступили место болезненным суевериям; и все же относительная социальная статика Средневековья была поколеблена, и фундаментальные перемены стали неизбежностью.
Семейство Медичи к этому времени значительно укрупнилось и включало в себя двадцать—тридцать главных ячеек. Это была уже даже не одна единая семья, а скорее семейный клан со своими внутренними раздорами, но однако же связанный круговой порукой. Пожалуй, можно сказать, что Медичи заполнили вакуум, образовавшийся в результате краха трех крупнейших банкирских семейств Флоренции, — многие из Медичи сами занялись банковским делом, открыв собственное небольшое дело. Братья либо кузены становились партнерами, выпускали акции, нередко занимались повседневной банковской рутиной, включавшей в себя такие операции, как обмен валют, учет мелких вкладов, сезонные кредиты торговцам шерстью и так далее. По меньшей мере два из таких предприятий оказались достаточно прочными или, скажем, удачливыми, чтобы пережить экономические бедствия, связанные с Черной Смертью, и таким образом укрепить основу власти Медичи. Теперь они не просто время от времени выделяли из своей среды гонфалоньера. Джованни де Медичи (прямой потомок Кьяриссиммо — первого Медичи, фигурирующего в хрониках) отошел от семейной традиции занятий гражданскими делами и стал военачальником. Обуреваемый страстью продемонстрировать свою доблесть, он в 1343 году втянул флорентийцев в войну против маленького города-государства Лукка, расположенного милях в сорока к западу. Джованни попытался взять Лукку штурмом и, потерпев неудачу, приступил к осаде города. Но и тут его ждало фиаско, и по возвращении во Флоренцию Джованни был казнен. После этого Медичи вернулись к гражданским делам; правда, и тут их, случалось, подстерегали не меньшие угрозы.
В 1378 году гонфалоньером был избран Сальвестро де Медичи, кузен Джованни; за те два месяца, что он правил городом, вспыхнули волнения среди шерстянщиков, известных по стуку деревянных башмаков по булыжной мостовой под названием «чомпи» (ciompi). Формально движение чомпи возглавлял Микеле ди Ландо, призывавший своих собратьев — шерстянщиков и ремесленников отстаивать право на формирование собственной гильдии, что, в свою очередь, означало право голоса и хотя бы теоретическую возможность войти в состав синьории. Будучи гонфалоньером, Сальвестро тем не менее сочувствовал недовольным, хотя, судя по всему, находил, что и делу Медичи движение может принести пользу. Дабы усилить волнения и запугать фракцию аристократов, стоящих на пути Медичи, Сальвестро тайно открыл тюрьмы. Так то, что начиналось как протест, быстро превратилось в бунт, и Сальвестро вместе с другими восемью членами синьории вынужден был укрыться в Палаццо делла Синьория, меж тем как толпа буйствовала на улицах, грабила дворцы знати и купцов, поджигала дома и избивала членов разных гильдий. В характерной для себя назидательной манере Макиавелли впоследствии так напишет об этих событиях в своей «Истории Флоренции»: «Никому не следует подстегивать бунт в городе в надежде, что он сумеет остановить его, когда заблагорассудится, или что он держит ход событий в своих руках».
Дом Сальвестро пощадили, якобы из-за его сочувствия борцам за права, хотя именно это, в свою очередь, заставило кое-кого заподозрить, что он-то и стоит за бунтом. Впрочем, даже при всем лукавстве флорентийских политических нравов, это представляется маловероятным, особенно в свете того, что произошло далее. А именно: непосредственным результатом волнений стало то, что толпа объединилась в общину, Сальвестро был смещен со своего поста гонфалоньера, и на его место был поставлен предводитель восставших Микеле ди Ландо. Несмотря на атмосферу постоянной политической нестабильности, такое положение дел сохранялось в течение двух лет, хотя со временем Микеле ди Ландо начал чувствовать себя все более неуверенно и тайно советовался с Сальвестро относительно дальнейших действий. Чомпи и их союзники об этом прознали и, опасаясь подковерных интриг, ведущих к реставрации старой власти, вышли на улицу, грозя разрушить город, лишь бы не допустить этого. Охваченный паникой, Микеле ди Ландо бросился к Сальвестро Медичи, который предложил объединить усилия и вызвать городское ополчение. Их призыв нашел отклик, толпа сдалась без боя, рассеялась, люди разошлись по домам; бунт закончился.
Но он по-настоящему напугал членов гильдий и владельцев магазинов, как, впрочем, и знать вместе с купцами. Новые гильдии, сформированные чомпи, были распущены, и знать взяла твердую власть в городе. В принципе Сальвестро Медичи и Микеле ди Ландо должны были быть казнены, но в данном случае их всего лишь изгнали из города, имея в виду роль, сыгранную ими в подавлении бунта. Высылка Сальвестро серьезно подорвала претензии Медичи на ведущую роль во флорентийской политике, а также нанесла тяжелый удар по семейному бизнесу, ведь вести дела, будучи в изгнании, совсем не просто.
Со смертью Сальвестро, последовавшей в 1388 году, банковское дело Медичи перешло в руки его кузена Вьери. Политика нового главу дома Медичи не интересовала, все свои силы он отдавал бизнесу, открывая обменные конторы в Риме и Венеции и занимаясь экспортно-импортными операциями через речной порт Пизы. Вьери стал первым из Медичи, чьи деловые успехи вышли за пределы города, и, по словам Макиавелли, «все, кто писал о событиях этого времени, сходятся на том, что если бы у Вьери было больше тщеславия и меньше благородства, ничто не могло помешать ему сделаться князем города». Поскольку слова эти прозвучали сто тридцать лет спустя после описываемых событий, суждениям Макиавелли доверять в полной мере не стоит; так, в данном случае, в стремлении возвысить Медичи, он скорее всего впадает в преувеличение. Однако же следует признать, что политическая честность клана Медичи, верность его членов законному правительству Флоренции явно подвергалась в эти годы серьезному испытанию, каковы бы ни были последующие масштабы их политического влияния. Ровно через десять лет после восстания чомпи в городе вспыхнул новый бунт, на сей раз поднятый popolo magro, в буквальном переводе «истощенным народом», — в отличие от бесправных ремесленников, принадлежащих к popolo minuto, это были полуголодные неквалифицированные люди городского дна. Но когда толпа выплеснулась на улицу, те же самые ремесленники присоединились к ней, громогласно заявляя о своем бесправии. Люди не забыли о сочувствии со стороны Медичи и обратились в престарелому Вьери возглавить их; Вьери вежливо отклонил это опасное предложение. По словам Макиавелли, старик призвал разочарованных просителей «сохранять бодрость, ибо он готов стать на их защиту, пусть только следуют его советам». После чего повел людей в синьорию, где обратился к членам совета с весьма дипломатичной речью. «Он заявил, что не имеет никакого отношения к безответственному поведению толпы, более того, уж коль скоро люди обратились именно к нему, он повел их прямо сюда, пусть предстанут перед силами закона и порядка». Поразительным образом этим выступлением оказались удовлетворены обе стороны: бунтовщики разошлись по домам, а члены синьории поверили Вьери на слово, отпустили его с миром, и не последовало никаких санкций. Тем не менее, несмотря на столь умелое разрешение проблемы, нервное напряжение оказалось для него чрезмерным, и вскоре, под самый конец года, он скончался. С уходом Вьери старшая ветвь семьи Медичи пресеклась.
2. ИСТОКИ БАНКА МЕДИЧИ
Состояние семьи перешло теперь в руки Джованни ди Биччи де Медичи, главе кафаджолийской ветви, названной так потому, что она владела собственностью в родной деревне Медичи, в Муджелло. Четвертый сын Аверардо детто Бичи, владельца небольшого поместья в Кафаджоло, Джованни родился в 1360 году. Аверардо был небогат, но хорошее социальное положение позволило ему породниться с аристократическим семейством Спини, хотя по смерти, последовавшей в 1363 году, наследство его было поделено между женой и пятью сыновьями, что не обеспечило преуспеяния никому.
Во время восстания чомпи Джованни было восемнадцать, и он почти наверняка находился во Флоренции на протяжении всех двух лет существования коммуны, пользовавшейся тайной поддержкой его отдаленного родича Сальвестро де Медичи. Возможно, именно по этой причине Джованни на всю жизнь сохранил тайную симпатию к popolo minuto, хотя политический климат последующих лет вряд ли способствовал ее укреплению. После распада коммуны старые семьи быстро восстановили свое влияние: мощные семейные кланы Альбицци, Каппони и Уццано установили под руководством Мазо дельи Альбицци режим олигархии, и он продержался ближайшие тридцать лет. При всех периодически вспыхивающих бунтах, вроде того что помог смирить в 1393 году Вьери де Медичи, для Флоренции это было время относительной стабильности и преуспеяния; олигархи правили рукой твердой, но нельзя сказать, чтобы при этом были так уж непопулярны.
Влиятельные олигархические семейства состояли в жесткой оппозиции Медичи и их сторонникам, что вполне может объясняться нежеланием Вьери ввязываться в политику, а также его врожденной застенчивостью. Эта черта передалась его отдаленному родичу Джованни ди Биччи. Впрочем, трудно сказать, была ли эта политическая скромность двух ранних представителей семейства действительно врожденной или всего лишь демонстративной, представляла собой дань клановой верности или даже клановой политике. В конце XIV века смирение все еще прочно коренилось в унаследованных от Средневековья нравах: люди были склонны считать себя скорее членами некоей семьи, нежели индивидуальными личностями. В соответствии с таким мировосприятием эти ранние Медичи, естественно, приносили собственные политические амбиции в жертву долговременным амбициям семьи как целого, соглашаясь с тем, что политическая власть будет обретена ею в более благоприятные времена; ну а пока, в порядке подготовки, лучше всего — закладывать основы, все более умножать богатства. Правда, в свете дальнейшей истории может показаться, что подобного рода предусмотрительность питалась сильным духом политического тщеславия. Вынашивали ли Медичи далеко идущие политические планы с самого начала, или планом было обогащение само по себе? Сейчас это трудно сказать.
Принадлежность к семье Медичи, безусловно, способствовала карьере Джованни ди Биччи, ибо вскоре после восстания чомпи новый глава дома, его дядя Вьери де Медичи, отправил племянника в Рим, где ему предстояло пройти обучение в местном отделении банка Вьери. Семейные связи всегда играли роль в бизнесе, а в банковском деле, где столь важен фактор личного доверия, — особенно. Но и независимо от этого Джованни явно имел склонность к финансовой деятельности, ибо уже через несколько лет стал младшим партнером, а еще три года спустя возглавил римское отделение. В том же 1385 году он женился на Пиккарде Буэри, что принесло ему солидное приданое — 1500 флоринов; их он почти наверняка вложил в собственные деловые проекты.
С какой стороны ни посмотри, дела Вьери в восьмидесятые годы XIV века шли в гору, в немалой степени благодаря работе римского отделения во главе с Джованни ди Биччи, которое приносило внушительную прибыль. Но в то время Вьери уже приближался к семидесяти годам — почтенный возраст по средневековым меркам — и в начале девяностых оставил дела. Это дало Джованни ди Биччи возможность превратить римский филиал банка в независимое учреждение, и в соответствии с нормами того времени он наследовал и активы, и финансовые обязательства римской конторы Вьери. Как свидетельствуют государственные архивы Флоренции, Джованни потерял на этой операции 860 флоринов, из чего можно сделать вывод, что либо банк Вьери переживал в последнее время спад деловой активности, либо, перед тем как передать дело своему управляющему, он позволил себе какие-то сомнительные бухгалтерские игры. Сейчас, шесть столетий спустя, никаких ясных свидетельств на этот счет не сохранилось, да, может, они в ту пору и не существовали.
1 октября 1397 года Джованни открыл во Флоренции головную контору, и этим днем обычно и датируется основание великого банка Медичи. Естественно, Рим и римская курия (папский двор) со всем ее персоналом представляли собой серьезный источник доходов, но именно Флоренция была банковской столицей Европы, обеспечивая наилучшие условия для инвестиций. Подробности основания банка Медичи и его первых операций содержатся в «libro segreto» (буквально «тайная книга»), хранящейся во флорентийском государственном архиве. Вообще-то «тайная книга» — это всего лишь внутренняя банковская бухгалтерия, но само название набрасывает на банки в пору их становления некий романтический флер.
Первоначальный капитал банка Медичи составлял сто тысяч флоринов, из которых пять с половиной — контрольный пакет — были внесены Джованни ди Биччи, остальное — двумя партнерами, которые непосредственно семье Медичи не принадлежали (хотя обычно такого рода партнеры были связаны с ней через браки). В первый год деятельности доход банка составил десять процентов, и такая прибыль обычно изымалась из оборота, чтобы дать партнерам возможность вложить деньги в какое-либо дело. Джованни, кажется, купил участок земли неподалеку от своей родной деревни Кафаджоло, разумно выведя часть своих капиталов за пределы финансовой сферы, столь подверженной разного рода колебаниям.
Помимо лидерства в банковском деле, Флоренция была также крупным центром обработки шерсти, поддерживая торговые связи с такими отдаленными странами, как Фландрия и Англия. Крепкие купеческие семьи часто занимались и тем и другим; так, в 1402 году банк Медичи вложил 3000 флоринов в финансирование суконной мануфактуры. В конце того же года, как явствует из бухгалтерских записей, банк Медичи, дабы использовать преимущества венецианской торговли с Востоком, открыл в Венеции свое отделение во главе с Нери Торнаквинчи (по сути дела, Венеция монополизировала это направление торговли, хотя и чужакам удалось нажиться на разного рода побочных сделках). К этому времени римское отделение значительно расширилось за счет филиалов в Неаполе и порте Гаета, в восьмидесяти милях к юго-востоку от Рима. Тем не менее, если не считать финансирования еще одной шерстяной мануфактуры в 1408 году, банк Медичи на протяжении первых двадцати лет своего существования больше ни во что не вкладывался: Джованни ди Биччи был человеком осмотрительным и предпочитал для начала крепко стать на ноги. Это свойство он унаследовал от своего дальнего родственника и предшественника — прежнего главы клана Медичи, Вьери, и далее передал его сыну; Медичи-банкиры сделали свое состояние благодаря осторожности и умелому ведению дел, а не разного рода новшествам. Вопреки фольклору банковского мира вовсе не они придумали тратту (переводной вексель), хотя, возможно, и сыграли некоторую роль в учреждении холдингов; их успех почти исключительно основывался на использовании методов, уже апробированных другими. Банк Медичи никогда не двигался рывками и, даже достигнув пика, не мог сравниться по объемам своих операций ни с одним из трех крупнейших флорентийских банков предыдущего столетия, тех самых, что принадлежали семьям Барди, Перуции и Аччайуоли. Медичи никогда не заглатывали кусок, который не могли переварить. По мере роста банковских прибылей Джованни ди Биччи демонстрировал все новые свидетельства своего глубинного консерватизма, продолжая скупать земельные участки в долине Муджелло и на холмах Тосканы, окружавших Флоренцию; а затем, когда стал еще богаче, обратил свои взоры на недвижимость в самом городе. Джованни не только основал банк Медичи и выработал основные принципы ведения банковского дела, но и заложил прочную основу семейного богатства, которому предстояло сделаться трамплином к достижению политической власти.
Вскоре глава банка Медичи сделался во Флоренции видной фигурой. Еще в 1401 году Джованни ди Биччи вошел в комитет наиболее уважаемых граждан города, которые должны были назвать победителя конкурса на лучший проект новых бронзовых дверей для баптистерия. Это был первый случай, когда кто-то из Медичи оказался в кругу покровителей искусств, хотя на этот раз истинным меценатом был сам город. Какую именно роль Джованни ди Биччи сыграл в выборе победителя, неизвестно. Конкурс выиграл Лоренцо Гиберти. Молодой флорентийский скульптор сделал первый шаг к тому, чтобы стать одним из основателей искусства Ренессанса, точно так же, как Джованни ди Биччи положил начало традиции поддержки изящных искусств, в развитии которых Медичи сыграли столь выдающуюся роль. Положим, в ту пору двадцатитрехлетний Гиберти был всего лишь одаренным скульптором, а сорокадвухлетний банкир думал просто о том, как бы заработать больше денег. Но не будет преувеличением сказать, что именно этот конкурс вывел Гиберти на дорогу к величию, а Джованни ди Биччи, вполне вероятно, открыл глаза на то, что в мире есть вещи и поважнее умножения богатств.
С такого расстояния во времени и при отсутствии сколько-нибудь полных свидетельств трудно говорить о человеческих достоинствах Джованни ди Биччи. В смысле физического сходства наиболее полно, по-видимому, передает его черты хранящийся в музее Медичи во Флоренции портрет работы Бронзино — подробно выписанное и глубокое изображение, позволяющее строить различные догадки о характере Джованни. Беда, однако, заключается в том, что Бронзино родился более чем через семьдесят лет после смерти своего героя, и это заставляет задаться вопросом о близости художественного образа оригиналу — и в физическом, и, еще более, в психологическом смысле. О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что, написанный в пору высшего взлета Медичи, портрет этот не отмечен льстивостью. Есть в нем и нечто большее, нежели просто отдаленное сходство с другими изображениями, ну а черты в совокупности своей поразительно напоминают его сына Козимо. Это позволяет предположить некоторую достоверность неподтвержденной версии, будто работа Бронзино скопирована с какого-то другого, более раннего портрета, для которого Джованни вполне мог позировать. Бронзино изображает проницательного, быть может, даже мудрого человека, в чертах которого сохраняются элементы крестьянской простоты и хитрости. Слегка вскинутый подбородок свидетельствует о некотором чувстве собственного достоинства, в глазах застыл прямой немигающий взгляд, красиво очерченный лоб выдает человека, которого никогда не отпускают тревожные мысли, крупные, хотя и тонкие губы указывают на подавляемую чувственность аскета, привыкшего все взвешивать и рассчитывать. Иными словами, перед нами как раз тот самый человек, которого, на основании имеющихся у нас скудных сведений о его жизни, мы и ожидали увидеть: даже если этот портрет «неправдив», то по крайней мере правдоподобен.
В 1402 году Джованни ди Биччи стал приором флорентийской Arte del Cambio (гильдии банкиров и менял) и был избран в состав правящей синьории. Звучит торжественно, хотя в действительности флорентийский банк выглядел весьма скромно — если не считать доходов, разумеется. В это время банки обычно занимали одну довольно большую комнату, разделенную надвое banco, или конторкой (откуда и происходит название), за которой сидели клерки, а также бухгалтер со своими счетами. В большинстве банков работало меньше полудюжины служащих, хотя, согласно «libro segreto» банка Медичи, тут их в 1402 году было семнадцать — пятеро в головной конторе во Флоренции, остальные — в Риме, Венеции, Неаполе и Таете. Банковские клерки зарабатывали примерно 50 флоринов в год, на что можно было прожить, пусть и довольно скромно — для сравнения достаточно указать, что на годовой доход в 200 флоринов люди содержали большую семью, жили в просторных домах и имели двух слуг, лошадь и осла. Служащие банка Медичи, как и других флорентийских банков, не всегда были обязаны своим местом собственным достоинствам — часто играли роль внутрисемейные связи либо знакомство с влиятельными персонами за пределами семьи. Для укрепления доверия руководители местных отделений обычно делались в них младшими партнерами, хотя это и не всегда гарантировало успех, о чем свидетельствует, например, опыт венецианского филиала банка Медичи, который возглавлял Нери Торнаквинчи. В партнерском соглашении было ясно оговорено, что он не имеет права вести дела с немцами, чьи методы считались в Италии устаревшими, да и сомнительными. Но Нери было явно сделано весьма соблазнительное предложение, он решил рискнуть и предоставил заем неким немецким торговцам, после чего те, не расплатившись, вернулись домой через перевал Бреннеров в Альпах. В счетах у Нери образовалось большое несоответствие между дебетом и кредитом, при этом о немецкой авантюре, разумеется, не говорилось ни слова. Панически опасаясь, что во Флоренции обнаружат недостачу, Нери занял значительную сумму, которая более чем покрыла долг, так что отчет, посланный в головную контору, показал внушительную прибыль. К несчастью, деньги были заняты под бешеные проценты, и при всех отчаянных усилиях Нери не удалось извлечь из текущих банковских операций достаточно прибыли, чтобы оплатить их и одновременно свести баланс. Судя по документам, 25 апреля 1406 года Нери Торнаквинчи был вызван во Флоренцию, где Джованни ди Биччи не только уволил его, но и подал в суд за растрату. Нери был вынужден распродать все свое имущество, включая дом, но и этого не хватило, чтобы покрыть долг, и он храбро двинулся на север, через Альпы, в поисках сбежавших немцев. Вроде бы в конце концов он нашел их в Кракове и даже сумел вернуть часть денег, но, оказавшись так далеко от дома, решил не возвращать их Джованни, а начать на этой основе новое дело. Эта история ярко иллюстрирует банковскую практику начала XV века: как обычно в коммерции, риск и доверие идут рука об руку, даже если во главе дела стоит такой рачительный хозяин, как Джованни ди Биччи.
Да и сам Джованни, при всей своей осторожности, порой совершал удивительные просчеты. Четкий запрет на ведение дел с немцами, оговоренный специальным пунктом во всех банковских контрактах, заставляет заподозрить, что Джованни и сам обжегся на коммерческих сделках с тевтонцами. Да даже и самые прочные из его деловых связей никак не назовешь вполне надежными. Взять хотя бы историю с Бальдассаре Коссой, с которым Джованни сблизился на римском отрезке своей карьеры. Бальдассаре происходил из обедневшей неаполитанской аристократической семьи и молодым человеком сбежал на море, где сколотил состояние пиратским промыслом. Сойдя на берег, он потратил деньги на получение диплома юриста в Болонском университете, затем купил себе какую-то должность в церкви, с чего и началось его преуспеяние. В 1401 году он решил приобрести кардинальскую мантию и попросил у Джованни ди Биччи в долг 10 000 дукатов (примерно 12 000 флорентийских флоринов). Джованни пошел на это, что кажется особенно странным, если принять во внимание, что за человек был Бальдассаре Косса. По словам одного современника, за девять лет своей службы в качестве кардинальского легата в Болонье, он показал, что нравственность его лежит на «нулевом, или даже ниже нулевого, уровне», кардинальская резиденция, где постоянно находились «две сотни служанок, жены и вдовы, не говоря уже о монахинях», быстро сделалась при нем притчей во языцех.
Так почему же такой осмотрительный человек, как Джованни, связался с распутником и неразборчивым в средствах Бальдассаре? И даже «одолжил» ему такую крупную сумму? Ответ лежит на поверхности: Джованни поставил на Бальдассаре Коссу, потому что знал, что тот метит в папы, а он достаточно долго проработал в Риме, чтобы понять, что стать папским банкиром — значит выиграть самый крупный приз в жизни. Если банк Медичи поведет финансовые дела курии, он превратится в один из крупнейших финансовых институтов Европы. Восемь долгих лет Джованни ди Биччи дружил с Бальдассаре Коссой и действовал в качестве его банкира, регулярно переписывался с ним и делал все возможное, чтобы уберечь его от расточительства, опустошавшего сейфы банка Медичи. В 1410 году все это окупилось: Бальдассаре Косса был избран понтификом, стал папой Иоанном XXIII, а банку Медичи было доверено вести финансовые дела римской курии.
К началу XV века банковское дело стало мощным орудием в руках папского служащего. В отличие от большинства других влиятельных европейцев того времени он черпал свое благосостояние за рубежом, в основном в форме денежных переводов из бесчисленного количества епархий, разбросанных по всему континенту. Эти епархии простирались до самых пределов западного мира, включая Исландию и даже Гренландию (чей епископ расплачивался тюленьими шкурами и китовым усом, которые в Брюгге конвертировались в наличные). Другим источником прибыли служила торговля святыми реликвиями, которые часто приносили огромные доходы, ибо обладали силой могучего механизма, трансформирующего всю экономику того или другого региона, превращая его в центр паломничества. А еще более доходной была торговля индульгенциями — папским отпущением грехов, при этом цена зависела от тяжести провинности. Наконец, постоянным источником доходов была торговля должностями в церковных учреждениях, от служки до кардинала.
Суммы, фигурирующие в этом общеевропейском коммерческом предприятии, поражают воображение, соотносительно они гораздо выше, нежели оборот той или иной современной мультинациональной компании; банк, оперирующий такими суммами, естественно, получал свои комиссионные, что приносило огромный годовой доход. Любому банку, претендующему на ведение папских дел, следовало пройти тщательную профессиональную экспертизу, ведь ему предстояло иметь дело с деньгами, стекающимися со всех концов Европы; к тому же он должен был быть совершенно надежным: ведь отчет предстояло держать лично перед папой, и только перед ним одним. К тому времени, когда Бальдассаре сделался папой Иоанном XXIII, Джованни ди Биччи уже немало постарался, чтобы убедить его в своей полной компетентности, полной надежности и, главное, полной личной преданности.
Помимо управления всеми этими огромными суммами, римское отделение банка Медичи привлекало клиентуру в лице кардиналов, прелатов и многочисленных советников, которые почитали своей святой обязанностью вращаться при папском дворе. Удивительно, однако, что, судя по архивам банка Медичи, его римское отделение в большей степени одалживало деньги, нежели получало их. Надо полагать, иерархи церкви получали крупное вознаграждение, но, кажется, расходы были еще значительнее. Из этих же самых архивов следует, что остатки банковских счетов многих кардиналов часто превышались, и на значительные суммы. Но даже несмотря на эти займы, правление римского филиала перечисляло не менее тридцати процентов своих активов на счета Джованни ди Биччи и его партнеров. Фактически этот филиал обеспечивал более половины всех доходов банка. Согласно сведениям, содержащимся в «libro segreto» за 1397—1420 годы, из общего дохода 151 820 флоринов Рим принес 79 195. Это значительно превосходило итоги объединенных усилий Флоренции, Венеции, Неаполя, Гаеты, многочисленных коммивояжеров, а также двух суконных мануфактур. В сравнении с современными финансовыми показателями такие цифры могут показаться ничтожными, но за ними стоят почти 1900 флоринов ежегодного личного дохода Джованни ди Биччи — во времена, когда дворянин, ни в чем себе не отказывая, мог прожить на 200 флоринов в год, а квалифицированный ремесленник содержал семью менее чем на 100.
Финансовое будущее Джованни ди Биччи, как и всего банка Медичи, казалось безоблачным. Но внешность часто бывает обманчивой, и папский престол здесь отнюдь не исключение. Это была эпоха Великой схизмы, и в какой-то момент на него претендовали не менее трех конкурентов: Иоанн XXIII, Григорий XII и Бенедикт XIII. К счастью, большинство отцов церкви все же склонялись в пользу одного из них — Иоанна, но, к несчастью, это просвещенное мнение почти не волновало короля неаполитанского Владислава, чьим фаворитом был Григорий. Король Владислав затеял военную кампанию против соседней Папской области, и Иоанну XXIII пришлось в конце концов подписать унизительный мирный договор, включающий обязательство уплатить Владиславу сумму, эквивалентную 95 000 флоринов. У самого Иоанна таких денег не было, и ему пришлось обратиться за займом к папским банкирам. После мучительных раздумий Джованни ди Биччи решил, что риск, пожалуй, оправдан, хотя бы потому, что средства вкладываются туда, куда нужно. Уже один тот факт, что он прикидывал саму возможность одолжить подобную сумму — а она почти на двадцать процентов превышала все доходы римского филиала более чем за двадцать лет, — дает представление об уровне благосостояния, которого достиг практичный Джованни, хотя не исключено, что по крайней мере часть этой суммы тоже составилась из займов. Банк Медичи включился в крупную финансовую игру с ее рисками и выигрышами. Джованни дал Иоанну XXIII просимую сумму, но озаботился получением некоторых гарантий. Они были предоставлены в виде старинной, инкрустированной драгоценными камнями митры и разнообразных изделий из золота, извлеченных из папской сокровищницы.
Но все еще оставалась нерешенной проблема двух соперников Иоанна — Григория XII и Бенедикта XIII. Император Сигизмунд, могущественный глава Священной Римской империи, чья власть простиралась на все германоговорящие земли, от Австрии до Северного моря, решил, что с Великой схизмой надо покончить раз и навсегда, и в 1414 году созвал в Констанце собор, куда были призваны все три претендента, дабы каждый выложил свои козыри перед императором лично. В заботе о сохранности своих вложений, Джованни ди Биччи велел своему старшему сыну Козимо сопровождать Иоанна XXIII в его путешествии через Альпы в немецкий приозерный город Констанц, бывший в то время столицей империи. Козимо исполнилось тогда двадцать пять лет, и он уже выказывал явные способности банкира; нам еще предстоит убедиться, что путешествие в Констанц в качестве представителя банка Медичи было чрезвычайно ответственным заданием и свидетельствовало о полном доверии Джованни своему сыну.
Согласно сведениям, содержащимся в «libro segreto», у банка Медичи было в это время два римских отделения — римский филиал как таковой и отделение банка при папском дворе. Целый ряд историков трактуют указание на географию буквально, находя, что потребность в двух филиалах свидетельствует исключительно об объеме деловых операций банка Медичи в Вечном городе. На самом деле только одно из них находилось в Риме; другое сопровождало папский двор (отсюда и название) в путешествии в Констанц для обслуживания его непосредственных финансовых потребностей. Тем временем первоначальное отделение оставалось в Риме, занимаясь главным делом — папскими поступлениями из-за рубежа.
Собор в Констанце станет крупнейшим общественным и политическим событием начала XV столетия, куда съедутся виднейшие деятели Европы. Здесь подающему большие надежды Козимо де Медичи представится возможность увидеть представителей всех ведущих международных банков и финансовых кланов — например, стремительно возвышающихся Фуггеров из Аугсбурга или купцов из таких далеких одна от другой стран, как Польша и Испания. Личные связи, возникшие в те дни в Констанце, скрепят далеко простирающиеся деловые взаимоотношения на долгие десятилетия вперед; там Козимо сумел познакомиться с иными капитанами коммерции, сами имена которых станут гарантией надежности векселей, кредитов авизо и иных банковских документов, образующих кровеносную систему возникающего в Западной Европе капиталистического мира. Тем не менее главной целью встречи в Констанце, о чем было объявлено на весь мир, оставалось ни больше ни меньше как определение — раз и навсегда — духовной роли христианского мира. Помимо разрешения Великой схизмы, Сигизмунд намеревался выжечь каленым железом иные доктринальные различия, возникшие внутри Священной Римской империи. С этой целью в Констанц, под личные императорские гарантии неприкосновенности был вызван богемский еретик Ян Гус, которому предстояло защитить свои раскольнические воззрения, включающие несогласие с папскими индульгенциями. В результате судебного разбирательства учение Гуса было признано неприемлемой ересью по не менее чем тридцати пунктам обвинения, и Сигизмунд повелел сжечь вольнодумца на костре, несмотря на данные им прежде личные гарантии. Затем собор обратился к рассмотрению аргументов, представленных тремя конкурентами: Иоанном XXIII, прибывшим из Рима, Бенедиктом XII, проделавшим путь из своей резиденции в Авиньоне, и Григорием XIII, чей бродячий двор странствовал по Северной Италии. Когда очередь дошла до Иоанна XXIII, ему пришлось с разочарованием убедиться, что предметом расследования стал его образ жизни при папском дворе, включая поведение его как папы лично. Помимо трафаретного упрека в ереси (каковой вполне мог стать весьма серьезным, как в случае Яна Гуса), он столкнулся с обвинением в убийстве своего предшественника папы Александра V и еще не менее чем с семьюдесятью другими обвинениями, хотя в конце концов шестнадцать из «самых неописуемых проступков были опущены, из уважения не к папе, но к общественным приличиям». О том, что это не эвфемизм, свидетельствует историк XVIII века Эдвард Гиббон: «Самые скандальные обвинения не были оглашены; наместника Христова обвиняли всего лишь в пиратском разбое, убийствах, изнасилованиях, содомии и кровосмешении». Дабы не выслушивать и далее перечень своих склонностей и деяний, папа Иоанн XXIII пообещал отказаться от престола — при условии, что и соперники последуют этому примеру. Затем он бежал из города, переодевшись лучником. Это не значит, что Иоанн XXIII потерял хладнокровие, напротив, с его стороны это был рассчитанный поступок: таким образом он хотел лишить собор полномочий, ибо в соответствии с церковной доктриной Вселенскому собору необходимо присутствие папы. Но Сигизмунду было не до подобных тонкостей, он распорядился продолжать заседания собора, а одновременно отправил солдат на поимку Иоанна XXIII, который был взят в плен и помещен в Гейдельбергский замок[1].
Так Козимо остался в Констанце предоставленным самому себе. Он быстро осознал опасность своего положения и принялся готовиться к отъезду; в это время ему не только удалось уйти от преследователей, возможно, посланных императором, но и сохранить украшенную драгоценными камнями митру, которую папа Иоанн XXIII передал ему перед своим бегством. Неясно все-таки, была ли это та самая митра, под залог которой был представлен заем в 95 000 флоринов для уплаты долга неаполитанскому королю; если да, то, выходит, Иоанн XXIII в какой-то момент выкупил ее, рассчитавшись с банком. В «libro segreto» банка Медичи никакие трансакции с фигурирующей папской митрой не отмечены; возможно, они были слишком тайными даже для «libro segreto».
Император Сигизмунд объявил папу Иоанна XXIII низложенным. Двое других были вынуждены отказаться от своих претензий: Григория XII заставили отречься, Бенедикт XXIII в конце концов был тоже низложен, и разрешилась Великая схизма избранием совершенно нового папы, Мартина V. Император Сигизмунд объявил, что бывший папа Иоанн XXIII, а ныне просто Бальдассаре Косса, может быть выкуплен за 38 500 рейнских гульденов (что равно 35 000 флоринов). Запертый в четырех стенах, больной, лишенный всяких средств к существованию, Бальдассаре все же сумел передать Козимо тайное послание, в котором выражал готовность сделать его своим наследником, если тот заплатит просимый выкуп. Есть ли смысл тратить живые деньги ради призрачных? Козимо решил, что есть: он отправился к отцу и попытался убедить его дать деньги. Вновь речь шла об очень крупной сумме, на сей раз равной почти половине доходов всего банка Медичи (без учета доходов от его римского отделения) за двадцать лет с момента его основания, — только риск еще больше, чем прежде, ведь будущее Бальдассаре выглядело мрачно, у него не было никакого состояния и в общем-то мало перспектив на новые доходы. И все же Джованни ди Биччи решился рискнуть: выкуп за Бальдассаре Коссу был полностью выплачен императору Сигизмунду, и опальный папа (бывший) обрел свободу.
Отчего же обычно столь осмотрительный Джованни ди Биччи вновь поставил на эту в общем-то уже отыгранную карту? Вопреки видимости это не был столь нехарактерный для него риск; собственно, он вообще не рисковал, ибо перспективы возврата денег не просматривались. И личная преданность, насколько у нас есть возможность судить, тут тоже ни при чем; хотя Бальдассаре и обращался обычно в письмах к Джованни как к своему «дорогому другу», взаимоотношения их строились на основе чисто деловой лояльности. И все же, как мы увидим, это был один из наиболее мудрых шагов Джованни ди Биччи за всю его жизнь (а сделал он таких шагов немало). И не случайно, что подтолкнул его к этому Козимо — сын все более и более выказывал себя достойным мудрости отца.
3. НАСЛЕДИЕ ДЖОВАННИ
В 1418 году, проведя три года в угрюмой камере гейдельбергской тюрьмы, Бальдассаре Косса был освобожден и вернулся во Флоренцию, где его со всем гостеприимством встретил Джованни ди Биччи. Социальное положение семьи Медичи изменилось буквально в одночасье: пусть даже Бальдассаре — всего лишь бывший, а ныне низложенный папа, все равно — гостит у Джованни человек, который некогда был духовным правителем всего христианского мира. Равным образом во всей Европе вырос престиж банка Медичи: предприятие это явно стоит прочно, как скала, если глава его может позволить себе потратить 35 000 флоринов, просто чтобы выручить товарища и партнера, без всякой надежды на возврат долга.
Правда, проницательность Джованни объяснялась также практической необходимостью. Действуя именно таким образом, он демонстрировал всей Европе глубокую и неизменную верность Медичи слову и друзьям; поступи он иначе, и конкуренты-банкиры не преминут раструбить по всему континенту, что, мол, Медичи — люди ненадежные, и это сразу же понизит международные акции банка. В колеблющемся банковском мире позднего Средневековья измена подобного рода не забывалась в поколениях. При этом решимость Джованни не оставлять Бальдассаре в беде была продиктована не просто долгосрочным расчетом — он думал и о нынешнем положении дел. Джованни вновь нацелился на большой куш: он рассчитывал сделаться банкиром нового папы, Мартина, который как раз оказался во Флоренции, когда Рим захватила королева Неаполитанская Иоанна. Джованни сразу понял, какую можно из этого извлечь выгоду. Выплачивая выкуп за Бальдассаре, он дал понять, что дает ему деньги на одном условии: бывший папа вернется во Флоренцию и публично примирится с Мартином V. Условие было выполнено, и Мартин V мог теперь наслаждаться мыслью, что его понтификат будет первым начиная с 1378 года, легитимность которого ни у кого не вызовет сомнений. Выражая свое удовлетворение этим, он назначил больного, стареющего Бальдассаре кардиналом Тускуланским (Фраскати). А в знак признательности за посредничество пожаловал Джованни ди Биччи титул графа Монтеверде, каковой тот почтительно отклонил под предлогом того, что хочет остаться рядовым гражданином. Впрочем, это было единственное проявление дружеских чувств со стороны Мартина V: он и вообще-то посматривал на Джованни искоса, а тут еще оставалось нерешенным дело с бесценной, украшенной драгоценными камнями митрой, переданной ему (Джованни) папой Иоанном XXIII перед бегством из Констанца, новый папа считал ее своей собственностью. В общем, поначалу Мартин V не был склонен к тому, чтобы назначать Джованни ди Биччи папским банкиром, и такое положение не менялось в течение ближайших двух лет.
В сентябре 1420 года, на глазах разочарованного Джованни, папа Мартин V переехал из Флоренции в Рим, в свою новую резиденцию; папским банкиром он назначил главу старинного аристократического семейства Спини, а ведь, хотя Джованни был связан с ним по материнской линии, эта семья, стоявшая на социальной лестнице выше Медичи, была их давним соперником.
Бальдассаре умер годом раньше. На сей раз он остался верен своему слову: по завещанию душеприказчиками его стали Медичи, которые немало извлекли из этого положения, ведь пусть даже Бальдассаре вернулся из своего гейдельбергского заточения без гроша в кармане, кое-что у него было припрятано в разных местах. Джованни ди Биччи унаследовал главное — святую реликвию: перст Иоанна Крестителя, который оставался при нем всегда и везде как талисман, отвращающий всяческие беды. В качестве душеприказчиков Бальдассаре Медичи занимались, помимо всего прочего, возведением усыпальницы бывшего папы во флорентийской баптистерии, для чего Джованни ангажировал скульптора Донателло и архитектора Микелоццо, создавших в результате одну из самых ранних усыпальниц в стиле раннего Возрождения. Согласно воле покойного, на ней были высечены слова: «Ioannes Quondam Papa XXIII» («Иоанн XXIII, бывший папой»). Когда об этом стало известно в Риме, Мартин V пришел в ярость: он-то считал Иоанна XXIII антипапой, и в его глазах такое поведение Джованни было проявлением неуважения к папскому достоинству. Не все шаги Джованни ди Биччи были столь уж безупречны.
К этому времени политическая ситуация во Флоренции изменилась. Глава местных олигархов, заправлявших жизнью города, Мазо дельи Альбицци, достигнув восьмидесяти четырех лет, стал-таки в конце концов жертвой чумы, поразившей Флоренцию в 1417 году. Его сменил уважаемый флорентийский аристократ Никколо де Уццано, который, между прочим, вместе с Джованни ди Биччи уговаривал сопротивлявшегося Бальдассаре примириться с папой Мартином V. Потом Джованни всячески пытался сблизиться с могущественным Никколо, но тот, хотя и откликался вроде бы на эти попытки, сохранял ко всем Медичи отношение глубоко подозрительное. Граждане Флоренции чувствовали все большую неуверенность под гнетом правящих семей, а Медичи все никак не могли избавиться от репутации людей, тайно сочувствующих popolo minuto, которых олигархи теперь презрительно называли piagnoni, то есть буквально «сопля», «слабак». В этом определении также содержался элемент натуралистической правды, ибо неотесанные мужики то и дело хлюпали носами, вместо того чтобы высморкаться; зимой, из-за недоедания и плохой одежды, они постоянно страдали от простуд и легочных заболеваний: у маленьких людей и жизнь была короткая.
В 1421 году затеялась кампания по избранию Джованни ди Биччи на пост гонфалоньера, чему сразу же воспротивился Никколо да Уццано, напомнив об изменническом поведении Сальвестро де Медичи, когда тот был гонфалоньером во время бунта чомпи — всего сорок три года назад. С точки зрения Никколо, Джованни ди Биччи, будучи человеком и более умным, и более энергичным, чем Сальвестро, представлял собой еще большую угрозу: он якобы годами выжидал своего часа, постепенно умножая богатство и укрепляя положение, незаметно добиваясь все больше популярности в среде popolo minuto путем многочисленных подарков и щедрых пожертвований. При этом он всячески скрывал свое преуспеяние за маской скромного обывателя, точно так же, как скрывал и политические амбиции, прикидываясь, будто интересует его лишь коммерция, а на самом деле использовал деньги для того, чтобы соткать паутину последователей Медичи, которых в нужный момент можно будет использовать в политических целях. По убеждению Никколо да Уццано, Джованни отнюдь не собирается уважать республиканские традиции Флоренции и в случае избрания воспользуется властью исключительно в собственных интересах и интересах семьи. В устах такого человека, как Никколо, подобный упрек звучал смешно, что сразу же и почувствовали многие флорентийцы; впрочем, в его словах было и немало правды. Так или иначе, несмотря на все сопротивление, в 1421 году Джованни ди Биччи был избран гонфалоньером, и, хотя полной власти над городом не приобрел, это событие можно считать выражением нового политического возвышения Медичи, которое разрешится абсолютным трехсотлетним контролем над Флоренцией.
Еще через три года, когда семья Спини обанкротилась, оставив таким образом папу Мартина V без своего финансиста, Джованни ди Биччи достиг другой своей цели. Он быстро заполнил образовавшуюся брешь, и банк Медичи в очередной раз получил право чеканить монету. В «libro segreto», относящемуся к этому периоду, содержатся поразительные сведения: балансовый отчет римского филиала включает большой перечень персональных депозитов a discrezione (то есть тайных счетов, на которые стекались проценты по вкладам, что противоречило запрету церкви на ростовщичество). Эти депозиты колебались в границах 2600—15 000 флоринов, а в круг депозитариев входило не менее двух кардиналов, нескольких прелатов, один близкий друг папы, наконец, апостольский казначей.
В 1420 году умер Бенедетто де Барди, партнер Джованни ди Биччи, что позволило тому реформировать банк. Была закрыта одна из шерстяных мануфактур, а флорентийское отделение банка получило нового управляющего — Фолько д'Адоардо Портинари (одного из потомков Дантовой Беатриче). Джованни исполнилось шестьдесят лет, и он решил передать дело своим сыновьям Козимо и Лоренцо. Объявленный капитал банка составлял 24 000 флоринов; две трети этой суммы были вложены Медичи, остаток — одним из членов семьи Барди. Джованни не утратил связи с банком, но переместился за кулисы — советовал, предлагал, остерегал. Жил он теперь в большом, но не слишком роскошном доме на пьяцца, в тени собора — всего в трехстах ярдах ходьбы от нынешней виа Рома — тогда это была виа Порта Росса, где и располагался банк Медичи. Почти каждый день его можно было увидеть покрывающим это расстояние, обычно в сопровождении одного-единственного слуги — в этом смысле Джованни отличался от членов других главных семей города, которые редко выходили на публику без свиты, представляющей собой одновременно охрану и свидетельство социального положения. Ну а Джованни ди Биччи продолжал вести скромную жизнь — отчасти из-за характера, а отчасти по политическим соображениям. Летом, в жару он проводил некоторое время в своем загородном доме, в Кафаджоло, но вообще-то из Флоренции надолго не отлучался: помимо закулисной политической деятельности, Джованни начал уделять немало времени и денег благотворительной деятельности. Впервые он всерьез занялся ею еще в 1419 году, когда возглавил общественный комитет по строительству Ospedale degli Innocenti — городского приюта для детей-подкидышей. Два года спустя вместе еще с семью семьями затеял перестройку церкви Сан-Лоренцо, освященной еще в 393 году святым Ансельмом и пришедшей в совершенно негодное состояние после пожара 1417 года. Этим инициативам на ниве благотворительности предстояло сыграть свою роль в повышении социального статуса семьи Медичи, точно так же и расширении ее политического влияния. Потому и конкретные цели выбирались с обычной предусмотрительностью. Городской приют пользовался особенной популярностью среди popolo minuto, ведь многие его представители здесь и выросли; что касается церкви Сан-Лоренцо, то в этом храме Медичи молились из поколения в поколение, именем этого святого называли многих своих сыновей и, поддерживая подобные сооружения, укрепляли одновременно свою репутацию.
Строительство городского приюта, а так же реконструкция церкви Сан-Лоренцо были поручены Брунеллески, в ту пору самому крупному флорентийскому архитектору. Характер у Брунеллески был раздражительный и колючий, любимым занятием его было писать злобные стихотворные памфлеты против своих недругов, но в то же время этот скрытный, самолюбивый человек был одним из пионеров Ренессанса. Это он открыл заново, давно, еще в классические времена, забытые законы перспективы, а спланированный им портик городского приюта считается первым образцом собственно ренессансной архитектуры. Его четкие и ясные линии отражают архитектурный стиль Древнего Рима; стройные, изящные колонны имеют не просто декоративный характер, но используются как несущие опоры, чего не делалось со времен Рима. Строительство городского приюта и реконструкция церкви Сан-Лоренцо были крупными проектами, осуществление которых заняло у Брунеллески более десяти лет, когда у хладнокровного патрона и темпераментного зодчего странным образом завязалось некое подобие дружбы.
Но вскоре у Джованни возникли более неотложные заботы. В итальянской политике, как обычно, царила смута, между Флоренцией и ее мощным и воинственным соседом — Миланом сохранялась извечная напряженность. В 1422 году герцог Миланский Филиппо Мария Висконти подписал с Флоренцией мирный договор, что развязывало ему руки для нападения на своего западного соседа — Геную; это, впрочем, не помешало Милану занять Форли, городок в Романье, находившийся номинально под протекторатом Флоренции. Знатные семьи — такие как Альбицци и Уццано — были исполнены воинственного пыла, но простонародье, при поддержке Медичи, склонялось к более мягкой линии: обыкновенные граждане устали платить налоги на военные авантюры, заканчивающиеся, как правило, катастрофой. Несмотря на это, правящая синьория проголосовала за войну. Как истинный патриот, Джованни ди Биччи принял это решение и оказал поддержку в военных приготовлениях; при всей своей популярности, Медичи еще не контролировали город и органы его управления.
Как Джованни и опасался, дела пошли скверно, и на протяжении первых трех лет войны Милан захватывал все новые и новые территории. Правда, этих завоеваний, хотя Флоренцию отделяло от Милана всего 160 миль, не хватало для того, чтобы положить конец усобице; в таких войнах на поле боя выходили, как правило, наемники, а они вовсе не хотели чрезмерно рисковать жизнью в схватках со своими товарищами по ремеслу и предпочитали драться так настолько долго, насколько это могут позволить себе их наниматели. На четвертый год в конфликт на стороне Флоренции вступила Венеция, и это сразу переломило ход войны. Наемники еще два года делали вид, что сражаются, но в конце концов Висконти вынужден был подписать в 1427 году унизительный мирный договор.
Флоренция же столкнулась с необходимостью увеличения налогов, дабы оплатить эту разорительную войну. По подсчетам Макиавелли, флорентийцы истратили на нее 3 500 000 дукатов, что соответствует астрономической цифре — 4 200 000 флоринов. Ранее город наполнял большую часть своей казны за счет налогов по системе estimo, которая использовалась властью для того, чтобы нанести непоправимый финансовый ущерб своим политическим противникам. По этой системе учитывался доход, из чего следовало, что землевладельцы платят мало; те, у кого доход был велик, всячески пытались скрыть его истинные размеры, те же, у кого мал настолько, что и скрыть невозможно, несли непропорционально тяжелое бремя. Такая система давно уже вызывала недовольство у тех, кто ничего не получал от нее, то есть у большинства населения.
Вскоре стало ясно, что собрать необходимую сумму на покрытие военных убытков будет нелегко. Единственный выход заключался в том, чтобы изменить систему налогообложения. Был применен новый метод — castato (опись имущества), основывающийся на учете не просто доходов, но общего состояния гражданина. Его следовало задекларировать в официальном реестре, где учитывалась вся собственность, в том числе получаемый от нее, как и из других источников, доход; реестр составлялся инспекторами, имеющими право воспользоваться помощью оплачиваемых информаторов, следящих за тем, чтобы опись более или менее соответствовала реальному положению налогоплательщика. Таким образом, опись имущества переносила упор на более или менее легко скрываемые доходы землевладельцев и на тех любителей, кто выставлял напоказ свое богатство.
Опись имущества, с энтузиазмом встреченная в народе, понравилась далеко не всем среди друзей народа. Неудивительно, что всегда столь осторожный шестидесятисемилетний Джованни де Биччи поначалу отнесся к нововведению подозрительно, но, когда почуял, куда дует ветер, быстро сделался одним из самых энергичных его пропагандистов. В конце концов Ринальдо дельи Альбицци, главе фракции олигархов, пришлось под давлением людей провести через синьорию новое налоговое законодательство, хотя лично он заработал на этом немного очков. К этому времени Джованни ди Биччи сумел занять такое положение, при котором именно ему достались рукоплескания за бескорыстную поддержку новшества.
В то же время нельзя сказать, будто действия Джованни — это всего лишь махинации, направленные на укрепление дела Медичи; помимо всего прочего, он был совестливым человеком. Когда по невидимым каналам постоянно расширяющегося банковского сообщества до него дошла весть, что его опальный венецианский управляющий Нери Торнаквинчи живет ныне в жалкой нищете в Кракове, Джованни распорядился немедленно перевести своему прежнему служащему 36 флоринов. Подобного рода жесты щедрости были для него обычны и всегда совершались без огласки; стремясь приобщиться к высшему обществу, Медичи усваивали иные из его лучших свойств.
В 1428 году Джованни ди Биччи заболел. Ему было шестьдесят восемь лет, и он знал, что умирает. Он призвал к своему ложу сыновей, Козимо и Лоренцо, и, как гласит легенда, сказал следующее: «Никогда не болтайтесь рядом с Палаццо делла Синьория так, словно сюда вас призывают дела. Идите, только если позовут, и должности занимайте, только если попросят. Никогда не выставляйтесь перед народом, а уж если этого никак не избежать, постарайтесь свести представление к минимуму. Держитесь подальше от публики и никогда не идите против воли народа, разве что люди защищают нечто, чреватое бедой...» Вообще-то вряд ли Джованни произнес именно эти слова, но в легенду вошли именно они. В течение долгих лет представители семьи следовали этому завету; а если отклонялись, все равно сохраняли чувство, что действуют, как сказано, либо по меньшей мере должны действовать. Джованни создал достойный образ для всех последующих Медичи; в соответствии с ним он напоследок завещал сыновьям похоронить его скромно, без лишней помпы.
Козимо, может, и повиновался бы предсмертной воле отца, но народ думал иначе. Старик много сделал для Флоренции, многие считали, что он использовал свое влияние ради блага народа, и соответственно сходились на том, что похоронен он должен быть со всеми почестями. Потому и Козимо, человек, как и отец, дальновидный, решил, что, пожалуй, и в самом деле пришло время публичных действий, хотя осуществить их следует с достойной скромностью: похороны Джованни ди Биччи не превратятся в крикливую демонстрацию власти и силы Медичи, они лишь станут данью памяти и уважения к яркой личности усопшего. Но церемония пошла своим чередом, вне всяческих расчетов, когда каждый стремился так или иначе принять участие в этом действе во славу Флоренции.
Прежде всего следовало соблюсти древнюю традицию, восходящую, как считалось, ко временам этрусков, то есть к эпохе, отстоящей на две тысячи лет от Рима. Когда умирал глава семьи, в стене дома пробивалось отверстие, через которое выносили тело, чтобы затем положить его в гроб впереди погребальной процессии. Тело Джованни ди Биччи было помещено в открытый гроб, сопровождаемый двумя десятками членов семьи Медичи; за ними следовали, по старшинству, все иностранные послы, аккредитованные в городе, далее — гонфалоньер и члены синьории, и, наконец, представители различных гильдий. Может, Козимо и хотел, чтобы все прошло без излишней торжественности, но тем, кто наблюдал за продвижением длинной процессии в сторону церкви Сан-Лоренцо, все было ясно: Медичи пришли.
4. КОЗИМО ОБРЕТАЕТ СИЛУ
Козимо ди Джованни де Медичи (то есть сын Джованни) родился в 1389 году. О его детстве и отрочестве известно немного, разве что он был близок своему младшему брату Лоренцо; они вместе ходили в школу при монастыре Санта-Мария дельи Анджели. Уже тогда она пользовалась известностью как колыбель новых знаний, что было связано, в частности, с возрождением интереса к классическому образованию в духе античной Греции и Рима.
В Темные века оно просто исчезло с европейских просторов и сохранилось только на Среднем Востоке, где его с энтузиазмом подхватили арабские ученые. В исламском мире охотно стимулировалось развитие философии и естествознания: познать устройство мира — значит познать замысел Всевышнего. В результате работы древнегреческих философов, особенно натурфилософов (то есть первых ученых) распространились по всему арабскому миру, который к VIII веку проник глубоко в Европу, захватив весь Иберийский полуостров и достигнув Южной Франции и Италии. Когда в XVIII веке крупнейшие арабские научные центры, такие как Кордова и Севилья в южной Испании, были отвоеваны христианами, европейские ученые заново открыли целый ряд прежде неизвестных работ античных философов.
Таким образом, в Европе начало культивироваться совершенно новое отношение к знанию. Оно предполагало возврат к классикам Древней Греции и Рима взамен схоластики и относительного интеллектуального застоя Средневековья. Уходя от простого приятия авторитета христианской теологии и догматизированной версии учения Аристотеля, иные современные мыслители привнесли критический элемент в изучение греческих философов и римских писателей. Еще в начале XIII века переводы арабских интерпретаций Аристотеля, принадлежавших перу таких мусульманских философов, как Аверроэс и Авиценна, позволили подвергнуть сомнению общепринятый взгляд на Аристотеля в его христианском восприятии. Начали появляться его прежде неизвестные работы, иные из них представляли идеи Стагирита совершенно по-новому; по иронии судьбы неколебимый авторитет Аристотеля был подорван его собственными трудами. Впрочем, вновь открытые работы древних принадлежали в основном другим греческим и римским авторам — философам, поэтам, риторам и историкам, — они-то как раз и заставили кое-кого заподозрить, что были некогда времена, яркостью своей намного превосходящие нынешние, времена, когда упор делался на человечность человечества, а не на его духовность. Таким образом и повеяли ветры нового гуманизма, с его доверием к свободомыслию взамен самоотреченного покорства, которого требовали философы-теологи Средневековья. Этот гуманизм стимулировал исследование человеческого потенциала и форм выражения человечности, особенно в литературе, философии, искусствах.
Лишь на закате жизни Джованни ди Биччи начал понимать, что в мире есть нечто большее, чем банковское дело с его финансовыми рисками. Деньги можно обратить в нетленность искусства путем меценатства, и, своим чередом становясь меценатом, человек получает доступ к иному миру — миру вневременных ценностей, миру, который представляется свободным от коррупции, развратившей отцов церкви, от политиканства правителей и банкиров. Ну а Козимо предстояло приобщаться к этому иному миру с ранних лет. Гуманистом его сделало полученное образование, но в то же время он сохранил отцовскую проницательность, а уж Джованни позаботился о том, чтобы она послужила умножению его талантов банкира. Должно быть, Козимо обнаружил в этом смысле исключительные способности, иначе его осмотрительный отец ни за что не доверил бы ему присматривать за папой Иоанном XXIII в Констанце; для двадцатипятилетнего человека это была далеко не простая задача.
В Констанце Козимо представится возможность завести полезные знакомства в международном банковском мире, представители которого оказались там в это же время. Но главным в любом случае оставалось не сводить глаз с Иоанна XXIII. При этом Козимо все же упустил, кажется, момент, когда папа, переодевшись, бежал из города, а затем был захвачен в плен и помещен в Гейдельбергский замок. Известно, что вслед за ним Констанц, и тоже тайком, оставил Козимо, сумев при этом захватить с собой такую ценную вещь, как спорная митра.
Далее свидетельства расходятся. Согласно одной версии, Козимо направился непосредственно во Флоренцию, что подтверждается фактом его непродолжительного членства в синьории (в 1415-м, затем в 1417 году). С другой стороны, его современник утверждает, что после бегства из Констанца Козимо отправился в путешествие по Северной Европе, которое продолжалось не один год. В то время у Медичи было всего несколько корреспондентских пунктов в крупнейших финансовых центрах, таких как Женева, Лион и Авиньон, а полноценных отделений за пределами Италии и вовсе не имелось. Так что представляется вполне вероятным, что Джованни мог отправить Козимо в поездку по этим центрам на предмет проверки работы корреспондентов, а также изыскания возможностей дальнейшего расширения дела. Не исключено также, что Козимо посетил Брюгге во Фландрии. Как утверждает крупнейший знаток истории банка Медичи Раймон де Рувер, корреспондентский пункт банка был учрежден в Брюгге, а сразу следом за тем в Лондоне, примерно в 1416 году. Брюгге был, можно сказать, несущей опорой всей финансовой системы в Северной Европе; будучи центром торговли шерстью, он имел связи, простирающиеся через весь континент, от Англии до Италии. Связан он был и с востоком Европы — через Ганзейский союз, портовые города которого монополизировали торговлю на Балтике и севере Германии. Именно в Брюгге торговали в ту пору траттами; происходило это на маленькой площади, напротив постоялого двора, которым владела семья Ван дер Берсе, откуда происходит слово bourse — фондовая биржа. Во время своих путешествий Козимо, говорят, начал скупать редкие манускрипты, которые в один прекрасный день положат начало бесценному собранию книг. Судя по четким указаниям, которые он впоследствии давал в этой связи своим европейским представителям, Козимо ясно понимал перспективы этого широкого рынка. Скорее всего расхождения в свидетельствах объясняются тем, что Козимо сначала вернулся из Констанца во Флоренцию, а уж затем совершил несколько непродолжительных поездок по Северной Европе.
В начале 1416 года он был во Флоренции точно, ибо как раз тогда женился на племяннице отцовского партнера, юной даме, которую звали Контессина де Барди (забавно, но слово contessina, то есть «дочь графини», или «графинюшка», относилось в данном случае и к имени, и к титулу). По обычаям того времени, брак Козимо был устроен его отцом Джованни, и для Медичи это был значительный шаг вверх по иерархической лестнице. Барди — одна из старейших банкирских семей во Флоренции, потерпевшая крах во время финансового кризиса сороковых годов XIV века; она сохранила в немалой степени свой социальный статус, чего не скажешь о деньгах. Контессина де Барди принесла в приданое старый и несколько запущенный семейный дом, палаццо Барди, располагавшийся на южном берегу реки Арно. Сразу после женитьбы двадцатисемилетний Козимо начал перестраивать дворец, демонстративно украшая его снаружи символикой Медичи: щитом и palle, то есть шарами. Даже на этой ранней стадии простая символика, которой предстояло стать выражением силы и амбиций семьи Медичи, претерпела некоторые изменения. Изначально на щите было до двенадцати шаров. К тому времени как Козимо переехал в палаццо Барди, обычно изображались шесть. Но именно обычно — точное количество никогда не соблюдалось, меняясь от столетия к столетию, — могло быть пять, а могло и восемь.
Через два года Контессина родит Козимо, который почти наверняка был в то время в отъезде, сына и наследника Пьеро. А примерно еще через год Джованни назначит Козимо на важный пост постоянного управляющего римским отделением банка Медичи: хоть в то время Медичи уступили папские счета семейству Спини, римское отделение оставалось главным источником доходов, питавшим разнообразные финансовые начинания Медичи. Точных сведений «libro segreto» не дают, но представляется вероятным, что тут имели свои тайные счета — discrezione — несколько наиболее влиятельных кардиналов, а в целом римский филиал обеспечивал более пятидесяти процентов общих доходов банка.
Достоверным фактом является то, что в ту пору, когда Козимо служил в Риме (а провел он там в общей сложности три года), один из банковских клерков привел ему как-то юную рабыню с Кавказа, купленную на торгах в Венеции, со следующими характеристиками: «Двадцать один год, здоровая, девственница». Девушка была принята в штат слуг Козимо, он назвал ее Маддаленой. После нашествия Черной Смерти, когда слуг стало найти гораздо труднее, чем прежде, преуспевающие итальянцы стали нередко использовать рабский труд. В XV веке во Флоренции было примерно сто рабов, рассеянных по домам ведущих семейств; такое же количество имелось в других главных городах Италии. Рабы доставлялись из Леванта и с Черного моря торговцами из Генуи и Венеции; кавказцы и славяне ценились выше турок или татар, ибо работали прилежнее, ассимилировались быстрее и считались «в меньшей степени варварами». В основном это были юные девушки, которых использовали как домашнюю прислугу. Как правило, они делили с хозяевами трапезу, и вообще на них смотрели как на младших членов семьи, часто проживающих в доме всю свою жизнь. Разумеется, бывали случаи жестокого обращения, но это скорее исключение, нежели правило; а вот беременели рабыни нередко. Приписывалось это чаще всего любвеобильности хозяина дома, а в противном случае могли возникнуть крупные неприятности — либо для молодого сына, либо для шалопая-грума.
С какой стороны ни посмотри, распутником Козимо де Медичи не назовешь, но к своей римской рабыне он бесспорно привязался. Она родила ему сына, которого назвали Карло. Этот отпрыск будет воспитываться впоследствии с двумя другими его сыновьями во Флоренции, что вовсе не было чем-то исключительным в те времена. Подобно многим другим незаконнорожденным детям, Карло должен был стать священником, семейное дело ему было заказано. В дом таких детей брали, но членами семьи в полном смысле этого слова они не становились; разделительные линии были тонкими, но вполне определенными. Свидетельством этому служит в данном случае само имя — Карло. Медичи были в этом смысле весьма консервативны: из поколения в поколение детей мужского пола называли Аверардо, Лоренцо, Козимо и Джованни. Карло среди них не попадалось. Рабыню Маддалену, похоже, взяли с собой из Рима во Флоренцию, и, судя по переписи, она работала на семью Медичи (или за ней ухаживали в семье) по меньшей мере до 1457 года, когда ей было уже больше сорока — возраст для работницы по тем временам весьма почтенный.
Что обо всем этом думала Контессина, хроники умалчивают, но, вероятнее всего, она просто мирилась с поведением Козимо, которое было характерным для итальянских мужчин того времени. По сохранившимся описаниям, Контессина была пухлой жизнерадостной дамой, любившей хорошо поесть и вполне довольной своей разрастающейся семьей (в 1421 году она родит второго сына, Джованни). Прежние авторы склонны были видеть в ней только хозяйку дома и хорошую мать, мало интересующуюся делами мужа и возрастающим политическим влиянием семьи. Козимо, говорят, писал ей редко, и она, в периоды его отлучек, платила ему тем же. Правда, несколько ее писем сохранилось, и из них-то как раз предстает несколько иная картина. Вот она пишет Козимо: «Нынче вечером я получила твое письмо, и стало ясно, сколько мы задолжали Карреги за вино... Пришло письмо от Антонио Мартелли, он высылает девять тюков льняного полотна; вели, чтобы его держали в сухом месте». Это, да и некоторые другие письма свидетельствуют о том, что Контессина серьезно занималась поместьями Медичи или, например, галантереей, которая, несмотря на колебания цен, приносила семье немалый доход. Сохранившиеся письма другим адресатам убеждают, что она думала о муже во время его отлучек: «Говорят, он набирает вес, это хороший признак».
Поведение Козимо в эти годы свидетельствует о нем как о добром семьянине. Да, он унаследовал отцовскую деловую хватку, но не его сухую расчетливость и узость. Интеллект его был обогащен гуманистической образованностью, но эмоциональные пристрастия, судя по всему, — женой, которая всегда оставалась рядом с ним, пусть и не обязательно на его стороне. Почти наверняка вкусы Контессины воздействовали на Козимо, ее женственность оживляла и добавляла красок его рациональному в целом характеру. Таким образом, ей предстояло сыграть роль в формировании вкусов человека, художественное чутье которого, в свою очередь, окажет воздействие на перемены поистине эпохального масштаба, — роль, согласимся, немалая в общем порядке вещей.
Отходя в 1420 году от дел, Джованни ди Биччи передал ведение банка сыновьям, прежде всего Козимо — ныне номинальному главе предприятия. Быть может, тридцатиоднолетний Козимо лишь постепенно выходил из тени отца, но отпечаток его личности сказался на деятельности банка быстро и со всей определенностью; практически можно не сомневаться в том, что именно влиятельные люди в Риме, которых Козимо тщательно к этому подводил, убедили Мартина V, после краха семьи Спини, вернуть Медичи статус папских банкиров. Теперь Козимо возглавлял крупнейшее финансовое предприятие во Флоренции, а восемь лет спустя, со смертью Джованни, он станет главой семьи и лидером ее влиятельной фракции во флорентийской политике. По словам Макиавелли, «те, кто сначала радовался смерти Джованни, теперь, увидев, что за человек Козимо, о ней сожалели». Его искусство политика скоро стало вполне очевидным. Следить за повседневной банковской рутиной он поручил брату Лоренцо, хотя все важнейшие решения и впредь останутся за ним самим. Его преданному, хотя и тщеславному кузену Аверардо де Медичи предстоит заниматься политическими технологиями, обеспечивающими победу дела Медичи. Козимо осознал, что пути назад нет. Против Медичи объединились могущественные силы, а реальной политической власти у них нет; либо они эту власть обретут, либо их растопчут многочисленные враги в среде правящей олигархии.
В 1430 году Козимо решил, что у Медичи должен быть собственный дворец, а не дом, полученный в наследство от Барди. Он нашел место на углу виа Ларга (ныне виа Кавур), главной дороги, ведущей от центра города на север, и поручил Брунеллески, некогда любимому архитектору своего отца, а ныне общепризнанному зодчему номер один своего времени, спроектировать палаццо Медичи. Брунеллески взялся за работу, результатом которой стал проект великолепного строения, ставшего в глазах многих подлинным шедевром. Но Козимо странным образом колебался. Его усилиями некоторые детали общего плана стали достоянием посторонних глаз, и в конце концов он отверг проект Брунеллески — кажется, заказчик был склонен к этому с самого начала. Роскошь слишком бьет в глаза, заявил Козимо, стилю Медичи соответствует большая скромность. В конце концов он остановился на проекте, представленном молодым, подающим надежды архитектором Микелоццо, чьи эскизы дворцового фасада отличались даже некоторой аскетичностью.
А вот внутреннее убранство, то, что скрыто от глаз широкой публики, — это совсем иное дело. Для cortile — внутреннего дворика — Козимо заказал Донателло бронзовую статую библейского Давида — она произведет впечатление на любого, кто удостоится приглашения во дворец Медичи. Выбирая именно эту фигуру, Козимо продемонстрировал свойственную ему чуткость: юный Давид, победитель гиганта Голиафа, для флорентийцев был символом самого города — в их глазах он воплощает торжество справедливости над тиранией, является манифестацией святых республиканских ценностей. Со стороны Козимо это было молчаливой декларацией того, что Медичи, как всегда, стоят на стороне popolo minuto, что главное для них — интересы народа. Выбор героя представлял собой также скрытое предупреждение продолжающей набирать силу олигархии: вот так именно Медичи смотрят на самих себя и свою историческую роль — роль защитников справедливого республиканского правления против всех тех, кто на него покушается. Донателло родился во Флоренции около сорока пяти лет назад, будучи, таким образом, немного старше Козимо, с которым его свяжет многолетняя дружба. Его отец был чесальщиком шерсти — участником бунта чомпи. Многостороннее изучение античных образцов позволило Донателло усвоить многие гуманистические художественные идеалы древности, хотя сам он гуманистом-интеллектуалом не был. Он вел необычно простой для известного флорентийского художника образ жизни, достояние его сводилось практически к резцу и другим инструментам скульптора. Весьма вероятно, что именно Донателло, вместе с иными гуманистами-друзьями Козимо, убедил его заняться коллекционированием предметов старины, многие из которых он самолично для него реставрировал. Примерно в это время Козимо заказал ему бронзовый бюст Контессины — очередное свидетельство любви к жене и ее влияния на свои вкусы. Ранние работы Донателло славятся своим художественным реализмом, но позднее этот реализм начал приобретать новые, внутренние, измерения, превосходя обыкновенное правдоподобие. Выдающимся примером этого и является фигура Давида, которую он изваял для внутреннего дворика палаццо Медичи и которая во многих отношениях проложила новые пути скульптуре. Начать с того, что она стала первой, в натуральную величину, бронзовой статуей со времен классики, хотя и следует отметить, что Донателло совершенно видоизменил античную технику. Уходя от классического совершенства форм, Донателло в своем «Давиде» демонстрирует в высшей степени современную экспрессию: эти формы насыщены безошибочно новой внутренней человечностью, недаром нервная обнаженная фигура в шляпе, из-под которой выбиваются локоны, с левой рукой на бедре, правой, удерживающей большой меч, предстает в непринужденной, менее всего воинственной позе. Давид Донателло упоен своей мужской красотой, он недвусмысленно выражает субъективную правду своего создателя, а именно его гомосексуальность. Но в скульптуре заключено нечто гораздо большее, чем только запретное сексуальное влечение, и то обстоятельство, что Козимо принял работу, весьма многое говорит о его вкусах и понимании искусства (то же самое можно сказать и обо всей семье). Новому гуманизму предстоит нарушить условности средневековой религиозности и превозмочь сексуальные запреты; он увидит красоту прежде всего как физическую красоту человека, а не просто как отражение возвышенной духовности. При этом одним из интеллектуальных центров нового гуманизма во Флоренции оставался монастырь Санта-Мария дельи Анджели — месторасположение школы, где некогда учился Козимо. Здесь он познакомится с такими людьми, как монах Амброджио Травесари — незаурядный ученый, который по его заказу переведет на итальянский редкие манускрипты с греческого, латыни и иврита. Другие интеллектуалы сочетали профессиональные занятия с занятиями литературой: среди них был поэт и общественный деятель Никколо Тинуччи, завоевавший равную известность в той и другой области (он держал Козимо в курсе всех намечаемых поворотов в политике власть предержащих). Круг ученых и гуманистов, находившихся под патронажем Медичи, все более расширялся, вовлекая в себя уже не только художников, но и мыслителей.
Положим, прогрессивные идеи с неизбежностью вызывали консервативную реакцию, ибо новый гуманизм далеко не всем был по душе. Так, Ринальдо дельи Альбицци, надменный предводитель партии старых олигархов, презирал это современное течение, видя в нем подрыв основ и покушение на религиозные ценности. Пусть даже его поддерживают многие священники и прелаты. Новая налоговая система — опись имущества, — автором которой считался отец Козимо, все сильнее била по материальным интересам старых семей, и они были преисполнены решимости уронить ее привлекательность в глазах людей. Преследуя эту цель, олигархи заговорили о том, что применять ее следует не только во Флоренции, но и в других городах Тосканы, находящихся под флорентийским владычеством, хотя вообще-то у них было право самостоятельно решать свои налоговые проблемы, лишь платили бы сколько положено в казначейство Флоренции. Когда городские власти объявили, что отныне практика описи распространяется на всех, это вызвало всеобщее возмущение, а в Вольтерре даже вспыхнул бунт, который пришлось подавлять силами флорентийского ополчения.
Некогда старые олигархические семьи, по сути, развязали бесконечно и безнадежно тянувшуюся войну против Милана, которая и вынудила введение новой налоговой системы. Тем не менее сейчас они увидели для себя возможность предстать едва ли не в героическом свете. Независимый город Лукка, находившийся примерно в сорока милях к западу от Флоренции, изменнически перешел на сторону Милана, поставив, таким образом, под угрозу выход Флоренции к пизанскому морскому порту. Ринальдо дельи Альбицци и другие видные семьи начали будоражить в народе враждебные чувства против Лукки и вполне в этом преуспели — если победоносная Флоренция воспользуется военными трофеями, ослабеет налоговое бремя.
Медичи оказались в ловушке. Козимо был против войны — Флоренции она нужна меньше всего. Но когда его пригласили войти в состав Комитета десяти — орган, созданный для руководства военными действиями, Козимо решил, что его патриотический долг состоит в том, чтобы, пренебрегая собственными чувствами, принять предложение и продемонстрировать таким образом поддержку войне. Его кузен Аверардо де Медичи, человек куда более импульсивный, и вовсе ни в чем не сомневался и возглавил военный отряд в Пизе. Так Медичи вынужденно оказались в лагере войны, вместе с правящей олигархией.
В 1430 году флорентийская армия под командованием Ринальдо дельи Альбицци выступила в сторону Лукки, которая немедленно обратилась за поддержкой к Милану. Изначальные сомнения Козимо относительно целесообразности войны с Луккой только укрепились, когда правитель Милана направил на защиту Лукки наемников во главе со своим лучшим молодым кондотьером Франческо Сфорца. Флорентийские войска, ставшие было лагерем близ Лукки, вынуждены были вскоре осуществить тактическое отступление перед лицом испытанных в сражениях наемников Сфорцы, после чего последний вошел в город, сместил местного правителя-тирана и установил республиканскую власть. Флоренции, всегда гордившейся своими республиканскими традициями, трудно было теперь выступать против Лукки, Комитет десяти пребывал в растерянности, синьория — тоже: оказалось, что Комитет руководит военными действиями в высшей степени неэффективно. В конце концов флорентийцы решили, что лучше всего будет подкупить Сфорцу, вынудив его оставить Лукку за 50 000 флоринов. Наемники есть наемники. Они с готовностью приняли плату и предоставили прежним, не столь щедрым плательщикам из Милана самим решать свои проблемы. Козимо, человек в финансовых вопросах расчетливый, был совершенно потрясен таким решением, он писал, что «это пустая трата денег, Сфорца, так или иначе, оставит Лукку, поскольку в его отрядах распространилась чума и ему существенно не хватает продовольствия». Аверардо де Медичи смотрел на дело иначе, он выразил свою поддержку Ринальдо дельи Альбицци — при том что в письмах заверял Козимо в своей лояльности.
Флорентийская армия вновь подошла к воротам Лукки и возобновила осаду, но без видимого успеха. Республиканские власти и обретшие свободу граждане были готовы защищать город до последних сил. Ринальдо дельи Альбиции вернулся во Флоренцию и убедил членов Комитета десяти принять хитроумный план, подразумевающий участие Брунеллески, а также Микелоццо и Донателло в строительстве инженерных сооружений. Идея заключалась в том, чтобы перекрыть плотиной реку Серкью и повернуть ее воды так, чтобы они внезапным потоком хлынули на склон холма и смыли городские укрепления. Художники и архитекторы принялись за работу, давая указания роющимся в грязи солдатам, меж тем как начальник городского гарнизона наблюдал за ними с крепостного вала. Сгустились сумерки; за ночь вода поднимется, а наутро хлынет на Лукку. Но у начальника гарнизона были на этот счет свои соображения: под прикрытием темноты он направил группу солдат с приказом подрыть внешнюю часть плотины, что и было сделано, и в результате обрушившийся поток смыл весь флорентийский лагерь.
Когда вести об этом конфузе дошли до Флоренции, Козимо с возмущением вышел из состава Комитета десяти и отбыл в Верону; у него не было никакого желания делить ответственность за военную катастрофу. Ринальдо дельи Альбицци усмотрел в этом свой шанс: в отсутствие Козимо можно навсегда избавить Флоренцию от Медичи. Он начал настраивать против них народ, распространяя слухи о двуличии Медичи: мол, на интересы людей им начхать, на самом деле они хотят только одного — подчинить себе город и установить в нем тиранические порядки. Ринальдо был уверен в поддержке большинства олигархических семейств, но и у Медичи были свои сильные союзники. Джованни ди Биччи давно предвидел возможность такого поворота событий и соответствующим образом женил своих сыновей. Козимо был женат на представительнице семейства Барди, а его младший брат Лоренцо на Джиневре Кавальканти, что связывало Медичи сразу с двумя могущественными семействами — самими Кавальканти и Малеспини. Помимо того, некоторые из гуманистов-друзей Козимо были членами старых олигархических семейств. Чтобы выступить против Медичи, Ринальдо дельи Альбицци следовало заручиться надежной поддержкой. Именно поэтому он обратился к Никколо д'Уццано, который некогда выступал против избрания Джованни на пост гонфалоньера, а ныне считался главной фигурой среди городских старейшин. Но Никколо аргументы Альбицци насчет тиранических поползновений Медичи не убедили, ведь он хорошо знал, что Альбицци сами вынашивают такие планы. В отсутствие поддержки со стороны Никколо д'Уццано Флоренция оказалась в тупике.
Но еще до конца года Никколо д'Уццано умер; Козимо вернулся во Флоренцию и нашел ее в совершенно расстроенном состоянии. Казна была опустошена войной, город прогибался под бременем многочисленных долгов. В таких обстоятельствах ведущие семьи Флоренции, прежде всего банкиры, но не только, столкнулись с необходимостью дать городу «вынужденную ссуду», правда, под такой процент, что в конце концов заимодавцы могли рассчитывать на солидную прибыль. Но время для подобных шагов явно прошло: Козимо уже распорядился, чтобы банк Медичи одолжил казне сумму, необходимую для покрытия хотя бы самых неотложных долгов, хотя всем участникам сделки было ясно, что ни долг, ни тем более проценты никогда не будут возвращены. Просочившиеся об этом слухи способствовали популярности Козимо среди людей, уставших от высоких налогов, но в то же время укрепили олигархов в их подозрениях относительно планов Медичи. По городу ходили слухи о заговорах и контрзаговорах.
Наступили тревожные времена, и ставки были высоки: платой за поражение могли стать смерть, разорение, изгнание — вместе с семьей и сторонниками. Тем временем в волнение пришла вся северная Италия — война Флоренции с Луккой втянула в себя, подобно воронке, все крупнейшие силы. Венеция объявила войну Милану, заставив его прекратить поддержку Лукки, а мощный генуэзский флот вышел в море с явным намерением захватить жизненно важный для Флоренции пизанский порт; впрочем, он был отброшен объединенным отрядом боевых кораблей Венеции и Пизы. В апреле 1433 года были наконец согласованы условия мирного договора, согласно которому все стороны восстанавливали status quo — положение, предшествующее началу боевых действий. Флоренция воевала три года и ничего не достигла, только истратила целое состояние — многим придется за это заплатить, и многие были в ярости. Свободные ныне от международных забот, флорентийцы, кипя от возмущения, вернулись к домашним делам. Усилилась фракционная борьба, ситуация становилась все более напряженной. Ночами все могущественные семейства запирались в своих дворцах, которые более, чем когда-либо, напоминали частные крепости. Стены большинства флорентийских палаццо выходили прямо на улицу, но окна в ту пору располагались высоко и всегда оставались зарешеченными; ведущие же во двор и обитые железом массивные деревянные ворота были сделаны так, чтобы выдержать любую осаду. В темное время суток в городе совершалось все больше преступлений, и продолжалось это на протяжении всего жаркого лета. Вот только один, но типичный пример: «отпрыска одного из ведущих консервативных семейств города» по пути домой с какого-то собрания в Палаццо делла Синьория «схватили за волосы и избили... двое безымянных граждан, проживающих по соседству от Медичи».
Началась война нервов. Одним ранним вечером в начале мая ворота дворца Медичи были вымазаны кровью — явное и зловещее предупреждение всем. Козимо часто называли мастером интриги, но человеком, лишенным физического мужества. Однако же, судя по свидетельствам, трудно сказать, где кончалась осторожность и начиналась трусость, как особенно в данном случае. Козимо сразу же решил, что надо удалиться в семейные поместья в Муджелло, но только на этот раз остановился не в своей обычной летней резиденции Кафаджоло, а направился в близлежащую виллу Иль-Треббио, небольшую, переделанную под жилье средневековую крепость, которую по его заказу недавно реставрировал Микелоццо.
В отсутствие Козимо Ринальдо дельи Альбицци получил возможность сделать следующий решающий шаг, и он сразу же начал готовить бюллетени для избрания нового гонфалоньера и членов синьории. После выборов обнаружилось, что семеро из девяти, которым предстояло в сентябре приступить к выполнению своих обязанностей, входят в круг сторонников Альбицци, а новый гонфалоньер Бернардо Гваданьи и вовсе у него в кармане — Альбицци уладил его налоговые дела (должники не имели права занимать никаких государственных постов). Синьория распоряжалась жизнью и смертью граждан Флоренции и всегда могла сделать банкротом любого. Время на часах Козимо де Медичи утекало как песок, и, кажется, он был бессилен этому хоть как-то противостоять.
И тем не менее, хотя политическое влияние Козимо съеживалось с каждой минутой, подобно истинному Медичи, он позаботился о том, чтобы его финансовое могущество осталось непоколебленным. Тем же самым жарким летом он тайно перевел крупные суммы из флорентийского банка Медичи в римский и венецианский филиалы. «Libro segreto» банка за этот период представляет собой увлекательное чтение. Так, записи от 30 мая 1433 года свидетельствуют о том, что именно тогда финансовая активность достигла своего пика. В этот день 2400 флоринов, вернее, эквивалентная им сумма в золотых венецианских дукатах была вынесена из резиденции Медичи и передана затворникам-бенедиктинцам монастыря Сан-Миниато аль Монте, стоящего высоко на холме к югу от Флоренции. В тот же самый день 4700 флоринов (также в золотых дукатах) оказались у братьев-доминиканцев из Сан-Марко, а 15 000 флоринов переведены из Флоренции в Венецию — и все это в один день! Козимо предусмотрительно велел также Лоренцо перевести ценные бумаги, которые Медичи держали во флорентийской коммуне, в римское отделение банка, так чтобы ни при каких обстоятельствах вклады Медичи не достались противнику.
Козимо также принимал меры к тому, чтобы новой синьории не досталось ничего, вздумай она конфисковать его активы. Папу Мартина V сменил Евгений IV, оставивший в руках Медичи финансовые дела курии, так что неудивительно, что у папского банкира среди клириков немало было добрых друзей. Никакое правительство не осмелилось бы прочесать монастыри, куда Козимо перевел свое золото, из страха вызвать гнев церкви. При этом принятые им меры предосторожности показывают, что Козимо думал не только о том, как сохранить свои деньги, — он также готовился наложить руки на значительные суммы за пределами республики, в том случае, если затеянная против него кампания заставит вкладчиков в массовом порядке изымать средства из флорентийского отделения банка. Банк Медичи не обанкротится — в любом случае он сохранит свое доброе имя и доверие клиентов. Принципы, унаследованные Козимо от Джованни, будут только укрепляться, при любых обстоятельствах. Тем не менее подобная предусмотрительность хороша лишь в прогностическом плане, а само выживание Козимо окажется в большой степени зависимо от его способности реагировать на события, разворачивающиеся здесь и сейчас. Этим событиям предстояло сыграть поворотную роль в истории семьи Медичи. Поэтому есть смысл рассмотреть их несколько подробнее.
5. МОМЕНТ ИСТИНЫ
В начале сентября 1433 года новый гонфалоньер и члены синьории должным образом водворились в Палаццо делла Синьория, откуда Козимо Медичи был послан в Муджелло официальный вызов во Флоренцию на предмет «принятия некоторых важных решений». Козимо немедленно откликнулся, хотя «многие друзья отговаривали его от этого шага». Так пишет в своей не вполне беспристрастной «Истории Флоренции» Никколо Макиавелли, чье описание последующих событий опирается на свидетельства очевидцев, сдобренные широко циркулировавшими слухами. Согласно также несколько субъективному описанию этих самых событий, сделанному впоследствии самим Козимо, он прибыл во Флоренцию 4 сентября и направился прямо во дворец на встречу с гонфалоньером Бернардо Гваданьи и членами синьории. Козимо начал с того, что до Муджелло дошли тревожные слухи, будто синьория готовит во Флоренции переворот, имеющий целью захватить его собственность и просто погубить. Но по словам Козимо, «услышав это, они только отмахнулись и призвали успокоиться, поскольку члены нынешней синьории намерены оставить город в таком же состоянии, в каком приняли». Если же все-таки у него сохраняется беспокойство, пусть выразит его на заседании синьории, которое состоится через три дня и на которое он приглашается.
Козимо вышел и направился в банк, находившийся по соседству, на виа Порта Росса, где подготовил распоряжение назначить Липпаччо де Барди, кузена Контессины, человека, которому он безусловно доверял, генеральным директором банка Медичи, ответственным за все решения, которые предстоит принять. Три дня спустя, 7 сентября, Козимо, как и было договорено, появился в Палаццо делла Синьория и с удивлением обнаружил, что заседание уже началось. Его встретил начальник охраны со своими людьми, что породило у Козимо немалую тревогу, затем провел его мимо закрытых дверей, за которыми шло заседание, на самый верх трехсотфутовой башни. Здесь его запихнули в тесную камеру, известную среди флорентийцев как Albergetto (Гостиничка).
Как пишет Козимо, «узнав об этом, поднялся весь город». Это как минимум преувеличение.
На самом деле имело место следующее: Ринальдо дельи Альбицци велел своему сыну и группе вооруженных сторонников занять площадь перед дворцом в качестве демонстрации силы, должной отпугнуть любых потенциальных несогласных и пресечь попытки освободить Козимо. А вот внутри дворца картина выглядела иначе. Члены синьории и охранники были едва ли не в панике, ужасаясь тому, что натворили, и по словам очевидца, «повсюду звенело оружие, одни бежали наверх, другие вниз, кто-то просто разговаривал, кто-то кричал, в атмосфере чувствовались напряженность, возбуждение, страх». В конце концов Ринальдо дельи Альбицци удалось навести хоть какой-то порядок, гонфалоньер и члены синьории возобновили заседание и вынесли Козимо приговор. Узнику вменили «стремление поставить себя над рядовыми гражданами» — на слух довольно скромное обвинение, но на самом деле одно из самых серьезных, какие только могли быть предъявлены гражданину Флорентийской республики. Оно было чревато смертным вердиктом. В подтверждение этого обвинения судьи сослались на дворец, который Козимо строит себе на виа Ларга: при всех мерах предосторожности, принятых им касательно архитектуры дворца, было заявлено, что он слишком роскошен для рядового гражданина республики и более походит на покои потенциального тирана. Подоплека обвинения была недвусмысленной: Козимо де Медичи собирается покорить город, он изменник и заслуживает участи изменника.
Но в данном случае синьория просто побоялась вынести смертный приговор, на котором настаивал Ринальдо, и заменила его пятилетней высылкой из города. Тем временем Козимо сидел, скорчившись, у себя в камере и опасливо прислушивался к выкрикам вооруженных людей, собравшихся внизу, на площади; что в точности происходит, он не знал, но опасался худшего. У него разыгралось воображение: может, его даже не казнят, но просто сбросят с башни, такие вещи случались.
Когда тюремщик открыл дверь камеры и начал зачитывать приговор, Козимо, согласно надежным свидетельствам, «упал в обморок». В дневнике самого Козимо этот эпизод не упоминается, хотя иная реакция на приговор отражена: «Это решение сразу дошло до моего брата Лоренцо, который был тогда в Муджелло, и кузена Аверардо, пребывавшего в Пизе... Лоренцо в тот же день появился во Флоренции, его вызвали в синьорию, но, узнав от верных людей зачем, он сразу же вернулся в Иль-Треббио. Аверардо также поспешно покинул Пизу, ибо был получен приказ схватить его. Удайся им взять всех нас, троих, положение было бы совсем скверным. О происшедшем, — продолжает Козимо, — сообщили моего доброму другу, капитану коммуны Никколо да Толентино». Лишь впоследствии станет ясно, насколько это было важно.
Козимо продолжал оставаться взаперти, ибо Ринальдо дельи Альбицци не оставлял попыток понудить членов синьории вынести ему смертный приговор — или позволить ему самому поступить как заблагорассудится. Два дня Козимо ничего не ел, опасаясь, что его отравят. И как выяснилось впоследствии, не зря: Ринальдо подкупил двух охранников, чтобы те при первой же возможности подсыпали яду в пищу Козимо.
9 сентября Козимо оглушили удары дворцового колокола, звеневшего у него прямо над головой, с башенной колокольни. В городе этот старый колокол прозвали vacca (корова) — созывая по особым случаям граждан Флоренции на площадь перед дворцом синьории, он напоминал своим гулом мычание. Такого рода собрания всех граждан, имеющих право голоса, именовались parlamento — в этом итальянском слове удачно сочетаются оба значения: parley (переговоры) и парламент — собрание, на котором граждане высказываются и голосуют по вопросам, которые власти считают первостепенно важными, включая изменения в конституции. Но на сей раз вооруженные люди Ринальдо дельи Альбицци установили посты на каждой улице, ведущей к площади, и тех, у кого была репутация сторонников Медичи (или даже тех, кого только подозревали в симпатиях к их делу), заворачивали назад. Козимо беспомощно наблюдал за происходящим из крохотного окошка своей камеры; Альбицци явно не желал рисковать, и, по словам Козимо, на площадь были допущены только двадцать три человека. Они-то и сформировали «собрания» высшего парламента.
Как принято, члены синьории заняли свои места на каменном возвышении перед дворцом, и гонфалоньер обратился к собравшимся с ритуальной просьбой: проголосовать за или против формирования balia для «изменения в конституции города во имя блага граждан». Балия — комитет, состоящий из двухсот выбираемых всякий раз заново граждан, имеющий права санкционировать любые изменения в конституции или принимать важные решения от имени города. Все двадцать три послушных участника «собрания» высшего парламента дружно прокричали: «Si! Si!», решение было принято, и подручные Альбицци начали готовить списки, так чтобы обеспечить участие в балии нужных людей. Макиавелли ярко описывает пребывание Козимо в камере, которую охранял некий Федериго Малаволти.
«Прислушиваясь к голосам собравшихся внизу, звону оружия, доносившемуся с площади, ударам колокола, сзывавшего балию, Козимо опасался за свою жизнь, а еще больше, что его личные враги казнят его каким-нибудь необычным образом. Он почти не прикасался к еде, за четыре дня съел лишь несколько кусков хлеба. Видя его тревогу, Федериго сказал: «Козимо, ты боишься отравления, но голодом ты только приближаешь свой конец. Если ты думаешь, что я могу принимать участие в таком гнусном деле, то это ошибка. Да и не думаю я, что твоя жизнь в опасности, ведь у тебя так много друзей, и во дворце, и в городе. Но если все же тебе суждено погибнуть, то, можешь быть уверен, они найдут кого-нибудь другого, а я никогда не оскверню своих рук ничьей кровью, а твоей — тем более, ведь ты никогда не делал мне ничего дурного; так что возьми себя в руки, поешь немного и сбереги свою жизнь для своих друзей и своей страны. А чтобы ты не волновался, я поем с тобой». Эти слова принесли Козимо большое облегчение, со слезами на глазах он обнял и расцеловал Федериго, искренне благодаря его за доброту и сочувствие и обещая, что, выпади случай, он непременно выразит свою признательность».
После этого Козимо начал постепенно приходить в себя. Как-то раз, подавая ему обед, Федериго, дабы поднять узнику настроение, привел с собой одного малого из местных, по прозвищу Фарначаччо (нечто вроде «придурка»). Козимо хорошо его знал, как знал и то, что это приятель гонфалоньера Гваданьи, так что, когда Федериго тактично вышел, Козимо передал гостю записку с просьбой немедленно отнести ее директору больницы Санта-Мария Нуова. По получении ее тот передаст ему тысячу дукатов. Сотню Фарначаччо может оставить себе, остальное следует как можно более незаметно передать Гваданьи.
Тем временем бурное собрание балии продолжалось, ибо, несмотря на отчаянные усилия Ринальдо дельи Альбицци, «парламентарии» никак не могли прийти к решению, а многие из двухсот отобранных участников начали задумываться, а стоит ли делать то, что от них ждут. Когда дискуссия достигла своей кульминации, балия раскололась на несколько групп, одни, по словам Макиавелли, «требовали казни Козимо, другие высылки, а третьи просто молчали, либо из сострадания к нему, либо из страха». В конце концов распри закончились, и балия проголосовала за то, чтобы выслать Козимо на десять лет. Согласившись на словах с этим вердиктом, Ринальдо решил, что пора брать дело в свои руки.
Оставаясь все еще запертым в камере, Козимо тем не менее знал обо всем, что происходит в городе. Так, ему стало известно, что его «добрый друг» Никколо да Толентино, действуя в соответствии с давними договоренностями, собрал отряд вооруженных наемников, проследовавший из Пизы через долину По в Ластру, находящуюся всего в шести милях от стен Флоренции. Здесь наемники остановились в надежде на то, что бунт вспыхнет в самом городе; идти же дальше они не рисковали, опасаясь, что это может спровоцировать убийство Козимо. К этому времени известия об аресте Козимо дошли до гор Романьи, где местные крестьяне, живущие вокруг твердыни Медичи в Муджелло, взялись за оружие и потянулись к Лоренцо, к укрепленной вилле Иль-Треббио, в которой он укрылся вместе с семьей. Но друзья посоветовали Лоренцо не трогаться с места из страха за судьбу Козимо — хотя, узнав о том, что брат последовал этому совету, он утратил свое и без того хрупкое душевное равновесие и впал в бессильную ярость. По его собственным словам, «хотя совет был дан друзьями и родственниками от всей души, правильным его не назовешь, ведь если бы Лоренцо выступил сразу, я был бы свободен, а с тем, кто затеял все это, было бы покончено».
Пока будущие избавители Козимо пребывали в сомнениях, Ринальдо дельи Альбицци действовал. Он послал вооруженных людей выследить и взять под стражу целый ряд известных последователей Медичи, включая друга Козимо, поэта-гуманиста и нотариуса Никколо Тинуччи, которого сразу же подвергли пытке. После нескольких мучительных часов на дыбе Тинуччи сломался и вынужден был подписать признание, согласно которому Козимо намеревался поднять во Флоренции бунт, с участием иностранных вооруженных сил, и объявить себя диктатором. Вот и появилось наконец неопровержимое свидетельство измены, и Ринальдо делли Альбицци мог торжествовать: за такое преступление стопроцентно полагается не ссылка, а виселица.
Но к тому времени известия о судьбе Козимо вышли за пределы Флорентийской республики и вызвали оживленные отклики во всей Европе. Иным деятелям Козимо-банкир оказал неоценимые услуги, и они не замедлили выразить свои чувства. Первым оказался властитель близлежащей Феррары, у которого были все основания считать себя обязанным Козимо за крупные кредиты и который был совершенно взбешен таким ударом по своим возможным финансовым потребностям. Во Флоренцию, находящуюся всего в семидесяти милях от Феррары, было направлено послание, выдержанное в максимально резких тонах. Впрочем, и Ринальдо, и Козимо прекрасно понимали, что им можно и пренебречь: Феррара отнюдь не входила в число первостепенных держав.
Иное дело — Венеция, с ней у Ринальдо могли возникнуть большие трудности. Венецианский филиал банка Медичи был основан еще в 1402 году и за минувшее время успел занять видное место в обширных торговых операциях Венецианской республики, занимаясь шерстью на валенсийском рынке и участвуя в доставке специй и янтаря с Востока в Венецию. Записи в «libro segreto» за 1427 год показывают, что оборот банка составил 50 568 флоринов — сумма колоссальная, при чистой прибыли 4 080 флоринов, то есть почти восемь процентов. Купцы-клиенты банка Медичи принадлежали к ведущим семьям Венецианской республики, которые со всей поспешностью направили во Флоренцию трех посланцев с инструкциями добиться немедленного освобождения Козимо де Медичи.
Такова же примерно была и реакция Рима, ведь папа Евгений IV — сын венецианского купца — был прекрасно осведомлен о щедром участии Козимо в городской торговле. Папа отдал распоряжение своему представителю во Флоренции — а им был друг Козимо, гуманист Амброджио Траверсари, переведший на итальянский несколько принадлежащих ему старинных манускриптов, — выступить на защиту его интересов. В ответ на требование объяснить, на каких основаниях был арестован Козимо, Траверсари сообщили о признании Никколо Тануччи. Он ни на секунду не поверил этому «признанию» своего друга, такого же, как и он, гуманиста; точно так же скептически восприняли это в высшей степени ненадежное свидетельство посланцы из Венеции — всем уже было хорошо известно, каким образом оно было добыто.
Было созвано заседание синьории, но гонфалоньер Гваданьи к тому времени уже успел с благодарностью принять от Козимо 1000 дукатов и потому почел, что лучше всего будет уклониться; другие члены синьории также получили взятки, хотя и поменьше. «Дураки, — записывал Козимо в дневнике, — за то, чтобы выручить меня из беды, они могли получить 10 000 или даже больше». Так или иначе, Гваданьи сообщил, что болен, принять участия в заседании синьории не может и доверяет проголосовать за себя одному из коллег (тоже подкупленному Козимо).
Ринальдо дельи Альбицци быстро сообразил, что происходит; он также ни на минуту не забывал, что в Ластре только и ждут команды к выступлению наемники Никколо да Толентино. Он понимал, что действовать надо быстро и решительно, пока еще есть поддержка, ибо если Козимо выйдет сухим из воды, что ныне казалось вполне вероятным, за жизнь уже вынуждены будут бороться сами Альбицци. 28 сентября было созвано еще одно заседание синьории: Ринальдо знал, что, при всех взятках, он по-прежнему может твердо рассчитывать на семь голосов из девяти. Синьория подтвердила свой прежний вердикт: Козимо высылается в Падую на десять лет, то же наказание ждет других видных членов семьи Медичи: Аверардо удалится в Неаполь на те же десять дет, Лоренцо в Венецию на пять, другие в разные края и на разные сроки. Помимо того, членам партии Медичи навечно запрещается занимать любые государственные посты в городе. Так, одним ударом из-под Медичи была выбита опора, и благодарный Ринальдо тут же заверил семерых верных ему членов синьории, что в качестве вознаграждения каждый получит хорошую синекуру.
3 октября вооруженные стражники вывели Козимо де Медичи из камеры и проводили его в зал заседаний синьории, где ему был официально зачитан приговор. Свидетельства о реакции Козимо расходятся. По Макиавелли (твердому стороннику Медичи), «Козимо выслушал приговор с улыбкой». В изложении современного историка Кристофера Хибберта (человека нейтрального) ситуация выглядела иначе: опираясь на противоречивые свидетельства очевидцев, он пишет, что Козимо выглядел «жалко», и добавляет, что «физическая смелость явно не входила в число его достоинств».
Но может быть, во всем этом было нечто такое, что ускользает от поверхностного взгляда? В своем последнем слове Козимо заявил, что готов отправиться в изгнание куда бы то ни было, даже к «арабам или иным народам, что живут не по нашим правилам. Ваше решение, — продолжал он, — большое несчастье для меня, но я воспринимаю его как благодеяние, как награду мне и моим близким». Звучит униженно, но вскоре станет ясно, что на самом-то деле Козимо боролся за свою жизнь — это вполне следует из его заключительных слов: «Прошу оберечь меня от тех, кто с оружием в руках собрался внизу, на площади, и жаждет моей крови». И далее, с явной угрозой: если умру, то «мне-то будет не очень больно, но вы покроете себя несмываемым позором». Прибегнув сначала к лести, Козимо, как видим, переходит далее к недвусмысленным угрозам, на тот случай, если он будет «по недоразумению» заколот кем-нибудь из сторонников Альбицци, собравшихся на площади. Он подозревал, что тот что-то задумал, и есть все основания полагать, что подозрения эти были небеспочвенны.
Его предупреждение явно возымело действие: члены синьории осознали, что убийство Козимо чревато большим кровопролитием. Во Флоренции и без того неспокойно, Никколо де Толентино со своими наемниками готов двинуться к стенам города, и, стало быть, правящей олигархии придется наводнить улицы вооруженными людьми. Чем все это кончится, можно только гадать. Синьория распорядилась, чтобы Козимо держали во дворце до наступления темноты, пока толпа на площади на рассеется. Ночью, под охраной дворцовой стражи, его можно будет тайком провести по улицам к северным воротам, Порта Сан-Галло, откуда, по-прежнему под охраной, он будет препровожден на границу Флорентийской республики, в сорока милях от городских стен. Так, 5 октября 1433 года Козимо де Медичи, в окружении стражи, проделал путь к высокому горному проходу, прямо под заснеженной вершиной горы Симоне, где проходила граница республики. Начался отсчет времени изгнания.
ЧАСТЬ II. ИЗ ТЬМЫ
6. МЕДИЧИ В ИЗГНАНИИ
В общем, Козимо де Медичи благополучно пережил свой растянувшийся момент истины. Могло повернуться по-всякому, но отчасти благодаря трезвому расчету, а отчасти и удаче он сохранил и жизнь свою, и дело. Правда, казалось, что Козимо в то же самое время и проиграл, ведь старые враги-олигархи вязли над ним верх, и он лишился своей опоры во Флоренции. Только это очевидное вроде бы поражение обернется в конечном итоге для Медичи важнейшим шагом к победе.
Флоренция осталась в руках Альбицци и их приверженцев из олигархического круга старых семейств, но отныне город уже не мог рассчитывать на деньги Медичи для пополнения казны. Ринальдо приходилось всячески выкручиваться, лишь бы удержать контроль над городом, в котором так и не возникло единства. Последователи Медичи продолжали плести интриги, и Ринальдо вынужден был подталкивать синьорию принимать все более и более жесткие меры, в результате которых эти последователи один за другим отправлялись в десятилетнее изгнание.
Опальный Козимо добился разрешения покинуть Падую и воссоединиться со своим братом Лоренцо в Венеции, откуда он внимательно наблюдал за происходящим во Флоренции, в то же время всячески избегая какого-либо участия в шагах, направленных на его защиту. Венецианские власти разрешили ему с семьей поселиться в монастыре Сан-Джорджио Маджоре, на островке, прямо у входа в Большой канал, где папа Евгений IV был некогда монахом. В знак благодарности папе за участие в его освобождении Козимо решил построить для монастыря новую библиотеку и заказал спроектировать здание своему любимому архитектору Микелоццо.
Насколько преданы были флорентийские художники своему благодетелю, видно из их поведения после его высылки. Микелоццо и Донателло сразу же прекратили участие в возведении нового палаццо Медичи — Донателло уехал в Рим изучать старинные скульптуры, которые как раз начали извлекать из-под городских руин, а Микелоццо последовал за Козимо в изгнание. Оба они были флорентийцами и вполне могли остаться в городе, особенно если учесть их активное участие в гуманистическом возрождении. В ту пору этот процесс только начал распространяться и живопись и архитектуру еще по-настоящему не затронул. Так что, отправляясь следом за Козимо, они не только покидали родной дом и своих друзей-гуманистов, но и отдалялись от круга меценатов среди олигархических семей, которые могли обеспечить и работу, и признание близких им людей.
К апрелю 1434 года, через полгода после изгнания Козимо, недовольство семьей Альбицци достигло такой степени, что даже банкиры-олигархи настороженно ожидали дальнейшего поворота событий. Козимо было приятно услышать, что в городе нет никого, кто бросил бы в опустевшую казну «хоть косточку винограда». Летом разгорелась война с Миланом, и флорентийская армия была разбита под небольшим городком-государством Имола, на который притязали обе враждующие стороны. Несмотря на все попытки Альбицци выиграть очередные выборы, последователи Медичи получили в синьории восемь мест, и даже гонфалоньером тоже стал их союзник. Ринальдо был уже готов воспрепятствовать новой синьории начать свою работу, но это стало бы слишком радикальным шагом, превращающим в посмешище всю политическую систему Флоренции. И хотя в ней царила скрытая коррупция, флорентийцы ею гордились: республиканская форма правления, пусть с ограниченными элементами демократии, служила именно тем, что возвышало Флоренцию над тиранией и политическим ничтожеством соседей. По словам Макиавелли, даже иные из самых влиятельных семей считали действия, предлагаемые Ринальдо дельи Альбицци, «слишком жестокими и чреватыми большим злом». В стремлении смягчить ситуацию с Ринальдо попытался договориться Палла Строцци, ставший после смерти Никколо де Уццано старейшим деятелем Флоренции, — исключительно богатый и просвещенный человек, наделенный к тому же большим даром убеждения. Строцци призвал к сдержанности, и Ринальдо с неохотой уступил, правда, поставив одно условие: синьория не будет пересматривать приговор, вынесенный Козимо Медичи, и приглашать его обратно во Флоренцию. С этим члены синьории согласились и заняли свои рабочие места, но не прошло и месяца, как, воспользовавшись тем, что Ринальдо ненадолго уехал из города по делам, отправили послание в Венецию, призывая Козимо вернуться.
Едва Ринальдо несколько дней спустя появился в городе, ему пришел вызов во дворец синьории. Памятуя о том, что случилось с Козимо де Медичи, когда он подчинился подобному же распоряжению, Ринальдо игнорировал его и направился в палаццо Альбицци, где привел в действие план, давно составленный как раз на такой случай. Он приказал пятистам своим телохранителям занять ключевые позиции и церковь Сан-Пьер Скераджо (на ее месте находится ныне галерея Уфицци), напротив Палаццо делла Синьория. Одновременно дворцовому привратнику, за то чтобы он открыл ворота, было конфиденциально предложено столько золотых дукатов, сколько вместит его шлем; план Ринальдо заключался в том, чтобы взять дворец штурмом, выбросить членов синьории и захватить власть в свои руки.
Но и синьория не дремала: навстречу людям Ринальдо была выслана дворцовая стража. Ринальдо видел, что с ней он справится без труда, но все же ценой немалой крови — на какой-то момент на площади возникло шаткое равновесие между двумя группами вооруженных людей. Услышав, что флорентийцы могут пролить кровь флорентийцев, иные из олигархических семей заколебались. Палла Строцци, обещавший Ринальдо пятьсот солдат, поспешил в сопровождении двух телохранителей на встречу с ним на близлежащей пьяцца Сан-Аполлинарио. После короткой перепалки Строцци удалился, заявив, что больше не принимает в этом деле никакого участия. Но Ринальдо был уверен, что у него и без того хватит сил одолеть синьорию, по сути дела, осажденную у себя во дворце.
Но тут синьория пошла с козырного туза. Случилось так, что в это время во Флоренции оказался папа Евгений IV. Резиденцией своей он выбрал монастырь Санта-Мария Новелла, расположенный в западной части города. Евгений разругался с императором Священной Римской империи Сигизмундом, и как раз во время этого конфликта миланские войска двинулись на Рим. Население города восстало против папы, его жизнь оказалась в опасности, он вынужден был тайком, переодевшись, бежать из Рима и в конце концов оказался во Флоренции, где власти и поместили его вместе со свитой, состоявшей из нескольких верных ему кардиналов, в просторном монастыре Санта-Мария Новелла. И вот теперь синьория обратилась к папе с просьбой выступить арбитром в конфликте, который грозит городу большой бедой. Папа, у которого не было ни малейшего желания продолжать бегство, охотно согласился и послал кардинала Вителлески, «ближайшего друга Ринальдо», организовать встречу с ним (на двусмысленность связей, которая лишь усложняет сложившуюся ситуацию, указывает тот факт, что Козимо также называл кардинала Вителлески своим «добрым другом»; да и сам папа принадлежал к кругу его друзей, пусть даже и выбрал прибежищем гнездо врагов Козимо).
Пусть и не сразу, но кардинал Вителлески убедил Ринальдо встретиться с папой. Время клонилось к вечеру, и к телохранителям Ринальдо присоединилось несколько групп вооруженных людей из семей других олигархов. Во главе этой увеличившейся в своей численности армии Ринальдо и проследовал к монастырю. По словам очевидца, у Альбицци сейчас было столько людей, что «последний из них еще оставался на площади, перед дворцом, когда первый подошел к монастырю», — а это более четверти мили. Ринальдо отправился на свидание с папой, а его шумное войско расположилось снаружи, на площади. Стемнело, настало время ужина, начали разносить вино.
Ринальдо нашел понтифика в крайне подавленном состоянии, вызванном волнениями, охватившими город, хотя, если верить одному из сообщений, папа «проливал крокодиловы слезы». В конце концов Евгений IV убедил Ринальдо увести своих людей, пообещав ему взамен, что синьория не предпримет ответных шагов ни против него самого, ни против других олигархических семей. Слово папы — не будет никаких изгнаний, никакой конфискации имущества, даже штрафов не будет.
Когда какое-то время спустя Ринальдо вышел из монастыря, обнаружилось, что большинство его солдат рассеялись и ушли на ночь по домам. На площади осталось так мало людей, да и эти были настолько пьяны, что Ринальдо решил, что идти ночью по городу без должной охраны слишком рискованно и лучше остаться с папой.
В общем, бунт практически кончился. Синьория вызвала отряд наемников, бывших на содержании города, и под покровом ночной темноты они вошли во Флоренцию. На следующий день зазвонил vacca, созывая на пьяцца делла Синьория, очищенной к этому времени наемниками, всех граждан города, имеющих право голоса. В сопровождении внушительно выступающего кардинала Вителлески члены синьории вышли из дворца и обратились к собравшимся с вопросом, желают ли они созыва балии. Si! — раздался в ответ многоголосый рев. Балия был сформирован в составе трехсот пятидесяти граждан, он сразу же проголосовал за то, чтобы официально отменить изгнание Медичи.
Когда об этом стало известно Козимо, он немедленно отбыл из Венеции, выслушивая добрые пожелания властей, что нашло свое материальное выражение в эскорте из трехсот солдат, сопровождавших Козимо до границы города. Поступившее два дня спустя сообщение о том, что Козимо вошел на территорию Флорентийской республики, было встречено всеобщим восторгом, и его путь во Флоренцию быстро превратился в торжественную процессию, когда на дорогу, дабы приветствовать его, высыпали толпы людей. Что это было? Никто толком не мог сказать — ни Козимо, ни другие. Как нередко бывает в случаях внезапного проявления народного чувства, события начинают развиваться согласно своей собственной логике. Одно только ясно — происходило нечто чрезвычайно важное, ибо, по словам Макиавелли, «редко кого из граждан, возвращающихся с большой победой, встречали так много людей и с таким подъемом, как Козимо на его пути домой из ссылки».
5 октября Козимо достиг своей виллы в Карреджи, совсем недалеко от Флоренции, где остановился со свитой пообедать. К этому времени все улицы города были настолько запружены людьми, нетерпеливо ожидающими появления Козимо, что синьория отправила в Карреджи посыльного с просьбой немного задержаться, иначе могут возникнуть волнения. Непонятно, какого именно рода волнений опасалась синьория — то ли того, что восторги со стороны торжествующих победу приверженцев Медичи перейдут в сведение счетов, то ли население города еще расколото, и это грозит покушением на Козимо, когда он будет пробираться через толпу. Так или иначе, Козимо прислушался к просьбе и отложил дальнейший путь до наступления темноты, когда и покинул Карреджи в сопровождении одного лишь Лоренцо и высокопоставленного представителя городской администрации. Козимо незаметно провели через боковые ворота в городской стене, к востоку от Барджелло, и проводили в Палаццо делла Синьория, где и поместили на ночь в одной из комнат, обычно занимаемых кем-либо из членов синьории.
Наутро Козимо первым делом нанес визит вежливости папе — поблагодарить за поддержку, лишний раз выразить дружеские чувства, а также, возможно, показать всем, что у него есть близкие люди наверху. Новость о возвращении Козимо во Флоренцию распространилась уже достаточно широко, так что, когда он направлялся в палаццо Барди, на улицы высыпали толпы народа, приветствовавшие его «так, что можно подумать, будто это их князь».
Вообще-то сохранилось несколько рассказов о возвращении Козимо из изгнания, и все они значительно отличаются друг от друга, главным образом в зависимости от точки зрения. Макиавелли, этот откровенный сторонник Медичи, слышит только восторженные возгласы толпы; другие подчеркивают, что Козимо «вернулся в город, стараясь не привлекать к себе внимания». Могло быть по-всякому, но одно бесспорно: Козимо возвращался, чтобы полностью подчинить себе Флоренцию.
Поражение обернулось победой: не было бы изгнания, вряд ли он бы встретил такой прием, и, хотя прямо никто этого не утверждает, приветствовали его как национального избавителя. Все в нем видели правителя Флоренции — и сами ее граждане, и сопредельные государства, из тех, что давно уже, хотя и без особого успеха, пытались ему помочь. Город лежал перед ним — Флоренция явно была готова иметь несменяемого главу республики, но сам Козимо, человек осторожный, колебался. Пришло время вспомнить предсмертный наказ отца — «не высовывайся»; следовало также иметь в виду традиции флорентийского республиканизма (приятный самообман). Козимо предпочитал традиционные формы, да и обходные пути были ближе его характеру, как и характеру города; да, он будет править им, но из-за кулис. Обычный бизнес — только крупный!
Тем не менее одно существенное изменение произошло. Хотя Козимо и впредь будет вести себя сдержанно и всячески поощрять соблюдение принятых норм политической жизни города, сомнений в том, кто на самом деле дергает за нити, не возникнет ни у кого. Посольства из-за границы будут направляться непосредственно к нему, домой; точно так же и граждане Флоренции, нуждающиеся в официальных гарантиях, будут искать аудиенции именно у Козимо, который даже выделит для них специальное время. Судя по всему, примерно тогда же к нему начали поступать (удовлетворяемые им) просьбы от видных граждан города стать крестным отцом их первенцев мужского пола. Подобного рода проявления преданности были ему по душе: никакой показухи, но обязывает.
Влияние олигархии было быстро подорвано синьорией, явно под давлением Козимо. Несмотря на обещания папы, Ринальдо и других видных членов семьи Альбицци выслали из города, что заставило Ринальдо на прощание бросить Евгению IV горькие слова: «И как же я мог поверить, что тот, кого изгнали из своего города, удержит меня в моем». С другими семьями обошлись подобным же образом, и даже семидесятилетний Палла Строцци, столь много сделавший для возвращения Медичи во Флоренцию, был приговорен к десятилетнему — то есть фактически пожизненному — изгнанию. Научные занятия Строцци нередко заставляли его пересекаться с Козимо, между ними даже установилось нечто вроде дружбы, но когда он попросил Козимо вмешаться, та сдержанность, с которой тот откликнулся на эту просьбу, говорит красноречивее всяких слов. Синьория все поняла правильно, и приговор остался в силе. Козимо счел, что богатство и влиятельность почетного государственного мужа наверняка сделают его центром притяжения сил, враждебных Медичи, а сейчас не время для того, чтобы терпеть оппозицию. Козимо хотел, чтобы на смену волнениям и раздорам последних лет пришла твердая власть, а с ней — мир и процветание; в соответствии с этим он и действовал, хотя, можно повторить, действовал с характерной для себя аккуратностью. Как заметил один из его друзей-гуманистов, «если Козимо хочет чего-нибудь добиться, то делает все, чтобы не пробудить чью-то зависть, так чтобы всем казалось, будто инициатива исходит не от него, а откуда-то извне».
Козимо делал все от него зависящее, чтобы в нем видели всего лишь гражданина республики: да, влиятельного, но все же гражданина, долженствующего уважать закон так же, как должны уважать его другие граждане. Он превратит себя в образец самого надежного налогоплательщика в городе, хотя на самом деле декларируемые им для налогообложения доходы всегда значительно отличались от реальных; его балансовые отчеты были неизменно перегружены раздутыми, а иногда и вовсе несуществующими долгами, но никому и в голову не приходило подвергать сомнению его бухгалтерию. В то же время Козимо полностью, хотя и скрыто, контролировал весь городской аппарат налогов и сборов и выстроил систему этого контроля так, чтобы она не давала никаких сбоев. Любого бунтовщика можно было легко приструнить при помощи карающего catasto, то есть завысить налогооблагаемые доходы и собственность. Вскоре это стало излюбленным методом Козимо в борьбе с любой оппозицией. Преуспевающие противники просто банкротились, либо catasto оказывался так непомерно велик, что они уходили в добровольное изгнание, после чего доверенные агенты партии Медичи покупали по бросовым ценам оставленные поместья и передавали их преданным людям. За pax Medici приходилось платить.
В то же время были проведены давно назревшие и даже перезревшие реформы, привносящие в застывшую политическую систему Флоренции некоторые элементы развитой демократии. Так, была вознаграждена верность popolo minuto — примерно сто его наиболее достойных представителей получили право ежегодного участия в выборах в синьорию, то есть теоретически могли и сами быть избраны на государственные посты.
И в международных делах Козимо использовал свои немалые дипломатические дарования, дабы повысить меру стабильности, насколько это, разумеется, было возможно в как раз нестабильном, раздираемом интригами, мире итальянской политики. Ведущей силой на севере Италии оставался Милан, которым правил грозный герцог Филиппо Мария Висконти, постоянно покушавшийся на флорентийские земли. А сейчас, ко всему прочему, изгнанные Альбицци всячески подталкивали его к тому, чтобы вторгнуться на территорию республики и восстановить там власть своих преданных друзей. Пока Флоренции удавалось сдерживать поползновения Милана лишь благодаря своему не особенно прочному союзу с Венецией и Папской областью с ее вечными волнениями.
В 1436 году, ровно через два года после своего возвращения, Козимо предпринял решительный шаг, которому предстояло надолго определить международную политику города: он пригласил во Флоренцию всесильного кондотьера Франческо Сфорца. Этот тридцатичетырехлетний вояка был незаконнорожденным сыном фермера из Романьи, бывшего тоже кондотьером, взявшим себе имя Sforza (сила). Франческо унаследовал от отца его военный отряд и быстро завоевал среди своих новых товарищей, беспощадных наемников, уважение и репутацию одного из самых способных военачальников во всей Италии. Этому способствовала его доблесть на поле боя и умение подчинять себе людей. У Сфорца были прочные связи с Миланом, и он даже честолюбиво подумывал о женитьбе на незаконной дочери герцога Миланского в надежде стать его наследником на троне. Сфорца вполне отдавал себе отчет в своем растущем политическом влиянии и уже начал создавать собственное королевство в Романье, захватывая территории, которые официально входили в состав Папской области. Таким образом, приглашая Сфорцу во Флоренцию, Козимо рисковал испортить отношения не только с герцогом Миланским, но и с папой. Но по его расчетам, дело того стоило. От отца Козимо усвоил, что для достижения успеха бывает порой необходимо вступать в альянс с такого рода сильными, хотя и ненадежными людьми, — по опыту ведения дел с Бальдассаре Коссой он и сам знал им цену и понимал, каким незаурядным дипломатическим мастерством надо обладать, чтобы держать их в руках.
Франческо обладал могучим телосложением и тонкостью манер не отличался; у него было широкое, несколько грубоватое лицо, но за поведением и внешностью мужлана скрывалось какое-то мальчишеское обаяние. Опытный и проницательный Козимо разгадал молодого человека с первого взгляда: Сфорце нравилось нравиться, он хотел, чтобы люди ценили его как человека, а не как внушающего страх солдата. Обращаясь с ним, как с ярким молодым гуманистом из круга своих подопечных, Козимо сразу очаровал своего нового гостя. Правда, поначалу такое обращение смутило Сфорцу, никогда прежде его не принимали так обходительно и с таким пониманием, но вскоре он буквально влюбился в Козимо. Это никакое не преувеличение: вернувшись из Флоренции в Романью, Сфорца начал забрасывать Козимо письмами; написанные на одном из итальянских диалектов, они неизменно начинались обращением: «Magnificetanquam Pater carissime» («Великий и драгоценный почти отец»). Козимо приобрел сильного и опасного друга.
Козимо де Медичи достиг ныне вершины своего могущества, вступая в тот период своей жизни, который принес ему место в истории. Теперь ему предстояло стать чем-то большим, нежели исключительно ловким банкиром, умелым и гибким правителем, даже щедрым и разборчивым меценатом. Таких людей обычно забывают по смерти, но Козимо избежит забвения и предстанет богатейшим человеком своего времени, основателем целой династии, личностью, давшей мощный импульс первому расцвету Ренессанса. И все же что это был за человек, который накрепко свяжет имя Медичи с одним из поворотных этапов всей западной культуры?
Существует несколько современных портретов, большинство из них несколько приукрашивают невыразительную, в общем, внешность, хотя и намекающую на то, что за видимостью светского человека скрываются унаследованные Козимо от отца некоторые черты тяжелого, взрывного характера. И на сей раз наиболее ярким оказывается посмертный портрет: принадлежащий кисти Якопо да Понтормо, он был написан более чем через пятьдесят лет после смерти Козимо. Лести, стремления приукрасить здесь немного; это выдержанный и в то же время глубокий психологический этюд, воссоздающий образ замечательного человека в его цельности.
Четкие линии отличаются несомненным правдоподобием, и вполне возможно, что художник пользовался в качестве образца несохранившимися набросками, сделанными при жизни Козимо. Козимо позирует в простом, но хорошо сшитом, с меховым подбоем алом костюме; его землистого цвета, с впалыми щеками лицо повернуто в профиль, что еще более подчеркивает крупный, как у всех Медичи нос, и большое мясистое ухо. Но что более всего бросается в глаза и на что содержится намек даже в современных Козимо, приукрашенных портретах, так это несколько скособоченная, словно ему неудобно сидеть, поза Козимо.
В более поздние годы Козимо будет страдать от подагры и артрита, но на портрете Понтормо отражается как будто нечто иное, нежели просто физический недуг, — чувствуется некий душевный непокой. Всего интереснее руки, они некрасиво переплетены и в то же время выразительны; они привлекают к себе внимание уже одной только неспособностью застыть в покое. На портрете изображен вовсе не аристократ, находящийся в ладу с самим собой, своей семьей и всем, что унаследовано, — это сын человека из народа, тайно осознающий свои слабости, свою обыденность. Да, не исключено, Козимо унаследовал от отца взрывную натуру, укрепив ее собственными амбициями, но в то же время ему сопутствовала обыкновенная человеческая удача, и он воспринимал ее как огромное благо. Таков был человек, которому предстояло сделать столь многое для развития нового возникшего во Флоренции гуманизма и сыграть столь выдающуюся роль в становлении Ренессанса, который и явился, собственно, порождением гуманистической мысли.
7. ЗАРЯ ГУМАНИЗМА
Как мы видели, корни гуманизма ведут к таким фигурам XIV века, как флорентийский поэт Петрарка, умерший за пятнадцать лет до рождения Козимо де Медичи. Петрарка чувствовал, что его поэтический темперамент не способен примириться с тем типом потусторонней духовности, что утверждало средневековое христианство. В писаниях античных авторов он улавливал совершенно иное мирочувствование, которое отнюдь не отрицает посюстороннюю действительность в пользу некоей будущей жизни, но, напротив, утверждает чувственность, устремления, возможности человека. Оказывается, добро можно усматривать не только в стремлении к чисто духовным ценностям, не заказано стремиться и к полному выражению нашей человечности в мире здешнем.
Большинство оригиналов античных авторов было утеряно после падения Римской империи и наступления Темных веков, а сохранились в основном выхолощенные, христианизированные комментарии к этим произведениям. Петрарка посвятил себя поиску утраченных манускриптов и в ходе своих странствий по Европе обнаружил целый ряд важных сочинений, включая несколько рукописей Цицерона, писавшего о гражданских добродетелях и принципах добропорядочной жизни, во благо и индивиду, и обществу в целом. Вот свежий, положительный подход к жизни: оказывается, мраку Темных веков предшествовала большая динамичная эпоха, и с этим открытием приходит понимание того, что она, минувшая эпоха, поддается восстановлению.
Несмотря на нашествие Черной Смерти в середине XIV века, Флоренция оставалась центром нового интереса к классике, который и породил гуманизм; отсюда же происходит современное понятие «гуманитарные науки». Как тогда, так и сейчас под этим подразумевается широкое поле интеллектуальных исканий, расположенное между теологией, с одной стороны, и натурфилософией (естественными науками) — с другой. Гуманизм, как и гуманитарные науки, делает упор скорее на человеческий, нежели духовный или технологический аспект знания. Так был сделан первый шаг к пониманию личностного начала как общечеловеческого свойства.
Следует, однако, иметь в виду, что то, о чем идет речь, представляло собой процесс долгого и постепенного развития. Многие из тех ценностей, свойственных средневековой мысли, не будут отброшены мгновенно либо полностью. Новый гуманизм разовьется в бесспорном и всепроникающем контексте христианского вероучения. Самые ранние возрожденческие произведения живописи, литературы, архитектуры были целиком пропитаны религией: на картинах изображались библейские сюжеты, поэзия имела набожный характер, архитекторы строили церкви и т.д. В общем, то, что рассматривалось как новаторские черты формирующихся гуманистических представлений, проявлялось нередко как небольшой сдвиг в нюансах. Приближение Ренессанса, как и его полный расцвет, следует рассматривать не как некий внезапный прорыв в совершенно новую эру, но как цепь медленных комплексных перемен. То, что в XIV веке выглядело прозрениями Петрарки, минует несколько долгих, на два века растянувшихся стадий, прежде чем достигнет своего полного осуществления.
Одной из ведущих фигур во флорентийских гуманистических кругах на рубеже XV века был Никколо Никколи, ставший другом юного Козимо де Медичи. Будучи на двадцать пять лет его старше, Никколи происходил из семьи одного из тех торговцев шерстью, что сделали состояние, когда Флоренция оправлялась от последствий Черной Смерти. Хотя и унесла чума почти половину населения города, возрождение шло относительно быстрыми темпами, отчасти потому, что беда ударила прежде всего по беднякам и неквалифицированным рабочим. Те же, кто располагал хоть какими-то деньгами, а таких во Флоренции было значительно больше, чем в иных, менее преуспевающих и менее демократических обществах, просто удалились в сельскую местность.
Никколо Никколи станет одним из первых арбитров той идеологии и тех художественных вкусов, которые сформируют Ренессанс, а разыскания старинных текстов и пропаганда идей античности и вовсе превратится в главное дело его жизни. Вскоре после знакомства с молодым Козимо они оба засобирались в Святую землю на поиски греческих манускриптов, но этому воспротивился Джованни, и Козимо стал обучаться семейному банковскому делу. Вряд ли он долго сожалел об этом: пройдет время, и Козимо сделается исключительно способным, пусть, наверное, и слишком осторожным банкиром, в духе отца. В то же время полученное им гуманистическое воспитание и рано завязавшаяся дружба с Никколо Никколи тоже затронули какие-то важные струны его характера, ибо по смерти отца Козимо начал отдавать немалую часть своей кипучей энергии осуществлению различных гуманитарных проектов. Финансируя, после отхода от дел, строительство церквей, Джованни прежде всего следовал флорентийским понятиям о гражданском долге. Иное дело Козимо — для него это была внутренняя потребность, и все то время, деньги, энергия, которые он будет посвящать такого рода деятельности, лишний раз покажут, что в первые сорок лет его жизни эту потребность просто приходилось подавлять.
В глазах многих флорентийцев, в том числе, разумеется, и Джованни ди Биччи, Никколи был личностью вполне неоднозначной. Расхаживая в античной римской тоге и всячески демонстрируя свою «тонкую восприимчивость», он представлял собой несколько абсурдную фигуру и выглядел скорее записным аристократом, который просто проматывает полученное наследство. В то же время были в его характере и сила, и твердость, и вместе со своим другом, старейшиной среди флорентийских государственных мужей Палла Строцци, он сыграл выдающуюся роль в становлении Флорентийского университета, который был основан в 1321 году, но вскоре погрузился в трясину средневековой схоластики. В 1397 году Никколи и Строцци удовлетворили давнее желание Петрарки образовать в университете кафедру по изучению культуры Древней Греции, что позволило заняться недавно обнаруженными рукописями Платона; для этого они назначили на профессорскую должность Мануэля Хрисолораса, исполнявшего в Италии обязанности посланника византийского императора (древнегреческий в средневековые времена не пользовался сколько-нибудь значительной популярностью, даже Петрарка не вполне овладел им, главным образом потому, что не было хороших учителей).
Влияние Никколи во Флоренции было практически безграничным: на протяжении первых трех десятилетий XV века он председательствовал на всех городских собраниях интеллектуалов, играя таким образом роль неформального министра культуры. Помимо содержания роскошного дома во Флоренции, Никколи платил специально отобранным людям, которые по его поручению разъезжали по Европе в поисках старинных рукописей — дорогостоящее занятие, которое в конце концов едва не поставило его на грань банкротства. Избежать его удалось лишь благодаря закулисному вмешательству Козимо, отдавшего распоряжение всем филиалам банка Медичи безоговорочно принимать к оплате переводные векселя Никколи. Это было весьма кстати, тем более что резкие манеры Никколи отталкивали от него людей за пределами флорентийского круга гуманистов, да и там нередко вспыхивали острые конфликты. Но самые шумные ссоры происходили дома, с любовницей Бенвенутой, которая до того жила с младшим братом Никколи: если верить источнику того времени, эта «сирена приобрела благодаря своему обаянию и обольстительным манерам такую власть над Никколо, что вопреки своим лучшим принципам» он увел ее у брата. Платой стало открытие того, что Бенвенута требует куда большего внимания, нежели готов или может уделить ей ученый-гуманитарий, и в результате тихая холостяцкая жизнь в доме превратилась в настоящую драму с ее театральными эффектами.
Строгий вкус не позволял Никколи заниматься оригинальным творчеством, ибо, пытаясь запечатлеть свои идеи на бумаге, он остро ощущал то, что ему казалось слабостями, хотя в каком-то роде его писания будут иметь продолжительный отклик в Италии. У Никколи была привычка делать копии редких манускриптов, хранящихся в его домашней библиотеке. Те же, что приобрести не удавалось, он одалживал, чтобы записать их содержание — век книгопечатания был еще впереди, и иного способа распространения книжного знания не существовало. По иронии судьбы, именно эта техническая работа оставит наиболее определенный и долговечный след: выработанный им специально для переписки редких манускриптов ясный, четкий, с наклоном вперед шрифт будет впоследствии, уже после его смерти, взят на вооружение первыми итальянскими печатниками и получит наименование italic — курсив.
Влияние Никколи выйдет за пределы литературы и сыграет весьма немаловажную роль в формировании творческой манеры таких художников, как Донателло и Брунеллески, которые познакомились с ним в доме Козимо. Именно Никколи привил Донателло острый интерес к классической скульптуре, и он же открыл Брунеллески глаза на чудеса античного Рима, лежащего в руинах под тусклым средневековым городом, выросшим на его месте. После смерти Никколи в 1437 году восемьсот книг его библиотеки унаследовал Козимо. Никколи всегда считал свое собрание общим достоянием, открытым любому ученому и художнику, подверженному тому же духу вопрошания, что и хозяин, и он был уверен, что Козимо сохранит и разовьет эту традицию публичности. Четыреста манускриптов Никколи составят ядро библиотеки Медичи, которую Козимо откроет в 1444 году, при переезде в палаццо Медичи на виа Ларга. К унаследованным Козимо добавит манускрипты из собственного собрания, и таким образом возникнет первая в Европе публичная библиотека. Ее читателям предоставлялась возможность брать оригиналы на дом, Козимо же постоянно увеличивал библиотечные фонды. Было время, когда он нанимал не менее сорока пяти переписчиков, которые за два года изготовили более двухсот копий. Впоследствии Козимо разделит унаследованные от Никколи манускрипты на две части — одну оставит во Флоренции, другую передаст библиотеке, созданной им при венецианском монастыре Сан-Джорджио Маджоре — в знак благодарности за гостеприимство, оказанное изгнаннику.
Еще одно новшество состояло в том, что библиотека Козимо питала людей сведениями, источником которых была не только церковь — она стала первым носителем нового светского знания. А с другой стороны, манускрипты, предоставленные Козимо для библиотеки в Сан-Джорджио Маджоре, учреждении религиозном, знаменовали расширение круга знаний, доступных в церкви. Последняя теряла свою средневековую монополию на ученость, но поначалу не было никакого конфликта — светское и сакральное знание сосуществовали в мире и согласии.
Долгое время наиболее ценным сотрудником Никколи, разыскивающим по его поручению манускрипты во всех уголках Европы, оставался Поджо Браччолини, которому — и как писателю, и как коллекционеру — предстояло стать еще одной яркой звездой среди гуманистов, окружающих Козимо. Браччолини родился в 1380 году в семье бедного аптекаря в городке Ареццо, в сорока милях к юго-востоку от Флоренции. По слухам, он перебрался туда в восемнадцатилетнем возрасте, фактически без гроша в кармане. Каким-то образом ему удалось поступить в университет, где он изучал право и, между делом, древнегреческий, будучи одним из первых, кому повезло сделаться учеником нового профессора, Мануэля Хрисолораса, ныне общепризнанного основателя итальянской школы изучения греческой античности. После окончания университета в 1403 году Браччолини получил место писца при папском дворе, а когда семь лет спустя Бальдассаре Косса стал папой Иоанном XXIII, он сделал его главным составителем папских эдиктов и своих посланий. В 1414 году Браччолини сопровождал Иоанна XXIII на роковое для него заседание собора в Констанце, и там-то он сблизился с молодым Козимо де Медичи, другим участником папской свиты.
Затем, судя по всему, Браччолини несколько лет оставался чем-то вроде вольного охотника, прочесывая монастыри Швейцарии, Германии и Франции в поисках утраченных древних рукописей по поручению самых разных лиц, включая Никколо Никколи и Козимо де Медичи, который недавно тоже пристрастился к их коллекционированию. Несмотря на свою устремленность к высокому знанию, Браччолини не чурался браконьерских способов получения того, что ему было нужно; он копировал рукописи, даже если это было недвусмысленно запрещено, и нередко подкупал, либо деньгами, либо лестью, настоятелей монастырей. Оказываясь в пыльных монастырских погребах, он не брезговал пользоваться потаенными карманами своего плаща; хитроумия ему было не занимать, а в результате развитие знания в Италии получало новый импульс, а охотник — щедрое вознаграждение. Таким образом Браччолини и продолжал свои странствия, к которым постепенно начал привыкать; право же, как говорят сведущие люди, его пристрастие к античности равнялось только его же пристрастию к хорошей еде и красивым женщинам.
Среди находок Браччолини был целый ряд забытых манускриптов, которые он обнаружил в темнице одной из башен швейцарского монастыря Сен-Гален, хотя более всего он прославился, обнаружив в 1417 году полную рукопись работы римского поэта I века до новой эры Лукреция «О природе вещей», считавшуюся пропавшей после падения Римской империи и известную только по кратким цитатам в работах других авторов. «О природе вещей» — большая поэма, шесть книг которой включают в себя псевдонаучное объяснение устройства вселенной, с опорой на таких древнегреческих философов, как Демокрит и Эпикур, которые удивительным образом описывали мир как материю, состоящую из атомов и управляющуюся законами науки и не оставляющую места никаким богам. В своей поэме Лукреций развивает эпикурейский взгляд, согласно которому людям следует стремиться к наслаждениям и избегать боли; философия существует для того, чтобы исцелять человечество от страха перед смертью и богами; религия же предстает в виде устрашающего монстра, взирающего на землю откуда-то с небес. Оказывается, еще полтора тысячелетия или около того назад Лукреций сформулировал многое из того, что в раннегуманистическом мировоззрении все еще пребывало в зачаточном состоянии: вот стимул для самопознания человечества, для раскрытия устройства мира, свободного от метафизических влияний.
Браччолини послал рукопись Лукреция Никколи во Флоренцию, где тот тщательнейшим образом изготовил своим четким курсивом копию — предосторожность нелишняя, ибо впоследствии найденный Браччолини оригинал был утерян, и дошел до нас Лукреций как раз в копии, сделанной Никколо. Через год после этой фантастической находки Браччолини на четыре года отправился в Англию в надежде на новые открытия, но, к его разочарованию, выяснилось, что из-за влажного климата многие древние рукописи покрылись плесенью и стали нечитаемы. По возвращении в Италию Браччолини с радостью вернулся в прежнем качестве на службу при папском дворе, что позволяло ему продолжать поиски, да и заниматься сочинением собственных работ. В отличие от многих других должностей в папской канцелярии его работа не требовала принятия никаких обетов; потому в возрасте пятидесяти шести лет Браччолини решил, что пора угомониться, и женился на восемнадцатилетней девушке, родившей ему шестерых детей — вдобавок к четырнадцати внебрачным.
Впоследствии Браччолини навсегда вернулся во Флоренцию, где стал играть ведущую роль в кругу гуманистов и сделался близким другом Козимо. В 1427 году они даже совместно отправились на каникулы в Остию и занялись раскопками античных руин, на которые до тех пор мало кто обращал внимание. Еще одно свидетельство тесной дружбы, связывающей этих двух людей, относится к годам изгнания Козимо, когда Браччолини слал ему ободряющие, хотя и несколько лицемерные письма, изобилующие философскими сентенциями в таком примерно роде: «Будь благодарен за то, что жизнь предоставила тебе эту возможность испытать столь великие добродетели». Любопытно, но Браччолини как будто примирился с тем, что Козимо не вернется во Флоренцию, и утешал его: «Куда бы ни забросила тебя судьба, считай, что это твоя родина». Это, пожалуй, свидетельствует о том, что в ту пору во Флоренции так думали многие.
Браччолини также советовал Козимо, как ему упорядочить растущую коллекцию рукописей, и вполне возможно, что именно по его рекомендации Козимо призвал Кириака из Анконы, известного в ту пору негоцианта и торговца произведениями античного искусства. Кириак разъезжал по Ближнему Востоку и северу Африки, переписывая надписи, высеченные на руинах классических времен, и делая первые описания местоположения античных памятников, (столетия спустя они станут неоценимым подспорьем в работе археологов). Козимо отправил Кириака в коммерческую поездку в Константинополь, Святую землю и Египет, в ходе которой ему, впрочем, следовало заниматься и продолжением поисков рукописей; быть может, именно это легло в основу знаменитой, хотя, может быть, и чересчур восторженной характеристики, которую дал Козимо историк Эдвард Гиббон: «Его богатство было поставлено на службу человечеству; в одно и то же время он поддерживал связи с Каиром и Лондоном; индийские специи и греческие книги нередко переправлялись одним и тем же судном».
Если литературные произведения хоть в какой-то степени являются путеводителем по характеру человеческому, то можно утверждать, что именно таким спутником Козимо, обаятельным и забавным, стал Браччолини. Его работы — один из лучших литературных образцов этого раннегуманистического периода: они отличаются тонким стилем, остроумием, оригинальностью, наконец, чрезвычайным жанровым разнообразием, от сальных историй до глубоких философических диалогов. В одном из последних, «О несчастьях государей», Никколи предстает как воплощение классического вкуса, Козимо же выглядит весьма прагматичным, но при этом просвещенным банкиром. Уже говорилось, что Браччолини, если его задеть, мог впадать в такую ярость и в такое злоязычие, которые даже в этот век полемики и ниспровержения всего и вся казались чем-то необыкновенным, — его писания изобилуют нападками на погрязшую в коррупции церковь и лицемерие священников — отцов незаконнорожденных детей (тема, в которой автор был бесспорным знатоком). Между прочим, оставил след в истории и четкий почерк Браччолини: вместе с манерой ясно отделять друг от друга слова он усвоил его из немецких рукописей XI века. В письме последующих времен на смену ему пришла беглая, но трудно различимая готика, столь любезная наскучившим своей работой монахам-копиистам средневековых монастырей. Потому-то итальянские печатники следующего столетия и обратились к рукописям Браччолини, используя их в качестве образца шрифта, названного впоследствии романским. Он и поныне является самым распространенным книжным шрифтом (им набрана и книга, находящаяся сейчас в ваших руках). В семидесятитрехлетнем возрасте Браччолини была оказана весьма тронувшая его честь — он был избран канцлером Флоренции. Наверняка немалую роль сыграл в этом его друг Козимо де Медичи. Шесть лет спустя Браччолини скончался, и Флоренция с почестями проводила писателя, о латыни которого говорили, что она сладка как мед, и который, сидя за письменным столом, предпочитал общество красивой женщины «длиннорогому буйволу» (весьма экстравагантная метафора для описания средневекового монастыря).
Другая видная фигура во флорентийском кругу гуманистов, где Козимо был завсегдатаем, — сын его врача Марсилио Фичино, родившийся в 1433 году. Странный вид являл он собой — карлик с покалеченной ногой, человек с духовными устремлениями, однако же нередко демонстрирующий свой буйный нрав. Поначалу он занимался медициной, но параллельно изучал древнегреческий и, рано обнаружив глубокий интерес к наследию Платона, в конце концов завоевал репутацию крупнейшего во Флоренции знатока его работ. Козимо тоже чрезвычайно интересовался Платоном, но ему не хватало квалифицированных переводов, потому он, можно сказать, усыновил Фичино, выстроив ему отдельный коттедж у себя в Муджелло, где тот специально для него переводил на латынь диалоги Платона, один за другим. Летом, когда, спасаясь от городской духоты, Козимо удалялся в свое поместье, он нередко приглашал Фичино к себе, и они засиживались за полночь, читая вслух и рассуждая о Платоне.
Образ жизни Козимо всячески располагал к философским размышлениям. Ростовщичество, составлявшее основу процветания его банка, все еще, строго говоря, считалось смертным грехом, и это сильно беспокоило его; равным образом заставляли его задумываться о том, нравственна ли его жизнь, всякого рода политические махинации, в которые он неизбежно вовлекался, занимаясь делами города. За внешностью строгого гуманиста скрывалось смятенное, измученное сердце, и рассуждения Платона о бессмертии души, точно так же, как и созданный им набросок идеальной республики, управляемой государем-философом, мысли Платона о том, что необходимо для праведной жизни, — все это глубоко трогало Козимо.
Фичино в какой-то момент изложит свои собственные, в неоплатоническом духе, идеи на сей счет. По его суждению, бессмертие души зависит от меры ее участия на протяжении земной жизни в божественных промыслах разума, согласия и самодостаточности. В сочинениях древнегреческих философов он усматривал предчувствие истины, как ее понимает христианская религия, и пытался объединить языческую философию Платона и христианство в сплаве ясно выраженной гуманистической веры. Платонические идеи красоты, истины и абсолюта сделались центром мыслительной деятельности Фичино, а интерпретация этих понятий приобрела необыкновенную влиятельность в гуманистической среде флорентийских художников и литераторов. По его знаменитому определению, красота заключена «не в тени существа, но в свете и форме; не в скрытой материи тела, но в его видимых пропорциях; не в грубой весомости мерзкой плоти, но в числе и мере». Едва ли не манифест художника-гуманиста.
В то же время Фичино не во всем был согласен с гуманистами; его отличала повышенная духовность, и в возрасте тридцати лет он принял священнический сан. Однажды зимней ночью, читая в своем домике Лукреция, он почувствовал такое возмущение его эпикурейской легкостью, что швырнул книгу в огонь. Козимо был не единственным, кого глубоко волновали противоречия, вызванные попытками жить и думать по-новому.
8. ВОСТОК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЗАПАДОМ
Ровно через четыре года после возвращения из ссылки Козимо добился крупнейшей победы Флоренции на мировой арене. В 1439 году в городе собрался большой Вселенский собор, призванный разрешить противоречия между римской католической и православной константинопольской церквами.
Раскол между ними уходит во времена позднего Рима, когда христианизированная империя распалась на две части. Восток — Византия — греческая церковь отстаивали строгую ортодоксию, не признавая никаких отклонений от изначальных канонов христианства, в то время как Запад — римская церковь пережила на протяжении столетий некоторую эволюцию. В результате ни одна не признавала за другой верности истинному христианству.
Это противостояние еще более усилилось в 1204 году, когда участники Четвертого крестового похода появились в Константинополе на пути в Святую землю. Войдя в город, крестоносцы устроили настоящую оргию, они бесчинствовали, насиловали, крушили все на своем пути и даже усадили на императорский престол в церкви Святой Софии пьяную проститутку. После подобного дебоша перспективы объединения Рима и Константинополя представлялись весьма смутными, но два столетия спустя мусульмане Оттоманской империи завоевали большую часть Турции и начали представлять угрозу самому Константинополю. Император Византии Иоанн VII Палеолог обратился за помощью к папе — «во имя Христа». Евгений IV откликнулся на этот призыв, предложив провести встречу иерархов обеих церквей, на которой можно будет попытаться разрешить доктринальные различия. Император Византии принял предложение и в сопровождении семисот спутников, в число которых входили 23 епископа, отправился морем на север Италии, в Феррару.
Византийские представители достигли цели в январе 1438 года. В это время город насквозь продувался ледяными ветрами с Альп, и местные власти ломали голову, как им разместить и римлян, которых тоже приехало немало, и неожиданно большую делегацию из Константинополя.
Папа Евгений IV вел монашеский образ жизни, о финансах понятия не имел и потому вечно сидел в долгах. И вот он оказался в положении хозяина, который должен оплачивать пребывание византийского императора, его бесчисленной свиты и даже входящего в нее зверинца экзотических домашних животных. Евгений IV занял у банка Медичи 10 000 флоринов, но вскоре выяснилось, что этой суммы безнадежно не хватает; он вынужден был взять еще столько же — но и этого оказалось мало. Тогда, не прибегая более к помощи Медичи, папа сделал еще один крупный заем, хотя для этого ему пришлось практически заложить средневековую крепость в Ассизи.
Козимо де Медичи наблюдал за происходящим из близлежащей Флоренции, но когда до него донеслись слухи о том, что в Ферраре разразилась эпидемия чумы, он решил, что настала пора действовать, и отправил к папе своего брата Лоренцо. Тот предложил от имени Козимо перенести заседание Вселенского собора во Флоренцию с ее более здоровым климатом, а расходы на переезд городская казна берет на себя. Помимо того, Флоренция готова выплачивать 1500 флоринов в месяц на покрытие потребностей собора, сколько бы он ни заседал. Евгений IV прекрасно понимал, чем руководствуется Козимо: ясно ведь, что подобный шаг неимоверно повысит престиж города, а помимо того, породит мощный торговый бум, от которого выиграют местные коммерсанты, не говоря уже о банкирах. Но выбора у папы практически не было. С наступлением летней жары эпидемия скорее всего только усилится, потому и решено было перебраться во Флоренцию.
По такому случаю Козимо даже решил пренебречь своей обычной осмотрительностью и сделал так, чтобы гонфалоньером избрали его: теперь он будет приветствовать папу и императора в качестве градоначальника. В день прибытия делегаций на улицах вывесили флаги, по всему ходу следования были выставлены герольды в парадной одежде и с трубами, на балконах, в окнах, даже на крышах домов битком скопились граждане.
Но первое, что встретило во Флоренции императора и его растянувшийся на сотни метров кортеж, был внезапный ливень, сопровождавшийся сильнейшими порывами ветра. Лило с такой силой, что люди вскоре бросились под укрытие, балконы опустели, любопытствующие спустились с крыш, оставив промокших до нитки спутников императора продолжать свой путь по пустым улицам. Вскоре он кончился в каком-то переулке, у первого попавшегося палаццо, по комнатам которого гости разошлись сушиться.
Несмотря на столь неудачное начало, Вселенский собор вскоре приступил к работе, и современный флорентийский книготорговец Веспасиано отмечает в своих ярких воспоминаниях: «Ясным днем папа вместе со своим двором, император греков, епископы и прелаты собрались в Санта-Мария дель Фьоре, где уже было готово все, чтобы принять иерархов обеих церквей». В огромном гулком помещении, под сводами величественного купола работы Брунеллески начались дискуссии. Почти сразу же делегаты перешли к обсуждению ключевых вопросов доктринального свойства. Следует ли во время мессы вкушать хлеб, приготовленный на дрожжах (православные), или нет (католики)? Когда души мертвых проделывают предназначенный им путь в рай или ад, проходят ли они предварительно чистилище (католики) или сразу попадают по месту назначения (православные)? Но самые острые споры разгорелись вокруг Святой Троицы: исходит ли Дух Святый от Отца и от Сына (католики) или только от Отца (православные)? Копья скрещивались вокруг больного вопроса принимать или не принимать пресловутое «филиокве» (Filioque — «и от Сына»).
Но более всего воздействие самого собора ощущалось не в зале заседаний или кулуарах, а на улицах, где на глазах флорентийцев, а в особенности флорентийских художников разыгрывался невиданный доселе спектакль. Каждодневно им встречалось множество бородатых, экзотически облаченных в роскошные шелковые одеяния прелатов. Рассказы очевидцев содержат восторженные описания закутанных с головы до пят в черные рясы, с черными цилиндрами, поверх которых накинут черный покров, греческих архиепископов; поверх рясы у них накинуты ярко раскрашенные накидки с белыми и алыми вертикальными полосами. По словам Веспасиано, в состав участников собора входили, между прочим, «...армяне, яковиты (еретики-монофизиты из Македонии), эфиопы, посланные пресвитером Иоанном (легендарным христианским правителем Востока)»[2]. Были здесь, естественно, украинцы и русские с их прислугой из татар; других сопровождали мавры, берберы, негры из черной Африки. По крайней мере одна делегация привезла с собою домашних обезьян, кое у кого были экзотические певчие птицы в клетках, а также дрессированные гепарды — вся эта живность впоследствии найдет отражение на рисунках флорентийских художников. И даже на флорентийскую кухню гости оказали некоторое воздействие. Было замечено, что император Византии любит, чтобы яйца были приготовлены особым способом — вылиты на раскаленную сковородку, перемешаны с травами и специями, а затем переложены на тарелку. Так флорентийская кухня обогатилась омлетом.
Летними вечерами, поужинав и оставив позади теологические споры, во дворцах, где остановились посланцы Востока, на свои приватные встречи собирались ученые. Особенный интерес представляли те, в которых участвовал архиепископ Виссарион, известный теолог и философ из Трапезунда[3]. Другой звездой подобных встреч был Гемистос Плетон, непревзойденный знаток Платона. Затаив дыхание, Козимо и его друзья-гуманисты внимали тому, как Плетон толкует учение Платона об идеях. Люди подобны пленникам в цепях. Они сидят в темных пещерах и смотрят на стену, и мир, который они видят, состоит лишь из теней, извивающихся на стене пещеры. Чтобы открыть глаза и постичь истину, люди должны отвернуться от этих теней и взглянуть на подлинную действительность — действительность идей, существующую снаружи пещеры.
Жизнь Козимо была иной: напротив, он всегда был человеком от мира сего, поглощенным своими бухгалтерскими книгами и постоянно принимающим меры к исполнению своих политических планов. И все же какие-то струны в его душе учение Платона задевало, удовлетворяя, наверное, некие потаенные, так и неосуществившиеся духовные устремления: не исключено, что это был отзвук его юношеской влюбленности в античность, от которой он отвернулся под давлением отца. Именно эти собрания ученых из Византии побудили Козимо заказать Фичино переводы Платона на латынь, чтобы он сам мог читать его. Тогда же Козимо начал подумывать о возможности создания школы, подобной той, что учредил Платон в Афинах более чем тысячу восемьсот лет назад. Он откроет во Флоренции Платоновскую Академию, где будут обсуждаться и распространяться среди интеллектуалов-единомышленников философские идеи; и эти интеллектуалы станут факелоносцами нового знания.
После четырех долгих жарких месяцев, прошедших в дебатах, Вселенский собор выработал наконец теологическую формулу, позволяющую двум церквам объединиться под сенью христианства, — схизма, продолжавшаяся около четырех столетий, осталась позади. Папа признается высшим иерархом церкви, византийцы идут на компромисс в ключевом вопросе о Святом Духе (это стало возможным только потому, что византийцы и сами были не вполне тверды в своей позиции, что, в свою очередь, объяснялось в основном тем, что они каким-то образом забыли в Константинополе соответствующие своды церковных канонов).
Заключительное заседание собора состоялось 6 июля 1439 года, когда документы, объединяющие две церкви, были в торжественной обстановке подписаны и скреплены печатью. Как пишет Веспасиано, «на этом знаменательном событии присутствовала вся Флоренция». По одну сторону стола сидел папа и высшие сановники католической церкви, «по другую, — продолжает Веспасиано, — стояло кресло, обитое шелковым полотном, которое занимал император, одетый в богатое платье из дамасской парчи и греческую шапочку с роскошным ожерельем наверху. Это был исключительно красивый мужчина с бородой, подстриженной по греческой моде». Сначала на латыни, затем на греческом была зачитана прокламация: «Да возрадуется небо и возликует земля: стена, разделяющая Западную и Восточную церкви, пала. Вернулись мир и согласие». Римские кардиналы и греческие архиепископы заключили друг друга в объятия, затем опустились на колени у папского трона.
Император Иоанн VIII Палеолог отплыл в Константинополь, в ожидании войск, обещанных папой для защиты города от турок. Но по его прибытии, когда подписанные соглашения стали достоянием гласности, население решительно восстало, в городе повсеместно начались беспорядки. Жители Константинополя и слышать ничего не хотели о договоре, который казался им предательством веры. В результате соглашение пошло прахом, что предопределило судьбу города: четырнадцать лет спустя, в 1453 году, султан Мехмед Завоеватель подошел во главе своей огромной оттоманской армии к стенам Константинополя и осадил город. По прошествии некоторого времени нападающим удалось проделать в стене брешь, через которую в город хлынули турки. Три дня продолжалась резня, в ходе которой голова последнего императора Византии Константина XI была отсечена от тела при помощи ятагана и под рев собравшейся на Ипподроме толпы была водружена на шест.
В результате осады славный некогда город превратился в собственную тень. Опасаясь худшего, многие бежали заранее, и среди них — немало ученых и философов. Они держали путь в Италию, где их ждала новая жизнь. Архиепископа Виссариона удалось убедить остаться там сразу после завершения работы Вселенского собора, папа сделал его кардиналом. Так Италия стала прибежищем для греческих ученых, и публика буквально помешалась на всем греческом. Вскоре детей из семей, принадлежащих к высшим слоям общества, начали обучать древнегреческому, а умение говорить по-гречески признавалось теперь высшим проявлением интеллектуальной моды. Со временем для описания ее во Флоренции родился термин: rinascimento, то есть ренессанс, возрождение.
Термин этот, в современном его понимании, впервые возник под пером флорентийского художника и биографа XVI века Вазари, хотя, читая его, можно подумать, что за последние несколько лет он уже вошел в более или менее широкое употребление. Во Франции термин возник только в начале XIX века, а в середине столетия, когда стоящая за ним художественная действительность была осознана исторически и стала концептуально ассоциироваться с определенным временем, прижился в Германии и Англии.
Ренессанс знания в Италии XV века, особенно во Флоренции, получил новый импульс от редких греческих рукописей, которые привезли с собой ученые, бежавшие из Константинополя. Они охватывали широкий круг предметов, включая те, что на Западе были либо неизвестны, либо забыты, от философии до математики, от алхимии до астрологии. Всем этим предметам предстоит пережить возрождение: наступающий век станет свидетелем расцвета и рационального и иррационального, и смысла и бессмыслицы. После долгого воздержания Средних веков жажда знания обретет универсальный характер.
Приток рукописей позволил Козимо де Медичи еще более расширить свою и без того огромную библиотеку, которая на пике своем включала в себя более десяти тысяч текстов на древнегреческом, латыни и иврите. Это был один из немногих случаев, когда Козимо отклонился от отцовского пути: у Джованни де Биччи было всего три книги, все о средневековой теологии. Отойдя от дел, Джованни обнаружил интерес к общественным работам — традиционно считалось, что именно так богатые флорентийцы должны оказывать услуги своему городу. В данном случае Козимо как раз последует примеру отца, причем в таких масштабах, о которых даже вообразить трудно.
9. НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА: ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ КУПОЛ И СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Новый гуманизм, выросший из переосмысления античной мысли и литературы, откроет, в свою очередь, дорогу к Ренессансу, который начался как «возрождение», но вскоре развился в оригинальное явление. Существует некая общая нить, которая пронизывает этот долгий и постепенный процесс, достигший полного расцвета в XV веке. Эта нить — знание. Ранние гуманисты заново открыли его, а художники Ренессанса придали объем. Наиболее характерное и оригинальное выражение Ренессанс нашел в искусстве, но вот что критически важно: сами художники видели в своих произведениях форму знания, и по крайней мере в этом отношении переход от гуманизма к Ренессансу проходил в высшей степени гладко.
Художники Ренессанса создавали образы, чье отличие от картин их средневековых предшественников бросается в глаза. Это отличие определяется отказом от прежней стилистики и формального канона, и хотя многое от средневековой религиозной символики сохраняет свою силу, ей все очевиднее бросает вызов психологический реализм, которым художники нового времени насыщают свои произведения. Человеческие фигуры изображаются со всем правдоподобием, свойственным классическим образцам, и помещаются в узнаваемый пейзаж. И хотя сюжеты и герои по-прежнему по преимуществу самым тесным образом связаны с религией (святые, Мадонна, библейские сцены и так далее), все реже выглядят они трансцендентальными или метафизическими образами, все чаще воспринимаются как если бы жили они в реальной действительности, в отмерянные им сроки. Искусство становится формой знания о человеке, понимания чисто человеческого удела; это новое искусство стремится научить человека самопознанию и познанию мира почти в научном стиле — да в общем-то оно во многих отношениях и стремилось быть наукой. Как увидим, художники позднего Ренессанса, такие как Леонардо да Винчи, будут даже использовать свое искусство для обнажения тайн природы и человеческого естества — изображать сложное течение воды, анатомию человеческого тела, а также рисовать чертежи или изобретать сложные механические объекты. Вот это важно помнить — представление об искусстве как о форме знания всегда оставалось интегральной частью революционного сдвига в искусстве; с самого начала ренессансные художники видели в себе открывателей новых истин — в области искусства, техники, человеческой природы, мира.
Первые образцы этого нового направления в искусстве возникнут в Италии XV века, почти исключительно во Флоренции. Почему именно здесь, почему не в Неаполе или Венеции, Милане или Риме? Ведь и эти города вполне процветали, и в них ощущалась тяга к просвещенности, и они были связаны живыми нитями с международной торговлей. Но в то же время у каждого были свои особенности, препятствующие новаторству, независимости и широте взгляда, абсолютно необходимым для осуществления такого крупного переворота, каким является Ренессанс. В Неаполе и Милане царила автократия; Рим оставался по преимуществу провинциальным городом, зависящим от капризов того или другого понтифика; Венеция твердо пребывала под властью высшей аристократии. Ну а Флоренция воспринимала себя как демократическую республику, и ее псевдодемократия была сколь показной, столь и подверженной коррупции, и, вполне возможно, именно эта политическая нестабильность оказалась питательной почвой для всякого рода новшеств. К тому же в этом городе поддерживалась давняя традиция меценатства: предполагалось, что процветающие коммерсанты должны воспринимать содействие вящей славе Флоренции как свой патриотический долг. Частично именно поэтому здесь издавна процветали искусства — еще в XIV веке и Данте, и Петрарка, и Боккаччо были тесно связаны с Флоренцией, которая по-прежнему воспринимала себя как город муз, порождающий и равно привлекающий к себе художников, нуждающихся в поддержке. Это превратилось в самовозрождающийся процесс, высекающий творческую искру соперничества и новаторства, а параллельно и в связи с ним развивалась мощная интеллектуальная традиция, которая на основе интереса к античным манускриптам питала ранние гуманистические идеи; в результате же происходило взаимное оплодотворение, когда художники и поэты оказывались в едином сообществе с гуманистически ориентированными философами и учеными. Не какой-то один, а именно весь комплекс этих факторов и определил уникальную роль Флоренции в судьбах Ренессанса — а Медичи, в свою очередь, всячески содействовали укреплению этой роли. Главным стала могучая, но и избирательная поддержка искусств со стороны всей семьи, а в особенности Козимо. Разумеется, флорентийский Ренессанс возник бы и без Медичи, а они бы остались просто одним из нескольких семейств, что способствовали его первоначальному расцвету, но именно избирательность меценатской деятельности, точечная поддержка целого ряда ведущих художников Ренессанса оставит в истории неизгладимый след. Можно говорить о наличии внутри флорентийского Ренессанса специфических особенностей, связанных с именем Медичи, и, как бы к этому ни относиться, сформируются они на основе их положения крестных отцов, как всего города, так и его культуры, какими они оставались на протяжении жизни нескольких поколений.
Медичи оказались связаны с развитием этого нового искусства с самого его зарождения. Вот красноречивый тому пример: первый же шаг Джованни ди Биччи на ниве меценатства разрешился тем, что многими рассматривается как начало великого ренессансного искусства, — бронзовыми дверями баптистерия Сан-Джованни. Побудило его заказать эту работу одно событие недавней флорентийской истории. В 1401 году в городе разразилась эпидемия чумы, вызвавшая общий страх и ужас. К счастью, сошла она на нет так же быстро, как и возникла, однако же успела пробудить воспоминания о Черной Смерти, буквально выкосившей Флоренцию всего за полстолетие до того. Вот городские власти, в знак благодарности Богу за спасение от новой Черной Смерти, и решили поставить в баптистерии XII века новые мощные двери. Располагался он на площади перед собором Санта-Мария дель Фьоре и занимал особое место в сердце каждого флорентийца, потому что здесь крестили всех новорожденных, без исключения.
Был объявлен конкурс, авторы представили эскизы, которые рассматривало специальное жюри. Джованни ди Биччи вошел в его состав, и, вполне возможно, это был его первый опыт участия в общественной жизни, благодаря которому умный, средних лет, банкир прикоснулся к миру искусства и меценатства. Решение жюри было неожиданным: победителем признали никому не известного, незаконнорожденного двадцатичетырехлетнего золотых дел мастера по имени Лоренцо Гиберти.
Ему понадобится более двадцати лет, чтобы создать удовлетворяющее его произведение, а это, в свою очередь, потребует полного изменения самой техники и материалов литья. Результат — торжество и технологии, и искусства. Гиберти создал рельефные картины целого ряда библейских легенд, герои которых, облаченные в классические одежды, отличаются удивительным правдоподобием, а сами сцены — острым драматизмом; иные из них разворачиваются на впечатляющем архитектурном фоне, как, например, внушительная древнеримская арка или Ноев ковчег, изображенный в форме пирамиды. Этот фон и эти одеяния свидетельствуют о глубоком интересе Гиберти к давно преданным забвению древним руинам, на которые он смотрит словно впервые, а равно не меньшем интересе к ныне возрождаемому классическому знанию (изображение Ноева ковчега в виде пирамиды восходит к греческому теологу III века Оригену — образ, совершенно утраченный в Средние века).
Двери баптистерия, созданные Гиберти, вызвали в свою пору общее восхищение, а ныне почитаются одной из образцовых работ раннего Ренессанса. Успех был таков, что автору поручили сделать еще одни двери — к восточному входу в баптистерий, — и эта работа, будучи закончена в 1452 году, отнимет у него уже тридцать лет, что на сей раз объясняется уже не только тягой к совершенству. Дело в том, что в это время Гиберти получал множество других заказов: первые двери к баптистерию сделали его знаменитым, а следом за славой пришло и богатство: он стал одним из самых преуспевающих художников Флоренции. Из его позднейших castato следует, что Гиберти владел загородной фермой, а также виноградником и даже отарой овец. Его автопортрет, скромно помещенный у самого косяка восточных дверей, изображает славного на вид, лысеющего мужчину. Работа над этими вторыми дверями затянется настолько, что установлены они будут только через год после смерти художника. Говорят, впервые увидев их много лет спустя, молодой Микеланджело был так потрясен их красотой, что воскликнул: «Так, наверное, выглядят врата в рай!»
Впрочем, такой восторг разделяли не все флорентийские художники. Лишь немного уступивший ему в 1402 году соперник был настолько разозлен своим поражением, что быстро собрал вещички и уехал в Рим. Этого художника звали Филиппо Брунеллески. Он родился во Флоренции в 1377 году и был известен своим на редкость неуживчивым характером: горделивый, обидчивый, скрытный, подверженный резким переменам настроения. Одной из любимых привычек Брунеллески было анонимно посылать оскорбительные письма в стихах людям, которые, как ему казалось, каким-то образом нанесли ему обиду.
Брунеллески чувствовал себя настолько униженным поражением от Гиберти, что решил оставить живопись и скульптуру и сделаться архитектором: здесь уж, дал он себе зарок, его не превзойдет никто. В Рим Брунеллески отправился в сопровождении молодого — ему было всего шестнадцать лет — но уже обнаружившего свой незаурядный талант художника Донателло; темперамент у него был такой же взрывной, и вдвоем они целыми днями, ожесточенно споря, бродили по руинам Древнего Рима, откапывали статуи, изучали их строение. Удивительно, но Брунеллески так и не признался Донателло, что готовится стать архитектором, хотя именно это привело его сюда и именно в ходе этих раскопок ему предстояло открыть величайшие тайны именно истории архитектуры.
Среди немногих сохранившихся сооружений античного Рима выделялся Пантеон с его бесподобным в сто сорок два фута куполом, выстроенным для императора Адриана в эпоху наивысшего подъема Рима. Секрет конструкции свода, равного которому по ширине за минувшие тысячу триста лет так и не появилось, был давно утрачен. В попытке разгадать эту тайну Брунеллески сумел каким-то образом взобраться на крышу Пантеона и вынуть из кладки купола несколько камней: внутри обнаружился еще один купол. Это внутреннее сооружение состояло из каменных блоков, подогнанных один к другому так плотно, что они держались буквально сами по себе; в то же время перемычки между внутренним и внешним сводами были сконструированы таким образом, что один держался за счет другого.
По возвращении во Флоренцию — случилось это примерно в 1417 году — Брунеллески быстро сделал себе имя одного из ведущих архитекторов города. Как говорилось, в 1419 году Джованни ди Биччи возглавил комитет, заказавший Брунеллески строительство приюта для подкидышей, которому дали странное эвфемистическое наименование — Ospedale della Innocenti (Больница Невинных). Он стал первой крупной работой Брунеллески, и выдержанный в строгом классическом стиле фасад здания разительно выделялся на фоне окружающих средневековых домов — особенно своими изящными колоннами, техника которых была давно позабыта, а теперь вот возродилась. По ходу работы сдержанный стареющий банкир и молодой темпераментный архитектор неожиданно сдружились. С самого начала Брунеллески вполне ясно сформулировал, что ему хотелось бы построить; Джованни же, со своей стороны, явно неуверенно ощущая себя в новой роли покровителя искусств, часто обращался за советом к своему воспитанному в гуманистическом духе сыну Козимо. Того не нужно было подстегивать, его меткие замечания касательно новаторских устремлений Брунеллески только укрепили Джованни в его преклонении перед архитектором, ну а глубокое проникновение в суть замысла со стороны Козимо свидетельствовало, что скоро и он сдружится с Брунеллески. Так оно и получилось, и, объединившись, эти двое убедили Джованни продолжить свою деятельность мецената, в результате чего он заказал Брунеллески реставрацию и расширение Сан-Лоренцо, семейной церкви клана Медичи. Получилось так, что ризницу Сан-Лоренцо Брунеллески закончил как раз к похоронам Джованни (1429) — впрочем, в это время он уже с головой погрузился в работу над куда более крупным проектом, который и составит ему славу в веках.
Строительство собора Санта-Мария дель Фьоре началось еще в 1296 году, когда первый банковский бум сделал Флоренцию мировым центром торговли шерстью, а заодно одним из богатейших городов Европы. Преисполненные гражданской гордости, флорентийцы начали смотреть на свою родину как на новый Рим и, дабы запечатлеть этот самозванно присвоенный титул материально, решили, что новый собор должен стать крупнейшим во всем христианском мире, равным готическим соборам северной Европы и Святой Софии в Константинополе с ее знаменитым куполом.
Но тут, одно за другим, последовали банкротства Перуцци, Барди и Аччайуоли, за ними — Черная Смерть, и в результате через пятьдесят лет после начала строительства новый собор представлял собой едва ли большее, чем опустевшая строительная площадка. Незавершенный фасад выходил на открытый всем ветрам, заросший чертополохом пустырь, отчего более походил на руины, нежели на строительный объект; ну а восточная часть фундамента оставалась оголенной так долго, что за улицей, проходившей близ будущего собора, закрепилось название Lungo di Fondamenti (Вдоль фундамента).
Но в какой-то момент преуспеяние вернулось. Торговля шерстью в Европе переживала новый расцвет, на авансцену вышло второе поколение банкиров во главе с Медичи, с которыми в Европе никто сравниться не мог. Работы по строительству собора Санта-Мария дель Фьоре возобновились, и к 1418 году оставалось возвести лишь венчающий его громадный купол. И тут на первый план вышла роковая проблема: ведь, согласно первоначальному замыслу, он должен равняться в обхвате ста тридцати восьми футам, то есть не уступать никому, кроме римского Пантеона. Предполагалось, что этот купол станет воплощением гордости и завоеваний великого города Флоренции, но, увы, амбиции ее граждан сильно превосходили возможности современной архитектуры, и в результате немыслимый купол из символа торжества и величия превратился во всеобщее посмешище.
Вопрос заключался в том, как возвести это колоссальное сооружение так, чтобы под его неимоверной тяжестью не рухнули стены собора. Одна за другой проходили напряженные встречи в синьории и разного рода заинтересованных учреждениях, на которых выдвигались самые оригинальные проекты. Предлагалось, например, сделать купол из какого-нибудь легкого материала наподобие пемзы, но вскоре выяснилось, что для возведения лесов элементарно не хватает дерева. Тогда возникла идея на время строительства заполнить все внутреннее пространство собора землей, и тогда купол будет поддерживаться изнутри. Но в таком случае как убрать землю, когда строительство будет завершено? Кто-то предложил щедро набить землю монетками, что привлечет маленьких оборванцев, и они живо разгребут завалы. Комитеты уперлись в тупик, и в конце концов было решено объявить конкурс.
В нем принял участие и Брунеллески, предложение которого состояло в том, чтобы сделать купол в форме яйца, с каменными ребрами в качестве опоры всей конструкции. Из одиннадцати вариантов этот и был сочтен наилучшим. Но перед тем как сделать официальный заказ, судьи желали убедиться в том, что автор способен его осуществить, и они потребовали в деталях разъяснить, как именно Брунеллески собирается построить свой купол. Он наотрез отказался раскрывать свои тайны, а когда на него стали давить, он задал встречный вопрос: извлек из кармана яйцо и попросил членов комитета объяснить ему, как удержать его на столе в вертикальном положении. Не услышав ответа, Брунеллески разбил яйцо, и оно встало. Все сразу запротестовали, мол, каждый на такое способен, в ответ на что Брунеллески заметил: «Верно, но то же самое вы бы сказали, если б я объяснил, как намерен сделать купол».
Членов комитета это не убедило, и, хотя в конце концов дело решилось в его пользу, заказчики выдвинули условие — Брунеллески должен работать на пару с другим мастером. В качестве такового был предложен Гиберти, но, услышав имя своего самого главного соперника, Брунеллески пришел в такую ярость, что пришлось вызвать стражу, которая силой вывела его из дворца. В общем, исключительно благодаря настойчивости и упрямству Брунеллески своего добился. Впрочем, даже и тогда его не оставила обычная подозрительность: отныне и до самого конца он будет ревностно хранить тайны своего замысла, выводя на чертежах загадочные символы и используя при расчетах собственный шифр на основе арабских чисел. Не только технология Брунеллески держалась втайне — многие ее элементы вообще никогда ранее не использовались; риск был чрезвычайно велик, и даже сам Брунеллески не был уверен в успехе. Он собирался построить купол, не прибегая к помощи лесов: по его замыслу каменная кладка будет сама себя удерживать на всем протяжении строительства. Тайна этого метода была почерпнута им в римском Пантеоне, где два купола, внешний и внутренний, в своем роде поддерживали друг друга, при этом кирпичная кладка внутреннего была сделана «в елку», когда один камень, плотно прилегая к другому, словно сам удерживает себя на весу. Нельзя, однако, сказать, что Брунеллески просто копировал старую технику. Да, римляне оставили в наследство свой купол, но не оставили строительных инструкций. Как они это сделали? Отсюда следует, что, когда дело дошло до конкретных деталей, Брунеллески был вынужден сочетать в своей работе и исторические разыскания, и вдохновенный полет фантазии, и смелые оригинальные решения. В данном случае знание и возрождалось, и усваивалось. В результате возникло великое произведение искусства, один из шедевров раннего Ренессанса. Это была также выдающаяся инженерная работа: всего на строительство купола потребовалось четыре миллиона кирпичей общим весом в полторы тысячи тонн; для того чтобы поднимать их на нужную высоту, Брунеллески изобрел подъемный кран, а потом придумал еще более совершенное устройство. В очередной раз искусству понадобилась наука: с самого начала Ренессанса они шли рука об руку, прогресс в одной области был бы невозможен без достижений в другой.
Строительство купола Санта-Мария дель Фьоре, завершенное наконец в 1436 году, растянулось на пятнадцать лет. Этот шедевр архитектуры изменил панораму города; впрочем, и уличный его пейзаж не остался прежним. Параллельно с работой над куполом Брунеллески занимался по поручению Козимо часовней Медичи в церкви Сан-Лоренцо, да и в городе у него было немало объектов. После смерти Джованни Козимо уже ничто не мешало вкладывать деньги в строительство, и в центре средневековой Флоренции постепенно вырастал новый ренессансный город. Все архитекторы, подобранные Козимо, — Брунеллески, Донателло, Микелоццо, — изучали останки античного Рима и ныне, на свой лад, возрождали во Флоренции великий классический стиль.
Да, новому искусству была нужна наука, но нужны были ему и деньги, и их-то давал по преимуществу Козимо, который, по словам одного восхищенного историка, «был преисполнен решимости превратить средневековую Флоренцию в совершенно новый ренессансный город». В этом нет преувеличения, ибо именно Козимо финансировал строительство либо реставрацию зданий самого разного толка, дворцы и библиотеки, церкви и монастыри. Когда много лет спустя его внук Лоренцо Великолепный открыл бухгалтерские книги, то был буквально потрясен, увидев, какие суммы вложил Козимо в это дело: по счетам выходит, что между 1434-м и 1471-м годами на строительство было потрачено 663 775 золотых флоринов — цифра умопомрачительная (Козимо умер в 1464 году, но и после его кончины продолжалось строительство того, что не было завершено при жизни). Такую сумму трудно оценить в полной мере, достаточно отметить, что ровно за сто лет до того все активы крупного банка Перуцци, сосредоточенные в его филиалах, разбросанных по всей Европе, вплоть до Кипра и Бейрута, на пике его успехов составляли в денежном выражении 103 000 золотых флоринов.
Тем не менее вся эта щедрость основывалась на солидной банковской деятельности. Изучение отчетности банка Медичи показывает, что, используя самые современные и действенные финансовые механизмы, он в то же время избегал каких-либо новшеств в своей повседневной практике; среди сходных институтов он отличался, пожалуй, наиболее высокой степенью консервативности. Ни Джованни ди Биччи, ни Козимо де Медичи не придумывали новых методов или способов занятий банковским делом, предпочитая основываться на том, что было испытано другими и доказало свою эффективность. Это непременно следует иметь в виду, ибо только подобный консерватизм, ну и еще политическая структура, созданная Медичи, позволяли Козимо заниматься всем остальным. И чем бы это «остальное» ни было, он прежде всего оставался осмотрительным и в высшей степени проницательным банкиром. Единственный творческий элемент, который с завидным постоянством обнаруживает себя в его деятельности финансиста, это налоговые декларации; впрочем, это давняя традиция в итальянском банковском деле.
Пусть Козимо был консервативен в своих финансовых операциях, пусть он сознательно вел вполне скромный образ жизни и вообще предпочитал оставаться в тени, но при этом он удивительным образом мирился с самыми экстравагантными выходками своих протеже. Наиболее выразительно, быть может, об этом свидетельствует один случай из биографии его фаворита Донателло, человека весьма чувствительного. Как-то один купец из Генуи заказал ему, по рекомендации Козимо, свой бюст в натуральную величину, но, когда работа была закончена, платить отказался, утверждая, что художник запросил слишком много. Призванный в качестве арбитра Козимо велел отнести бюст к себе во дворец, где его поставили на крышу, у перил, так чтобы его можно было разглядеть наилучшим образом. Заказчик, однако, продолжал стоять на своем: с него берут слишком дорого, тем более что работа заняла у автора всего месяц и не может стоить более 15 флоринов. Услышав это, Донателло пришел в ярость и заявил, что он художник, а не ремесленник, которому платят почасно. И не успел никто встать на его пути, как он кинулся вперед и перебросил бюст через перила. Ударившись о булыжную мостовую, тот разлетелся на куски. Потрясенный случившимся, негоциант забормотал слова раскаяния и пообещал заплатить двойную цену, если Донателло сделает другой бюст, но тот и слышать ничего не хотел, несмотря на то что просьбу генуэзца Козимо — его друг поддержал от себя лично.
Как ни странно, Козимо мирился с такого рода поведением. Судя по всему, он стал одним из первых меценатов, кто признал неизбежность появления художника нового, ренессансного, типа. «Этих гениев, — говорил он, — нужно воспринимать так, словно они не из плоти сделаны, а сотканы из звездной пыли». Гуманизм породил новый подход к индивидуальности, ее начали воспринимать как органичную суть человеческой личности, никоим образом не зависящую от прихоти властителя. Пример Донателло свидетельствует об этом вполне красноречиво: его сложная, противоречивая натура невиданным доныне образом сказывалась в творчестве мастера. При этом парадоксальным образом в его характере сохранялась средневековая отрешенность, и он столь мало заботился о своем внешнем виде, что Козимо решил, что следует вмешаться. Дабы хоть как-то заставить Донателло привести себя в пристойную форму, он подарил ему красивый красный камзол и новый плащ в придачу. Несколько дней Донателло красовался в новом одеянии, но затем вернулся к своей рабочей куртке, и Козимо сдался.
При всем своем самолюбии, Донателло вообще-то весьма мало думал о деньгах; все заработанное он складывал у себя в студии в корзину и предлагал помощнику пользоваться, коли возникнет нужда в деньгах, ее содержимым, не спрашивая хозяина. Правда, взамен он требовал абсолютной преданности. Говорят, что когда один из подмастерьев ушел, Донателло гнался за ним до самой Феррары, угрожая самыми жестокими карами. Вполне вероятно, правда, что у таких историй есть некая подоплека: Донателло был гомосексуалистом, так что многие вспышки ярости, несомненно, порождались личными чувствами. Первое упоминание о нем в хрониках возникает в связи с дракой, которую пятнадцатилетний юноша затеял с каким-то немцем, и, если верить написанному, противник Донателло получил удар по голове тяжелой дубиной и едва не истек кровью. Год спустя Донателло ушел в Рим с Брунеллески, и эта поездка положила начало долголетней дружбе, нарушавшейся, впрочем, всяческими разрывами: Донателло в избытке получал оскорбительные стишки, но явно всякий раз вскоре забывал их.
Из своей сексуальной ориентации тайны он не делал, и друзья мирились с его наклонностями; достоверно известен по крайней мере один случай, когда Козимо помог разрешить любовную ссору, разгоревшуюся между Донателло и его молодым подручным. Отношение к гомосексуальности было во Флоренции, судя по всему, двойственным. Страстному юноше-итальянцу приходилось нелегко в ситуации, когда девушки выходили замуж в возрасте гораздо более юном, нежели мужчины женились, а девственность считалась большим достоинством. Потому, когда молодую кровь сдерживать не удавалось, это было чревато крупными неприятностями и даже смертельной угрозой со стороны оскорбленной семьи; дефлорация означала сильный удар по ее достоянию, не говоря уже об оскорблении и ее чести, и чести будущего жениха.
Вот почему, несмотря на целый ряд установлений (1415, 1418,1432), запрещающих однополые связи, содомия среди молодых людей воспринималась, в общем, терпимо. По крайней мере преследовали за нее нечасто, а распространена она была во Флоренции XIV века настолько широко, что в немецком сленге, в качестве соответствия английскому «bugger» (в данном случае «содомит»), утвердилось слово Florenzer («флорентиец»). После поражения Флоренции в войне 1432 года с Луккой самые твердокаменные деятели флорентийской военщины объясняли неудачу тем, что среди новобранцев было слишком много гомосексуалистов. Власти были обеспокоены сложившейся ситуацией и решили, что надо предпринимать какие-то меры. Был обнародован очередной декрет, запрещающий гомосексуализм, но на сей раз запрет сопровождался и некими положительными действиями. В районе Меркато Веккьо было открыто несколько легальных борделей, и проститутки, в них работающие, получили наименование meretrici, то есть «заслуживающие вознаграждения» (отсюда и ведет свое происхождение слово «meretricious», одно из значений которого — «распутный»). Категории meretrici предстоит завоевать во Флоренции большую популярность — на протяжении ближайших ста тридцати лет каждая трехсотая флорентийка будет числиться проституткой.
Но на творчество Донателло все этого никакого воздействия не окажет, а один из его шедевров и вовсе сделается художественным воплощением гомосексуальности, самым, быть может, откровенным для своего времени. Это бронзовая статуя Давида в натуральную величину, установленная на пьедестале во внутреннем дворике палаццо Медичи. Это, пожалуй, одно из самых ценных творений искусства, созданных по заказу этой семьи. Правда, долгое время кое-кто утверждал, что Козимо вовсе не заказывал скульптуры, а просто купил ее, ведь никаких письменных свидетельств заказа нет; но эта версия опровергается двумя лавровыми венками: один украшает шляпу Давида, другой, побольше, окружает пьедестал. Святой, во имя которого построена церковь Медичи, как и святой-покровитель семьи, — Сан-Лоренцо, и это имя отзывается в итальянском lauro (лавр).
Статуя, можно повторить, — художественный шедевр откровенной, не стесняющейся себя гомосексуальности. Ее чувственная нагота лишь подчеркивается высокими, до колен кожаными ботинками Давида с их изящным орнаментом, большой широкополой, в «сельском стиле» шляпой и длинными прядями волос, ниспадающими на плечи. Подошвы ботинок с прорезями для пальцев небрежно покоятся на отсеченной голове поверженного Голиафа, но так, что явно преувеличенное в размерах перо его шлема словно ласкает изнутри бедро Давида. На фоне специально зачерненной бронзы плоть кажется особенно мягкой, гладкой и чувственной, что убеждает зрителя в том, что перед ним не идеализированный ренессансный образ либо скульптурная метафора античного героя, перед которой мы застываем в благоговении; напротив, эта фигура очаровывает взгляд, соблазняя блеском своего совершенства. И все же неотразимость ее красоты никак не сводится к откровенной эротике гомосексуального толка, это нечто значительно большее, чем объект чувственного желания, это — художественный шедевр.
И вновь, в который уже раз, приходится говорить о научном аспекте произведения искусства. Это была первая за тысячелетие свободно стоящая, то есть не нуждающаяся в поддержке бронзовая скульптура, и уже одно это свидетельствует о возрождении утраченного знания; сама лепка представляет собой выдающееся техническое достижение. Раньше статуи устанавливались в нишах домов либо представляли собой архитектурное украшение, но никак не самостоятельное произведение искусства, так что и новый статус требовал некоего научного осмысления. «Давид» — работа исключительно точная с анатомической точки зрения, она требует отнюдь не поверхностного знакомства с предметом. Отроческая пухлость, смягчающая линию ребер, слегка выступающий вперед живот, изгиб бедер и тугая кожа указательного пальца, впившегося в меч, — все свидетельствует о точном знании физиологии. И в то же время это, со всей несомненностью, скульптурное изображение конкретного человеческого тела, определенного индивида. Чувственность самой позы даже сегодня может оскорбить ортодоксов, но ничего искусственного в ней нет: анатомически и физиологически пропорции выдержаны абсолютно точно — искусство вступает в союз с наукой.
И все же в скульптуре Донателло сохраняется некоторая тайна. Сам Давид имел для Флоренции символическое значение: герой, победивший Голиафа, это воплощение тирании, представлял собой воплощение республики, свободной от автократического правления. Это объясняет, отчего была заказана именно эта скульптура, точно так же, как сексуальные склонности Донателло объясняют, отчего она выполнена так, а не иначе. И тем не менее можно ли утверждать, что от Донателло ожидали именно такой статуи? Наверняка были предварительные наброски и зарисовки, которые просматривал Козимо, имея, таким образом, представление о ходе работы; что же заставило поместить завершенную работу на самое почетное место — в центр двора палаццо Медичи? У нас нет никаких сведений о том, что «Давид», будучи представлен зрителям, вызвал какие-либо нарекания; напротив, семья Медичи, а Козимо в особенности, приняли его как будто всем сердцем, а ведь скульптура не просто несколько нарушает замысел изображения Давида как символа республиканской Флоренции — она его полностью разрушает.
Но может быть, в этом несоответствии тайна и заключена; ее несравненная красота, настолько стирающая половые особенности, что закрадывается мысль о гермафродитской природе, насыщена, вполне вероятно, эзотерическим смыслом. Гермафродит — смешение Гермеса и Афродиты — популярная фигура классической мифологии, игравшая также ключевую роль в алхимии и герметизме, переживших в эпоху Ренессанса второе рождение — вместе с такими «науками», как астрология и магия. Все они достигли расцвета в Константинополе, а в Европу попали вместе со своими адептами и наплывом рукописей, предшествовавшим падению Византии. Таким образом, Ренессанс — это возрождение одновременно рационального и иррационального знания (показателем этой двойственности может, между прочим, служить тот факт, что, еще не закончив переводы Платона, Фичино отвлекся на перевод «Corpus Hermeticum» легендарного греческого алхимика Трисмегиста). В общем, совершенно не исключено, что «Давид» Донателло был задуман как образ некоего синтеза знания или безупречной красоты, тайны которой от нас ускользают. А сочетание мужской и женской сексуальности отнюдь не противоречит платоновскому идеалу человеческого совершенства.
10. ОТЕЦ ОТЕЧЕСТВА
Мы знаем, что Козимо де Медичи был человеком чрезвычайно осмотрительным и осторожным в личной, политической и профессиональной жизни. Так отчего же он был столь расточителен в своей роли покровителя искусств?
Существует несколько объяснений, каждое из которых бросает свет на его сложный характер. Прежде всего, его преследовало чувство вины, ибо, хотя церковь и смотрела на это дело сквозь пальцы, христианское учение, как и прежде, отвергало ростовщичество: «Если дашь деньги взаймы... не налагай роста», говорится в книге «Исхода» (22:25), да и многие другие указания не оставляют на этот счет никаких сомнений. Не забывал Козимо и о заповеди Иисуса Христа: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное» (Мф., 19:24). Всю жизнь Козимо оставался верующим христианином, повторявшим, что бухгалтерские книги банка Медичи, как и других банков того времени, следует открывать таким напутствием: «Col Nome di Dio e di Bona Ventura» (в данном контексте это высказывание часто переводили как «Во имя Бога и Выгоды», имея в виду, что «выгода» — это и есть для банкира bona ventura, то есть добрая судьба). В какой-то момент это противоречие между верой и повседневной деятельностью начало не на шутку тревожить совесть Козимо, и, когда ему едва перевалило за сорок, он испросил у папы Евгения IV, жившего тогда во Флоренции, частную аудиенцию. Папа сказал, что, дабы прийти в согласие со своей совестью, ему стоило бы профинансировать реставрацию монастыря Сан-Марко, и Козимо немедленно усадил за эту работу, стоившую ему в конечном итоге более 30 000 флоринов, Микелоццо. Деньги были огромные, но Козимо, кажется, всем сердцем отдался этому делу, он даже выделил себе специальную келью в Сан-Марко, куда время от времени удалялся для медитаций. Именно тогда он начал вести регулярные теологические беседы с приором Антонио Пьероцци, невысоким, живого ума человеком, обладавшим чрезвычайно твердым и суровым характером. Исключительные душевные качества Пьероцци обеспечили ему посмертную канонизацию.
Кое-что в характере Пьероцци было особенно близко Козимо, и совершенно не исключено, что именно святой приор подтолкнул его к поискам полного прощения за свершенные грехи. Если говорить о ростовщичестве, это могла быть только раздача всего нажитого таким путем. Да, это может объяснить необыкновенную щедрость Козимо-покровителя искусств, хотя тщательное изучение «libro segreto» убеждает в том, что даже огромная сумма в 660 000 флоринов, которые он потратил на поддержку искусств, отнюдь не равняется всем его доходам. Подсчитано, что Козимо унаследовал от отца где-то около 100 000 флоринов и, при всей своей филантропии, оставил наследникам более 200 000 флоринов.
Нельзя утверждать, что в этой деятельности Козимо руководствовался исключительно духовными мотивами. Преследовал он, разумеется, и политические цели, думал и о престиже, а еще больше — об интересах банка Медичи. Известно, что Козимо перестроил пансионат для студентов-флорентийцев в Париже и отреставрировал итальянскую церковь Святого Духа в Иерусалиме. При этом, как нам напоминает его современник Веспасиано, он всегда оставался политическим реалистом. «Я знаю Флоренцию, — передает Веспасиано слова Козимо, — через пятьдесят лет нас, Медичи, отправят в изгнание, но построенные мной дома сохранятся». Он стремился обессмертить себя в работах, ставших возможными благодаря его поддержке. Это объясняет, между прочим, почему он обычно финансировал архитектурные, то есть у всех на виду находящиеся проекты; коль скоро речь заходила о более интимных вещах, скажем, о живописи, он уступал дорогу своим сыновьям Пьеро и Джованни.
Даже если Козимо и не особенно верил, что Медичи надолго сохранят свое влияние после его смерти, он сделал все, чтобы при жизни они полностью контролировали деятельность города, быстро останавливая поползновения любого потенциального политического противника. Во время «царствования» Медичи было нажито много состояний, а деньги во Флоренции обозначали власть; в этом смысле город оставался верен своим республиканским идеалам, хотя бы отчасти — и уж наверняка больше, чем любой другой крупный город в Италии (да и во всей Европе). Во Флоренции власть традиционно сосредоточивалась в руках деловых людей; земельная аристократия была со всей определенностью исключена из демократического процесса, титулы ей заменяли право голоса, хотя иные ухитрялись обойти этот запрет, становясь членами торговой гильдии.
Стоило Козимо заметить, что какая-нибудь семья накопила достаточно средств, чтобы привлечь к себе оппозицию, как он немедленно посылал ей скрытое предупреждение. Только, при всей своей завуалированности, оно отличалось совершенной прямотой: главе семьи следовало распределить свой капитал путем приобретения сельских поместий, и тогда все будет в порядке, он будет жить в покое и почете; если же нет, его ждет встреча с налоговыми инспекторами — всеми до одного твердыми сторонниками Медичи.
Власть Козимо распространялась повсюду. Как отмечает посланник одного иностранного государства во Флоренции, «Козимо распоряжается всем... Без него никто и шага не сделает». При этом власть его была неуловима, он ведь не занимал никаких государственных постов, просто дергал за ниточки, а такой власти трудно противостоять, ее трудно свергнуть. По словам известного современного историка Ренессанса Дж. Р. Хейла, «учитывая характер итальянских государств-городов, его (Козимо) не без оснований сравнивают с «боссами» Чикаго или Далласа, а также с «падре» мафии, чье влияние распространяется на тот или иной район». Это верно: именем Козимо, хотя и не обязательно по его прямому указанию, в темных закоулках города ночами совершалось немало кровавых деяний; и в то же время трудно назвать тиранической власть, опирающуюся на столь широкие слои населения. Народ Флоренции явно нуждался в крестном отце; даже если люди не так уж его и хотели, они чувствовали, что это — наименьшее из зол.
Все это лежит в основании внутренней политики Флоренции, а вот политика внешняя — дело иное. Тут Козимо неизменно оставался на виду, настойчиво демонстрируя себя миру в качестве главной движущей силы города. Не приходится сомневаться в том, что он был исключительно прозорливым государственным деятелем, постоянно пекущимся о благе Флоренции — и ее граждан, ведущих и ведомых. Козимо обладал широтой взгляда, никогда не ограничиваясь исключительно местными делами, — в этом смысле он многим обязан своей профессии банкира. Если банк Медичи хочет процветать или даже просто сохраняться, необходимо зорко следить за событиями на политической сцене; в этом смысле ему верно служили, неизменно поставляя важную информацию, филиалы и их представители. К середине XV века банк Медичи имел отделения в большей части Западной Европы — от Лондона до Неаполя, от Кельна до Анконы. За пределами досягаемости Медичи оставались лишь Испания (ревниво оберегающая монополию торговли с Новым Светом[4]), Австрия вместе с южной Германией (где господствовал большой финансовый клан Фуггеров из Аугсбурга) и Балтика (монополию на которую сохранял Ганзейский союз).
Пусть Козимо и немало нагрешил как крестный отец эпохи Ренессанса, его, несомненно, можно причислить к лику святых, коль скоро речь идет о главных игроках итальянской политической сцены. Главным врагом Флоренции оставался мощный и периодически взмывающий к вершинам богатства Милан, подвижная граница которого редко отодвигалась более чем на пятьдесят миль к северу от Флоренции. С 1412 года городом правил герцог Филиппо Мария Висконти, это отродье некогда славной семьи, замкнувшийся в своей неприступной крепости в Милане и даже в глазах собственного народа сделавшийся мрачной мифологической фигурой. Из-за нездоровой полноты и страшно уродливого вида он редко появлялся на публике, избегая, по причине именно внешности, участия в каких-либо церемониях, даже связанных с визитами императоров или иных лиц королевского достоинства. Унаследовав герцогский престол после убийства своего старшего брата, Филиппо параноидально боялся заговоров, спал в забаррикадированных спальнях, по три раза за ночь меняя постель, дабы избежать возможного покушения. Он был также до смешного суеверен: страх перед грозой заставил его соорудить в центре своего замка специальное звуконепроницаемое, за двумя дверями помещение, за тем лишь, чтобы не слышать этого жуткого знамения.
Внезапно сделавшись в двадцатилетнем возрасте герцогом, Филиппо нашел городскую казну практически пустой; дабы наполнить ее, он женился на Беатриче, сорокалетней вдове одного из своих кондотьеров, принесшей в приданое 40 000 флоринов. Супружеские отношения между замкнутым, страдающим ожирением Филиппо и на удивление хорошо образованной вдовой военачальника-наемника не сложились с самого начала, а несколько лет спустя паранойя мужа и вовсе взяла верх. Беатриче была арестована и предана суду по обвинению в супружеской измене с подростком-пажом, чья единственная вина заключалась в том, что он играл своей хозяйке и ее фрейлинам на лютне. Все, включая последних, были подвергнуты пыткам и в конце концов признались, что измена имела место, и были немедленно казнены. Любые записи, касающиеся «суда», были впоследствии уничтожены. Через некоторое время политическая целесообразность вынудила устроить еще один брак — на сей раз Филиппо женился на юной Марии Савойской, что способствовало безопасности северных границ Милана. Но когда супружеская пара направлялась на брачное ложе, Филиппо услышал в ночи собачий вой и, приняв его за страшное предзнаменование, не допустил жену под свою крышу — что почти наверняка спасло ей жизнь. Правда, с другой стороны, это означало отсутствие прямого наследника герцогского престола, хотя незаконнорожденная дочь, которую назвали Бьянкой, у Филиппо была.
Имея ближайшим соседом такого деятеля, Козимо был вынужден в полной мере использовать свои дипломатические дарования. При всем своем затворничестве, Филиппо Мария Висконти вынашивал замыслы превращения Милана в ведущую силу на севере Италии и в осуществлении их демонстрировал все мастерство убежденного параноика. Предсказать его очередной шаг было практически невозможно, ибо он вполне мог быть подсказан личным астрологом Филиппо при их последнем свидании. Другим фактором, с которым приходилось считаться противникам герцога, были его капризы, нередко оказывавшиеся весьма эффективным оружием, особенно в отношениях с кондотьерами. Когда жалованье задерживалось, они все равно шли в бой — лишь бы их место (вместе с деньгами) не захватили другие наемники. Висконти умело манипулировал даже мельчайшими страхами и подозрениями людей.
Укрепив традиционные союзнические связи с Венецией, Козимо удалось добиться некоторого равновесия на севере Италии. И все равно Милан представлял собой постоянную угрозу, особенно если иметь в виду, что герцога Филиппо Марию подстегивал изгнанный из Венеции Ринальдо дельи Альбицци, поклявшийся отомстить Козимо. Вооруженные миланские отряды вторглись на территорию Флоренции в 1437 году, затем на будущий год; оба раза они были отброшены, но не без последствий на международной политической сцене. Для противостояния миланским наемникам Козимо прибег к услугам своего нового друга Франческо Сфорца, велев ему не только отбросить миланские силы за пределы флорентийской территории, но и занять Лукку, что, он знал, будет с одобрением воспринято гражданами Флоренции. Сфорца начал наступление, заставил миланских наемников отступить к Лукке, но у стен города остановился. Он не хотел слишком портить отношения с герцогом Филиппо, ибо все еще лелеял надежду жениться на Бьянке, его незаконнорожденной дочери. Точно так же и Венеция отказывала Козимо в поддержке наступления на Лукку, опасаясь чрезмерного увеличения флорентийской территории. Козимо самолично отправился в 1438 году в Венецию в надежде переубедить своих союзников, но Венеция упрямо сохраняла нейтралитет. Тогда-то он и понял, что до конца на Венецию полагаться не приходится.
В 1440 году миланские наемники во главе с Ринальдо дельи Альбицци вновь вторглись на флорентийскую территорию и вновь были отброшены, вынудив взбешенного Ринальдо отказаться от своих планов и отправиться в продолжительное паломничество в Святую землю. Ну а Сфорца был вознагражден за свою тайную верность Милану: герцог Филиппо отдал ему руку Бьянки и даже туманно намекнул на возможность объявить его своим наследником.
Шесть лет спустя, в 1447 году Филиппо Мария Висконти, герцог Миланский умер. Имени наследника он так и не назвал, и соискатели престола объявились повсюду.
На притязания Сфорцы никто не обратил внимания, у него обнаружились слишком сильные конкуренты в лице неаполитанского короля Альфонса и герцога Орлеанского. Тем временем граждане Милана объявили город республикой — на флорентийский манер. По прошествии трех лет, насыщенных международными дипломатическими интригами и распрями, Сфорца во главе своих отрядов просто вошел в город и объявил себя герцогом Миланским. Козимо поставил на нужного человека, и давний враг Флоренции — Милан стал его союзником.
Но шаг, осуществленный Сфорцей, возымел опасные последствия. Венеция немедленно порвала отношения с Флоренцией и объединилась с королевством Неаполитанским, все еще притязающим на герцогство Миланское. Флорентийские граждане были высланы из Венеции и Неаполя, а филиалы банка Медичи закрыты. Цену пришлось заплатить немалую: все банковские кредиты достались противнику. Компенсируя этот урон, Сфорца предложил Козимо открыть отделение банка в Милане и даже предоставил ему целый дворец. Зависимость Сфорцы от банка Медичи была столь велика, что этот дворец фактически превратился в министерство финансов герцогства; удача в очередной раз улыбнулась Козимо.
В Италии установился зыбкий мир — Венеции и Неаполю было желательно взять некоторую паузу. Козимо это было на руку: можно вновь заняться торговлей. Но если союз с Миланом был выгоден для флорентийских негоциантов и международной торговли в целом, то большинство населения его отнюдь не приветствовало. Многие участвовали в войнах против Милана, и им было трудно примириться с тем, что старый враг сделался другом. Ко всему прочему, немало претерпевшие от судьбы изгнанники, вернувшиеся из Неаполя и Венеции, распространяли слухи, будто Козимо поддерживает Сфорцу только потому, что тот должен ему целое состояние, которое он и намерен теперь возвратить за счет миланской казны.
Вскоре эти перемены на итальянской политической сцене начали отзываться во всей Европе. Чувствуя надвигающуюся опасность, Венеция обратилась к императору Священной Римской империи Фридриху III с просьбой вбить клин между Флоренцией и Миланом, нынешний альянс которых представляет собою угрозу для всей северной Италии. Парируя этот удар, Козимо решил, что единственный его шанс — прибегнуть к помощи противника Фридриха III французского короля Карла VII. Он понимал, что такого рода переговоры следует провести с величайшим тщанием, ибо у Франции есть свои территориальные претензии к Италии и полномасштабного французского вторжения на Апеннины следует избежать в любом случае. Поначалу Козимо собирался отправиться на встречу с Карлом III сам, но потом решил, что ситуация дома слишком ненадежна, чтобы оставлять Флоренцию на долгое время, и отправил вместо себя своего друга-гуманиста Аньоло Аччайуоли, члена старинной флорентийской семьи, всегда сохранявшей верность Медичи (вместе с Козимо Ринальдо дельи Альбицци выслал из Флоренции и самого Аччайуоли). Ко всему прочему он был превосходным ритором, и Козимо нередко наслаждался его чтением Цицерона. Будучи сам оратором весьма посредственным, Козимо тем более восхищался речами Цицерона, в которых он отстаивал республиканские добродетели Древнего Рима и говорил о гражданском долге как об одном из важнейших критериев праведной жизни.
Таким образом, в 1451 году Аччайуоли отправился во Францию, где его красноречие произвело должное воздействие на Карла VII, пообещавшего в течение двух ближайших лет признавать новый Милано-Флорентийский союз. Порвав торговые связи с Венецией, Флоренция уже и без того повернулась в сторону Франции, а гарантии Карла VII означали, что объем торговли будет увеличиваться и впредь. Но Аччайуоли вынужден был сделать одну небольшую уступку: в случае, если Франция предъявит претензии королевству Неаполитанскому, Флоренция и Милан будут сохранять нейтралитет. Из этого следовало, что Рене Анжуйский, претендовавший на неаполитанский престол, может без помех продвинуться на юг через Тоскану.
Перспектива военного присутствия Франции в Италии была Козимо не по душе, но ему выпала неожиданная возможность воспрепятствовать этому замыслу. В 1452 году Фридрих III, возвращаясь из Рима, где папа формально надел на него корону императора Священной Римской империи, проезжал через Флоренцию. Козимо распорядился принять императора и его свиту, состоявшую из полутора тысяч австрийских князей, за счет города. Быстро истощившуюся городскую казну пополнил банк Медичи. Расходы были понесены огромные, но ими на годы вперед было оплачено доброе отношение императора. Правда, на жителей Флоренции эта победа особого впечатления не произвела, в городе поднялся ропот против Медичи. Флоренция уже изрядно потратилась на поддержку Сфорцы, его состоящая из наемников армия уже не воюет, однако же платить надо по-прежнему, а теперь еще жителям Флоренции приходится оплачивать попойки и распутство сотен австрийских вельмож. Чего еще потребует от них Медичи?
А тут еще новое несчастье свалилось: разгневанный тем, что Козимо признал французские претензии на его престол, король неаполитанский Альфонс V направил во Флоренцию военные отряды под командой своего незаконнорожденного сына Ферранте. Вскоре стало известно, что Ферранте пересек южные границы республики и быстро продвигается в сторону деревни Ренчине. В городе начались волнения: во всем Козимо виноват. Тот был потрясен происходящим, но виду не подавал. Как-то раз в его домашний кабинет ворвался в полной панике некий купец и завопил с порога: «Ренчине пала!» Сидевший за столом Козимо спокойно поднял голову и невозмутимо осведомился: «Ренчине? А где это?» Мол, не надо волноваться по пустякам.
Именно это Козимо и твердил согражданам, но вскоре не выдержал сам. Перед палаццо Медичи собралась охваченная паникой толпа. Люди требовали объяснений: чего им ждать? Козимо медленно поднялся наверх, в спальню. Он вдруг почувствовал всю тяжесть своих шестидесяти четырех лет. Согласно другим сведениям, он только прикинулся больным, некоторые утверждают, что действительно был болен, и имя болезни — тревога. Скорее всего с Козимо случился небольшой нервный срыв. Главный бухгалтер-контролер не мог примириться с перспективой утраты контроля; на сей раз перед ним маячила угроза потерять все, и он не знал, как ей противостоять.
В это время во Флоренции стало известно, что Рене Анжуйский во главе своей мощной армии пересек границу и направляется на юг, в сторону Неаполя. Так Флоренция была чудом спасена. Козимо удалился в свою виллу в горах Кафаджоло, где постепенно обрел былую форму. Но тут возникла новая угроза. В 1453 году истек срок действия договоренности с Карлом VII, а это означало, что Венеция может ударить в любой момент. И опять Флоренции сопутствовала удача. В Европе стало известно, что на Венецию обрушился сокрушительный удар: Константинополь пал под напором турок из Оттоманской империи. Для венецианской торговли это была катастрофа, ее собственность в Греции и на Адриатике оказалась в распоряжении турок. А вскоре стало понятно, что беда настигла не только Венецию: турки стали угрозой для всей Италии. В 1454 году Венеция вместе с Флоренцией, Миланом и Папской областью образовали Священную Лигу, направленную против неверных. Вскоре в нее вступил Неаполь, и в Италии на время воцарился мир.
Козимо де Медичи был убежден: «Торговля объединяет человечество и возвышает тех, кто бросается в ее воды». В этом состояло решающее различие между ним и его соперниками в Италии и всей Европе. Короли, герцоги, князья, императоры, папы, как водится, думали о том, как укрепить свою власть и расширить территории. За вычетом Венеции (тоже, следует отметить, республики), никто не отдавал приоритета торговле, это, мол, дело негоциантов и банкиров. Козимо не вмешивался в мелкие и ненужные конфликты, в этом смысле он являл собой пример современного властителя. А вот деньги его интересовали по-настоящему, в них он видел фундамент своей силы, тем более что, хотя бы отчасти, такую позицию разделяли и граждане Флоренции. В то же время его стремление к процветанию, как личному, так и государственному, — было сопряжено с тем же риском, с каким сталкивается любой король в своих завоевательных походах. На международной сцене Козимо проявил себя как проницательный политик, поддержав Сфорцу — на такой же риск в свое время пошел его отец, подставив плечо Бальдассаре Косее. Но Бальдассаре стал папой и поручил Медичи вести свои финансовые дела — доходное дело; Сфорца же сделался всего лишь герцогом Миланским — положение критически важное для мирных усилий Козимо, но чрезвычайно обременительное в финансовом смысле: Милан требовал все новых и новых вливаний. Главным источником доходов банка Медичи оставалась папская курия, так что связи с Римом были столь же существенны, сколь и связи с Миланом.
И тут Козимо вновь вынужден был сильно рисковать. За много лет до того, как воцариться в Милане, Сфорца начал строить на землях Романьи свое персональное государство, состоящее из нескольких псевдонезависимых городков — официально-то они входили в Папскую область. Стало быть, другом папе Евгению IV Сфорца никак не был, и, узнав об альянсе Козимо со Сфорцей, переросшем затем в дружбу, папа отнюдь не обрадовался. Все это привело к тому, что в последние годы его понтификата банк Медичи потерял самого крупного и влиятельного из своих клиентов — курию. Правда, это касалось только филиала при папском дворе, а ведь оставалось еще одно римское отделение, где лежали личные депозиты папы, а также нескольких кардиналов.
Козимо предвидел такое развитие событий и, как всегда, заранее принял необходимые меры. Понимая, что стареющий Евгений IV долго не протянет, он давно уже, никак того не афишируя, начал налаживать дружеские связи с его наиболее вероятным преемником Томмазо Парентучелли.
Парентучелли был сыном бедного врача из далекой северной Тосканы, который еще молодым человеком вынужден был из-за недостатка средств оставить, не доучившись, Болонский университет. Где-то в 1420 году он появился во Флоренции, где Ринальдо дельи Альбицци и Палла Строцци взяли его домашним учителем своих детей. Тогда же он приобщился к гуманистическому учению и вошел в круг Козимо. Следом за ним Парентучелли вскоре пристрастился к чтению и сыграл важную роль в формировании библиотеки Козимо, которая была открыта для всех и даже выдавала редкие рукописи бедным ученым вроде Парентучелли. Со своей стороны, он жадно проглатывал любую книгу или манускрипт, попавшие ему в руки, так что уже через несколько лет о нем говорили, что «если ему что-то неизвестно, то это лежит за пределами человеческого знания». Через какое-то время его заметил папа Евгений IV, назначив епископом Болоньи, и Козимо начал представлять ему крупные суммы на приобретение для церкви редких рукописей. Они вновь встретились на Вселенском соборе 1439 года во Флоренции. Обширные познания Парентучелли произвели там настолько глубокое впечатление на представителей Византии, что именно ему прежде всего удалось убедить армян, эфиопов и яковитов объединиться с Константинополем для достижения целей, ради которых они все здесь и собрались.
В 1447 году Евгений IV скончался, и на папский престол под именем Николая V действительно взошел Парентучелли. Казалось, позиции Козимо в качестве папского банкира вновь окрепли. Впрочем, дружба этих двух людей отнюдь не ограничивалась общими денежными интересами. Новый папа обговаривал с Козимо свои планы создания Ватиканской библиотеки, по образу и подобию библиотеки Медичи. Равным образом совпадали устремления обоих к достижению мира в Италии «без использования оружия, кроме как Христова», хотя Козимо преследовал более светские цели, имея в виду не только мир, но и процветание. Стоит добавить также, что именно Николай V познакомил Козимо со своим другом из Сиены Энеем Пикколомини, который одиннадцать лет спустя, в 1458 году, станет папой под именем Пия П.
Если Николай V стал первым папой, бывшим также и гуманистом, то Пий II сделает еще один шаг вперед и станет первым гуманистом среди римских понтификов. Но не одна лишь безусловная вера в гуманистическое учение делает этот выбор столь удивительным. Пикколомини было больше сорока лет, когда он принял постриг, а до того успел приобрести заслуженную репутацию как выдающегося латиниста, так и не менее выдающегося любителя женского пола. Его эротическая повесть «История двух влюбленных» и искрометные стихи на латыни привлекли внимание императора Фридриха III, и он назначил Пикколомини поэтом-лауреатом. Что же касается посвящения в духовный сан, то тут, кажется, Пикколомини просто удовлетворял свое тщеславие, ибо на поведение его этот шаг практически не повлиял. Правда, теперь он использовал свои широкие гуманистические познания для сочинения ряда более серьезных работ, таких, например, как новаторская для того времени книга по географии, озаглавленная «Об Азии», — впоследствии она вдохновит Христофора Колумба на поиски западного морского пути в Китай.
В возрасте пятидесяти трех лет Пикколомини наконец утолит свое тщеславие и станет папой. Но к великому разочарованию Козимо новый понтифик открыл счет курии в банке своей родной Сиены, хотя личный счет сохранил в римском филиале банка Медичи. Козимо сразу же затеял целую интригу, чтобы заставить Пия изменить свое решение. Когда тот, вскоре после избрания, проезжал через Флоренцию, Козимо, устроил шикарное представление: при свете фонарей на площади перед Палаццо делла Синьория был разыгран рыцарский турнир, а в маскараде участвовал девятилетний внук Козимо (будущий Лоренцо Великолепный). Накрыли ломящиеся от яств столы, где избранным гостям предлагались лучшие вина и самые красивые во Флоренции куртизанки.
К этому времени Козимо сильно постарел, его начали донимать приступы подагры и артрита. Потому, будучи представлен папе, он не мог приветствовать его сколько-нибудь достойным образом — физическое состояние не позволяло ни встать, ни опуститься на колени. Козимо отделался шуткой, оба посмеялись, но цели своей ему достичь не удалось — счет курии остался в Сиене. Однако же Козимо вновь предпринял некоторые шаги, и к тому времени, когда пять лет спустя Пий II умер, он успел снискать расположение очередного папы, Павла II, и уж на сей раз счет курии вернулся в банк Медичи.
Под конец жизни Козимо проводил все больше и больше времени в своих поместьях в долине Муджелло с ее чистым горным воздухом. Он поднимался с рассветом, шел в виноградник подрезать лозы, либо в винный погреб, либо в поле, на сбор маслин и только потом просматривал почту, доставленную из города. Вечерами он беседовал о Платоне с Фичино, чей домик располагался поблизости; время от времени тут проходили заседания так называемой Платоновской Академии, основанной Козимо специально для обсуждения сочинений философа. Зимой эти заседания собирались регулярно в палаццо Медичи (на них приходили многочисленные друзья Козимо — гуманисты), а летними вечерами — чаще всего в саду под башенками его загородной виллы в Кафаджоло (в новейших исследованиях подвергается сомнению само существование Платоновской Академии, но бесспорным представляется, что члены флорентийского кружка гуманистов более или менее регулярно собирались на полуформальной основе для обсуждения вопросов античной философии, и эти собрания и получили имя Платоновской Академии).
Козимо всегда был человеком замкнутым, а светские манеры и невозмутимость принесли ему репутацию личности даже несколько загадочной. Но в старости, из-за постоянных болей в суставах, подагры и проблем с желчным пузырем он часто переходил от хандры к язвительности, хотя добродушный юмор, в общем, всегда оставался при нем. Когда старинный приятель Пьероцци, ставший преосвященным архиепископом Флоренции, попытался уговорить его запретить всем лицам священного звания участвовать в азартных играх, Козимо ответил так: «Все по порядку. Не лучше ли для начала запретить им использовать утяжеленные кости?»
Когда-то, по словам Фичино, Козимо «был так же жаден до времени, как Мидас до золота». Теперь же часами он молча сидел в кресле, а когда его жена Контессина ворчала, чем это, мол, он занят, отвечал: «Когда мы едем за город, на ферму, ты неделями готовишься к переезду. Так позволь же мне хоть немного подготовиться к поездке на такую ферму, откуда не возвращаются».
Тем не менее Козимо по-прежнему со всей основательностью занимался делами Флоренции, отказываясь передавать бразды правления сыновьям, которые, судя по всему, все больше разочаровывали его. Старший, Пьеро, рос болезненным ребенком, а сейчас, приближаясь к пятидесяти, сильно страдал от подагры — наследственной семейной болезни. Из-за тяжелых, полуприкрытых век он всегда выглядел сонным. Его младший брат Джованни был любимцем отца, хотя, пожалуй, слишком много времени отдавал увеселениям. Судя по всему, он отчасти унаследовал отцовский ум, но отличался излишней полнотой и никогда не занимался физическими упражнениями. Пьеро сосредоточился — выказывая при этом немалую компетентность — на банковских делах, Джованни же время от времени выполнял дипломатические миссии, при том что острый ум и обаяние помогали ему добиваться успеха. В то же время Джованни часто бывал раздражительным — семейная болезнь не миновала и его. Миланский посол вспоминает, как, зайдя однажды в палаццо Медичи, он обнаружил хозяина на одной постели со своими средних лет сыновьями: все трое мучились подагрой.
Козимо чувствовал, что не может положиться на сыновей, даже в таких случаях, как, например, конфликт с Неаполем, когда Ферранте шел на Флоренцию, а сам он, Козимо, слег. Несколько лет спустя, когда Ферранте взошел на неаполитанский трон и снова начал угрожать войной, Козимо прибег к уловке. Семена Ренессанса упали теперь и на неаполитанскую почву, где Ферранте получил гуманитарное образование и до сих пор не утратил интереса к античной просвещенности. Козимо прослышал, что Ферранте жаждет заполучить бесценное, чрезвычайно редкое сочинение римского историка I века до нашей эры Тита Ливия, существующее ныне всего в нескольких оригинальных экземплярах. Дабы избежать столкновения между Флоренцией и Неаполем, Козимо отправил Ферранте этот раритет, имевшийся в его библиотеке. Ферранте пришел в полный восторг, не говоря уже о том, что ему польстило, что его считают по-настоящему ученым человеком. Козимо-то знал, как делаются такие дела, но тревожился за будущее, когда его не станет и место главы семьи займет один из сыновей. Многим не терпится свести счеты с Медичи, и Козимо преследовали недобрые предчувствия: «Я знаю, что, когда умру, на моих сыновей свалится столько бед, сколько и не снились сыновьям любого гражданина Флоренции, ушедшего из жизни за долгие минувшие годы».
И тут в 1463 году от инфаркта умирает Джованни. Козимо был потрясен, тем более что чувствовал, что и Пьеро долго не протянет. Когда слуги несли его на носилках через залы дворца Медичи, кто-то расслышал слова Козимо: «Слишком большой дом для такой маленькой семьи». Оставаясь наедине со своими мыслями, он часто лежал на кровати с закрытыми глазами, а когда Контессина начинала досаждать, отмахивался иронически: «Там, куда я собираюсь, темно, и мне надо привыкать».
Он знал, что скоро умрет, и, листая философские книги, искал ответа на вопрос о смысле жизни. Цицерон со своим гражданским долгом остался позади; теперь Козимо стремился постичь Платона и summum bonum (высшее добро). В последние дни он просил Пьеро и Контессину посидеть с ним у кровати и, если верить Пьеро, просил не устраивать ему пышных похорон.
В 1464 году, в возрасте семидесяти четыре лет Козимо де Медичи скончался под звуки голоса Фичино, читавшего ему Платона. Похороны прошли просто, хотя семейную церковь Медичи, где упокоился Козимо, окружила в молчании чуть ли не вся Флоренция. По решению синьории на его гробнице были высечены слова: «Pater Patrie» («Отец Отечества»).
11. ПЬЕРО ПОДАГРИК
Пьеро ди Козимо де Медичи — или, как его прозвали, Пьеро Подагрику — предстоит править Флоренцией всего пять лет. Этот отрезок времени часто считают всего лишь краткой интерлюдией между годами размеренного правления Козимо и яркой эпохой Лоренцо Великолепного. Это не так.
После смерти Козимо, последовавшей в 1464 году, ему «наследовал» Пьеро; «владычество» Козимо имело место фактически, но в открытую этого никто не объявлял (так что кавычки уместны в обоих случаях). С приходом Пьеро возвышение Медичи впервые стало общепризнанной реальностью; к нему относились как к властителю Флоренции, занявшему это положение по праву семейного наследия: никакой демократии. В свою очередь, то, что в начале пятилетнего царствования Пьеро признавалось молчаливо, к концу его, когда отцу наследовал Лоренцо, сделалось непреложным фактом (и в данном случае ни о каких кавычках уже речи идти не может). Таким образом произошла полная, хотя и изящная, смена декораций: Лоренцо Великолепный расхаживал по улицам города как его всеми признанный правитель; Козимо никогда бы себе этого не позволил. Пьеро принял факт своего владычества, никак его, однако, не демонстрируя; Лоренцо считал себя владыкой по праву и всячески этим правом упивался.
Несмотря на изматывающую болезнь, Пьеро обладал гораздо более впечатляющей внешностью, чем его отец; бюсты и портреты представляют мужчину сурового и одновременно привлекательного — редкость в семействе Медичи. В характере Пьеро были потаенные глубины, о которых Козимо, судя по всему, даже не подозревал. Тем не менее он устроил ему брак с незаурядной женщиной — Лукрецией Торнабуони, дочерью давнего руководителя римского отделения банка Медичи. Лукреция, с ее сильным характером, ярким темпераментом, умом, была одновременно хорошей матерью и женщиной, наделенной высокой духовностью. Она играла решающую роль в меценатской деятельности Пьеро и лично дружила с некоторыми художниками; Лукреция также пописывала недурные стихи, хотя их сейчас мало кто читает из-за сугубо религиозного содержания. Нам еще предстоит убедиться, сколь сильное влияние она оказала на формирование характера своего старшего сына Лоренцо.
Несомненно, болезнь оказывала воздействие на характер и поведение Пьеро. Порой он демонстрировал исключительную светскость, которой был лишен его отец; но во время все учащающихся приступов подагры он становился холоден, замкнут и раздражителен. Даже Лоренцо, еще в подростковом возрасте, не мог не заметить, что иногда отец, может, и сам того не желая, отталкивает от себя людей, а ведь в Италии тогда — как, впрочем, и теперь — теплота в человеческих взаимоотношениях ценилась особо, а отсутствие ее, напротив, угнетало людей.
Так что же все-таки представляла собой «подагра», оказывавшая столь сильное воздействие на Медичи и только что не искалечившая Пьеро? Безусловно, он унаследовал ее от Козимо, а всегда несколько недовольный вид Джованни ди Биччи заставляет подозревать, что и дед его страдал от того же заболевания. Безусловно также, что в случае с Пьеро оно усугублялось диетой, распространенной в ту пору среди преуспевающих итальянцев. Они поглощали невероятное количество мяса — и просто из-за вкуса, и из-за калорийности, и потому что считали это знаком принадлежности к высшим слоям общества: оно было дорогим. В то время чаще всего мясо подавалось под всякого рода острыми соусами, дабы скрыть запах — за столетия до изобретения холодильника оно быстро портилось на жаре. Больше всего флорентийцы любили почки и печень. Овощи считались крестьянской пищей и подавались к аристократическому столу нечасто. Последствия этого особенно сильно сказывались зимой, когда поспевает урожай картошки, капусты, свеклы и так далее — все это считалось фуражом для скота. Popolo minuto может удовлетворяться и такой пищей, ну а благородные господа от нее отворачиваются. В результате среди этих самых господ остро ощущался авитаминоз, особенно опять-таки в зимние месяцы.
Словом, можно лишь повторить, такого рода диета усугубляла болезнь Пьеро, но вряд ли была ее причиной. Как нам сейчас известно, с медицинской точки зрения его подагра и артрит объяснялись переизбытком мочевой кислоты в организме; это порождало почечную недостаточность, отсюда, наверное, и желтый цвет лица. Мочевая кислота откладывается в виде кристаллов в суставах, что вызывает их болезненное распухание, так что неудивительно, что начиная с какого-то момента Пьеро чаще всего передвигался в носилках. Очевидцы утверждают, что, случалось, он становился полностью парализован, и только язык едва шевелился, позволяя говорить. И тем не менее этот калека оказался незаурядным деятелем, а ошибки, которые он совершал, были вызваны совсем не помрачением сознания, вызванным болью. По силе воли и выдержке Пьеро практически не уступал отцу.
За несколько лет до смерти Козимо целый ряд видных граждан Флоренции стали выказывать неудовольствие его деятельностью. Имела место и обычная зависть, и всякого рода обиды — они тоже умножали ряды недовольных. Среди них был и старый друг и единомышленник Козимо по кружку гуманистов Аньоло Аччайуоли. Он выступил и против Козимо, и против Пьеро, которого считал совершенно неподготовленным к тому, чтобы взять в свои руки бразды правления. Ну а Козимо, по мнению Аньоло, превратился к старости в труса, ибо начал «избегать принятия любых решений, требующих мужества». Как нередко бывает, зерно истины в таких суждениях содержалось; кое-кто из состоятельных флорентийцев сильно задолжал банку Медичи, но Козимо не настаивал на возврате кредитов. В результате он по смерти оставил банк отнюдь не в идеальном состоянии.
Еще одним из тех, кто незаметно отвернулся от Козимо, был его доверенный советчик Диотисальви Нерони, также принадлежавший к одной из самых видных флорентийских семей. Скопив немалое состояние, он теперь хотел извлечь из него политические дивиденды и был крайне раздражен тем, что на пути у него стоят наследники Козимо. Нерони вполне разделял отношение Аньоло к Пьеро.
Оказавшись во главе банка Медичи, Пьеро счел более чем разумным попросить старинного друга отца Нерони просмотреть финансовые документы и оценить положение банка. Нерони решил попугать его, заявив, что ситуация близка к катастрофе. В то время многие флорентийские негоцианты столкнулись с исключительно тяжелыми проблемами из-за событий в восточном Средиземноморье: с 1463 года турки находились в состоянии войны с Венецией, и это нарушало сколь-нибудь нормальные поставки шелка и специй с Ближнего Востока. Озабоченный явно преувеличенным заключением Нерони, Пьеро решил немедленно и радикально сократить расходы банка — всем разбросанным по Европе отделениям, включая Лондон и Брюгге, а также главной конторе во Флоренции было предписано потребовать возврата крупных кредитов.
Результат оказался плачевным; не будучи катастрофичным сам по себе, он — издали это особенно хорошо видно — знаменовал начало того процесса, который приведет к утрате положения, завоеванного банком Медичи благодаря усилиям Козимо. Так, в Лондоне, например, сразу стало ясно, что ожидать возвращения долгов от короля Эдуарда IV не приходится. Такого рода «ясность», наступившая в Лондоне, а затем в Брюгге, скрыто указывала на то, что в северной Европе процветанию Медичи скорее всего пришел конец.
Что же касается Флоренции, то здесь ситуация сложилась еще драматичнее, по крайней мере политически: Пьеро потребовал возвращения кредитов, и немало торговцев, имевших дело с заморскими странами, оказались на грани банкротства. Купеческое сословие начало поворачиваться против Медичи и вскоре обрело выразителя своих настроений в лице Луки Питти, главы старого банковского семейства, вернувшегося в последние десятилетия на самую вершину финансовой пирамиды.
Питти завоевал известность своим демонстративным расточительством, нередко служащим целям расширения своего влияния. Это он стоял за наиболее экстравагантными и дорогостоящими формами приема, устроенного во Флоренции папе Пию II, в то время как Козимо лишь с чрезвычайной неохотой согласился со столь пустой (как ему казалось) тратой средств. Питти же стремился подчеркнуть свою роль главной движущей силы города, а также добиться известного международного признания. Не один год он потратил на строительство огромного дворца на высоком южном берегу Арно, полностью господствующего над той частью города, которую все называли Oltrarno («по ту сторону Арно»). Козимо охотно позволял Питти тешиться иллюзией, будто он становится ведущей политической силой Флоренции. Но отчасти потому, что Козимо под конец жизни все больше и больше отворачивался от решения раздражительных долговременных проблем, а отчасти из-за реального (хотя и не бросающегося пока в глаза) роста влияния семьи Питти, Лука в какой-то момент превратился в заметную фигуру, с которой не считаться было нельзя.
Флорентийское общественное мнение разделилось надвое — партия Холма (партия Питти с центром в его палаццо) и партия Долины (партия Медичи с центром в его куда более скромном дворце, расположенном на низменном месте, в северной части города). Аччайуоли и, не столь явно, Нерони стали на сторону партии Холма. К ним присоединился Никколо Содерини, прекраснодушный наследник еще одного старинного флорентийского семейства, известный своими выдающимися ораторскими способностями. Именно он стал выразителем позиции партии Холма, рекрутируя силу в ее поддержку призывами отменить продажную систему голосования, благодаря которой Медичи удерживают власть. Полагая, что момент настал, нетерпеливый Питти тайно призвал к немедленному выступлению против Медичи. Симпатии народа, а также поддержка со стороны купечества, уверял он, обеспечат легкий успех вооруженному восстанию, в итоге которого с властью Медичи будет покончено. Пьеро следует схватить и предать казни, всех ведущих сторонников Медичи отправить в изгнание, и город навсегда избавится от этой семьи. Конечно, Питти прекрасно понимал, что Медичи могут призвать на помощь Сфорце и его военные отряды, но на случай вооруженного столкновения он заранее озаботился поддержкой Венеции, Феррары и вновь избранного папы — венецианца Пия II.
Но Содерини был против применения силы и сумел привлечь на свою сторону других заговорщиков. Его идеализм взял верх и за пределами этого круга, и призыв «свобода и равенство», с которым он выступил, вскоре нашел отклик в широких слоях горожан. Под их возрастающим давлением система назначения членов синьории в гильдиях (находившихся под полным контролем Медичи) была заменена более демократической процедурой жеребьевки (что было принято во Флоренции исторически). На волне народной поддержки Содерини был избран на пост гонфалоньера.
Но купечество быстро почуяло, куда дует ветер; народ требовал коренных перемен во всей системе управления городом, и бог знает, чем это может окончиться. Парадокс, но подкуп власти со стороны ведущих партий привел к стабильности в городе, и теперь купечество с тревогой наблюдало, как власть ускользает из его рук. Народовластие приведет лишь к бунтам, торговля пострадает, и вообще городу может прийти конец. Выдвигая в различных советах города свои романтические предложения, гонфалоньер Содерини сталкивался с препятствиями буквально на каждом шагу. За все время своего пребывания на посту он и симпатизирующие ему члены синьории не добились ровным счетом ничего; народное мнение повернулось против них, и, когда они, отслужив свой срок, покидали дворец синьории, кто-то прикрепил к дверям записку: «Девять ослов разошлись по домам».
К великому разочарованию Содерини, волна народного движения за реформы не смыла Пьеро де Медичи, и теперь, когда купечество стало поддерживать прежнюю систему, он вроде бы сделался даже сильнее, чем когда бы то ни было. Содерини решил поставить на Питти и его сообщников Аччайуоли и Нерони; время идеализма прошло, ощущалась потребность в более решительных шагах. Для координации усилий заговорщики тайно снеслись с Феррарой и Венецией, но вскоре события стали подчиняться собственной логике.
В марте 1466 года скончался знаменитый кондотьер, друг Козимо Медичи Франческо Сфорца. Новым герцогом Милана стал его двадцатидвухлетний сын Галеаццо Мария Сфорца. Странный, непредсказуемый это был человек, уже тогда поговаривали, что он выказывает опасные признаки душевной неуравновешенности. Ходили также слухи, правда, сомнительного свойства, о том, что в его дворце насилуют жен людей благородного звания, а сам он в подвале пытает своих врагов, собственными руками отсекая у них член за членом.
Пьеро де Медичи осознавал опасность сложившегося положения и решил затеять дипломатическую игру. В апреле он отправил своего семнадцатилетнего сына Лоренцо с визитом в Неаполь, в надежде, что ему удастся привлечь на сторону Медичи короля Неаполитанского Ферранте. Несколько недель спустя Лоренцо вернулся домой с полной победой: тонким умом и изысканными манерами ему удалось совершенно очаровать Ферранте, и они сделались с монархом верными друзьями.
Жарким августом с Пьеро случился сильнейший припадок подагры. Практически парализованного, его перенесли на носилках в Карреджи. Здесь, в нескольких милях к северу от города, в сельской местности с ее свежим воздухом, у него была вилла. Но заговорщики уже приступили к действиям. Лежа совершенно без сил в Каорреджи, Пьеро узнал, что герцог Феррарский направил на территорию Флоренции свои вооруженные отряды с целью пленения и убийства его самого и Лоренцо. Мало того, венецианцы тоже снаряжали армию во главе со своим главным кондотьером Бартоломео Коллеонис (сочетание cuore leone — «львиное сердце»). Коллеоне унаследовал славу покойного Франческо Сфорцы и считался теперь самым храбрым и опасным военачальником в Италии.
При всей своей немощи, Пьеро реагировал быстро и велел немедленно доставить его во Флоренцию. Лоренцо выехал вперед. Вблизи города его окликнули работавшие в поле крестьяне и сказали, что прямо у городских ворот поставлена засада. Лоренцо поскакал назад, предупредил отца, и они направились другим маршрутом, через равнину, и, соответственно, вошли в город через другие ворота. Едва оказавшись в палаццо Медичи, Пьеро принялся сзывать своих сторонников. Тут неожиданно стало известно, что Галеаццо Сфорца направил из Милана на перехват феррарского отряда полторы тысячи вооруженных всадников.
Внезапное возвращение Пьеро застало заговорщиков врасплох. Аччайуоли, Содерини и Нерони разъехались за своими людьми, оставив Питти в недостроенном и совершенно не подготовленном к защите дворце. Время шло, Питти со страхом думал, что союзники его бросили, и в конце концов нервы у него не выдержали. Вскочив на коня, он стремительно пересек Понте Веккьо и поскакал через весь город к палаццо Медичи, где сразу же попросил провести его к хозяину. Далее показания свидетелей расходятся. Одни утверждают, что Питти слезно умолял Пьеро о прощении, клянясь, что отныне «будет стоять на его стороне до самой смерти». Трудно сказать, знал ли тогда Пьеро, насколько тесно связан Питти с заговором, имеющим целью его уничтожение, известно лишь, что он щедро даровал ему прощение. Кое-кто утверждает даже, что, дабы достичь мира в городе, Питти предложил Пьеро женить Лоренцо на одной из своих дочерей, и тот будто бы согласился.
К этому времени Пьеро уже собрал своих людей и послал письмо Галеаццо Сфорце с просьбой как можно скорее выдвинуть свою кавалерию во Флоренцию. Содерини своим чередом с такой же просьбой обратился к герцогу Феррары, а сам направился в Палаццо делла Синьория в надежде заставить власти города арестовать Пьеро. В городе царила растерянность и паника, но народное восстание, на которое рассчитывал Питти, так и не началось. В результате никто арестовывать Пьеро не пришел, а вооруженные банды, выступившие на стороне заговорщиков, постепенно утратили боевой пыл и рассеялись по закоулкам города. Вскоре об этом стало известно герцогу Феррарскому, и он понял, что ситуацию, сложившуюся в городе, ему обрисовали неверно. Народ, вопреки заверениям Содерини, не собирается приветствовать его людей как освободителей, и лучше вернуть их домой. Что же касается армии Коллеоне, то она даже не успела выйти из Венеции, когда там стало известно о происходящем.
Заговор провалился, и Пьеро для восстановления порядка в городе привел в действие политическую машину Медичи. После избрания верной Медичи синьории во Флоренции зазвонил колокол-vacca, и граждане, имеющие право голоса, потянулись на пьяцца делла Синьория. Сюда было согнано три тысячи вооруженных людей — вся городская гвардия и люди Медичи во главе с юным Лоренцо, который в полном боевом облачении ехал впереди отряда. Сильно напуганные разговорами о гражданской войне и вторжении чужеземцев, участники собрания быстро согласились вернуться к старой системе назначения членов синьории в гильдиях, отказавшись от более демократической процедуры выбора путем жеребьевки, что некогда и позволило Содерини стать гонфалоньером. На протяжении ближайших двадцати лет разговоры о реформах будут возникать вновь и вновь, пока наконец система управления городом не обретет твердую опору. Но и сейчас все поняли смысл происшедшего: власть Медичи была восстановлена и во всеуслышание утверждена, быть может, на десятилетия вперед. Граждане Флоренции, желали они того или нет, были вынуждены принять эту данность; впрочем, насколько можно судить, особых возражений у них не было — такова цена стабильности.
Главари заговора Аччайуоли, Нерони и Содерини были приговорены к смерти, но благодаря вмешательству Пьеро казнь заменили изгнанием. Смягчение вердикта должно было примирить враждующие партии, но в итоге выяснилось, что такой шаг был дорогостоящей ошибкой. Содерини и Нерони сразу направились в Венецию, властителей которой все больше беспокоили укрепляющиеся союзнические связи между Флоренцией и Миланом. Дожа Венеции удалось быстро убедить в необходимости действий против Флоренции, и уже в мае 1467 года Коллеоне получил приказ напасть на город. Этому грозному кондотьеру было уже шестьдесят семь лет, и возраст начинал сказываться; тем не менее ремеслу он учился у самого Сфорцы, что позволяло встать во главе мощного отряда, состоявшего из восьми тысяч всадников и шести тысяч пехотинцев.
Пьеро, узнав о происходящем, действовал с обычной быстротой: он послал нарочных к Ферранте в Неаполь и к Галеаццо в Милан, призывая тех собрать под знамена как можно больше людей. Одновременно он назначил командующим вооруженными силами Флоренции Федерико де Монтефельтро. У этого сорокапятилетнего князька крохотного города-государства Урбино была репутация блестящего военачальника, уступающего в этом смысле только Коллеоне; он тоже был учеником Сфорцы и даже женился на его дочери Баттисте.
Оба отряда начали маневрировать в долинах и на взгорьях Романьи, дожидаясь, пока кто-нибудь не сделает ошибку. Задача Монтефельтро состояла в том, чтобы вообще избежать столкновения, пока не подойдет подмога из Милана и Неаполя. Его тактика оттяжек сработала, и вскоре с ним соединился отряд из Неаполя под командой герцога Калабрийского и внушительные силы из Милана во главе с самим Галеаццо.
Быстро перейдя теперь к решительным действиям, Монтефельтро сумел поставить Коллеоне и его людей в невыгодное положение. Но не успел он нанести удар, как Галеаццо совершенно необъяснимым образом позволил противнику вырваться из ловушки. В ответ на запрос из синьории Монтефельтро пожаловался, что Галеаццо из чистого тщеславия отказался следовать его приказам, мол, им, Сфорцей, не может командовать человек, бывший некогда подчиненным его отца. Синьория дипломатично пригласила Галеаццо во Флоренцию самолично доложить о сложившейся ситуации, а также изложить свое мнение о дальнейших действиях флорентийских сил. Теперь, когда капризный юнец миланский герцог уже ничем не мог ему помешать, Монтефельтро вновь настиг венецианские отряды, отходившие к Имоле; Коллеоне вынужден был остановиться и принять бой. Флорентийцы быстро начали брать верх, но тут стемнело, и пришлось сражаться при свете факелов. В возникшей суматохе Коллеоне приказал своим силам отступить. Монтефельтро объявил об одержанной победе, но на самом деле окончательной ее не назовешь, ибо Коллеоне вернулся в Венецию, сохранив в основном свою армию. Тем не менее венецианцы не склонны были втягиваться в долгую войну, и год спустя между двумя городами был подписан мирный договор. Пьеро удалось возродить старый союз; стабильность, как внутри, так и вовне, была восстановлена, и теперь уже никто не покушался на его авторитет властителя города.
Пьеро также провел важную коммерческую операцию, которая обеспечила банку Медичи долговременную прибыль (что, в свою очередь, помогло скрыть постепенный спад деловой активности банка в Европе). Некоторое время назад банк Медичи при живом еще тогда Козимо принял участие в торговле квасцами, являвшейся папской монополией. Квасцы — минеральная соль, образующаяся в результате вулканической деятельности и используемая при покраске одежды; это важнейший элемент текстильной промышленности во Флоренции и за рубежом, вплоть до Нидерландов и Лондона. В течение долгих лет главным источником поставки в Европу хорошо очищенных квасцов оставались залежи в Малой Азии, близ Смирны (ныне Измир), и находились они в руках Генуи до тех самых пор, пока в 1455 году не перешли под контроль Оттоманской империи. Хочешь не хочешь, а торговлю квасцами продолжать было надо, но, согласно некоторым современным подсчетам, турецкий султан ежегодно «отнимал у христиан более 300 000 золотом». А это, в свою очередь, означало, что европейцы фактически финансируют войну, которую турки ведут против них же на Балканах и в восточном Средиземноморье. К счастью, в 1462 году, когда в Папской области у Толфы, в нескольких милях от итальянского побережья близ Чивитавеккьи, было обнаружено «семь гор квасцов», этому дикому положению пришел конец.
Папская канцелярия сразу же наложила руки на этот ценный минеральный источник и объявила его своей монополией, пригрозив, что отныне всякий, кто попытается ввозить в Италию турецкие квасцы, будет отлучен от церкви. Более того, папа настолько дорожил этим источником дохода, что вскоре предпринял еще один шаг, специально оговорив, что выдаваемые им индульгенции недействительны для тех, кто не только ввозит, но даже просто использует незаконно ввезенные квасцы. Но тут возникала доктринальная проблема, ведь монопольная торговля (подобно ростовщичеству) по церковным законам запрещается. К счастью, знатоки-теологи, близкие к папскому двору, вскоре отыскали в этом законе лазейку. Так как (новые) шахты лишают неверных турок дохода, в техническом смысле они используются для упрочения христианского дела, а такая цель в полной мере оправдывает незаконные по форме средства, так что в данном конкретном случае монопольная торговля перестает быть грехом.
Будучи финансовым учреждением, обслуживающим папу, банк Медичи географически располагался наилучшим образом для участия в торговле квасцами; не говоря уже о том, что в виде филиалов он располагал целой сетью торговых точек по всему миру. В общем, уже в 1464 году банк Медичи имел дело едва ли не с половиной запасов, имеющихся в шахтах Толфы. Это были, наверное, весьма крупные операции, ибо известно, что к 1471 году годовая добыча квасцов в Толфе достигла примерно 70 000 cantaros (cantar — старинная средиземноморская кубическая мера, равная по объему кувшину воды или большой пивной кружке), то есть цифра эта равняется приблизительно 3444 тоннам.
Козимо в ту пору уже сильно болел и не мог заниматься этим делом, которое и началось-то в год его смерти; он вверил его заботам тестя Пьеро Джованни Торнабуони, многолетнего главы римского отделения банка Медичи. После смерти Козимо Торнабуони стал жаловаться зятю, что рынок квасцов — дело малоприбыльное, вероятно, потому, что ведет его папская канцелярия в высшей степени неудовлетворительно: рынок слишком часто перегревается, что обрушивает цены еще до того, как квасцы, которые можно было бы продать подороже, достигают места назначения. Он советовал Пьеро либо вообще отойти в сторону, либо попытаться перехватить у папской канцелярии торговые права, что обеспечит банку Медичи монополию на этом рынке и позволит установить фиксированные цены на приемлемом уровне. Но начавшаяся в 1465 году война между Флоренцией и Венецией привела к тому, что Павел II, папа-венецианец, закрыл свои счета в банке Медичи, передав их одному из своих родичей.
Это поставило банк Медичи в весьма невыгодное положение: заниматься квасцовым бизнесом при Павле II будет нелегко, а уж о монополии и вовсе говорить не приходится. Пьеро снова решил втянуть в игру своего сына, послав его в 1466 году в Рим: расчет был не только на юношеское обаяние семнадцатилетнего Лоренцо, но, как ни странно, и на его деловую хватку. «Решай это и другие дела по своему разумению», — писал Пьеро сыну по прибытии последнего в Рим. Впрочем, поездке предшествовал подробнейший инструктаж: Лоренцо следовало убедить всех в том, что только банк Медичи способен снарядить торговый флот для отправки груза в Лондон и Нидерланды — путь неблизкий, чреватый разнообразными опасностями — кораблекрушения, пираты, — а это означает, что какая-нибудь второстепенная, небольшая компания потерпит невозместимые убытки, в то время как банк Медичи может позволить себе и не такие потери. Аристократические манеры Лоренцо в сочетании с убедительными аргументами Пьеро сделали свое дело, и 1 апреля 1466 гола банк Медичи получил искомые права. На следующий день Торнабуони с энтузиазмом писал Пьеро, что отныне банк будет зарабатывать на рынках Лондона и Брюгге вдвое больше против прежнего, обеспечив себе таким образом на несколько лет вперед огромные доходы.
Подсчеты точных размеров этой прибыли разнятся. Известно, что чиновники папской канцелярии получали по 2 флорина премиальных за каждый cantar, вывозившийся со складов в Чивитавеккья; известно также, что филиал банка Медичи в Брюгге зарабатывал на каждом cantar от 3 до 4 флоринов. Таким образом, даже с учетом транспортных расходов, банк получал ежегодно минимум 70 000 флоринов дохода — гигантская сумма, особенно если учесть, что до 1420 года общая прибыль банка составила за двадцать три года 15 2000 флоринов.
Пьеро Подагрик остался верен и другой традиции Медичи — меценатству. Сам Козимо стремился оставить след Медичи в памяти поколений строительством зданий, а заказы на картины передоверил своим сыновьям Джованни и Пьеро, что свидетельствует не только об их интересе к живописи, но и о немалой проницательности главы клана. Еще при жизни отца, а затем в течение тех бурных пяти лет, что он правил Флоренцией, Пьеро регулярно заказывал картины целому ряду художников. Он не оставлял своими заботами отцовского любимца Донателло, а когда тот в 1466 году скончался, уважил желание мастера быть похороненным в церкви Сан-Лоренцо рядом с Козимо — жест, свидетельствующий о духовной близости Медичи к художникам, которым они помогали. Медичи были среди первых, кто понял и заявил о том публично, что художник — это далеко не просто ремесленник; с другой стороны, и сами художники постепенно осознавали собственную значимость, что неотделимо от возникновения гуманизма. Они начинали верить в себя, в свое неповторимое видение мира; именно этой эпохе обязаны мы возникновением понятия «гений» и всего того, что за ним стоит: исключительный талант, исключительное поведение, исключительная уверенность — и, парадоксальным образом, как следствие всего этого, исключительные душевные страдания.
Характерно воплощает этот новый социальный тип художник Фра Филиппо Липпи, замеченный в свое время Козимо, работавший по заказам Пьеро и ставший другом молодого Лоренцо.
Сын мясника из Флоренции, Липпи родился примерно в 1406 году. Рано осиротевший, он воспитывался у своей жившей на грани нищеты тетки, но часто сбегал из дома, проводя время с босоногими уличными мальчишками, что оказало решающее воздействие на формирование его характера. В конце концов тетка не выдержала и, когда племяннику исполнилось пятнадцать лет, поместила его в монастырь Санта-Мария дель Кармине в Олтрарно, где он принял постриг и стал монахом (отсюда прозвище — «фра», то есть «брат»). Монастырская жизнь не отложила сколько-нибудь заметного отпечатка на непоседливого юношу, но зато тут он познакомился с человеком, который наряду с уличным детством способствовал его становлению.
В 1426 году монастырь заказал расписать стены часовни Бранкаччи двадцатипятилетнему Мазаччо. Он был одним из первых, кто открыл и разработал новую технику реалистической живописи, благодаря которой человеческие фигуры на его фресках отличаются невиданным ранее многообразием и драматической силой. Фра Липпи был заинтригован и часами наблюдал молодого Мазаччо за работой. Почувствовав, что подросток-монах обладает живописным талантом, Мазаччо начал посвящать его в секреты своего мастерства, учил, как использовать свет и перспективу, говорил о важности изучения анатомии, советовал, как лучше передавать чувство.
Два года спустя, в 1428 году, Мазаччо умер, но его новаторская техника найдет полное воплощение в живописи Липпи, который вскоре после того оставил монастырь и отправился в Падую, где намеревался целиком посвятить себя живописи. Ни одна из его ранних работ не сохранилась, но оригинальный почерк этого художника стал очевиден с самого начала, ибо он легко распознается в работах других падуанских живописцев этого времени: в мире живописи повеяли новые ветры.
Кажется, из-за какой-то скандальной истории, связанной с женщиной, Липпи тайно уехал из Падуи и направился на юг, в Анкону. Однажды он вышел на морскую прогулку, но его вынесло в открытое море, где он попал в плен к мавританским корсарам, которые заковали его в железо и, как раба, переправили на север Африки. По прошествии полутора лет пленения Липпи нарисовал на стене своей тюремной камеры портрет местного халифа. Коран запрещает изображение живых существ, и до того халиф никогда не видел своих изображений; теперь же он был настолько восхищен работой Липпи, что даровал ему свободу. Наверное, впрочем, что все это легенда, ибо источником сведений является сам Липпи, а ему особенно доверять нельзя; тем не менее фактом является то, что примерно в это время он объявился в Неаполе, где занятия живописью чередовал с частыми визитами в местные бордели. Либо тогда, либо немного позже он ненадолго попал в тюрьму и подвергся публичному бичеванию за мошенничество; в 1437 году Липпи покинул Неаполь и вернулся во Флоренцию.
Здесь он сумел получить заказ от монашенок Сан-Амброджо на роспись алтаря, которая удалась ему настолько, что привлекла внимание Козимо де Медичи. Даже сегодня достоинства этой работы сразу бросаются в глаза. Очертания лиц проступают с такой выпуклостью, словно перед нами не рисунок, а барельеф. Говорят, этой технике Липпи учился у Донателло. Так или иначе, именно она, в сочетании с резкой индивидуальностью лиц придает его работам такую удивительную чувственность, что было замечено уже первыми зрителями. Глядя на его фрески, ясно ощущаешь, что мадонна — это женщина, лично известная художнику, и даже дитя с пухлым лицом, что она держит у себя на руках, это узнаваемый младенец, а не некий абстрактный символ духовности.
Согласно нравам и привычкам того времени, работы, которые Липпи писал на заказ, почти исключительно ограничивались религиозными сюжетами. Но имея в виду его характер, неудивительно и даже естественно то, что они не пронизаны глубокой духовностью, а, напротив, отличаются неотразимой жизненностью. Его благовещения, его мадонны, его росписи алтарей — все представляет собой подлинные сцены, а духовность их участников лишена какой-либо торжественности, ничуть не подчеркнута — по выражению лиц мы просто угадываем их отношение к происходящему. Его зрелая манера письма изяществом линий и тонкостью цвета находит отражение в творениях падуанской школы живописи, и одновременно он предстает перед нами художественным предтечей Сандро Боттичелли во всем великолепии его рисунка и колорита.
Ослепительный талант Липпи, только он один, способен объяснить бесконечное терпение Козимо де Медичи во взаимоотношениях с этим своенравным художником, отвечавшим своим покровителям самой черной неблагодарностью — пожалуй, это была единственная неизменная черта в его переменчивом характере. В данном случае свойства и черты Медичи — крестного отца — должны были быть проявлены во всей полноте; Козимо, а впоследствии Пьеро быстро взяли за правило не расплачиваться с художником до окончания работы, хотя и это не всегда служило достаточным стимулом. В качестве последнего прибежища Липпи была представлена студия в палаццо Медичи — фактически домашняя тюрьма; сюда ему доставляли пищу и краски, но дверь оставалась закрытой до тех пор, пока заказ не будет выполнен полностью. Художнику даже спать приходилось в студии; знаем мы это по рассказу о том, как однажды ему удалось выскользнуть оттуда: он разорвал простыню на полосы, сделал из них канат и спустился на улицу. Потом он исчез на несколько дней, и Козимо вынужден был разослать слуг на его поиски в борделях, окружающих Меркато Веккьо (нынешняя пьяцца делла Репубблика) и забегаловках в трущобах района Санта-Кроче (на заболоченном северном берегу Арно, к востоку от центра города). И все же Липпи, должно быть, особенно сильно вызывал у Козимо то сочувственное понимание, с которым тот относился к привечаемым им художникам, ибо как раз после этого случая он «решил на будущее пытаться держать его в рамках добротой и любовью и ни в чем не стеснять свободы».
Следуя, вероятно, этой просвещенной линии, Козимо убедил Липпи оставить Флоренцию с ее злачными местами и отправиться работать в Прато, холмистую сельскую местность в десяти милях к северо-западу от города. Случилось это в 1446 году. Там, по рекомендации Козимо, ему дал какой-то заказ настоятель монастыря Сан-Стефано, он же незаконнорожденный сын Козимо Карло, — Липпи изобразит его на одной из своих фресок.
Вскоре после этого Липпи получил новую работу — расписать алтарь в женском монастыре Санта-Маргарита, там же, в Прато. Здесь ему удалось уговорить аббатису позволить ему использовать в качестве натурщицы для изображения Мадонны девятнадцатилетнюю монахиню Лукрецию Бути. Через несколько месяцев Лукреция забеременела, и любовники бежали из Прато. Поскольку оба были посвящены в духовный сан, дело получило настолько скандальную огласку, что церковное начальство в конце концов довело его до сведения самого папы.
На сей раз Козимо потребовалось все его влияние, чтобы замять дело. В 1458 году папой, приняв имя Пия II, стал известный гуманист и автор эротических новелл Пикколомини, и во время визита во Флоренцию, приуроченного к какому-то церковному празднеству, Козимо уговорил его заняться делом Липпи и Бути. В результате по особому соизволению папы оба были освобождены от церковных обязательств, что позволило им пожениться и создать дом для своего сына (которому предстояло сделаться видным ренессансным художником Филиппино Липпи). Что не помешало Липпи-старшему в неотдаленном времени оставить жену и сына и вместе с созданием подлинных шедевров — один лучше другого — на религиозные сюжеты пуститься во все тяжкие. Как-то раз дело кончилось обвинением в краже денег у собственного помощника и «пыткой на дыбе до тех пор, пока не вывалятся кишки». Липпи умер в Сполето 8 октября 1469 года в шестидесятитрехлетнем возрасте: говорят, его отравили разгневанные родичи соблазненной им юной девушки.
Как ни странно, но похоронен он был на церковном кладбище, там же, в Сполето, — можно не сомневаться, благодаря вмешательству Медичи. Это стало одним из последних деяний Пьеро Подагрика, умершего всего два месяца спустя от болезни, благодаря которой и получил свое прозвище. Все отпущенное ему время он следовал примеру отца, будучи правителем сдержанным, но мудрым и решительным. В последние месяцы, будучи прикован к постели у себя в палаццо Медичи, Пьеро узнал, что некоторые чрезмерно ретивые молодые люди из его партии пользуются преимуществами близости к Медичи — так, по словам Макиавелли, «словно Бог и судьба сделали город их добычей». Представителей некоторых семей подстерегали ночами, а иногда грабили и при свете дня, стоило им показаться в оживленном районе, примыкающем к церкви Сан-Лоренцо (как считалось, традиционной территории Медичи). Пребывая на смертном одре, Пьеро тем не менее нашел в себе силы призвать к себе вожаков и предупредить, что если на улицах Флоренции не будет наведен порядок, а определенные семьи станут жертвами преследований, он вынужден будет вернуть из ссылки отцов этих семей, чтобы они защитили своих близких. Это был блеф, но он сработал, и на улицах Флоренции воцарился покой. Наследие Пьеро — восстановление мира как во Флоренции, так и в прилегающих государствах.
ЧАСТЬ III. ГОСУДАРЬ И ПРОРОК ГИБЕЛИ
12. ГОСУДАРЬ В ЭПОХУ РЕНЕССАНСА
Через два дня после смерти Пьеро де Медичи, последовавшей в декабре 1469 года, в палаццо Медичи на встречу с Лоренцо явилась целая делегация ведущих граждан Флоренции во главе с Томмазо Содерини, сохранявшим верность Медичи на всем протяжении бунта и ссылки его брата Никколо. Делегация начала с выражения соболезнований по случаю утраты отца, а затем стала, как пишет Лоренцо в своих «Ricordi» (краткая хроника семьи Медичи), «хоть был я очень молод — всего двадцать лет, — убеждать меня взять на себя, вслед за дедом и отцом, заботу о городе». Таким образом, идея наследования была признана открыто. «Против этого, — продолжает Лоренцо, — восставали все мои юношеские чувства. Опасаясь, что не выдержу бремени власти и сопряженных с ней опасностей, я согласился с очень большой неохотой». Разумеется, это ложная скромность (весьма не характерная для Лоренцо) — его готовили к правлению с самых юных лет, и он давно отдавал себе в этом отчет. Тем не менее чистым лицемерием назвать его слова нельзя, ибо Лоренцо знал, что флорентийцы по-прежнему хотели видеть себя гражданами республики. Это была часть наследия, которым они гордились, которое выделяло их среди всех остальных итальянцев.
С этим фундаментальным расхождением между реальной властью и конституционным правом можно было бы примириться, но только в том случае, если с этим согласятся все участники этой парадоксальной ситуации. В своих «Ricordi» Лоренцо поясняет подлинную причину своего согласия «взять на себя заботу» о городе: «Я сделал это для того, чтобы защитить наших друзей и собственность, ибо плохо приходится тем, кто богат, но не имеет никакого влияния на власть». Ситуация сложилась безвыходная: все признавали верховенство Медичи, но титула у них не было; и все равно они должны были играть свою роль, для того чтобы выжить. Историк Франческо Гвиччардини, бывший ребенком в годы правления Лоренцо, справедливо характеризует двусмысленное положение последнего — «милосердный тиран в стране, которая по конституции является республикой».
Лоренцо де Медичи родился в 1449 году, и его жизнь начиналась в годы, когда устанавливалась власть семьи: мальчиком он был любимцем своего деда Козимо. Однажды, когда постаревший Козимо принимал какую-то важную делегацию из Лукки, в кабинет вошел внучек с палочкой в руке. Лоренцо спросил деда, может ли тот вырезать из нее флейту, и Козимо тут же принялся за дело. Когда мальчик удалился, радостно вертя в пальцах новую флейту, гости из Лукки посетовали, зачем Козимо прервал столь важную встречу. «Разве вы сами не отцы, не деды? — парировал хозяин. — Вам еще повезло, что мальчик не попросил меня поиграть на своей новой флейте. Иначе я бы наверняка повиновался».
Наибольшее воздействие на Лоренцо оказала, безусловно, его мать Лукреция (урожденная Торнабуони); ее властная и глубоко артистическая — по природе и воспитанию — личность обогатила наследие Медичи творческим началом, которое раньше почти не проявляло себя. С этим связан и еще один важный элемент воспитания Лоренцо. Могущественные семьи во Флоренции традиционно существовали по преимуществу в форме кланов, это отражалось не только в образе жизни, но и в виде жилища. Многочисленное семейство, почти племя, собиралось под крышей родового дворца, где ходом общей жизни управлял вождь; индивидуальность же растворялась, как правило, в чувстве принадлежности к клану. Это касалось и семейств, живших не в одном дворце, но в домах, прилегающих один к другому.
Однако наступало время перемен, и в новых дворцах ведущих семейств Флоренции начало ощущаться что-то новое. Они по-прежнему поражали размерами: скажем, палаццо Питти было просторнее дворцов многих королевских семей в Европе. Но с возвышением в эпоху гуманизма человеческой индивидуальности семейные кланы начали распадаться на отдельные ячейки, и это отражалось и в самой планировке новых дворцов, и в распорядке внутренней жизни. Палаццо Медичи был построен для одной семьи и ее домочадцев, но не для большого клана, между тем как палаццо Барди — их прежнее жилище — располагался на улице, где Барди принадлежало все, и двери были всегда открыты для всех членов клана. Ну а в палаццо Медичи семья могла укрываться от посторонних глаз и наслаждаться частной жизнью; так начиналось отделение ее от жизни общественной.
Ослабление клановых связей вело к укреплению связей внутрисемейных — родители становились ближе детям и детям детей — внукам. Обратите внимание на слова Козимо, обращенные к гостям из Лукки: «Разве вы не отцы, не деды?» Игры с Лоренцо он считал занятием не менее важным, чем переговоры с иностранной делегацией, в то время как — красноречивая деталь — люди из Лукки, где идеи Ренессанса еще не нашли широкого распространения, — просто не поняли, о чем он говорит.
Показательно, что Медичи переехали в свой новый дворец на виа Ларга ровно за пять лет до рождения Лоренцо. В данном случае это определило редкостно близкие отношения с матерью, а также, как нам предстоит еще увидеть, — со славным младшим братом Джулиано. Взаимоотношения Пьеро со старшим сыном также, судя по всему, были и теснее, и тоньше, чем это характерно для семейной жизни прежних поколений. Скажем, влияние Джованни ди Биччи на Козимо было, можно сказать, абсолютным, важнейшие его шаги в точности дублировали те, которые предпринял бы в данном случае его отец. Лишь потом, после смерти Джованни, сын сумел выйти из психологической тени отца и обрести яркую индивидуальность. Между тем в его собственных взаимоотношениях с сыновьями мощь патриарха умерялась человеческой близостью: страдая от подагры, они вместе ложились в одну постель. На сыновей также возлагалась ответственность, им поручалось важное и ответственное дело — переговоры с художниками. Такое доверие проросло ненавязчивыми, но важными уроками, которые Пьеро давал своему сыну: не раз и не два его шаги оказывались единственно верными, и тем не менее он поручал Лоренцо дело не меньшей важности. Его отношения с сыном отличались особенной близостью и пониманием, такого раньше в семье Медичи не бывало.
Когда дедушка Козимо умер и бразды правления перешли в руки Пьеро Подагрика, Лоренцо было пятнадцать лет. Наверное, Пьеро чувствовал, что жить ему оставалось недолго, ибо Лоренцо не только готовили с младых ногтей к руководству городом, но и во многих случаях поручали публично выступать от имени отца. В таком утверждении не содержится никакого преувеличения, ведь как раз в этом возрасте Лоренцо заменял своего больного отца в качестве официального представителя Флорентийской республики. Первой такой миссией была поездка в Милан, на церемонию бракосочетания сына короля Неаполитанского Ферранте и дочери герцога Миланского Галеаццо. «Веди себя достойно и бдительно, — писал Пьеро своему сыну-подростку. — Будь мужчиной, а не мальчиком. Выказывай здравый смысл, трудолюбие, поступай по-мужски, так чтобы впредь ты мог выполнять более важные поручения». Доверие Пьеро оказалось оправданным, и вскоре его юный сын уже выполнял различные задания в Болонье, Ферраре и Венеции. Было ему тогда всего семнадцать лет, но, отправляясь в Рим на свидание с папой Павлом II с деликатной миссией заручиться для банка Медичи правом на монопольную торговлю квасцами, Лоренцо уже обладал некоторым дипломатическим опытом.
Тем не менее именно тогда Пьеро сделал свою самую большую, хотя, возможно, и неизбежную ошибку во взаимоотношениях с сыном. В Риме Лоренцо, помимо всего прочего, должен был поучиться у своего дяди, успешного управляющего римским отделением Джованни Торнабуони, основам банковского дела. Но обстоятельства сложились так, что курс продолжался всего несколько недель: у Лоренцо не было ни времени, ни желания брать такие уроки. Его индивидуальность, ум художника, взрывной характер совершенно не сочетались с педантизмом и, как правило, осторожностью, которых требует управление семейным банком. Впоследствии станет ясно, что это крупный недостаток, но сейчас он казался совершенной мелочью: в конце концов, всегда есть опытные и доверенные служащие, занимающиеся повседневными операциями всех отделений банка Медичи.
Уже в этом возрасте Лоренцо все свидетельствовало о том, что он не просто талант. По семейной традиции он получил превосходное гуманитарное образование в новом духе — ни один европейский государь не мог бы с ним в этом сравниться. Его первым учителем был опытный латинист Джентиле Бекки (впоследствии епископ Ареццо), научивший Лоренцо любить и понимать поэзию Овидия, а также риторику и гражданские доблести Цицерона. Затем он обучался древнегреческому у протеже Козимо Марсилио Фичино, чей безудержный энтузиазм привил Лоренцо подлинную любовь к идеалистической философии Платона. Фичино нравилось обучать Лоренцо, в котором ему так импонировала его «поистине радостная природа». Уже в раннем отрочестве Лоренцо был допущен к встречам, получившим наименование Платоновской Академии, инициатором которой был Козимо. Здесь он стал свидетелем — а вскоре и участником — споров, происходивших на высочайшем интеллектуальном уровне. Он внимал рассуждениям Браччолини и других членов гуманистического кружка Козимо, касавшимся древнегреческой философии, глубины которой должны были вот-вот открыться современникам, латинской риторики, новейших научных и художественных идей. Выпало ему слушать и деятелей наподобие Иоанна Аргиропулоса, ведущего византийского ученого, который после знакомства с Козимо на Вселенском соборе обосновался в Италии и вскоре выдвинулся на первые роли в деле возрождения греческой просвещенности. Все это казалось таким необычным, таким новым — пусть даже многое из услышанного было известно уже тысячу лет назад, а потом просто погрузилось в глубокую дрему. Лоренцо был в большой степени продуктом флорентийской интеллектуальной традиции, на развитие которой, в свою очередь, оказал столь существенное воздействие.
Но университеты Лоренцо не ограничивались гуманитарным знанием. Ему нравилась охота — конная и соколиная, а также веселая мальчишеская игра в мяч «без правил» — отдаленный прообраз современного футбола. Он был физически развит, умен, энергичен — прирожденный лидер. Во время конных прогулок Лоренцо нравилось быть запевалой в хоровом исполнении различных сальных куплетов, которые он нередко с большим остроумием подгонял под мотивы текущего дня. Все эти таланты Лоренцо — не просто объяснимая гипербола, к какой часто прибегают, говоря о молодости великого человека. В том самом возрасте, когда отец начал доверять ему различные дипломатические миссии, Лоренцо уже сочинял свои первые стихотворения. В отличие от правильной латыни, которую предпочитало большинство, Лоренцо писал на тосканском диалекте. К семнадцати годам он достиг такого владения языками, что мог уверенно утверждать: «На тосканском можно описывать предметы и выражать чувства не хуже, чем на латыни». Тосканский — тот же флорентийский диалект, возможности которого впервые продемонстрировал Данте, зерно, начинавшее прорастать общеитальянским языком; иные из стихотворений, написанных Лоренцо де Медичи в зрелом возрасте, отличаются уровнем, который позволяет включить их в канон ранней итальянской поэзии.
В том, что Лоренцо де Медичи уже в ранние годы проявил себя человеком ярким, сомнений быть не может, хотя, на удивление, внешность у него, как свидетельствуют многочисленные портреты, была как раз самая заурядная. В этом смысле Лоренцо — типичный Медичи. Его землистого цвета лицо было, можно сказать, просто уродливым. Жидкие, разделенные посредине волосы ниспадали на плечи; под нависающими бровями скрывались глаза с набрякшими, как у отца, веками. Острый подбородок, выпячивающаяся нижняя губа, нос же широкий и приплюснутый, так что Лоренцо был фактически лишен обоняния — хотя это, возможно, объясняется тем, что другие чувства у него были, напротив, развиты исключительно, что проявляется и в его эстетических суждениях, и в поэзии. Лоренцо был неуклюж, высок, мощно, но непропорционально сложен, и лишь пальцы у него были длинные и тонкие. Как пишет Гвиччардини, «голос (у Лоренцо) был пронзительный и неприятный, ибо говорил он в нос. Тем не менее фактом остается то, что он нравился женщинам». В общем, это был человек, чья внешность обманчива.
Эти контрасты фигурируют в самых различных описаниях Лоренцо. По словам Макиавелли, «наблюдать его то в моменты скорби, то в моменты радости означало видеть в нем две ипостаси, связанные невидимыми нитями». Похоже, загадка характера Лоренцо интриговала многих проницательных наблюдателей. Его друг, поэт Анджело Полициано, вспоминает день, проведенный в обществе Лоренцо: «Вчера все мы сели на лошадей и уехали из города, весело распевая разные песенки. Время от времени останавливались, чтобы поговорить серьезно о серьезных, святых вещах, дабы напомнить самим себе, что сейчас Великий пост». Остановились попить. Полициано отмечает «тонкий юмор», которым Лоренцо оживляет общую беседу. Весь вечер молодые люди читали вслух святого Августина, затем «чтение перешло в музыку» и танцы. Первым, кого Полициано увидел наутро, был Лоренцо, отправляющийся на мессу. Так прошли двадцать четыре часа в его обществе.
Насыщенно, надо сказать, провели время, но безудержная скорость не замедляется, стремительные скачки настроения продолжаются. Молодые люди из высшего флорентийского общества жили в то время веселой беззаботной жизнью. Один из приятелей Лоренцо (тот был в отъезде) в письме к нему описывает такую сцену: «Весь город в снегу, что для иных — досада, потому что надо сидеть дома, а для нас радость». В два часа ночи, вооружившись факелами, играя на трубах и флейтах, группа молодых людей отправляется пропеть серенаду девушке, с которой один из них помолвлен. Одновременно они обстреливают снежками ее балкон. «То-то было восторга, когда одному из нас удалось угодить ей прямо в лицо, которое сделалось белее снега!.. А Мариетта, чья ловкость не уступает красоте, начала, в свою очередь, бросать снежки в нашу сторону, и все это под звук труб и общего веселья в ночи».
Сегодня эта сцена ничуть не утратила своих оригинальных красок. В качестве иллюстрации к этой сцене биограф семейства Медичи Дж. Ф. Янг приводит строки из стихотворения Лоренцо:
Quant'e bella giovinezza Che si fugge tuttavia. Chi vuol esser lieto, sia Di doman non c'e certeza (О, как прекрасна юность, И как же она преходяща. Не трать времени на унынье, Кто знает, что ждет тебя завтра).
Это поэзия отражений: отражение самой сцены и отражение характера Лоренцо. Если «невидимая нить», связующая «две ипостаси», действительно существует, то ее можно нащупать в этом двуедином образе: действие и отражение.
Подобно своему деду, Лоренцо постепенно обрел глубокую любовь к платоновской философии с ее представлением о мире как о сне, хоть и сотканном из безупречных абстрактных идей. Красота этой философии неотразимо привлекала Лоренцо, возбуждая его творческий импульс. Правда, Фичино как-то проницательно заметил, что Лоренцо не столько верит в Платона, сколько использует его — хотя не исключено, что использует не просто в творческих целях. За всем этим, за вспышками яркой, но пустотелой энергии, угадывается некоторая отрешенность, намек на почти философическое раздумье, беспечный оптимизм, случайные вспышки самоотверженной отваги.
Коль скоро дело касалось Лоренцо, Пьеро ничего не оставлял на волю случая и за два года до смерти занялся матримониальными перспективами своего старшего сына. Ведущие семьи Флоренции всегда скрепляли свой союз брачными узами, и Пьеро даже пообещал Луке Питти, что женит Лоренцо на одной из его дочерей, дабы поспособствовать единству города. Но от этой идеи пришлось быстро отказаться по двум причинам: во-первых, Пьеро узнал, что Питти участвует в заговоре и настаивает на его убийстве, а во-вторых, после провала переворота, когда Питти проявил себя как жалкий трус, граждане Флоренции стали относиться к этому некогда всесильному вельможе с откровенным презрением.
Пьеро был реалистом и нарушил свое обещание, но нарушил он одновременно и старую флорентийскую традицию женить сыновей на девушках из ведущих местных семей; вопреки ей он решил поискать невесту своему сыну и наследнику подальше. Правда, Пьеро был слишком болен, чтобы разъезжать самому, так что разведывательную работу взяла на себя его жена Лукреция. Под предлогом свидания с братом, Джованни Торнабуони, она отправилась в Рим, откуда писала о впечатлении, произведенном на нее шестнадцатилетней Клариссой Орсини, девушкой, которую Пьеро намечал в жены Лоренцо: «Она довольно рослая, с матовой кожей. Хорошо воспитана, умеет вести себя. Правда, ей недостает образования, какое дают у нас, во Флоренции, но это дело поправимое... Лицо полноватое, но миловидное... О груди ничего сказать не могу, ибо римлянки ее скрывают, но вроде сформирована неплохо... В общем, девушка выше среднего, хотя с нашими дочерьми не сравнишь». Таков был типичный отчет, предшествующий браку, только Лукреция все же добавила: «Если Лоренцо она понравилась, он сам тебе об этом скажет».
Правда, слова словами, а выбора у Лоренцо фактически не было; у Пьеро были свои планы, и, обручив сына и наследника с римлянкой, он явно бросал вызов Флоренции. Рим считался глубокой провинцией, флорентийки же видели в себе новых римлянок, наследниц матрон Древнего Рима. Выходит, женитьба на девушке из Рима означает, что флорентийские семьи недостаточно хороши. В то же время невозможно отрицать, что Орсини — старая и уважаемая римская семья, она живет в роскошном замке, на берегу озера Браччано, в двадцати милях к северо-западу от Рима, а также имеет крупные земельные владения в окрестностях Неаполя. Но главное, Орсини располагают собственной и довольно внушительной армией. Пьеро хорошо усвоил уроки недавнего бунта во главе с Лукой Питти и твердо решил, что отныне, когда Медичи понадобится пустить в ход военную силу, они не будут зависеть от посторонней помощи — пусть все считаются с ними самими.
Но и это еще не все. Почти наверняка Пьеро выполнял тайный план, который вынашивал еще Козимо: породнясь с семьей Орсини, Медичи впервые поднимаются на ступеньку выше, выламываются из своего класса и входят в круг высшей итальянской аристократии. Пусть они — банкиры самого папы, зато Орсини обладают могучим влиянием внутри самой церкви, они регулярно становятся кардиналами, а один из Орсини был даже папой. Обручив Лоренцо с девушкой из этой семьи, Пьеро явно смотрел в будущее.
Как можно было предполагать, Флоренция оказалась не в восторге от выбора невесты для Лоренцо, и, чтобы умерить недовольство, Пьеро решил устроить для жителей народа фестиваль — празднество по случаю помолвки сына. По крайней мере так это будет преподнесено; на самом-то деле Пьеро был уже слишком болен, чтобы заниматься организацией такого действа, все труды взял на себя Лоренцо. Вот тогда-то он и показал себя во всей красе: результатом его усилий стал поистине блистательный турнир, состоявшийся в марте 1469 года на традиционной арене — пьяцца Санта-Кроче.
Давайте представим себе просторную, выложенную булыжником, посыпанным песком (чтобы не скользили лошадиные копыта), площадь. С одной стороны специально поставлены трибуны под красочными навесами — для главных флорентийских семей. С трех других толпится разодетый народ, кое-кто смотрит из окон и с балконов, украшенных флажками, а иные и вовсе забрались на крышу, прямо под ясное голубое небо. Герольды в ливреях трубят в фанфары, и на площадь выезжают восемнадцать конных рыцарей. Каждую лошадь ведет под уздцы паж в красочной тунике. Один за другим рыцари проезжают мимо трибуны, опуская копья перед троном «Королевы турнира». На сей раз ею была Лукреция Донати, юная жена одного видного флорентийца, безусловно считавшаяся первой красавицей города. На солнце сверкают блестящие доспехи, развеваются плюмажи на шлемах рыцарей, покуда те направляются к своим местам, демонстрируя толпе щиты с фамильными гербами. Но никто не может затмить Лоренцо на его белом боевом коне в красно-белой шелковой попоне. Белый с алыми полосами плащ ниспадает с плеч, фамильный щит Медичи украшен сверкающим бриллиантом. Начинаются поединки, каждый продолжается до тех пор, пока один рыцарь не выбьет из седла другого. Раздается цокот копыт, и при всяком столкновении соперников толпа исходит восторженным ревом.
Конкретные подробности турнира отражены в поэтическом сочинении друга Лоренцо Луиджи Пульчи «Поединок Лоренцо де Медичи», которое стало одной из самых известных баллад своего времени. Впрочем, при всем драматизме и при всей страсти борьбы, это было прежде всего театральное представление. Никто никого не собирался убивать или ранить, а уж Лоренцо — всего менее. Иное дело, что несчастные случаи и на такого рода турнирах происходили; например, на одном из них знаменитый кондотьер Монтефельтро из Урбино потерял глаз. Но в данном случае ничего подобного быть не могло. Понятно, что и о победителе вопрос не стоял, хотя, как изящно выразился Лоренцо, «мне дали первый приз, при том что оружием я владею не слишком хорошо и не особенно ловко отражаю удары соперника». Представление имело колоссальный успех, зрители расходились в полном восторге — урок, который Лоренцо крепко усвоит. И не беда, коли впоследствии выяснится, что стоило представление больше 8000 флоринов — на 2000 больше, чем обещанное приданое Клариссы!
Четыре месяца спустя Кларисса Орсини приехала во Флоренцию на свадьбу. В церковь она направлялась на том самом белом боевом коне — подарке короля Неаполитанского, — на котором Лоренцо выиграл турнир. За церемонией бракосочетания последовало трехдневное застолье во дворце Медичи. Во дворе и садах, под яркими тентами, были расставлены столы с кабаньим мясом и молочными поросятами, на балконах играли менестрели, и гости танцевали на специально поставленном возвышении, под сенью скрещенных гербов двух семей — Медичи и Орсини. Потом подсчитают, что присутствующие опустошили триста бочонков превосходного тосканского вина.
И вновь все расходились по домам в полном восторге. Единственным исключением, возможно, были жених и невеста, ибо вскоре стало ясно, что Лоренцо и Кларисса друг другу не пара. С Лоренцо было бы нелегко жить даже и при лучших обстоятельствах, тем более что иные дамы находили в его харизматическом уродстве какую-то животную привлекательность (справедливости ради надо отметить, что пользовался он этим далеко не в полной мере). Судя по всему, Лоренцо тратил слишком много энергии на сочинение любовных сонетов чисто платонического свойства, что соответствовало давней итальянской традиции. У каждого поэта должна была быть своя «возлюбленная» — как Беатриче у Данте, как Лаура у Петрарки. Ничего личного в такой «любви» не было, она оставалась исключительно в сфере поэзии. Именно в таком духе Лоренцо писал любовные стихи, адресованные «Королеве турнира» Лукреции Донати, а потом и ее преемницам, называя каждую «Флорентийской красавицей».
Со своей стороны, Кларисса оказалась весьма малоприятной юной дамой среднего интеллекта, однако же весьма высокого о себе мнения. Аристократическое, салонное флорентийское общество ее смущало, и в качестве защитной реакции она посматривала на новых знакомых сверху вниз. Постепенно она и от Лоренцо будет отдаляться, хотя их семейные неурядицы напоказ никогда не выставлялись. Оба прилагали немалые усилия к тому, чтобы казаться обычной семейной парой, и, как нередко случается, в непродолжительном времени видимость стала едва ли не сущностью: у Лоренцо и Клариссы родилось общим счетом десять детей (трое умерли в младенчестве). Они часто расставались, но в переписке выдерживали вполне непринужденный тон. «Если у тебя есть какие-нибудь новости, не являющиеся государственной тайной, — пишет мужу Кларисса, — сделай милость, поделись. Это всем нам будет интересно». При этом она часто ворчала на друзей Лоренцо, которым казалась скучной и которые за глаза отзывались о ней весьма пренебрежительно.
Через несколько месяцев после того, как колокола церкви Сан-Лоренцо отзвонили в честь бракосочетания Медичи-младшего, они загудели вновь, но на сей раз это был похоронный звон. Пьеро умер, и двадцатилетний Лоренцо принял на себя роль, к исполнению которой его готовили едва ли не с колыбели. Подобно отцу, он начал с изучения счетов и обнаружил, что «у нас в наличии имеется 237 988 скуди» (по тем временам примерно 200 000 флоринов). За недолгие годы правления Пьеро семейное достояние не уменьшилось; равным образом не пошатнулось в целом и здоровье банка Медичи, который немало нажился на монопольной торговле квасцами.
И все же беда не замедлила — уже весной 1470 года до Флоренции дошли тревожные известия. Один из заговорщиков, изгнанный из города Пьеро Подагриком вместе с Нерони и Аччайуоли, мстительный и неразборчивый в средствах тип по имени Бернардо Нарди, затеял военную акцию. Во главе вооруженного отряда он вошел в Прато, городок, расположенный всего в десяти милях к югу от Флоренции, и, судя по сообщениям, остановился в ожидании спешившего ему на подмогу со своими людьми Нерони, с тем чтобы далее двинуться непосредственно на Флоренцию. Синьория незамедлительно мобилизовала городское ополчение, которому был дан приказ спешно двинуться на Прато.
К счастью, опасность быстро рассосалась: прибыв на место, флорентийцы обнаружили, что бунт подавлен. Местный городской голова Чезаре Петруччи собрал собственное ополчение, пленил Нарди и его людей и повесил на площади всех главарей восстания. Стремительные действия Петруччи пришлись Лоренцо весьма по душе — они не только защитили Флоренцию, но и показали, что окрестное население твердо стоит на стороне Медичи. Следуя политике своего деда, которую тот начал проводить после возвращения из ссылки, Лоренцо взял на заметку имя сельского старосты — на предмет будущего повышения. Такие люди нередко оказывались более верными, нежели даже многолетние приверженцы партии Медичи, и Петруччи не был исключением (в конце концов он станет гонфалоньером, и именно его своевременные действия, направленные против заговора Пацци, окажутся решающими для победы Медичи).
Через несколько месяцев после событий в Прато хорошо отлаженная политическая машина Медичи неожиданно забуксовала в самом городе. Синьория отказалась утвердить рекомендованных Томмазо Содерини от имени Медичи людей в качестве членов комитета, наблюдающего за выборами в этот орган городской власти. Пришлось вернуться к более демократической системе жеребьевки, что, по иронии судьбы, означало возвращение к брату Томмазо, заговорщику Никколо Содерини, когда он именно таким образом был избран гонфалоньером. На сей раз Лоренцо решил смириться, терпеливо выжидая момента, когда чаша весов вновь качнется в сторону Медичи. Такой момент наступил, и Лоренцо ввел систему, позволяющую Медичи еще крепче держать бразды правления в своих руках. Оправдывал он свои действия тем, что для эффективной внешней политики Флоренции нужна «твердая власть». Отныне во всех главных комитетах — по обороне, финансам, общественному порядку — большинство будет принадлежать Медичи.
Теперь у Лоренцо не было никаких препятствий для укрепления положения Флоренции на международной арене, и в 1471 году он пригласил к себе с государственным визитом самолюбивого герцога Миланского Галеаццо с женой Боной, принадлежащей к Савойскому дому (все Сфорца следовали традиции Висконти брать жен из Савойи, защищая таким образом высокогорные северные границы Милана). Визит Галеаццо сопровождался красочными празднествами и торжествами, весьма пришедшимися по вкусу как местным жителям, так и высокопоставленному гостю, прибывшему в сопровождении двухтысячной свиты одетых в парчу рыцарей, охраны, сокольничьих и даже пятисот гончих. На Флоренцию вся эта пышность произвела должное впечатление, однако же и простые граждане, и особенно правитель города находили немалое удовольствие в том, чтобы ненавязчиво демонстрировать свое культурное превосходство. Пребывание во дворце Медичи с его несравненными картинами и скульптурами настолько вдохновило герцога, что по возвращении в Милан он тоже призвал живописцев и архитекторов украсить родной город.
Еще Козимо де Медичи в свое время убеждал, и небезрезультатно, отца Галеаццо Франческо, этого дюжего экс-кондотьера, заказывать проекты домов и статуи; свою роль в развитии миланского Ренессанса на раннем его этапе сыграл и Пиджелло Портинари, один из руководителей филиала банка Медичи, оказывавший немалую поддержку Франческо Сфорце. Тем не менее в культурном смысле Милан заметно отставал от Флоренции. Об этом свидетельствует, например, сам облик собора, возводившегося тогда в городе: это была чистая готика, массивное средневековое строение со шпилями и арочными контрфорсами, которое вполне могло бы вырасти во Франции или Германии прежних времен. Впрочем, следует повторить, что расцвет художественного Ренессанса во Флоренции, в котором столь важную роль играли деньги Медичи, начинал распространяться и на сопредельные итальянские государства.
А вот отношения между ними, несмотря на это, не улучшались: итальянская политика по-прежнему оставалась невнятной и непредсказуемой, и какая-нибудь ерунда могла породить целый дипломатический конфликт. Пышный прием, устроенный во Флоренции миланскому герцогу, вызывал ревность у короля Неаполитанского Ферранте. Зря, что ли, подарил он Лоренцо на свадьбу чистопородного скакуна — юный правитель Флоренции должен быть не чьим-то там, а именно его другом.
В 1471 году папа Пий II умер, и новым понтификом стал Сикст IV. Просвещенного гуманиста из Сиены сменил человек с куда более трудным и решительным характером. Сикст IV родился на Лигурийском побережье, невдалеке от Генуи. Уже во францисканском монастыре, куда поступил в юности, он обнаружил незаурядный, хотя и чрезвычайно практичный ум. В сочетании с набожностью и тщеславием он обеспечил ему быстрый рост в церковной иерархии. Избранный в пятидесятисемилетнем возрасте папой, Сикст IV выглядел весьма внушительно. Рослый, мощного сложения мужчина, с большим черепом, приплюснутым носом и совершенно беззубый, он был преисполнен решимости восстановить политическое влияние самого института папства. Для начала следовало вернуть контроль над Папской областью, которая оставалась таковой только по имени.
В 1471 году Лоренцо де Медичи возглавил флорентийскую делегацию, прибывшую в Рим поздравить нового папу с избранием, и, судя по всему, молодой гость столь высокого ранга произвел на Сикста IV сильное впечатление. Он согласился и впредь держать свои счета в банке Медичи, однако отклонил просьбу сделать младшего брата Лоренцо Джулиано кардиналом: несмотря на родственные связи с семьей Орсини, путь на высшие ступени церковной иерархии был пока для Медичи закрыт (Лоренцо тогда не знал, что новый папа уже готовит кардинальские мантии не менее чем для шести своих племянников). В качестве компенсации папа подарил Лоренцо древнеримский мраморный бюст императора Августа. На сей раз возревновал герцог Миланский. Помимо того, стало известно, что с главным союзником Флоренции происходит что-то нехорошее. Из сообщения, полученного от Аччеррито Портинари, сменившего своего брата Пиджелло на посту управляющего филиалом банка Медичи в Милане, явствовало, что у Галеаццо развилась опасная психическая болезнь. Он совершает все более странные, порой необъяснимые поступки, скажем, недавно замуровал в камере, оставив ему лишь стакан вина и куриную ножку, своего астролога (священника) только за то, что тот предсказал Галеаццо, что ему суждено править менее одиннадцати лет.
Впрочем, у Лоренцо не было времени раздумывать над этими дикими капризами: на носу у него был настоящий кризис. Невдалеке от Вольтерры, городка в южной Тоскане, находившегося под протекторатом Флоренции, были обнаружены новые запасы квасцов, и местные власти представили право на их разработку некой компании, тремя главными акционерами которой были сторонники Медичи. Но вскоре стало ясно, что запасов там гораздо больше, чем считалось вначале, и те же власти подряд отняли и передали его собственным жителям. Во Флоренции это решение отменили, но когда об этом стало известно в Вольтерре, там начались волнения, в ходе которых были убиты несколько флорентийцев. Одного из прежних акционеров выбросили из окна, а местный голова, назначенный флорентийской синьорией, забаррикадировался у себя дома.
Вопреки советам Томмазо Содерини и синьории Лоренцо решил, что надо продемонстрировать силу. Если Вольтерра отпадет от Флоренции, ее примеру вполне могут последовать и другие тосканские города. Под знамена был призван кондотьер Монтефельтро из Урбино, которому было велено немедленно выступить во главе своих наемников в сторону Вольтерры, которая, в свою очередь, воззвала — тщетно — к помощи Венеции и Неаполя. После четырехнедельной осады город сдался, и ворота были открыты. Но к тому времени наемники уже вышли из повиновения начальнику, и Вольтерру накрыла волна мародеров и насильников. Узнав об этом, Лоренцо пришел в ужас и немедленно выехал в Вольтерру. Пытаясь хоть как-то исправить положение, Лоренцо лично проехал по городу, раздавая деньги пострадавшим. Покаяние его было искренним — но ведь это он послал войска. Хоть и готовили его управлять государством с детских лет, Лоренцо еще только предстояло обрести практический опыт и политическое мастерство деда и отца, которые наверняка постарались бы для начала как-то смягчить положение, а к насилию прибегли бы только в крайнем случае.
13. УБИЙСТВО В СОБОРЕ
В 1476 году, на следующий день после Рождества, при входе в церковь, Галеаццо, герцог Миланский, был заколот тремя вельможами. Население выступило в поддержку его жены Боны Савойской, но ввиду непрекращающихся интриг, в которых были замешаны братья Галеаццо, ситуация оставалась крайне напряженной. В городе, бывшем главным союзником Флоренции, царил хаос, и полагаться на него было трудно. Тем временем Сикст IV начал кампанию за папские земли в Романье. Это был человек, о котором говорили, что «он превратил непотизм в политический принцип»; нуждаясь в заслуживающей доверия армии, он женил одного из своих племянников на старшей дочери Монтефельтро, наградив его при этом герцогским титулом. Предполагалось, что отныне новоиспеченный герцог Урбино со своей армией наемников перейдет от флорентийцев на службу папе. Параллельно Сикст IV продолжал практику назначения своих племянников кардиналами. Не считаясь с чувствами Лоренцо де Медичи и граждан Флоренции, он сделал кардиналом одного из них, слабоумного Пьеро Риарио, назначив при этом его архиепископом Флорентийским. Странная привычка нового архиепископа дарить своим любовницам золотые ночные горшки стала в городе притчей во языцех, правда, вскоре любителям сплетен пришлось замолчать: не прошло и трех лет, как Пьеро сошел в могилу.
Более серьезные манипуляции были связаны с братом архиепископа Риарио Джироламо, в котором сильно подозревали не племянника, но сына папы. Преследуя все ту же цель укрепления папской власти, Сикст IV вознамерился приобрести город-государство Имолу, а Джироламо поставить во главе его. Город принадлежал Милану, и запросили за него 40 000 флоринов. Папа обратился к управляющему римским филиалом банка Медичи с просьбой о займе. Торнабуони связался с Лоренцо. Тот заколебался, и это можно понять. Дело не просто в том, что папа уже и без того превысил свой личный счет на 10 000 флоринов, — Имола была для Флоренции стратегически важным пунктом, ибо здесь проходили торговые маршруты, ведущие через горы на Адриатику. С другой стороны, не хотелось обижать папу, так что Лоренцо решил потянуть время и каким-нибудь образом подстраховаться. Не привыкший к такому отношению, Сикст IV пришел в ярость и отозвал из банка Медичи папские счета, передав их — возможно, это был заранее рассчитанный шаг — главному конкуренту Медичи, банку Пацци. Франческо де Пацци, управляющий римским отделением, сразу же согласился кредитовать папу.
Пацци — флорентийская семья с почтенной родословной, вот уже почти пятьсот лет она занимала в городе видное положение. Еще в XI веке один из ее представителей вернулся из Первого крестового похода с несколькими камешками, отломанными от Гроба Господня в Иерусалиме, которые тогда же были помещены в церковь Сантиссиси-Апостоли и стали самыми почитаемыми реликвиями во Флоренции. Когда-то Пацци принадлежали к аристократии, но в XIV веке влились в гильдию банкиров. Основанный ими банк стал быстро преуспевать и со временем сделался единственным банком во Флоренции, который был способен хоть как-то соперничать с банком Медичи. Брунеллески спроектировал для них семейный дворец, а налоговые декларации свидетельствуют, что в 1457 году Пацци стали второй по богатству семьей во Флоренции. Пьеро де Медичи взял это на заметку и выдал любимую сестру Лоренцо Бьянку за Гильельмо Пацци, младшего брата Франческо. Так две семьи породнились, и соперничество стало носить дружеский характер; Гильельмо тесно сдружился с Лоренцо, проводил много времени у него дома, они вместе охотились.
Однако же Франческо де Пацци давно таил в себе враждебные чувства к Медичи. Человек высокомерный и претенциозный, он не принимал стиль жизни, насаждаемый Медичи, как не нравились ему и их власть и их богатство. И вот, заполучив папские счета, он нанес по соперникам серьезный удар. А ведь Франческо был уверен, что лишь деньги Медичи мешают Пацци занять ведущее политическое положение в городе. Стало быть, пока противник не оправился, надо нанести новый удар.
Франческо де Пацци прекрасно отдавал себе отчет в том, что у Медичи есть несколько могущественных врагов, всегда готовых поддержать тех, кто выступает против них. Для начала он обратился к грубому и агрессивному Джироламо Риарио, градоначальнику Имолы, который уже успел обнаружить свои амбиции и желание укрепить власть. Риарио заявил, что будет только рад, если Лоренцо де Медичи убьют. Затем Франческо де Пацци сошелся с непримиримым противником Лоренцо Франческо Сальвиати, которого папа Сикст IV недавно назначил архиепископом Пизы. Друг Лоренцо, поэт Анджело Полициано метко назвал Сальвиати «невежей, равно презирающим божеский и человеческий законы, глубоко погрязшим в преступлениях и бесчестье». Лоренцо противился назначению Сальвиати в Пизу и в течение трех лет не позволял ему пересечь границу флорентийской территории, дабы приступить к исполнению своих обязанностей, лишая таким образом немалых финансовых привилегий, связанных с положением архиепископа. Сальвиати с готовностью согласился принять участие в заговоре и даже возглавить его.
Далее Франческо де Пацци нанял кондотьера Джана Баттиста де Монтесекко, которому было приказано расположить войска в Имоле и других стратегически важных пунктах вдоль восточной границы Флорентийской республики в горах. Там им следовало ждать, пока заговорщики нанесут первый удар, а затем проследовать маршем во Флоренцию. Предполагалось, что после падения Лоренцо в городе возникнет замешательство, но люди будут приветствовать конец тирании Медичи и встанут на сторону заговорщиков; сопротивления войска не встретят, и кровь проливать не придется. Оба они, Пацци и Монтесекко, знали, что выдающееся военное мастерство Монтефельтро, ныне, к счастью, герцога Урбино, Флоренции уже больше не поможет.
Заговорщики направились в Рим, где получили благословение папы Сикста IV, назвавшего Лоренцо «злобным и презренным типом, который не умеет себя вести». Далее он, правда, приняв постный вид, предупредил, что не должно быть никакого кровопролития, ибо разве может папа санкционировать убийство? Но заговорщики понимали, что без кровопролития поставленной цели не достигнешь и, по словам присутствовавшего на встрече Монтесекко, гнули свою линию и в конце концов поставили вопрос ребром: «Святой отец, вы согласны с тем, чтобы корабль вели мы? И чтобы вели его в нужном направлении?»
— Согласен, — помолчав, кивнул папа.
Подобно остальным заговорщикам, Монтесекко не сомневался, что Сикст IV вполне отдает себе отчет в сути того дела, на которое дает согласие.
Франческо де Пацци направлялся во Флоренцию с намерением убить Лоренцо де Медичи, а также его брата Джулиано как единственно вероятного преемника. Теперь Пацци искал поддержки пятидесятисемилетнего главы семейства мессира Якопо де Пацци, почтенного банкира и торговца шелком, проведшего несколько лет за границей, главным образом во Франции; по возвращении он даже был избран на один срок гонфалоньером, и синьория удостоила его рыцарского звания за заслуги перед городом. По словам архиепископа Пизы Сальвиатти, «если нам удастся привлечь его на свою сторону, дело, можно сказать, сделано». Но как только Франческо де Пацци и кондотьер Монтесекко изложили ему детали заговора, банкир «сделался холоден как лед» и заявил, что план обречен на провал. Тогда Монтесекко передал ему подробности разговора с папой, и это убедило-таки Якопо. Он согласился поддержать заговорщиков.
Им понадобилось еще некоторое время, чтобы уточнить кое-какие детали, после чего главари заговора связались с доверенными друзьями, на которых можно было положиться в деле. На роль палачей Лоренцо были выбраны двое священников (один из них — обиженный и озлобленный гражданин Вольтерры). Заколоть Джулиано, при содействии самого Франческо де Пацци, должен был некто Бернардо Бандини (еще его называли Барончелли), никчемный тип из аристократического сословия, державший деньги в банке Пацци. Убийство должно быть осуществлено в соборе, во время мессы, а сигналом послужит поднятая священником облатка. Дата — 26 апреля, через неделю после Пасхального воскресенья, хотя впоследствии возникла легенда, будто убийство произошло в самый день Пасхи; скорее всего ее распространению способствовали сами Медичи, чтобы преступление выглядело еще более отвратительным, ибо что может быть гнуснее убийства, совершенного в самый священный день христианского календаря?
В отношении Джулиано все случилось, как было задумано, но в остальном заговор провалился, и многих заговорщиков ждала жестокая кара. Особенно суровыми последствия покушения оказались для мессира Якопо де Пацци. Когда сведения о провале заговора дошли до палаццо Пацци, он, по словам свидетелей, забился в судорогах отчаяния, а немного оправившись, вскочил на лошадь и бежал из города в сопровождении вооруженной охраны. Слухи о происшедшем в городе меж тем достигли окрестностей, Лоренцо распорядился перехватить беглецов, кое-кто из людей Якопо погиб в яростной схватке, но сам он сумел скрыться в горах, в заброшенной деревушке Кастаньо ди Сан-Годенцо. Здесь, однако, Якопо был опознан местными крестьянами, которые схватили его и выдали преследователям. Те доставили пленника во Флоренцию, где он был брошен в темницу Барджелло и подвергнут пыткам.
На следующий день его, скорее мертвого, чем живого, протащили по улице, ведущей к палаццо делла Синьория, и подняли наверх. Здесь с него самым унизительным образом сорвали верхнюю одежду и, накинув петлю на шею, выбросили в северное окно, так что тело долго еще раскачивалось рядом с телами четырех других заговорщиков. В конце концов висельников вынули из петли, и труп Якопо был захоронен на кладбище семейной церкви Пацци Санта- Кроче. Но на этом его унижения не закончились. В ближайшие дни на Флоренцию и окрестности обрушились ливневые дожди, погубившие большую часть урожая зерновых. Вину за это несчастье возложили на Пацци, и разъяренная толпа угрожала разрыть его могилу, так что монахам пришлось самим эксгумировать тело и перезахоронить его в неосвященной земле, за городом, близ виселицы. Но как пишет Макиавелли, два дня спустя «орава подростков выкопала тело из земли и, набросив на шею веревку, на которой (Якопо) был повешен, протащила обнаженный труп через весь город», оглашая округу выкриками: «Дорогу великому рыцарю!» Напротив палаццо Пацци собравшаяся толпа подвергла останки очередному унижению: разлагающимся черепом, как молотком, стала стучать в дверь, выкрикивая: «Открывайте! Великий рыцарь вернулся!»
В конце концов, под все возрастающее улюлюканье, останки, от которых исходил нестерпимый запах тлена, сбросили в Арно с моста Рубинконте, в самом центре города. Толпа бросилась на набережную, провожая глазами труп, медленно плывущий в сторону Понте Веккьо. Но и это был еще не конец. В каком-то месте тело вынесло на заболоченный берег, где его обнаружила и выставила напоказ группа оборванцев. Затем они набросили веревку на шею мертвеца, завязали свободный конец на ветке ивы и стали колотить по трупу палками, пока кости не посыпались на землю. А потом швырнули останки назад в реку.
Это был, по словам Макиавелли, «поразительный пример взрыва народного гнева». Полициано, также описывавший эти события, просто отмечает, что «толпа обезумела». Но что же на самом деле было причиной того взрыва? Вереница чудовищных событий указывает на то, что под поверхностью повседневной жизни Флоренции бурлили страсти, и вот наконец возник повод, законно позволивший выплеснуться гневу отнюдь не только «ватаги подростков»: презренные «слюнтяи» получили возможность выразить свои чувства к будущим правителям. Эти макабрические сцены сделались поводом для глумления, жестокой насмешки и брезгливости; характерно, что не сопровождались они приветствиями в адрес Медичи, выкриками «Palle! Palle!» и вообще какими-либо знаками симпатии к горделивым победителям. Вероятно, именно это, а вовсе не «гнев народный» или «безумие», может служить объяснением варварства. Когда бьющее в глаза богатство тесно соседствует с безысходной нищетой popolo minuto, такого рода взрывы становятся объяснимыми. Быть может, посмертная судьба Якопо де Пацци — это вовсе не таинственная загадка; быть может, скорее она дает неожиданную возможность заглянуть в глубины неспокойной жизни, править которой выпало на долю крестных отцов Флоренции.
Когда известия о неудачном заговоре достигли Рима, с папой Сикстом IV, говорят, едва не случился апоплексический удар от гнева. Повешение архиепископа, да еще в полном облачении, — это явное святотатство, прямое оскорбление церкви! Тот факт, что имел место заговор, а архиепископ был одним из его вожаков, быстро забыли. Сикст IV издал папскую буллу, отлучающую от церкви Лоренцо де Медичи, а вместе с ним и всех граждан Флоренции. Подогретый его яростью, «взбалмошный» племянник папы Джироламо Риарио (отказавшийся, кстати, последовать за своими единомышленниками-заговорщиками во Флоренцию) направился в сопровождении трехсот папских гвардейцев в посольство Флоренции и взял посла под арест. Ну а Сикст IV направил во Флоренцию своих представителей с требованием городу выдать Лоренцо де Медичи, который будет предан суду за святотатство, богохульство, оскорбление церкви, убийство архиепископа Пизы и ряд других грехов.
Лоренцо был объявлен «отлученным от церкви, преданным анафеме, достойным скверны грешником и святотатцем, не заслуживающим доверия и лишенным духовного права волеизъявления». В столь же сильных выражениях были подвергнуты проклятию гонфалоньер и члены синьории, «вся собственность которых конфискуется в пользу церкви, дома сравниваются с землей, и любое место проживания признается непригодным для такового. Вечная им разруха и вечный позор». Отдельным, не для широкой публики предназначенным указом папа предписывал конфисковать все активы Медичи в Риме, включая банк. Выданные им кредиты аннулируются и погашаются (заодно, таким образом, папа экономит 10 000 флоринов лично себе).
Граждане Флоренции встретили папскую буллу молчаливым презрением, дав понять, однако, что выдавать Лоренцо де Медичи Риму не намерены. Епископам Тосканы, в свою очередь, явно не понравилось массовое отлучение, и они созвали собор во Флоренции, на который явились и ведущие граждане города. На нем было прямо заявлено, что действия синьории, направленные на защиту республики против заговорщиков, оправданны, после чего собравшиеся обнародовали свой указ, по которому папа отлучается от церкви. Указ был отпечатан на первом в городе типографском станке, заработавшем лишь год назад, и распространен по всей Тоскане. Таким образом, у него оказалось куда больше читателей, чем у папской буллы.
Но тут подоспели новости посерьезнее: разгневанный папа Сикст IV объявил Флоренции войну и призвал к себе в союзники неаполитанского короля Ферранте. Фактически Флоренции предстояло сражаться в одиночку. Орсини призвал под ружье свою персональную армию, но это был скорее демонстративный жест; Милан, все еще раздираемый междоусобицами, смог направить во Флоренцию лишь символическое войско. Венеция была, конечно, сильно озабочена безопасностью севера Италии, но считала, что дело Флоренции проиграно, потому ее помощь тоже оказалась символической. Оставалось рассчитывать только на герцога Феррары и его небольшой отряд наемников.
Папа поставил свою гвардию под команду нового начальника — Монтефельтро, герцога Урбино, признанного ныне лучшим полководцем во всей Италии; помимо того, он мог рассчитывать на поддержку крупного военного отряда из Неаполя под началом герцога Калабрийского, сына короля Ферранте. Он-то и вторгся первым на территорию Флоренции, в то время как герцог Урбино, выжидая удобный момент, оставался в арьергарде. В ответ герцог Феррары предпринял несколько маневров и сообщил во Флоренцию, что ему удалось «переиграть» противника. На самом же деле «маневры» оказались серией отступлений. Это вызвало беспокойство у синьории, которая принялась бомбардировать его посланиями, вопрошая, за что же ему платят, если он отказывается сражаться. Тем временем герцог Калабрийский продолжал наступление и достиг городка Колле, в тридцати милях к югу от Флоренции, где столкнулся с неожиданно упорным сопротивлением местных жителей, отказывавшихся сдавать город. В конце концов, после двухмесячной осады, Колле уступил напору неаполитанцев, но на дворе уже стоял ноябрь, ударили холода, и наступающим пришлось вернуться на зимние квартиры в Сиену. Узнав об этом, герцог Феррары отправился домой; его примеру последовали и миланцы.
К этому времени общественный порядок начал давать трещину во всей Тоскане. Вооруженные бандиты, выдавая себя за разведку противоборствующих сторон, спускались с гор и терроризировали местное население. Да и в самой Флоренции люди были напуганы и озлоблены. Запасы продовольствия истощались, людей обложили налогами — война требовала новых и новых расходов, — между тем никто их не защищает. Ко всему прочему, переживала кризис торговля шерстью, и это ударило по всем, от самих торговцев до чомпи; вынужденные платить дополнительные военные налоги, многие шерстянщики столкнулись с угрозой разорения; ну а потерявшие работу чомпи и их семьи столкнулись с угрозой нищеты. Помимо того, распространились слухи о вспышке бубонной чумы в районе Санта-Кроче, и это немедленно породило панику среди населения. А война все тянулась и тянулась.
В конце 1479 года Лоренцо де Медичи, проанализировав ситуацию, пришел к выводу, что именно он повинен во всех бедах флорентийских граждан, ибо врага интересует только одно — как бы поскорее расправиться с Медичи. И вот в декабре он решил сыграть ва-банк: поставив в очередной раз на пост гонфалоньера верного ему Томмазо Содерини, Лоренцо тайком выскользнул из города и направился в Пизу. С дороги он направил в синьорию письмо, в котором говорилось:
«С вашего разрешения (sic!) я принял решение немедленно отплыть в Неаполь. Я убежден, что действия наших врагов продиктованы исключительно ненавистью ко мне лично, и потому, предавая себя в их руки, я несу мир нашему городу... Ввиду сделанного флорентийцами, в результате которого мне предоставляется больше почестей, но и возлагается больше ответственности, нежели лежит на других частных лицах, я считаю себя обязанным послужить родине, пусть это и сопряжено с риском для жизни... Единственное мое желание состоит в том, чтобы жизнь моя либо смерть, судьба либо состояние способствовали благополучию нашего города».
Говорят, что члены синьории при чтении этого письма не могли сдержать слез, и у нас нет оснований считать, что это преувеличение.
В то же время высказывались предположения, что Лоренцо чрезмерно драматизирует ситуацию: еще до отъезда из Флоренции он тайно снесся с королем Неаполитанским, который прислал за ним в Пизу галеру. Правда, тут же следовали оговорки: мол, Ферранте известен своей непредсказуемостью, и, быть может, ему только на руку, если Лоренцо убьют на борту судна или бросят в темницу немедленно по прибытии в Неаполь. Но не случилось ни того ни другого, и едва Лоренцо ступил на неаполитанский берег, как его заключил в объятия сын Ферранте Федериго. Смелый шаг Лоренцо произвел впечатление на Ферранте, да и в Европе не остался не замеченным: в новейшей итальянской истории, столь богатой на правителей-интриганов, правителей-лжецов, появился наконец герой.
Несомненно, Лоренцо сильно рисковал, ведь у Ферранте характер был действительно переменчивый, а действия непредсказуемыми, не зря о нем говорили: «Никогда не угадаешь, обозлится он или засмеется». На сей раз Ферранте встретил Лоренцо дружелюбно, но заставить себя принять какое-либо решение не позволил. Согласие с Флоренцией означало разрыв с папой, который уже сделал одного из сыновей Ферранте кардиналом — редко кому, за пределами папской семьи, выпадала такая удача. Лоренцо расположился в помещениях банка Медичи и отправился к королю. Ни до чего стороны не договорились, зайдя в тупик. Под прикрытием дипломатических любезностей затеялась игра в кошки-мышки.
Ферранте убеждал Лоренцо задержаться в Неаполе, повторяя, как хотел бы провести побольше времени в таком вдохновляющем обществе.
Ну а Лоренцо, предчувствуя, должно быть, что Ферранте будет всячески вилять, явился в Неаполь во всеоружии. Еще по дороге он предпринял обаятельную атаку, а затем обрушил на неаполитанцев и их правителя все свое обаяние, демонстрируя при этом чудеса щедрости. Для начала Лоренцо выкупил из рабства всю сотню галерных рабов, которые доставили его из Пизы в Неаполь, затем выдал каждому по десять флоринов и комплект новой одежды взамен рубища, что было на них. Далее, уже в городе, стал раздавать деньги бедным на приданое дочерям, чтобы хорошо вышли замуж, ударился в благотворительность, способствовал устройству всякого рода зрелищ. Один из приставленных к нему чиновников докладывал начальству, что Лоренцо всегда выглядит «хладнокровным, уверенным в себе и веселым»; но по ночам он нередко впадал в самую мрачную хандру. Стихи его отражают эту противоположность света и тьмы в его характере:
Месяц проходил за месяцем, а рука дающего не оскудевала — так Лоренцо компенсировал ночные тревоги, ну и, конечно, вел свою политику. Только где он доставал деньги? Банк Медичи немало пострадал от недавнего экономического спада в Италии и всей Европе; ограничения на английском рынке торговли шерстью поставили лондонское отделение в еще более сложное положение. Филиал в Брюгге тоже был в долгах, чему, помимо всего прочего, способствовала беспечность тамошнего управляющего Томмазо Портинари (брат управляющего в Милане). Вопреки положениям заключенного с ним договора Портинари тратил значительные суммы на финансирование разного рода сомнительных морских предприятий, включая большую, но, как выяснилось, провальную торговую экспедицию на западноафриканское побережье, в Гвинею. Портинари также потратил 8000 флоринов на покупку и обстановку отеля Бладелин — новой резиденции банка Медичи (это здание и поныне остается одной из исторических достопримечательностей Брюгге). Изучая в охваченной войной Флоренции банковские отчеты, Лоренцо обнаружил, что филиалы в Лондоне и Брюгге совокупно задолжали гигантскую сумму — 70 000 флоринов, что заставило его саркастически бросить: «Да, деятельность Томмазо Портинари приносит нам огромные прибыли». Несколько оправдывая Портинари, следует заметить, что на него могли оказать воздействие рассказы о неумеренных тратах молодого Лоренцо во Флоренции: если Медичи могут позволить себе подобную щедрость дома, то совершенно естественно, что их представительства за границей должны соответствовать такому богатству. А теперь Лоренцо швырял деньгами в Неаполе, тратя их в таких количествах, словно от этого зависела его жизнь (что в данном случае содержало в себе зерно истины). Вопрос, как и где доставал Лоренцо эти деньги, имеет решающее значение при оценке его добропорядочности как финансиста.
Во Флоренции власти, конечно, знали о его расходах и исправно снабжали его средствами. «При сем посылаю испрашиваемые вами доверенность и аккредитив», — пишет ему какой-то служащий синьории. Еще перед отъездом из Флоренции Лоренцо заложил за 60 000 флоринов свою виллу-замок в Кафаджоло, а также поместья в Муджелло. Зачем ему понадобились эти деньги — для расходов в Неаполе или покрытия банковских долгов? Некоторые авторы утверждают, что и в этот, и в другие разы Лоренцо тратил крупные суммы из городской казны. Граница между финансовыми операциями Флоренции и семейства Медичи в большой степени стерлась уже при Козимо, на чем главным образом выиграл город. Может, Лоренцо решил, что пора и Медичи извлечь какую-то выгоду из такого положения? Один сохранившийся до наших дней документ свидетельствует, что как-то раз в годы своего правления Лоренцо перевел на свой счет 74 948 флоринов «без санкции закона и кого-либо из официальных лиц». Невозможно сказать, для чего это было сделано, — позднейшие поколения Медичи уничтожили все документы, относящиеся к тому периоду. Тем не менее Рэймонд де Ровер, большой знаток финансовой деятельности Медичи, утверждает определенно: «представляется весьма вероятным, что после провала заговора Пацци банкротства удалось избежать, только запустив руку в общественную казну». Не менее вероятным представляется, что Лоренцо полагал, что от этого выиграют и Медичи, и Флоренция. И с точки зрения прагматики, но не морали, такой взгляд оправдан.
Чем больше Лоренцо задерживался в Неаполе, тем яснее становилось, что Ферранте сталкивается с собственными трудностями. Турецкий флот курсировал в опасной близости от итальянских границ. С другой стороны, король Франции неустанно, и с явной угрозой, заявлял свои претензии на неаполитанский престол. В конце концов Ферранте пришлось согласиться заключить с Флоренцией мирный договор. Сикст IV был вне себя от ярости, но выбора у него не было, и он решил к этому договору присоединиться. А там видно будет.
Лоренцо вернулся во Флоренцию героем и в очередной раз воспользовался возможностью укрепить свою власть в городе. Был сформирован совет из семидесяти членов, полномочия которого длятся пять лет и позволяют даже отменять решения синьории. За выборами бдительно следила партия Медичи. Таким образом, в городе появился новый инструмент политической стабильности, и, дабы еще более усилить его эффективность, Лоренцо начал действовать не столь импульсивно, сколь раньше, больше в духе своего деда — осторожно и скрытно.
Своего верного Томмазо Содерини Лоренцо использовал в качестве посла по особым поручениям, представлявшего его на различных официальных мероприятиях за рубежом; помимо всего прочего, это позволяло не опасаться, что он укрепит свое положение в городе, которым формально правил, во время частых отлучек Лоренцо.
В 1480 году турецкий султан Мехмед Завоеватель высадил войска на юге Италии и занял портовый город Отранто. К тому времени он уже завладел всей Грецией и большей частью Балкан. Италия стала очередным этапом расширения Оттоманской империи. Сикст IV в отчаянии обратился ко всем встать на защиту христианского мира. Первыми на этот призыв откликнулись итальянские государства, в том числе Флоренция. Папа решил, что о расхождениях с Лоренцо надо забыть: в таких обстоятельствах не время замышлять что-то друг против друга. Но тут не прошло и года, как турецкие войска отступили — столь же неожиданно, сколь и появились. Мехмед умер, ему на смену пришел новый султан, и на время воцарился мир. Не менее удивительно, что и в самой Италии на ближайшие годы стало спокойно. Именно тогда Лоренцо предстояло сыграть особенно важную — и чем дальше, тем важнее — дипломатическую роль. Несмотря на то что ему было лишь немногим более тридцати лет, действия Лоренцо, направленные на защиту Флоренции и укрепление мира, показывали, что он обрел уважение во всей Италии. При решении возникающих трудностей его совет имел особенный вес, и постепенно в нем стали видеть «стрелку итальянского компаса». Именно на него можно было уверенно положиться при выборе пути. За вычетом нескольких незначительных вспышек насилия Италия проживет в мире и согласии до самого конца жизни Лоренцо де Медичи.
14. ПЛАТОН НА ПЛОЩАДЯХ
И вот наступило время, когда Лоренцо Медичи достиг расцвета в своей деятельности мецената искусств, когда он вполне оправдал имя, под которым остался в истории: Лоренцо Великолепный (по-итальянски Il magnifico, как его, кажется, называли еще в детстве). Даже если это великолепие порой переходило в высокомерие либо носило чисто демонстративный характер, можно с уверенностью утверждать, что именно оно воплощало суть этого человека — от личности до политики, от меценатства до собственных стихов. И хотя само по себе это свойство вовсе не обязательно воплощает добро как таковое (более того, есть в нем некое аморальное начало), можно сказать, что применительно к Лоренцо оно действительно соотносится с платонической идеей Добра, о чем он и сам писал:
Лоренцо и сам был вполне состоявшимся поэтом, но, к чести его, должно сказать, что в Полициано он видел мастера выше себя и оказывал ему поддержку на протяжении всей жизни.
Анджело Полициано (известный также как Полициан) родился в 1454 году, через пять лет после Лоренцо, в Монтепульчиано, винодельческом районе на юго-востоке Тосканы. Отец его был одаренным юристом и верным сторонником Медичи, которые, между прочим, далеко не всегда пользовались популярностью в сельской местности; более того, именно эта преданность стала причиной его убийства во время неудавшегося бунта во главе с Питти против Пьеро Подагрика в 1466 году. Вскоре после этого Полициано был послан во Флоренцию, где получил лучшее по тем временам гуманитарное образование, возможно, за счет Медичи. Он быстро обнаружил незаурядные дарования; к девятнадцати годам бегло говорил на латыни и древнегреческом, и именно эпиграммы, написанные на этом последнем, впервые привлекли к нему внимание Лоренцо. По-видимому, уже в начале 1473 года Полициано поселился в палаццо Медичи, где в его распоряжении оказалась библиотека, основанная Козимо и расширенная усилиями Пьеро. Через два года Лоренцо сделал его домашним учителем своего трехлетнего сына Пьеро, заниматься с которым Полициано определенно очень нравилось.
Обладая одинаково острым и живым умом и неиссякаемой любознательностью, Полициано и Лоренцо довольно быстро сблизились. Для второго первый был тем, кто позволял забывать на время о государственных заботах, кто восхищался блеском его ума, кто в разговорах затрагивал самые тонкие струны сердца; что же касается Полициано, он просто боготворил Лоренцо. Это не преувеличение, о том свидетельствуют и его поступки, и письма, как самому Лоренцо, так и его матери, несравненной Лукреции, с которой он был предельно откровенен. От тех времен сохранилась небольшая картина Гирландайо, на которой сбоку от изображенного в профиль Полициано сидит его юный подопечный Пьеро со своим обращенным в сторону от художника лицом херувима. Полициано же, чьи вьющиеся волосы ниспадают до плеч, устремляет взгляд куда-то в потусторонность, сохраняя на смуглом привлекательном лице задушевное выражение, которое, судя по всему, что мы знаем об этом человеке, ему было не свойственно. Впрочем, даже и здесь в его чертах угадывается страстный темперамент и острый ум, каковой и на самом деле отличал его; тот факт, что он принял малый духовный сан, также выглядит некоторым отступлением от нормы, хотя не исключено, что приход Сан-Паоло он получил по рекомендации Лоренцо, с тем чтобы у Полициано был независимый источник дохода.
Не приходится сомневаться, что Полициано отнюдь не просто, как утверждают некоторые, выставлял напоказ свою ученость. Он легко поддерживал разговор на греческом с Аргиропулосом, знанием Платона соперничал с самим Фичино. Его ранние стихи написаны на безупречной классической латыни, отличные эпиграммы — на греческом, хотя впоследствии Лоренцо убедил Полициано, что стихи следует писать, как это делает он, на тосканском наречии. Так Полициано приступил к сочинению большой поэмы «Поединок Джулиано де Медичи», чего-то вроде приложения или продолжения «Поединка Лоренцо де Медичи» Пульчи. В ней описывается любовь семнадцатилетней Симонетты Веспуччи, почитающейся ныне первой красавицей Флоренции, к младшему брату Лоренцо Джулиано де Медичи:
Это было шуточное сочинение для внутреннего, так сказать, употребления — его читали в кружке Лоренцо. Симпатичный на вид Джулиано любил считать себя безжалостным покорителем женских сердец, хотя в действительности сам влюблялся с завидным постоянством и не всегда удачно, что повергало его в глубокую хандру. Поэтический опус Полициано, хоть и не был он закончен, стал первым значительным произведением на итальянском. «Поединок» внезапно оборвался 46-й строфой, на середине книги второй. Полициано настолько потрясла гибель Джулиано, что он не мог заставить себя написать больше ни единой строки.
В воскресенье 26 апреля 1478 года Полициано говорил о чем-то с Лоренцо, когда его попытались заколоть два священника; впоследствии он расписывал свою героическую роль в спасении жизни Лоренцо, что вызывает немалые сомнения, ибо храбростью Полициано не отличался. Вечером того же дня он находился на пьяцца делла Синьория и видел, как архиепископа Сальвиати в кардинальской мантии выбросили из окна с веревкой на шее. Именно острому взгляду поэта мы обязаны описанием душераздирающих подробностей, когда Сальвиати отчаянно пытался впиться зубами в раскачивающееся рядом с ним обнаженное тело своего подельника.
На следующий год, когда извне Флоренции угрожала неаполитанская армия, а изнутри эпидемия чумы, Лоренцо отправил семью в сопровождении Полициано в Пистою, находящуюся в двадцати милях к северо-востоку от Флоренции. Полициано регулярно писал «Magnifice mi Domine», красочно изображая радости сельской жизни летом. «У нас нет нужды ни в чем. Подарки мы отклоняем, за вычетом салата, инжира, вина — всего несколько бутылок, — baccafichi (птичка, считающаяся здесь деликатесом), ну и еще кое-чего в том же роде». Говоря о щедрости и доброте местных жителей, Полициано изъясняется весьма витиевато: «Они в ушах нам готовы воду носить». Но на самом деле ему скучна была деревенская жизнь, не хватало просвещенного общества. Это стало особенно ясно, когда они зимой перебрались в Кафаджоло (Лоренцо же по-прежнему оставался во Флоренции). В очередном письме ему Полициано передает атмосферу, сложившуюся в семье Медичи:
«На улице льет и льет, так что мы не можем высунуть носа из дома и вынуждены заменить охоту игрой в мяч, чтобы дети могли хоть как-то двигаться. Ставка, как правило, — суп, мясо, десерт. Проигравший лишается одного из этих блюд. При этом нередко бывает, что подопечные мои, проиграв, от огорчения разводят сырость своими слезами. Вот и все наши новости. Я сижу у камелька в шлепанцах и пальто. Окажись вы здесь, я бы, наверное, показался вам живым воплощением меланхолии».
Жена Лоренцо Кларисса слегла, в сыром климате у нее развился кашель, а на самом деле то были первые симптомы туберкулеза, от которого она умрет десять лет спустя.
Полициано не находил себе места, Клариссе все не нравилось, и их взаимная антипатия усиливалась с каждым серым дождливым днем. Исхода долго ждать не пришлось. Кларисса была потрясена, узнав, что наставник учит ее детей латыни по языческим текстам классиков, в то время как, с ее точки зрения, латынь надо осваивать по христианской литературе, например, Псалмам. Полициано категорически отказался обрекать своих любимых учеников на благочестивые проповеди их скучной провинциальной матушки. Кларисса вспылила и отказала учителю от дома.
Оба тут же написали Лоренцо, каждый отстаивая свою правоту. «Чего я только от него не претерпела», — жалуется Кларисса. «Выслушав меня, вы убедитесь, что я ни в чем не виноват», — парирует Полициано. Сам же Лоренцо в это время предпринимал отчаянные усилия, чтобы поправить пошатнувшееся положение банка Медичи, не говоря уже о государственных делах в то время, когда граждане Флоренции были охвачены паникой при известии о приближении неаполитанской армии. Но даже международные кризисы не отменяют домашних драм.
Если бы не стычка с женой Лоренцо, Полициано вполне мог бы сопровождать его и душевно поддерживать в ходе дерзкой поездки к королю неаполитанскому Ферранте, состоявшейся несколько месяцев спустя. А так ему в тоске и обиде пришлось оставить Тоскану и поселиться при дворе кардинала Гонзаго в Мантуе. По прошествии года тоскливой ссылки Лоренцо наконец призвал Полициано во Флоренцию. Заглаживая нанесенную обиду, он организовал для него профессуру во Флорентийском университете, где тот преподавал греческий и латынь, а также должность каноника — хорошо оплачиваемую синекуру, — хотя на постоянное жительство в палаццо Медичи он более допущен не был. Впоследствии Лоренцо сделал Полициано домашним учителем своего второго сына Джованни — упитанного тринадцатилетнего подростка, на которого возлагал большие надежды; он уже заручился согласием нового папы Иннокентия VIII сделать Джованни кардиналом, и теперь его необходимо было соответственным образом подготовить к высокой должности. Характерный для всех Медичи длинный нос, выделяющийся на округлом лице, и сильно выдающаяся — тоже семейный признак — челюсть, из-за чего его рот всегда казался открытым, вряд ли позволяли назвать его внешность привлекательной. Но это не помешало Полициано быстро обнаружить, что Джованни в большой степени унаследовал и ум, и решимость отца. В то же время Лоренцо следовало бы понять, что Полициано, человек светский и иронический, вряд ли окажется подходящей фигурой в качестве наставника будущего иерарха церкви. И как мы увидим, воздействие, оказанное им на Джованни, будет со временем иметь серьезнейшие последствия.
Именно в эти годы Полициано написал свои лучшие стихи на тосканском наречии, в результате чего оно станет одним из самых развитых языков в Италии. Утонченная стилистика и интеллектуальная насыщенность его поэзии также немало способствовали укреплению общественного понятия, которое все больше и больше ощущалось во всей Италии, а именно понятия gentiluomo (джентльмена). Ранее это понятие (как неотделимые от него изысканные манеры) употреблялось лишь применительно к знати, хотя даже в этом кругу весьма выборочно. А с наступлением Ренессанса, особенно во Флоренции, где влиятельные Медичи по крови к знати не относились, распространился новый подход. Галантные манеры, галантная речь, галантная внешность, галантный вкус к галантным искусствам — все это полагалось теперь предметом устремлений в более широких кругах общества.
Типичным свидетельством этого может служить судьба Федериго да Монтефельтро, новоиспеченного герцога Урбино. Как мы помним, начинал он свою карьеру кондотьером, командовал неотесанными наемниками. А впоследствии превратил провинциальный Урбино в подлинный рассадник ренессансной культуры. Архитектура, живопись, даже поэзия и музыка — все расцвело в этом некогда глухом застойном местечке (именно здесь предстояло родиться и вырасти Рафаэлю; именно в этом горном городке сформируется атмосфера, способствующая мощному творческому подъему гениев Высокого Возрождения).
Флорентийские художники, философы, поэты постепенно становились «джентльменами», и вскоре это движение охватит и другие итальянские города (но именно итальянские, до времени этот феномен за границы Апеннин не выйдет). Соответствующую манеру поведения перенимали купцы, государственные служащие, военные, церковники. Остроумные, изящные, но одновременно ученые стихи Полициано постепенно превращались в образец новой, ненатужной утонченности и знаний, каковые и пристали джентльмену.
Но о чем он, собственно, писал? Его поэтическая трактовка любви, особенно любви к Лоренцо, имеет по преимуществу платонический характер, это, при всей своей страстности, пастораль, застенчивое, если угодно, признание в своих чувствах. Иное дело — его поздний, 1480 года, шедевр, «Орфей». Начать с того, что поразительным образом эта пятиактная пьеса в стихах была сочинена в течение всего лишь дня для одного из знаменитых карнавалов, которые Лоренцо устраивал во Флоренции. Предполагалось, что текст будет положен на музыку и представлен в песенном исполнении; таким образом, это было первое либретто в современном значении слова (libretto — по-итальянски «книжечка», и лишь в следующем столетии это слово будет означать текст, на который пишут музыку). «Орфей» также являет собой светскую драму на итальянском языке. И все же самое интересное в ней — повороты и извилины сюжета, пожалуй, более неожиданные и смелые, нежели в других произведениях Полициано. Начать с того, что он остается верен легенде: Орфей со своей лирой зачаровывает диких зверей, деревья, даже камни, и, наконец, сами мстительные боги Подземелья уступают его музыке. Таким образом, нам являют момент торжества культуры над варварством; но, указывая своей возлюбленной Эвридике путь из царства мертвых наверх, Орфей уступает искушению оглянуться и теряет ее (Лоренцо де Медичи объясняет это в платоническом духе: Орфей отворачивается от духовной любви в сторону любви телесной). Но, утратив Эвридику, Орфей пускается в настоящий разврат, соблазняя молодых людей одного за другим и распевая:
Наконец Орфей оказывается в руках у пьяных поклонников Вакха, которые яростно раздирают его на части. Это что — заслуженное наказание за содомию? Или Полициано просто решил позабавить публику? Трудно отделаться от ощущения, что поэт тайно адресовался к Лоренцо и его просвещенным друзьям.
В возрасте сорока лет Полициано подхватил смертельную лихорадку, и скандальная история, связанная с его кончиной, бросает свет (или тень) на характер этого человека с обманчиво простой внешностью. Нам известен профильный портрет привлекательного мужчины со смуглой кожей кисти Гирландайо; мы слышали похвальбу героя этого портрета, спасшего будто бы от гибели своего возлюбленного Лоренцо, когда на жизнь того покушались в соборе; из писем встает образ человека, воплощающего саму меланхолию, съежившегося в пальто и шлепанцах подле камина, — но что двигало им в действительности, что вдохновляло? Согласно распространенной версии, Полициано был прикован к постели какой-то «особенно жестокой» лихорадкой, что вынуждало друзей присматривать за ним. Каким-то образом ему, однако, удалось ускользнуть и выбежать из дома. Потом его нашли на улице играющим на лютне под окном юноши-грека, в которого он был влюблен (и который якобы и был причиной охватившей поэта лихорадки). В конце концов друзья отвели его домой, уложили в постель, на которой он и скончался от приступа безумной любви.
Со скидкой на обычные поэтические преувеличения следует признать, что история эта, в общем, подтверждает все то, что нам более или менее известно о жизни и творчестве Полициано, прежде всего тот факт, что он был гомосексуалистом. В связи с этим встает вопрос о его любви к Лоренцо и ответных чувствах последнего; рискуя вызвать всеобщее негодование, предположим, однако, что их взаимная симпатия носила не только платонический характер. В свете сексуальной ориентации Полициано страстная любовь, которую он выражал к Лоренцо в своих стихах, утрачивает исключительно поэтический оттенок. Разумеется, все это только предположения, которые могут быть подтверждены лишь косвенным образом. Имеется, скажем, версия, касающаяся созданного Донателло Давида с его намеком на гермафродитство. По ней, Козимо де Медичи вовсе не заказывал скульптору этой работы, а была она установлена во внутреннем дворике палаццо Медичи гораздо позже, уже когда там воцарился Лоренцо. Тогда что же, заключался ли в этом жесте некий ясный намек? Из этого не следует, конечно, будто статуя утрачивает свое таинственное, неразгаданное многообразие. Само свойственное ей сочетание откровенности и тайны, возможно, и было направлено на то, чтобы одно перекрывало другое — подобного рода неопределенность должна была найти высокую оценку в светском кругу приближенных Лоренцо.
И уж точно эзотерика была близка ведущему в этом круге философу Пико делла Мирандола, самой яркой личности из тех интеллектуалов, что собирались в палаццо Медичи. Противоречия Пико буквально бьют в глаза: выражая принципы гуманизма более четко и глубоко, нежели кто-либо другой из его современников, он в то же время загрязнял интеллектуальные воды, беря с собой в дорогу такие сомнительные «науки», как астрология, алхимия, нумерология («магия цифр»), и все прочее в духе эзотерического герметизма. В трактате, название которого вполне соответствует его пафосу — «О достоинстве человека», — Пико делла Мирандола выступает страстным поборником гуманизма. Бог наставляет Адама:
«Тебе не предназначено ничего конкретного. Ты можешь придать своей жизни любую форму, делай что пожелаешь. Все остальные предметы и существа связаны установленными Мною законами. Но тебе пределы не поставлены, можешь действовать в согласии с собственной свободной волей. Тебе одному дано определять границы собственной природы. Ты поставлен в центр вселенной, чтобы легче было наблюдать за тем, что в ней происходит.
Ты не принадлежишь ни небу, ни земле, ты и не смертен и не бессмертен, так что, обладая свободой выбора и понятием о чести, можешь сделать из себя все, что захочешь».
Сегодня эти слова звучат не менее актуально, нежели пятьсот лет назад. Ренессанс не создал оригинальной философии как таковой, он был слишком занят поглощением классической мысли и освобождением от догматов выхолощенного учения Аристотеля. В то же время предложенное в работах Пико понимание удела человеческого четко выражает устремления и самосознание ренессансного гуманизма, а автор их — фигура не менее замечательная, чем его творческое наследие.
Появившись на свет в 1463 году, в семье второстепенного итальянского князька, Пико изучал философию, а также греческий, иврит и арабский в университете Падуи. Завершил он образование в Париже — городе, который, несмотря на свою репутацию цитадели старых аристотелевских идей, все еще считался интеллектуальной столицей Европы (на самом деле Падуя, как университетский центр, уже вполне сравнялась с Парижем, а как общекультурный центр, хоть, возможно, не все с этим согласятся, их обоих уже опередила Флоренция).
Из Парижа Пико вернулся в Италию, где принялся разъезжать по университетским городам, включая Перуджу, Флоренцию и Падую. В 1484 году он осел во Флоренции, намереваясь заниматься Платоном под руководством Фичино. Пико был всего двадцать один год, однако он быстро был признан самой яркой звездой среди интеллектуалов Флорентийского университета, и это отнюдь не гипербола, особенно если принять во внимание, что к тому времени он владел уже более чем двадцатью языками. Профессором древнегреческого и латыни в университете был тогда Полициано, и он-то, наверное, и познакомил Пико с Лоренцо де Медичи.
По словам Полициано, Пико был «человеком или, скорее, героем, создавая которого, природа не поскупилась ни в физическом смысле, ни в духовном». Как ни странно, это тоже никакое не преувеличение: судя по портрету, который все еще экспонируется в галерее Уффици, Пико был на редкость красив. У него был удлиненный, прямой, тонкий нос, чувственные губы, высокий лоб и волосы, кудрями ниспадающие до самых плеч. Человек универсально образованный, он обладал знаниями во множестве областей, от Каббалы до древнегреческой математики, — на высшем уровне, какой был только доступен в ренессансную эпоху после падения Константинополя. Его критические замечания по поводу астрологии оказали решающее воздействие на астрономические открытия Кеплера, а мастерство полемиста, умеющего сочетать Цицеронову риторику с аристотелевской логикой, было, говорят, выше всяких похвал. При этом менее всего Пико хотел просто поразить окружающих своей эрудицией. Пусть наряду с прогрессивными формами знания он, казалось, без разбора поглощал архаику и псевдонауку, была в этом маниакальном стремлении к просвещенности своя система. Пико усвоил философскую идею синкретизма. Он жаждал взять все лучшее у мысли, в самых разнообразных ее областях, и в вере, дабы создать амальгаму — философию универсальной истины. Таков был масштаб замысла, хотя, надо признать, время для него еще не пришло. В следующем столетии Галилей и Декарт, в надежде объединить все накопленные знания при помощи научного метода, предпримут сходную попытку. Следует только отметить, что проект Пико выходил далеко за пределы науки.
С характерным для него размахом в 1486 году Пико написал и обнародовал свои 900 тезисов, извлеченных из греческих, латинских, иудаистских и арабских источников, представив их в форме ядра нового универсального знания и системы вероучения. При этом он бросил вызов ученым всей Европы — приезжайте, кто захочет, в Рим и обсудим эти тезисы перед широкой аудиторией. К сожалению, это великое философское состязание так и не состоялось — тезисы подверглись скрупулезному исследованию в кругу церковных иерархов, и тринадцать из них были признаны еретическими. Из этих тринадцати особенный интерес представляют два.
Первый: «Поскольку ничье мнение не соответствует в полной мере тому, что хотел бы выразить его автор, то и ничьи верования никогда не совпадают в точности с тем, какими их представляют верующие». Иными словами, наши мысли и верования формируются чем-то, превышающим наше сознание. Это критически важное прозрение, суть которого состоит в том, что нам не суждено познать мир исключительно разумным способом, он содержит в себе загадки, которые люди будут решать веками.
Второй: «В работе своей душа может быть уверена только в самой себе». При всех своих противоречиях, Пико часто заглядывает за границы Ренессанса в порожденный им современный мир. Он словно бы нащупывает пути, ведущие к более ясной картине того, что мы собой представляем (так, последний тезис явственно предшествует Декартову: «Я мыслю, следовательно, я существую»).
В то же время некоторые другие тезисы Пико довольно туманны. Например: «Никакая наука не свидетельствует о божественности Христа с той же определенностью, что магия или каббалистические упражнения». Быть может, Пико рассчитывал выбраться из таких ловушек с помощью лучших умов Европы, однако даже он понимал, что папские обвинения в ереси — дело совсем иное. Это не есть сфера интеллектуальной полемики: еретиков сжигают на кострах.
Отвечая своим критикам из Рима, Пико сочинил в защиту своей позиции пространный трактат на латыни. Верный друг, Лоренцо де Медичи (не вполне расчетливо), позволил автору предварить его посвящением себе, выдержанным в самых высоких тонах, и лишь затем отправить папе Иннокентию VIII. Никакого эффекта эта акция не имела, обвинение в ереси осталось в силе. Пико бежал во Францию, но был обнаружен и переправлен в Рим. К счастью, об этом стало известно во Флоренции, Лоренцо вступился за своего друга, и папа разрешил Пико вернуться во Флоренцию в ожидании дальнейших расследований.
Несомненно, Пико был очень близок с Лоренцо — личностью весьма вдохновляющей, и в публичном, и в частном общении. Пико любил его, хотя в сугубо платоническом смысле, ибо, несмотря на женственную внешность, сексуальные ориентации у него были вполне традиционны — быть может, слишком традиционны. В ходе своих путешествий Пико не раз и не два должен был поспешно оставлять тот или иной город, сопровождаемый проклятиями обманутого мужа. А одна из его первых поездок во Флоренцию, предпринятая в юном возрасте, оборвалась неудачной попыткой бегства вместе с женой местного сборщика налогов. Трудно сказать, имеют ли эти эскапады отношение к его внезапной смерти, последовавшей в 1494 году, когда Пико был всего тридцать один год. В то время Лоренцо де Медичи уже не было на свете, Пико лишился покровителя, и, говорят, его отравили.
15. МАСТЕРА
В личности Лоренцо легко угадываются черты, унаследованные им от деда Козимо и, далее, от отца Пьеро; что же касается художнического темперамента и воли к созиданию, то ими он обязан своей матери Лукреции. Такова генетика — но это только начало. Лоренцо вырос в поразительной обстановке палаццо Медичи, который в ту пору как раз превращался в один из интеллектуальных центров европейского Ренессанса. Считается, что в годы жизни Лоренцо по меньшей мере три великих художника провели тут в молодости, то есть в годы своего формирования, хоть какое-то время. Это Боттичелли, Леонардо и Микеланджело.
Боттичелли родился в 1444 году и звался тогда Алессандро Филипепи. Говорят, имя свое («бочонок») он получил от старшего брата, державшего ломбард, на котором красовалась вывеска: Il Botticelli. Отец будущего художника — кожевник, живший и работавший в бедняцком квартале Оньиссанти, на северном берегу Арно, к западу от центра города. Боттичелли был трудным ребенком, выказывавшим весьма мало интереса к школьному образованию. Отец пристроил его было учеником к золотых дел мастеру, но, почувствовав в нем в какой-то момент природный дар художника, сумел отдать в мастерскую Фра Филиппо Липпи. Здесь Боттичелли быстро освоил присущее Липпи мастерство тонкой линии и цвета, так что ему понадобился не один год, чтобы освободиться от влияния учителя. Тем не менее он почти сразу обнаружил исключительный талант живописца.
Оставив мастерскую Липпи, Боттичелли почти сразу получил приглашение от жены Пьеро Подагрика Лукреции поселиться в палаццо Медичи. За щедрость он расплатился портретом Лукреции в образе Мадонны, с сидящими у нее на коленях по обе стороны от младенца-Христа детьми, Лоренцо и Джулиано. Впервые в этой картине, за влиянием Липпи и Верроккьо, у которого Боттичелли учился скульптурным эффектам, начинает ощущаться его собственный неповторимый стиль.
Пьеро и Лукреция приняли молодого Боттичелли как члена семьи; он ел с ними за одним столом, вместе с Лоренцо (бывшим всего на пять лет моложе) и красавчиком херувимом Джулиано, которой впоследствии станет его любимцем. Летом он уезжал с семьей в Кафаджоло; жадно вслушивался в разговоры, звучавшие в Платоновской Академии, то есть тут же, в той или другой резиденции Медичи. Развиваемые Фичино идеи Платона, как и классическая мифология Полициано, открывали перед ним совершенно новый мир, которому предстояло заполнить пустоту, образовавшуюся в результате его неприлежного обучения в школе.
Проживая под одной крышей с Медичи, Боттичелли, помимо всего прочего, переживал возбуждения и кошмар от политики, имевшей своим эпицентром как раз палаццо Медичи. После попытки государственного переворота, предпринятой Питти и Содерини, когда лишь благодаря семнадцатилетнему Лоренцо Пьеро Подагрик не попал в засаду, Боттичелли написал свой первый полномасштабный шедевр: «Поклонение волхвов». Картина замышлялась для алтаря церкви Санта-Мария Новелла как знак благодарения судьбе за избавление от угрозы, и среди персонажей ее легко различить некоторых членов семьи Медичи и их круга. Опираясь на меч, слева стоит горделивый герой дня Лоренцо, из-за правого плеча которого косит глазом один из его любимых белых жеребцов. Художник явно идеализировал образ, и это понятно: не низменную, пусть и харизматическую действительность изображал он, но платонического героя. На свободное плечо Лоренцо опирается Полициано, вплотную к которому стоит на удивление блекло написанный Пико делла Мирандола. В центре картины, склоняясь перед Богоматерью и Младенцем, стоит старший из трех мудрецов, покойный Козимо — Отец Отечества; справа от него — Пьеро Подагрик; а еще правее, на самом обрезе полотна видна закутанная в плащ рослая, крупная фигура самого Сандро Боттичелли. Голова его повернута в сторону от картины, лицо, на которое падают густые локоны рыжих волос, неожиданно пухлое, но прикрытые тяжелыми веками глаза смотрят остро и пронзительно.
Нелегко определить характер Боттичелли по немногим дошедшим до нас рассказам, тем более что их подавляет поразительное поэтическое очарование его полотен. Судя по всему, на художника оказывала сильное воздействие окружающая атмосфера; мощная фигура и горделивый взгляд не могут скрыть мерцающей где-то в глубинах удивительно тонкой чувствительности, которую вроде трудно примирить с внешним видом. Говорят, Боттичелли был в повседневной жизни неуклюж и импульсивен, поступки его часто отличались непредсказуемостью и в глазах некоторых выглядели даже чистой эксцентрикой. Но это человек вне его занятий, а ведь большинство из тех, кто говорит о нем, отмечают его почти безграничную поглощенность искусством, что придавало ему какую-то отрешенность, воспринимаемую кое-кем как мистическая мечтательность. Что ж, вот это как раз отвечает духу известных нам картин, хотя отвечает ли действительности, мы вряд ли уже узнаем.
Впрочем, одно можно предположить уверенно: святым, пребывающим в потустороннем мире, Боттичелли не был, такое просто невозможно в палаццо Медичи времен Лоренцо. Там блистал своим острым умом Полициано, там демонстрировал все свое великолепие Пико, там ходили легенды о любовных приключениях Джулиано де Медичи. Ну а главное, подобно всем остальным, Боттичелли тянулся к Лоренцо, и тот, несомненно, отвечал ему взаимностью. Правда, учитывая трудности, с которыми сталкивался банк Медичи, он не всегда мог платить ему достойно, деньги требовались на устройство празднеств и зрелищ, чтобы народ был доволен. Зато Лоренцо рекомендовал своего фаворита тем, кто наилучшим образом мог оценить его талант. Результатом этих усилий стали заказы многочисленных семейств — Содерини, Торнабуони, Веспуччи и даже Альбицци. Именно в эту пору Боттичелли написал один из двух своих бессмертных шедевров — «Примаверу» (более привычное название «Весна»).
Долгое время считалось, что это был заказ самого Лоренцо Великолепного, но на деле картина писалась для его богатого кузена Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи. Изображая здесь жизнерадостный свет, цветение, красоту, Боттичелли нащупывает единство Платоновых идей и классической мифологии. В центре композиции — богиня любви Венера с ее свитой, но это не Венера Платона, чья идеальная любовь лежит в основе всех природных явлений. Справа — Флора в объятиях Западного Ветра; считается, что прототип ее — Симонетта Веспуччи, «большая любовь» Джулиано де Медичи, воспетая Полициано. За год до того, как картина была написана, она умерла в семнадцатилетнем возрасте от туберкулеза. В свете этого трагического события мрачной символики исполняются все фрагменты полотна: призрачные голубые объятия Западного Ветра, налетающего на Флору сзади, испуганный взгляд, который она бросает в ту сторону, четко выписанные листья, вылетающие у нее изо рта.
При всей своей любви к обществу художников, при всей своей поддержке их творчества, Лоренцо, как ни странно, был в этом смысле не столь щедр, сколь его отец Пьеро. На самом деле коллекция драгоценностей, а там было несколько камней стоимостью по 1000 флоринов, была ему дороже живописи. Для сравнения — Боттичелли обычно получал за картину 100 флоринов, что, впрочем, превышало годовую зарплату квалифицированного ремесленника. Тем не менее именно художник, любимец Лоренцо, создал произведение, которое, возможно, он ценил выше всего остального. Именно Боттичелли, этому поэту-платонику в кругу живописцев, Лоренцо поручил изобразить на полотне сцену казни участников заговора Пацци; и это, конечно, была скорее награда за верную дружбу, нежели признание таланта. Боттичелли должен был во всех подробностях написать фигуры людей, которые подверглись публичному издевательству, людей, которые убили брата, с которым Лоренцо вместе вырос, брата, которого они оба так любили.
В 1481 году Боттичелли, по рекомендации Лоренцо де Медичи, отправился в Рим для выполнения заказа папы Сикста IV, — это была часть политической игры, направленной на примирение с Римом. Вообще Лоренцо всячески использовал теперь флорентийское искусство и художников-флорентийцев в политических целях. Очаровывая власть предержащих (папу, герцогов Милана и Урбино) своим искусством, художники одновременно словно бы посылали сигнал: Флоренция — главный центр ренессансной культуры, предай ее огню, и ты предашь огню всю итальянскую цивилизацию.
Боттичелли работал в Риме два года, расписывая вновь построенную Сикстинскую капеллу. Но главным заказом папы были крупномасштабные картины на библейские сюжеты. Они не столь тонки, в них ощущается некоторая стесненность, краски темные, подчас мрачные. Быть может, в этом сказывается недостаток той свободы и непринужденности, которые художник ощущал в кружке Лоренцо с его блеском и легкостью. По возвращении во Флоренцию к Боттичелли эта легкость быстро вернулась. Он выполнил еще один заказ Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи, кузена Лоренцо Великолепного, и это был его второй бессмертный шедевр — «Рождение Венеры». Вырос он словно из одного четверостишия Полициано:
Только картина Боттичелли представляет собой нечто значительно большее, нежели изображение этой простой классической сцены. В то время как раннеренессансная живопись учитывала научные открытия (перспектива, анатомия и так далее), «Рождение Венеры» обретается в пространстве философии. Безмятежная простота, с какой на берег выносит створчатую раковину, на которой стоит Венера, насыщена сложнейшими философскими мотивами в платоновском духе. Как-то раз Фичини и Полициано целое заседание Платоновской Академии посвятили обсуждению многообразных философских аспектов «Рождения Венеры». Говорят опять-таки, списана Боттичеллева Венера была с Симонетты Веспуччи; на сей раз она предстает и более прекрасной, и более воздушной — неотразимое воплощение «младой девы с призрачным лицом». Легендарная красота, столь пленявшая в реальной действительности и Джулиано, и Лоренцо, превращается в потусторонний символ Платоновой любви, творящей мир. Эта Венера наделена идеальной духовностью — частью той прекрасной действительности, которую мы способны увидеть, отвращая свой взгляд от теней, играющих на стене темной пещеры обыденных видимостей.
«Рождение Венеры» свидетельствовало о переменах в живописи, получавших все большее распространение. Картина была написана на холсте и обрамлена, это не фреска как элемент оформления церкви. Живопись превращалась в предмет частного пользования, все дальше уходя от своего прежнего статуса исключительно духовной ценности. Это отражалось и в содержании картин. В эпоху Средневековья церковь полагалась кладезем знания, единственным источником духовности, религия же — вдохновителем искусства. Теперь оно выходило за эти традиционные границы, приобретало светский характер, становилось олицетворением просвещенности и новых научных открытий, чем-то таким, что может стать предметом домашнего наслаждения, символом торжества философии и самой жизни, а не, как прежде, религии. В качестве персонажей картин стилизованных святых сменяли узнаваемые человеческие лица.
Вторым гостем палаццо Медичи, который живал там, должно быть, в годы своей молодости, был Леонардо да Винчи, хотя точных документальных подтверждений тому нет. При этом фактом остается, что Лоренцо де Медичи сыграл решающую роль в судьбе Леонардо на заре его творческой деятельности.
Леонардо да Винчи родился в 1452 году в деревушке, прилепившейся к городку Винчи, расположенному в холмах, над долиной реки Арно в пятнадцати милях от Флоренции. Он был первым незаконнорожденным сыном молодой крестьянки Катарины и двадцатитрехлетнего юриста сера Пьеро да Винчи. «Сер» — почетный титул, который присваивается лицензированным нотариусам, хотя далеко не факт, что Пьеро да Винчи такой лицензией обладал, при том что к моменту рождения сына он уже делал некоторые успехи на юридическом поприще во Флоренции. Юный Леонардо рос в семейном поместье близ Винчи, скорее всего под присмотром бабушки; в двенадцать лет он переехал во флорентийский дом отца, у которого не было других детей до его третьей женитьбы. Леонардо было тогда уже двадцать лет, и его, как собственного сына, воспитывали бездетные жены сера Пьера, сначала первая, затем вторая. Умерли они одна за другой, и обе эти кончины отозвались в сердце подростка острой болью, что, возможно, и породило известную замкнутость, которая вскоре стала проявляться в его характере со всей очевидностью. И все же неизменность женской любви, сопровождавшей его с юных лет до ранней зрелости, — вот что повлияло на него более всего, придав веру в себя, какая всегда приходит, когда попадаешь в центр поклоняющегося тебе материнского мира. Вполне возможно, и гомосексуальность Леонардо имеет те же корни.
Он рано попал в мастерскую Верроккьо, где быстро обратил на себя внимание точностью рисунка. Выделялся он также исключительной внешней красотой, уверенностью в себе и умением ярко и со вкусом одеваться. Вскоре все узнали, кто такой Леонардо, а именно к этому он и стремился. Достигнув двадцати лет, Леонардо попал в поле зрения Лоренцо де Медичи, которого, надо полагать, больше привлекал его талант художника, нежели броская одежда. Ведь даже он не изменял стилю Медичи, установленному дедом: одевайся просто, не старайся бросаться в глаза. Лишь на празднества Леонардо надевал на себя пышные одежды, но именно это-то и подчеркивает заурядность его повседневного костюма.
Кажется, с самого начала Леонардо и Лоренцо относились друг к другу с известной настороженностью. Трудно сказать, были ли тому причиной гомосексуальность одного и скрываемая бисексуальность другого; ясно, во всяком случае, одно — в кружке Лоренцо Леонардо не чувствовал себя своим. Он вырос в сельской местности и говорил отчасти по-крестьянски; может показаться странным, но молодой красавец Леонардо выглядел в глазах Пико и Полициано неотесанным безграмотным мужланом; действительно, образования ему не хватало, он даже латыни не знал. Правда, уже в мастерской Верроккьо Леонардо выказывал едва ли не патологическую жажду знания, но знания по преимуществу технического. Его интересовало, как работают различные механизмы, как конструируются «машины» для поднятия тяжестей, для надувания, для бросания камней. Это не имело ничего общего с теоретическим знанием, как его использовали живописцы — предшественники Леонардо: те, прежде чем приступить к рисунку, чертили на холсте линии, обозначающие перспективу, контуры человеческого тела, почерпнутые из анатомии, и так далее.
Рано проявившийся художественный талант Леонардо был замечен и оценен Лоренцо и членами его кружка, но его столь же рано возникшие интеллектуальные интересы попросту игнорировались: в них видели нечто вроде забавы талантливого неуча. Платон начертал на дверях своей Академии: «Вход для тех, кто не знает геометрии, закрыт». Леонардо не знал геометрии и вообще математики — он займется этим лишь десять дет спустя. А пока он учился при помощи глаз, рассматривая вещи с близкого расстояния, — глядя, глядя, глядя и с максимальной точностью записывая увиденное.
В 1476 году Леонардо был публично обвинен в содомии. Обвинение прозвучало столь серьезно, что он вполне мог попасть в тюрьму. Высшей мерой наказания за гомосексуализм было сожжение на костре, но на практике, как мы видели, к таким крайностям не прибегали, да и вообще чаще всего смотрели на такие вещи сквозь пальцы. Отчего же Леонардо сделался исключением? Наиболее вероятным объяснением можно считать то, что осуждение молодого художника означало скрытый удар по Лоренцо и его кружку. Так или иначе, до суда дело не дошло — почти наверняка благодаря вмешательству Лоренцо де Медичи. Тем не менее клеймо появилось. Уже клейменный фактом незаконнорожденности (хотя и не дома), Леонардо получил дополнительный удар, еще больше заставивший почувствовать себя изгоем. Он всегда жаждал известности — но теперь знал, что говорят о нем за спиной.
Несмотря на отсутствие личной близости, Лоренцо неизменно поддерживал Леонардо. Вполне возможно, что именно в эту трудную минуту он получил приглашение пожить в палаццо Медичи, отчасти ради его безопасности. Если это действительно так, то можно понять дружбу с Боттичелли, чья живопись Леонардо в общем-то не нравилась. Скорее всего именно Боттичелли первым показал Леонардо фрески Мазаччо в церкви Санта-Мария дель Кармине. Эти работы — через посредство Фра Филиппо Липпи — оказали сильное воздействие на Боттичелли; столь же мощно они повлияют и на Леонардо. Живость персонажей Мазаччо стала для него настоящим откровением, это ведь не просто изображение человеческих фигур, они существуют на картине. Именно здесь в немалой степени следует искать источник его неповторимости, хотя развивался он совершенно в ином направлении, нежели Боттичелли. Если последний опирался на миф, то Леонардо более интересовала актуальность, психология, живые люди в реальной действительности.
Есть и другие свидетельства тесной дружбы Боттичелли и Леонардо, как и свидетельства высокого уважения Лоренцо к таланту последнего. Когда Лоренцо понадобилась фреска с изображением сюжетов, связанных с заговором Пацци, он поручил эту работу своему любимому Боттичелли — вряд ли заказ мог исходить от кого-то еще. В 1479 году, когда в цепях из Константинополя был доставлен, а затем казнен Бандини, в картину потребовалось внести изменения, и Лоренцо вновь обратился к Боттичелли, но тот, по-видимому, был занят какой-то другой работой. Почти наверняка он предложил вместо себя Леонардо, хотя только одной этой рекомендацией окончательное решение Лоренцо не объяснишь. Эта картина была для него чрезвычайно важна — помимо всего прочего, словно бы обращение к народу от его имени. Во Флоренции жило тогда немало талантливых живописцев, и среди них те, кому Лоренцо покровительствовал долгие годы; и все же его выбор пал на двадцатисемилетнего человека со стороны — Леонардо. Потому, повторяю, можно не сомневаться в том, сколь высоко Лоренцо ставил его как художника и сколь велико было его желание не терять с ним связи, пусть даже люди это были совершенно разные.
Затем загадочный Леонардо получил благодаря посредничеству Лоренцо крупный заказ — написать для доминиканской церкви Сан-Донато в Скопето, на окраине Флоренции, сюжет на тему поклонения волхвов. Контраст с тем, как истолковал ту же тему Боттичелли, сразу бросается в глаза. У последнего нарядно одетые члены семьи Медичи почтительно склоняются перед Мадонной с младенцем. У Леонардо собравшиеся потрясены самим божественным явлением, коленопреклоненно, с воздетыми руками окружают они Богородицу. На заднем плане, контрастируя с этим групповым портретом, прочерчены ясные, как на архитектурном эскизе, линии какого-то недостроенного, устремленного вверх, к очередному этажу, классического здания. Леонардо продолжал заниматься самообразованием, чертил контуры домов и военных машин, придумывал различные инженерные проекты. В том-то и беда: все это захватывало его настолько, что вскоре он утратил интерес к основной работе. Несмотря на то что отданы ей были целые годы, несмотря на увещевания, а затем и угрозы братьев-доминиканцев, «Преклонение волхвов» так и не было закончено, и это был первый, но далеко не последний из проектов Леонардо, что разделили ту же судьбу.
Наверное, Лоренцо де Медичи понимал, что если Леонардо хочет сохраниться как художник, ему нельзя умножать врагов во Флоренции. Рискуя по привычке, он рекомендовал Леонардо да Винчи новому правителю Милана Лодовико Моро Сфорце, сменившему на престоле своего убитого брата Галеаццо[5]. Лодовико Моро Сфорца называли Il Mоrо — Мавр — отчасти из любви к каламбурам, а отчасти из-за его смуглой, «мавританской» кожи. Это был еще один «трудный» Сфорца — воспитанный в гуманистической традиции, он выработал вкус к искусствам; кичился своей внешностью (особенно курчавыми, тщательно причесанными волосами); но всякого рода дикие выходки умерялись грубоватой, уверенной в себе силой, унаследованной им от отца — кондотьера Франческо Сфорцы. Лодовико был одновременно и целеустремлен, и легкомыслен, трусоват и отважен, ненадежен как партнер по переговорам на международной сцене и непредсказуем дома. К счастью для Леонардо, он сразу понравился Лодовико, и эта симпатия не осталась без ответа.
Леонардо приехал в процветающий город. Милан был центром выгодной торговли шелком, господствующей в Ломбардии с ее богатыми сельскохозяйственными угодиями; помимо того, город был знаменит производством дамских шляпок. Но что касается завоеваний Ренессанса, то к ним Милан только начинал еще приобщаться и в этом смысле оставался далеко позади Флоренции с ее культурным богатством и ее же культурным снобизмом; так что застенчивый молодой художник, да еще с деревенским акцентом, сразу почувствовал здесь себя как дома.
Леонардо прожил в Милане семнадцать лет, именно здесь достиг полного расцвета его художественный талант, и здесь же он обрел до известной степени личное счастье. В 1490 году он нанял в услужение десятилетнего Джакомо Салаи. На второй день Леонардо подобрал ему костюм и отложил деньги на покупку. Джакомо заметил, где они спрятаны, и украл их. Леонардо был взбешен, мальчишка все отрицал. Леонардо называл его «воришкой, лжецом, болваном и обжорой». Да, большим проказником был этот Джакомо, но обладал неотразимым обаянием, и через несколько лет они с Леонардо стали любовниками. Безграмотный Джакомо научился мириться с тем, что его хозяин время от времени впадает в продолжительное загадочное молчание (столь раздражавшее его посетителей), а Леонардо — с его привычкой воровать по мелочи. Джакомо оставался со своим хозяином до конца его жизни.
Герцог Миланский заказал Леонардо спроектировать бронзовую статую своего отца Франческо, основателя династии Сфорца, во весь рост. Эскизы и наброски, которые сделал Леонардо, готовясь к этой большой работе, стали предметом всеобщего восхищения, а отливка шестнадцатифутового монумента потребовала от него огромной изобретательности и полного напряжения творческих сил. Да только и этот проект не был осуществлен до конца. В 1495 году Леонардо было предложено написать фреску на мотивы «Тайной Вечери» для трапезной доминиканской церкви Санта-Мария делле Грацие в Милане. Эта работа станет полным воплощением всего того, что он познал в искусстве живописи, будет выполнена с такой силой, что ее следует признать и неизбежной, и бессмертной. Каждый из учеников, расположившихся за столом по обе стороны от Учителя, обладает своей индивидуальностью, каждый наделен как непостижимой глубиной, так и подлинной жизненностью. Работа займет у Леонардо несколько лет и будет завершена в 1498 году. На сей раз проблемы возникли на подготовительной стадии: стена, на которой расписывалась фреска, оказалась слишком влажной, а краски, которые Леонардо смешивал по новому методу, упорно отказывались ложиться. Через какие-то шестьдесят лет фреска, по свидетельству очевидца, превратилась в «огромное расползшееся пятно», так что шедевр этот дошел до нас лишь в копиях второстепенных художников.
В Милане Леонардо спокойно мог разрабатывать свои идеи. Лодовико Сфорца был и заинтригован, и восхищен чертежами «боевых машин», таких как катапульта, огромное ружье-винторез, бронемашина и таран. Помимо того, Леонардо разработал проект осушительной системы и предложил план идеального градостроительства; он выступил первым патологоанатомом, подробно описав строение органов человеческого тела. Чтобы позабавить своего покровителя, Леонардо делал скульптуры изо льда, ставил зрелища с фейерверками и конструировал механических монстров. Более всего остального Леонардо воплощал собой чистую «интеллектуальную силу». Сфорца поселил его в своем большом замке, для которого Леонардо спроектировал центральную отопительную систему; в его распоряжение была также предоставлена художественная мастерская, где у него имелись ученики и помощники; хотя какая именно работа доставалась этим последним, остается загадкой. Коль скоро речь касается живописи, Леонардо всегда работал в одиночку, со своей изнурительной медлительностью. За семнадцать проведенных в Милане лет он полностью написал всего шесть картин — правда, каких! Иначе как божественными их не назовешь.
Впрочем, хорошо еще, что и они были закончены. Леонардо целыми днями просиживал, зарисовывая что-то в блокноте, делая заметки своим тайным зеркальным шрифтом. Вот — воплощение его гения — зарисовки эти и заметки касаются всего, от астрономии до положения плода во чреве матери, от ботаники до физиогномики, от искусства до военного дела. Часто не замечают, что это многообразие связывается общей идеей: в глазах Леонардо в совокупности своей все это — части «науки живописи». Художник для него — ученый в высшем своем проявлении; он обладает даром и познавать мир во всех его подробностях, и запечатлевать его в конкретных произведениях. Леонардо лелеял грандиозный план, согласно которому художники обозревают все вместе и каждую в отдельности детали, из которых сделан мир, проникают в их структуру и их форму и далее запечатлевают их такими, каковы они есть. Его искусство становится наукой. Как отмечает Леонардо в одной из своих записных книжек, «объекты, к которым я обращаюсь, требуют для своего представления скорее опыта, нежели чужих слов... Я воспринимаю (опыт) как любовницу, отдавая ему все свои чувства». В идеях Леонардо представляется возможным видеть научный метод в его зародыше, хотя должно было пройти еще столетие с лишним, прежде чем Галилей разовьет эти идеи и положит начало современной науке.
Грандиозный план «науки живописи» остался неосуществленным. Да он и был, конечно, неосуществим, и это в большой степени относится ко всему творчеству Леонардо. Именно поэтому скорее всего так много из его величайших замыслов остались незавершенными. Он заглядывал за пределы осуществимого, он исчерпывал предмет, не успев придать ему форму. И тогда Леонардо утрачивал к этому предмету интерес, ему казалось, что нет смысла завершать работу.
Леонардо любил Боттичелли, хотя и не любил его живопись (прямо он об этом не говорил, но порой, не называя имени, явно имел в виду именно его картины, представляя их примером того, какой не должна быть живопись). Но в отношении последнего участника троицы великих, так или иначе связанных с палаццо Медичи, можно сказать, что он не любил ни человека, ни его работы. К Микеланджело Леонардо, называя вещи своими именами, питал отвращение и того не скрывал. В себе самом видел холодного ученого, которому нет нужды в Боге; Микеланджело, со своей стороны, был одержим Богом. Леонардо стремился запечатлеть и понять точную и тонкую природу того, что видел, а Микеланджело стремился показать духовную борьбу человека. В глазах Леонардо Микеланджело оставался представителем Средневековья; другие же видели в его творчестве воплощение ренессансного духа — олицетворение гуманистического идеала, борющегося и страдающего в своем порыве обретения жизненной формы.
Микеланджело Буонарротти родился в 1475 году, в холмистой сельской местности, в сорока милях к югу от Флоренции. Тогда этот городок, больше напоминающий крепость, назывался Капрезе, сейчас, в честь своего знаменитого уроженца, — Капрезе Микеланджело. Отец его был флорентийцем, которого власти страны назначали городским головой. Буонарротти гордились своим происхождением от рыцарей Каноссы, правивших Флоренцией в II веке, но это чисто семейная легенда, не имеющая под собой никаких оснований. На самом деле семья принадлежала к обедневшей сельской аристократии. Через полгода после рождения Микеланджело властные полномочия его отца истекли, и семья вернулась во Флоренцию. Как это было распространено в таких семьях, мальчика отослали в деревню, на попечение кормилицы. Первые свои три года он прожил в Сеттиньяно, в трех милях вверх по течению Арно, в деревушке, где селились каменотесы. Много лет спустя великий художник скажет: «С молоком матери я впитал стук молотка и резца — главных инструментов скульптора».
Затем Микеланджело перевезли во Флоренцию, где он вырос в благородной бедности — в районе Санта-Кроче, на улице, вполне почитаемой, однако находящейся рядом с городскими трущобами. Поддерживая свой социальный статус, его отец с кем угодно не якшался, и Микеланджело воспитывался в строгой атмосфере верности «старому порядку». При этом в отличие от большинства художников он получил образование в школе маэстро Франческо да Урбино, где занимался грамматикой, риторикой и латынью. Это была продвинутая гуманитарная школа, но Микеланджело скоро надоела зубрежка. Чтобы убить время, он начал рисовать и решил стать художником.
Буонарротти-старший весьма неодобрительно относился к этим упражнениям сына — они не соответствовали общественному положению семьи. По этому поводу дома то и дело возникали скандалы, и, по воспоминаниям Микеланджело, его «часто беспощадно лупили». Но угрюмая настойчивость мальчика все же победила, и, хоть и сравнительно поздно — ему было уже тринадцать лет, он поступил в мастерскую Гирландайо. Обычно учеников брали в десятилетнем возрасте, но несмотря на трехлетнее отставание, талант его сразу бросился в глаза мастеру.
Как пишет в своей знаменитой, но не всегда достоверной книге «Жизнеописания художников» Вазари, в 1489 году Лоренцо де Медичи решил открыть школу для скульпторов. В поисках способных учеников, он обратился к Гирландайо, и тот рекомендовал ему четырнадцатилетнего Микеланджело. Школа располагалась в саду рядом с площадью Сан-Марко, в нескольких минутах ходьбы от палаццо Медичи; здесь, в павильоне хранилась семейная коллекция древнеримских скульптур, начало которой было положено Козимо по совету Донателло. Во главе школы стоял бывший ученик последнего Бертольдо, талантливый автор бронзовых скульптур, настолько, по словам Вазари, «старый, что он уж и работать больше не мог». Летом скульптуры переносились из павильона в сад, и ученики, устроившись в тени, прилежно копировали их. Впоследствии Микеланджело неизменно утверждал, что он самоучка, и дар ниспослан ему одним только Богом, но, судя по всему, стареющий Бертольдо все же научил его лепить фигуры из глины и воска. С ранних лет Микеланджело, как утверждают, обладал удивительной способностью резки по камню, так что он становился в его руках податливым, как воск.
Вошедшая в легенду первая встреча Микеланджело и Лоренцо де Медичи в школьном саду знаменовала собой поворотный пункт в жизни художника. Орудуя молотком и резцом, Микеланджело тщательно вырезал из гранита голову старого ухмыляющегося сатира, используя в качестве модели античный оригинал. Он был настолько поглощен своим делом, что не заметил, как сзади подошел и остановился Лоренцо, буквально потрясенный тем мастерством, с каким этот совсем еще подросток добавляет все новые черты поблекшему от времени осколку старого мрамора, что стоял перед ним. Микеланджело работал над черепом, выдалбливая в этот момент рот сатира. Вот он осторожно отколол кусок камня, обнажая язык, а затем ряд зубов, один за другим, верхних и нижних. Внезапно он почувствовал, что на него смотрят. Микеланджело круто повернулся и залился краской. Лоренцо мягко улыбнулся и, слегка наклонившись, чтобы рассмотреть поближе, указал на ошибку — у старого сатира не может быть всех зубов.
Юный скульптор помрачнел — как он мог так промахнуться? Как только Лоренцо отошел, Микеланджело вернулся к работе. Он отколол у сатира один зуб и сделал углубление в десне, чтобы все выглядело естественно: зуб выпал. Вскоре Лоренцо вернулся и буквально ахнул от изумления; именно после этого инцидента Микеланджело и получил приглашение перебраться в палаццо Медичи. Ему была выделена комната и нечто вроде стипендии — сумма, эквивалентная пяти флоринам в месяц (чуть больше половины того, что получал — и этого вполне хватало, чтобы содержать семью, — квалифицированный ремесленник). Чтобы уладить положение в доме, отцу Микеланджело было даже предложено место на таможне.
Отныне и в течение ближайших четырех лет Микеланджело трапезничал с Лоренцо и его семьей — как до него Боттичелли, а возможно, и Леонардо. В такой обстановке подросток несколько растаял, утратил свою обычную замкнутость, и Лоренцо принялся зазывать его на встречи в Платоновской Академии. В отличие от Боттичелли и Леонардо Микеланджело сразу схватывал суть разговора — полученного образования было достаточно. Так и видишь его сидящим где-нибудь сбоку и прислушивающимся к тому, как Пико, Полициано и другие блистают эрудицией и умом. Вскоре Микеланджело проникся философскими идеями Платона, богатство которых расширяло догматы его религиозной веры. Стихи, что они читали, доказывали возможность выражения чувств в словах, чувств, которые у него застыли где-то внутри; должно быть, читал Микеланджело и современную поэзию, во всяком случае, примерно к этому времени относятся его собственные стихотворные опыты. Хотя его поэтический дар разовьется вполне лишь несколько лет спустя, даже первые стихи — это далеко не просто любительские упражнения трудного подростка. Со временем Микеланджело превзойдет даже Лоренцо де Медичи и его поэзия станет одной из ярчайших страниц итальянского языка. Самые ранние из дошедших до нас строк свидетельствуют, что и начинал он, можно повторить, сильно:
Впрочем, несмотря на столь обещающий поэтический дебют, главным для Микеланджело останутся изобразительные искусства, и здесь он тоже получил мощный импульс «в стенах» Платоновской Академии. Его ранний фриз «Битва кентавров» подсказан строками из Полициано (представляющими собой переложение Овидия), опирающимися на мифологический сюжет: по легенде, несколько кентавров так напились на свадьбе у царя Пиритоса, что попытались изнасиловать и выкрасть всех женщин. С юношеской пылкостью изображает Микеланджело извивающиеся, сплетенные в схватке тела. Это — художественный шедевр, созидая который автор явно находился под влиянием Гиберти с его бронзовыми дверями баптистерия, которые Микеланджело уподоблял вратам в рай. В рай! — работа же Микеланджело ассоциируется скорее с адом; ее, на вид хаотичная, а на самом деле глубоко продуманная композиция порождена скорее эротическими фантазиями воспаленного ума, нежели античным мифом. Контрастом ей может служить другая выдающаяся работа — барельеф, воплощающий классический покой и красоту. Это «Мадонна на лестнице», в которой явно видны следы влияния Донателло. Мадонна сидит у подножия круто уходящей вверх лестницы, кормя грудью вполне реалистически изображенного, хотя, пожалуй, физически чуть переразвитого младенца, а на заднем плане, на верхних ступенях, угадываются играющие дети. И все-таки прежде всего бросаются в глаза складки пышного платья Мадонны, с такой точностью и вместе с тем легкостью высечены они из мрамора, такая текучесть формы в них ощущается... Стало ясно, что на свет появился еще один первостепенный художественный талант, взращенный под сенью Медичи. Из дальнейшего будет видно, что Микеланджело сохранит тесные связи с этой семьей до самого конца жизни.
16. В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ
В конце XV века мир вступал в новую эру, и это не просто общее место, возникшее в позднейшие времена. Это остро ощущали молодые люди, спорившие о Платоне на площадях, и смутно — даже те, кому не хватало грамоты, но кто в немом восторге застывал перед новыми произведениями искусства. Соборный купол работы Брунеллески, бронзовые врата работы Гиберти, огромный дворец, который семья Питти медленно возводила на холме Олтрарно, красочные празднества, устраивавшиеся Лоренцо Великолепным, — к прошлому возврата нет. Флоренция на глазах становилась новым городом; и в то же время происходило и нечто иное. За жаждой развлечений, за новыми чудесами и новыми идеями чувствовалась какая-то смута, даже недовольство, особенно среди popolo minuto, ведь по окончании турниров и фестивалей людям приходилось брести назад, в свои трущобы.
Англия и Нидерланды начали производить свои сукна и, как результат, сокращали свой экспорт сырой шерсти, и производство шерстяных сукон во Флоренции резко пошло вниз. Как обычно, первой жертвой стали чомпи, и массовые увольнения самым прямым образом отражались на благополучии семей. Вот тогда-то и послышался глухой ропот, направленный против перемен в жизни Флоренции; все теперь было иначе, все прежние основы жизни подверглись эрозии. В эпицентре распространяющегося смятения и растерянности, которые мало-помалу охватывали все слои общества, возникла фигура, воплощающая собой саму твердость и уверенность. Это был священник по имени Джироламо Савонарола.
Он родился в Ферраре в 1452 году, когда и Леонардо да Винчи. Но это единственное, что их сближает, — во всем остальном они были противоположностью друг другу. Дед Савонаролы — известный врач при дворе герцога Феррары, а отец занимал незначительные должности там же. Рос Савонарола замкнутым, редко улыбающимся ребенком; учился он дома, у деда, который, как врач, считал, что потребление алкоголя в умеренных дозах способствует здоровью и долгожительству. К сожалению, его мысли насчет образования были не столь прогрессивны. Несмотря на близость Флоренции с ее ренессансными идеями, которые с неизбежностью доходили до феррарского двора, дед Савонаролы оставался, в общем, приверженцем старого средневекового подхода к образованию, точно так же, как и сами его взгляды на жизнь сложились под воздействием средневековой веры в Бога. Мрачный бледнолицый подросток с крючковатым носом внимательно вслушивался в филиппики деда, направленные против зла современного мира. Пребывание человека на земле, поучал он внука, есть лишь подготовка к будущей жизни, а бессмертие разрешается одним только вечным проклятием. В перерывах между этими уроками Савонарола, пощипывая струны, извлекал из своей лютни траурные мелодии и царапал на бумаге не менее скорбные вирши:
После смерти деда Савонарола продолжил образование в университете Феррары. Здесь он впервые столкнулся с гуманистическими идеями, которые изучал, но инстинктивно отвергал. В это время он увлекся некоей Лаодамией, незаконнорожденной дочерью одного из представителей видной флорентийской семьи Строцци, проживавшей в то время в изгнании в Ферраре. Девушка жила на противоположной стороне узкой улочки, и однажды, когда она высунулась зачем-то из окна, Савонарола, в свою очередь, перегнулся через подоконник и сделал ей предложение. Оно было с презрением отвергнуто: никто из Строцци, пусть даже в изгнании, и не подумает породниться с каким-то там Савонаролой.
С тех пор он начал выказывать стойкое отвращение к женщинам, всякого рода украшениям, аристократии и любым формам праздного времяпрепровождения. Параллельно ужесточалось его отношение к новым гуманистическим идеям — если раньше он их просто отвергал, то теперь ненавидел. В середине 1475 года, когда в семье отмечался День святого Георгия, он незаметно выскользнул из дома и пешком отправился за тридцать миль в Болонью, где вступил в доминиканский орден и стал монахом. Объясняя впоследствии отцу мотивы своего поведения, он писал: «Не могу более выносить тот смрад, что распространился по всей Италии... Поскольку инстинкты плоти противны разуму, мне должно прилагать все силы, дабы противостоять искушениям Сатаны».
В 1482 году, поменяв за семь лет несколько монастырей на севере Италии, Савонарола осел в Сан-Марко во Флоренции. Этот был тот самый монастырь, на перестройку которого Козимо де Медичи потратил такие бешеные деньги и в котором выделил себе особую келью для медитаций наедине с самим собой. В Сан-Марко Савонарола быстро завоевал среди монахов репутацию человека, отличающегося исключительным аскетизмом и чистотой помыслов; он спал на соломенном тюфяке, положенном на простую доску, и в отличие от других монахов всегда воздерживался от участия в церковных праздниках. Воскресные проповеди, которые он, по очереди с другими, читал в церкви Сан-Марко, оставляли прихожан равнодушными к речам этого уродливого низкорослого священника с удивительно чувственными губами. Ко всему прочему, говорил он невнятно, часто глотал слова. Вскоре, однако, стало ясно, что неуклюжесть речи порождена отнюдь не застенчивостью. Под густыми черными бровями, сходящимися у большого крючковатого носа, глаза Савонаролы полыхали ярким пламенем. Казалось, в нем сосредоточена мощная сила, которой он никак не может дать выхода. По его собственным сказанным много позже словам, проповеди его были настолько недейственны, что «ими даже цыпленка не напугаешь».
Савонарола молился и постился, явно заклиная Бога открыть, что ему следует делать, дабы оправдать свое жалкое существование на земле. Наконец, в 1485 году, Савонарола пережил откровение: ему было велено «нести в мир слово Божье, защищать его от ужасов, что предназначены грешникам и ждут их в свой час». Теперь он служил в небольшом укрепленном городке Сан-Джиминьяно, в тридцати милях к юго-востоку от Флоренции. Теперь он читал великопостные проповеди с красноречием человека, которому наконец-то открылась его земная миссия — бичевать пороки людские, предупреждать о катастрофах, в которые Бог готов ввергнуть мир. Святая Божья церковь утратила свою святость, ибо пошла путями зла; от малых до великих — все погрязли в пороке; саму церковь следует подвергнуть бичеванию и радикально очистить, только так она может вернуться к святости и простоте истинной христианской веры.
Вскоре слухи о священнике, проповедующем как одержимый, распространились достаточно широко, и через два года Савонарола вернулся в Сан-Марко. Его слышал Пико делла Мирандола, и на него произвели неотразимое впечатление внутренняя сила и простая убежденность, с которой Савонарола толкует библейские тексты. Несмотря на свою большую ученость, Пико как раз переживал душевную смуту; его «900 тезисов в пользу истинной религии» Рим проклял, и перед ним возникла реальная перспектива обвинения в ереси. Может, в свете этих растущих сомнений в самом себе и воспринял с такой остротой Пико услышанное под сводами собора Сан-Марко.
Церковное начальство Савонаролы вскоре стало проявлять беспокойство по поводу его новой манеры чтения проповедей и решило, что лучше будет отослать его куда-нибудь подальше от Флоренции. В 1487 году Савонарола получил пост декана богословского факультета в Болонском университете; при всей неадекватности иных его апокалиптических идей, Библию Савонарола знал и понимал глубоко и основательно, что стало результатом долгих часов ее изучения у себя в келье.
Вернувшись из очередной поездки домой, Лоренцо де Медичи обратился к Пико: что делать с его сыном Джованни, тринадцатилетним кардиналом? Точнее говоря, как позаботиться о теологической стороне его образования? Пико считал, что Джованни не повредит общение с хорошим проповедником, и посоветовал Лоренцо использовать свое влияние для возвращения Савонаролы в Сан-Марко. Именно такую простую веру мальчик оценит по достоинству.
Возведение сына Медичи-младшего в кардинальский сан Флоренция сочла для себя большой честью, и это некоторым образом подогрело религиозные чувства граждан. Именно здесь возникла благодатная почва для громоподобных проповедей Савонаролы, и действительно они начали привлекать все больше и больше поклонников. Его огненные речи находили отзвук в сердцах всех, кто слушал его. Люди из низших сословий находили в них успокоение и надежду: их бедность подобна бедности самого Иисуса Христа, они попадут в число избранных, а богатым уготовано вечное проклятие. Поколебались и многие из тех, кому были близки новые гуманистические идеи. За их неопределенностью и широтой обнажились глубокие тревоги древних времен, жаждущие средневековой бесспорности. Как человек образованный, вполне знакомый с новым гуманистическим учением, Савонарола знал, как обратить его против него же. Если каждый человек, и только он один несет ответственность за свою душу и если, как говорит Пико, «вы способны придать своей жизни любую форму, какую пожелаете», то какой толк тогда в учении Платона и Аристотеля, если их создатели мучаются в аду? Новые гуманистические идеи привели к одной лишь бессмысленной роскоши да чувственным наслаждениям, и, право, стихи поэтов-гуманистов даже отдаленного отношения не имеют к христианству, ведь в них пересказываются языческие мифы, либо это лишь притчи на тему о благочестии. Художники не лучше, и даже когда они обращаются к религиозным сюжетам, используют слишком яркие краски и увлекаются слишком человеческими особенностями, так что «Дева Мария походит у них на шлюху» (по причинам, не представляющим большого секрета, Савонарола с особенным гневом клеймил греховность проституток, называя их «куском мяса с глазами»). На тонкую душу Боттичелли эти огненные проповеди почти сразу же начали оказывать сильное воздействие. Точно так же и Полициано, вслушиваясь в диатрибы Савонролы, быстро уловил в них осуждение его собственных грехов и начал задумываться о судьбе своей бессмертной души. Гуманистическое учение изменило их жизнь и влило новую кровь в искусство, но пока не укоренилось в душах — для этого прошло еще слишком мало времени.
Летом 1489 года Савонарола прочитал цикл лекций в садах монастыря Сан-Марко. Они находились буквально в двух шагах от других садов — там, где осваивал секреты ремесла Микеланджело. Наверное, примерно в это время он впервые услышал проповеди Савонаролы, и они произвели на него сильное впечатление. Уже в старости он говорил, что громыхание его голоса все еще отдается в его ушах, а страстная жестикуляция стоит перед глазами так живо, словно все происходило только вчера. При этом, как ни странно, на Микеланджело эти проповеди оказали меньшее воздействие, чем на других; в вере он всегда был крепок и дарованный талант художника и поэта считал частью своей духовной жизни. Его живопись и поэзия всегда были свободны от любых ограничений в пуританском духе.
По мере того как расширялась аудитория Савонаролы, все откровеннее становилось слово: «Если вы хотите создать хорошие законы, научитесь сначала повиноваться законам Божьим, ибо все законы имеют своим истоком Закон Вечный». Все больше и больше его проповеди приобретали политический оттенок — он выступал против злоупотреблений власти как таковой, говорил, что она оказывает разрушительное воздействие на самих власть имущих. А вскоре Савонарола принялся клеймить за злоупотребления власть уже тиранов-правителей нынешних городов, и публике не понадобилось много времени, чтобы узнать «тирана», правящего их собственным городом. Имя Лоренцо не называлось, но именно на нем все больше сосредоточивалось народное недовольство.
Поначалу Лоренцо довольно мирно относился к этим выпадам, в надежде на то, что сама жизнь вполне цивилизованной Флоренции умерит гнев Савонаролы. К тому же Пико уверял его, что религиозные идеи Савонаролы — идеи вполне здравые, а сам он в душе «хороший человек». Полициано также призывал к терпимости и также находил в проповедях Савонаролы зерно истины; к тому же он популярен в народе — и дает выход накопившимся у людей чувствам, которые иначе выплеснутся куда как более бурно. Савонарола пошел дальше: теперь он уподоблял своеволие нынешних «тиранов» действиям Навуходоносора и Нерона. И все равно Лоренцо терпел. В 1461 году Савонарола был назначен приором монастыря Сан-Марко, и на первую же его в этом качестве великопостную проповедь собралось столько народа, что для последующих он попросил предоставить ему более просторное помещение. Лоренцо опрометчиво дал на это согласие. Теперь уже проповеди Савонаролы привлекали, без преувеличения, настоящие массы людей, его проклятия в адрес «тиранов» передавались из уст в уста и стали достоянием всего города.
Лоренцо едва перевалило за сорок, но симптомы наследственной болезни — подагры и артрита, которые искалечили его деда и убили отца, — уже начали проявляться. Ему тоже теперь, скрюченному от боли, приходилось передвигаться на носилках; но бесперебойное правление городом осуществлялось назначенными им чиновниками. Лоренцо колебался, стоит ли ему предпринимать что-нибудь в отношении строптивого священника, явно подрывающего его авторитет; скрытые предупреждения, которые он посылал ему через доверенных людей, казалось, не производили никакого впечатления и явно игнорировались. Он подумывал, не стоит ли попросить папу послать Савонаролу куда-нибудь в другое место, но Иннокентий VIII тоже болел — сказывались годы беспутной жизни.
До Лоренцо начали доходить слухи, что Савонарола пророчит смерть «тирана», а также папы. Во Флоренции фактически на каждом углу сплетничали о болезни Лоренцо; многим было известно и о недугах Иннокентия VIII. Все это, казалось, лишь подкрепляло пророчества Савонаролы. Но если он способен предвидеть конец правителей и пап, то, может быть, его дарования этим не ограничиваются? И может, впрямь оправдаются его апокалипсические видения грядущей катастрофы?
11 декабря 1491 года Джованни, второму сыну Лоренцо, исполнилось шестнадцать лет. Это означало совершеннолетие, а с ним официальное возведение в кардинальский сан, который был ему дарован еще три года назад. По этому поводу в палаццо Медичи было устроено большое празднество, но к тому времени Лоренцо был уже настолько плох, что от участия вынужден был воздержаться; его лишь перенесли на носилках к окну на верхнем этаже, откуда он недолго и незаметно наблюдал за происходящим внизу торжеством. Через три с небольшим месяца, 21 марта 1492 года, Лоренцо попросил перевезти себя на виллу Медичи в Карреджи, где умер его дед Козимо. Лоренцо сопровождали самые близкие ему люди — Пико и Полициано.
Через две недели после прибытия Лоренцо в Карреджи из Флоренции пришла весть, что два самых знаменитых городских льва загрызли друг друга до смерти у себя в клетке, что было воспринято флорентийцами как очень дурное предзнаменование. В ту же ночь в новый светильник, установленный на соборном куполе, ударила молния, отчего один из мраморных шаров, на которых он держался, вылетел из своего гнезда и, упав с грохотом на мостовую, разлетелся на куски. Узнав об этом, Лоренцо сразу же спросил, с какой стороны собора откололся шар, и ему сказали: с северозападной. «Она выходит на сторону моего дома, — молвил Лоренцо. — Это значит, что скоро я умру». Даже этот великий гуманист, оказавшись на смертном одре, вернулся к суевериям прежней эпохи.
Следуя примеру своего прадеда Джованни ди Биччи и всех последующих глав семейства, Лоренцо призвал к себе старшего сына Пьеро. В детстве Пьеро был необычайно для Медичи красив и очень походил на своего дядю Джулиано. Теперь ему исполнился двадцать один год, всего на четыре меньше, чем Джулиано, когда того убили. Увы, Пьеро было свойственно высокомерие, а больше, чем гражданские дела, его увлекала охота. Лоренцо попросил оставить его с сыном наедине и, взяв того за руку, принялся наставлять кодексу семейства Медичи: веди себя на людях скромно, думай о людях Флоренции не меньше, чем о родных... То, что когда-то, в устах Джованни ди Биччи, звучало истинным призывом, теперь превратилось в рутину — эти слова перестали быть заветом и сделались данью традиции.
По свидетельству Полициано, скоро стало ясно, что болезнь Лоренцо пожирает «не только (его) вены, но все его внутренние органы, кишечник, кости и даже костный мозг». Чувствуя, что жизнь покидает его, Лоренцо принял важное решение — тайно послал за Савонаролой. Зачем он это сделал — чтобы тот отпустил ему грехи либо чтобы предпринять последнюю попытку примирения, дабы сыну можно было оставить мирный, не раздираемый конфликтами город, — не ясно, а описания этой роковой встречи сильно разнятся. Немногословный Пико оставил несколько мистическую версию событий, в то время как потрясенный до глубины души Полициано описал поэтически возвышенную сцену.
Однако же, при всех этих расхождениях, бесспорным представляется следующее: Савонарола выдвинул перед Лоренцо три требования. Первое — ему надо знать, кается ли Лоренцо в своих прегрешениях и придерживается ли веры; на что Лоренцо ответил утвердительно. Во-вторых, Савонарола потребовал от него отказаться от всех своих богатств. Тот промолчал. Наконец, Савонарола предложил ему «вернуть свободу гражданам Флоренции». И вновь последовало молчание. Лоренцо отвернулся к стене. Священник немного постоял, не говоря ни слова, пробормотал формулу отпущения и вышел из комнаты.
Вскоре после этого, 8 апреля 1492 года, Лоренцо Великолепный скончался.
По легенде, в последний путь Лоренцо де Медичи провожал весь город, и уже одно всеобщее изъявление скорби было невысказанной гарантией того, что отцу наследует сын — Пьеро. Многие, однако же, утверждают, что это действительно не более чем легенда, сотворенная самими Медичи; напротив, утверждают они, никаких таких особых изъявлений горя не было, и, учитывая непростое положение города, эта версия выглядит более правдоподобной. Так или иначе, некоронованным королем города стал Пьеро, хотя бы потому, что не было никого, кто мог бы этому воспрепятствовать.
Умиравший в Риме папа Иннокентий VIII выразил опасения многих: с уходом Лоренцо, этой «стрелки итальянского компаса», миру скоро наступит конец. Через три месяца Иннокентию наследовал новый папа, Александр VI, добившийся избрания простым и эффективным (хотя и дорогостоящим) способом — подкупом вчерашних соперников, сделавшихся сегодняшними союзниками. Это потребовало сундуков золота и драгоценностей и считается первым случаем того, как папский престол был элементарно куплен за деньги. Александр VI представлял семью Борджиа, чьи корни уходят в Испанию, и его понтификат знаменовал возникновение на итальянской сцене новой, куда более жесткой, чем прежде, политики, новых амбиций самого понтифика и нового, невиданного ранее, мошенничества.
Пьеро де Медичи наследовал отцу, когда ему был двадцать один год (всего годом больше, чем Лоренцо, когда тот сменил своего отца). Кто бы ни пришел на смену Лоренцо Великолепному, в сравнении всегда обречен проигрывать, хотя на деле Пьеро многим его напоминал. Он обладал сильной волей, не прочь был поразвлечься; в то же время Пьеро считал себя человеком, наделенным высоким художественным вкусом, а также до некоторой степени поэтом. Увы, это не так, поэтом он не был; в то же время следует отметить, что он оказал огромную поддержку молодому Микеланджело, с которым они вместе росли.
Начать с того, что Пьеро был только рад переложить ведение повседневных дел, связанных с жизнью города, на плечи опытного помощника отца, Пьеро Довици да Бибиены, а дел банковских — на плечи стареющего Джованни Торнабуони. Еще в 1480 году банк Медичи был вынужден закрыть свои отделения в Лондоне и Брюгге, и на протяжении большей части правления Лоренцо резко сократил объем своих операций, почти наверняка подпитываясь суммами, которые Лоренцо время от времени перенаправлял из городской казны. Равным образом в глубоком упадке пребывала флорентийская шерстяная промышленность, а обедневшие работники и мелкие торговцы с самого начала составляли большую часть аудитории Савонаролы. Ни сами Медичи, ни Флоренция уже не могли позволить себе устройство оглушительно популярных празднеств, которые так привлекали горожан к отцу Пьеро.
Несмотря на это, он всячески выказывал стремление продолжать его политику, демонстрируя при этом, правда, весьма слабое ее понимание. В Лоренцо и себе самом он видел государей-лихачей, любимцев судьбы и ведущих актеров итальянской политической сцены, перед которыми благоговеет народ. Только вот прославленным обаянием Лоренцо Пьеро ни в коей мере не обладал, а об основах своего владычества судил совершенно неправильно. Семья Медичи являла собой мотор хорошо налаженной политической машины, нуждающейся в постоянном уходе в виде премий, назначений на важные посты, подарков — и все это должно было регулярно преподноситься с большим тактом и аккуратностью. Без этого постоянно меняющиеся пристрастия флорентийских политиков могли в любой момент обернуться изменой. Пьеро также неверно оценивал баланс сил, поддерживающих мир на большой итальянской сцене, и это сочетание ошибок как во внутренней, так и в международной жизни принесло ему прозвище «Невезучего». Сомнительно, впрочем, чтобы даже отец Пьеро справился с целым обвалом несчастливых событий, которые начались с его смертью.
Савонарола по-прежнему произносил во Флоренции свои огненные проповеди, устрашая свою постоянно увеличивающуюся аудиторию видениями «пылающего креста, раскачивающегося в мрачных тучах, нависших над Флоренцией». Он призывал граждан покаяться, пока не поздно, гневно клеймил греховность, разлагающую церковь на всех ее этажах, вплоть до самых верхних. Все понимали, о ком он говорит, ибо, и сделавшись папой Александром VI, Родриго Борджиа не смог избавиться от своей прежней репутации. Предсказания Савонаролы насчет смерти Лоренцо де Медичи и Иннокентия VIII сбылись; теперь он прорицал смерть третьего «тирана», семидесятилетнего неаполитанского короля Ферранте. А после этого, говорил он, на Италию обрушится огромная иностранная армия; она хлынет с Альп и опустошит всю страну, подобно тому как «варвары-хирурги отрубают своими скальпелями пораженные члены или сломанные кости».
Меж тем Пьеро де Медичи приходилось иметь дело с текущей итальянской политикой, у которой тоже были свои устрашающие стороны. Чтобы различить их, надо набросать, хотя бы бегло, общую картину. Правитель Милана Лодовико Моро Сфорца был всего лишь регентом, который должен был оставаться на этом посту, пока не достигнет совершеннолетия законный наследник Джан Галеаццо (сын убитого Галеаццо Марии Сфорцы). Для укрепления отношений между Миланом и Неаполем юного Джан Галеаццо женили на Изабелле, внучке стареющего Ферранте. Но когда Джан Галеаццо достиг-таки совершеннолетия, Лодовико Сфорца отказался передать ему власть, ссылаясь на то, что этот «почти слабоумный» не может править Миланом. Доля истины в этом утверждении есть, однако же Изабелла с ним не согласилась и обратилась к деду с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить восхождение мужа на престол. Ее отец Альфонс, герцог Калабрийский, наследник неаполитанского трона, был особенно разгневан и заявил во всеуслышание, что готов двинуться на север, тем более что у него уже есть успешный опыт участия в войне, последовавшей за провалом заговора Пацци.
Лодовико рассчитывал на поддержку Флоренции, но Пьеро де Медичи от прямого ответа ушел; его советники смотрели в две стороны, ведь и Ферранте — союзник Флоренции. Тогда Лодовико обратился к Венеции и к папе: на весах мир в Италии, и без их участия удержать равновесие сил невозможно. Но и тут он столкнулся со множеством оговорок, что неудивительно: ни один итальянский правитель не хотел бы выглядеть союзником узурпатора вроде Лодовико Сфорцы — это может иметь опасные последствия для всей Италии, где на один престол всегда есть несколько претендентов. Лодовико Моро Сфорца понял, что ему грозит полная изоляция — против него может повернуться вся Италия.
От оси Милан—Флоренция—Неаполь, над укреплением которой так трудился Лоренцо де Медичи и которая на протяжении столь долгого времени позволяла сохранять в Италии мир, осталось одно воспоминание. Хуже того, не найдя ни у кого понимания в Италии, Лодовико Сфорца решительно повернулся в сторону иноземного государства. Он вступил в переговоры с французским королем Карлом VIII, суля в благодарность за поддержку выступить на стороне Карла, если тот решит возобновить старые претензии Франции на неаполитанский трон.
Втайне от итальянских государств именно такой возможности Карл VIII и ждал. Он был единственным сыном «Короля-Паука», Людовика XI, экстравагантного монарха, благодаря тщательно скрываемым способностям которого Франция укрепила свое положение самого богатого и самого мощного из государств Европы. Карл VIII взошел на трон в тринадцатилетнем возрасте, но в полном смысле королем стал лишь в 1491 году, достигнув совершеннолетия. У него была странная внешность: ходил он сутулясь и забавно загребая своими огромными ступнями (на каждой из которых, гласит популярная легенда, было по шесть пальцев). Да и человек это был необычный — не получив практически никакого образования, он всегда оставался на удивление наивен; однако же его чрезвычайная похотливость и обжорство, точно так же, как привычка бормотать что-то самому себе через клочковатую рыжую бороду, сильно смущали людей в его присутствии. Он уже выказывал все возрастающие признаки мегаломании, воображая себя правителем гигантской империи, и советники всячески поощряли эти его поползновения: пусть будет где-нибудь подальше от Франции, так проще достигать своих низких целей. Карла VIII уверяли, что если Франция удовлетворит свои законные интересы в Неаполе, это позволит вернуть себе Константинополь и Иерусалим, а ведь там проходят чрезвычайно выгодные торговые маршруты на Ближний Восток. Карл жадно слушал эти речи, уговорить его сделать Францию владычицей Средиземноморья было нетрудно.
В январе 1494 года неаполитанский король Ферранте умер, и таким образом сбылось предсказание Савонаролы касательно последнего из трех «тиранов». Ферранте наследовал его сын герцог Калабрийский, ставший королем Альфонсом II, после чего Карл VIII немедленно заявил о своих правах на неаполитанский престол и готовности применить силу для достижения своих целей. Если французская армия перейдет через Альпы и двинется на юг, угроза нависнет над всей Италией, за исключением Милана. Пьеро де Медичи заявил, что Флоренция будет защищать свою территорию против любого вторжения и поддержит Неаполь в борьбе с иноземцами. Многим во Флоренции, с трепетом ожидавшим развития событий, казалось, что вот-вот сбудутся и остальные предсказания Савонаролы.
Но не всех было смутить так просто. Как обычно, самые видные семьи Флоренции, в предвидении прихода весны, устраивали в своих дворцах пышные празднества. Но на этом фоне еще больше бросалось в глаза, что в партии Медичи дела складываются далеко не лучшим образом. Невнимание Пьеро к партийной машине Медичи привело к тому, что нарастающие конфликты оставались нерешенными. Из-за трудностей, с которыми столкнулся банк Медичи, главное его отделение, во главе которого стоял сам Пьеро, утратило свое ведущее финансовое положение; его вытеснил филиал, возглавляемый его кузенами Джованни и Лоренцо ди Пьерфранческо (тем самым, что заказал Боттичелли «Рождение Венеры»), которые немало заработали на торговле зерном. В результате Джованни и Лоренцо стали выражать все большее недовольство политическим главенством Пьеро; этот конфликт достиг своего пика в ходе совершенно тривиальной стычки, случившейся во время одного из весенних балов. Пьеро и Джованни заспорили, кому танцевать с местной красавицей, за которой оба ухаживали. Кончилось это тем, что Пьеро при всех дал своему двоюродному брату пощечину. Джованни понимал, что вызвать на дуэль правителя Флоренции он не может, и вынужден был отступить, явно затаив обиду. Трещина, расколовшая партию Медичи, стала очевидной.
Пьеро мучительно искал выхода из этого трудного положения. Как бы поступил отец? Наверняка Лоренцо действовал бы решительно, либо пустив в ход свое знаменитое обаяние и сделав какой-нибудь щедрый жест, сразу бы позволивший забыть все обиды, либо сломив соперника, что устранило бы любые угрозы. Поразмыслив, Пьеро выбрал второй путь, арестовав Джованни и Лоренцо и поместив их под замок на вилле Медичи в Кафаджоло. Им было предъявлено откровенно надуманное обвинение в тайных сношениях с Карлом VIII. По утверждению Пьеро, они якобы писали королю Франции, что, несмотря на заявление правителя о готовности любой ценой отстоять флорентийскую территорию, большинство горожан не станет препятствовать походу на Неаполь.
В сентябре 1494 года армия Карла VIII пересекла Альпы и вторглась в Италию. По современным оценкам численность ее колебалась между тридцатью и шестьюдесятью тысячами солдат. Возможно, солдат было действительно тридцать тысяч, а остальные — грумы, придворные, оркестранты, фокусники, повара, маркитантки и так далее. В таком случае воинство Карла почти вдвое превышало самые большие силы, вторгавшиеся в Италию через Альпы до того, — это был 218 год до нашей эры, и это была армия Ганнибала, насчитывавшая не более двадцати шести тысяч человек (по старым подсчетам, и тот факт, что они более надежны, чем последующие, весьма показателен при сравнении уровня статистики в эпоху Древнего Рима и Франции XV века, все еще пребывавшей в позднем Средневековье).
Мощная армия Карла состояла из закаленных бойцов, участвовавших во множестве кровавых сражений на севере Европы, которые сильно отличались от того, что сходило за таковые в Италии, — тактических «маневров» городских ополчений и наемников. В авангарде у французов шла вымуштрованная швейцарская гвардия, известная своей способностью остановить и отбить любую кавалерийскую атаку, в то время как для итальянцев такая атака обычно служила сигналом окончания сражения — спасайся кто может. К тому же французская армия была превосходно вооружена, располагая, в частности, полевыми орудиями, стрелявшими железными, а не каменными ядрами; такая артиллерия способна как рассеять вражескую пехоту, так и нанести ущерб городским стенам.
Лодовико Сфорца приветствовал Карла в Милане, откуда тот проследовал в Павию, где был принят законным правителем Милана Джан Галеаццо и его женой Изабеллой, всячески отговаривавшей его от военных действий против ее отца Альфонса II, короля Неаполитанского. Но огромная французская армия продолжала неотвратимо продвигаться на юг. Визит Карла VIII к Галеаццо явно не понравился Лодовико Сфорце; не прошло и нескольких дней, как разнеслись слухи о том, что Галеаццо умер от яда, а его жену и четверых детей объявивший себя законным правителем — герцогом Милана Лодовико бросил в тюрьму. Тогда же Альфонсо II поспешно выступил навстречу противнику. Две армии столкнулись на побережье у Рапалло, примерно в двухстах пятидесяти милях к северу от неаполитанской границы, и закончилось сражение полным разгромом итальянцев. С остатками армии Альфонсо II бежал назад, в Неаполь. Французская армия продолжала движение вдоль побережья. Понтифик сообщил, что ей обеспечен свободный проход через Папскую область, Венеция объявила о своем нейтралитете. На пути французов оставалась только Флоренция. На границе Тосканы Карл VIII остановился и направил Пьеро де Медичи послание с требованием пропустить его армию к Неаполю.
Ситуация сложилась в высшей степени деликатная. Пьеро обещал Альфонсу II поддержку, предполагая при этом, что его примеру последуют другие итальянские государства. Но выяснилось, что он остался один. Следует ли взять слово назад и, по примеру Венеции, заявить о своем нейтралитете? Прошло пять дней, ответа из Флоренции все не было, и потерявший терпение Карл VIII отдал своей армии приказ войти в Тоскану. Пограничный замок в Фивиццано был взят штурмом, гарнизон принужден к капитуляции. Того же Карл потребовал и от Флоренции.
По городу поползли самые противоречивые слухи. Говорили, что Джованни и Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи бежали из Кафаджоло и прибыли в штаб-квартиру Карла VIII, где заверили короля Франции, что Пьеро де Медичи выступает от имени далеко не всех флорентийцев, большинство из которых как раз готово уступить. Это, между прочим, свидетельствует о том, что обвинение, приведшее к их аресту, было не просто сфабриковано, хотя сейчас это уже не имело практического значения. Скоро стало ясно, что Джованни и Лоренцо сказали Карлу чистую правду: во Флоренции у них было много сторонников, готовых сдать город французам. Видные граждане лихорадочно искали козла отпущения, виновного в свалившихся на них бедах, и скоро нашли его в лице Пьеро. Тем временем Савонарола продолжал громыхать с амвона. Являвшийся ему в видениях огненный крест, раскачивающийся над Флоренцией, трансформировался в огненный меч, угрожающий гибелью и проклятием всем, кто не покается.
Пьеро наконец-то решился действовать. Для защиты Флоренции и ее тосканских территорий он призвал наемников и отправил их на север, в помощь гарнизонам оставшихся приграничных замков. Но скоро стало видно, сколь быстро тает число его сторонников в городе, которое и без того-то было невелико, — даже внутри семьи многие откровенно говорили о капитуляции. И вот тут-то Пьеро принял главное в своей жизни решение. По примеру отца, чья мужественная поездка в одиночку в Неаполь спасла Флоренцию пятнадцать лет назад, Пьеро тоже в одиночку отправился на встречу к Карлу VIII, задержавшись только для того, чтобы написать объяснительное послание членам синьории.
Но Пьеро — не Лоренцо Великолепный, ни по характеру, ни по удачливости. А Карл VIII — не впечатлительный Ферранте, которого было так легко потрясти актами героизма. Даже тогда поездка Пьеро рассматривалась, по преимуществу как жест отчаяния, а не мужества. Прибыв в штаб-квартиру Карла в Сарцанелло, он не нашел приема, какой обычно оказывают героям; напротив, его встретило плохо скрываемое презрение. Карл сразу же потребовал права занять портовые города Пизу и Ливорно и оставаться столько, сколько потребуется для окончания «предприятия». Ну а Пьеро, в отличие от отца, который умел показать себя даже в безнадежной ситуации, вел себя как побежденный: к тайному изумлению и удовлетворению Карла, он согласился на все его требования. Как и Лоренцо, Пьеро хотел спасти город, но у него не было способности рассмотреть ситуацию в более широкой перспективе. Карл отчаянно нуждался в обеспечении тылов, что позволило бы ему избежать возможного окружения, а затем спокойно отвести назад войска во Францию. И хотя сил у Пьеро было значительно меньше, поторговаться он мог, козыри у него были, и покажи он характер, вполне сумел бы завоевать уважение короля французов. Они, не исключено, могли бы даже достичь согласия, выгодного для обоих. Но этого не произошло, и поведение Пьеро дорого ему обошлось.
8 ноября 1494 года, после двухнедельного отсутствия, Пьеро вернулся во Флоренцию. Появившись в Палаццо делла Синьория для отчета о результатах своей миссии, он был потрясен встречей: перед ним буквально захлопнули двери. Синьория нашла наконец того, на кого можно возложить вину за собственное бездействие и беспомощность. Переговоры, проведенные Пьеро, были сочтены актом измены, а сам он объявлен предателем. Оснований для таких обвинений было немного, тем более что исходили они от людей, готовых капитулировать, даже не попытавшись поискать иного выхода; но Флоренция была охвачена паникой и истерией, нужен был козел отпущения, и на эту роль назначили Пьеро.
Покуда Пьеро и его вооруженные спутники оставались на площади перед дворцом, не зная, что предпринять, синьория велела звонить в колокола. Глухие звуки, зародившись на колокольной башне, поплыли по городу, сзывая жителей на площадь; но события уже разворачивались своим чередом. Стекавшиеся на площадь люди глумились над Пьеро и его людьми, швыряли в них камнями и отбросами; вскоре они уехали, ища укрытия под сводами палаццо Медичи. Издали, со стороны площади, доносился рев толпы. Синьория вынесла свой вердикт: Пьеро де Медичи и его брат Джованни объявляются предателями отечества.
Девятнадцатилетний кардинал Джованни вернулся из Рима во Флоренцию сразу, как узнал о том, что брат направляется к французскому королю. Сейчас он пытался хоть как-то расшевелить Пьеро, но безуспешно: обескураженный сначала провалом своей миссии, а затем реакцией флорентийцев, тот буквально впал в прострацию. Для него это было слишком сильное испытание. Джованни решил взять дело в свои руки и в сопровождении вооруженного отряда верных Медичи людей выехал в город со знаменитым кличем Медичи: «Palle! Palle!» Но ответом был лишь глухой ропот толпы и ответный клич: народ и свобода! Оставаться на улицах становилось все опаснее, и Джованни со своими людьми поспешил вернуться в палаццо Медичи; массивные двери захлопнулись за ними.
В предрассветные часы 9 ноября 1494 года, под покровом темноты, Пьеро де Медичи вместе с женой и двумя детьми проехал пустынными улицами к воротам Сан-Галло и покинул город. Тем временем кардинал Джованни и последние из оставшихся верными Медичи людей собирали во дворце драгоценности, которые можно было вынести. Затем, говорят, переодетый в монаха-доминиканца, Джованни доставил их в монастырь Сан-Марко. Выбор может удивить, ведь, хотя этот монастырь традиционно оставался цитаделью Медичи (Козимо тоже хранил тут драгоценности перед высылкой из города), приором теперь был Савонарола. Впрочем, некоторые из монахов сохранили, надо полагать, верность Медичи, потому кое-что из спасенных Джованни вещей дошло до нас через позднейшие источники из круга Медичи. Сделав, что мог, Джованни тоже бежал из города, все еще в монашеском одеянии. На следующий день синьория официально обнародовала указ, согласно которому Пьеро де Медичи и его семья изгоняются из Флоренции навечно, и объявила награду в 4000 флоринов за голову Пьеро и 2000 за голову Джованни. Козимо де Медичи предсказывал: «Через пятьдесят лет нас, Медичи, вышлют из Флоренции». Он ошибся — прошло всего тридцать.
17. КОСТРЫ ТЩЕСЛАВИЯ
История сурово судила Пьеро де Медичи, именуемого отныне Пьеро Невезучий. Утверждая, что его неудачи как правителя порождены слабохарактерностью, Пьеро сравнивают с тремя предшественниками, главенствовавшими во Флоренции на протяжении шестидесяти лет, и находят, что ему решительно недоставало хватки политического деятеля и точности в оценке людей. Это несправедливо, потому что такой суд не учитывает благоприятных обстоятельств, выпавших на годы правления Козимо Pater Patriae (Отца Отечества), Пьеро Подагрика и Лоренцо Великолепного, а равно обстоятельств чрезвычайно неблагоприятных, что постоянно преследовали Пьеро Невезучего. Пусть он и лишен был той исключительно сильной воли, что отличала, хотя и по-разному, Козимо и Лоренцо, одним этим его провала не объяснишь. Так, словно и без того мало выпало на его долю несчастий, к ним добавились еще два, да каких. В банке Медичи уже не было денег, чтобы устраивать народные празднества, а также чтобы поддерживать в рабочем состоянии партийную машину Медичи. И это в то время, когда вторжение французских войск безнадежно дестабилизировало политическую ситуацию в Италии. Учитывая особенности политических нравов в Италии XV века, следует признать, что предшествующий период стабильности был счастливым исключением — чудо, что он продолжался так долго. Обладая преимуществом исторического взгляда, мы видим, что хваленая дипломатия Лоренцо Великолепного была в основном направлена на сохранение status quo, ибо даже в лучшие времена мир в Италии оставался зыбким и ненадежным, и, при всем мастерстве этой дипломатии, вряд ли она могла остановить французское вторжение, представлявшее собой во многом ожидаемую катастрофу. Что же касается положения в самой Флоренции, то плохо это или хорошо, но люди как будто просто устали от Медичи. Гордость флорентийцев за свою республику, этот молчаливо признанный и державшийся столь долго коллективный миф, столкнулся с реальностью, порожденной экономическим упадком и громогласными тирадами Савонаролы.
Медичи потеряли опору в городе и были отправлены в ссылку, но в отличие от той, что выпала шестьдесят один год назад на долю Козимо, сейчас такой поворот событий не ожидался. Не было сделано никаких приготовлений, а ведь нынешнее изгнание, судя по всему, должно было быть долгим. Как только Пьеро и его брат кардинал Джованни бежали из города, партийная машина Медичи попросту остановилась, а еще совсем недавно первая флорентийская семья очень скоро стала предметом открытого поношения во всех слоях общества. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, вернувшись из штаб-квартиры французской армии во Флоренцию, Джованни и Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи дошли до того, что приняли новое имя — Пополано, то есть «люди из народа». Из дворцов были выброшены все эмблемы Медичи с изображениями щита и palle, а два дома, где жили люди, находившиеся на службе у Медичи, просто сожгли дотла. Палаццо Медичи на виа Ларга был разграблен, но сжечь его не успели — синьория разместила в нем городское ополчение. Хранившиеся же там сокровища стали предметом официальной инвентаризации, ибо большая коллекция драгоценных камней, собранная Лоренцо, картины, скульптуры и иные, менее поддающиеся переноске ценности, перешли в собственность синьории. Статуя Давида была извлечена из cortile дворца и поставлена на пьедестал на пьяцца делла Синьория. Очередной гонфалоньер и синьория присвоили также 16 000 флоринов наличными из местного отделения банка Медичи, который и без того оказался на грани банкротства и такой удар вряд ли мог вынести. Тем не менее другие отделения каким-то образом удержались или были реанимированы, ибо, как увидим, банк будет продолжать свою деятельность еще по меньшей мере в течение столетия.
Вся эта собственность Медичи была передана городу на том основании, что нажита за счет граждан. В качестве последнего жеста, символизирующего окончательный разрыв с наследием Медичи, синьория отменила приговоры, по которым семьи Содерини и Пацци были изгнаны из города, и пригласила их вернуться.
Тем временам, пока во Флоренции происходили все эти драматические события, больше напоминающие хаос, на территории республики тоже царил беспорядок. Карл VIII вошел в Пизу, этот главный мост, дающий Флоренции выход в море, и объявил ее «свободной от тирании Флоренции», хотя на деле она превратилась просто в территорию, оккупированную Францией. Пьеро де Медичи уже давно согласился с этим, и тогда синьория не посмела бросить вызов Карлу, отменив эту договоренность; теперь же она направила в Пизу четырех посланцев, полномочных заявить протест против оккупации. Одним из этих посланников был Савонарола, высоко поднявшийся в условиях вакуума власти, который образовался с уходом Медичи.
Сомнительный дипломат и переговорщик в лучшие времена, Савонарола должен был в Пизе превзойти самого себя. К ужасу остальных членов делегации, он обратился к Карлу VIII и его придворным с речью поистине мессианской. Еще большей неожиданностью стало его уподобление французского короля бичу Божьему, призванному покарать граждан погрязшей в пороке Флорентийской республики. «Ты пришел, как Служитель самого Всевышнего, — громыхал он, — как символ Божественной справедливости. Мы приветствуем тебя с открытым сердцем и улыбкой на лице». Затем, резко переменив тон, Савонарола заявил, что Небеса могут жестоко покарать даже собственного посланника, если король Франции нанесет каким-либо образом ущерб Флоренции. В сравнении с Пьеро де Медичи Савонарола действовал прямо противоположным образом, и его речи могли иметь тяжелые последствия, прежде всего для него самого: Карлу VIII ничего не стоило отправить на плаху какого-то там выскочившего из-под узды приора. И многие, включая папу, приветствовали бы этот шаг. Но как и в общении с гуманистами, Савонарола знал, кому бросает вызов. Карл VIII разделял средневековую концепцию всеприсутствия Верховной Воли, как знал он и то, что французский король не чужд суеверия. Человек, стоящий перед могучим властителем в грубых башмаках и изношенной рубахе, говорил с убежденностью святого. Казалось, ему ведома Божья воля, он утверждает даже, что его устами вещает сам Бог. Один посланец Бога напоминает другому об ответственности роли, которую ему назначено сыграть свыше. Карл VIII сдержал себя, придворные и люди с оружием в руках застыли в благоговейном молчании, а неумолимый священник круто повернулся на пятках и вышел.
Савонаролу потом сурово осуждали. Многим его поведение казалось безрассудством, граничащим с безумием; но вполне возможно, что, хитроумно используя богобоязненность Карла VIII, сам Савонарола верил в то, что говорит. Другим, напротив, его слова казались актом мужества, подобного тому, которое проявил Лоренцо Великолепный, обращаясь к королю неаполитанскому Ферранте, и которого столь откровенно не хватало его сыну Пьеро. Так или иначе, именно выступление Савонаролы спасло Флоренцию — и людей, и сам город. Можно не сомневаться, что Карл VIII предал бы город разграблению, позволив своим солдатам насиловать и мародерствовать, — пусть это послужит примером всем тем, кто осмелится встать на его пути в Неаполь. Флорентийские культурные ценности, которыми мы любуемся сегодня, были созданы и собраны в большой степени благодаря покровительству Медичи; по иронии судьбы спасителем многих из них стал их главный противник — Джироламо Савонарола.
Ровно через восемь дней после бегства Пьеро, 17 ноября 1494 года, сверкая короной и золотой кольчугой, под балдахином, украшенным лилиями, во Флоренцию въехал Карл VIII, а вместе с ним личная охрана, состоящая из двадцати гвардейцев в рыцарском облачении, и двадцатитысячная армия. С трепетом и изумлением наблюдали горожане за этим, казалось, бесконечным потоком — ряды угрюмых швейцарских гвардейцев со сверкающими алебардами наперевес, четыре тысячи лучников из Бретани, три тысячи конных копьеносцев («цвет французского рыцарства»), пушки на конной тяге, и даже шотландские горцы в юбках и с волынками. По словам очевидца, эти последние «отличались исключительно высоким ростом и напоминали скорее диких животных, нежели людей».
Оккупация Флоренции продлилась одиннадцать дней. Карл VIII занял уцелевшие апартаменты в палаццо Медичи, а его солдаты рассеялись по городу. В большинстве своем флорентийцы от этого вторжения не пострадали, инцидентов было на удивление мало, и погибло лишь десять человек. За несколько дней до отбытия Карл вызвал к себе членов синьории и предложил подписать соглашение. По нему французской армии предоставлялось право занимать, по ее усмотрению, любую крепость, что обеспечивало безопасность продвижения войск. Подтверждалась также законность пребывания французского оккупационного гарнизона в Пизе, которая будет возвращена Флоренции лишь после того, как во Францию вернется вся армия. Помимо того, город обязуется выплатить 150 000 флоринов на военные нужды Франции. Потрясенные магистраты молча выслушали эти унизительные условия (даже те, что были столь покорно приняты Пьеро де Медичи, предусматривали заем в 200 000 флоринов).
25 ноября герольд зачитал проект договора перед собранием граждан Флоренции на пьяцца делла Синьория. Позади него стояли гонфалоньер и члены совета, рядом, под балдахином, на кресле, принесенном из палаццо Медичи, восседал король Франции. Синьория позволила себе внести в договор некоторые изменения, так, к своему удивлению, Карл VIII услышал, что город Флоренция выплатит королю Франции всего 120 000 флоринов. Он вскочил на ноги и прервал чтение — либо в договор будет немедленно внесена первоначальная сумма, либо он прикажет трубачам подать сигнал, и его люди сровняют город с землей.
Случилось так, что должность гонфалоньера занимал тогда некий Пьеро ди Джино Каппони, бывший во времена Лоренцо Великолепного послом Флоренции во Франции. Там он и сдружился с Карлом, в ту пору всего лишь неуклюжим замкнутым подростком. Каппони счел выдвинутые Карлом VIII условия чистым оскорблением и неблагодарностью по отношению к нему лично; теперь уже он в ярости вскочил на ноги, вырвал у герольда из рук свиток и принялся рвать его на части. Историк Гвиччардини, бывший в молодости свидетелем этой сцены, пишет, что Каппони, «не в силах сдержать себя, весь дрожал от гнева». В какой-то момент он повернулся к королю и произнес слова, сделавшиеся впоследствии горделивым присловием флорентийцев: «Если вы затрубите в свои трубы, мы зазвоним в свои колокола». Карл VIII сразу понял, что на колокольный звон откликнется весь город и в кровавых стычках погибнет слишком много его солдат. Он попытался отшутиться, прибегнув к каламбуру, родившемуся, должно быть, когда Каппони был ему при французском дворе как дядя: «Ах, Каппони, Каппони! Да ты и впрямь славный capon (то есть «каплун»)». После чего согласился с изменениями в договоре.
На следующий день Карл VIII со всем своим воинством оставил Флоренцию, отказавшись оплачивать выставленные счета и прихватив с собой трофеев на 6000 флоринов из палаццо Медичи. Город вздохнул с облегчением.
Но одно дело — смелые жесты, другое — реальная действительность. Вскоре стало ясно, что гонфалоньер, как и вся синьория, не способен эффективно управлять Флоренцией: в результате поломки политической машины Медичи в городской администрации образовался вакуум. Некому было определять политику, и для ее проведения осталось всего один-два рабочих органа. В этой обстановке жители Флоренции обратились за руководством к иному источнику. Проповеди Савонаролы, которые он произносил с распятием в руках с кафедры собора, прочно вошли в распорядок дня, на проповеди же воскресные, говорят, собиралось до четырнадцати тысяч людей, после чего паства ручейками вытекала из собора и заполняла все прилегающие площади.
Такого во Флоренции еще не бывало. С ростом влияния Савонаролы власть перестала быть предметом политики, превратившись в диктат духа, население же, уставшее от погони за материальными благами, с готовностью внимало громогласному кличу: «Вы должны изменить свою жизнь!» В конце концов произошла бескровная революция, и, при поддержке синьории, Савонарола принялся вырабатывать новые, более демократические формы правления. В общем, он следовал венецианской модели, которая оказалась чрезвычайно прочной и эффективной — в отличие от модели флорентийской, работающей, парадоксальным образом, только в условиях коррупции, а источником последней были в основном Медичи. Ранее отдельные попытки установления более широких демократических норм оказывались безнадежно неэффективными, ну а способ правления, введенный синьорией под влиянием Савонаролы, и до сих пор признается венцом флорентийской демократии. Была выработана целая реформаторская программа, включающая пересмотр налоговой системы в пользу менее обеспеченных слоев населения; предоставление избирательных прав любому гражданину (старше тридцати лет), принадлежащему семье, один из членов которой когда-либо работал в городской администрации; наконец, широкую политическую амнистию изгнанникам (включая второстепенных представителей фракции Медичи). Такая демократия была для Италии тех лет совершенно уникальной и могла оказаться долговечной, если бы не два критически важных фактора. Первый: у демократической Флоренции стало появляться все больше и больше врагов. Второй: программа самого Савонаролы выходила далеко за пределы демократических реформ.
Заявленная цель последнего состояла в построении «Града Божьего», что приведет к «очищению Италии» от всяческого зла — индивидуального, политического, клерикального. Народ Флоренции давно упивался верой в свою избранность, по крайней мере на территории Италии: Флоренция — это новый Рим. И призывы Савонаролы заново воскресили эту веру. Теперь он проповедовал новый «всеобщий мир», призывая граждан подавать бедным и требуя от церкви пожертвований в виде серебра и золота. Охваченный душевным огнем, он взывал: «О Флоренция, не могу я выразить всего, что накопилось у меня в сердце, ибо вы еще не способны выдержать этого груза». Целые отряды детей, одетых в белое, высылались на улицы города и, распевая гимны, собирали подаяние для бедных; этим «невинным агнцам» следовало отдавать украшения и драгоценности, красивую одежду, зеркала, языческую литературу и идолопоклоннические картины. Воздевая горе руки с распятием, Савонарола призывал с амвона отказываться от всего, что «не является предметом необходимости для жизни».
Тем временем в Италии происходили волнения. Оставив Флоренцию, Карл VIII постепенно приближался к Неаполю, где у себя во дворце его с тревогой ожидал Альфонсо II. Измученный предчувствиями и кошмарами, он, ко всему прочему, начал страдать от галлюцинаций, воображая, что самые камни у него под ногами стенают от страха. В конце концов Альфонсо бежал на Сицилию, где укрылся в монастыре. 22 февраля 1495 года, не встречая сопротивления, Карл VIII вступил в Неаполь и триумфально прошествовал во главе своей армии по городу, под рукоплескания раболепной толпы. Три месяца спустя, сидя на троне с мечом Карла Великого, Карл VIII был торжественно объявлен королем неаполитанским. Все делалось для того, чтобы он чувствовал себя как дома, и вскоре ему действительно настолько здесь понравилось, что он даже отказался от дальнейших претензий на трон Иерусалима. Удовольствиям он предавался почти детским: велел придворным живописцам делать эротические рисунки с изображением своих многочисленных любовниц, затем переплетал их и принимался разглядывать, выбирая одну (или нескольких) на сегодняшний вечер.
Положим, не все в Италии склонили голову перед Карлом VIII и его якобы непобедимой армией. По пути на юг французский король прошел через Папскую область, не встретив сопротивления, но из этого не следует, что папа примирился с вторжением. Лысый и тучный Александр VI уже начинал завоевывать репутацию «Нерона римских пап». Что ж, будучи типичным Борджиа по своей развратности (его даже подозревали в кровосмесительной связи со своей дочерью Лукрецией), он был также Борджиа по своей неукротимой решительности. Используя свое положение главы христианского мира, он обратился к Священной Лиге с призывом выступить против короля Франции и изгнать его из Италии. Император Священной Римской империи Максимилиан I откликнулся благожелательно, Венеция тоже выступила на стороне папы, а Альфонсо II, перебравшийся с Сицилии в свою родную Испанию, убедил последовать их примеру и испанского короля. Вскоре к коалиции присоединился Лодовико Сфорца, клявший теперь себя за то, что в свое время призывал французов в Италию. И только Флоренция оставалась в стороне. Савонарола и слышать ничего дурного не хотел о Карле, которого по-прежнему считал «бичом Божьим», синьория же, со своей стороны, полагала, что в сложившихся обстоятельствах договор, заключенный с Карлом VIII, накладывает на Флоренцию определенные обязательства. Это означало изоляцию города в Италии и торговую зависимость от Франции; впрочем, в этом как раз не было ничего страшного — Франция страна богатая, а ее южное побережье находится всего в ста пятидесяти милях от Генуэзского залива.
Летом 1495 года Карл VIII покинул Неаполь. Перед ним лежала долгая дорога домой, его огромная армия растянулась в горах, таща за собой караваны награбленного. Вместе с ней двигался пестрый обоз, несущий с собой, между прочим, новую таинственную болезнь, известную ныне как сифилис, который французские солдаты подхватили в Италии. Почти наверняка занесли его в Европу моряки, возвращающиеся из Нового Света, открытого три года назад. Ну а одним из первых источников распространения этого калечащего людей неизлечимого недуга как раз и стала армия Карла VIII, откуда происходит первоначальное наименование — «французская болезнь».
Тем временем Священная Лига собрала сильную армию наемников во главе с Гонзаго, маркизом Мантуанским, которая в июле перехватила французов у берегов реки Таро близ Пармы. Развернулось ожесточенное кровавое сражение, которое, впрочем, быстро перешло в побоище — стоило заработать французской артиллерии и начаться конной атаке, как наемники обратились в бегство. Что не помешало маркизу Мантуанскому объявить себя победителем, на том основании, что он отсек от основных сил французов и захватил половину обоза с награбленными французами сокровищами, включая меч Карла Великого. Ну а вторая половина тем временем вступила на опустевшее поле битвы, добивая раненых и занимаясь мародерством.
В надежде подтолкнуть Флоренцию к участию в общем деле, папа Александр VI направил Савонароле сердечное письмо с приглашением приехать в Рим и поделиться своими удивительными видениями и предсказаниями со своим духовным отцом лично. Может, Савонарола и был сама святая невинность, но юродивым он не был и не имел никакого желания добровольно отдавать себя в когти такого человека, как Александр VI. Приор церкви Сан-Марко вежливо поблагодарил папу за письмо, но приглашение отклонил, сославшись на нездоровье.
Месяц проходил за месяцем, и Флоренция все более и более утверждала себя в качестве Града Божьего. Жены и дочери принимали причастие и поступали в женские монастыри, на публике никто не осмеливался появиться в парике или ярком одеянии. Все, кто дорожил своим положением, делали все, чтобы быть замеченными в церкви. Тем не менее вскоре начало бросаться в глаза, что Савонарола вовсе не пользуется безусловной поддержкой всех горожан. Отряды распевающих гимны детей в белом нередко наталкивались в отдаленных от центра районах на преграду в виде угрюмых горожан. Иные уже не хотели отдавать «излишки». Если говорить о видных семьях, то оппозиция Савонароле сосредоточилась вокруг группы людей, называвших себя arrabiati («разгневанные»). Участники этой группы называли последователей Савонаролы capernostri (буквально «качалы», то есть те, кто постоянно качает головой, произнося про себя молитву) и презрительно считали их piagnoni («подлипалы» из рабочего сословия). Правда, последователи Савонаролы не замыкались кругом popolo minuto или мелкими торговцами. Как мы видели, проповеди его производили глубокое впечатление на многих членов синьории, а также таких гуманистов, как Пико делла Мирандола и Полициано, даже Боттичелли. Они всячески внимали призывам Савонаролы «изменить свою жизнь» — как поначалу и большинство флорентийцев. Но многие начинали понимать, что это не так-то легко сделать, если продолжать заниматься повседневными делами, например, торговлей, от которой зависит благополучие города. Представлялось почти невозможным жить жизнью духа, чего требовал Савонарола, и одновременно торговать, зарабатывать себе на пропитание — одно с другим несовместимо.
Начали закрадываться сомнения и относительно поддержки, которую Савонарола оказал Карлу VIII. Тот ведь покидал город с обещанием вернуть все захваченные земли, на деле же принялся распродавать лежавшие по обе стороны границы городки врагам Флоренции. Генуя и Лукка с готовностью заплатили за крепости на севере, а Сиена — за укрепленный замок на юге. Пизе же попросту была предоставлена свобода рук, и она немедленно объявила себя независимой, обратившись за поддержкой к Священной Лиге. Тосканские территории Флоренции остались незащищенными, что весьма неблагоприятным образом сказалось на торговле.
Все это время оппозиция во Флоренции носила в основном скрытый характер, хотя случались во время проповедей Савонаролы шумные вспышки недовольства и даже были предприняты две топорные попытки покушения на его жизнь. Тем временем «разгневанные» направили в Рим посольство к папе с просьбой вмешаться в ситуацию. В 1496 году Александр VI откликнулся на эту просьбу — так, как умел лучше всего: попытался подкупить Савонаролу, суля ему красную кардинальскую шапку, на что тот надменно ответил, что если уж ему и нужна шапка, то только «красная от крови». Иные уловили в этом намек на мученичество. Действительно ли Савонароле являлся в его видениях такой конец? Или он хотел накликать такую судьбу? Или, скажем, постепенно приходил к пониманию того, что иного исхода не дано — только такой может даровать святость и посмертное продолжение дела. Как бы то ни было, такого рода мысли должны были посещать Савонаролу, и чем дальше, тем настойчивее.
В начале Великого поста 1497 года он прочитал свою знаменитую проповедь «Костры тщеславия». Отряды «невинных агнцев», на сей раз в сопровождении вооруженной охраны, были разосланы по всему городу для сбора всех, елико возможно, «излишеств», каковые затем сложили в виде большой пирамиды на пьяцца делла Синьория. В основании пирамиды лежали парики, фальшивые бороды, румяна, духи и всякого рода безделушки. За ними — кипы «языческих книг»: работы древнегреческих философов, поэмы Овидия, стихи Боккаччо и Петрарки, произведения Цицерона и Полициано. Далее — рисунки, бюсты и картины «непристойного» содержания (включая несколько работ Боттичелли). Еще выше — музыкальные инструменты: лютни, альты, флейты. Следующий слой — скульптуры и картины с изображением обнаженных женщин, и, наконец, на самом верху — изваяния античных богов и героев греческих мифов. Венчало же всю пирамиду — монструозное чучело Сатаны с козлиными копытами, острыми ушами и бородкой, — по одному из рассказов, Сатане было придано сходство с одним венецианским перекупщиком, предлагавшим 22 000 флоринов за все эти произведения искусства. К счастью для себя, этот перекупщик оказался где-то в другом месте, но предложенная цена свидетельствует о ценности «излишеств», ведь даже во времена Лоренцо де Медичи мало кто из художников получал за заказ хоть сотую долю названной суммы.
Во вторник на Масленой неделе, при полном сборе членов синьории, подожгли костер. По мере того как языки дыма и пламени от пирамиды шестьдесят футов высотой и почти сто шириной поднимались все выше и выше, толпа запела: «Те Deum laudamus» («Тебя, Господи, славим...») и другие латинские псалмы.
Флоренция того времени представляла собой город, расколотый надвое, город, в котором, по словам современника — торговца шелком Луки Ландуччи, — отношение к Савонароле, за или против, «развело по разные стороны отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер». Однако то, что могло стать трагедией, начинало выглядеть фарсом. Вскоре после окончания Великого поста до Флоренции дошел слух, будто Пьеро де Медичи получил в Риме благословение папы и теперь направляется к родному городу во главе полуторатысячного отряда наемников. Воодушевленный сведениями о расколе в городе, а также известием, что новым гонфалоньером стал Бернардо де Неро, тайный приверженец Медичи, Пьеро решил, что час его пробил — можно возвращать власть. Но он самым печальным образом просчитался: даже среди противников Савонаролы было немного тех, кто хотел возвращения к режиму Медичи с его многочисленными ограничениями гражданских свобод. Бернардо де Неро чутко уловил настроения граждан и просто не открыл ворота перед Пьеро и его людьми. Тогда тот стал лагерем неподалеку в ожидании начала народных волнений, которые, как он убеждал всех вокруг, неизбежны. Но наемники решили, что ждать больше нечего, и вернулись в Рим.
Пьеро не смог пережить унижения и по возвращении в Рим предался самому разгульному образу жизни. Вот как его описывает один их близких некогда Пьеро людей. Подъем — не ранее полудня. Затем — долгий завтрак, сопровождаемый обильными возлияниями. Снова спальня в сопровождении проститутки женского или мужского пола — в зависимости от настроения. Утолив плотские желания, Пьеро садился за карточную игру с приятелями, которая продолжалась дотемна, после чего вся компания отправлялась в шумный поход по разного рода сомнительным питейным заведениям и борделям, возвращаясь домой со всеми следами бурной ночи уже с восходом солнца, когда добрые люди идут на работу.
Пьеро Невезучий встретил свой конец шесть лет спустя, в 1503 году, весьма характерным для себя образом: лодка, на которой пересекал реку Гарильано, перевернулась, и Пьеро утонул. Таким образом, главой пребывающей в изгнании семьи Медичи стал двадцативосьмилетний кардинал Джованни.
В июне 1497 года папа Александр VI выпустил буллу, отлучающую Савонаролу от церкви, но никто из папских курьеров не осмелился войти в город, чтобы передать ее по адресу. Савонарола игнорировал отлучение и продолжал проповедовать, как прежде. Многие были до глубины души возмущены видом отлученного доминиканского священника, служащего мессу в соборе, и по крайней мере однажды среди верующих вспыхнул стихийный бунт, с последующим затем покушением на жизнь Савонаролы, столь же неумелым, как и предыдущие. Члены синьории вознегодовали настолько, что, в свою очередь, запретили Савонароле проповедовать.
Город был охвачен волнениями. Флоренция объявила Пизе войну, попытавшись вернуть себе город силой оружия, но эта попытка обернулась дорогостоящей неудачей. Городская казна опустела, а когда летом случился неурожай, стало не хватать продовольствия. Вскоре поползли слухи о голодных смертях; говорили также, что двое людей умерли от чумы в прибрежном городском районе Огниссанти. На детей, расхаживающих с гимнами по улицам Флоренции, смотрели теперь как на шпионов, выискивающих проявления ереси, а также как на разносчиков инфекции. Перед их лицами захлопывали двери, а охранников забрасывали из окон верхних этажей всякой гнилью, а то и кое-чем похуже.
К началу 1498 года атмосфера в городе накалилась до предела. Приору-доминиканцу бросили вызов францисканцы, сохранявшие верность папе. Они потребовали, чтобы Савонарола доказал наличие особых отношений с Богом, пройдя испытание огнем — вместе с одним из их братьев-францисканцев. Если Савонарола ступит босыми ногами в горящий костер и не обожжется, это послужит доказательством его богоизбранности. И тогда у него будет полное право править городом. Если же он не выдержит испытания — отправится в изгнание. И вновь синьория пришла в ярость: что за средневековая дикость, это позор для такого культурного города, как Флоренция. С тем же успехом можно потребовать от Савонаролы, чтобы он перешел Арно. Но францисканцев было не смутить, и они, как сказано, выбрали для участия в испытании монаха из своих рядов. Однако же Савонарола отверг предложение, и тогда его вызвался заменить один из его наиболее преданных учеников, фра Доменико да Пешиа.
В назначенный день на пьяцца делла Синьория во всю ширину разложили и подожгли дорожку из сухостоя. На балкон неохотно вышли члены синьории, площадь заполнила толпа, а из окон близлежащих домов вытягивали шею любопытствующие. Участники готовились к началу, которое задерживалось из-за того, что стороны не могли договориться, должно ли соперникам нести в руках деревянные распятия — а что, как они сгорят, это будет святотатство. Но тут, в самый разгар жаркого теологического спора, разверзлись небеса, и хлынувший дождь залил огонь. Роковое испытание обернулось фарсом, зрители недовольно разбрелись по домам.
События достигли кульминации на следующий день, пришедшийся на Вербное воскресенье. Один из учеников Савонаролы попробовал отслужить праздничную мессу, но был согнан с кафедры разъяренной толпой. Вместе с единомышленниками он пустился наутек и забаррикадировался в монастыре Сан-Марко, в то время как преследователи теснились снаружи. На протяжении дня толпа, окружающая Сан-Марко, становилась все более и более многочисленной и агрессивной. Вожаки требовали, чтобы запершиеся в соборе выдали им Савонаролу, находящегося, как им известно, внутри; далее «разгневанные» подтащили какие-то метательные машины и веревочные лестницы. Савонарола, действительно находившийся в монастыре, велел монахам воздерживаться от насилия, но действия это не возымело: орудуя подсвечниками и тяжелыми распятиями, священство пыталось сбросить нападающих с веревочных лестниц. Один разъяренный монах-немец принялся палить по толпе из аркебузы, что только подогрело нападающих. С наступлением темноты стычки не прекратились, напротив, становились все более жестокими, пока наконец в два часа ночи толпа не подожгла монастырских дверей и не хлынула внутрь. Савонаролу обнаружили в своей кельей молящимся. Вооруженные люди схватили его, выволокли наружу и препроводили через разгоряченную, выкрикивающую проклятия толпу в Палаццо делла Синьория, где он был заперт в башенном помещении Альбергетто. Ровно шестьдесят лет прошло с тех пор, как здесь же оказался Козимо де Медичи. Тогда это событие знаменовало начало золотого века, пришедшего ныне к такому печальному концу.
На следующий день Савонарола был переведен в зловещую тюрьму Барджелло; самостоятельно идти он, будучи закован в кандалы, не мог, и его «на скрещенных руках несли двое мужчин». В Барджелло Савонарола был немедленно подвергнут самой страшной из известных во Флоренции пыток, известной по имени strappado. Жертве завязывают за спиной запястья и привязывают к ним веревку, другой конец которой прикрепляется к вороту; затем поднимают над полом так, чтобы весь вес тела приходился на связанные руки. После чего веревку освобождают, и жертва почти падает на пол. Боль ужасная, руки выворачиваются из суставов.
После четырех таких strappado Савонарола обессилел и признался в ереси, в которой его обвиняли. Но стоило снять с него веревки и поставить на ноги, как он тут же отказался от признаний. Тогда его вновь подвергли той же пытке, и вновь, и вновь, до тех пор, пока он не сдался окончательно. После чего его, вместе с двумя учениками, в том числе с верным фра Доменико, который всегда был готов умереть за учителя, приговорили к смерти.
Поскольку Савонарола был священником, формально его мог судить и осудить только церковный суд, так что властям Флоренции пришлось обратиться в Рим с просьбой вынести свой вердикт. Папа Александр VI решил, что хоть и поздно, но следует заявить о своих правах, и настоял на том, чтобы Савонаролу судили его представители. С этой целью — для судопроизводства — во Флоренцию были направлены два папских посланца, хотя один из них впоследствии признавался, что в «город они явились с готовым приговором». Савонаролу вновь подвергли пытке и вновь вынесли приговор — вместе с двумя учениками он будет повешен на цепях, привязанных к решетке Палаццо делла Синьория; после чего их трупы предадут огню. Казнь свершилась утром 23 мая 1498 года, на том самом месте, где год назад Савонарола развел свой костер тщеславия. По словам свидетеля этой сцены Ландуччи, «после того как все трое были повешены, палачи подожгли рассыпанный на платформе порох, так чтобы раздался как можно более оглушительный треск. Тела горели несколько часов, потом начали отваливаться руки и ноги. Но частично трупы остались висеть на цепи, в них стали швырять камнями, пока наконец они не упали на землю, и люди, их поднимавшие, были явно напуганы». Потом останки предали огню, превратив в пепел кости, и «на подъехавших дрогах увезли на Арно и сбросили в воду с Понте Веккьо, так чтобы и золы не осталось. Тем не менее кое-кто из сохранивших веру добрых людей тайком, в страхе, выловил из воды немного пепла — хоть этого-то человеческая жизнь заслуживает; ну а власти надо было уничтожить все, стереть любые следы». И это было не последний раз, когда Флоренция услышала о Граде Божьем.
ЧАСТЬ IV. ПАПА И ПРОТЕСТАНТ
18. ILGIGANTE- МОНУМЕНТ БИБЛЕЙСКИХ ПРОПОРЦИЙ
В смутные дни, предшествующие бегству Пьеро де Медичи из Флоренции, одному приятелю молодого Микеланджело привиделся страшный сон. Сон «приятеля» был настолько ярок, что уже в старости Микеланджело пересказал его своему давнему собеседнику и первому биографу Асканио Кондиви: «Перед ним возник в рубище, едва прикрывающем наготу, Лоренцо де Медичи и велел передать своему сыну, что его скоро вышвырнут из дома и уже никогда он туда не вернется». Почти наверняка сон приснился самому Микеланджело, что, между прочим, лишний раз подчеркивает его близость к Лоренцо де Медичи (кое-кто утверждает даже, что нагота Лоренцо содержит в себе намеки гомосексуального свойства). Не прошло и недели после этого сновидения, как девятнадцатилетний скульптор (даже еще до того, как Пьеро отправился в изгнание) бежал из города — в страхе перед тем, что казалось ему неизбежным, а также опасаясь, что его тесные взаимоотношения с Медичи грозят ему личной бедой.
Микеланджело остановился в Риме, где банкир Якопо Галли заказал ему статую Вакха, греческого бога вина и наслаждений. Микеланджело создал замечательный психологический портрет — «смеющееся лицо, прищуренные похотливые глаза, как у тех, кто по-настоящему влюблен в вино» (Кондиви). Вакх Микеланджело — юноша с чашей вина в руках и округлым животом — впивается в гроздь винограда, он как бы покачивается, и сбоку его поддерживает тщедушный молодой сатир.
На удивление, эта нечестивая скульптура побудила французского кардинала Сен-Дени, жившего тогда в Риме, заказать Микеланджело работу высокого сакрального содержания, и тот создал свой первый настоящий шедевр. Это «Пьета» — изображение Девы Марии, с распростертым на ее коленях почти обнаженным Христом сразу после снятия с креста. Работа датируется 1500 годом и отличается таким техническим совершенством, что трудно поверить — ее создал двадцатипятилетний художник. Проблема изображения двух отдельных фигур, высеченных из одного куска мрамора, решена путем контраста между гладкой кожей Христа и пышными складками платья Марии. Ее умиротворенное и вместе с тем страдающее лицо отличается безусловной живостью, в то время как застывшее мертвое лицо Христа все еще несет на себе следы мучений при распятии. Микеланджело передает ощущение покоя, вызывая одновременно глубокое душевное потрясение.
Не все были в восторге от этой работы, допустим, тот же Кондиви задавался вопросом, отчего Мария выглядит не старше Христа. Микеланджело парировал: «Разве вы не знаете, что целомудренные женщины легче сопротивляются возрасту, чем нецеломудренные?» Другой современник, Джорджо Вазари, в своей содержательной книге «Жизнь Микеланджело» намекает на менее очевидные источники этого несоответствия. «Дикция Микеланджело, — пишет он, — отличалась невнятностью и двусмысленностью, в каком-то смысле его речь всегда раздваивалась», и это, мол, в равной степени относится к его скульптурным работам. Вазари поясняет, что глубоко прочувствованный образ сравнительно раннего материнства Марии источником своим имеет то обстоятельство, что и мать художника, и его няня умерли молодыми. Как увидим, личные особенности душевного склада Микеланджело действительно сильнейшим образом воздействовали на его творчество.
К тому времени, как Микеланджело вернулся во Флоренцию — а случилось это в 1500 году, — Савонарола был уже два года, как мертв, а город пребывал в жалком состоянии; некогда столица сильного государства, он сильно утратил свое влияние, а жители погрузились в нищету. Командующий вооруженными силами Флоренции Паоло Вителли вел войну против Пизы настолько бездарно, что синьория выместила все свое недовольство именно на нем: Вителли был обвинен в измене, арестован, подвергнут пытке и казнен. Люди были недовольны, и это приводило к уличным беспорядкам. Наверное, наиболее выразительным образом свидетельствует о переменах вид Боттичелли: теперь, когда давно позади остались славные дни с их яркими, исполненными символической глубины картинами, когда в прошлое отошло даже отречение от мирских удовольствий и преклонение перед Савонаролой, он ковылял на костылях по улицам города, в прохудившемся плаще, постаревший, больной и ни на что не способный.
Власть оказалась бессильной, политика менялась каждые два месяца, с приходом очередного гонфалоньера. В попытке остановить эти метания было решено еще раз последовать примеру Венеции: отныне гонфалоньер будет избираться пожизненно, как венецианский дож. Это обеспечит проведение хоть сколько-нибудь последовательной политики — каковой, по иронии судьбы, во Флоренции не было со времен Медичи. Первым гонфалоньером, избранным по новым правилам, стал Пьеро Содерини, выходец из влиятельной флорентийской семьи, к которой принадлежал Никколо Содерини, пытавшийся некогда сместить Пьеро Подагрика, а впоследствии Томмазо Содерини — правая рука Лоренцо Великолепного.
Пьеро Содерини был известен как человек надежный, но не чрезмерно способный, а Флоренция устала как раз от людей, мнящих себя вождями. Все же одна необычная черта у него была: Содерини приметил талант Микеланджело и сразу проникся симпатией к этому многообещающему, хоть и с трудным характером, молодому человеку. Содерини мудро решил заказать ему такую скульптурную работу, которая возродит гражданскую гордость Флоренции.
В мастерской собора Санта-Мария дель Фьоре хранился большой цельный кусок белого мрамора, привезенный в город лет сорок назад из Каррары, на тосканском побережье, где, по общему мнению, залегали пласты лучшего в Европе мрамора. Несколько лет назад какой-то неумелый ремесленник, замыслив создать неизвестно какую скульптуру, начал обтесывать этот кусок, но потом работу бросил, оставив восемнадцатифутовый кусок мрамора в состоянии весьма непрезентабельном. Вот из него-то Содерини и предложил Микеланджело высечь большую фигуру Давида — как символ республиканских доблестей Флоренции. Лишь художник с большими амбициями и верой в себя — а тем и другим двадцатишестилетний Микеланджело был отнюдь не обделен — мог бесстрашно взяться за такую работу.
Он начал с эскизов, на одном из которых написал строчки, бросающие свет на задуманное:
Davicte cholla fromba
Е io choll'archo
Michelangelo.
(Давид со своей пращой,
И я со своим лучком,
Микеланджело.)
Под лучком разумеется изогнутый деревянный инструмент для обработки камня; сами же строки выражают горделивый замысел Микеланджело: он уподобляет себя идущему на битву Давиду.
Вскоре Микеланджело уже целиком погрузился в работу, дни и ночи проводя в уединении соборной мастерской. В изнурительную летнюю жару он трудился, раздевшись до пояса, и пот заливал ему глаза; морозной зимой — закутывался до подбородка, походя на мумию, и пар изо рта затуманивал контуры окружающего. При всех колоссальных затратах энергии, которых требовала эта работа, Микеланджело, как обычно, жил очень экономно. Годы спустя он скажет Кондиви: «Сколько бы я ни зарабатывал, жил всегда как бедняк». Помимо того, Микеланджело неизменно работал тайно, у него даже своего рода фобия была: нельзя показывать произведение до его окончательного завершения.
Работа над скульптурой заняла у Микеланджело долгих восемнадцать месяцев, и получилась фигура вдвое больше человеческого роста. Это был подвиг даже со стороны чисто физических усилий; ну а как произведение искусства получилось нечто поистине возвышенное. В своей классической наготе и строгости скульптура насыщена мощной жизненной силой; свободная материальность «Вакха» помещена в оболочку чистой духовности «Пьеты». В итоге получилось глубоко гуманистическое, великолепное прославление живой человечности, но в то же самое время есть в «Давиде» и нечто трансцендентное, нечто от идеала, близкого к идеальности Платона. Скульптура наделена свойством, все более и более проявляющемся в творчестве Микеланджело; итальянцы нашли для него точное слово — terribilita, то есть нечто приводящее в трепет, внушающее почти благоговейный страх.
По одному из свидетельств, первоначально статую предполагалось установить на крыше собора, в конце концов, это библейская фигура — Давид, прославленный победитель Голиафа (хотя многие представители республиканской партии могли бы увидеть в поверженном Голиафе не кого-то, а изгнанного из города Медичи). Вероятно, это предполагаемое местоположение отчасти объясняет масштабы, придающие монументу такое величие: его должно было быть видно издали. Но с другой стороны, эта неприкрытая бесстыдная нагота вряд ли уместна в христианской церкви, даже во времена Ренессанса, так что, в конце концов, скульптуру решили установить на постаменте перед Палаццо делла Синьория. И это место, с видом на площадь, где собирались граждане, чтобы высказаться по поводу будущности своего города, было действительно наилучшим; к тому же, как ни удивительно, на фоне фасада и дворцовой башни размеры статуи, вообще заставляющие чувствовать себя карликом, приближаются к обычным человеческим измерениям.
Иное дело, что установить ее оказалось делом нелегким. Прежде всего, только для того, чтобы вынести скульптуру наружу, следовало разобрать стену мастерской. Далее, скульптуру требовалось поднять — прежде с такими тяжестями дела не имели. Вазари описывает, как, завернутую в саван, ее поместили внутрь прочного деревянного остова, «из которого ее можно извлечь на веревках, так чтобы, раскачиваясь, она не упала и не разлетелась на куски». Приспособление это передвигалось при помощи нескольких лебедок, к которым было приставлено более сорока человек, медленно тащивших его по специально положенному на булыжник настилу. Как утверждает Ландуччи, наблюдавший за происходящим вместе с большой толпой любопытствующих, операция растянулась на четыре дня (а отделен собор от площади всего четвертью мили).
Перед тем как снять полотно, Содерини потребовал показать скульптуру ему лично. Согласно легенде, излагаемой Вазари, работа заказчику пришлась весьма по душе, и все же от одного замечания он не удержался — нос ему показался слишком длинным. Микеланджело вспыхнул, но раздражение сдержал и, не говоря ни слова, поднялся на леса, держа в одной руки резец, а другой незаметно сгребая с настила мраморную пыль. Став так, чтобы за спиной было не видно, чем он занят, Микеланджело прикинулся, будто обрабатывает нос, меж тем как с ладони его медленной струйкой стекала мраморная пыль. Затем он повернулся, отступил и окликнул Содерини: «Ну а теперь как?» «Так лучше, — ответил Содерини. — Жизни больше».
Быль это или легенда, но фактом остается то, что эта история ясно указывает на перемены, возникшие с приходом Ренессанса: веру в независимость художника в вопросах, касающихся его собственного творчества. В прежние годы, когда, например, Донателло сбросил статую с парапета дворца Медичи, это представлялось капризом; теперь, во времена Микеланджело, такое поведение стало утверждением права художника на самовыражение. И как всегда, в авангарде оказалось искусство; другие аспекты нового гуманизма стесняла сама вербальная форма. Когда Пико делла Мирандола подробно сформулировал принципы своей гуманистической философии, его обвинили в ереси. У индивида по-прежнему оставалось немного свободы действия, а уж тем более — слова; лишь в живописи и науке (тоже связанным условностями, но не в такой и к тому же все уменьшающейся степени) можно было позволить себе известную свободу.
Это не значит, что художник и его произведения были вне критики, отнюдь нет, и в этом смысле «Давид» Микеланджело вовсе не представлял собой исключения. Во Флоренции статую называли И Gigante (Гигант), но отчего, хотелось бы понять, она на самом деле такая огромная, ведь гигант-то не Давид, а как раз его соперник Голиаф? Многие считали, что скульптура на самом деле — это образ множества античных героев. В ней легко увидеть Геркулеса или даже юного Самсона, а о том, что перед нами библейский Давид, свидетельствует разве что праща, перекинутая через левое плечо (первоначально и до сих пор это единственная прикрытая часть тела, хотя при публичном представлении статуи синьория настояла на том, чтобы укрыть еще и срамное место, что было сделано при помощи обрамления из двадцати восьми медных листьев, продолжавших украшать статую на протяжении ближайших тридцати лет). Трудно отрицать, что библейский Давид как таковой действительно играл для Микеланджело второстепенную роль, а главным было продемонстрировать собственные безграничные возможности. В последующих работах скульптора эта особенность стала проявлять себя все более откровенно, по мере того как едва ли не безупречная завершенность «Давида» начала уступать место маньеризму. Работы Микеланджело узнаешь с первого взгляда; да и маньеризм угадывается уже в «Давиде». Руки удлинены, подчеркнута их сила, что добавляет мощи и всей фигуре; при ближайшем рассмотрении выясняется, что укрупнена и шея вместе с чертами лица (может, в замечании Содерини содержалось зерно истины?). Эти искажения оправданы тем, что зритель смотрит на статую снизу, что смещает действительные пропорции. Микеланджело стремился к тому, чтобы статуя выглядела как можно более крупной, просто сделать ее еще крупнее было невозможно физически; как указывает Кондиви, Микеланджело высчитал размеры мраморной глыбы «с такой точностью, что и на самом верху статуи, и у основания до сих пор видна старая необработанная поверхность».
Завершив свой шедевр, Микеланджело с печалью ощутил себя в том же положении, что и Давид, оказавшийся лицом к лицу с Голиафом. В 1504 году городские власти заказали ему большую батальную фреску для Палаццо делла Синьория — Микеланджело предстояло расписать стену, непосредственно примыкающую к той, что некогда расписал его главный враг Леонардо да Винчи. Обе росписи были призваны запечатлеть военные триумфы Флоренции, дабы стереть саму память о недавних несчастьях, хотя граждане города быстро сообразили, что дело не только в этом. Им открылась картина решающей схватки между пятидесятидвухлетним маэстро и юным, почти вдвое моложе его, только набирающим силу гением. Так кто же выйдет победителем в этом сражении между двумя величайшими флорентийскими художниками? Победа, как и поражение, останутся на века — свидетелями того и другого будут все новые и новые поколения.
Многим казалось, что соревновательный элемент принижает великое искусство, но это не так. В данном случае Флоренция просто следовала примеру Древней Греции, где в эллинских конкурсах участвовали величайшие поэты своего времени — Эсхил, Софокл, Еврипид. Флорентийскому же конкурсу предстояло оказать глубокое воздействие на Микеланджело. Хоть в будущем он и не уставал повторять в разговорах с Кондиви, что является самоучкой, влияние Леонардо весьма заметно в его работах раннего периода. Подобно любому участнику соревнования, жаждущему победы, Микеланджело внимательно присматривался к своему сопернику и учился у него тонкости поэтической экспрессии, которой не хватает «Давиду». К сожалению, само состязание, в общем, не состоялось: оба художника оставили лишь этюды будущей картины. Быть может, Леонардо пошел дальше и набросал на стене общий вид сцены, но, весьма характерным для себя образом, так и не довел работу до конца; что же касается Микеланджело, то до отъезда в Рим он успел нанести лишь несколько штрихов задуманной работы.
В 1503 году в возрасте семидесяти двух лет умер папа Александр VI. При всей своей откровенно беспутной жизни, физическую крепость он сохранял до конца, так что многие даже высказывали подозрение, будто его отравили. Сын Александра Чезаре Борджиа делал все от него зависящее, чтобы папский престол не занял его злейший враг Франческо Пикколомини, даже Ватикан захватил, но и это не помогло: под именем Пия III тот стал очередным главой католической церкви. Однако через месяц нового папы не стало. Физически он был слаб, все ждали, что он долго не протянет, тем не менее скоротечность его понтификата дала новую пищу для спекуляций о яде. Пия III сменил Юлий II, куда более энергичный соперник Борджиа, явно уделявший большое внимание своей диете. Микеланджело был ему известен, особенно сильное впечатление на нового папу произвела «Пьета», и он не замедлил пригласить художника в Рим для работы над исключительно крупным проектом — планом мавзолея, включающим в себя не менее сорока больших скульптурных изображений.
19. НОВЫЙ ДОМ МЕДИЧИ
Рим, в который в 1505 году вернулся Микеланджело, уже перехватил у Флоренции пальму первенства в утверждении идеалов Ренессанса. Это был существенный сдвиг, и его лишь частично можно объяснить упадком, который переживала Флоренция все эти тринадцать лет, что прошли после смерти Лоренцо де Медичи.
Всего столетие назад Рим был едва ли не средневековым городком с запущенными улочками, вьющимися между древними руинами, которые ничего не говорили современным жителям. Скажем, они вполне искренне считали, что величественные останки акведука Клавдия с его стофутовыми сводами, простирающегося больше чем на сорок миль к югу от Рима, использовались когда-то лишь для доставки растительного масла из Неаполя. Зимними ночами с холмов сбегались волки, воя посреди покосившихся, погруженных во тьму хижин, а старинные аристократические семьи и кардиналы запирались в своих домах, ведя образ жизни, который за их пределами понять было трудно. Правда, за этими запертыми дверями хватало богатств, чтобы привлечь внимание процветающего племени банкиров. Именно здесь Джованни де Биччи и Козимо де Медичи проходили свои коммерческие университеты в самом начале XV века.
Хотя формально Рим оставался под папской юрисдикцией, сами понтифики (иногда их было несколько) в XIV веке предпочитали жить в Авиньоне или где-нибудь еще. Как мы видели, ситуация оставалась неопределенной до собора в Констанце (1414—1418), и лишь в 1420 году новый, всеми признанный папа Мартин V переехал из Флоренции в Рим, где отныне будет находиться официальная папская резиденция. Мартин V поселился на берегу Тибра, в замке Сан-Анджело, представлявшем собой изначально мавзолей императора Адриана (построен в 135 году до новой эры). Наследующие Мартину V понтифики принялись шаг за шагом наводить порядок среди совершенно распустившегося населения, и поговаривали, что со временем на зубчатых стенах Сан-Анджело начало болтаться столько повешенных преступников, что исходящая от разлагающихся трупов вонь не позволяла пользоваться мостом через Тибр. Многие из наиболее влиятельных кардиналов, переехавших вслед за папой в Рим, начали возводить себе дворцы, чем дальше, тем пышнее, нередко используя для строительства глыбы, варварски извлеченные из древних развалин. Семь холмов, на которых стоял древний город, давно покрылись виноградниками и садами, а на месте Форума все еще щипали траву коровы и козы; по традиции, сохранившейся с античных времен, промышленности в Риме не было. Благополучие города зависело теперь от пилигримов и туристов; на место разбойников и головорезов прежних времен пришли монахи в рубище и торговцы поддельной стариной, расставлявшие свои прилавки вдоль тех улиц, что пошире, — последние, в свою очередь, вытесняли лабиринты средневековых кварталов. Правда, все эти перемены в городском пейзаже происходили постепенно: в пору, когда в Риме жил — а было это в пятидесятые годы XV века — современник Козимо де Медичи поэт и философ Леон Альберти, он насчитал в городе более тысячи разрушенных церквей.
Победу Рима над Флоренцией в борьбе за право считаться центром итальянской культуры обычно связывают с завершением в 1498 году строительства великолепного, в ренессансном стиле, дворца (Cancelleria) кардинала Раффаэля Риарио, на которое хватило ночной — всего-навсего — выручки от игорного бизнеса. Население восставшего из пепла города, где изгнанник Пьеро де Медичи провел свои последние несчастные годы, за минувшее столетие удвоилось, достигнув пятидесяти тысяч — столько же жило и во Флоренции. Но за внешним блеском скрывалась, как всегда, повседневность. В многочисленных борделях, каждый из которых должен был платить налоги, оседавшие в папских сундуках, трудились семь тысяч проституток. Эти дома и их насельницы обслуживали местное священство и многочисленных визитеров из Европы (в результате чего «французская болезнь» начала достигать тех стран, где раньше была неведома). Ну а местный преступный мир, не уступающий по численности приезжим, всячески освобождал горожан от лишних денег — а то и хуже. Несмотря на борьбу за восстановление общественного порядка в городе, статистика убийств выглядела устрашающе — около ста в неделю; многих убийц ловили, однако только бедняки болтались на стенах Сан-Анджело. Как тонко заметил папа Александр VI, «Господь заинтересован не столько в смерти грешников, сколько в том, чтобы они могли платить за грехи и жить дальше».
Таков был город, в котором предстояло осесть второму сыну Лоренцо Великолепного, изгнанному из Флоренции кардиналу Джованни де Медичи. Упитанный, неглупый, но редкостно ленивый ребенок — воспитанник Полициано — вполне усвоил гедонистическую философию своего наставника и, несмотря на все усилия отца, не отступил от нее даже после того, как на него официально надели кардинальскую шапку. Молодой кардинал Джованни де Медичи исполнял роль, к которой его вполне могли подготовить несколько поколений назад. Козимо де Медичи понимал, что в один прекрасный день Флоренция устанет от Медичи, но позаботился о том, чтобы семью не забыли после того, как ее представители отправятся в изгнание: потому-то и строил дома и церкви. Но Козимо не сталкивался с вопросом, что в действительности может случиться с Медичи, если (или когда) они подвергнутся изгнанию; над этим пришлось задуматься его сыну Пьеро Подагрику и внуку Лоренцо Великолепному. Флоренция перестала быть их цитаделью, а с упадком банка Медичи они и на деньги — как на источник власти — не могли долее полагаться; в этих обстоятельствах оставалось лишь попытаться расширить зону влияния, отправиться в большой мир.
Было принято критически важное решение: отныне, вместо того чтобы служить церкви в качестве ее банкиров, Медичи будут проникать внутрь, припадая таким образом к намного более мощному источнику власти и богатства. Никаких письменных свидетельств не осталось, но из всего следует, что те разговоры, что вел на смертном одре отец со своим сыном и наследником, касались и этого предполагаемого стратегического сдвига.
Лоренцо де Медичи пытался заполучить красную кардинальскую шапку для своего любимого брата Джулиано, но папа Сикст IV настолько увлекся раздачей влиятельных постов своим родственникам, что ему было не до того. После убийства Джулиано в ходе заговора Пацци Лоренцо начал связывать надежды со своим младшим сыном Джованни, в ком быстро распознал самого способного из своих наследников. Пусть Пьеро красив, пусть у него внушительный вид, но Джованни наделен мозгами; а что касается его близорукости, полноты и лени, то Лоренцо заметил, что это не мешает ему быть ровней физически более развитому брату, скажем, в конном выезде.
В 1484 году Сикста IV сменил на папском престоле более сговорчивый Иннокентий VIII, и Лоренцо ухватился за открывшиеся возможности. С самого начала он совершенно беззастенчиво искал поводов сблизиться с Иннокентием, слал ему сердечные письма, а следом за ними — бочонки с его любимым тосканским вином. Отчасти это был, конечно, элемент миротворческой политики Лоренцо («стрелка итальянского компаса»): пока удавалось сохранять в неприкосновенности ось Милан—Флоренция-Неаполь и поддерживать дружеские отношения с папой, мир в Италии был обеспечен. В 1488 году отношения сделались еще теснее: Лоренцо выдал дочь Маддалену замуж за сына папы Франческетто. А еще раньше, много лет назад, он позаботился о том, чтобы выбрить у Джованни — еще в восьмилетнем возрасте — тонзуру, в знак его будущего церковного служения. Вскоре Лоренцо начал получать для сына щедрые бенефиции, особенно во Франции, где это было сделать проще, чем где бы то ни было (в этом можно также усматривать первые свидетельства существования тайного, рассчитанного на долгую перспективу плана участия семейства Медичи во французских делах, хотя полного осуществления этот замысел достигнет лишь в следующем столетии).
Лионскому отделению банка было поручено прочесать местность в поисках подходящих «вакансий»: такие должности держались in absentia и означали немалые деньги, а также определенное положение в церковной иерархии. Впрочем, и тут время от времени случались проколы, например, когда Лоренцо начал операцию по назначению Джованни архиепископом Экс-ан-Прованса, выяснилось, что нынешний архиепископ хоть и стар, но жив! Все это стоило денег, и можно не сомневаться, что немалая их часть поступала из флорентийской казны. Сами о том не подозревая, граждане инвестировали в будущее семьи Медичи, которое может быть и не связано с городом. В ту пору у Лоренцо уже не было иных источников финансирования, ибо банк Медичи стремительно шел ко дну, вынужденный ликвидировать одно за другим свои отделения: в Милане (1478), Брюгге (1480), Венеции (1481).
В1489 году Лоренцо удалось уговорить Иннокентия VIII сделать своего тринадцатилетнего сына Джованни кардиналом. Даже в те либеральные времена это был шаг беспрецедентный, настолько, что папа заставил Лоренцо дать обещание держать назначение в тайне до тех пор, пока сын не достигнет шестнадцати лет, когда его можно будет ввести в сан официально. Последовало три тревожных года; Иннокентий был стар и болен, и если он умрет до срока, новый папа наверняка аннулирует его решение. Потом стало ясно, что очень плох и сам Лоренцо. Тем не менее весной 1492 года Джованни достиг наконец совершеннолетия, и прикованный к носилкам, умирающий Лоренцо с гордостью наблюдал с балкона палаццо Медичи, как собравшиеся гости отмечают торжество сына.
Сразу вслед за тем шестнадцатилетний кардинал Медичи отправился в Рим для получения назначения. Со смертного одра Лоренцо напутствовал сына письмом, в котором говорилось о серьезности его нового положения. Это назначение, говорилось в нем, — «самый большой успех нашего дома», и теперь, обладая столь значительными возможностями, молодой Джованни «без труда сможет содействовать процветанию нашего города и нашего дома». Лоренцо советовал сыну быть поближе к папе, но не докучать ему чрезмерно и вообще вести себя достойно. Он хорошо знал характер сына: выросший в кругу блестящих людей, окружавших отца, Джованни до времени выработал вкус к изыску — изысканным книгам, изысканным картинам, изысканному вину, изысканным блюдам. И дело было не просто в раннем развитии — общение с выдающимися друзьями отца способствовало тому, что Джованни научился не только наслаждаться, но и по-настоящему ценить подобного рода вещи — пусть отчасти и за счет религиозных идеалов. В предсмертном письме сыну Лоренцо подчеркивал со всей определенностью: «Есть одно правило, которому ты должен следовать неукоснительно: Вставай как можно раньше».
Должно быть, у Лоренцо было предчувствие, что процветание семьи находится отныне в руках яркого, хотя и не особо энергичного Джованни, перебравшегося в Рим, а не надменного щеголя Пьеро, которому предстояло занять место отца во Флоренции, хотя, конечно, он не предполагал, что катастрофа разразится так быстро. Через несколько месяцев после его смерти ушел и папа Иннокентий VIII, которому наследовал новый понтифик из семейства Борджиа, Александр VI, что заставило чуткого, при всей молодости, кардинала Медичи заметить: «Теперь мы попали в когти волка». Затем в Италию вошел Карл VIII, и кардинал Медичи поспешил во Флоренцию в надежде оказать поддержку брату, но тщетно. Оба были отправлены в изгнание — только такой ценой удалось сохранить жизнь.
Восемнадцатилетний кардинал Медичи понял, что в Рим возвращаться не следует, и отправился странствовать по Европе. Контролируя множество приходов, включая прославленное (и необыкновенно богатое) аббатство Монтекассино, он мог себе позволить такую роскошь. Прежде всего Джованни направился в Пизу, повидаться с кузеном Джулио, незаконнорожденным сыном любимого брата Лоренцо Джулиано, — ребенок родился буквально за несколько недель до убийства отца во флорентийском соборе. Еще младенцем Лоренцо взял Джулио в палаццо Медичи, где тот воспитывался с его собственными сыновьями. Подобно Джованни, Джулио готовили к церковному служению. Тихий Джулио и задумчивый, лукавый Джованни тесно сблизились, у них было одинаково развито чувство юмора, оба были влюблены в знание и красоту. Сейчас Джулио заканчивал университет в Пизе. Существовал он давно, со средневековых времен, но новую жизнь в него вдохнул Лоренцо Великолепный, переведя сюда большинство факультетов флорентийского университета, — таким образом он рассчитывал укрепить пошатнувшиеся отношения между двумя городами.
Ненадолго задержавшись в Пизе, Джованни, в сопровождении Джулио, отбыл в Венецию, а оттуда, через Альпы, в Северную Европу, по которой братья странствовали в течение пяти ближайших лет, — скорее в качестве частных лиц, чем представителей церкви, ведя себя как обыкновенные, разве что состоятельные молодые холостяки, путешествующие по памятным местам Европы. Правда, до известной степени это была маска, — им хотелось, чтобы именно так; их воспринимали. Между тем в действительности разъезжали они по городам и весям не просто ради удовольствия; скажем, отправляясь с визитом к императору Священной Римской империи Максимилиану I, братья озаботились тем, чтобы предстать перед ним в полном церковном облачении, и произвели столь благоприятное впечатление, что он снабдил их рекомендательным письмом к своему сыну Филиппу, бывшему тогда губернатором Нидерландов. Кардинал Медичи и его юный кузен обзаводились знакомствами, которые могли им пригодиться в будущем.
Несколько позже они встретились с кардиналом Джулиано делла Ровере, обязанным своими многочисленными должностями — а был он не только кардиналом, но и архиепископом и главой по меньшей мере восьми епископатов — папе Сиксту IV, своему дяде, чей непотизм вошел в поговорку. Подобно ему, кардинал делла Ровере вырос на Лигурийском побережье, близ Генуи, и отличался грубостью манер и решительностью поступков; человек физически крепкий и большой женолюб, он успел подхватить в Риме сифилис. Времени на занятия наукой у него практически не было, и вообще он считал, что кардиналу следует быть подкованным скорее в военном деле, нежели в теологии. Любил он также охотиться и выставлять напоказ свое богатство. Такой человек явно представлял в глазах папы Александра VI опасность, и кардинал делла Ровере почел за благо убраться из Рима, пока его не отравили или не сделали чего-то еще. Двадцатилетний кардинал Медичи посетил кардинала делла Ровере в его поместье в Савоне, на берегу Генуэзского залива, и вскоре оба принялись сетовать на горькую судьбу, заставившую их покинуть Рим. По ходу разговора выяснилось, что оба — хотя каждый на свой манер — были влюблены в красоту. Потом они отправились на охоту, и пожилой кардинал почему-то удивился тому, что кардинал молодой лучше его владеет искусством верховой езды.
Когда в 1495 году Александр VI скрестил шпаги с Савонаролой, кардинал Медичи из тактических соображений вернулся в Рим, где папа оказал ему — как врагу своего врага — радушный прием. Кардинал Медичи осел в Риме, постепенно приобретая репутацию умного и радушного хозяина, охотно оказывающего гостеприимство художникам, ученым-гуманитариям, видным клирикам. Он всячески старался пробудить волю к жизни у своего впавшего в полную меланхолию брата, Пьеро Невезучего, участвовал в составлении планов возвращения Медичи во Флоренцию. После смерти Пьеро (1503) кардинал Медичи сделался главой семьи и продолжал тайно укреплять связи с приверженцами во Флоренции. В том же году ушел из жизни и папа Александр VI. Кардинал Медичи участвовал в конклаве, избиравшем нового понтифика, Пия III, и получил возможность непосредственно наблюдать за партийными склоками и фракционным барышничеством. Когда со смертью Пия III, последовавшей буквально через несколько месяцев после избрания, был созван новый конклав, кардинал Медичи уже приобрел кое-какой опыт и изо всех сил старался, чтобы все заметили, сколь решительно он поддерживает кардинала делла Ровере, претендующего на высший сан в церковной иерархии. Избрание состоялось, новый папа взял имя Юлия И, и вскоре стало ясно, что властный, но стареющий понтифик рассматривает кардинала Медичи как нечто вроде своего протеже. Когда слухи о возрастающем влиянии Медичи достигли Флоренции, встречены они были там с некоторой настороженностью, и многие принялись гадать, чего именно семья добивается на сей раз.
20. МАКИАВЕЛЛИ НАХОДИТ СЕБЕ РОВНЮ
В годы правления Пьеро Содерини Флоренция постепенно усваивала республиканский стиль ведения дел — именно стиль, но не форму, ибо, за вычетом гонфалоньера, которого теперь избирали пожизненно, все прежние институты власти изменений, в общем, не претерпели. По традиционной системе избирались синьория и комитеты, как и раньше, входили в них исключительно представители семейств, выходцы из которых уже занимали административные посты (всего их было примерно три тысячи человек). Но главное заключалось в том, что ведущие семьи либо могущественные кланы вроде Медичи уже не могли манипулировать голосами. Сами же эти кланы более или менее поддерживали баланс сил и вынуждены были просто бороться за должности. Такому положению способствовало постоянное присутствие Содерини на государственной сцене, и хотя политического опыта у него было немного, ума и прозорливости хватало, чтобы подобрать себе нужных советников. Одним из самых одаренных в их кругу оказался Никколо Макиавелли — темноглазый молодой человек с большими амбициями. Это был небесталанный сочинитель, известный в кругу друзей своим острым насмешливым умом, в будущем блестящий дипломат и ведущий член комитета обороны.
Никколо Макиавелли родился в 1469 году и вырос в славные дни Лоренцо Великолепного. Его отец был обедневшим адвокатом, представителем почтенной флорентийской семьи со старыми корнями, которая особенно преуспевала столетие назад, во времена банковского расцвета Флоренции, конец которому положила Черная Смерть. Мать Никколо умерла еще в его отрочестве, но, кажется, успела оказать немалое воздействие на формирование сына; другим важнейшим источником этого формирования стало знание. Макиавелли были слишком бедны, чтобы позволить себе дать сыну правильное гуманитарное образование, так что он самостоятельно изучал латынь и впитывал в себя основы аристотелевской философии в ее средневековом духе, который все еще господствовал в Европе XV века, не исключая и Флоренции. Лишь позже друзья открыли ему римских поэтов, риторов и историков, оказывавших столь вдохновляющее воздействие на флорентийскую молодежь. Именно благодаря им Макиавелли узнал, что некогда Италия являлась центром великой империи, управлявшей всем подлунным миром. Контраст с нынешней ситуацией, когда города-государства втянуты в междоусобные распри, а на их территории бесчинствуют иноземные армии, был слишком очевиден.
Правда, в то же самое время Италия переживала тектонические культурные сдвиги, и чувствовалось это все сильнее: вскоре войдет в оборот само это слово — Rinascimento (Возрождение). И по мере того как эти сдвиги захватывали все большую и большую часть Европы, становилось ясно, что она вступает в новую эру. Это отнюдь не клише и не взгляд издали — признаки перемен ощущались повсеместно уже тогда, они четко прослеживаются в самых разнообразных и сразу же получавших широкое хождение сочинениях, от трактатов Пико делла Мирандола до работ голландского ученого начала XVI века Эразма Роттердамского. Распространение книгопечатания означало, что даже относительно бедный молодой человек вроде Макиавелли мог позволить себе приобрести произведения любимых авторов в какой-нибудь книжной лавке, каких во Флоренции было теперь немало. Известно, что в домашней библиотеке Макиавелли имелись сочинения Тацита, описывавшего жизнь таких страшных властителей, как Нерон и Калигула. Среди поэтов он выделял Лукреция, в чьей недавно обнаруженной большой философской поэме «О природе вещей» описывается происхождение мира и прослеживается во всей ее наготе подлинность удела человеческого. Мысль Лукреция, будто жизнь человека определяется, с одной стороны, различными особенностями его собственной природы, а с другой — случайностью, должна была производить глубокое впечатление. Сколь бы сильно ни верил Макиавелли в Бога изначально, вера эта пошатнулась еще в юные годы, и теперь до конца жизни он будет ходить в церковь по праздникам просто потому, что так положено. И в этом смысле он не составит исключения в кругу своих друзей-интеллектуалов.
Гуманистический мир, породивший Ренессанс в искусствах и давший толчок наукам в их взгляде на мир, испытывал теперь воздействие событий, выходящих далеко за пределы интеллектуальных штудий.
Португалец Бартоломео Диаш обогнул мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан; в год смерти Лоренцо де Медичи Колумб пересек Атлантику и проложил путь в Новый Свет, сокровища которого, хлынув в Испанию, превратили ее в самую процветающую страну Европы. Положим, Колумб был генуэзцем, но состоял-то он на службе у испанской короны, и вообще сравнительно с большинством наций Италия получила от новых географических открытый совсем немного. Среди массы испанских, португальских, английских и голландских названий, которыми богат Новый Свет, итальянские представляют собой едва ли не исключение: Колумбия, Америка, Венесуэла («маленькая Венеция»), ну и еще несколько. Да и то, открытые итальянскими путешественниками, земли эти не стали колониями Италии.
Тем временем с вторжением французских армий с севера итальянские междоусобицы вступили в новую, весьма острую фазу. Ситуация осложнялась еще и тем, что с юга надвигались испанские войска. В общем, войны раздирали теперь на части всю Италию. Макиавелли рос в атмосфере политических бурь, шумевших как над всей страной, так и дома, во Флоренции. Ему было девять, когда ее потряс заговор Пацци; в двадцатипятилетнем возрасте он стал свидетелем возвышения Савонаролы, изгнания Пьеро Невезучего, унизительного для флорентийцев триумфа Карла VIII, вошедшего во главе своей армии в их родной город.
Об этом раннем отрезке жизни Макиавелли известно немного; из тени он вышел лишь в 1498 году, когда, ровно через месяц после казни Савонаролы, был избран секретарем Второй канцелярии. Двадцатидевятилетний Макиавелли предстает фигурой весьма заурядной: худой, с темными глазами-пуговками, черными волосами, маленькой головой, орлиным носом и неизменно поджатыми губами. Его биограф Паскуале Виллари отмечает, что «все в нем выдавало цепкий, наблюдательный ум, хотя, по виду, такой человек вряд ли мог оказывать влияние на других». Виллари подчеркивает также свойственные Макиавелли «саркастическое выражение», «холодную загадочную расчетливость», «мощное воображение». В общем, личность, верно, несимпатичная. И тем не менее Макиавелли, несомненно, пользовался популярностью среди своих друзей-интеллектуалов, а Пьеро Содерини ставил его особенно высоко. Должность секретаря Второй канцелярии означала, что Макиавелли отныне ведает административным управлением территорий, лежащих за пределами Флоренции. В дальнейшем он станет секретарем комитета обороны, то есть как бы министром иностранных дел Флорентийской республики. В этом качестве он пребудет ближайшие четырнадцать лет, отдавая все силы проведению политики Содерини.
За эти годы Макиавелли много ездил по Европе, побывал, в частности, во Франции и Германии. Главной его задачей было укрепление союзнических связей Флоренции на постоянно меняющейся политической арене Италии и за ее пределами; естественно поэтому, что ему приходилось встречаться с ведущими политическими деятелями Европы, включая недавно взошедшего на французский престол Людовика XII, императора Священной Римской империи Максимилиана I, нового папу Юлия II. Давая себе отдохновение от многотрудных дипломатических миссий, Макиавелли писал друзьям во Флоренцию, красочно и во всех подробностях пересказывая смешные любовные эпизоды, случавшиеся с ним во время долгих поездок по Европе. Макиавелли женился в 1501 году, тридцати двух лет от роду, и его брак был вполне типичен по времени и месту, а когда он разъезжал с дипломатическими поручениями по свету, жена оставалась дома, занимаясь детьми (всего их родится четверо). Ну а письма друзьям продолжали приходить, и подробности любовных похождений не оскудевали, ибо, несмотря на заурядную внешность, женщины вроде находили его весьма интересным господином.
В характере Макиавелли бросается в глаза некое странное противоречие. С одной стороны, он по-настоящему восхищался большими людьми, с которыми его сталкивала судьба, и, более того, во многих отношениях стремился стать вровень с ними, по крайней мере интеллектуально. С другой — испытывал потребность предстать перед друзьями в смешном виде. Иное дело, что, восхищаясь большими людьми, Макиавелли остро подмечал их недостатки, а склонность к шутке никогда не проявлялась публично. С появлением Макиавелли гуманизм заметно выходит за пределы избранного круга палаццо Медичи и иных домов, где собираются богатые и привилегированные. Острый, сардонический ум Макиавелли не служил ни одному из элитарных кланов, а выводы, к которым подталкивала его незаурядная наблюдательность, отличались сдержанным прагматизмом. Открыто Макиавелли не превозносил никого из славных и богатых. Политический опыт учил его пониманию механизмов взаимоотношений с людьми и миром. Он научился предпочитать реализм идеализму — с опорой, что вообще свойственно гуманистическому миросозерцанию, на мастерство и науку. Но поле его деятельности — не искусство, а действительность. Как гуманист Макиавелли больше доверял человеческим инстинктам и суждениям, основанным на опыте, нежели идеалистическим и религиозным принципам — в этом смысле он был прямым наследником гуманистического учения, как его осуществлял на практике Лоренцо Великолепный. Но если гуманизм Лоренцо отличался широтой и щедростью, то Макиавелли предпочитал расчет, при том что оба исходили из идеи самоценности человеческой жизни и ответственности человека, лишь в малой степени апеллируя — или не апеллируя вообще — к жизни трансцендентальной. Лоренцо пришел к осознанию того, что все возможно и все достойно хотя бы попытки осуществления. Макиавелли истолковывал эту посылку так: если возможно все, то все и дозволено — чтобы выжить, следует принять во внимание всю полноту человеческого характера, особенно его склонность к измене. В конечном итоге торжествует победу не благородный жест, а холодный расчет. По мере того как Макиавелли все ближе узнавал дипломатическую сцену с ее постоянным обманом и интригами, справиться с которыми не удавалось, взгляды его ужесточались. У других могли опуститься руки от безнадежности; Макиавелли искал выхода из положения. Если Италии суждено вернуть себе былое величие — величие времен Римской империи, — то ей прежде всего нужен лидер, готовый быть абсолютно безжалостным, лидер, который не остановится перед самыми крайними средствами достижения цели.
Был человек, который отвечал этим требованиям больше других, — Чезаре Борджиа. Макиавелли предстояло встретиться с ним дважды. В 1502 году, когда он нанес свой первый визит в Рим, Борджиа был главным военным советником своего отца, папы Александра VI. Выработав верную стратегию и опираясь на хорошо обученное и дисциплинированное войско, Борджиа расширял папские владения в Романье.
Незаконный второй сын того, кому предстояло стать папой Александром VI, Чезаре Борджиа родился в Риме в 1475 году. Несмотря на итальянские корни, его семейная жизнь была по духу своему чисто испанской. Это был славный, привлекательный на вид, чрезвычайно развитой мальчик, унаследовавший, однако, полный имморализм и безжалостность своего родителя, который готовил его к высокому положению в церкви. Вскоре, однако, стало ясно, что к этой миссии он готов еще меньше, чем его нечестивый отец, но тот стоял на своем, и в шестнадцать лет Чезаре стал архиепископом Валенсийским, а еще год спустя — кардиналом. Старшего брата Чезаре Хуана отец предполагал поставить во главе папских вооруженных сил, но Чезаре решил взять дело в свои руки и отравил Хуана. Будучи реалистом, Александр VI решил, что сейчас Чезаре — единственный, кому он может доверить командование своими силами, и разрешил сыну отречься от церковного сана. Затем он устроил его брак с одной из французских принцесс, в результате чего Чезаре Борджиа получил от Людовика XII титул герцога де Валентинуа. Теперь, заручившись союзничеством и военной поддержкой французов, можно было начинать военные операции в Романье.
В 1502 году, по прошествии трех лет успешных боевых действий, Чезаре Борджиа расширил границы Папской области вплоть до Адриатического побережья, и в знак его заслуг Александр VI сделал сына герцогом Романским.
Когда Чезаре повернул назад, в глубь полуострова, и взял Урбино, располагающийся на границе Флорентийской республики, Макиавелли был направлен к нему на предмет выяснения дальнейших намерений. Детали этого свидания нам известны из писем, которые Макиавелли направлял флорентийским властям. Двадцатисемилетний Борджиа принял делегацию из Флоренции ночью, при ярком пламени факелов, освещающих великолепный герцогский дворец (построенной тридцать лет назад отставным кондотьером Федериго да Монтефельтро). Бородатое лицо Борджиа, по которому нервно перебегали огоньки от мерцающих во тьме факелов, должно было привести визитеров в содрогание, и если замысел хозяина действительно был таков, то следует признать, что он вполне удался. Начал Борджиа с обманчивой любезности, заявив, сколь высоко он ценит тот нейтралитет, который соблюдала Флоренция во время его боевых действий. Но если сейчас город по какой-либо причине откажется от дружбы с ним, он, Чезаре Борджиа, — и тут в его голосе зазвучали стальные ноты, — без колебаний перейдет границу и восстановит власть семейства Медичи, глава которого кардинал Джованни является другом его отца-понтифика. Флорентийские делегаты заверили, что Флоренция ни в коей мере не покушается на территории, захваченные Борджиа. Но этого ему было мало. Он заявил, что ему не нравится республиканский стиль правления, и если флорентийцы не сменят его сами, он сделает это за них. Гости стояли на своем: народ Флоренции, смело бросили они, вполне удовлетворен республиканской властью, и в этих вопросах только его голос имеет значение. Борджиа рассмеялся им в лицо. Хватаясь за последнюю соломинку, дипломаты напомнили Борджиа, что город все еще состоит в союзнических отношениях с Францией и в случае нападения на Флоренцию договор о дружбе обязывает Людовика XII прийти на помощь. И вновь Чезаре лишь рассмеялся: «Я лучше вашего знаю, что сделает король Франции. Вас обманут». Флорентийцы отлично понимали, что Чезаре говорит правду, но и глазом не моргнули. К тому же понимали они и другое: Чезаре тоже блефует, ни за что он не пойдет на риск конфликта с Людовиком XII. Наутро Макиавелли во весь опор поскакал во Флоренцию доложить синьории о складывающейся ситуации. По его оценке, Борджиа воздержится от наступления, хотя, имея в виду его характер, ни в чем нельзя быть уверенным.
К счастью, Чезаре отвлекли иные, более неотложные дела: ему стало известно, что несколько высших офицеров во главе с Вителоццо Вителли подняли бунт и увели своих солдат. Это поставило Борджиа в сложное положение, и он немедленно залез в папскую казну и нанял французов. Тут уже задумались Вителли и другие заговорщики. Они предложили Борджиа встретиться и решить все разногласия миром, на что тот с готовностью согласился.
Тут-то как раз Макиавелли и отправился на свое второе свидание с Чезаре Борджиа, которое в итоге растянулось на несколько месяцев. Именно в это время последний и продемонстрировал все свои возможности. Борджиа предложил Вителли встретиться в городке Сенигаллия на Адриатическом побережье и в качестве жеста доброй воли, долженствующего убедить мятежного командира в своих мирных намерениях, распустил свои французские войска и появился в сопровождении всего нескольких охранников. Борджиа приветствовал Вителли и его спутников «широкой улыбкой... как старых друзей». А сам между делом ловко оттеснил их от солдат и, не медля ни минуты, бросил в темницу, где той же ночью «под рыдания и мольбы о милосердии» пленники, «наперебой обвинявшие друг друга», были по его приказу задушены.
Этот инцидент оказался важным для Макиавелли, он пишет о нем в своем трактате, озаглавленном «Предательство герцога Валентинуа по отношению к Вителли и другим», а впоследствии приведет в качестве образца в шедевре политической философии, принадлежащей перу автора, — «Государь». В обоих случаях Макиавелли не столько приводит пример того, как надо вести политику, сколько описывает механизмы того, что сегодня мы называли бы реальной политикой.
Только не надо путать реальную политику с реальностью, Макиавелли, во всяком случае, их не путает. Он был художником, верящим в мастерское воплощение своих идей. Что бы там Макиавелли в своих отчетах ни писал, сегодня нам известно, что французов, дабы успокоить Вителли, Борджиа вовсе не распускал, более того, они внезапно появились на месте действия, поставив его в весьма затруднительное положение: оставалось только блефовать. Макиавелли со спутниками сопровождали Борджиа на роковое свидание в Сенигаллии, и в своем первоначальном отчете он красноречиво описывает, как появление французов «заставило людей Борджиа буквально на уши становиться». Точно так же рыдания и взаимные упреки жертв — позднейший плод фантазии: изначально об этом ничего не говорится. Замысел Макиавелли состоял в том, чтобы возвысить личность Борджиа, не превратить того, в ком он видел живого носителя своих идей, в обыкновенного паникера и обманщика. Впрочем, даже не так: Борджиа был интересен Макиавелли не сам по себе, главное — метод. Налицо — наука действия, свободного от морали. Это совершенно новая наука — наука политики. Что Макиавелли искал и что он опишет в «Государе», так это формальный метод, который способен объединить щедрые жесты Лоренцо Великолепного и безжалостность Чезаре Борджиа. Это будет наука, которая трансформирует подобную щедрость, подобный блеф, подобный оппортунизм и подобную жесткость в некий набор процедур, применимых в тех или иных обстоятельствах. Успешная политика — это наука, и морали в ней места нет.
Судьба распорядилась так, что во время этой своей второй дипломатической миссии к Борджиа Макиавелли познакомился и сдружился с его главным военным инженером, который был также, по мнению многих, крупнейшим ученым своего времени. Науки в современном смысле тогда еще не было, и ученым оказался художник — Леонардо да Винчи. Вот еще один человек, разрываемый противоречиями; может, это и привлекло к нему Макиавелли. Война была для Леонардо воплощенным ужасом, а в то же время он часами просиживал в кабинете над чертежами военных машин, далеко опережающих свое время. Леонардо ненавидел тиранию и в то же время не видел ничего зазорного в том, чтобы выполнять заказы тиранов, таких как Лодовико Сфорца, а теперь вот Чезаре Борджиа.
Встреча Макиавелли и Леонардо — это встреча двух людей, которые на заре науки выражали веру в эмпирический метод. Леонардо пристально вглядывался в окружающий его мир и пытался понять, как он устроен; Макиавелли на свой, политический, лад был занят в точности тем же самым. В то же время их встреча символизирует дальнейшее развитие самого духа гуманизма — до той точки, в которой он раздваивается: гуманизм, питавший ранее живопись, поэзию и философию, захватывает теперь обширные пласты реальной действительности — политику и зарождающуюся науку.
По возвращении Макиавелли во Флоренцию Содерини предложил ему возглавить комитет по обороне и разработать государственную военную стратегию, пребывающую ныне в полном расстройстве. В 1494 году восстала Пиза, фактически отрезав Флоренцию от моря; последовавшая затем осада города ни к чему не привела, главным образом оттого, что наемники не желали подвергать себя опасности. Макиавелли предложил отказаться от их услуг и создать собственную регулярную армию. Это была революционная идея — до сих пор ни в одном из итальянских городов профессионального, полностью обученного ополчения не было. Содерини предложение принял, и по прошествии недолгого времени Макиавелли уже муштровал людей в новых алых мундирах, с белыми шапочками и в жилетах, а также в носках с красно-белыми полосами: армия — гордость Флоренции и одета должна быть соответствующим образом.
На должность военного инженера Макиавелли пригласил Леонардо да Винчи, и тот сразу же выдвинул оригинальное предложение, как взять верх над Пизой. Если отвернуть русло Арно, так чтобы река обтекала город, можно одним ударом убить двух больших зайцев: Флоренция получит прямой выход в море, а Пиза останется буквально без воды. Макиавелли, которого всегда привлекали решительные действия, был в полном восторге. Увы, замысел Леонардо пострадал от того же самого рокового дефекта, который не дал осуществиться столь многим из его идей, — он опередил свое время, уровень тогдашней технологии просто не позволял решить такую задачу. В результате все обернулось фарсом: сотня солдат в заляпанных мундирах, по колено в грязи, принялась копать широкую траншею. Содерини быстро положил конец этому дорогостоящему предприятию, а Леонардо было предложено поискать иное место для приложения своих талантов. К счастью, у этой истории был хороший конец: под напором нового ополчения Пиза пала. Это был величайший триумф ее создателя, и Макиавелли получил из Флоренции известие, что в честь его важнейшей победы в городе будет устроен фейерверк. «Вы в одиночку восстановили честь Флорентийской республики», — писал один из друзей и почитателей Никколо Макиавелли.
Но в конце концов, поток истории, которую, каждый на свой лад, стремились подчинить себе и Макиавелли, и Чезаре Борджиа, смыл обоих. В 1503 году, получив известие о болезни папы Александра VI, Борджиа поспешил в Рим. После смерти отца он захватил Ватикан и попытался взять власть в свои руки, но не сумел предотвратить проведение выборов нового папы. Правда, Пий III назначил Борджиа «гонфалоньером папских вооруженных сил», что фактически гарантировало ему контроль над завоеванными ранее территориями. Помимо того, хоть и его самого свалила серьезная болезнь, Чезаре Борджиа оставался герцогом Романским, причем не просто по имени. Но не прошло и нескольких месяцев, как Пия III сменил на папском престоле Юлий II — заклятый враг семейства Борджиа. Положение Чезаре казалось безнадежным, но тут, совершенно неожиданно, Юлий, напротив, упрочил его позиции, направив на подавление антипапских сил, поднявших бунт в Романье. А затем, с мастерством, достойным самого Борджиа, арестовал его; ценой свободы была передача всех романских городов в прямое подчинение папе. Потеряв опору, лишившись сильных союзников, Борджиа был вынужден бежать из Италии и три года спустя умер в Испании.
В «Государе» Макиавелли объясняет этот резкий поворот судьбы болезнью Борджиа, которая и лишила его беспощадной решимости. «Ему ни в коем случае не следовало допускать, чтобы Ватикан достался одному из тех кардиналов, которых он унижал, либо тому, у кого имелись основания его бояться, ибо люди наносят удар то ли из страха, то ли из ненависти». Начав в духе Макиавелли, Юлий II и продолжал точно таким же образом. Прежде всего он вступил в союз с французами, чтобы изгнать венецианцев с папских территорий, которые они заняли после бегства Борджиа. В согласии со своими взглядами на то, как следует вести себя церковнику, Юлий II возглавил военный поход лично, настояв при этом, чтобы его сопровождали все двадцать четыре кардинала. Картина получилась довольно жалкая и комичная: преклонных лет, тучные кардиналы, вскоре оказались в обозе папской армии. И лишь юный кардинал Джованни де Медичи оказался на высоте: близорукий и тоже не худощавый, он тем не менее знал, как и чем воодушевить воинство, — папа Юлий был весьма доволен.
Решив с помощью французов венецианскую проблему, папа далее обнаружил свои истинные замыслы, состоявшие в том, чтобы избавить Италию от «захватчиков-варваров» (то есть как раз от французов). Юлий VII созвал очередное заседание Священной Лиги с участием Неаполя, Священной Римской империи и поставленной на свое место Венеции. Флоренция, по-прежнему сохраняющая союзнические отношения с Францией, благоразумно воздержалась. Узнав о таком коварстве, Людовик XII настолько рассвирепел, что потребовал созвать конклав французских кардиналов с целью смещения папы. Провести его король Франции решил в Пизе, что немало напугало Флоренцию.
Папа Юлий II истолковал флорентийский нейтралитет как предательство интересов Италии и Священной Лиги и поклялся, что город дорого заплатит за такое поведение. Но сначала ему надо было завершить дела с французами, которые все еще удерживали Болонью и большую часть Ломбардии. Папа направил туда армию, состоящую как из итальянских, так и мощных испанских соединений, поставив во главе ее кардинала Медичи. Папское воинство состояло не менее чем из трех тысяч конников и двадцати тысяч пехотинцев. Своему верному молодому кардиналу Юлий II пообещал, что в случае достижения успеха он вернется во Флоренцию в качестве правителя города.
В пасхальную субботу 1512 года мощная французская армия, состоявшая из двадцати четырех тысяч пехотинцев и четырех тысяч лучников, под командой юного лихого генерала Гастона де Фуа заняла позиции на плоской местности невдалеке от Равенны, у берега Ронко. Напротив нее, повинуясь звучным командам знаменосцев, выстроились итальянцы и испанцы. Перед строем, на белом жеребце, одетый в свою красную кардинальскую мантию, появился кардинал де Медичи и обратился к солдатам с речью. Звенящим от напряжения голосом он призвал их мужественно сражаться за папу и молить Бога о славной победе над чужеземцами (интересно, как восприняли эти слова испанские слушатели?). Сопровождаемые горделивым взглядом своего командующего, солдаты храбро пошли в наступление, хотя, по словам историка тех лет Гвиччардини, «близорукость мешала кардиналу Медичи наблюдать наиболее острые схватки».
Обе армии обладали мощной артиллерией, и в первые же минуты сражения пехоту с обеих сторон начал косить град ядер. Итог оказался одним из самых кровавых в истории европейских войн: погибло десять с половиной тысяч французов и еще больше испанцев и итальянцев. Это позволило первым объявить себя победителями, и когда новости достигли Флоренции, облегченно вздохнувшие граждане устроили на улицах города грандиозный фейерверк.
По окончании сражения кардинал Медичи спешился и начал обходить павших, стараясь ободрить раненых и умирающих. Больше им помочь было нечем: фельдшеров не было, и лишь закатные лучи весеннего дня скользили по телам стонущих, вскрикивающих и мертвых — им повезло больше. Даже Гастону де Фуа, агонизирующему в своей белой тунике, заляпанной серым мозговым веществом, подле лошади, некому было оказать медицинскую помощь. Можно представить себе переживания кардинала Медичи — кажется, впервые в жизни ему пришлось выполнять роль, к которой обязывал его духовный сан; хотя проще, пожалуй, вообразить другое — чувства, которые он испытывал, когда появившиеся французы взяли его в плен.
Несмотря на «победу», последние решили вернуться назад и двинулись в сторону Альп; цели своей кардинал Медичи, таким образом, достиг, только по иронии судьбы ему пришлось последовать за «победителями» — за такого пленника можно получить щедрый выкуп. Но когда речь идет о Джованни де Медичи, всегда можно ждать чего-то необычного. Как ни поразительно, ему удалось бежать: натянув чей-то чужой, не по размеру, мундир, он ухитрился ускользнуть от своих стражей, а затем и преследователей, говорят, укрывшись в голубятне.
По возвращении в штаб-квартиру папской армии кардинал Медичи получил сообщение от Юлия II: он может направляться в Тоскану и объявить себя правителем города Флоренция. Желая избежать кровопролития, кардинал Медичи загодя снесся с Содерини, призывая того капитулировать. Содерини отказался — предварительно, правда, созвав парламент и посоветовавшись с гражданами города. Теперь в его распоряжении имелось созданное усилиями Макиавелли девятитысячное ополчение; потрепанная же армия кардинала Медичи по численности была примерно вдвое слабее.
Макиавелли принялся готовиться к обороне города. Кардинал Медичи тем временем приблизился к городку Прато, расположенному милях в десяти к северо-западу от Флоренции. К несчастью, услышав о приближении испанцев, внушавших повсеместный страх, ополчение Прато побросало оружие и разбежалось. Рвущиеся в бой испанцы ворвались в город, не встретив сопротивления, и последовала ужасающая сцена: в течение двух дней испанские солдаты грабили, насиловали, убивали и жгли. По свидетельству очевидца, «монахини женского монастыря, в который ворвались захватчики, понуждались к совокуплению, иногда самым извращенным образом. Матери сбрасывали своих дочерей с городских стен и прыгали следом за ними...» Солдаты явно вышли из повиновения своему начальнику, который делал все возможное, чтобы хоть как-то смягчить положение; посреди всеобщего смятения и паники кардинал Медичи попытался запереть как можно больше женщин в местной церкви — для их же безопасности. В целом за эти два дня в Прато погибло более четырех тысяч человек — катастрофа почти беспрецедентная по своим масштабам.
Когда об этом стало известно во Флоренции, город охватил ужас. Группа приверженцев Медичи направилась во дворец синьории и потребовала отставки Содерини. Тот без колебаний повиновался и поручил Макиавелли сообщить кардиналу Медичи о своем решении, а также попросить гарантий свободного выезда из города. Они были даны, и Содерини покинул Флоренцию. Через некоторое время на его поимку были отряжены папские агенты, но ему удалось добраться через Адриатику до порта Рагуза (ныне Дубровник, а тогда христианский анклав Оттоманской империи, не подчиняющийся папе), где началась его жизнь в изгнании.
1 сентября 1512 года кардинал Медичи в сопровождении своего кузена Джулио вошел во Флоренцию. Восемнадцать лет должно было пройти, чтобы Медичи вернулись в свой город. Первые несколько месяцев кардинал Джованни правил сам, а затем передал бразды правления своему младшему брату Джулиано, названному в честь дяди, убитого в ходе заговора Пацци.
Как ни странно, Макиавелли потерял свой пост лишь через два месяца после возвращения Медичи. Наказание выглядело так: освобождение от должности (за поддержку Содерини); лишение гражданства (большое публичное унижение); штраф 1000 флоринов. Макиавелли был изгнан из города, местом поселения ему определили небольшое имение в семи милях от Флоренции, которое он унаследовал от отца. Ему было всего сорок три года, а жизнь лежала в развалинах.
Но худшее ждало впереди. Четыре месяца спустя, в феврале 1513 года, был раскрыт заговор с целью убийства нового правителя города Джулиано де Медичи. У одного из заговорщиков обнаружился список двадцати влиятельных граждан Флоренции, могущих поддержать их в случае успеха. Было в нем и имя Макиавелли, что повлекло за собой немедленную выдачу ордера на арест.
Едва узнав об этом, Макиавелли поспешил во Флоренцию и сам предал себя в руки властей. Таким образом он собирался продемонстрировать свою невиновность; тем больше его потрясло заключение в Барджелло, где его подвергли пыткам: четырем сокрушительным ударам strappado (что оказалось достаточным, чтобы заставить Савонаролу признаться в ереси). Макиавелли был не молод и не чрезмерно крепок физически и тем не менее выстоял. Вспоминая впоследствии это испытание, он с гордостью говорил, что «держался настолько крепко, что сам от себя такого не ожидал». Пожалуй, в этом нет преувеличения, и уж, во всяком случае, признайся Макиавелли — пусть то был самооговор, лишь бы положить конец мучениям, — в том, что знал о заговоре, смертной казни ему не избежать.
К счастью, его признали невиновным; тем не менее событие это оставило глубокий след в его судьбе. В своем главном труде Макиавелли подчеркивает роль пытки: дабы правление государя было успешным, «его следует постоянно бояться, а страх вызывает наказание, которому он может подвергнуть». В данном случае Макиавелли опирается на личный опыт — законы и моральное осуждение обретают большую силу, когда за ними стоит страх перед пыткой.
Макиавелли продержали в Барджелло еще два месяца, после чего, разбитый и угнетенный, он вернулся в свое сельское убежище. Впоследствии он опишет свою жизнь здесь, расскажет, как на тосканских холмах выращивал оливковые деревья и виноград, водил на выпас с десяток овец и баранов; а когда солнце садилось, шел на местный постоялый двор и играл в карты с хлебопеком и мельником. Славная, беззаботная жизнь, но Макиавелли ее ненавидел. Он все еще мечтал о возвращении в политику.
Во Флоренцию заструился поток писем, но печальное чтение являют они собой. Макиавелли тратит свой незаурядный литературный дар на сочинение раболепных посланий, куртуазных, льстивых стихотворений, изредка перемежающихся советами, касающимися текущих дел, в занятиях которыми он успел приобрести немалый опыт. Ответа не было. Между ним и коридорами власти стояли теперь враги и вчерашние соперники, и уж они-то бдительно следили за тем, чтобы письма не доходили до адресата, так что выверенные и часто неожиданные рекомендации Макиавелли использовались, но лишь во благо других. «Оказавшись среди всех этих тварей, — с горечью описывал он свое положение одному из друзей, — я просто даю мозгам заплесневеть и переживаю горькую судьбину».
Осенью 1513 года Макиавелли засел за «Государя» и написал его на едином дыхании. Уже к концу года работа была завершена. В ней сконцентрировался политический опыт автора, накопленный за всю жизнь; все, что он узнал на службе у Флоренции на протяжении одного из самых сложных и опасных периодов ее истории, вылилось на страницы в виде ряда простых, но глубоких истин с иллюстрациями из прошлого. Это была, ни больше ни меньше, новая политическая философия управления государством, и в отличие от прежних опытов такого рода «Государь» отличается практицизмом, это не просто теоретическая модель и тем более не утопия. В нем говорится о том, что произошло, а не о том, что должно произойти.
Безвыходное положение, в какое попал Макиавелли, оказало отрезвляющее воздействие: словно бы впервые в жизни он увидел (и придал увиденному письменную форму) безжалостную подноготную всей политической действительности. И попытался представить ясную и четкую картину мира, каков он есть и всегда был. «Государь» адресован властителю, в нем говорится о том, как наилучшим и наиболее эффективным образом использовать свою власть, как укрепить ее и как удерживать на протяжении максимально длительного времени. Эти практические и действенные правила и составляют ядро политической науки Макиавелли: «Государь, желающий укрепить свое положение, должен научиться не всегда быть добрым, он должен быть или не быть добрым в зависимости от того, что в данный момент требуется». Властитель должен научиться лгать, обманывать, лукавить — иначе власть не сохранишь; он должен научиться, если нужно и когда нужно, предавать даже ближайших друзей и союзников. В этой науке нет места моральным принципам — одна лишь прагматика; если хочешь сохранить власть, обязан быть беспощадным, а государь остается государем лишь постольку, поскольку у него есть реальная власть.
Правда, всегда есть нечто, остающееся за пределами непосредственного воздействия государя. Политика есть просто борьба двух сил. Одна — virtu, что не следует путать с virtue — добродетелью. В словаре Макиавелли virtu означает силу, или мощь, и происходит от латинского vir — муж, мужчина, и использование virtu — это и есть управление, руководство. Другая сила — fortuna — случай, удача, судьба, каковая стремится подорвать virtu, но отчасти находится под ее контролем. Отражая предрассудки своей эпохи и особенности итальянской грамматики, Макиавелли использует virtu в мужском роде, a fortuna в женском. Его совет, как следует обращаться с fortuna, как, впрочем, и вся его философская концепция власти с современной точки зрения, политически некорректен. «Решительность лучше осторожности, — наставляет он, — ибо fortuna — женщина, а женщину, если хочешь держать ее в узде, надо ограничивать и бить».
Макиавелли считал, что наука как таковая лежит вне пределов этики и сострадательности — она либо работает, либо нет. Все, им изложенное, пропитано духом психологического имморализма; все, к чему он стремился, — обнаружение наиболее эффективного и беспощадного способа приведения политической науки в действие. В этом смысле его часто неверно истолковывают. Главный побудительный мотив Макиавелли — вернуть Италии величие, былое величие Рима, а «беспощадная» наука — это инструмент, при помощи которого властитель решит эту задачу. Средства оправдываются целью, пусть даже Макиавелли не всегда писал о ней с достаточной определенностью, в результате чего мы и обращаем больше внимания на средства, каковые он столь упорно отстаивал.
Значение «Государя» оказалось колоссальным, появление этой работы знаменовало решающий шаг в развитии нашего европейского политического самосознания. Нам предлагалось понять, что для нашего процветания, как нравственных особей и членов эффективно руководимого общества, (или даже просто выживания) потребна известная доля лицемерия. Такова плюралистическая идея, до сих пор лежащая в основании западной культуры: органическое противоречие между духовной и гражданской жизнью, между ценностью как принципом и ценностью как практическим действием. Такого рода плюрализм предполагает способность принять данную дихотомию и примириться с ней, что, своим чередом, подразумевает софистику (или цинизм), которая превыше логики. Не всегда осознанно, но Медичи и Флоренция хорошо иллюстрируют путь к этому самосознанию Запада. Сначала Козимо де Медичи боролся с противоречиями между грехом ростовщичества и спасением души, не желая отказываться ни от того, ни от другого. Далее, Савонарола продемонстрировал невозможность религиозного фундаментализма в коммерческом и политически жизнеспособном обществе. И наконец, Макиавелли показал глубинное расхождение между этикой и искусством управления: плюрализм, усвоив который, мы научились жить. Такова неудобная, неприятная истина, таково неразрешимое противоречие, в котором многие усматривают краеугольный камень последующего мирового господства западной цивилизации.
Но самому Макиавелли его учение успеха не принесло. Он посвятил «Государя» сначала одному из членов семьи Медичи, затем другому, но интереса у них не вызвал, что и понятно: такого рода идеи редко даруют друзей. В изгнании Макиавелли ступил на литературную стезю, написав, в частности, комедию в духе черного юмора «La Mandragola» («Мандрагора»), считающуюся одним из первых образцов этого жанра на итальянском языке. Некоторое время спустя Медичи немного подобреют, и Макиавелли будет заказана «История Флоренции». Это яркая работа, но, разумеется, далеко не беспристрастная, она явно написана с позиций Медичи; сочиняя «Историю», Макиавелли рассчитывал, что она принесет ему какое-нибудь важное назначение. Назначения последовали, но второстепенные — сначала Макиавелли съездил с каким-то поручением в Лукку, а затем получил пост смотрителя городских стен. Но на верхние этажи власти уже не поднялся и умер в 1527 году человеком обедневшим и разочарованным в жизни.
Через пять лет появилось первое издание «Государя» на итальянском. Вскоре он был переведен на все основные европейские языки, и имя Макиавелли стало паролем зла в странах Запада, которым было трудно примириться с его неудобными постулатами. Тем не менее на английском «Государь» издавался и переиздавался на протяжении четырехсот лет. А в отказе Медичи принять эту книгу заключена особая ирония, ведь это идеальное руководство на тему как быть крестным отцом итальянского Ренессанса.
21. РИМ И ПАПА ЛЕВ
Восстанавливая во Флоренции власть Медичи, кардинал Джованни следовал примеру своего отца Лоренцо Великолепного: последовала целая череда празднеств. На площади синьории устраивались маскарады и карнавалы, запрещенные со времен Савонаролы, на виа Ларга, близ палаццо Медичи, куда вернулись его прежние хозяева, были выставлены столы с бесплатным вином и сладостями. Параллельно происходили стремительные перемены на политической сцене. Людей вроде Макиавелли заменяли на различных постах приверженцы Медичи. Было распущено постоянное ополчение. Срок полномочий гонфалоньера сократился до одного года. Произошли радикальные сдвиги во внешней политике — Флоренция вошла в Священную Лигу папы Юлия II.
Но вот в феврале 1513 года, через шесть месяцев после восстановления власти Медичи, до Флоренции докатилась весть о том, что папа при смерти. В ту пору, в результате чрезмерных нагрузок, сильно пошатнулось и здоровье кардинала Медичи, никогда не отличавшееся особой крепостью. У него обнаружилась язва желудка, не отпускали геморроидальные боли, вызванные долгим пребыванием в седле во время военных кампаний. Тем не менее кардинал ясно отдавал себе отчет в том, что сейчас его место в Риме, иначе он не сможет оказать сколько-нибудь существенного влияния на решение кардинальского конклава при выборах нового папы. Он велел посадить себя на носилки и, превозмогая боль, отправился по ухабистой дороге в Рим, за сто пятьдесят миль, — лишь для того, чтобы по прибытии на место, в первых числах марта, узнать, что папа Юлий II скончался. А сам кардинал чувствовал себя после дороги так плохо, что ему оставалось лишь слечь на неделю.
Тем временем начались заседания конклава. Происходили они согласно традиции: во избежание каких бы то ни было внешних воздействий кардиналы удалились в замкнутое помещение, которое запрещалось покидать до принятия решения; даже окна были плотно закрыты, лишь еду разрешалось приносить. День проходил за днем, в запертом помещении становилось все душнее, и чем дольше шли споры, тем все острее ощущалась потребность в глотке свежего воздуха и новом белье. Через некоторое время ухудшилось качество еды, да и меньше ее стало. К тому времени, когда к конклаву присоединился кардинал Медичи, рацион двадцати пяти тучных мужчин в насквозь пропотевших красных мантиях сократился до одной трапезы в день, а кормили так, как кормят вновь обращенных монахов в самых строгих монастырях.
В пору своей римской юности кардинал Медичи терпеливо и настойчиво обзаводился друзьями в кругу влиятельных кардиналов, составляющих окружение папы Юлия II. Его воспитанность и добродушие, чувство юмора, большая щедрость и несомненный ум, наряду с близостью к коридорам власти, позволили ему занять видное положение в клерикальных кругах. Многие из тех давних друзей были готовы проголосовать за него как за компромиссную фигуру, другие же руководствовались двумя основными соображениями. Несмотря на его героические подвиги в ходе папских баталий, большинство понимало, что по природе своей кардинал Медичи — человек не воинственный и потому в отличие от Юлия II не будет вовлекать Ватикан в бесконечные военные авантюры. У многих из присутствующих сохранились добрые воспоминания о тех днях, когда отец кардинала Медичи Лоренцо Великолепный столь усердно трудился во имя поддержания мира в Италии. Вторая же причина заключалась в том, что кардинал Медичи — человек явно нездоровый, о чем свидетельствует хотя бы его гигантский вес; если его избрание окажется ошибкой, ничего страшного, скорее всего он и двух лет не протянет. Но все эти аргументы наталкивалась на решительное сопротивление со стороны фракции во главе с кардиналом Франческо Содерини, братом смещенного флорентийского гонфалоньера Пьеро; и несмотря на спертый воздух, не говоря уже о скудной и с каждым днем все больше усыхающей диете, выхода из тупика не находилось. Кардиналы ожесточенно переругивались за столом, а в провонявших туалетах пытались заключить тайные сделки.
Во время одного из перерывов кардинал Медичи подошел к кардиналу Содерини и пустил в ход свое незаурядное обаяние. О действенности его свидетельствует тот факт, что Содерини в конце концов сдался и пообещал поддержку сопернику, хотя для этого понадобилось подкрепить обаяние определенными посулами. Пьеро Содерини будет возвращен из своего изгнания в Рагузе, и хотя кардинал Медичи настоял на том, что во Флоренцию он не вернется, в Риме ему будет обеспечено достойное проживание до конца дней. Далее, кардинал Медичи обязуется женить своего молодого племянника Лоренцо (сына Пьеро Невезучего) — возможного будущего правителя Флоренции — на одной из племянниц кардинала Содерини. Таким образом, семья последнего окажется в родстве с новыми правителями Флоренции, а также с новым папой, что обеспечит ей в будущем высокое положение и связанные с ним возможности.
К великому облегчению вконец обессилевших кардиналов, Медичи был избран очередным папой. По примеру предшественников, бравших имена великих военачальников (Александр VI оглядывался на Александра Македонского; Юлий II — на Юлия Цезаря), он выбрал имя Льва X, что должно было символизировать храбрость и величие. А помимо того, в этом имени заключался намек, который наверняка будет понят флорентийцами, — он отсылает к хранителям города, по-прежнему обитающим в своих клетках на виа дей Леони.
Согласно сведениям, полученным венецианским послом, новый папа воскликнул в разговоре со своим братом Джулиано: «Всевышний даровал нам папский престол! Воспользуемся же этим!» Эти слова явно задали тон новому понтификату, и подобные чувства быстро распространились по городам и весям Италии. Когда Джулиано де Медичи, правивший Флоренцией в отсутствие брата, принес домой весть об избрании, по городу прокатилась волна торжеств, не спадавшая в течение нескольких дней. Пусть организованы они были Джулиано, нет никаких сомнений, что ликовали люди искренне: Лев X стал первым папой-флорентийцем, и это большая честь для его родного города. Под возгласы «Palle! Palle!» на площадях зажигались костры, палили мортиры, а небо освещалось fuochi d'artificio (петарды), завезенными из Китая примерно столетие назад в военных по преимуществу целях, но ныне обретающих по всей Италии праздничные функции.
Понтификат, унаследованный Львом X, имел тройственный характер. Во-первых, папа является наместником святого Петра и, стало быть, высшим арбитром и толкователем христианского учения. По иронии судьбы эта роль выпала человеку, чья вера в Бога никогда не была главным в жизни; более того, отличалась такой неопределенностью, что с некоторой натяжкой нового папу можно было бы назвать агностиком. Он получил образование в новом ренессансном духе, изучал по преимуществу древних классиков, то есть язычников, а учителем его был Полициано, поэт, который в ту пору едва ли выказывал сколько-нибудь заметные признаки веры в Бога; равным образом, приобщение будущего папы к проповедям Савонаролы не оказало на него ни малейшего религиозного воздействия, скорее даже еще больше поколебало в вере. Таким образом, если, что представляется весьма вероятным, Лев X действительно был агностиком, то, стало быть, как ни поразительно, он стал первым папой, для которого существование Божества имело проблематичный характер. Злодеи вроде Александра VI и целого ряда его жуликоватых предшественников были людьми слишком примитивными духовно, слишком суеверными, чтобы даже задумываться о существовании Бога; лицемерие было для них столь органично, сколь и ортодоксия — по их мнению, папе-еретику уготована только одна дорога — в ад. Ну а папа Лев X был, с одной стороны, отменно образован, а с другой — слишком воспитан, чтобы нарушать правила игры. Он соблюдал все положенные ритуалы, и на публике его поведение всегда отвечало нормам поведения правоверного христианина. В отличие от ряда своих предшественников первый папа-агностик был одновременно широко образованным теологом и великолепно знал доктринальные требования; чего он был лишен, так это веры в доктрину. В этом смысле по крайней мере Лев X вел себя соответственно макиавеллеву этосу, от чего его понтификат ничуть не пострадал.
Другая его сторона заключалась в том, что Лев X унаследовал от своих предшественников титул правителя Папской области, занимавшей ныне значительную площадь — всю Романью. А в данном случае эта власть распространялась и на Флоренцию, которой новый папа продолжал править, несмотря на то что номинальным главой республики был его младший брат Джулиано. Все разговоры об интригах Медичи давно умолкли, и Лев X провозгласил своего брата «капитан-генералом Флорентийской республики». Парадоксальным образом внешнее управление со стороны папы было главной гарантией независимости Флоренции, в противном случае она вряд ли сохранилась бы как отдельное государство.
В былые времена серьезную угрозу Флоренции представлял действовавший от имени папы Чезаре Борджиа; ныне же, с восшествием на ватиканский престол Льва X, эта угроза исчезла, более того — Флоренция могла теперь полагаться на поддержку папской власти. Дабы укрепить эту связь, Лев X сделал своего кузена и одновременно самого близкого и доверенного друга Джулио архиепископом Флорентийским.
И наконец, папа являлся главой католической церкви, института, который охватывал практически весь христианский мир. Лишь в России и отдельных частях Балкан православная церковь пережила падение Константинополя, в то время как римско-католическая церковь давно распространила свое влияние за пределы Европы, утвердившись в обеих Америках и готовясь утвердиться в Африке, Индии и на Дальнем Востоке. Посты, церковные платежи, налоги — все это приносило папской казне гигантские средства, стекавшиеся со всего мира.
Лев X последовал примеру своих предшественников, назначив близких и дальних родственников на выгодные должности, — в качестве благодарности можно было ожидать неизменной поддержки. Эти назначения не ограничивались церковью: скажем, племянника Лоренцо папа сделал герцогом Урбино, имея в виду, что в один прекрасный день он станет во главе царства Медичи, которое предстоит создать в Романье. Добившись папской власти, семья теперь обнаруживала все более и более значительные амбиции, следуя в этом смысле примеру Лоренцо Великолепного, первого из Медичи, кто стал играть ключевую роль в итальянской политике, изнутри познав, таким образом, ее механизмы. Странно, но в данном случае в его безграничных устремлениях зеркально отразились идеи Никколо Макиавелли: власть следует расширять любыми возможными способами, строя, елико возможно, планы заранее и используя любые лазейки. Наверняка Лоренцо Великолепный старался внедрить эти идеи в своих сыновей, хотя благодаря обстоятельствам и характеру, Пьеро Невезучий оказался бессильным воплотить их в жизнь. И все же Лоренцо, должно быть, предвидел, что кончится дело именно этим, и чувствовал, что вверяет судьбу Медичи Джованни, будущему Льву X, — связь прослеживается настолько тесная, что замысел и план действий, выработанный Лоренцо Великолепным, может рассматриваться как скрытый компас политики Льва X.
В таком свете второстепенные как будто его решения выглядят как элементы одной большой стратегии. Когда-то Лев X обещал кузену, новоиспеченному епископу Флорентийскому, что в случае избрания папой сделает его кардиналом. К сожалению, это оказалось неосуществимым: Джулио был незаконнорожденным, а церковный устав запрещал детям, рожденным вне брака, становиться кардиналами. Положим, Александр VI надел кардинальскую шапку на своего незаконнорожденного сына Чезаре Борджиа, и впоследствии этот шаг стал предметом ожесточенных споров. Ну а Лев X, по причинам, которые будут открываться лишь постепенно, как раз не желал, чтобы в связи с Джулио возникали какие-либо дискуссии. Он сформировал специальную Папскую комиссию, поручив ей «рассмотреть» вопрос о незаконнорожденности Джулио; намек был понят, и в непродолжительном времени комиссия пришла к заключению, что отец и мать Джулио «заключили тайный брак», как раз во время зачатия. В итоге Джулио де Медичи, сын столь трагично закончившего жизнь любимого брата Лоренцо Великолепного, получил обещанную кардинальскую шапку. Как нам предстоит увидеть, этот вполне тривиальный как будто случай непотизма отзовется с годами эхом, которое изменит пути европейской истории.
А вот кое-какие из иных своих обещаний, касающихся членов своей семьи, Лев X не сдержал. Пьеро Содерини был возвращен из изгнания, но кардинал Франческо тщетно ожидал обручения своей племянницы с племянником Льва X Лоренцо де Медичи. Касательно последнего у папы были иные, куда дальше идущие планы, из чего становится ясно, что он с самого начала не имел намерения держать слово, которое принесло ему понтификат. У себя дома, невдалеке от Флоренции, изгнанник Макиавелли мог лишь наблюдать в молчаливой зависти за происходящим.
Таковы были события, определявшиеся политической волей папы Льва X. Но вскоре ему пришлось убедиться, что далеко не все зависит от него лично. Буквально через несколько месяцев после избрания к нему пожаловали эмиссары всесильного испанского короля Фердинанда I (в чьем ведении ныне находился Неаполь) и короля Англии Генриха VIII — оба монарха хотели заключить союз, направленный против Франции. Лев X дипломатично уклонился — у него не было никакого желания раздражать Людовика XII. Но стоило ему сделать этот шаг, как Людовик XII во главе целой армии пересек Альпы, дабы закрепить свои старые претензии на герцогство Миланское и королевство Неаполитанское. Таким образом, над Италией вновь нависла угроза. В сложившихся обстоятельствах Лев X продемонстрировал политическое мастерство, которое сделало бы честь самому Лоренцо Великолепному. Формально не выступая на стороне миланцев, которые вместе с английскими и испанскими отрядами готовы были дать отпор французам, Лев X успешно повернул дело таким образом, что преимущество оказалось на стороне союзников. Он тайно переправил им сумму, эквивалентную четырнадцати тысячам золотых флоринов, дабы те могли рекрутировать дополнительные отряды, состоящие из хорошо обученных швейцарцев. В последовавшем сражении при Новаре, в двадцати милях к западу от Милана, французская армия была обращена в бегство. Вскоре после этого Лев X предпринял странный на вид шаг — заключил новый договор с Францией; впрочем, впоследствии стало ясно, что это тоже часть макиавеллевой стратегии папы, направленной на укрепление власти Медичи.
1 января 1515 года, в возрасте пятидесяти трех лет, умер Людовик XII. На французский престол взошел двадцатиоднолетний Франциск I, молодой человек, наделенный немалым умом и взрывным темпераментом, воспитанный на рыцарских рассказах о французских подвигах в Италии. Воодушевляемый мечтами о славе, он сразу же начал собирать большую армию для полномасштабного вторжения в Италию. Обеспокоенный Лев X обратился за советом к понимающим людям.
Одним из них оказался Макиавелли, так что слова о «молчаливой зависти» — это не просто фигура речи, мнение его все еще выслушивалось, хотя и нечасто и по секрету. Только это как будто лишь усугубляло его подавленность, ибо подчеркивало, насколько далек он от актуальных событий современной политической сцены, на которой некогда играл столь активную роль. В открытую о его рекомендациях никто не говорил, да и следовали им редко. В данном случае, с его точки зрения, единственной надеждой Льва X является союз с французами, который позволит избежать вторжения во Флоренцию и Папскую область. Юного Франциска I можно убедить, что это лишь отвлечет его от главной цели. Но и к этому совету Макиавелли никто не прислушался: папа решил, что спасти Италию можно, лишь заключив союз с Испанией и Священной Римской империей для совместной борьбы с французами.
Летом 1515 года Франциск I во главе стотысячной армии — ничего подобного ранее в Италии не видели — пересек Альпы. У Мариньяно, в непосредственной близости от Милана, ее ждали объединенные силы папского союза при поддержке по-прежнему сильных швейцарцев. Франциск I смело принял сражение, врубившись во главе кавалерии, шедшей впереди его огромной армии, в боевые порядки противника. Тот был буквально сметен. Лев X поспешно отправил Франциску I послание с предложением союза, и была достигнута договоренность о встрече в Болонье.
Направляясь туда, Лев X остановился во Флоренции, где в честь первого визита нового папы в родной город был устроен невиданный по своим масштабам карнавал. Готовилось нечто поистине грандиозное, так что даже, когда папа появился у ворот города, ему сказали, что не все еще готово и не согласится ли он дня два пожить на вилле в близлежащей деревне Мариньолле. Папа благосклонно согласился подождать, меж тем как его младший брат Джулиано, капитан-генерал Флорентийской республики, изо всех сил подгонял сограждан, требуя скорейшего завершения всех подготовительных работ.
Несколько дней спустя, одетый в белую, с бриллиантами, мантию и блестящую тиару, папа с триумфом въехал в город, Его сопровождал целый эскорт одетых в красное кардиналов и отряд папской гвардии в сверкающих кирасах, с обоюдоострыми топорами. По мере того как папа и его свита проходили через величественные триумфальные арки, расписанные ведущими художниками города, тучный, лоснящийся Лев X все с большим любопытством щурился через очки на приветствующую его толпу. Кульминацией празднества было открытие статуи его отца Лоренцо Великолепного, на которой было высечено: «Hie est filius meus dilectus» («Вот мой возлюбленный сын»). Лев X был тронут до слез. Как пишет Ландуччи, очевидец событий, он «велел принести серебряные монеты и стал бросать их в толпу». Величие зрелища, не говоря уже о его стоимости, превосходит любое воображение. «Несколько тысяч мужчин работали день и ночь в течение месяца не покладая рук, в будни и праздники». В целом было выстроено не менее пятнадцати арок, четвертая, несомненно, самая величественная, свидетельствует Ландуччи, «занимала целую пьяцца Санта-Тринита; она представляла собой дугообразное сооружение, напоминающее замок, с двадцатью двумя пилястрами по всей окружности, между которыми висели гобелены, а сверху был приделан свес с какими-то надписями на фризе». Далее Ландуччи замечает, что, по слухам, на все эти вещи одноразового, так сказать, пользования было потрачено порядка семидесяти тысяч флоринов, и добавляет, что на такие деньги «можно построить великолепный храм во имя Господа и к вящей славе города». Пожалуй, он прав, заключая, что «трудно представить себе какой-либо иной город или государство, способные на такую роскошь».
За торжественным въездом последовало огромное пиршество и карнавал, композиционный центр которого представляла собой фигура подростка, стоящего на пьедестале и целиком выкрашенного в золото. Мальчик должен был символизировать собой возрождение золотого века Флоренции. Увы! — разрешилась эта сцена ужасным и тоже символическим финалом: едва упал занавес, как мальчик забился в агонии и рухнул замертво — золото закупорило поры.
Празднества, которые Лоренцо Великолепный устраивал, чтобы отвлечь людей и поднять у них настроение, сделались представлениями, достойными какого-нибудь римского императора. Во времена Лоренцо над подготовкой таких празднеств работали люди, подобные Боттичелли и Микеланджело, Леонардо и Полициано; но сейчас среди сколько-нибудь известных мастеров, занятых в этом грандиозном представлении, можно назвать лишь Сансовино. То, что некогда было развлечением гения, опустилось до показной роскоши. Первые поэты и философы, взращенные Флоренцией времен Козимо, давно умерли; наследовавшие им великие мастера, которых поддерживали Медичи, превратились лишь в гостей города; знаменосцы Ренессанса и даже их нынешний крестный отец жили теперь в других местах.
Последующий визит Льва X в Болонью сильно отличался от триумфального въезда в родной город. Прихрамывающий, тяжело дышащий через открытый рот понтифик не произвел впечатления на молодого энергичного короля Франции. Но папа, политик и умный, и расчетливый, как раз и хотел, чтобы о нем судили по внешнему виду; сам же незаметно гнул свою линию и в результате добился того, что встреча, которая могла бы разрешиться катастрофой, закончилась миром. Начал Лев X с того, что со всей решительностью отмел «слухи», будто он финансирует швейцарскую армию в ее противостоянии французам. Франциск I сделал вид, что принял это заявление (хотя и знал, что это ложь). Союз между Францией и Львом X был подтвержден, но Франциск I потребовал за него внушительную плату. Льву X пришлось через силу признать за королем Франции право назначения на высшие церковные должности у себя в стране, что означало существенное уменьшение и доходов, и влияния понтифика; тот, кто едва не стал в девятилетнем возрасте архиепископом Экс-ан-Прованса, почувствовал себя униженным, но решил не подавать виду. Более того, в качестве жеста щедрости он назначил кардиналом домашнего учителя короля, а тот в благодарность сделал брата Льва X Джулиано де Медичи герцогом Немюрским. И вновь вроде импульсивный политический шаг Льва X отзовется по прошествии времени важными последствиями: Медичи стал аристократом, и семья, таким образом, стала причастна к французской знати. Трудно не увидеть во всем этом часть тайной большой политики Льва X во имя семьи, которая, как становилось все яснее и яснее, опирается отныне на тесный союз с Францией.
Лев X вернулся в Рим и в ближайшие годы создал понтификат по своему личному образу и подобию. Начинался золотой век города, занявшего место Флоренции в самом центре итальянского Ренессанса, — ничего подобного он не переживал с античных времен. Что во Флоренции превратилось в пышную, но всего лишь мишуру, в Риме стало подлинной сутью искусства.
Юлий II настолько активно занимался строительством, — столько новых улиц перерезало при нем полуразвалившиеся средневековые кварталы, — что заслужил прозвище Ruinante (Разрушитель). Центром этого нового Рима должен был стать собор Святого Петра, первый камень которого был заложен самим Юлием II в 1506 году; архитектурные работы были поручены уроженцу Урбино Донато Браманте, который спроектировал внушительную и в то же время строгую базилику — усыпальницу Святого Петра. Предполагалось, что здесь будет молиться папа и, стало быть, собор станет главной церковью христианского мира, куда будут стекаться все пилигримы, направляющиеся в Вечный Город. Расписывать ее интерьер будут лучшие живописцы Италии. Это будет не только главная, но и самая большая церковь христианского мира, ренессансный шедевр, который по замыслу превзойдет великие готические соборы севера Европы.
Бывшая притчей во языцех нетерпеливость Юлия II заставила Браманте срезать некоторые углы, но при этом он избавил архитектуру от зависимости от иных прежних стандартов. Так, например, фасонная штукатурка заменила камень, обработка которого требовала больших усилий. По ходу этих реформ Браманте фактически заложил основы римского Высокого Ренессанса: если раньше ренессансная архитектура сознательно ориентировалась на древние классические образцы, с их четкими линиями и формами, то теперь все больше и больше доверяла самой себе и предлагала оригинальные решения.
После смерти Браманте (1514) Лев X назначил на его место художника Раффаэлло Санти, известного ныне как Рафаэль. Еще один выходец из Урбино времен Федериго да Монтефельтро, Рафаэль стал самой заметной фигурой Высокого Ренессанса. Ему предстояло выполнять папские заказы по росписи Сикстинской капеллы и реформировать искусство портрета. Изображая Льва X, он сумел, не отходя от оригинала и не скрывая физической непривлекательности своего героя, передать глубину и значительность его характера.
Рафаэль испытал сильное воздействие Микеланджело, но светлый оптимизм смягчал мрачную жесткость стиля учителя, придавая персонажам непринужденную легкость и ясность линий, безошибочно выдающих манеру автора. Сравнительно с платонизмом Боттичелли живопись Рафаэля представляет собой новый уровень гуманистического самопознания. В его шедевре «Афинская школа» древнегреческие философы изображены каждый за своим делом на фоне арочного величия Афин, явно напоминающих Рим. При этом персонажи его, ни в коей мере не подавляемые этим величием, чувствуют себя в окружающей атмосфере как дома, а их физическое здоровье и духовная приподнятость вполне с ней гармонируют. Рафаэль сумел изобразить своих философов совершенно живыми людьми, наделенными, однако, тем достоинством, которое отражает глубину их мысли.
Рафаэль быстро сделался любимым живописцем Льва X, а в качестве нового архитектора собора Святого Петра он отошел от замысла Браманте — греческий крест с четырьмя проходами, — придав ему нынешнюю форму латинского креста с тремя проходами, сходящимися у центрального алтаря, под которым находится предполагаемая усыпальница Святого Петра; а сверху плывет купол — прямой наследник купола флорентийского собора работы Брунеллески. Иное дело, что наследник превосходит предшественника как размерами, так и барочным изяществом линий.
Лев X и куртуазный Рафаэль были близки по характеру, чего нельзя сказать о трудном в общении Микеланджело, с которым нынешний папа рос во дворце Медичи. Когда Лев X стал понтификом, Микеланджело все еще трудился над гигантской усыпальницей, предназначенной Юлию II. Впоследствии он назовет эту работу, отнявшую у него тридцать лет жизни, гигантской тратой времени и «трагедией мавзолея». По совету своего кузена кардинала Джулио де Медичи, Лев X заказал Микеланджело внушительную и строгую усыпальницу для Медичи, в семейной церкви Сан-Лоренцо. Так возникла капелла Медичи с куполом и парными скульптурами, символизирующими одна День и Ночь, другая — Рассвет и Сумерки. В целом же скульптурная группа должна была, по замыслу автора, представлять «время, поглощающее все вещи»; великолепные, хотя, быть может, несколько громоздкие, эти статуи насыщены той самой terribilita, которая характеризует лучшие работы мастера.
Но в общем, Лев X был скорее равнодушен к Микеланджело — как и к Леонардо да Винчи. По версии Вазари, он заказал Леонардо некую работу, но когда тот сразу же начал готовить лак и масляные краски, папа нетерпеливо воскликнул: «Чего можно ждать от человека, который начинает с конца?» После этого новых заказов не было, и Леонардо оказался занят лишь в одном грандиозном, но несостоявшемся проекте осушения Понтинских болот. Печально, но факт: Лев X, один из величайших покровителей искусств среди римских пап, был человеком, обладающим довольно примитивным художественным вкусом.
По давней семейной традиции он собирал рукописи и значительно расширил Ватиканскую библиотеку, которая до тех пор представляла собой жалкое подобие библиотеки Медичи дома, во Флоренции. Лев X обнаруживал глубокий интерес к классике и, подобно отцу, пописывал стихи; но главное, что он от него унаследовал, была страсть к демонстративным жестам, — хотя тут имелась и некая разница. Склонность Лоренцо Великолепного к излишествам предстает как блеск выдающегося ренессансного человека, это щедрость исключительной личности, стремящейся быть достойной гуманистического идеала. Лев X унаследовал множество отцовских свойств — амбициозность, интеллект, безграничную энергию; но в то же время в его характере в карикатурном виде сказались отцовские недостатки. То, что у Лоренцо выглядит как побочный эффект величия, у Льва X предстает как смешная экстравагантность. Он не только выглядел комичным, но часто и вел себя подобным же образом.
Его выходки стали притчей во языцех и обретали подлинно римский, имперский масштаб, чему, быть может, наиболее красноречивым свидетельством являются его гастрономические вкусы: больше всего он любил язык петуха. Лев X обожал пышные застолья, во время которых гостей развлекали певцы, клоуны, карлики-акробаты, даже турнирные бойцы; подавались же на стол дюжины блюд, каждое на новой серебряной или золотой тарелке. Иные смены блюд сопровождались целыми спектаклями: из пирогов вылетали соловьи, из пудингов выползали переодетые в херувимов мальчики. Как ни странно, никакой сексуальной подноготной в этих сценах не было. Лев X любил быть зрителем, но сам в спектаклях не участвовал. Он с восторгом хлопал в свои пухлые ладони при виде причудливо одетых гуляк, танцующих на маскарадах при свете тысяч свечей, и его совершенно не смущало то обстоятельство, что многие из этих танцоров в масках были кардиналы со своими куртизанками. А больше всего Лев X любил охоту, хотя как раз к ней-то он был совсем не приспособлен: умелый и бесстрашный наездник, он, увы, совсем не разбирал дороги, так что для него специально ловили сетью кабана и подтаскивали к нему, а Лев X, размахивая копьем, зажатым в одной руке и прижимая очки к подслеповатым глазам другой, добивал зверя.
Добродушный, но несдержанный характер Льва X особенно красноречиво проявляется в его отношении к любимому домашнему животному — индийскому слону по кличке Ганно. Появление его в городе вызвало большое волнение, ибо ничего подобного со времен Ганнибала, то есть за последние полторы тысячи лет, здесь не видели. Ганно был прислан Льву X в подарок королем Португалии, вдобавок к десятку экзотических птиц, двум леопардам и целому косяку персидских жеребцов, доставленных из Азии в Европу португальскими купцами-первопроходцами, искавшими новые морские пути торговли с Дальним Востоком. Говорят, папа был просто влюблен в этого прирученного слона, а особенно его трогало то, что при его появлении Ганно опускался на колени и начинал громко трубить. Когда Ганно заболел, Лев X не на шутку опечалился; он вызвал медиков и посулил награду в 4000 флоринов тому, кто вылечит его любимца. В какой-то момент Ганно вкатили слабительного общим весом около 400 унций, но и это не помогло, и скоро бедняга умер, повергнув своего хозяина в истинное горе. Для Ганно была вырыта большая могила, для которой папа заказал Рафаэлю портрет покойника в натуральную величину, а сам сочинил прочувствованную эпитафию на латыни.
Впрочем, эти невинные выходки были обманчивы, ибо в момент опасности Лев X действовал быстро и беспощадно. В 1517 году несколько кардиналов во главе с влиятельным Петруччи и с участием вечно недовольного Содерини замыслили заговор с целью убийства папы. Способ убийства был жесток и коварен: известный хирург Баттиста да Верчелли должен был за деньги пропитать ядом марлю, используемую для лечения геморроя, которым страдал папа. Дабы обеспечить себе алиби, кардинал Петруччи уехал из Рима, но шпионы Льва X перехватили одно из его писем, в котором глухо говорилось о заговоре. Верчелли был схвачен, поднят на дыбу и вскоре раскрыл замысел Петруччи. Лев X послал за ним, гарантируя безопасность, под поручительство испанского посла. Но в тот самый момент, когда Петруччи предстал перед папой, его схватили вооруженные люди и под крики о предательстве бросили в темницу замка Сан-Анджело. Присутствовавший при этом посол Испании пришел в ярость: задета его честь. Но Лев X привел в оправдание своих действий теологический аргумент: гарантии папы не имеют силы, если не было специально оговорено, что тот, кому они даны, намеревался убить его.
Этот сомнительный аргумент на посла не подействовал, но явно нарастающий гнев папы заставил его замолчать.
Затем Лев X собрал всю консисторию и на повышенных тонах потребовал открыть имена других заговорщиков. Он едва сдерживал себя, никто ранее не видел его в таком состоянии; правда, кое на кого оно не подействовало, подобное поведение так на него не похоже, что, быть может, это всего лишь спектакль. Одного за другим кардиналов приглашали сделать шаг вперед и именем Бога поклясться в своей невиновности. Когда очередь дошла до кардинала Содерини, он поначалу уверял, что о заговоре ему ничего не известно, но когда Лев X нажал на него, залился в конце концов слезами и, признавшись во всем, бросился к ногам папы и принялся молить о милосердии и сохранении жизни.
Став свидетелями этой жалкой сцены, другие кардиналы, втянутые в заговор, тоже признали свою вину. К удивлению многих, Лев X проявил великодушие, и заговорщики были приговорены всего лишь к штрафу, правда, крупному — двадцати тысячам золотых флоринов.
Благодарные кардиналы удалились и быстро собрали требуемую сумму, но тут выяснилось, что произошло недоразумение: двадцать тысяч флоринов должен заплатить каждый. Новость заставила заговорщиков содрогнуться. Иные, бормоча проклятия, заплатили, кое-кто, в страхе перед разорением, бежал из города. Собранные деньги пошли на уплату долгов, накопившихся в результате любви папы к разного рода излишествам. Но во избежание дальнейших поползновений душа заговора, кардинал Петруччи, был задушен в темнице руками папского палача — мусульманина, которого держали специально для подобных случаев (ни один палач-христианин не рискнул бы казнить кардинала).
Для хирурга Верчелли подобного рода изыск был не нужен. Его подвергли пытке раскаленными щипцами, а затем протащили, привязанного к конскому хвосту, по улицам города и повесили на мосту перед замком Сан-Анджело.
Укрепляя свои позиции, Лев X пошел на беспрецедентный шаг — назначил тридцать новых кардиналов, либо из родственников, либо из числа церковников, доказавших свою преданность Медичи. Те из новых избранников, кому это было под силу, внесли значительные вклады в папскую казну, по-прежнему пребывающую в плачевном состоянии, несмотря на штрафы, которым были подвергнуты провинившиеся предшественники, лишенные ныне своих должностей в пользу новых протеже Медичи. В это же примерно время перед Львом X возникли новые семейные проблемы: умер, не оставив законного наследника, его младший брат, герцог Немюрский, Джулиано. Связи с французской знатью, которым Лев X придавал в своих стратегических замыслах решающее значение, опасно ослабли. Теперь его взгляды обратились в сторону племянника Лоренцо, герцога Урбино, сменившего Джулиано в качестве доверенного представителя папы на посту правителя Флоренции. Молодой Лоренцо постепенно усваивал манеры и стиль поведения, соответствующие высокому титулу. Он стал первым, кто потребовал знаков уважения к государю: при его появлении гонфалоньер и члены синьории должны были кланяться и снимать шляпы. Новый капитан-генерал Флорентийской республики явно задевал республиканские чувства своих подданных, он даже отрастил бороду, что во всей Италии считалось признаком принадлежности к аристократии, а во Флоренции — дурным вкусом. Его старший и более мудрый кузен кардинал Джулио, архиепископ Флорентийский, тактично советовал Лоренцо вести себя поскромнее, но герцогу Урбино мнения его незаконнорожденного сородича были неинтересны.
Каковы бы, однако, ни были свойства Лоренцо, Льву X приходилось мириться с тем фактом, что будущность семьи Медичи напрямую связана с этим высокомерным молодым человеком. Другие ее старшие представители — сам Лев X и кардинал Джулио — были людьми церкви, и, стало быть, законных наследников у них быть не могло. Возникла даже угроза того, что род вообще пресечется, ибо хотя герцогу Урбино было всего двадцать пять лет, у него уже обнаружился туберкулез, и к тому же ходили слухи, что он заразился сифилисом. Лев X вступил в переговоры со своим французским союзником Франциском I, в результате которых было заключено брачное соглашение: Лоренцо, герцог Урбино, женится на принцессе из рода Бурбонов, кузине короля Мадлен де ла Тур д'Овернь. Таким образом, Медичи могут породниться с королевской кровью. Но вскоре стало ясно, что в последний момент планы Льва X могут рухнуть. По возвращении новобрачных из Франции обнаружилось, что Лоренцо смертельно болен, да и принцесса Мадлен выглядела далеко не крепкой здоровьем.
В апреле 1519 года она умерла родами, а буквально через несколько дней ушел и ее муж. Однако новорожденная выжила и была крещена Екатериной. Она наследовала герцогство Урбинское и могла также претендовать на формальное правление Флоренцией, если бы Медичи решили пойти по чисто наследственной линии. Но Лев X решил, что время для этого еще не настало, и бразды правления городом взял на себя кардинал Джулио, архиепископ Флорентийский. Екатерину перевезли в Рим; в семье Медичи появилось дитя королевской крови, так что их амбициозные замыслы получили мощную подпитку.
Вместе с понтификатом Лев X получил в наследство пятый Латеранский собор, созванный еще его предшественником Юлием II в 1511 году. Изначально это было сделано в пику Пизанскому собору французских кардиналов, созванному королем Франции для смещения папы. Вместе с тем на Латеранском соборе говорилось о нарастающем упадке церкви, которая нуждается в коренных реформах. Собор тянулся годами, кое-какие шаги предпринимались, но Лев X не проявлял к ним особого интереса; куда важнее для него было избежать схизмы, и когда ему удалось-таки договориться с французскими кардиналами, собор — случилось это в 1517 году — был распущен. На заключительной церемонии было зачитано послание папы, в котором говорилось, что всякий, кто подвергнет сомнению или без особого разрешения понтифика выдвинет собственное толкование решений собора, будет отлучен от церкви. Так что «интерпретаторам», все еще мечтающим о реформах, пришлось прикусить язык.
К этому времени папская казна практически опустела, а расходы Ватикана, напротив, все возрастали и возрастали без всякой меры. Пышные празднества, щедрые дары, карточные долги, дорогостоящие меценатские проекты надо было как-то оплачивать, так что в случае нужды Лев X либо просто продавал церковные должности, либо брал у своих банкиров очередной заем. Но в какой-то момент даже они заволновались: Ватикан стремительно приближался к банкротству. Для покрытия будущих займов они потребовали повысить заемную ставку до сорока процентов, с чем Лев X беспечно согласился и продолжал вести прежний образ жизни.
И все же был один проект, который папские банкиры уже не могли далее финансировать: цена строительства собора Святого Петра начала превышать все мыслимые пределы, даже по папским стандартам. Еще Юлий II пришел к заключению, что покрыть их можно только путем массовой продажи индульгенций. Лев X применил этот способ на практике. Папские агенты и специально уполномоченные на то священники принялись разъезжать по городам и весям Европы, лестью и запугиванием убеждая верующих заплатить твердой валютой за клочок бумаги, означающий отпущение грехов. Приобретение такой грамоты уменьшает разнообразные страдания и муки чистилища, через которое предстоит пройти всем христианским душам: только «очистившись», они могут попасть в рай. Индульгенции продавались по скользящей шкале цен, в зависимости от тяжести свершенных грехов. Чем выше цена, тем меньше времени предстоит провести в чистилище.
Индульгенции задевали глубокие струны в душе верующих во всем христианском мире. В Средние века представления об аде и чистилище, тех страшных наказаниях, что ждут грешника по истечении земных сроков, сделались в высшей степени реальными для всех христиан. Устрашающие сцены, разыгрывающиеся в преисподней, изображались в церковной живописи, находили драматургическую форму в пьесах на религиозные темы, воспроизводились в проповедях. Адского огня или мук чистилища тайно боялся каждый, и в большой степени на этом страхе держалась в Европе вся христианская вера.
Его-то и эксплуатировал Ватикан своими индульгенциями; эксплуатировал и в то же время парадоксальным образом придавал бытовой оттенок, недаром чуть ли не вся Европа повторяла присказку торговца индульгенциями, позванивающего монетами в металлической банке:
Сами же эти торговцы со временем начали вызывать брезгливость; многие находили, что это бесстыдное вымогательство удешевляет веру, тем более что всем было известно, куда идут деньги — иерархам церкви, о чьих излишествах говорили во всем христианском мире. В конце концов у одного молодого немецкого священника терпение иссякло, и он решил, что пришла пора действовать. 31 октября 1517 года Мартин Лютер приколотил к дверям церкви Виттенбергского замка девяносто пять тезисов — программу церковной реформы.
22. ПАПА И ПРОТЕСТАНТ
К этому времени Ренессанс уже пересек Альпы и захватил практически всю Европу. Распространение возрожденного античного знания и новых гуманистических идей нашло особенно мощную поддержку в виде древнего китайского искусства печатания, которое было теперь открыто и в Европе. Первую типографскую машину построил Иоганн Гуттенберг, и случилось это примерно в 1450 году в Майнце; когда двенадцать лет спустя город подвергся разграблению, первопечатники рассеялись по всей Европе, так что искусство их стало достоянием многих стран, в том числе Нидерландов (1463), Италии (1465), Франции (1470). Крупнейшим из гуманистов Европы был Дезидерий Эразм, родившийся в 1469 году в Нидерландах. Важнейшая его работа «Похвала глупости» высмеивала окостеневшее учение Аристотеля, утверждая, что это не единственный путь к мудрости, есть и иные способы познания мира и различные виды просвещенности. Вместе с расширением книгопечатания пришло распространение грамотности, которая достигла теперь тех слоев общества, которые ранее были оторваны от интеллектуальной деятельности; вместе с упрочением финансового положения поднимающегося купеческого сословия пришло и большее самоуважение. Флорентийский опыт Медичи, пусть и не в столь крупном масштабе, повторялся теперь во множестве буржуазных семейств, проживающих в крупнейших коммерческих центрах Европы. В Голландии, Англии, Германии процветали живопись и литература; в других странах, например, во Франции, эти перемены замыкались по преимуществу королевским двором, но давали о себе знать даже в консервативной, заливаемой потоками золота Испании. В итоге многие образованные люди начали в частном порядке подвергать сомнению верховенство коррумпированной церкви. Лютер придал этому движению заметное ускорение — он бросил вызов церкви изнутри.
Мартин Лютер родился в 1483 году в саксонском городке Айслебен, где его отец начинал медником, но потом добился положения городского советника. Лютер вырос в богобоязненной семье и поступил в Эрфуртский университет; отец видел сына адвокатом, но, к его возмущению, Мартин в двадцатичетырехлетнем возрасте принял причастие и оказался в августинском монастыре. Три года спустя, в 1510 году, он был послан по какому-то делу в Рим, где серьезный и просвещенный молодой церковнослужитель был буквально потрясен распущенностью нравов и коррупцией, царящими в церкви. После этого он перечитал Библию новыми глазами, и это вернуло его к тому, что всегда казалось истинной духовной сутью христианства. С его точки зрения, эта ясная и простая истина была впоследствии затуманена разного рода церковными доктринами и учениями; в представлении же Лютера спасение души заключено в непосредственной вере, а не в церковных толкованиях. У папы нет права претендовать на отпущение грехов (для чего и существуют индульгенции), это исключительная прерогатива Бога.
Глубокая вера соединялась в Лютере со взрывным темпераментом, что превратило его в странствующего проповедника, но в то же время сделало совершенно нетерпимым к мнениям, которые он не мог принять. Терпению его пришел конец, и вот тогда-то он и вывесил свои девяносто пять тезисов на дверях Виттенбергского собора. В тезисах подвергалась сомнению не только действенность индульгенций, но и авторитет церкви и папы как ее главы. В одном из тезисов говорилось: «Папа богаче Креза, лучше бы он продал собор Святого Петра и раздал деньги бедным». В другом подвергалась сомнению святость понтифика: «Те, кто верит в спасение, даруемое индульгенциями, будут прокляты навеки».
Вскоре Лютер перевел тезисы на немецкий, чтобы они дошли не только до ученых людей, владеющих латынью, а еще через некоторое время один предприимчивый печатник уже набирал перевод на своем станке. Далеко за пределами Виттенберга люди читали сенсационные Лютеровы тезисы с их требованием реформы церкви — хотя даже в это время сам Лютер утверждал, что выступает отнюдь не против самой церкви, лишь против папства с его ритуалами. Но события уже подчинялись собственной логике и вскоре захлестнули это разграничение: началось движение, именуемое ныне Реформацией.
Когда в 1518 году слухи о бунте Лютера достигли Рима, папа потребовал его к себе. Но Лютер прекрасно понимал, чем грозит ему поездка в Рим, и под разными предлогами всячески от нее уклонялся. Тогда Лев X велел папскому легату, кардиналу Каэтану, переговорить с Лютером, и в итоге разговор вылился в страстное противостояние. Но к этому времени учение Лютера уже приобрело в Германии широкий размах, а самому ему протежировал саксонский курфюрст Фридрих III.
В тот год умер император Священной Римской империи Максимилиан I, и Фридрих III был одним из семи «князей-выборщиков», кому предстояло выбирать нового императора. Задевать его Льву X совсем не хотелось, ибо ему было важно иметь на этом влиятельном престоле союзника. Второстепенный, казалось бы, эпизод в провинциальном саксонском городке превращался в событие, имеющее важные политические последствия для всей Европы. Тем временем Лютер продолжал пропагандировать свои идеи, летом 1519 года у него состоялся целый ряд публичных дебатов в Лейпциге, на которых присутствовали герцог Саксонский (кузен курфюрста), теологи из Лейпцигского и Виттенбергского университетов, а также многие видные фигуры светского и церковного звания.
Параллели между воззрениями Лютера и гуманистическими идеями Эразма казались очевидными. И те и другие находили все новых последователей, как в интеллектуальном, так и в теологическом плане. Отталкиваясь от программы классического образования, Эразм возвращался к истокам западной цивилизации; Лютер возвращался к Библии как к единственному источнику истинной теологии и духовной стойкости. Гуманизм, господствовавший тогда на севере Европы, оказывал значительное воздействие на Реформацию, но не на самого Лютера, оставшегося по сути своей верующим средневекового типа. И вовсе не новые философские идеи заставили его бросить вызов церковным авторитетам; спор имел сугубо религиозный характер, а цель состояла ни больше ни меньше как в поисках спасения души. Что же касается этих новых идей, то многих они заставляли усомниться в самой структуре европейского общества, интеллектуальным центром которого оставалась церковь, связующая воедино все звенья — от естественных наук до философии, от морали до искусства. Для многих европейцев идеи Лютера представляли собой луч надежды, хотя положение самого священника оставалось неустойчивым.
В ходе лейпцигских дебатов Лютера весьма хитроумно заставили выступить в поддержку Яна Гуса, сожженного на костре за ересь, после того как он появился в Констанце на соборе 1414 года. Узнав об этом, Лев X издал папскую буллу, проклинающую Лютера как еретика. В принципе это должно было означать конец, как означало конец для Яна Гуса; но на стороне Лютера все еще оставались влиятельные немецкие аристократы.
К этому времени уже был выбран новый император Священной Римской империи. Им стал под именем Карла V девятнадцатилетний внук покойного Максимилиана I, эрцгерцог Австрии. Его-то Льву X меньше всего хотелось видеть на этом престоле. В 1516 году умер король Испании и Неаполя Фердинанд, и Карл V унаследовал оба эти титула, и не только титулы, но и испанские Нидерланды. Если добавить к этому германские территории Священной Римской империи, то станет ясно, что власть нового императора стала большой угрозой для всей Европы. Его владения почти полностью окружали Францию — единственную из крупных держав, с которой Льва X связывали союзнические отношения.
В 1521 году папа издал буллу, отлучающую Лютера от церкви, но это только усложнило ситуацию. Лютер ответил публичным сожжением буллы в присутствии сочувствующих граждан и целой группы университетских профессоров. Фридрих III заключил Лютера в свой виттенбергский замок, но сделано это было скорее для его безопасности. Именно тут он начал переводить Библию на национальный немецкий язык — отныне людям не понадобится посредничество священства в общении с Богом, они сами услышат Его слово. Появилось у него и время привести свои мысли в связную форму, в нечто вроде альтернативного учения, и, подобно его знаменитым проповедям, оно звенело духоподъемным словом: «Ни папа, ни епископ, ни кто иной из церковников не имеют права навязывать верующему в Бога хоть малую часть своих законов...»
Всего четыре года прошло с тех пор, как Лютер вывесил свои тезисы, а они уже распространились повсеместно, достигнув Венгрии, Франции и Богемии (где многие все еще помнили Яна Гуса, тайно полагая его национальным героем и мучеником). Когда тезисы прозвучали в Англии, Генрих VIII пришел в ужас и написал «Защиту», в которой мысли Лютера предаются анафеме. Работу свою он посвятил папе Льву X как «декларацию веры и преданной дружбы» и послал экземпляр в Рим. Адресат был настолько тронут этим жестом, что направил в Англию послание, в котором отпущение грехов дается любому, кто прочитал трактат Генриха VIII. Помимо того, он присвоил ему титул Fidei Defenser (Защитник Веры), который и по сию пору в виде аббревиатуры FD чеканится на английских монетах рядом с изображением монарха.
Но тут выяснилось, что у Льва X есть дела более срочные. В конце ноября 1521 года испанские войска императора Священной Римской империи Карла V двинулись на Милан, где разбили французскую армию Франциска I, рассеявшиеся остатки которой бежали через Альпы. Сразу по получении известий об этом правитель Флоренции кардинал Джулио де Медичи направил гонца к своему кузену папе Льву X, который в это время охотился у себя на вилле, невдалеке от Рима. В ту ночь Лев X долго сидел у открытого окна своей виллы, беззаботно любуясь фейерверком, устроенным в честь великой победы Карла V. Наконец-то французы изгнаны из Италии, которая вернулась теперь к тому состоянию, в каком была при начале его понтификата. Никто не знает, что ждет впереди, но для папы, поклявшегося извлечь максимум удовольствия из своего понтификата, для торжества хорош любой повод.
По официальному сообщению, папа простудился на холодном ночном ноябрьском воздухе и слег; простуда быстро перешла в лихорадку, и через несколько дней Льва X не стало. Умирая, папа, по свидетельству присутствовавших, воскликнул: «О Боже! О Боже!», что одни сочли ясным опровержением его пресловутого агностицизма, а другие — чистым богохульством, этот самый агностицизм подтверждающим.
В этой смерти осталось много неясного. Говорят, это было убийство, во всяком случае, врачи, пользовавшие папу, утверждают, что умер он от яда, хотя кто его подлил, неясно: за восемь лет своего понтификата Лев X нажил много врагов как в Риме, так и далеко от него. Рыцарственной натуре Франциска I отравление было чуждо, но, конечно же, он остается под сильным подозрением, ибо после долгих лет союзнических отношений, подкрепленных брачными узами, Лев X его предал. Так или иначе, он умер, оставив папскую казну почти опустошенной, Италию — в состоянии неопределенности, а римско-католическую церковь — на пороге распада.
23. ПОНТИФИКАТ ОСТАЕТСЯ СЕМЕЙНЫМ ДЕЛОМ
Через месяц после смерти Льва X в Риме собирался кардинальский конклав для выборов нового папы. По широко распространенному мнению, стать им должен был кардинал Джулио де Медичи, все знали, что он был наиболее способным из советников Льва X, а также вел все финансовые дела понтифика. То, что последний нередко просто отмахивался от советов кузена, как раз и объясняло, по мнению многих, плачевное состояние Ватикана — влияние Джулио де Медичи тут было ни при чем. Как раз наоборот, кардинал Джулио представлял собой полную противоположность Льва X — он был привлекателен на вид, вдумчив, замкнут, наконец, одарен тонким вкусом. И все же у него обнаружилось много оппонентов.
Правда, и мощная поддержка была, ибо в течение долгих лет Медичи обзаводились в Риме влиятельными друзьями, однако за те же годы и врагов появилось немало. Взять хотя бы кардинала Содерини — он был преисполнен решимости не допустить в Ватикан еще одного Медичи. В этом смысле он нашел неожиданную поддержку в лице кардинала Помпео Колонны, одного из тридцати новых назначенцев Льва X, — этот решил, что второго такого шанса быть избранным самому может и не представиться. А когда выяснилось, что на сторону этих двух стали все французские кардиналы, не забывшие измены Льва X по отношению к своему королю, ситуация зашла в тупик.
И тогда кардинал Джулио предпринял тонкий тактический маневр. Он заявил, что не достоин столь высокого сана, и предложил избрать папой малоизвестного фламандского ученого — кардинала Адриана Деделя, самоуглубленного аскета, бывшего некогда домашним учителем нового императора Священной Римской империи Карла V. Кардинал Джулио был убежден, что эта кандидатура будет отвергнута — по причине неизвестности претендента, недостатка политического опыта, ну и иноземного происхождения: считалось, что папой должен быть итальянец. А то, что столь бескорыстное предложение прозвучало из уст Джулио де Медичи, должно убедить всех, что именно он-то и является идеальным кандидатом. Но Джулио просчитался. Блеф не прошел, и кардинал Адриан Дедель был избран новым папой под именем Адриана VI. Когда его имя было объявлено во всеуслышание, толпа, собравшаяся перед дверьми, за которыми заседал конклав, встретила известие удивленно-недоверчиво — никаких приветственных возгласов, глухое молчание, за которым последовал нарастающий ропот и свист.
Простой люд явно понимал лучше кардиналов, что означает избрание папы, который ведет себя так, как папе и положено, — катастрофу для города Рима. И действительно, не последовало никаких выгодных назначений, никаких карнавалов и маскарадов, пышных застолий. Богобоязненный Адриан VI занял самое скромное помещение в папских апартаментах, продолжал жить на флорин в день, вставал до рассвета и долго молился, ел одну лишь жидкую овсяную кашу, которую ему подавала злобная старуха экономка, вывезенная из Фландрии. Подобного рода примерное поведение воспринималось и кардиналами, и обычными гражданами как варварство, какового только и можно ожидать от неотесанного североевропейца, там все такие. Но худшее было впереди: новый папа велел всем кардиналам и архиепископам, давно осевшим в Риме, оставить его и переселиться в свои приходы (а многие там раньше вовсе не бывали). Начался угрюмый исход из Вечного Города.
Экономика города резко пошла на спад, и, по словам Вазари, многие художники «только что от голода не умирали». А о низших слоях что уж и говорить: у головорезов не осталось жертв, и они стали попрошайничать, карманники тоже стали нищими, проститутки голодали, и даже священники были вынуждены вести благочестивый и воздержанный образ жизни. Неудивительно, что Адриан VI не прожил и двух лет после избрания. Официальной причиной его смерти стала болезнь почек, но почти наверняка это было отравление — профессиональный риск, жертвой которого скорее всего стали шесть последних понтификов.
На сей раз кардинал Джулио явился на конклав во всеоружии; но не дремали и его заклятые враги кардиналы Франческо Содерини и Помпео Колонна, сумевшие заручиться публичной поддержкой не только французских кардиналов, но и Франциска I. В результате возник очередной тупик. Взятки давались и принимались, шла обычная подковерная борьба, но дело с мертвой точки не сдвигалось. Дни перетекали в недели, прошел месяц, потом второй, наконец народ начал роптать. Кардиналы заседали за закрытыми дверями, общение с ними было невозможно, и тем не менее каким-то образом до них дошли слухи, что европейские государи проявляют все большее и большее недовольство возникшими трениями. Император Священной Римской империи и король Англии дали понять, что поддерживают кандидата из семьи Медичи, да и Франциск I вроде больше не возражал (будучи уверенным, что сразу после избрания Джулио де Медичи изменит императору и возобновит союз с Францией). После шестидесяти дней беспрерывных заседаний — невиданный срок в истории конклавов — кардинал Медичи добился избрания и стал папой Климентом VII.
Климент VII вырос во дворце Медичи и получил лучшее гуманитарное образование, какое только могла предоставить ему семья. В свои сорок пять лет он мог вспомнить, как сиживал за обеденным столом с Лоренцо Великолепным, в окружении юного Микеланджело и будущего папы Льва X и как все они внимали философским дискуссиям и поэтической декламации Полициано и Пико делла Мирандолы. Климент VII унаследовал от убитого отца располагающую внешность, хотя, судя по портретам, на место улыбки пришла некоторая угрюмость. А от прадеда, Козимо де Медичи, ему досталась коммерческая хватка, не говоря уже о легендарной осмотрительности, которая заставляла нового папу всякий раз колебаться перед принятием ответственных решений. Ну и в отличие от своего кузена Льва X Климент VII обладал развитым художественным вкусом.
Если щедрое покровительство Льва X позволило Рафаэлю сделаться богатым человеком, его более молодой и более осмотрительный кузен поощрял прежде всего творческие усилия художника. Именно кардинал Джулио де Медичи заказал Рафаэлю его последний шедевр, «Преображение», оставшийся незаконченным из-за преждевременной смерти художника в возрасте тридцати семи лет. В этой работе Рафаэль, не ограничиваясь привычным изяществом и тонкостью линий, воссоздал нервный и многогранный образ рода людского, благоговейно застывшего перед чудесно преображенным Христом. Это полотно отличается и блеском, и внутренней напряженностью, а его мрачные тона смягчены невесомостью парящего в воздухе Христа; в этом смысле картина отвечает умонастроениям самого Климента VII, ибо, при всей нерешительности в практических делах и нередкой мрачности, его внутренняя жизнь была озарена твердой верой.
Все это объясняет его близость к Микеланджело, который, будучи человеком глубоко и откровенно верующим, в лучшие свои времена оставался художником противоречивым и непредсказуемым. В годы, предшествующие понтификату, кардинал Джулио пристально следил за работой Микеланджело во флорентийской капелле Медичи, а уже став папой Климентом VII, заказал ему фреску Страшного Суда для Сикстинской капеллы. Как пишет Кондиви, Климент VII считал, что «многогранность и величие общего плана позволят (Микеланджело) реализовать всю свою мощь художника». Да, Климент VII знал, что делает, хоть и не суждено ему было увидеть эту гигантскую фреску в ее замечательной цельности. Толпы людей на Страшном Суде, иные поднимаются, многие погружаются в чистилище и низвергаются в адский огонь — все это несет на себе отчетливый отпечаток ренессансной живописи. Это отнюдь не просто средневековый образ огня и серы, это образ рода людского, во всех своих проявлениях, от святых до охваченных безумным страхом грешников. Фреска предстает напоминанием о том, что даже гуманистам, людям сильным и уверенным в себе, предстоит Страшный Суд; Ренессанс, при всей своей динамике, оставался движением глубоко религиозным, а идеи, которым суждено было изменить это положение, пребывали пока в зачаточном состоянии.
Но Клименту VII эти идеи были, как ни странно, знакомы, и, что еще более удивительно, он относился к ним с сочувствием. Известно, что его секретарь Иоганн Видманстадиус познакомил его с воззрениями Коперника и даже прочитал на эту тему лекцию в Ватиканском саду, на которой был сам папа и его ближайшее окружение. Содержание лекции основывалось на тайно циркулировавших в то время «Комментариях» Коперника, фактически на содержании его труда «О вращении небесных сфер». По мысли Коперника, Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, и лишь Луна описывает круги вокруг Земли. Эта теория чревата глубокими последствиями, из нее следует, что земля, а стало быть, и люди не являются центром вселенной, созданной Богом. Средневековая концепция человека как микрокосмоса, пребывающего в центре макрокосмоса (вселенной), пошатнулась, а вместе с ней от одного-единственного удара рухнули самые различные толкования этой общей идеи, а также смысл, который она придавала человеческой жизни. Помимо того, теория Коперника представляла собой первый серьезный вызов античному знанию, возрожденному в эпоху Ренессанса. Она открывала путь новому типу мышления, основанному на наблюдении и опыте, — тому, что впоследствии станет научным мышлением.
Климент VII с готовностью принял гелиоцентрическую теорию Коперника, не видя в ней, судя по всему, никакого противоречия вере: его ренессансный гуманизм был открыт подобного рода новаторским идеям. Как ни парадоксально, но отверг Коперника Лютер: превозмогая гегемонию церкви с ее принудительными нормами, Реформация в то же время оставалась верна многим раннехристианским идеям. Выросший из них протестантизм по-прежнему опирался на целый ряд средневековых лредставлений о вере и знании, и когда выяснилось, что идеи Коперника бросают вызов взглядам Аристотеля, Лютер решительно встал на сторону последнего.
Еще до своего избрания будущий папа Климент VII сблизился с Леонардо да Винчи. Он был слишком молод, чтобы помнить Леонардо по дворцу Медичи (если последний действительно жил там), но наверняка виделся с ним во время его довольно продолжительного пребывания в Риме, начавшегося в 1513 году, вскоре после восшествия на папский престол Льва X, который предоставил Леонардо личные апартаменты в Ватикане. Это были не лучшие для художника годы; Леонардо перевалило за шестьдесят, он сделался стар и раздражителен, страдал от ипохондрии, излечению от которой вряд ли способствовало его крайнее недоверие к врачам. К тому же он очень подозрительно относился к двум помощникам-немцам, нанятым для него Львом X, будучи убежденным, что они воруют у него идеи. Те, в свою очередь, жаловались Льву X на «некроманию» Леонардо, что в буквальном смысле правдой не было, хотя они, надо полагать, думали иначе. Леонардо всего лишь проводил анатомические исследования, однако церковь не поощряла расчленение трупов, так что Лев X запретил Леонардо продолжать эти занятия. Не исключено также, что он усомнился в своем юношеском атеизме, хотя открыто в нем не признавался никогда. Его записные книжки пестреют зарисовками всякого рода наводнений, явно подсказанными ожиданием второго Потопа, «когда на род человеческий обрушится Божий гнев». Даже мощные ренессансные умы, калибра Леонардо, не имели иммунитета против религии. Гуманизм Полициано, Пико и Боттичелли не выдержал проповеднического пафоса Савонаролы; Леонардо же уступил давлению то ли собственной совести, то ли странностей своей психологии. В эти годы простой, зеркального типа, шифр, к которому он ранее прибегал в своих записных книжках, сменился на более сложный, а с другой стороны, даже иные из вполне ясных, казалось бы, замечаний сохраняют какую-то двусмысленность. Вот одна весьма загадочная запись: «I medici me crearono edesstrussono», что означает «Медичи меня породили, Медичи и убили». Эта фраза показалась бы весьма красноречивой, если бы Леонардо действительно имел в виду Медичи, — оставалось бы только понять, каким, собственно, образом они его убили. Может, Леонардо просто дал волю мгновенной вспышке раздражения, вызванного запретом, наложенным Львом X на его научные занятия? Или это взвешенное, продуманное суждение? Но дело еще и в том, что medici — это множественное число от medico — врач, и, судя по всему, речь действительно идет о медицине. Широко известное недоверие Леонардо к врачам вполне могло заставить его вообразить, будто они его убивают; а если роды у матери были трудными, отчего бы докторам его не «породить»? Однако все это только догадки.
Следует отметить, впрочем, что в этот период небо над Леонардо не было затянуто одними лишь черными тучами. Именно тогда он впервые увидел работы Рафаэля, которые произвели на него глубокое впечатление и оказали видимое воздействие на его собственный стиль. Другое приятное событие произошло в 1515 году, когда Леонардо сопровождал Льва X в его триумфальной поездке во Флоренцию, а затем в Болонью, где у того проходили трудные переговоры с Франциском I. Леонардо пригласили, чтобы удивить и, возможно, позабавить и смягчить молодого короля Франции, и вполне в том преуспели. По просьбе Льва X Леонардо сконструировал льва, который, сделав несколько шагов, отверз грудь, где на месте сердца оказалась французская лилия. Все это должно было символизировать сердечную дружбу между Львом (с большой буквы) и Франциском. Словом, игрушка эта действительно вполне могла разрядить тяжелую атмосферу встречи и способствовать тому, что Джулиано Медичи стал герцогом Немюрским. Если так, то это можно рассматривать как ответный дар судьбы, ибо Джулиано давно был близок с Леонардо и всегда в высшей степени ему благоволил: не исключено, что именно по его заказу была написана «Мона Лиза», которая, в свою очередь, вполне могла быть не женой флорентийского сановника Франческо дель Джокондо, но любовницей Джулиано де Медичи.
И уж точно по заказу Льва X был написан для будущего папы Климента VII портрет мадонны, одна из всего нескольких десятков работ, бесспорно принадлежащих кисти Леонардо. Медичи сыграли значительную роль в жизнь Леонардо, а поездка в Болонью, где Лев X представил его Франциску I, вообще оказалась судьбоносной.
Французский король, которому сравнялся тогда всего двадцать один год, не только видел в себе средоточие рыцарских достоинств, но и выказывал интерес к наукам, что и стало основой продолжительного и глубокого взаимного интереса. Вернувшись на родину, Франциск I переделал свой двор на ренессансный манер и пригласил Леонардо. Не удовлетворенный жизнью в Риме, стареющий художник принял приглашение и, прожив во Франции три года, умер в возрасте шестидесяти семи лет — по утверждению Вазари, которому, впрочем, как говорилось, не всегда можно вполне доверять, на руках у Франциска I.
Другим протеже Климента VII был ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, также оставивший яркое, хотя и не очень достоверное описание своего времени. Челлини родился во Флоренции в 1500 году и еще в юном возрасте сделал себе имя как исключительно одаренный золотых дел мастер. В результате какой-то шумной ссоры он был приговорен к смертной казни, но бежал из города — один из множества скандальных, а иногда и кровавых эпизодов, которыми была, как нитью, прострочена его жизнь.
В Риме Челлини появился в двадцатитрехлетнем возрасте, как раз в тот год, когда Климент VII стал папой. Новый понтифик сразу же распознал в молодом человеке исключительные дарования и поручил ему целый ряд работ, принесших Челлини широкую известность в Риме. В своей «Автобиографии» он вспоминает, что работал с большим усердием, выполняя один за другим многочисленные заказы — монеты, запрестольные перегородки, даже застежку с папским геральдическим знаком; все эти вещи, по скромной самооценке автора, были выполнены с большим мастерством. Пишет Челлини и о частых поездках в сельскую местность, когда, закинув за спину ружье и прихватив с собой любимого пса по кличке Баруччо, он укладывал одним выстрелом, со ста ярдов, двух гусей. Охватывающая весьма широкий круг предметов, но неизменно вращающаяся вокруг неподвижного центра, «Автобиография» представляет Челлини хвастуном, лжецом, воришкой, даже убийцей и в то же время содержит яркие детали, бросающие свет на выдающихся людей, с кем ему приходилось общаться, включая Климента VII. И хотя доверительные беседы, которые он якобы вел с папой, явно выдуманы, нет никаких сомнений в том, что он был близко с ним знаком и, более того, как увидим, присутствовал при большинстве важнейших событий его жизни.
К несчастью, большинство ювелирных шедевров, созданных Челлини, было впоследствии расплавлено алчными вандалами, от королей до обыкновенных грабителей. Единственный из сохранившихся доныне предметов из золота, который может быть достоверно атрибутирован как работа Бенвенуто Челлини, — это солонка с обнаженными мужской и женской фигурами по бокам, сделанная по заказу Франциска I, — она с бесспорностью убеждает в том, что бисексуал-сладострастник, хвастун и убийца был в то же время гениальным художником.
Челлини мог вывести из себя даже хладнокровного и терпимого папу Климента VII. Услышав об очередной выходке, когда он, на свою беду, проломил череп какому-то нотариусу, «побелевший от гнева папа, — вспоминает Челлини, — велел оказавшемуся рядом губернатору схватить меня и повесить на том самом месте, где было совершено преступление». К счастью, как вскоре выяснилось, жертва чудесным образом воскресла из мертвых, и папа помиловал Челлини, заметив якобы, что «ни за что на свете не желал бы потерять такого человека (как я)».
Если все так оно и было, то это один из тех немногих случаев, когда Климент VII действовал импульсивно, решительно и быстро. Чаще же всего он сохранял едва ли не ледяное спокойствие, только в его случае родовая черта Медичи — хладнокровная осмотрительность — обернулась недостатком. Отзываясь о новом папе, венецианский посол пишет, что «он хорошо владеет речью и отличается широким кругозором, только слишком уж робок». Быть может, это слишком резко сказано; надо признать, что Климент VII в любом случае глубоко схватывал суть вещей, глядя на них со всех сторон. Именно поэтому он стал таким хорошим советчиком своему кузену Льву X, что, правда, убивало в нем привычку к самостоятельным действиям. В ту пору, когда он правил Флоренцией, это особенного значения не имело — партийная машина работала сама по себе и решения принимала чаще всего разумные и взвешенные. Но папе приходится иметь дело с проблемами, выходящими за пределы городских стен, их решение требует качеств руководителя, наделенного решительностью и уверенностью в себе, качеств, которые, возможно, были ослаблены у Климента VII самим фактом незаконнорожденности. Безотцовщина оказала на него глубокое психологическое воздействие. Пусть Лоренцо Великолепный опекал его, как мог, пусть отмечал и всячески поощрял его дарования, — собственные дети всегда оставались для него на первом месте. Показательно, что не Лоренцо, а его сын Лев X положил начало карьере будущего Климента VII.
Его нерешительность стала заметна с самого начала понтификата. Имела ли она для него фатальные последствия, или эти последствия были неизбежны в любом случае — вопрос иной. На пути к папскому престолу кардинал Джулиано столкнулся с огромными трудностями, и отсутствие ясного видения отнюдь не помогало справиться с ними; умеренный образ жизни мог изменить сам образ понтификата дома, в Италии, но дело в том, что в изменении остро нуждался не фасад, а сама суть папской власти.
Климент VII сталкивался с препятствиями повсюду. Его враг кардинал Колонна продолжал плести интриги и после избрания, а у папы практически не было средств привлечь к себе союзников — казна пуста. А за пределами Рима ситуация складывалась еще более опасная: султан Сулейман Великолепный, правитель Оттоманской империи, захватил все Балканы, вышел к адриатическому побережью и готовился к продвижению на север, в Венгрию, угрожая, таким образом, Центральной Европе и всему христианскому миру. Мало того, единство этого мира изнутри подрывало начатое Лютером протестантское движение, которое чем дальше, тем больше приобретало опасный размах, подступаясь все ближе и ближе к дому. Конфликт между мощной Францией и императором Священной Римской империи грозил расколоть Италию на части.
Франциск I снова ступил на итальянские земли, в очередной раз нацелившись на Милан. Десять лет назад Лев X, в самом начале своего понтификата, оказавшись в сходной ситуации, едва выстоял; теперь Клименту VII предстояло повторить тот же опыт, хотя фортуна и черты собственного характера были не на его стороне. Объединенные силы Климента VII и Карла V, призвавшего под ружье своих испанцев, встретили французов в феврале 1525 года у Павии, в двадцати милях к югу от Милана, и нанесли им тяжелое поражение. Целый ряд родовитых военачальников были убиты, а сам Франциск I пленен и переправлен в Испанию. Лишь год спустя ему удалось вернуться домой, предварительно уступив Карлу V всю Бургундию и отказавшись от своих претензий на Неаполь и Милан.
Климент VII быстро сообразил, что теперь уже император Карл V представляет собой прямую угрозу всей Италии, не говоря уже об остальной Европе, и немедленно вступил в тайные переговоры с только что освобожденным Франциском I. Они разрешились созданием направленной против Карла V Коньякской Лиги, объединяющей Францию, Венецию, Милан, Папскую область и Флоренцию.
Карл V был взбешен. Но тут в Риме стало известно о большом сражении у Буды, на берегу Дуная, между венграми и армией Сулеймана Великолепного. Историк Гвиччардини, служивший папским советником, вспоминает, как в Риме были потрясены, узнав о том, что «армия, под знаменами которой в Венгрии собрались знать и храбрые солдаты, была разбита, многие, в том числе и сам король, а также иерархи церкви и бароны, погибли». Климент VII немедленно призвал «ко всеобщему миру среди христиан» и формированию вооруженного альянса против агрессоров-неверных, после чего собрал коллегию кардиналов и распорядился подготовиться к выступлению против турок.
Пренебрегая нависшей угрозой, кардинал Колонна усмотрел в создавшейся ситуации шанс нанести удар по Клименту VII и поспешно отбыл в свой укрепленный замок у подножия гор в сорока милях к юго-востоку от Рима; здесь ему удалось сколотить вооруженный отряд из восьмисот конников и пяти тысяч пехотинцев. С ними он и двинулся на Рим, где, по словам Гвиччардини, «у папы не было гвардии, готовой стать на его защиту, и где народ, отчасти злорадствующий над его несчастьями, а отчасти равнодушно полагающий, что его происходящее не коснется, не выказывал ни малейшего желания дать отпор врагам папы». Потому неудивительно, что кардинал Колонна быстро захватил город. «Готовый умереть, — продолжает Гвиччардини, — Климент VII, по примеру Бонифация VIII (которого точно так же пытался свергнуть в 1303 году один из членов семьи Колонна), надел митру и сел на трон понтифика». Кардиналам все же удалось уговорить папу скрыться в замке Сан-Анджело, что, несомненно, спасло ему жизнь, правда, ценой унизительного соглашения с Колонной, ибо «в замке совершенно не было провизии». Климент VII был вынужден выйти из Коньякской Лиги, направленной против Священной Римской империи, а также гарантировать кардиналу Колонне и его сообщникам полную амнистию. Климент VII оказался в положении поистине шатком; власть его ослабла, политика зашла в тупик, и он как будто впал в характерные для себя сомнения. Но в данном случае внешность оказалась обманчива: действуя скрытно и с необычной для него стремительностью, папа принял решение, которое впоследствии будет сочтено одним из самых провальных в его жизни, но тогда застало кардинала Колонну врасплох. Папа направил крупный отряд своей гвардии в имения кардинала с приказом разрушить все укрепления, сжечь дотла замок, а обитателей вышвырнуть в чистое поле. Добивая противника, папа специальным указом лишил Колонну церковного сана и всех занимаемых должностей, объявил вне закона и даже назначил премию за его голову (которая оказалась — еще одно оскорбление — до неприличия низкой, что, впрочем, объяснялось жалким состоянием папской казны). Говорят, что, услышав об этом, Колонна впал в такую ярость, что даже имени папы спокойно слышать не мог. Решив, что в Риме ему больше делать нечего, кардинал собрал остатки своего воинства и двинулся на юг, к Неаполю, где, следуя приказу Карла V, вице-король Священной Римской империи формировал вооруженные отряды, «чтобы задать папе урок, который он никогда не забудет».
Тем временем по ту сторону Альп Карл V отдал распоряжение своим военачальникам собрать крупные силы для похода на Рим. Состояли они из ландскнехтов, набранных в Баварии и Франконии[7], — в основном крестьян-протестантов, полыхающих религиозной ненавистью к Риму, ну и рассчитывающих на изрядную поживу. Возглавлял их грозный, хотя и стареющий немецкий военачальник Георг фон Фрундсберг.
Тяжелое положение Климента VII слегка улучшилось после того, как папские отряды взяли верх над кардиналом Колонной к югу от Рима и неаполитанскими войсками у Фрозинона, откуда открывался прямой путь к разоренным поместьям Колонны. Но в это время ландскнехты Фрундсберга уже шли через Альпы. Сквозь проливные дожди, а затем и первые снежные бури, по ущельям и оврагам, то и дело преодолевая валуны и снежные заносы, неся на руках тучного Фрундсберга, двигались они, пока наконец не достигли долин Ломбардии. Голодные, в ободранной одежде, измотанные после долгого перехода, ландскнехты соединились с силами других военачальников империи — лихим Филибером, принцем Оранским, и герцогом Бурбонским, под чьим началом были в основном испанцы. В целом объединенная армия состояла из тридцати тысяч солдат.
Климента VII раздирали сомнения, он никак не мог ни на что решиться — то ли защищать Рим, то ли запросить унизительного мира, то ли подняться надо всем и заявить свои права духовного лидера христианского мира, то ли сдаться на милость Карла V, то ли бежать с поля боя в надежде на то, что церковные иерархи придут к нему на помощь. В конце концов папу уговорили послать эмиссаров, а те договорились с герцогом Бурбонским о заключении временного перемирия. Но когда об этом стало известно пестрой толпе немецких ландскнехтов, они буквально взвились: им платили за участие в боях, и, выдержав тяжелый альпийский переход, они совершенно не желали возвращаться назад с пустыми руками. Даже непрекращающиеся дожди не могли остудить их пыла, они и слышать не хотели, что пытается втолковать им Георг фон Фрундсберг, который, в свою очередь, был настолько взбешен подобного рода поведением, что с ним случился апоплексический удар, и его пришлось отправить на телеге в Феррару для поправки.
Формально ландскнехты перешли под начало герцога Бурбонского, но выяснилось, что он ничего не может поделать с этой вышедшей из повиновения толпой оборванцев. Дожди продолжали лить не переставая, провиант подходил к концу, тяжелую артиллерию засасывало в глину, и вскоре против мира стали выступать даже дисциплинированные испанские отряды, так что герцогу пришлось уступить и отдать приказ двигаться на юг, через Апеннины, к Риму. Немцы с восторженным ревом хлынули вперед, за ними в большем порядке последовали угрюмые испанцы.
Проливные дожди сопровождали армию на протяжении всего ее стремительного продвижения на юг через горы. По свидетельству очевидцев, вместе с ландскнехтами, полуголодными, в изодранном платье, следовали отряды фанатичных испанцев, которые упрямо форсировали каждую щель, каждый овраг в горных проходах. Группами по тридцать человек в каждой, вцепившись друг другу в руки, они пробивались через набухающие на глазах потоки горных вод, подгоняемые мечтой о золоте, которое их ждет впереди.
Климент же VII у себя в Риме был настолько перепуган поворотом событий, что, говорят, впал в апатию, напоминающую едва ли не умопомешательство; во всяком случае, пробудить его никак не удавалось, он просто тупо и бессмысленно смотрел перед собой. Иные из кардиналов бежали из города. Другие баррикадировались в своих укрепленных дворцах-крепостях, припрятывая ценные вещи. Наконец папа заставил себя встряхнуться, но обнаружил лишь, что казна пуста и платить за оборону города нечем. В отчаянной попытке найти хоть какой-то выход из положения, Климент VII поспешно возвел в кардинальский сан шесть богатейших жителей Рима, что позволило ему собрать более 15 000 флоринов. А затем вновь впал в сомнения. По словам Гвиччардини, «совесть папы больше мучило столь откровенное взяточничество, нежели перспектива конца понтификата и вообще всего христианского мира». К этому времени в замке Сан-Анджело, представляющем собой практически неприступную крепость, на сей раз вполне подготовленную к осаде, укрывалось три тысячи человек. Но папа, пребывающий в полном смятении, все еще оставался у себя во дворце, глухой ко всем призывам укрыться в безопасном месте перед лицом вражеской армии, накатывающей на Вечный Город.
Утром 6 мая 1517 года она подошла к стенам Рима, покрывшегося накануне густой пеленой тумана, поднявшегося с Тибра. С рассветных часов папа коленопреклоненно молился у себя во дворце, взывая к божественному вмешательству. Пробиваясь сквозь туман, иноземцы пошли на штурм стен. Защитники города бросились им навстречу.
Находившийся в их рядах Челлини так описывает эту сцену: «Взобравшись на вал, мы увидели внизу устрашающую массу солдат герцога Бурбонского, которые изо всех сил пытались пробиться в город. В том месте, где находились мы, сражение получилось особенно ожесточенным, и вскоре немало молодых людей легло под напором нападающих. Все вокруг было покрыто густой пеленой тумана, и битва шла не на жизнь, а на смерть». Далее Челлини пишет, как один из его товарищей впал в панику и принялся отчаянно уговаривать его бежать вместе, но храброму ювелиру удалось остановить друга. Вскоре нападавшие закрепили на стене несколько веревочных лестниц. Челлини вместе с другими отстреливались из аркебуз, туман, крики, свист пуль слились воедино, создавая картину всеобщего хаоса. Согласно ряду свидетельств, еще в самом начале штурма герцог Бурбонский смело встал во главе своих войск, воодушевляя их и всячески подталкивая вперед. В какой-то момент в тумане возник просвет, и Челлини вспоминает, как сверху «(он) навел аркебузу на самое плотное скопление противника, целясь в человека, стоявшего впереди остальных. Из-за тумана я не видел, пеший это или конный». Если верить Челлини, то это именно он убил командующего вражеской армией; и действительно, ряд исторических источников подтверждает, что герцог Бурбонский был убит, прямо у стен Рима, выстрелом из аркебузы, хотя нигде не уточняется, кто сделал этот выстрел.
К нападающим присоединились люди кардинала Колонны, и выяснилось, что теперь они численно превосходят защитников города. Сами же горожане при виде того, как враг уже взял стены, впали в панику и ринулись в сторону Сан-Анджело. Возник хаос, в результате которого многие просто были затоптаны насмерть у моста через Тибр, который в сложившихся обстоятельствах взорвать было невозможно, а ведь это был единственный способ остановить солдат, рвущихся в центр города. В то время как народ осаждал Сан-Анджело, какого-то последнего кардинала тащили в корзине вверх по стене. Челлини с товарищами скатились с городских стен и, с трудом пробиваясь через толпу, принялись прокладывать себе путь к Сан-Анджело. «Сделать это, — вспоминает он, — было нелегко, потому что наши командиры хватали и расстреливали каждого, кто бежал от стен, у которых продолжался бой. Враг уже прорвался в город и уже буквально дышал в спину, когда мы все же добрались до ворот замка. К счастью, привратник, опуская решетку крепостных ворот, немного рассеял толпу, так что четверым из нас удалось в последний момент протиснуться внутрь».
Как ни поразительно, Климент VII все еще молился в часовне папского дворца, куда время от времени заходили его приближенные, уговаривая его перейти в замок и сообщая последние новости. Услышав о гибели герцога Бурбонского, он приободрился и, приняв приличествующий сану вид, поднялся на папский трон и еще раз заявил, что встретит врага, как некогда встретил его Бонифаций VIII. А снаружи как раз внезапно раздались громкие крики — враг-то и появился и начал прорубаться сквозь улицы, на которых толпились, окружая папский дворец, испуганные римляне. Климент VII разрыдался и впал в прострацию; в последний момент его все же удалось убедить перейти в замок, соединенный с его дворцом длинным каменным коридором (предусмотрительно пробитым в свое время папой Александром VI Борджиа). При помощи обслуги, поддерживающей сзади, чтобы ускорить шаг, его платье понтифика, он вышел на улицу, меж тем как сквозь проемы в стенах было видно, как ландскнехты, орудуя своими алебардами, избивают священников и обыкновенный люд. В этот момент, вспоминает папский историк Паоло Джиово, находившийся рядом с Климентом, «я накинул на него, закрыв голову и плечи, собственный алый плащ, чтобы какой-нибудь варвар внизу не узнал папу в окне по его белому стихарю и не выстрелил ненароком». В общем, в конце концов Клименту VII удалось укрыться за мощными стенами замка Сан-Анджело.
К концу дня город был полностью захвачен, восемь тысяч жителей убиты. Но это было только начало: утром началось Великое разграбление Рима. Подогретые ночной попойкой, ландскнехты врывались в церкви, унося все, что только можно, насиловали монашенок в монастырях. Испанцы подвергали беспомощные жертвы жестоким пыткам, а бедняки из отрядов, набранных в Южной Италии, не брезговали ничем, даже горшки и гвозди выносили из рыбацких лачуг. По другим сведениям, священные реликвии использовались в качестве мишеней для стрельбы, горы древних рукописей — как подстилка для лошадей, на одной из фресок Рафаэля наконечником копья большими буквами было нацарапано имя Мартина Лютера. Солдатня врывалась в дворцы кардиналов и видных лиц города, крушила все вокруг, насиловала женщин, догола раздевала хозяев, подвергая их всяческим издевательствам, а затем требовала выкуп как за заложников. Тем же, за кого выкупа не давали, можно сказать, повезло, что умерли. По словам одного очевидца, «ад — это ничто в сравнении с картиной, которую являет собой ныне Рим».
Челлини рассказывает, что один мужчина, стоявший рядом с ним на крепостном валу Сан-Анджело, рыдал, охваченный горем, расцарапывал себе кожу в кровь, видя, как солдаты внизу выволакивают из дома членов его семьи. На таком фоне похвальба Челлини, будто он метким выстрелом из мортиры «разрезал надвое одним ядром какого-то испанского офицера», кажется даже симпатичной. А вот еще один фрагмент воспоминаний: «Я стрелял из аркебузы, сея вокруг смерть и разрушение. Я уложил принца Оранского, которого тут же унесли...» Правда, последний чудесным образом остался жив, ибо, как увидим, продолжал весьма энергично командовать армией Священной Римской империи.
В «Автобиографии» повествуется также о том, что Климент VII не жалел комплиментов, то и дело выражая восхищение выдающимися подвигами автора: «Папа был чрезвычайно доволен (мной)... Папа послал за мной, мы заперлись вдвоем, и он спросил меня, что делать с папскими сокровищами... всячески одобрял мои действия... Тепло благодарил» — и так далее. На самом же деле папа пребывал в ужасном состоянии; он вставал на рассвете и выхаживал по крепостному валу, всматриваясь куда-то на север, в надежде увидеть французские войска, якобы поспешающие к нему на выручку.
Разграбление Рима сильно повлияло на сам характер Климента VII. На место прежней открытости пришла неисправимая подозрительность, теперь он не доверял никому; нерешительность сохранилась, но ныне за ней скрывался ум лукавый и расчетливый, а не сострадательный, как прежде. Никогда еще папа римский не был так унижен. Слухи о происшедшем быстро распространились по всей Европе, которая не видела ничего подобного за последнюю тысячу лет, с темных веков и вторжения вандалов и вестготов. Карл V лицемерно объявил при дворе траур; Лютер увидел в происшедшем знак гнева Божьего, обрушившегося на бездуховный и погрязший в пороке Вечный Город; у Эразма появился повод заметить: «Право, в развалинах лежит не один лишь город, но целый мир».
Осада замка Сан-Анджело продолжалась пять недель, обитатели его, включая Климента VII, страдали от духоты, которая становилась все более нестерпимой, и сильного недоедания. Лишь 7 июня император Карл V распорядился снять осаду, но перед этим Клименту VII пришлось подписать договор, по которому Папская область несла крупные территориальные потери, от Чивиттавекьи и Остии на побережье до Пармы, Модены и Пьяченцы на севере. Одним росчерком пера папские земли усохли до небольшой части их прежней площади, был потерян выход к морю, от земель по ту сторону Апеннин не осталось почти ничего.
Но даже после этого Клименту VII не позволяли покинуть Сан-Анджело, где он жил фактически в положении узника, в то время как римляне в своих разоренных домах пребывали в нищете, страдая от голода и чумы. В небе над руинами кружили, чуя запах падали, вороны, и даже остатки армии победителей, окружающей Сан-Анджело, начали впадать в уныние по мере того, как жаркое лето переходило в осень. С приходом зимы немецкие ландскнехты и испанские наемники, которые летом мародерствовали в долинах Романьи, вернулись в Рим. Своих денег они еще не получили и теперь выдвинули ультиматум: если им не заплатят, они ворвутся в Сан-Анджело и убьют папу.
На рассвете 7 декабря папе была предоставлена возможность бегства. Переодетый в слугу, Климент VII и его приближенные двинулись на север; в подкладках одежды были спрятаны золотые цепочки, изготовленные Челлини из переплавленных папских сокровищ. После нескольких дней изнурительного пути папская свита достигла наконец незаметной тропы, которой обычно перегоняют мулов в горы Умбрии; то была единственная дорога, ведущая к уединенному и покинутому епископскому дворцу в Орвьето. Здесь папа наконец оказался в безопасности — по крайней мере от врагов, чего не скажешь о стихиях, ибо, как свидетельствуют очевидцы, дворец «находился в полуразрушенном состоянии» и, чтобы добраться до личных покоев папы, приходилось миновать три больших комнаты, «с голыми стенами и без потолков». Отчасти, чтобы было не так холодно, но главным образом выдавая подавленность и перемены в характере, Климент отрастил усы и бороду. Человек, который при восшествии на папский престол считался самым красивым из всех понтификов, ныне превратился в призрак со зловещей черной бородой. Теперь у него явственно выдавались фамильные тяжелые веки, какие были и у Козимо Pater Patriae, и у Лоренцо Великолепного; но Климента VII они заставляли выглядеть то ли постоянно полусонным, то ли что-то прикидывающим.
В Орвьето Климент VII пытался продолжать заниматься делами понтификата и вскоре столкнулся с очередной политической проблемой. Из Англии прибыла делегация на предмет получения папского благословения на развод Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Папа оказался в чрезвычайно щекотливом положении: с одной стороны, он не хотел ссориться со своим английским союзником, с другой — Екатерина была теткой императора Карла V, от которого теперь зависела сама будущность понтификата. Папа завилял и в конце концов не принял никакого решения. Английская делегация вернулась домой, получив самые безрадостные впечатления от условий, в которых живет папа: «Все здесь находится в состоянии самом жалком и ничтожном». Далее говорится о «голоде, нищете, ужасных жилищных условиях, спертом воздухе», о том, что в комнатах обрушились потолки и бродят по ним всякие сомнительные типы, которые непонятно что здесь делают. Что же до покоев самого папы, вся обстановка, кровать и так далее, не стоит и семи фунтов». Описание этого убожества возымеет тяжелые последствия: брошены первые семена недоверия, король Генрих VIII засомневался в силе человека, с которым он имеет дело.
Мало того что Климент VII потерял обширные территории, он еще утратил опору Медичи во Флоренции. После избрания он послал туда кардинала Пассерини, который должен был не только править от его имени Флоренцией, но и готовить к исполнению государственных обязанностей двух подростков из семьи Медичи — Ипполито и Алессандро. Оба они были детьми незаконнорожденными; первый — сын покойного Джулиано, герцога Немюрского, второй, официально, — сыном Лоренцо, герцога Урбино, тоже ныне покойного. Но на деле смуглолицый, неловкий Алессандро был почти наверняка незаконнорожденным сыном самого Климента VII, плодом его давней, относящейся еще ко времени, когда он жил во дворце Медичи во Флоренции, связи с одной мавританской рабыней. Единственной же законной наследницей была Екатерина де Медичи, дочь герцога Урбино и кузины Франциска I, принцессы Мадлен де ля Тур д'Овернь, — первый из отпрысков Медичи, в чьих жилах текла королевская кровь. С самого начала своего понтификата Климент VII вынашивал насчет Екатерины планы, выходящие далеко за пределы Флоренции. Как нам предстоит увидеть, даже оказавшись в критическом положении, он продолжал лелеять этот тайный и в высшей степени амбициозный замысел, почти наверняка завещанный ему — через Льва X — его дядей Лоренцо Великолепным.
Решение Климента VII поставить своим представителем во Флоренции кардинала Пассерини оказалось неудачным. Историк Франческо Гвиччардини, служивший в ту пору папским советником, посетив Флоренцию, отзывался о кардинале в высшей степени нелестно: «евнух, который целыми днями болтает о всякой чепухе и ничего не делает». Присутствие в палаццо Медичи чужака вызывало в городе немалое раздражение, которое переносилось и на двух подопечных Пассерини — незаконнорожденных отпрысков семьи. Во Флоренции происходили вспышки недовольства, в ходе одной из них Палаццо делла Синьория был захвачен демонстрантами — противниками Медичи.
Во время последующего штурма дворца демонстранты выбросили из окна тяжелую деревянную скамью, которая угодила в «Давида». У статуи отлетела и, ударившись о землю, разбилась на три куска поднятая левая рука. Осколки подобрал и отнес для сохранности в близлежащую церковь шестнадцатилетний Вазари. Впоследствии скульптуру восстановили, но швы заметны до сих пор.
Когда во Флоренции стало известно о падении Рима, горожане в очередной раз высыпали на улицу, и кардинал Пассарини вместе с двумя своими подопечными вынужден был бежать, опасаясь за свою и их жизни. Во главе города стал новый совет, избравший на годичный срок гонфалоньера из стана противников Медичи — Никколо Каппони, сына Пьера Каппони, того самого гонфалоньера, который бросил вызов королю Карлу VIII, когда тот захватил город.
В третий раз Медичи были удалены из Флоренции. В первый раз Козимо де Медичи с триумфом вернулся в город всего лишь год спустя; во второй изгнание продолжалось восемнадцать лет; ну а сейчас, когда фактически не осталось ни денег, ни власти, ни популярности, казалось, что им уже никогда не вернуться. Горожане-друзья Медичи подвергались преследованиям, родовая символика, украшающая здания, исчезла, да и иные следы Медичи во Флоренции упорно стирались. Тогда же была захвачена и помещена в женский монастырь Санта-Лючия в качестве заложницы восьмилетняя Екатерина де Медичи.
Как и во всей Италии, ситуация во Флоренции была крайне нестабильной. Начать с того, что номинально городом правила олигархия, отражающая интересы старых семей, но уже в непродолжительном времени ей пришлось столкнуться с сопротивлением республиканских сил. В такой обстановке ожили идеи Савонаролы, автора которых уже тридцать лет как не было на земле. Охваченные религиозным пылом, люди потянулись к церкви, королем Флоренции был провозглашен сам Иисус Христос, предпринимались шаги к восстановлению Града Божьего, на сей раз самозванно поименованного «Республикой Христа». Были приняты законы, направленные против азартных игр, маскарадов и иных зрелищ, а также нескромного или слишком экстравагантного одеяния; тем временем состоятельные люди прятали свои книги, картины и иные ценности. Как и прежде, цель состояла в том, чтобы стереть прошлое, ассоциирующееся с именем Медичи; граждан вновь охватила социальная зависть в сочетании с оправданным недовольством, которое, впрочем, никогда не уходило слишком глубоко под поверхность. Иное дело, что крайности времен Савонаролы остались позади, чему в немалой степени способствовала деятельность Франческо Кардуччи, убежденного демократа и человека твердых принципов, избранного на пост гонфалоньера. В то время как многие предавались молитвам, он делал практические шаги, меняя режим Медичи на систему правления, выдержанную в более республиканском духе.
Летом 1528 года Климент VII решил, что угроза миновала и можно вернуться в свой папский дворец в Риме. Предметом главных его забот была теперь Флоренция, ибо он понимал, что без этого города Медичи остаются бездомными и бессильными; что же до сохраняющегося еще влияния, то и оно рассеется с концом его понтификата. Понимал Климент VII и то, что без сильного союзника Флоренцию не вернешь. Быстро стало ясно, что на французов полагаться нельзя — в 1529 году, воспользовавшись очередной подвернувшейся возможностью, они вновь вошли в Италию и, сметая все на своем пути, двинулись к Неаполю. Здесь их настигла эпидемия чумы, а помимо того, отстали обозы, стало чувствительно не хватать продовольствия, и пришлось отступить.
В этой ситуации Климент VII решил прощупать императора Карла V. Тот решил, что союз с папой сейчас в его интересах, и в 1529 году они подписали Барселонский договор, по которому, в частности, Климент VII обязывался короновать в Болонье Карла V императором Священной Римской империи. Этот старинный ритуал восходит еще ко временам первого императора, Карла Великого, который был коронован папой в 800 году; церемония строго соблюдалась до тех пор, пока венецианцы не перекрыли путь в Италию предшественнику Карла V Максимилиану I из-за территориальных претензий последнего. Карлу V не терпелось возродить традицию, и взамен он посулил Клименту VII поспособствовать восстановлению власти Медичи во Флоренции.
Тем не менее угроза от Франциска I исходила по-прежнему; он вынашивал планы мести с тех самых пор, как ему удалось освободиться из унизительного плена, которому подверг его Карл V. Правда, действовать ему приходилось деликатно. Сыновья французского короля все еще оставались заложниками Карла V, и это исключало возможность прямого вторжения в Испанию. Наступление на Неаполь кончилось провалом, точно так же не удалась и попытка прямого вызова Карлу V схватиться с ним, Франциском, в открытом бою; этот вызов был с презрением отклонен: в таких поединках сходятся рыцари, быть может, принцы, но никак не короли и императоры. В конце концов, остался только один выход, и в августе того же 1529 года между Францией и Священной Римской империей был подписан Камбрийский мирный договор, по которому Франциску I гарантировалось возвращение сыновей за выкуп, эквивалентный одному миллиону флоринов.
Тем временем Карл V распорядился, чтобы принц Оранский, командующий силами Священной Римской империи в Италии, оказал содействие папе. Стало быть, для восстановления власти Медичи во Флоренции Клименту VII придется подвергнуться очередному унижению: поддерживать его будет тот самый человек, который два года назад заточил его в замке Сан-Анджело. Так или иначе, сорокатысячная армия принца Оранского, состоявшая в основном из испанцев, вошла в Тоскану и, разоряя города и веси Флорентийской республики, двинулась на север. 24 октября она стала лагерем в непосредственной близости от Флоренции.
Город давно готовился к такому исходу. Когда кардинал Пассерини и двое мальчиков Медичи бежали из Флоренции, Микеланджело расписывал капеллу Медичи в церкви Сан-Лоренцо, и власти сразу же назначили его на пост, который некогда занимал Макиавелли, — инспектора городских стен. Пути искусства и науки уже расходились, но художники все еще воспринимались как механики; подобно Леонардо на службе у Чезаре Борджиа, Микеланджело стал военным инженером на службе у Флоренции.
С большой неохотой сменил он кисть на фортификационные расчеты. Микеланджело распорядился удлинить стены на юг, окружив ими холм Сан-Миниато, откуда просматривался центр города, что делало холм ключевой позицией для размещения там артиллерии осаждающей армии. Он велел также защитить башенные окна церкви на Сан-Миниато соломенными матрасами. К тому времени, как армия принца Оранского расставила на склонах окружающих Флоренцию холмов тысячи и тысячи своих палаток, все это было уже давно сделано.
Все дороги в город и из города были перекрыты, поля и деревни, его окружающие, разграблены, и орудия осаждающих начали обстрел. Вскоре выяснилось, что граждане Флоренции капитулировать отнюдь не склонны. Помимо всего прочего, их сильно воодушевили подвиги одного из офицеров местной армии, Франческо Ферруччи. В сопровождении небольшого вооруженного отряда он тайком прошел ночью через одни из городских ворот и, выбирая слабые места, атаковал противника. Подкрепления подошли не сразу, и в темноте удалось доставить в город запасы продовольствия, для чего, собственно, вся эта вылазка и затевалась. Осень перешла в зиму, а Флоренция все еще держалась.
В феврале 1530 года Климент VII отбыл в Болонью для коронования Карла V императором Священной Римской империи германской нации. Коронация была назначена на 24 февраля — день рождения Карла. В торжественной обстановке два главных властителя христианского мира, оба одетые в величественные церемониальные одежды, медленно приближались друг к другу. В согласии с традицией, насчитывающей семьсот лет (и, как выяснилось, в последний раз в истории), папа возложил на императора железную корону. Помимо всего прочего, в Болонье наметилось некоторое личное сближение папы Климента VII и императора Карла V. Раскол между духовной и светской властью в Европе был преодолен, и мир на континенте, казалось, обеспечен.
Но осада Флоренции продолжалась. Зима перешла в весну, весна в лето. Несмотря на все подвиги Ферруччи, население оказалось на грани голода, сообщалось о случаях заболевания чумой. Ферруччи решился на отчаянный и дерзкий шаг: под покровом темноты он вывел из города и провел через кольцо осады группу вооруженных людей и направился в сельские районы Тосканы; там он принялся переезжать из городка в городок, рекрутируя силы сопротивления. По прибытии в Пистою, что в двадцати милях к северо-западу от Флоренции, выяснилось, что в его распоряжении имеется три тысячи пеших и пятьсот конных добровольцев.
Разведка сообщила о происходящем принцу Оранскому, и во главе большого отряда испанских солдат он бросился на поиски Ферруччи и обнаружил его в конце концов в горной деревушке Джавинане, близ Пистои, где он дал своим солдатам отдых. Испанцы быстро окружили добровольческий отряд и устроили настоящую резню, уничтожив две тысячи человек. В ходе кровавой мясорубки принц Оранский был ранен двумя выстрелами из аркебузы; Ферруччи же сражался до последнего и был захвачен в плен только смертельно раненным. Уложив на носилки, его принесли к новому начальнику отряда, неаполитанцу по имени Марамальдо, который при виде его пришел в такое бешенство, что вонзил умирающему кинжал в грудь.
Весть о жестокой расправе над Ферруччи повергла Флоренцию в траур. Голодающие выходили на улицы, жалобно приговаривая: «Где Медичи? Пусть придут и накормят нас». Шесть дней спустя гонфалоньер направил посланцев с заявлением о капитуляции города; люди же, в страхе перед солдатами-головорезами, запирались в погреба или искали убежища в церквах. Десять долгих месяцев осады остались позади. Правда, резни не последовало, Климент VII добился от Карла V заверений в том, что с населением обойдутся милосердно. В город вошли испанские и швейцарские солдаты, и партия Медичи быстро взяла город под свой контроль. Нынешнего гонфалоньера просто подвергли аресту, хотя прежний, Франческо Кардуччи, был казнен — Медичи видели в этом демократе своего главного врага. Ну а представители ряда видных семей, поддерживавших республиканский режим, например, Строцци, отправились в изгнание.
После реставрации Медичи и ухода армии Священной Римской империи Климент VII передал управление городом своему двадцатилетнему незаконнорожденному сыну Алессандро (другой, Ипполито, в качестве компенсации получил кардинальский сан). На следующий день после прибытия во Флоренцию Алессандро был провозглашен главой (capo) Флорентийской республики. Титул был важный, но в то же время какой-то неопределенный; все прежние комитеты сохранили свои полномочия, иное дело, что глава входил в каждый из них, а также назначался пожизненным гонфалоньером.
Теперь крестные отцы Ренессанса имели крестного отца Флоренции, признанного, так сказать, официально (и имя соответствующее — capo), и грубоватый, подверженный настроению Алессандро де Медичи вскоре вполне вжился в эту роль. Через два года после его воцарения была упразднена синьория, и в качестве символического жеста, который отозвался во всем городе, с башни Палаццо делла Синьория сбросили колокол, знаменитую vacca, которая созывала народ на площадь. Рухнув на булыжник, колокол разлетелся на куски. Алессандро распорядился расплавить их и изготовить медали, прославляющие семью Медичи.
Но Карл V все еще не оставлял Флоренцию своим вниманием. Он заявил Клименту VII, что, поскольку они теперь союзники, от Флоренции требуется последовательная внешняя политика, которая может быть обеспечена только твердой властью. Не должно быть никаких новых волнений и бунтов, никаких перемен в системе правления, никаких отступлений от взятых на себя обязательств. Главное — стабильность. Без особой охоты, но Климент VII предпринял необходимые шаги. Это он придумал для Алессандро новый титул, а затем известил город о том, что глава его «отныне именуется герцогом Флорентийской республики». Это был важнейший сдвиг: отныне Медичи становятся не просто правителями города, но входят в круг высшей знати. Герцогский титул передается по наследству, и вместе с ним по наследству передается город. Исчезли последние признаки демократии, не осталось даже претензий на нее.
Клименту VII было только пятьдесят пять, но он недомогал и стремительно старел, не оставляя при этом, однако, амбициозных замыслов относительно будущего семьи. Флоренция была теперь связана союзническими отношениями как с императором Карлом V, так и с королем Франции Франциском I, и папа дал понять, что хотел бы подкрепить их брачными узами. Несмотря на болезнь и трудности путешествия, он отправился в 1533 году в Болонью на очередное свидание с Карлом V, во время которого предложил заключить брак между Алессандро де Медичи, ныне герцогом Флорентийским, и дочерью императора Маргаритой. Последний дал согласие, после чего Климент VII осторожно затронул главный для него вопрос: имеются ли у императора какие-либо возражения против брака между юной Екатериной де Медичи и одним из сыновей Франциска I. Император поморщился, но согласился, уверенный в глубине души в том, что сам-то Франциск ни за что не пойдет на брак принца крови и «какой-то аристократочки».
Но Климент VII уже успел переговорить с Франциском I и заручиться его благожелательным отношением к плану, так что, когда Карл V обнаружил, что его переиграли, менять что-либо было поздно. В октябре 1533 года тщедушная бледнолицая четырнадцатилетняя Екатерина отплыла из Тосканы на юг Франции. Климент VII лично отправился в Марсель, чтобы провести свадебную церемонию, и Екатерина де Медичи, герцогиня Урбино, официально стала женой второго сына Франциска I, Генриха де Валуа, герцога Орлеанского.
Свадьба была обставлена должным образом, у невесты было не менее двенадцати фрейлин, а вслед за бракосочетанием в течение девяти дней проходили пышные застолья и балы-маскарады. Как того требует традиция, платила за все семья невесты, так что Клименту VII пришлось ввести новые принудительные налоги во Флоренции и Риме. На новоиспеченного свекра Франциска I особое впечатление произвел подарок в виде оправленного в серебро и украшенного фамильным гербом папы ларца с двадцатью четырьмя хрустальными панелями, каждая с росписью на библейский сюжет. По такому судьбоносному случаю — вхождению Медичи в одну из главных королевских семей Европы — они проявили свою легендарную щедрость. Лоренцо Великолепный, предпринявший первые шаги к наступлению этого торжественного момента, мог гордиться своим любимым племянником.
Но тот же 1533 год был отмечен сильнейшим ударом по всему понтификату Климента VII. Генриху VIII, которого Лев X провозгласил Защитником Веры, надоели увертки папы по поводу развода с Екатериной Арагонской, и он пошел на беспрецедентный шаг: церковь Англии отпала от римско-католической церкви. Правда, и раньше уже с ней порвали несколько немецких княжеств, а также некоторые прибалтийские государства, но впервые одна из крупнейших европейских держав объявила себя протестантской. После этого нельзя уже стало скрывать того факта, что Европу, как никогда прежде, раздирают противоречия. С приходом Льва X и следом за ним Климента VII Медичи, быть может, сами того не желая, стали совсем иными крестными отцами — на сей раз крестными отцами протестантской Реформации.
Вскоре стало ясно, что дни Климента VII сочтены. Отказывалась работать печень, пожелтела кожа, и ко всему прочему он полностью ослеп на один глаз, да и второй видел неважно. Челлини, со своей обычной склонностью прихвастнуть, так описывает свой визит к папе: «Я застал его лежащим в кровати, очень слабым. Тем не менее он чрезвычайно тепло приветствовал меня». Челлини принес с собой несколько медалей, специально сделанных им для папы, но у того уже настолько ослабло зрение, что он ничего не мог разглядеть. «Он ощупал медали кончиками пальцев, — продолжает Челлини, — и тяжело вздохнул». Через три дня, 25 сентября 1534 года, после десяти лет понтификата, Климент VII скончался. Несколько дней спустя Челлини надел меч и отправился отдать последний долг покойному, тело которого было выставлено для последнего прощания. «Я поцеловал его ноги и не смог удержать слез».
Быть может, Челлини был единственным в Риме, кто оплакивал уход Климента VII, ибо к тому времени его в Риме не поносил последними словами только ленивый. После похорон толпа врывалась в собор Святого Петра несколько ночей подряд, могилу его оскверняли оскорбительными надписями и экскрементами. Поведение папы уподобляли действиям преданного, но неуклюжего ученика Макиавелли: он бывал беспощаден, но не тогда, когда нужно; человек достаточно сильный для того, чтобы презирать популярность, он выказывал это презрение в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда популярность нужна была ему более всего; не боясь предать друзей, он умудрялся отталкивать их всех разом. В защиту Климента VII можно сказать, что еще ни один папа не правил церковью в столь дурные для нее времена, хотя, с другой стороны, должно признать, что в этих условиях он делал слишком мало или не делал ничего вообще, чтобы избежать самых больших бед, пришедшихся на его понтификат: «Великое разграбление Рима»; распад единства христианского мира.
И все же остается одна область, в которой Климент VII добился полного, бесспорного успеха: при нем семья Медичи пережила поворотный момент своей истории: приобщение к высшей знати Флоренции, родство с королевской семьей во Франции. Без направляющей руки Климента VII семейству Медичи никогда бы не достичь тех вершин величия, которые были еще впереди.
ЧАСТЬ V. БИТВА ЗА ПРАВДУ
24. ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Присвоение герцогского титула Алессандро де Медичи возмутило граждан Флоренции, по городу прокатилась волна недовольства, хотя попыток вооруженного бунта зафиксировано не было. Многомесячная осада города и бои собрали свою жатву: Гвиччардини пишет, что «на много миль вокруг Флоренции дома были разрушены, а в городах и деревнях региона хозяйства были полностью разорены». Согласно заслуживающим доверия подсчетам, за время вторжения сил под водительством герцога Оранского и осады Флоренции в городе и всей Тоскане погибло более десяти тысяч человек. Как подчеркивает Гвиччардини, за это время «не было собрано ни одного урожая и ни разу не засеивались поля... так что из города, и без того ослабшего и обессиленного, потекли в дальние края деньги на приобретение зерна и скота». Помимо всего прочего, по настоянию Карла V город должен был оплачивать пребывание испанских солдат, в чью задачу входило пресечение любых попыток свалить нынешнюю власть.
Новый правитель города Алессандро де Медичи, герцог Флорентийский, представлял собой странную фигуру и в физическом, и в духовном смысле. У него была смуглая мавританская внешность и жесткие курчавые, как у североафриканцев, волосы; он был малообразован и имел репутацию человека грубого и неотесанного; в то же время нельзя отрицать, что он обладал известным мастерством политика, хоть проявлялось оно часто весьма экстравагантным образом. Он регулярно принимал в палаццо Медичи просителей, сочувственно выслушивал жалобы бедных, и о щедрости его вскоре стали говорить на каждом углу. Мать Алессандро была рабыней, и, сталкиваясь с обездоленными, он всегда помнил о тяготах, что выпали на ее долю. Была у него и привычка заходить без предупреждения к своим политическим приверженцам и спрашивать в упор их мнение о положении дел; ответы он всегда выслушивал до конца, но с таким равнодушным видом, что трудно сказать, насколько воспринимал услышанное.
С другой стороны, нельзя отрицать, что в нижних слоях общества Алессандро был весьма непопулярен, хотя трудно сказать, насколько глубоко эта непопулярность проникала в popolo minuto. Нельзя также отрицать, что правил Алессандро жесткой рукой. Одним из первых его шагов было изъятие всего оружия, даже того, что было принесено в церковь в виде пожертвования. Далее, в духе, напоминающем миланских тиранов, он разрушил старинный монастырь Сан-Джованни Евангелиста у северной стены города и начал строить на его месте крепость — Фортецца да Бассо. В этом большом мрачном здании как раз и должен был располагаться испанский гарнизон Карла V. Из крепости открывался вид на центр города и все стены, что позволяло подавить, в случае возникновения, любой бунт при помощи артиллерии и защитить город.
Хоть во Флоренции связывали крепость с именем Алессандро, идея строительства наверняка принадлежит императору Карлу V. Более того, он выдвинул условие: пока строительство не будет завершено, он не даст согласия на брак Алессандро и родной дочери императора Маргариты. Со смертью Климента VII Алессандро утратил своего главного наставника и главную сдерживающую силу. Он и без того был склонен к распутству, а теперь вообще пустился во все тяжкие. В компании своего юного фаворита и дальнего родственника Леренцино де Медичи Алессандро впал в самый безудержный разврат, который вскоре стал в городе притчей во языцех. Через стены женских монастырей ночами перекидывались веревочные лестницы, жертвой похоти становились девушки из весьма порядочных семей, компрометировались жены даже самых уважаемых граждан города. Положим, на все эти истории отбрасывает тень непопулярность героя, в которой не последнюю роль играл флорентийский снобизм, да и предубеждения расистского свойства, но нельзя сказать, что они вовсе не имели под собой почвы. Те, кто выступал против Алессандро на заседаниях разного рода комитетов или спорил с его решениями, рисковали финансовым благополучием: проводилось самое дотошное налоговое расследование, за которым, как правило, следовало выставление громадного счета (справедливости ради надо сказать, что к такому методу Медичи прибегали еще с ранних времен Козимо Pater Patriae). Вскоре после своего воцарения Алессандро счел нужным переехать из палаццо Медичи на виа Ларга в лучше охраняемый Палаццо делла Синьория — ныне, после роспуска последней, переименованный в Палаццо Веккьо (Старый дворец). Помимо всего прочего, он, как на самом деле и все граждане Флоренции, рассматривал эту перемену местожительства как символический жест: Медичи сделали своим домом освященный временем центр городской власти.
Через год после смерти Климента VII ведущие граждане Флоренции решили, что с них довольно, и направили депутацию к Карлу V. Миссия нашла поддержку со стороны влиятельных флорентийских изгнанников, осевших в Риме, прежде всего семейства Пацци и представителей старинной банкирской династии Строцци. Тайно был на их стороне и Франческо Гвиччардини, некогда советник Климента VII, а ныне один из приближенных самого Алессандро. Император Карл V был тогда в Тунисе, решившись наконец-то возглавить компанию против наступающих со стороны севера Африки турок (в 1534 году его брат Фердинанд остановил их у ворот Вены).
Решено было, что депутацию возглавит кардинал Ипполито де Медичи, жгуче завидовавший возвышению своего кузена. Собственно, он и был наиболее вероятным претендентом на замену, успев зарекомендовать себя человеком и более умным, и более гибким, чем Алессандро; к тому же он не был подвержен его порокам, во всяком случае, в такой степени. В августе 1535 года кардинал Ипполито двинулся на юг, чтобы далее отплыть в Тунис, но добрался только до Итри, городка в семидесяти милях от Рима, где заболел и умер, почти наверняка отравленный по приказу Алессандро.
Вернувшись из Туниса, император Карл V пригласил в Неаполь как всю флорентийскую депутацию, так и самого Алессандро. Новый глава депутации, историк Якопо Нарди представил императору суть дела, особенно упирая на то, что вновь выстроенная крепость Фортецца да Бассо используется «как тюрьма и бойня для несчастных граждан». Дослушав его до конца, император предложил советнику Алессандро Гвиччардини выдвинуть контраргументы. Члены флорентийской делегации рассчитывали, что опытный оратор, Гвиччардини, при помощи вялых комплиментов и слабых возражений на самом деле тонко загонит Алессандро в угол. Каково же было их разочарование, когда, используя всю силу своего красноречия, Гвиччардини отмел обвинения в адрес своего патрона, подчеркнув, напротив, его достоинства и то уважение, каким он пользуется в городе. Закончил Гвиччардини свою речь весьма эффектно: «Что же касается преследований женщин, изнасилований и иных клеветнических измышлений, то я не вижу смысла даже пытаться их опровергнуть, потому что все это только общие слова, не подкрепленные ни единым конкретным доказательством». Гвиччардини был искушенным политиком и совершенно не желал оказаться в стане проигравших, это грозило опалой. А ведь он давно уже понял, что у Карла V нет ни малейшего намерения смещать Алессандро, который вот-вот должен стать его зятем. Император хотел, чтобы при любых условиях Флоренцией правили жесткой рукой. Стабильность — вот что было для него на первом месте.
Флорентийская делегация вернулась домой несолоно хлебавши, а летом 1536 года во Флоренции, вместе с невестой Алессандро Маргаритой, появился и сам император Карл V. В качестве подачки он привез с собой семьи нескольких флорентийских изгнанников, которым по случаю такого события было даровано помилование. Но когда брачная церемония и последовавшие за ней торжества подошли к концу и император покинул город, жизнь потекла в прежнем русле — и для флорентийцев, и для их правителя, ибо женитьба никоим образом не умерила сексуальных аппетитов Алессандро.
В этом смысле его всячески подстрекал на новые подвиги Лоренцино де Медичи, хотя эти двое гуляк представляли собой странную пару. Лоренцино («маленький Лоренцо») был действительно невысок ростом, но прозвище намекало не только на это: «маленький» — это значит незначительный, бесперспективный, хотя на самом деле у Лоренцино были как раз большие амбиции, и он был преисполнен решимости доказать всем, что имя ничего не значит. В результате сформировался характер сложный и непостоянный. Как носитель имени Медичи, он мог проследить свою родословную от брата Козимо Pater Patriae и рассматривал себя как наследника большого дома; с другой стороны, мать его происходила из семьи Содерини, гордящейся своей приверженностью демократическим традициям. И эта двойственность тоже многое объясняет в его противоречивой натуре.
Лоренцино вырос в Риме, где получил хорошее гуманитарное образование: он страницами цитировал Цицерона и Макиавелли и вообще любил продемонстрировать свои знания. В то же время у него была репутация скандалиста. Любимой забавой его было, напившись, отсекать мечом голову у старинных статуй на римском Форуме; при этом он хвастался, что «наносит удар по имперской мощи».
Об этих подвигах стало в конце концов известно папе Клименту VII, и он пришел в такую ярость, что отослал Лоренцино во Флоренцию. Здесь он, со своей приверженностью к скандалам, оказался в компании Алессандро, эти двое стали неразлучными друзьями, к чему, собственно, Лоренцино и стремился. Только на самом деле он ненавидел и презирал Алессандро, все больше и больше завидовал ему, хотя виду никогда не подавал. Действительно, как это можно стерпеть: безграмотный бастард, всего тремя годами его старше, имеет и деньги, и власть, а он, истинный Медичи, блестящий ум, лишен и того и другого. Чем ближе Лоренцино сходился с Алессандро, тем большую неприязнь к нему ощущал; тот же любовно называл его «своим философом», а взамен Лоренцино исполнял роль сводника.
После того как по приказу Алессандро был отравлен его кузен кардинал Ипполито, ненависть Лоренцино пробрела форму психопатических фантазмов. Лоренцино видел себя Брутом, а Алессандро Юлием Цезарем, положившим конец демократическим традициям Древнего Рима. Подобно Бруту, он мстит Цезарю за все неправедные деяния и закалывает его. Совершив этот благородный акт, он перестанет быть «маленьким Лоренцо» и сделается большим человеком, настоящим героем. Воображение разыгрывалось все больше и больше: если Лоренцино избавит Флоренцию от этого незаконнорожденного деспота, то станет естественным претендентом на его место, в конце концов он-то как раз — законный Медичи.
В какой-то момент фантазии все больше стали сближаться с действительностью: Лоренцино принялся разрабатывать детали покушения на Алессандро. Оно будет отличаться от всех прежних заговоров во Флоренции: Лоренцино намерен действовать практически в одиночку, помогать ему будет только наемный убийца. Заговор был составлен весьма хитроумно. Лоренцино соблазнял Алессандро рассказами о некоей Екатерине Содерини Гинори, жене престарелого синьора. У Екатерины была репутация женщины ограниченной, но скромной и добронравной. Если, по словам Лоренцино, Алессандро удастся соблазнить ее, это послужит доказательством того, что он настоящий мужчина. В то же время Лоренцино заверил Алессандро, что, как настоящий друг, он уже замолвил Екатерине (оказавшейся — еще один любопытный психологический поворот — его сестрой) доброе слово о герцоге.
В первый же день нового 1537 года Лоренцино сказал Алессандро, что Екатерина проявляет к нему интерес, и организовал им свидание в следующую субботу, выпадающую на канун Крещения, когда все веселятся. Алессандро следует прийти в дом к Лоренцино и ждать, пока тот приведет Екатерину; потом он под каким-нибудь благовидным предлогом удалится, и они останутся вдвоем.
Алессандро, как было договорено, пришел в условленное место и, не замеченный празднующей Крещение толпой, проскользнул внутрь. Телохранителю он велел ждать себя на улице. По привычке к этому часу Алессандро успел изрядно набраться. Пошатываясь, он вошел в спальню, отстегнул меч, разделся и, в ожидании Екатерины, лег на кровать, но быстро уснул.
О дальнейшем нам известно со слов Лоренцино, который всякий раз рассказывал эту историю немного по-разному. Впрочем, суть не меняется. По прошествии некоторого времени в спальню, где находился Алессандро, неслышно вошел Лоренцино в сопровождении наемного убийцы, известного во Флоренции под именем Scoronconcolo, быть может, у этого прозвища и есть какие-то зловещие интонации, но вообще-то буквально оно означает «щипцы для орехов»). Лоренцино подкрался к кровати, прошептал: «Ты спишь?», а когда тот повернулся в его сторону, схватил за плечи, — убийца же принялся наносить удары. Сопротивлялся Алессандро отчаянно, вскрикивал каждую секунду, Лоренцино, в попытке заставить его замолчать, зажал губы ладонью, ну a Scoronconcolo продолжил орудовать кинжалом. Обезумев от боли, Алессандро прокусил Лоренцино палец до кости, но тут наконец убийца вонзил ему кинжал в шею. Алессандро забился в конвульсиях и застыл на пропитавшихся кровью простынях.
Лоренцино завернул тело в одеяло и прикрепил к нему клочок бумаги со словами из «Энеиды» Вергилия: «Vincit amor patriae laudumque immense cupido» («Любовь к отчизне и великое стремление к славе побеждают») — таким образом, всем должно быть понятно, что руками незаурядного убийцы свершен героический акт. Затем, выйдя со своим сообщником из спальни, Лоренцино запер дверь и положил ключ в карман: ему не хотелось, чтобы тело обнаружили, пока он не будет далеко от города. Он вскочил на лошадь и стремительно поскакал прочь (по крайней мере один свидетель утверждает, что видел Лоренцино мчащимся галопом по улицам; при этом одна рука у него была то ли перевязана, то ли в перчатке, но, во всяком случае, из нее текла кровь). Лоренцо ехал по Северной Италии кружным маршрутом и в Венеции оказался лишь через несколько дней, когда в городе уже всё знали. Его встретил с распростертыми объятиями Филиппо Строцци. Лоренцино понимал, что должно пройти некоторое время, пока все утрясется, и терпеливо ждал зова из Флоренции: он вернется как герой и правитель города.
Но события там разворачивались не совсем так, как он ожидал. Из-за того что дверь была заперта, труп Алессандро обнаружили не сразу, и подозрения возникли лишь после того, как заволновался его телохранитель: сколько можно ждать? Об исчезновении герцога доложили кардиналу Гибо, представлявшему во Флоренции императора Карла V. Лишь в воскресенье вечером дверь в спальню была взломана, и под окровавленным одеялом обнаружилось тело Алессандро де Медичи.
Кардинал Гибо, который, будучи представителем Карла V, принадлежал также семье Медичи, решил посоветоваться с Франческо Гвиччардини. Оба сошлись на том, что пока убийство следует держать в строгом секрете, и, пользуясь темнотой, тело перевезли и поместили в склеп монастыря Сан-Лоренцо (когда триста пятьдесят лет спустя оно подверглось эксгумации, обнаружившиеся следы от удара кинжалом подтвердили версию Лоренцино). И кардинал Гибо, и Франческо Гвиччардини были убеждены, что если в городе станет известно об убийстве Алессандро, начнутся волнения. Власть захватят республиканцы, а когда бунт будет подавлен, — что неизбежно, — последствия окажутся самыми плачевными. На сей раз Флоренция наверняка утратит независимость, ибо если император Карл V возьмет город, он поставит в нем вице-короля, как это уже было сделано в Неаполе. Одновременно в сторону Флоренции посматривает и новый папа, Павел III, так что представляется совершенно необходимым принять срочные меры к тому, чтобы найти замену Алессандро, пока этого не сделал кто-нибудь со стороны.
Вопрос в том, кто это будет. Единственный прямой наследник, вернее, наследница — Екатерина де Медичи. Но она живет во Франции, а если правитель нужен срочно, то, значит, искать его надо где-то еще. У Алессандро и Маргариты детей не было, хотя у герцога остался незаконнорожденный сын, Джулио; сейчас ему четыре года. Кардинал Гибо предложил его и сделать правителем Флоренции, а регентом при нем поставить самого себя. Но против этого возражал Гвиччардини, чьим фаворитом был семнадцатилетний Козимо де Медичи, сын неукротимого военного героя из Флоренции Джованни де Медичи делле Банде Нере (Bande Nere — Черные Отряды), который погиб, защищая республику против иноземцев, разграбивших Рим. Он был женат на дальней родственнице дочери Лоренцо Великолепного. Казалось, это идеальный выбор, а помимо того, Гвиччардини усматривал в нем возможность самому прийти к власти, править городом от имени неопытного Козимо и укрепить этот союз, женив его на своей дочери.
Для решения вопроса в Палаццо Веккьо созвали городской совет, на котором кардинал Гибо отстаивал свою кандидатуру, большинство членов совета склонялись к провозглашению республики, а Гвиччардини призывал к скорейшему принятию любого решения — время не терпит. На самом же деле он давно отправил депешу в Иль-Треббио, на виллу Медичи в Муджелло, где в это время находился Козимо, призывая его немедленно прибыть во Флоренцию. Гвиччардини переговорил также, поделившись неким планом, с капитаном гвардии Алессандро Вителли, дежурившим со своими людьми на площади, перед дворцом.
После многочасовых ожесточенных споров члены совета, заседавшие в Палаццо Веккьо, вдруг услышали, что на площади, где стояли солдаты, происходит какое-то движение, через открытые окна доносились восклицания: «Голосуйте за Козимо! Козимо — герцог Флоренции!» Затем солдаты начали скандировать: «Козимо! Козимо! Козимо!» Следуя замыслу Гвиччардини, Вителли закричал: «Живее! Я не могу удержать солдат!» Это решило дело: все проголосовали за Козимо де Медичи.
Алессандро был последним представителем семьи Медичи по главной линии, от Козимо Pater Patriae, через Лоренцо Великолепного. Сюда же входили и два понтифика — Лев X и Климент VII. А ветвь, к которой принадлежал новый герцог Флорентийский, шла от Лоренцо, младшего брата Козимо — Отца Отечества, который помогал ему вести дела в банке Медичи и обеспечил поддержку Козимо в сельской местности, когда того держали взаперти в башне Палаццо делла Синьория. К этой ветви принадлежал также Лоренцо ди Пьерфранческо, богатый кузен Лоренцо Великолепного (тот самый, что заказал Боттичелли «Примаверу»), выступивший против Пьеро Невезучего и открывший ворота города Карлу VIII. Формально по этой линии старшим в семье — и годами, и кровной близостью к Козимо де Медичи — был убийца Лоренцино де Медичи, но не зря никто даже не предложил его кандидатуру в качестве очередного правителя города. Пусть он избавил Флоренцию от ненавистного Алессандро, но уж слишком тесно Лоренцино был с ним связан. А все сходились на том, что правлению Медичи должен быть дан новый старт.
25. ВЛАСТЬ АРИСТОКРАТОВ
Козимо де Медичи стал герцогом Флорентийским, и Гвиччардини весьма разумно озаботился тем, чтобы тот вернул свою официальную резиденцию в палаццо Медичи. Мальчику было всего семь лет, когда в сражении погиб его героический отец Джованни де Медичи делле Банде Нере, и все заботы о воспитании Козимо взяла на себя мать, в девичестве Сальвати. Жили они тогда на вилле Иль-Треббио в Муджелло. Впоследствии Козимо учился нерегулярно — то в Венеции, то в Болонье, то в Неаполе, то в Генуе. Он мечтал о карьере отца, хотел сделаться солдатом, хотя по характеру был скорее противоположностью романтичному, порывистому Джованни. В то же время военная жилка у Козимо явно имелась. Он был неулыбчив, советам предпочитал приказы, уважение к должности ставил выше популярности. Если отца всегда окружала некая поэтическая аура, то сын был личностью вполне прозаической: довольно привлекательный на вид молодой человек, с коротко стриженными волосами, лишенный сколь-нибудь приметных черт.
Тем не менее во многих отношениях Козимо являл собой именно то, что нужно было тогда Флоренции, и уже в первые годы своего пребывания там он быстро превратился из неопытного юнца в решительного, уверенного в себе правителя. Он всегда внимательно выслушивал советы Гвиччардини, но чем дальше, тем больше полагался на собственное суждение.
С первым серьезным вызовом Козимо встретился в первый же год своего правления, когда Филиппо Строцци двинулся на Флоренцию во главе крупного отряда, собранного на деньги изгнанников. Он решил, что новый герцог ничуть не более популярен в народе, нежели его предшественник Алессандро, но просчитался. То есть верно, особенной популярностью Козимо действительно не пользовался, но сейчас горожанам ничто не было так нужно, как стабильность.
Дойдя до Прато, Строцци остановился, полагая, что флорентийцы стихийно восстанут против Медичи, но ничего подобного не произошло, напротив, во главе отряда флорентийского ополчения, основательно усиленного испанским гарнизоном, расквартированным в Фортецца да Бассо, ему навстречу двинулся Вителли. Противники сошлись в Монтемурио, рядом с Прато, и Строцци оказался разбит наголову. Многие члены видных семей из числа изгнанников попали в плен; их с позором провели по улицам Флоренции под улюлюканье толпы; и это было только начало, ибо затем пленники подверглись допросу, и шестнадцать из них в общей сложности пошли на плаху. Остальные, включая самого Строцци, получили долгие тюремные сроки, и, как выяснилось, лишь немногие отсидели свое до конца: кто-то быстро исчез, кто-то не выдержал пыток. Филиппо Строцци, по старой римской традиции, бросился на меч, оставив записку с цитатой из Вергилия: «Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor» («Из праха моего восстанет мститель»).
Козимо и его советник Гвиччардини были преисполнены решимости не допустить этого и начали настоящую охоту за врагами, находившимися в изгнании. Несколько лет спустя в Венеции был заколот отравленным кинжалом Лоренцино де Медичи; что же касается тех членов изгнанных семейств (Строцци, Пацци и других), которым удалось избежать удара, то жить им теперь приходилось с постоянной оглядкой. Дома Козимо быстро установил режим автократического правления. Ему не понадобилось много времени, чтобы избавиться от опеки Гвиччардини, и вчерашнему советнику дали понять, что лучше всего для него будет удалиться в свое поместье невдалеке от Арчетри, к югу от Флоренции. Оставшиеся годы он посвятил работе над книгой, которой и оставил след в веках, — заслуженно знаменитой «Историей Италии», ставшей главным источником наших знаний о том времени, когда автору выпало жить. С ее страниц встает патриций, выше всего остального, быть может, ставящий демократическую систему правления в древнегреческом духе, который он усвоил, получив в молодости основательное гуманитарное образование. Суждения Гвиччардини отличаются глубиной и взвешенностью, каких можно ожидать от человека, служившего послом, ближайшим советником двух пап (Льва X и Климента VII) и двух светских правителей (Алессандро и Козимо Медичи). Именно поэтому его «История Италии» не только более надежна в фактическом отношении, но и более точна в оценках, нежели работы его старшего современника Макиавелли. Правда, и Гвиччардини позволяет себе некоторые вольности, как в жизни, так и в историческом труде, однако ни его советы правителям, ни писания макиавеллистскими не назовешь. Иное дело, что рекомендациям вчерашнего наставника, человека опытного, Козимо предпочел именно взгляды Макиавелли. И это было как раз то, что нужно, если, конечно, Флоренция хотела выстоять на ветрах итальянской политики XVI века.
Козимо был преисполнен решимости не просто править городом, но стать правителем Флоренции: сдвиг тонкий, но фундаментальный. Его предшественники были кто хорошим, кто плохим, но руководителями, а не правителями; они налаживали действенную партийную машину, на которую можно было опереться. А Козимо, герцог Флорентийский, стал сувереном, использующим эффективную профессиональную бюрократию, состоящую не из советников, а из институтов. И вновь сдвиг, может, и незаметный, но решающий. Раньше администрация состояла из фракций, борющихся за власть; теперь власть стала монолитом; предшественники присматривали через кого-то, а Козимо повседневно и самым пристальным образом следил за работой своей администрации. Сначала он просто холодно рассчитывал и прикидывал. Он не боялся внушать страх, ибо совершенно не дорожил популярностью, считая себя выше этого. Судя по всему, время такого рода власти как раз и наступило. Флоренция пережила тяжелые времена: позор, унижение, растерянность; Республика Христа подвергалась осаде, следом за которой шли разложение и тирания. Забитому населению пришлось мириться с автократией Козимо: старый республиканский дух утратил свою энергию.
Гвиччардини начал отходить от Козимо еще до того, как был отправлен в отставку. Последней каплей для него стала готовность Козимо признать Флоренцию чем-то вроде вассала императора Карла V, когда оборона города и даже органы управления зависят от испанских солдат, получающих приказы извне. Но молодому Козимо доставало ума понять, что сейчас у него другого выхода практически нет, надо выждать — правитель, занявший свое кресло совсем еще молодым и неопытным человеком, матерел на глазах. Вот как позднее описывал Козимо венецианский посол во Флоренции: «Это необыкновенно крупный, крепкий и физически развитый мужчина. Ведет он себя любезно, но, если захочет, может внушать страх. В работе и физических упражнениях он неутомим, а развлечения признает лишь такие, что требуют ловкости, проворства и силы... авторитетов не признает, по натуре строг... не допускает фамильярности и держит людей на расстоянии и изменяет этой привычке, только если того требуют интересы дела».
Линия, проводимая Козимо, строилась на нескольких тесно связанных положениях. Главным, к чему он стремился, была вящая слава Флоренции и клана Медичи (впрочем, одно практически неотделимо от другого). Во внешней политике это требовало постепенного освобождения от опеки императора Карла V; во внутренней — эффективной системы гражданского управления, свободного от фракционной междоусобицы и подковерной борьбы семей, надеющихся когда-нибудь захватить власть; стоило положить этим надеждам конец, как семьи объединились в своей поддержке герцога, борясь лишь за то, как быть ему полезнее. Подобного рода эффективную систему удалось распространить и на все области, находящиеся под контролем Флоренции. При Козимо город-государство постепенно превратился в полноправную суверенную территорию с централизованными органами управления. Годы его правления были переходным периодом для Флоренции — как, впрочем, в той или иной степени для всей Европы, ибо время Ренессанса пришло теперь и для власти. Иными нынешними администраторами были прочно приняты на вооружение некоторые гражданские идеалы античности, вроде тех, допустим, что исповедовал Цицерон; были, с другой стороны, те (и в их числе Козимо, герцог Флорентийский), что строили автократию по образцу Римской империи. Но на практике власть в любом случае переживала Реформацию: отжившие средневековые концепции и практика уступали место реформированной системе управления, действующей в соответствии с единой программой. Пример Козимо в этом смысле вполне выразителен: то, что во времена Лоренцо Великолепного было серией шагов, направленных на укрепление власти Медичи, превратилось во внятную политику, направленную на укрепление неразделимых интересов герцога и герцогства.
При всем своем стремлении к независимости, Козимо видел, что интересам Флоренции пока в наибольшей степени соответствует тесный союз с Карлом V. Имея в виду именно это, он обратился к императору с просьбой выдать за него вдову Алессандро Маргариту. Козимо рассматривал это как чисто династический брак, затеянный для того, чтобы укрепить благотворный союз и обеспечить преемственность в политике. Но у Карла V были на этот счет свои соображения. Он знал, что на Флоренцию положиться можно, а вот в новом папе, Павле III, был не настолько уверен, потому и выдал Маргариту не за Козимо, а за внука понтифика.
Тогда Козимо обратился к дону Педро Толедскому, вице-королю Неаполя, с предложением жениться на его единственной дочери, семнадцатилетней Элеоноре. Предложение было принято. Дон Педро получал несметные богатства из Нового Света, так что приданое за Элеонорой дали внушительное. Поскольку банк Медичи занимался теперь только делами частных торговцев, точных цифр «libro segreti» не дают, но в любом случае можно предположить, что приданое выражалось не только в деньгах и драгоценностях. Бракосочетание состоялось в 1539 году в семейной церкви Медичи Сан-Лоренцо и было отмечено с подобающей пышностью; приглашались и простые люди, которых бесплатно угощали вином и пирожными. Это было первое за долгие годы крупное публичное празднество во Флоренции.
После женитьбы Козимо переехал из палаццо Медичи на виа Ларга в Палаццо Веккьо, в самом центре города. Для этого были две причины: во-первых, флорентийскому ополчению там будет легче охранять его и его семью, а во-вторых, ему удобнее контролировать работу администрации, находящейся в том же здании.
В 1542 году неустойчивый мир между Франциском I и Карлом V вновь сменился открытой враждебностью. Козимо сразу же выразил готовность оказать поддержку Карлу, которому были нужны деньги на мобилизацию армии. Герцог Флорентийский выделил крупную сумму из приданого жены, а император в знак благодарности отозвал испанский гарнизон из Фортецца да Бассо, а вместе с ним такие же соединения из Ливорно и Пизы. Не теряя времени, Козимо принялся за объединение управленческих структур этих городов институтами власти во Флоренции, а параллельно за возведение оборонительных сооружений в Тоскане. Помимо того, как союзник Карла V, двинулся на давнишнего врага Флоренции Сиену, где засел сын Строцци Пьеро, намеревающийся использовать город как трамплин для очередного нападения на Флоренцию.
Война между двумя городами растянулась на три года. В конце концов Пьеро Строцци бежал во Францию, испанские отряды, номинально подчиняющиеся Флоренции, а фактически состоящие на службе у императора Священной Римской империи, подвергли разорению большую часть прилегающей к Сиене сельской местности, а сам город осадили. С победой флорентийцев население Сиены уменьшилось с шестнадцати до шести тысяч жителей; убийства, болезни, бегство, изгнание мало что оставили от этого городка и окружающей местности.
Многие во Флоренции сочли эту победу бессмысленной, ведь Сиена приносит герцогству менее 60 000 флоринов в год. Но Козимо был иного мнения: никогда еще Флоренция не добивалась столь существенного приращения к своей территории, и к тому же новые границы были признаны Карлом V. Веками сложная, давно проржавевшая система «демократического» управления Сиеной служила причиной изнурительных внутренних конфликтов и стычек на международной арене, обычно за счет Флоренции, но сейчас наконец местное самоуправление было интегрировано в стабильную и эффективную структуру городской власти Флоренции. Таким образом, Сиена стала, пусть небольшой, частью флорентийской империи. Вошел в эту расширяющуюся империю и остров Эльба, лежащий недалеко от тосканского побережья, — в 1548 году Козимо выкупил его у Генуи с целью превращения в военно-морскую базу герцогства. В мечтах своих Козимо видел Флоренцию крупной морской державой; параллельно, с опорой на Ливорно, он развивал и торговый флот. Стремясь привлечь новых жителей и увеличить объем международной торговли, Козимо I (как он теперь официально именовался) объявил Ливорно городом, в котором уважаются все конфессии; в результате сюда потянулись турки, евреи и даже преследуемые на родине англичане-католики. (В следующем столетии в Ливорно образуется самая крупная во всем западном Средиземноморье еврейская диаспора.)
В отличие от всех Медичи, начиная с Козимо Pater Patriae, герцог Козимо I установил для себя строгий ежедневный режим. Начинался он с раннего, еще до рассвета, подъема, когда герцог читал последние сообщения от различных советников и других членов городской администрации. Козимо свято верил в разного рода папки и досье, часто инициировал статистические подсчеты, переписи, планы будущего развития. Одним из результатов этого стала система каналов, которая вскоре охватила всю Тоскану, служа одновременно орошению местности и целям передвижения. Благодаря его энергичным реформам ожили пришедшие было в упадок университеты Флоренции и Пизы; следует отметить, что Козимо особо поощрял развитие точных и естественных наук. Они, положим, все еще интегрально именовались натурфилософией, но вообще-то просвещение уже было на грани большого разделения наук на гуманитарные и естественные.
Козимо часто засиживался за работой до полудня и позже, но во второй половине дня неизменно занимался физическими упражнениями. Зимой он ездил верхом, а если погода не позволяла, оставался дома и поднимал тяжести; летом же регулярно плавал в Арно. Однажды такое купание едва не стоило ему жизни: прямо на том месте, где он обычно прыгал в воду, неизвестные заговорщики воткнули в дно острые шипы и ножи. К счастью, один из сопровождавших заметил блеснувшее в воде лезвие. На Козимо несколько раз покушались, и он никогда не выходил в город без телохранителей, набранных из числа швейцарских гвардейцев, которые пришли на смену испанцам Карла V. Показательно, что их перевели из Фортецца да Бассо в казармы, расположенные совсем рядом с Палаццо делла Синьория; назвали их Loggia dei Lanzi (последнее слово — испорченная итальянская версия слова «ландскнехт», как неправильно называли швейцарцев). Стоило охранникам герцогских апартаментов подать сигнал — обычно это был горн, — как гвардейцы устремлялись в Палаццо Веккьо.
Но Элеоноре Толедской скоро надоело жить в его тесных помещениях, рядом с казармами вечно пьяных наемников. А еще хуже — близость клетки со львами, на виа дей Леони. Ночами они пугали ее своим ревом, а в жару вонь стояла совершенно невыносимая. Элеонора — горделивая испанская аристократка, выросшая в настоящем неаполитанском дворце, обставленном соответственно сану его хозяина — вице-короля, и ей совершенно не улыбалось менять образ жизни на том лишь основании, что теперь она замужем. Во Флоренции было только одно здание, отвечающее ее требованиям, — недостроенный палаццо Питти: грандиозная затея времен Пьеро Невезучего, когда с грохотом обрушились великие амбиции Луки Питти. В 1549 году Элеонора Толедская приобрела палаццо Питти, заплатив за него всего 9000 флоринов из своих личных средств; после чего архитекторы и инженеры немедленно принялись за работу, приготовляя достойное помещение для герцогини вице-королевской крови. Козимо лично наблюдал за разбивкой садов на большом участке прямо позади дворца, — земля была выкуплена у семейства Боголи. Сады эти, приобретшие известность под искаженным именем — Боболи, — сохранились до наших дней: зеленый рай тенистых, со статуями по обе стороны, дорожек, откуда открывается чудесный вид на отдаленные холмы. И всего лишь — в миле от центра города. Тут все еще чувствуется интерес Козимо к ботанике, ибо он не только поощрял развитие наук, но и сам по-любительски ими занимался.
Вместе с другими членами разрастающейся семьи Козимо и Элеонора в 1560 году окончательно перебрались в палаццо Питти, который теперь официально именовался Герцогским дворцом. Козимо был семейным человеком — настолько, насколько это позволял его холодный, замкнутый характер, а Элеонора мирилась с этими вполне испанскими свойствами. Единственную проблему составляла мать Козимо, Мария де Медичи, в девичестве Сальвиатти, настоявшая на том, чтобы ей предоставили личные апартаменты в Герцогском дворце. Козимо буквально в бешенство приходил, когда мать, любившая вмешиваться во все, не позволяла ему с Элеонорой самим найти общий язык.
У них родилось полдюжины славных, каждый на свой лад, детей. Элеонора установила в доме чисто испанские порядки, три ее дочери воспитывались в строгой изоляции, редко покидая стены дворца. Козимо же, в согласии с традициями Медичи, предпринимал всяческие усилия для сближения со сменявшими друг друга понтификами, добившись того, что второй его сын Джованни стал кардиналом в семнадцать лет, а третий, Гарсия, — годом старше. Семья была большая, но при этом атмосфера, царившая за строгим фасадом Герцогского дворца, не имела ничего общего с непосредственностью и joies de la vie, отличавшими палаццо Медичи во времена его расцвета.
Тем не менее не все было так уж торжественно-мрачно, Козимо изо всех сил старался поддержать семейную традицию устройства публичных зрелищ — и чтобы просто повеселить народ, и чтобы рассеять возможное недовольство, чреватое всякого рода бунтами. Так, например, следуя, не исключено, своим римским пристрастиям, Козимо первым организовал гонки на колесницах, проводившиеся на большой открытой площадке перед церковью Санта-Мария Новелла. Публике они сразу понравились и стали проводиться регулярно.
Следуя опять-таки традиции Медичи, Козимо создавал себе репутацию мецената, хотя в этом случае роль играло скорее чувство долга, нежели чувство прекрасного. Чаще всего заказы художникам давались, когда того требовали интересы дела, — индивидуальный талант тут был ни при чем. Так, герцог Козимо I заказал Якопо де Понтормо посмертный портрет Козимо Pater Patriae, нашедший свое место в портретной галерее Герцогского дворца; рядом с ним висит строгий и странно безликий портрет самого герцога кисти Бронзино: задача состояла в том, чтобы указать на традицию, затвердить величие династии. Боттичелли, Леонардо и Рафаэль давно умерли; Микеланджело, чья слава принесла ему богатство, какое им и не снилось, превратился в старого чудака, постоянно переделывающего в Риме свои незаконченные скульптуры. Высокое Возрождение осталось позади, начинался новый период в развитии искусства — маньеризм с его причудливой изысканностью.
Атмосферу художественной жизни города оживило возвращение Бенвенуто Челлини. Произошло это в самом начале воцарения Козимо. По словам мастера, он стал очень близок и к герцогу, и к его жене, так что «обычная замкнутость и строгость (Козимо)» куда-то исчезали в его присутствии. На сей раз Челлини, кажется, говорит правду; что-то в этом неисправимом и порой симпатичном хвастунишке находило у Козимо отклик, хотя даже Челлини признает, что, бывало, его фиглярские выходки совершенно не забавляли герцога, и тогда ему приходилось выслушивать суровую отповедь.
Заказанные Козимо работы оказались одними из лучших творений художника. Это прежде всего непременный величественный бюст герцога в виде древнего римлянина в доспехах; хоть автор явно и польстил своему герою, этот бронзовый бюст действительно отражает характерные для Козимо эмоциональную холодность и сдерживаемый гнев. Но лучшее произведение Челлини, исполненное по заказу Козимо, — это, несомненно, фигура в рост Персея, победителя мифической медузы Горгоны, чей взгляд превращал людей в камень. Челлини изобразил Персея в шлеме с крыльями, мечом в руке и высоко поднятой отсеченной головой Медузы со свисающими сухожилиями. Это был популярный в эпоху Ренессанса сюжет, а его мифологические корни могут порождать самые разнообразные толкования; например, в глазах Козимо эта скульптура воплощала не только победу Флоренции над врагами, но и способность власти жестоко подавлять общественные беспорядки и бунты.
Работу над этим шедевром прервала характерная для Челлини выходка, когда он вынужден был бежать из Флоренции, спасаясь от обвинений в безнравственности и гнева матери и ее красивого молодого сына. Правда, в данном случае, как ни удивительно, обвинение оказалось ложным, его состряпал кто-то из многочисленных врагов художника. Когда скандал улегся, Челлини возвратился в город, принес Козимо свои покорные извинения и в кратчайшие сроки завершил «Персея».
Приблизил к себе Козимо и еще одного известного художника — Джорджо Вазари, ученика Микеланджело. Он тоже написал льстивый портрет своего патрона, на сей раз в окружении обласканных им живописцев, каждого в более или менее раболепной позе. И все же эта работа несколько лучше, чем картина, долженствующая запечатлеть победу Флоренции над Сиеной. Вазари сделал первоначальный набросок, на котором изображен Козимо, составляющий в окружении своих советников план победоносной кампании; герою он не понравился, и он, в королевском стиле называя себя во множественном числе, поправил художника: «Это исключительно наш собственный замысел. А этих советников вы можете заменить фигурами, символизирующими Молчание и иные Добродетели». Эта мания величия нашла полное воплощение в очередном крупном заказе, который Козимо сделал Челлини: спроектировать большое здание, в котором разместятся флорентийские государственные службы. Так возникли Уфицци (то есть «Учреждения»), чья внушительная колоннада крыльями охватывает длинный двор, начинающийся непосредственно у площади рядом с Палаццо Веккьо. Теперь это всемирно знаменитая галерея Уфицци, где хранится множество шедевров Возрождения, созданных по заказу Медичи.
Не столько архитектурный, сколько некоторый исторический интерес представляет еще одна работа Вазари, связанная с этим зданием, — приподнятый над поверхностью земли и замкнутый проход, известный ныне как Коридор Вазари; он связывает Уфицци и Палаццо Веккьо с новой резиденцией Козимо Герцогским дворцом (Дворцом палаццо), находящимся примерно в полумиле отсюда, по ту сторону реки. Расположенный над Понте Веккьо с его магазинчиками, этот коридор давал герцогу возможность быстро и беспрепятственно попадать в различные учреждения; а помимо того, он давал возможность, в случае необходимости, уйти от преследования.
Но самым значительным достижением Вазари являются, конечно, «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» — цикл ярких портретов целого ряда великих мастеров Возрождения, сопровождающийся глубоким анализом их творчества. Первое издание «Жизнеописаний» увидело свет в 1550 году и произвело такую сенсацию, что сгорающий от зависти и ревности Челлини немедленно принялся за свою, куда менее достоверную «Автобиографию». «Жизнеописания», как сказано, — портретная галерея гениев, изображенных без прикрас, со всеми, как впоследствии скажет Кромвель, бородавками; но попутно Вазари размышляет о меценатской деятельности Медичи, которая в большей или меньшей степени сказалась в их судьбе. Разумеется, так оно и задумывалось: Вазари посвятил книгу Козимо и хотел, чтобы она стала памятником семейству Медичи, которому он служил в самом разном качестве. Именно Вазари составил для Козимо целую программу живописных и архитектурных проектов, сделавшись при нем чем-то вроде министра культуры. Представляя собой гимн во славу уникального вклада, который внесла Флоренция (и Медичи) в то художественное движение, которое мы называем Ренессансом, книга Вазари представляет собой одновременно первую попытку перечислить его завоевания и, главное, осознать суть: что это такое? Первую попытку в чреде многочисленных дефиниций, оценок и переоценок, не прекращающихся и поныне, ибо это был век, которому в большой степени обязан своим рождением наш современный мир, и в том, как и какими мы видим себя, отражается наш взгляд на истоки. Не приходится сомневаться, что «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» — это, при всей своей удаленности, наиболее верное зеркало и нашего столетия.
Последние годы жизни Козимо сложились совершенно отлично от всего, что им предшествовало; перевалив за сорок, он сделался мягче, и тем труднее ему было выносить череду личных бед, что столь внезапно свалились на него. В 1562 году от малярии почти одновременно умерли сорокалетняя герцогиня Элеонора и двое сыновей, кардинал Джованни и Гарсия, еще подросток. Но мало того, за ними последовали дочери, в том числе любимица Козимо Мария. В 1564 году заболел и он сам, передав бразды правления своему двадцатитрехлетнему наследнику Франческо. Правда, были и хорошие новости. В 1569 году многолетняя обработка, которой Козимо подвергал папу Пия V, принесла свой долгожданный урожай: он стал Великим герцогом Тосканы. Именно Тосканы, а не Флоренции, — это был его собственный выбор, подчеркивающий, что отныне Флоренция является суверенной территорией. Новый титул Козимо предполагал обращение: Vostra Altezza (Ваше Высочество). Теперь Медичи, эта старая флорентийская семья, — суверены, а отсюда — только один шаг до королевского достоинства. Увеличение силы и влияния Флоренции нашло свое подтверждение два года спустя, когда объединенные флоты стран Священной Лиги победили турок в сражении при Лепанто, в южной Адриатике. В этой крупной битве, положившей конец турецкому господству в регионе, новый флорентийский флот, созданный усилиями Козимо, сыграл решающую роль.
Да только мало радости принесла эта победа вновь испеченному великому герцогу, замкнувшемуся теперь в своем гигантском, опустевшем ныне дворце, где он жил в печальном одиночестве, подолгу, нередко часами вглядываясь в одиноко висящую на стене картину — портрет своей любимой дочери Марии. Впрочем, в какой-то момент Козимо встряхнулся и сделал попытку вырваться из круга навязанного самому себе одиночества: он постепенно вернулся к своим спортивным привычкам — охоте, плаванию, поднятию тяжестей. Но теперь, когда государственные дела остались позади, занять себя было особенно нечем, и Козимо стал волочиться за женщинами.
Наконец, на одной из любовниц — юной Камилле Мартелли — он решил жениться. Семья — те ее члены, что пережили эпидемию малярии, — была в шоке; не успели Медичи стать великими герцогами, как глава клана женитьбой на простолюдинке подрывает этот статус. Брак обернулся чистой катастрофой, ибо Камилла из нежной любовницы превратилась в капризную, строптивую, сварливую жену, и жизнь в герцогском дворце превратилась в череду некрасивых шумных свар, в которые оказались втянуты все члены семьи. Козимо вновь удалился в свои апартаменты, а в апреле 1574 года, в возрасте пятидесяти пяти лет, умер от апоплексического удара. Формально его царствование продолжалось тридцать семь лет, в этом смысле он превзошел всех своих родичей-предшественников. Особой популярностью он не пользовался, но оставил по смерти процветающую Тоскану с его главным городом — довольно скучной и сделавшейся провинциальной Флоренцией. Высокая художественная драма итальянского Возрождения подошла к концу, начиналась интерлюдия, которая оборвется следующим важнейшим поворотом, когда Медичи вновь сыграют роль крестных отцов.
26. МЕДИЧИ - ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЕНЦЕНОСЦЫ
К этому времени Флоренция уже перестала быть главной опорой власти и влияния Медичи. Когда четырнадцатилетняя Екатерина де Медичи венчалась в 1533 году в Марселе со вторым сыном Франциска I Генрихом де Валуа, никто и подумать не мог, какое славное будущее ей предстоит. Даже папе Клименту VII, который, породнившись таким образом с королевской семьей, больше других сделал для утоления тщеславных помыслов клана, трудно было вообразить, что через тридцать лет она станет во главе этой семьи и всей Франции. Она умрет вдовой одного короля (Генриха II) и матерью трех (Франциска II, Карла IX и Генриха III). А сила ее личности была такова, что на протяжении почти тридцати лет Екатерина и впрямь была фактической правительницей Франции. Притом если великие герцоги Тосканы правили относительно мирным и совсем небольшим (семьдесят пять тысяч человек) населением, то Екатерина де Медичи стремилась навязать свою волю пятнадцатимиллионному народу в один из самых драматических периодов его истории.
Став сиротой еще в младенчестве, Екатерина воспитывалась в основном монахинями; но то была вовсе не тихая, потусторонняя жизнь, ибо отзвуки трудных дней «Республики Христа» были хорошо слышны и за стенами женского монастыря. В ту пору, когда Медичи оказались в изгнании, сама Екатерина сделалась ценным заложником, и ей еще повезло, что она пережила осаду Флоренции.
Четырнадцатилетняя Екатерина, приехавшая в Марсель, чтобы выйти замуж за своего сверстника Генриха, выглядела выдержанной, даже застенчивой девочкой. Но неброская внешность скрывала немалый ум в сочетании с исключительной целеустремленностью; с годами она обнаруживала все больше и больше качеств, свойственных ее удивительному прадеду, Лоренцо Великолепному, хотя парадоксальным образом его почти женское обаяние и любовь к широкому жесту в ее случае обернулись явно мужским стремлением к власти.
После бракосочетания Екатерина с мужем поселились при дворе ее тестя Франциска I. Влияние итальянского Ренессанса сказалось здесь довольно рано, решающую роль в этом сыграл сам король, при дворе которого царило настоящее пиршество ума и духа — на фоне обширной, но довольно-таки отсталой сельской провинции. При этом дворе провел свои последние дни Леонардо да Винчи, умерший как раз ровно за четырнадцать лет до появления здесь Екатерины. У короля Франциска I все еще были большие замыслы, и в 1546 году он решил снести свой старый дворец в Париже и взамен его возвести новое величественное строение, где будет место и семье, и двору, и собранию картин. Так возник замысел Лувра.
Первые годы, проведенные Екатериной во Франции, в атмосфере, пронизанной отчетливо различимым духом итальянского придворного общества, оказались тем не менее нелегкими. В кругу высшей знати, владения иных из которых превышали площадью всю Тоскану, бытовало мнение, что брак Генриха де Валуа — это чистый мезальянс. Екатерину презрительно называли «дочерью коробейника», и с годами, становясь юной женщиной, она нельзя сказать, чтобы так уж расцвела. По описанию одного современника, это была особа «тощая и невысокая, с грубыми чертами лицами и выпученными, как у всех Медичи, глазами».
Мало что изменилось и после смерти в 1536 году старшего сына Франциска, герцога Бретонского, когда наследником престола стал ее муж. Генрих де Валуа был человеком, испытывавшим постоянную угнетенность, он так и не оправился от психологической травмы, полученной в детстве, которое провел в испанском плену. Отец после освобождения оставил двух своих сыновей заложниками, и Генрих так и не смог простить ему этого. Вернулся он домой замкнутым, погруженным в себя молодым человеком, сразу затерявшимся в кругу веселых и остроумных придворных. Генрих не делал тайны из своего отношения к отцу, и в конце концов это непреходящее чувство обиды стало определяющим в его и без того трудном характере. Не получив сколько-нибудь регулярного образования, Генрих не блистал и умом и не обладал даром красноречия, столь потребного в придворной жизни с ее многообразными увеселениями. Да и вообще всячески избегал их, выказывая интерес лишь к охоте и рыцарским поединкам.
Быть женой такого человека — доля нелегкая; тем острее ощущалась необходимость в наследнике, но брак долгое время оставался бесплодным. По прошествии нескольких лет при дворе упорно поползли слухи, что развод не за горами, однако Франциск I заверил Екатерину, что он этого не допустит. В эту трудную для нее пору король стал Екатерине родным отцом, которого у нее фактически никогда не было; она усвоила его взгляды, уверовав постепенно в силу монархического правления. Со своей стороны, стареющий Франциск I относился к Екатерине с большой симпатией; ему нравилось смотреть, как она танцует и охотится, он ценил ее ум, энергию, постепенно крепнущую уверенность в себе. Всему этому, несомненно, способствовало постоянное присутствие в Париже и Фонтенбло итальянских художников. В 1537 году в Париже ненадолго появился Челлини, в 1540 году он вернулся и осел на ближайшие четыре года; в «Автобиографии» он упоминает о встречах с Екатериной, но больше пишет о впечатлении, которое произвел на короля, скромно отмечая, скажем: «Осыпав меня столь многочисленными знаками внимания, что их здесь и не перечислить, король вернулся во дворец... Что за человек! — воскликнул король» (увидев одну из работ Челлини), ну и так далее. Именно в этот период Челлини создал свою заслуженно знаменитую золотую солонку. Екатерину тоже воодушевляло восторженное отношение Франциска I к итальянской культуре, которая привлекала все большее внимание по мере проникновения идей Ренессанса в глубь высшего французского общества.
В 1544 году, после одиннадцати лет замужества, двадцатипятилетняя Екатерина родила своего первого ребенка. Всего у нее родится десять детей, выживут четыре мальчика и три девочки. Через три года после рождения первенца умер Франциск I, и на французский престол взошел муж Екатерины, Генрих II. Но гораздо больше этого нескладного двадцатидевятилетнего мужчину занимала его сорокавосьмилетняя возлюбленная Диана де Пуатье; когда-то ее зрелость оказывала неотразимое воздействие на инфантильного Генриха, но теперь, с годами, когда красота начала увядать, Диану все больше беспокоила прочность занимаемых ею позиций. Именно поэтому она изо всех сил доказывала свое превосходство над Екатериной, даже заботу о воспитании ее детей пыталась взять на себя. Ну а самообладание, которое демонстрировала Екатерина, заслуживает всяческого восхищения — многие даже объяснения ему не находили. Новая королева никогда не теряла чувства собственного достоинства, никогда не сомневалась в преданности мужа, при всех недостатках его характера; и в этом не ошибалась — конечно, насколько можно судить о столь интимных вещах со стороны.
В это время Екатерина уже вводила итальянские новшества в жизнь французского двора. Самый яркий пример в этом смысле, пожалуй, — гастрономия; говорят даже, что самим своим происхождением нынешняя французская кухня обязана именно Екатерине. До нее тут готовили на средневековый лад: запах несвежего мяса приглушал густой, вредный для здоровья соус, тяжелые для желудка блюда изобиловали кисло-сладкими приправами, а главным деликатесом считались острые специи. Екатерина привезла с собой во Францию несколько флорентийских кухарок, хорошо знакомых с особенностями итальянской кухни — куда более легкой и утонченной, чем французская. Отличалась она также и большим разнообразием: с Ренессансом пришел вкус к здоровым овощам, которые перестали считаться пищей бедных.
Итальянское отношение к еде настолько изменило французский стол, что затронуло даже тех, кто за ним сидит. Доныне французская знать считала еду занятием грубым, на которое тратишь время просто по необходимости; женщин же приглашали к столу лишь по особым случаям. Ну а итальянское застолье — дело семейное, собирающее мужчин, женщин, детей и даже слуг. С появлением Екатерины де Медичи женщины стали непременными участницами застолий при французском дворе. Точно так же и сам стол выглядел теперь иначе, изящнее, что ли. Самое яркое тому подтверждение — солонка Челлини, это настоящий художественный шедевр, но были и иные новшества: на место пивных кружек и стаканов пришли красивые винные бокалы и графины. До Екатерины французы резали мясо и дичь ножом, но ели руками; теперь за столом появились вилки, показавшиеся, впрочем, французам явным излишеством (настолько, что вскоре после смерти Екатерины они надолго исчезнут из обращения и вернутся на французский стол лишь в XVIII веке). Расширила Екатерина и меню, с ней пришли такие новшества, как «сладкое мясо» и заливные блюда; из Италии доставлялись овощи, в том числе артишоки и трюфели. И уж настоящей диковиной сделалось мороженое, а также коктейль из взбитого яичного желтка, сахара и марсалы — zabaglione. Неудивительно поэтому, что с годами Екатерина изрядно пополнела, чего не могли скрыть даже льстивые придворные портретисты. Правда, благодаря танцам ей удалось сохранить талию, которой она весьма гордилась; именно Екатерина привила французскому двору вкус к балету, постоянно приглашая итальянских танцовщиков и балерин.
В годы царствования Генриха II Екатерина почти не участвовала в политике, сосредоточившись на жизни двора. Но, судя по всему, это нелегкое дело обострило ее политическое и общественное чутье. Она приглядывалась к деятельности мужа, прислушивалась к его словам, но сама не говорила ничего; во внутренней политике Генрих II выступил решительным противником протестантизма, который теперь, когда учение Лютера набрало силу во всей Европе, проник и во Францию (Англия объявила себя протестантской страной в том самом году, когда Екатерина переехала во Францию). В международных же делах Генрих II проводил антииспанскую политику, что следует объяснить нестершимися воспоминаниями о юности, проведенной в плену; впрочем, в конце концов политика эта оказалась тупиковой и оборвалась заключением в 1559 году Като-Камбрезийского мира.
В честь этого события был устроен большой рыцарский турнир, на личном участии в котором настоял и сорокалетний король. В ходе поединка деревянное копье пробило его шлем и, вонзившись в череп, разлетелось на куски. Из разных концов Европы были призваны лучшие медики, в том числе великий Андреас Везалиус, но тщетно. Через несколько дней Генрих II скончался.
Под именем Франциска II на трон взошел слабый здоровьем пятнадцатилетний сын Екатерины, но царствование его было лишь номинальным, на самом деле страной правили два вельможи — братья Гизы. Кардинал Карл де Гиз занимался внешней политикой, а герцог Франсуа де Гиз командовал армией. Братья отличались крайней непримиримостью к протестантизму, находя в этом поддержку в Испании и у понтифика.
По мере того как это движение все больше проникало в Европу, оно начало находить приверженцев в среде бесправного бедного крестьянства; находясь в приниженном положении со времен раннего Средневековья, крестьяне в лице Лютера и его Реформации обрели собственный духовный Ренессанс. В этом смысле Реформация обнаружила явственный политический оттенок, особенно когда, с распространением новых религиозных идей по городам Франции, в их сторону повернулись задушенные налогами лавочники и купцы. Гугеноты (как по преимуществу называли кальвинистов — французских протестантов) теперь видели в католической церкви своего врага; а когда гугеноты выступили против короны и правительства, религиозная трещина превратилась в трещину политическую.
Правда, поначалу бунт был быстро подавлен, но начиная с 1559 года положение стало меняться — к гугенотам присоединилась знать, недовольная возрастающей силой монархии. У разрозненных низших классов появились вожаки, и недовольство выплеснулось наружу; тайные домашние сходки поменявших веру торговцев превратились в большие демонстрации на городских площадях. И первую скрипку тут играли гугеноты из аристократических семей.
Они обратились к Екатерине де Медичи, как к королеве-матери, с просьбой оградить их от преследований Гизов, которые осуществляли политику от имени ее юного сына. Екатерина взяла было на себя посредническую миссию, но в 1560 году Франциск II умер, и его сменил на престоле десятилетний брат — Карл IX. Если первый сын принес матери одни лишь разочарования, то второй — тем более: гены отца, соединившись с генами Лоренцо, герцога Урбино, — деда-сифилитика, образовали дурную смесь. Подобно старшему брату, Карл IX был слаб физически, но мало того, оставляло желать лучшего и его душевное здоровье.
На сей раз Екатерина решила, что в стороне оставаться нельзя. Став регентом, она делала все от нее зависящее, чтобы любой ценой обеспечить мир в стране. У протестантов появились некоторые юридические права, однако на деле они не соблюдались, дух нетерпимости все больше и больше охватывал Францию. Екатерина могла издавать законы, но обеспечить их исполнение было не в ее власти. В 1562 году страна была охвачена гражданской войной. Через год, во время осады Орлеана, этой опоры гугенотов, был предательски убит герцог Франсуа де Гиз. При допросе убийца признался, что был нанят лидером протестантов адмиралом де Колиньи.
По окончании гражданской войны — это случилось в следующем, 1563 году, — парламент, собравшийся в Руане, официально объявил Карла IX достигшим совершеннолетия, и следующие два года Екатерина и ее сын провели в разъездах по стране, дабы молодой король мог показать себя народу и добиться его расположения и верности.
Но партия Гизов и их сторонников из числа непримиримых католиков желала продолжения гражданской войны, вспышки которой были вновь зафиксированы в 1567 и 1568 годах. Екатерина делала все возможное, чтобы достичь примирения. Она вела переговоры с Гизами, а однажды даже пригласила на встречу с королем воинственного адмирала де Колиньи. Случилось так, что, когда тот приехал в Париж, Екатерина навещала свою заболевшую дочь Клод, герцогиню Лотарингскую. При встрече с бесхитростным, восприимчивым юным венценосцем адмирал пустил в ход все свое обаяние, и они засиделись за разговором в королевских апартаментах Лувра чуть не до рассвета. Выяснилось, что де Колиньи пытался обернуть влияние Екатерины на короля себе на пользу; узнав об этом, та пришла в ярость, поспешно вернулась в столицу и быстро поставила на место своего слабовольного сына.
В стремлении примирить две партии Екатерина обвенчала свою дочь Маргариту с молодым лидером протестантов Генрихом Наваррским из королевского рода Бурбонов. В августе 1572 года вожди католиков и протестантов собрались в Париже на бракосочетание. Народ ликовал, колокола Нотр-Дама и других церквей звонили вовсю, но атмосфера в задыхающемся от зноя городе оставалась неспокойной. Папа дал знать, что он против этого брака — союза между католиками и протестантами быть не может. Поэтому церемония была проведена не в самом Нотр-Даме, но на прилегающей к нему площади. В кульминационный момент, когда служили литургию, протестанты поднялись и якобы «вышли прогуляться».
Через четыре дня, в среду 20 августа, когда еще продолжались народные гуляния, на адмирала де Колиньи было совершено покушение. По нему стреляли из аркебузы из окна на втором этаже, когда он прогуливался по улице Бетизи (ныне улица Риволи). Но в момент выстрела де Колиньи наклонился завязать шнурок на ботинке и был только ранен. Дом, из которого стреляли, принадлежал, как выяснилось, одному из членов семьи Гизов; ясно, что они жаждали отомстить за смерть Франсуа.
Екатерина и Карл поспешили навестить Колиньи. Адмирал попросил оставить его с королем наедине.
На обратном пути в Лувр Екатерина угрозами заставила сына рассказать, о чем шла речь, — судя по всему, де Колиньи убеждал молодого короля не доверять матери. Париж был охвачен волнениями: двести гугенотов захватили дом Гизов на улице Бетизи, а вооруженные группы их единоверцев кружили по городу. Рынки и лавки закрылись — горожане искали убежища у себя дома.
Требовались срочные действия, иначе ситуация в столице могла выйти из-под контроля, и от этой искры в стране вполне мог разгореться костер новой гражданской войны. На следующий день Карлу IX были предоставлены доказательства того, что де Колиньи действительно что-то замышляет против него, и, узнав об измене нового друга, король, говорят, полностью утратил самообладание. Действовал ли он далее по собственной инициативе или по подсказке матери — неясно, но в воскресенье 24 августа, на рассвете Дня святого Варфоломея, королевские гвардейцы во главе с одним из представителей партии Гизов ворвались в дом де Колиньи и, забив его до смерти, вышвырнули тело на улицу. Это был сигнал к началу резни. Гугенотов — мужчин, женщин, детей — хватали прямо в постелях, вытаскивали на улицу и убивали. Оргия длилась два дня, на протяжении которых было убито две с половиной тысячи человек. О Варфоломеевской ночи стало известно по всей стране, и нечто подобное повторилось в Орлеане, Руане, Лионе, Бордо и Тулузе; общее число жертв достигло восьми тысяч. Так было положено начало религиозным войнам, которые опустошали Францию в течение ближайших тридцати лет.
Представляется весьма вероятным, что Екатерина де Медичи принимала по крайней мере некоторое участие в организации Варфоломеевской ночи. То ли она утратила обычное самообладание, то ли иного выхода не видела, сказать трудно, хотя можно не сомневаться, что, не нанеси она удара первой, и ее жизнь, и жизнь короля были бы в серьезной опасности. В любом случае Екатерина де Медичи повинна в этой кровавой мясорубке, одной из самых страшных в европейской истории. Отныне ее стали считать лидером католической Франции в ее борьбе с гугенотами.
Свидетельства о том, насколько эти события оказали воздействие на Екатерину де Медичи лично, расходятся. Иные утверждают, что она от них так и не оправилась. После пятидесяти в ее властном характере стал все больше и больше проступать цинизм, а плотная фигура пожилой женщины стала рыхлой и отталкивающе тучной. Другие утверждают, что она по-прежнему сохраняла живость, охотилась, танцевала, была, как и ранее, остроумна в разговоре. Франция оказалась непримиримо расколота на две части — даже в оценке своей королевы.
В 1574 году, двадцати четырех лет от роду, Карл IX умер, и на престол взошел его брат Генрих III. В Карла IX Екатерины веры было мало, но вот с двадцатитрехлетним Генрихом, своим любимцем, хоть и был он некрепок здоровьем и королева вполне отдавала себе в этом отчет, она связывала большие надежды. Это был довольно замкнутый молодой человек, почти не выходивший за пределы тесного круга друзей, которых называли миньонами. По словам одного современника, они «все как один одевались в яркие костюмы и благоухали духами». Екатерина вроде бы мирилась с этими гомосексуальными наклонностями, полагая их, наверное, неизбежными для слабого сына столь властной матери. Правда, эта патология в совокупности с нездоровым интересом к религиозным фанатикам, предающимся самобичеванию, указывает и на более существенные отклонения от нормы. Через два дня после коронации Генрих сочетался браком с Луизой Лотарингской — дому Валуа остро требовался наследник. Но он долго не появлялся.
Екатерина де Медичи оставалась фактической правительницей Франции, хотя даже в эти нелегкие годы у нее оставалось время заниматься культурным просвещением своей новой родины. Именно она в конце концов узаконила во Франции стиль итальянского Ренессанса: построила Тюильри, большой королевский дворец, примыкающий к Лувру на правом берегу Сены (он будет сожжен в 1871 году, в дни Парижской коммуны, оставив после себя лишь Тюильрийские сады в самом центре города). При Екатерине также были спроектированы и построены несколько величественных замков, в том числе самый поразительный из них, тот, что нависает над рекой у Шенонсо. Он символизирует нерасторжимый союз итальянского и французского стилей, североевропейской готики и южного Ренессанса, являя собой удивительную метафору чистого Зазеркалья (не напрасно говорят, что один из замков на Луаре считается первоначальным местопребыванием Спящей Красавицы). Это — Флоренция, перенесенная к северу от Альп, и это также заальпийский дом Медичи: здесь расцвел самый дух семьи. Эти замки — не дворцы, в которых живут правители городов-государств, это Зазеркалье высшей власти; во Франции — как, впрочем, и во Флоренции, — Медичи стали суверенами, оставив позади все представления о демократии.
Но вопрос о том, сколь долго это будет продолжаться, оставался открытым, ведь у Генриха II и его несчастной жены Луизы детей все еще не было. Это делало вероятным наследником престола протестанта — Генриха Наваррского, и в таком случае его брак с дочерью Екатерины Маргаритой представляется еще одним проявлением столь характерной для Медичи предусмотрительности. В 1586 году Екатерина направляется на юго-запад, в Коньяк, чтобы договориться о процедуре наследования; тогда же она предпринимает последнюю попытку примирить протестантов и католиков. Попытка оказалась неудачной — Франция все глубже и глубже погружалась в хаос, и не видно было никаких способов его превозмочь. Измученная многолетней борьбой, оплывшая от жира, Екатерина де Медичи умерла в 1589 году. Ей было шестьдесят девять лет.
Почти тридцать лет — больше, чем кто-либо иной — она фактически правила Францией: четырнадцать от имени Карла IX и пятнадцать — от имени Генриха III. Она неизменно находилась на авансцене, хотя вопрос о том, насколько она в действительности управляла судьбами Франции, еще не решен. Междоусобица, возникшая при ней, скорее всего была неизбежна, но справедливости ради надо признать, что, если бы не Екатерина с ее влиянием, страна могла погрузиться в хаос раньше и на более долгое время.
В конце XV века Франция — персонифицированная в Карле VIII — осуществила военное вторжение в Италию. В первые десятилетия XVI века итальянская культура начала проникать во Францию, и этот процесс продолжался на протяжении всего столетия. Екатерина Медичи сыграла немалую роль в последних актах этой пьесы, оставив по себе неизгладимую культурную память — от замков и балета до основанной ею великолепной кухни. Но принесла она с собой не только свет, но и тени итальянского Ренессанса: ее политика — политика макиавеллистская, ибо, даже если бы она и не читала «Государя», сам дух этого трактата был, несомненно, ею впитан — и благодаря молодости, прожитой во Флоренции, и благодаря принадлежности к самому клану Медичи. Она, должно быть, наизусть заучила легенды о своем прапрадеде Лоренцо Великолепном, и, как у него, в тяжелые минуты ее рациональный, в гуманистическом духе, трезвый, расчетливый ум уступал место иррационализму, также порожденному Ренессансом. Когда ничего не помогало, она обращалась к астрологии; известно несколько случаев, когда Екатерина прибегала к помощи знаменитого французского провидца Нострадамуса, отвечавшего на ее вопросы типичными для него загадочными предсказаниями. Однажды мелькнувшее в зеркале отражение заставило его предсказать, что род Валуа пресечется (хотя когда именно, Нострадамус не уточнил). И все же, когда возникала потребность в действии, Екатерина полагалась больше на методы Макиавелли, нежели на магию, что и превратило ее в одну из крупнейших фигур французской истории: многие ее уважали, многие поносили, не любил почти никто. Сирота, брошенная во время осады Флоренции, она не знала любви: легендарные рассказы о предках и треск выстрелов — вот и все, что она слышала в нежные года детства.
Через три месяца после смерти Екатерины де Медичи силы Католической Лиги вошли в Париж и попытались сместить Генриха III на основании его якобы терпимости к гугенотам. В ходе возникших беспорядков король был убит фанатиком-монахом, и на престол взошел — под именем Генриха IV — Генрих Наваррский. Дочь Екатерины Медичи Маргарита стала королевой Франции. В 1593 году, в отчаянной попытке объединить Францию, Генрих IV принял католицизм, а семь лет спустя замыслил оборвать связи французского королевского дома с семьей Медичи, затеяв бракоразводный процесс с Маргаритой, под предлогом ее бездетности. К тому же, помимо наследника, Генриху IV нужна была богатая жена: война с Католической Лигой практически опустошила государственную казну.
Узнав об этом, Фердинандо I, великий герцог Тосканы (сын Козимо I), связался со своей отдаленной родственницей Маргаритой; на кону, говорил он, — будущее династии Медичи, а это выше чьих бы то ни было личных интересов. В конце концов Маргарита согласилась дать Генриху IV развод, на том, однако, условии, что он женится на ее кузине, Марии де Медичи, племяннице Фердинандо I. Последний же обещал Генриху IV, что в этом случае он даст за ней хорошее приданое — 600 000 флоринов, чего будет достаточно, чтобы вооружить армию для защиты французской монархии. В октябре 1600 года Генрих IV женился на Марии де Медичи, и уже в следующем году она родила сына, крещенного Людовиком. Линия наследования восстановилась.
Мария де Медичи родилась во Флоренции в 1573 году и уже в пятилетнем возрасте фактически осиротела: мать умерла, а отец почти сразу снова женился и уехал из палаццо Питти, оставив в нем Марию со старшим братом и двумя сестрами под присмотром гувернанток. Через четыре года брат и одна из сестер умерли, а другая вышла замуж и тоже уехала. Так, в девять лет Мария осталась одна в огромном дворце с пышно обставленными, но пустынными комнатами, салонами и палатами (нынешние свои гигантские размеры палаццо Питти приобрел лишь в 1616 году, но и раньше это было весьма внушительное сооружение). Пребывая почти все время в полном одиночестве, Мария глубоко привязалась к девочке по имени Леонора Дори, дочери своей кормилицы. Леонора была тремя годами старше Марии; впоследствии она станет одной из ее самых доверенных подруг, на кого всегда можно положиться.
Сама Мария была довольно флегматичным, хотя и упрямым ребенком, с бесцветными волосами и снобистским чувством гордости своим происхождением: мать — из Габсбургов, отец — великий герцог, и никому не позволено об этом забывать. Если разозлить, она демонстрировала крутой нрав, но быстро отходила, особенно если обидчиком оказывался кто-нибудь из ее любимцев. Подобно Екатерине, своей предшественнице на французском троне, Мария де Медичи была сильной личностью, хотя и с крупными недостатками. Ей не хватало — уже в отличие от Екатерины — ума, образованности, энергии, ее отличала душевная вялость, более того: Мария нередко просто впадала в летаргию. Мари (как ее теперь стали называть) де Медичи обвенчалась с Генрихом IV заочно, и по приезде во Францию для двадцатисемилетней — возраст немалый — невесты оказалось неприятным сюрпризом обнаружить, что она стала женой сорокасемилетнего волокиты: несмотря на свой солидный возраст и соответствующую внешность, Генрих сохранил данное ему при дворе прозвище «молодого петушка» — намек на неиссякаемое любвеобилие. Генрих IV, со своей стороны, был столь же неприятно задет невзрачной внешностью итальянки, а Марии не понравились неотесанность и исходящий от него дурной запах (итальянцы сохранили древнеримскую традицию часто мыться в бане, в то время как в более прохладном климате к северу от Альп эта привычка в Темные века сошла на нет). Разочаровало Марию, женщину невысокую и крепко сложенную, то, что ее седобородый муж оказался еще меньше ростом.
Мария де Медичи привезла с собой во Францию двух близких людей — Леонору Дори и ее спутника, выскочку-гомосексуалиста Кончино Кончини, за которого та вышла замуж по обоюдному согласию: оба цинично решили, что так им будет легче достичь своих целей. По контрасту с роскошью палаццо Питти Лувр поражал своим убожеством, а прилегающий к нему дворец Тюильри, строительство которого было начато при Екатерине, оставался далек от завершения. Лувр был разорен гражданской войной, многие комнаты опустели, кое-где даже крыши не было, а ремонтировать не на что — казна пуста. В ход пошли деньги из приданого Марии, на что Генрих IV ответил поселением во дворце своей любовницы Генриетты, которую он сделал маркизой де Верней. Вскоре после того, как Мария произвела на свет наследника мужского пола, Генриетта последовала ее примеру, и мальчика тоже воспитывали в Лувре, как, впрочем, и еще целую ораву незаконнорожденных детей короля. Генриетта сразу начала плести интриги, направленные на то, чтобы наследником был объявлен ее сын, но кончилось это, к облегчению Марии, обвинением в государственной измене. Последовало показное судебное заседание, на котором Генриетта была приговорена к смертной казни; это не помешало ей некоторое время спустя вернуться в Лувр, но от дальнейших династических притязаний она отказалась.
Как ни странно, главные участники этого беспокойного королевского хозяйства по-настоящему сблизились друг с другом, склоки были большой редкостью. По мере того как Мария стала, что ни год, рожать новых детей, Генрих IV научился не замечать ее тусклой внешности, более того, как он великодушно сказал одному из своих приближенных, если бы Мария не была его женой, он сделал бы ее любовницей. Мария явно восприняла это как комплимент и с еще большим старанием принялась строить дом, в котором ее неугомонному мужу-королю жилось бы максимально комфортно. Ну а за тем, чтобы не оскудевал королевский стол, следили итальянские повара, которых Мария привезла с собой из Флоренции.
Подобно Екатерине, она тоже внесла свой вклад в развитие французской кухни. Да, повара Екатерины оказали на нее сильное влияние, но именно во времена Марии французская кухня обрела свой неповторимый стиль, и случилось это только после того, как местные повара усвоили саму концепцию итальянского поварского искусства. Состояла она в том, чтобы не приглушить, а как раз усилить аромат мяса или рыбы; соусам надлежало выявить, подчеркнуть уже имеющиеся природные элементы блюда, потому мясо готовилось в соусах, извлеченных из него самого, а рыба варилась в бульоне, изготовленном из ее же отходов — головы или хвоста. Раньше французские повара просто следовали итальянским рецептам, теперь же, усвоив основы итальянского приготовления блюд, они взялись за создание собственной национальной кухни.
Первым крупным французским шеф-поваром стал Франсуа ла Варенн. Он прошел школу итальянской кухни Марии де Медичи, а двадцать лет спустя написал книгу «Le Cuisiner francais» («Французский шеф-повар») — первое систематическое и полное описание французских блюд и рекомендации по их изготовлению. Ла Варенн завоевал себе известность в основном новым способом использования грибов для усиления вкуса говядины и телятины: именно в королевских кухнях было опробовано и названо в честь Марии де Медичи классическое ныне блюдо Tournetdos Medicis — бифштекс в винном соусе.
В 1610 году, отправляясь на войну с Испанией, Генрих VIII был убит фанатиком-католиком, и Мария стала регентом при своем восьмилетнем сыне Людовике XIII. Мария никогда не одобряла антииспанской политики своего мужа, и теперь у нее появилась возможность отойти от нее — при содействии своего фаворита Кончино, которому она присвоила титул маркиза д'Анкра и который сделался ее близким советником. В 1614 году Людовику исполнилось двенадцать, и по закону он мог вступить в свои королевские права, но регент и ее советник этим обстоятельством предпочли пренебречь; запугать юнца-короля оказалось несложно, и править Францией от его имени продолжала Мария. Власть пьянила ее, что порой заставляло делать необдуманные шаги и идти на сомнительные сделки с врагами в кругу высшей аристократии; иное дело, что растущую непопулярность компенсировало наличие тесного круга итальянских лизоблюдов.
Вскоре свой фаворит появился и у Людовика XIII — властный и набирающий все большую силу Шарль д'Альбер де Люинь; они вместе стали прикидывать, как бы отодвинуть Марию в сторону. В 1618 году маркиз д'Анкр был убит, после чего Марию де Медичи сослали в Блуа, где она безуспешно пыталась затеять бунт против своего сына. Теперь у нее появился новый советник — молодой одаренный священник аристократического происхождения Арман Жан дю Плесси де Ришелье, который, отправившись к Людовику XIII, пустил в ход свое незаурядное мастерство дипломата и политика и сумел примирить его с матерью.
Вскоре после этого Людовик XIII вступил в вооруженный конфликт с гугенотами и их иноземными союзниками. Де Люинь погиб в сражении[8], и его место советника короля занял Ришелье. К этому времени продолжающаяся борьба католиков и протестантов уже оказывала все более заметное воздействие на династические и территориальные конфликты, возникающие повсюду на континенте, и в Европе началась страшная и опустошительная Тридцатилетняя война, в которую были втянуты армии отовсюду — от России до Франции, от Австрии до Балтийского моря. Ришелье изо всех сил пытался уберечь от участия в ней Францию, но добился лишь частичного успеха. В 1622 году Людовик XIII добился назначения Ришелье кардиналом — в знак его заслуг. Мария де Медичи возмущалась, как она считала, «изменой» Ришелье — он не только предпочел ей сына, но ради тактических соглашений с протестантскими силами отошел от ее происпанской, прокатолической политики.
Потерпев поражение на иных направлениях, Мария де Медичи направила свою энергию на решение культурных проблем и в этой области преуспела не меньше, чем Екатерина. Еще в 1615 году она заказала видному французскому архитектору Соломону де Броссе разработать проект Люксембургского дворца на левом берегу Сены. Он должен был стать копией палаццо Питти, и Мария даже послала во Флоренцию за соответствующими чертежами. Де Броссе принял их с благодарностью, но действовал по собственному усмотрению. Заказывала Мария работы и целому ряду живописцев, включая молодого Николя Пуссена, хотя любимым ее художником был, бесспорно, Питер Пауль Рубенс, которого Мария пригласила из Голландии в Париж в 1622 году.
В искусстве Высокий Ренессанс тогда уже уступил место барокко с его избыточностью, при которой техническое совершенство и блеск превозмогают структурную определенность, роднившую его некогда с наукой. Искусство оставило позади свою научную фазу, точно так же, как наука переставала быть просто «искусством». По прошествии столетия со дня смерти Леонардо уже невозможно было долее представить себе существование личности, чей гений разом и охватывает, и объединяет искусства и науки. В студии Леонардо его помощники часто болтались без дела, в то время как мастер опробовал открытые им новые сочетания пигментов или украдкой заполнял свои шифрованные дневники мыслями об искусстве-науке. В противоположность этому студия Рубенса представляла собой улей, в котором трудолюбивые помощники, «соавторы» и ученики, — все работают под руководством мастера; здесь на практике осуществлялось разделение труда и предпринимались совместные усилия, потребные для создания огромных холстов, что превратило студию в процветающее предприятие, а ее хозяина — в миллионера. Рубенс тоже был многообразно одаренным человеком и представлял собой во многих отношениях барочную разновидность ренессансной личности; но его таланты проявляли себя скорее не в научных открытиях, а в дипломатии и широкой учености, а в творчестве ощущался скорее взрывной темперамент, нежели интеллект. Барочный ренессансный человек расцветал как импресарио, воплощающий полноту своей натуры, а не исследователь тайн природы. Как нам предстоит скоро убедиться, это исследовательское начало, унаследованное от Ренессанса, также требует для своего осуществления особого гения.
Мария де Медичи поручила Рубенсу украсить две большие галереи уже почти полностью достроенного Люксембургского дворца, для чего он написал больше двадцати крупных холстов, каждый из которых отражает, в мифологическом плане, главные события долгой жизни королевы. Умение Рубенса писать пышную женскую плоть как воплощение почти неземной красоты идеально отвечало запросам Марии, и художник добросовестно выполнил свой долг перед королевой-заказчицей и благодетельницей — эти картины принадлежат к числу его лучших работ.
В 1629 году Ришелье убедил Людовика XIII вторгнуться в Италию, что вызвало решительные протесты со стороны габсбургских католических держав (Австрия и Испания). Это позволило Марии потребовать от короля отправить своего первого министра в отставку; одновременно она подстрекала на бунт против него своего второго сына Гастона, принца Орлеанского. Столкнувшись с оппозицией в собственной семье, Людовик XIII поначалу не на шутку перепугался, потом бросился к Ришелье. В результате Мария де Медичи подверглась в 1631 году изгнанию и отправилась в Испанские Нидерланды, где дни ее протекали в унылом одиночестве. Рубенс, быть может, единственный ее настоящий друг, умер в 1640 году. Вскоре после этого Мария уехала в Англию — одна из ее дочерей была замужем за Карлом I, но, быстро обнаружив, что там ей никто не рад, вынуждена была вернуться в Нидерланды. Отныне где бы Мария ни оказывалась, всем она только мешала; даже ее пребывание в Испанских Нидерландах стало смущать Испанию, ибо король стремился уладить отношения со своим французским собратом. В 1642 году, шестидесяти девяти лет от роду, одинокая и никем не любимая, Мария де Медичи умерла в Кельне. Умерла из-за своего сумасбродства банкротом и в финансовом, и в духовном смысле, власть же Медичи за пределами Италии истончилась, хотя благодаря детям Марии кровь Медичи текла теперь по жилам хозяев всех крупнейших королевских домов Европы.
27. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ НАУЧНОГО РЕНЕССАНСА
Летом 1605 года, через пять лет после того, как Мария де Медичи отправилась из Флоренции во Францию, к своему мужу — королю Генриху IV, великий герцог Фердинандо I нанял своему сыну Козимо временного домашнего учителя. Пятнадцатилетний Козимо был подросток живой и общительный, но, увы, на редкость ленивый. Умом он был отнюдь не обделен, однако занятиям предпочитал развлечения. Учитель, весьма понравившийся Фердинандо, был сорокалетним профессором математики Падуанского университета, его звали Галилео Галилей, и ему предстояло сделаться первым великим ученым Нового времени.
Галилеи были гражданами Флоренции, происходившими оттуда же, откуда и Медичи, — из Муджелло, горной долины, расположенной к северу от города. Сам Галилео родился в Пизе 15 февраля 1564 года, за три дня до смерти восьмидесятидевятилетнего Микеланджело, последнего героя Высокого Ренессанса. Это совпадение знаменательно: знамя Ренессанса переходит от искусства к науке. Отец Галилео Винченцо, оказавший на сына большое воздействие, и сам был человек незаурядный. Он происходил из знатной, но обедневшей семьи, обладал скромным состоянием и воинственным характером, что обещало сохранение этого положения. В то же время этот человек был одаренным музыкантом, играл на лютне и писал композиции, безошибочно выдающие математические способности.
По возвращении в 1572 году из Пизы во Флоренцию Винченцо стал придворным музыкантом великого герцога. Помимо того, он возобновил связи с Camerata Bardi — кружком одаренных исполнителей и теоретиков музыки, которых опекала эта старая семья банкиров. У Винченцо были собственные музыкальные идеи, так, он яростно восставал против догматов контрапункта, столь почитаемого в средневековой музыке; в противовес этому он утверждал, что мелодия должна ласкать ухо и не важно при этом, соответствует ли она формальной математической красоте нотной записи. Более свободная композиция, которую отстаивали Винченцо и его флорентийские единомышленники того времени, предваряла Ренессанс в музыке.
Главное же — флорентийские музыканты положили начало оперному искусству, которое выросло из двух вполне определенных источников. Один — средневековая литургическая драма: библейские сюжеты, разыгрываемые на публике и приуроченные к различным праздникам церковного календаря. Другой — классическая драматургия Древней Греции, возрожденная на театральной сцене флорентийскими гуманистами. Союз этих двух начал и породил оперу — произведение светского содержания, объединяющее музыку и драму. Само слово происходит от итальянского выражения opera in musica (музыкальное произведение), а сюжеты и декорации ранних опер опирались обычно на легенду или миф, что требовало более свободной музыкальной формы, вроде той, что отстаивал Винченцо Галилей.
Первой оперой обычно считается «Дафна» — драма флорентийского поэта Оттавио Ринуччино, положенная на музыку певцом и композитором Якопо Пери, служившего тогда при дворе Медичи. Премьера состоялась на фестивале во Флоренции, накануне Великого поста 1598 года. Либретто и партитура в основном утрачены, но стоит отметить, что самая старая из дошедших до нас опер, музыкальная версия пьесы того же Ринуччино «Эвридика», была исполнена в палаццо Питти в 1600 году. Таким образом, Медичи, как выясняется, были и крестными отцами ренессансной музыки.
На рубеже XVII столетия Ренессанс начал обнаруживать себя в самом широком спектре человеческой деятельности. Времена менялись, даже в буквальном смысле: когда было замечено, что времена года не совпадают с античным календарем, папа Григорий XIII отказался от юлианского календаря, введенного еще при Цезаре, в 46 году до нашей эры, и в 1582 году заменил его григорианским, сместив даты сразу на десять дней. Правда, многим это нововведение чрезвычайно не понравилось, и, по мере того как григорианский календарь охватывал всю Европу, все чаще вспыхивали стихийные бунты, когда разъяренная толпа требовала вернуть украденные десять дней жизни. После долгих столетий средневекового застоя и достаточной определенности в самых разных областях жизни перемены воспринимались многими как угроза и далеко не повсеместно встречали теплый прием.
В молодости рыжеволосый Галилео Галилей был темпераментным бунтарем, унаследовавшим многие свойства отца; разница же заключается в том, что он рано уверовал в собственные таланты, хотя в какой именно области они могут проявиться, сказать было трудно. В семнадцатилетнем возрасте он вернулся в город, где родился, чтобы продолжить образование в Пизанском университете, но вскоре заскучал: здесь зубрили средневековую схоластику, которую слово в слово надо было повторять на экзаменах. Места для игры воображения, независимости мысли, новых идей не оставалось — пусть Ренессанс радикально изменил живопись и архитектуру, пусть перемены эти коснулись и иных сфер, но в университетах все еще господствовали выхолощенные положения аристотелевской натурфилософии.
Терпеливо выслушивать глупости было не в духе Галилея, он даже не пытался скрыть презрения к своим учителям, прерывая их лекции каверзными вопросами, долженствующими вывести профессуру на чистую воду. Почему, например, градины падают на землю с одинаковой скоростью, независимо от их размеров, в то время как Аристотель утверждает, что тяжелые тела падают быстрее легких? Лектор поясняет, что вероятнее всего маленькие градины падают из более низких слоев туч, так что только кажется, будто скорость у них та же. Галилей высмеивал подобные резоны, что явно не прибавляло ему друзей. Вскоре всем, в том числе и студентам-однокашникам, стало ясно, что он просто потешается. Не находя, чем бы еще занять ум и утолить любознательность, Галилей принялся искать стимулы в иных местах — например, в тавернах и борделях.
К счастью, сонная, провинциальная Пиза оживала, когда по традиции, заведенной еще Козимо I, пытавшимся сократить расстояния между городами Тосканы и объединить великое герцогство в нечто целое, между Рождеством и Пасхой великий герцог Тосканы переезжал сюда вместе со всем двором. На короткое время Пиза становилась общественной гостиной целой страны, здесь устраивались многочисленные увеселения, от концертов до бегов и лекций на самые разные темы. Как-то раз Галилео оказался на лекции, читанной для узкого круга придворным математиком (новая должность, введенная почитателем наук Козимо I) Остиллионом Риччи. Услышанное буквально пленило Галилео; его давно занимали умозрительные исчисления, но университетское начальство считало, что математика студентам не нужна, и исключило ее из программы обучения. За несколько лет до появления Галилея в Пизе профессор математики умер, и должность его оставалась вакантной все университетские годы Галилео.
Вскоре он занялся математикой под руководством Риччи, который познакомил его с великими греками Евклидом и Архимедом, их теоремами, системой доказательств, аргументами. После того как Риччи со всем двором вернулся во Флоренцию, Галилео продолжал заниматься в Пизе уже самостоятельно.
К большому неудовольствию отца, в 1585 году он вернулся во Флоренцию без степени и каких-либо перспектив получить работу. В конце концов Винченцо удалось нажать на кое-какие пружины при дворе великого герцога, и Галилео получил возможность время от времени читать лекции во флорентийской Академии. Четыре года спустя ему была предоставлена должность профессора математики в его старом университете — назначение, конечно, странное для человека с его репутацией, но в данном случае, наверное, в его пользу обернулась средневековая снисходительность. Другим фактором могло оказаться жалованье — всего 60 флоринов в год, меньше, чем доход лавочника. Когда это обнаружилось, Галилео пришел в ярость, но выхода у него не оставалось, на счету была каждая копейка. Постаревший отец работать уже не мог, и Галилео должен был содержать всю семью; для заработка он брал в Пизе учеников, но оставалось время заниматься и исследованиями.
Проводил он их на свой особый манер. По знаменитой легенде, Галилей взобрался как-то на кренящуюся Пизанскую башню и сбросил оттуда два предмета разного веса, продемонстрировав, таким образом, собравшимся студентам и профессорам, что падают они с одинаковой скоростью, что противоречит аристотелевским представлениям, согласно которым более тяжелые тела падают быстрее, чем легкие. Имел место такой эпизод в действительности или нет (многие считают, что это фантазия), он наилучшим образом показывает, насколько методология Галилея отличается от методологии последователей Аристотеля. Галилей проводил опыт для обнаружения истины, а последние верили в свою правоту, потому что так говорится в сочинениях Аристотеля. Разумеется, если два тела различного веса на самом деле сбросить с одинаковой высоты, с землей они соприкоснутся в разное время. Это объясняется разным сопротивлением воздуха; сторонники Аристотеля же утверждали, что это расхождение доказывает их правоту, что заставило Галилея выдвинуть тезис, согласно которому эти два объекта будут в действительности падать с одинаковой скоростью в условиях вакуума (должно было пройти почти 400 лет, чтобы эта версия нашла выразительное подтверждение на глазах многомиллионной аудитории. Ступая в 1969 году на поверхность Луны, Нил Армстронг уронил молоток и перо; оба достигли поверхности одновременно, и Армстронг заметил: «Ну вот, Галилей был прав»).
На основании проведенных опытов Галилей вывел некоторые законы движения, например: «При падении скорость тела при его приземлении пропорциональна времени падения». Такой вывод стал возможен благодаря сделанному им революционному шагу: он применил систему исчислений к физике, что в конце концов привело его к введению фундаментального понятия «силы».
В этом и заключалась гениальность прозрения Галилея — методы математики он использовал в физике. Это сейчас кажется самоочевидным, но в те времена физика и математика были двумя разделенными и автономными областями знания. И в тот момент, когда они соединились — дав толчок появлению таких понятий, как поддающаяся измерению сила, — появилась физика нового времени. Предметы можно взвесить, расстояния измерить, время зафиксировать — все в точных цифрах, — и подобное применение математического анализа к физическим явлениям знаменовало возникновение самого понятия «эксперимент». Все то, о чем идет речь, может быть установлено и измерено только на практике. Так было положено начало экспериментальной науке. Конкретный опыт можно выразить в абстрактных концептуальных терминах, результаты зафиксировать, затем сравнить их с другими результатами, полученными и зафиксированными в сходных условиях, — и таким образом сформулировать общие законы. Cimento — вот слово, которым обозначил Галилей подобного рода эксперименты, и в переводе с итальянского оно означает «испытание»; собственно, и столь привычный нам «эксперимент» представляет собой перевод со старофранцузского, на котором он означает «подвергнуть испытанию». Интуиция и практические опыты Галилея заложили основы современной науки. Это он сказал: «Книга Природы написана на языке математики. Персонажи этой книги — треугольники, кубы и другие геометрические фигуры, без помощи которых... мы бесцельно блуждаем по темному лабиринту».
Прозрения подобного рода возникали уже в античности. «Мир сотворен из чисел», — утверждал Пифагор. Но как это осуществляется на практике, он не знал. Галилей стал в этом смысле первооткрывателем, что позволило совсем по-иному взглянуть на картину мира. Ренессанс античной философии и искусства породил доверие к индивидуальной личности и гуманистическому учению. Ренессанс античной науки продемонстрировал, каким образом это учение может быть осуществлено на практике. Ренессансный гуманизм позволил иначе взглянуть на человека, ренессансной науке предстояло выработать новый взгляд на мир.
В непродолжительном времени Галилей стал в Пизе популярной личностью. Студенты боготворили своего молодого, задиристого, не считающегося с авторитетами лектора. Об университетском начальстве того же, правда, не скажешь. Большинство преподавателей в Пизанском университете были братьями-монахами, и, по мнению Галилея, которое он ни от кого не скрывал, идеи его коллег-монахов были столь же плоски, сколь и ортодоксальны. Равным образом презрительную насмешку вызывало у него академическое платье, он даже стишок на эту тему сочинил:
Естественно, терпение у начальства скоро лопнуло, и в 1592 году Галилею было предложено поискать какое-нибудь другое место. По удачному стечению обстоятельств в это время оказалось вакантным место профессора математики в престижном Падуанском университете, которому Галилей и предложил свои услуги. В это время его работы уже стали известны в научном мире, о нем высоко отзывались ведущие итальянские ученые, а великий герцог Фердинандо I называл его «одним из лучших математиков Тосканы». Во всеоружии — с такими-то рекомендациями — Галилей получил искомую должность.
В Падуе, этом крупном городе Венецианской республики, жилось ему неплохо, зарплата составляла 500 флоринов в год. Со своим обычным презрением к условностям, Галилей поселился с пылкой молодой любовницей Мариной Гамбиа, родившей ему троих детей. Равным образом и исследования его тоже вскоре дали нестандартные результаты. Именно в ту пору Галилей начал переписываться с немецким математиком Иоганном Кеплером, жившим в Праге. Галилей признавался Кеплеру, что разделяет теорию Коперника, но боится сказать об этом вслух из-за страха сделаться посмешищем в глазах своих падуанских коллег, почти поголовно придерживающихся взглядов Аристотеля. Впрочем, в ту пору уже и сам Кеплер, хотя Галилей этого еще не осознавал, и подтверждал, и развивал гелиоцентрическую концепцию Коперника. Используя наиболее точные из имеющихся на тот момент — телескоп изобретен еще не был — измерительные приборы, Кеплер постепенно приходил к заключению, что планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической, а не круговой, как считал Коперник, орбите.
В 1604 году Галилей обнаружил на небе новую звезду; это была так называемая nova (тело, образовавшееся в результате ядерного взрыва) — всего лишь вторая в этом роде после той, что появилась в 134 году до нашей эры. Ортодоксов это явление повергло в ужас, ибо, согласно учению Аристотеля, новых звезд быть не может, как не могут исчезать и старые. Аристотель учил, что земля состоит из четырех элементов (земля, воздух, огонь и вода), небеса же отделены от земли и представляют собой «квинтэссенцию», пятый элемент — совершенный и неизменный. Такие объекты, как кометы, противоречащие как будто этому взгляду, попросту отметаются в сторону как тела, не принадлежащие небу, они существуют в подлунном пространстве, наиболее тесно приближенном к земле, и потому являются не звездами, а просто неким метеорологическим явлением.
Человек, ничего не принимающий на веру и всегда готовый к спору, Галилей прочитал о nova цикл лекций, указывая на то, что ее появление опровергает аристотелевскую концепцию звездного неба. При этом у него завязалась публичная полемика с профессором философии Падуанского университета Чезаре Кремонини. Последний придерживался традиционных аристотелевских воззрений, будто законы физики, а равно любые измерения применимы только на земле, к небесам же с их звездами и планетами никакого отношения не имеют: квинтэссенция переменам не подвержена и не подчиняется законам, применимым к земле, воздуху, огню и воде. А если все же звездное небо измерять, то результаты лишь кажутся противоречащими законам Аристотеля, на самом же деле это не так, уже по той простой причине, что там они не действуют. Галилея сильно смущало то обстоятельство, что он не может опровергнуть подобный аргумент привычным для себя способом — при помощи эксперимента. Тогда он не знал, что Кеплер занят именно этим — он исчислял эллиптические орбиты планет, демонстрируя таким образом, что математика применима-таки и к звездному небу.
Тщеславного Галилея начало снедать нетерпение. Ему уже исполнилось сорок, а слава и преуспеяние все не приходили. Даже у Кремонини жалованье было вдвое больше, чем у него, что же касается имени, то его сделали себе люди, у которых и половины его способностей нет. Галилей все время придумывал что-то новое, включая сельскохозяйственные приспособления, военные машины, медицинские инструменты, — тщетно, успеха так и не было. Всю работу делал он, а урожай снимали другие. Между тем потребность в деньгах нарастала с каждым днем: надо было содержать любовницу и троих детей, не говоря уже о семье, оставшейся во Флоренции. Приходилось залезать в долги.
Хватаясь за последнюю соломинку, Галилей написал письмо великому герцогу Тосканы Фердинандо I с просьбой найти ему какую-нибудь должность при дворе. Письмо пришло в удачный момент — герцогу как раз нужен был на лето учитель для своего пятнадцатилетнего сына и наследника Козимо. Галилей получил это место и поселился со своим подопечным на вилле Медичи в Пратолино, горной деревушке близ Флоренции. Здесь он провел несколько славных месяцев, наслаждаясь роскошью и бездельем и в то же время восхищая своего ученика научными опытами и яркими идеями. Но лето кончилось, и пришлось возвращаться в Падую с ее заимодавцами.
В 1609 году Галилей снова попал на службу семье Медичи, только на сей раз он понадобился жене Фердинандо I, великой герцогине Кристине. К сожалению, она почему-то решила, что Галилей — это не прославленный астроном, а прославленный астролог, и попросила его составить гороскоп мужа. Фердинандо I сильно болел, и надо было знать, встанет ли он на ноги, а если так, долго ли проживет. Галилей дорожил благорасположением семьи и сразу принялся за работу. Гороскоп получился на редкость оптимистическим: «звездочет» заверил великую герцогиню, что звезды располагаются наилучшим образом, Фердинандо I скоро оправится и проживет еще долгие годы. Увы! — через неделю великого герцога не стало, и перспективы дальнейшей службы Галилея у Медичи сделались весьма туманными.
По возвращении в Падую он узнал, что в Голландии изобретен телескоп. Еще и в глаза его не увидев, Галилей быстро понял принцип работы двухлинзовой камеры и за какие-то несколько дней сделал собственную модель, в десять раз превышающую мощность прежней. «Открытие» свое он преподнес венецианскому дожу — неглупый политический ход. Сколь важен телескоп для морской державы вроде Венеции, скоро стало ясно всем: появилась возможность засекать враждебные суда на далеком горизонте, выигрывая таким образом несколько ценнейших часов для подготовки обороны. В знак благодарности дож предоставил Галилею пожизненный контракт в университете, хотя надежды на повышение жалованья не оправдались, а ведь он был по-прежнему опутан долгами.
Галилей быстро сообразил, как можно еще более увеличить мощность телескопа, и последний из созданных им экземпляров дает по сравнению с первым тридцатидвухкратное увеличение. Но что еще важнее, он сразу понял, какие преимущества дает этот увеличительный инструмент, если взглянуть через его стекла на звездное небо. Его оно, во всяком случае, изумило — ему открылась совершенно новая вселенная. Такое же чувство, наверное, испытал Колумб, открывший нежданный материк. В непродолжительном времени Галилей сделал несколько сенсационных открытий.
По большому счету за последние примерно три с половиной тысячелетия человечество не узнало о звездном небе ничего нового; возможности наблюдения при помощи невооруженного глаза были исчерпаны вавилонянами, наблюдавшими со своих зиккуратов строение созвездий. Все переменилось в тот момент, когда Галилей припал к телескопу и сфокусировал его на лунной поверхности. Раньше Луна казалась всего лишь светящимся диском, то увеличивающимся, то уменьшающимся. Теперь взгляду предстало большое загадочное сферическое тело, уже не прибывающее-убывающее в размерах, но разделенное на свет и тень. При ближайшем рассмотрении выяснилось также, что эта сфера покрыта кратерами, горами и даже чем-то похожим на моря. Галилей понял, что по аристотелевской астрономии нанесен окончательный удар: небесные тела — это, разумеется, никакие не безупречные, не подверженные изменениям сферы-квинтэссенции, это просто совершенно новые миры со своими свойствами и недостатками — точно так же, как и мир, населенный людьми.
Сделанные открытия Галилей описал в книге «Звездный вестник», посвященной не без умысла его бывшему ученику, а ныне великому герцогу Тосканы Козимо II. В Европе это сочинение произвело сенсацию. Выяснилось, в частности, что у Юпитера есть спутники. Эти новые луны Галилей окрестил — в честь того, кому посвящена книга — «Sidera Medici» («Звезды Медичи»). Таким образом, семья обрела бессмертие в небесах! С точки же зрения науки всего важнее оказались наблюдения «фаз Венеры»: планета расширялась и сужалась в точности как Луна, а поверхность, если смотреть на нее с земли, то светилась, то уходила в тень. Это неопровержимо свидетельствовало о том, что, подобно Земле, Венера вращается вокруг Солнца, других объяснений этого феномена просто нет.
Помимо того, Галилей наблюдал за Солнцем (используя для защиты глаз дымчатое стекло) и в процессе этих наблюдений обнаружил, что на нем есть темные пятна, принимающие форму облаков, которые «как будто наползают одно на другое». Это еще одно доказательство того, что звездное небо отнюдь не является вневременным и неизменным, как утверждал Аристотель. Неудивительно, что выводы Галилея вызвали яростное сопротивление последователей Аристотеля и церковников. Вот характерный отзыв одного аббата из Баварии, который писал автору: «Я прочитал все работы Аристотеля и не нашел в них ничего похожего на то, что утверждаете вы... Ваши пятна на Солнце — просто дефект ваших инструментов или зрения». Хуже всего то, что Галилей не мог ответить своим критикам — по той причине, что они просто отказывались признавать его точку зрения.
Впрочем, реакция Галилея была не менее характерна: сторонники Аристотеля, церковь, кредиторы — все они заключили против него союз. Чем смелее и оригинальнее становились его идеи, тем больше его преследовала паранойя. Ответы критикам становились все более нетерпимыми и резкими, Галилей повсюду наживал себе врагов.
Но появление «Звездного вестника» принесло и несомненный успех: девятнадцатилетний великий герцог Козимо II был явно польщен тем, что бывший наставник вспомнил о нем, и щедро отблагодарил Галилея, объявив его «первым философом и математиком» Тосканы; эта должность принесла с собой внушительное жалованье и роскошные условия работы на вилле Беллосгвардо, близ Флоренции, идеально расположенной для проведения астрономических наблюдений. Галилей немедленно оставил Падую, взяв с собой детей; Мария, явно по взаимному согласию, осталась на месте. Галилей оставил ей некоторую сумму на приданое, чтобы она могла выйти замуж (так оно через год и случилось).
На этот период пришелся высший взлет в жизни Галилея. Он же знаменовал и триумф Медичи в качестве крестных отцов научного Ренессанса. Под их крылом и при их поддержке Галилей получил возможность проводить свои исследования беспрепятственно, не обращая внимания на критиков. Непосредственным следствием этого стало быстрое распространение и усвоение его идей во всей Европе. Именно изучение работ Галилея вдохновило голландского философа и математика Рене Декарта на написание его эпохального «Рассуждения о методе», где под открытия Галилея была подведена философская база.
Галилей составил целую программу экспериментальных исследований, которые сопровождались далеко идущими теоретическими обобщениями. Рассуждения о тесной связи между физикой и математикой привели его к мысли о разграничении между двумя различными свойствами объектов. С одной стороны, это физические свойства, поддающиеся измерению, — длина, вес и так далее, они принадлежат самим объектам. С другой — свойства, измерению не поддающиеся: запах, цвет, вкус. Это уже не свойства самих объектов, но впечатления от наблюдений за ними. Это критически важное разграничение будет впоследствии развито английским мыслителем Джоном Локком, составив основу эмпирической философии, первой действительно научной школы в философии, постулирующей, что истина опирается на опыт.
Учения Декарта и Локка вдохнули новую жизнь в философскую мысль, положив начало, как принято считать, современной философии. И то и другое учения — рационалистическое и эмпирическое — в большой степени обязаны научным открытиям Галилея, ну а он, своим чередом, обязан поддержке и покровительству Медичи. Эти открытия и сами по себе знаменовали ренессанс философских идей античности, что, правда, в данном случае способствовало революции скорее в естественных науках, нежели в философии. Опираясь на собственные опыты, Галилей начал размышлять о природе вещества, и это привело к возрождению идеи, впервые выдвинутой Демокритом еще в начале IV века до нашей эры. Демокрит утверждал, что в конечном итоге материя состоит из неделимых частиц, которые он называл атомами (от греческого atomos, что и означает «неделимое», «нерассекаемое»). Со временем эта идея проникнет в физику и химию, вытеснив аристотелевское учение о четырех элементах материи.
И хотя должно было пройти много столетий перед тем, как атомы можно будет увидеть и сосчитать, сама идея стала основой революции в науке. В отличие от смеси земли, воздуха, огня и воды, представляющих собой скорее свойства, нежели числа, атомы, как неделимые частицы, хотя бы теоретически можно сосчитать. Новая научная революция означала переход из мира качеств в мир количеств, в тот мир, где применимы методы математики.
Размышляя над сутью новой гелиоцентрической теории, Галилей пришел к выводу, что инерционное вращение планет вокруг Солнца должно вызываться некими магнитными силами, притягивающими объекты друг к другу. Из его рукописей явствует, что он остановился на самом пороге открытия гравитации как всеобщего закона Вселенной. Применение законов физики к феномену движения планет знаменовало собой эпохальный шаг. Кеплер применил ко Вселенной математические законы, и вот теперь Галилей показал, что и физические законы имеют всеобщий характер. Он формулировал прямо: «Земные законы применимы к небесам».
Постепенно он приближался к опасной территории, и Ватикан начал проявлять все больший интерес к революционным идеям Галилея. Но остановить его уже было невозможно. В 1611 году Галилея пригласили к папскому двору показать свой новый телескоп, и его мысли, как ни удивительно, произвели весьма благоприятное впечатление. Воодушевленный этим, Галилей решил в полной мере разъяснить суть своих открытий, раз и навсегда продемонстрировав истинность гелиоцентрической системы. Он написал трактат, где описываются пятна на Солнце, отвергается идея, согласно которой центром Вселенной является Земля, показывается, что наука способна объяснять явления. Трактат вскоре сделался известен в Европе и даже стал чем-то вроде учебного пособия в университетах.
Почуяв размеры угрозы, сторонники Аристотеля, хоть и с запозданием, предприняли сокрушительную контратаку. Они упирали на то, что, развивая идеи Коперника, Галилей не только выступает против учения церкви, но и прямо противоречит Библии. Церковь решила, что пришла пора действовать: идеи Галилея — это безусловная ересь.
Но даже и тогда у него оставались друзья и союзники в кругу высших иерархов церкви. Папы и кардиналы сыграли свою роль в распространении ренессансных воззрений, и многие видные церковники стояли на стороне интеллектуального прогресса (показательно, что завершенный двадцать лет назад новый величественный купол собора Святого Петра, эта гордость католической церкви, воспринимался одновременно как продукт искусства и науки). Среди этих последних был влиятельный кардинал Маффео Барберини. Он дал знать Галилею, что до тех пор, пока он будет выступать как чистый математик, ему ничто не грозит. Совет этот прозвучал юмористически, хотя и невольно: дело в том, что церковь воспринимала математику в чисто платоновском духе, как явление сугубо идеальное и абстрактное, не имеющее отношения к реальному миру. Ну а Галилей исходил из прямо противоположных позиций.
Оборачиваясь назад и глядя на конфликт церкви и науки в историческом контексте, следует признать, что он был и неизбежен, и в — интеллектуальном смысле — совершенно не нужен. Корнями своими он уходит в ту роль, которую христианство сыграло в сохранении западной цивилизации. В Темные века, наступившие после распада Римской империи, античное знание существовало только в окраинных христианских общинах. С приходом более стабильных времен, в Средние века, оно получило распространение в Европе, но оставалось достоянием монастыря.
Это привело к относительному застою позднего Средневековья, когда церковь по-прежнему полагала всю философию, все знание, все просвещение своей собственностью: знание и учение церкви — это одно и то же. С оживлением интеллектуальной энергии, чему способствовало наступление Ренессанса, церковь оказалась в трудном положении. Не желая отказываться от монополии на знание, она постановила, что любой прорыв в нем должен сообразовываться с теологическим учением, из чего парадоксальным образом следовало, что открытия науки приемлемы для церкви только в том случае, когда открывается уже известное! Прогрессивная мысль сдерживалась отсталой практикой интеллектуальных институтов, и, по мере того как напряжение между этими полюсами нарастало, все явственнее становилось, что кто-то с неизбежностью должен уступить. Беда Галилея заключалась в том, что он оказался в самом центре этого неуклонно развивающегося процесса.
В 1616 году церковь включила работы Коперника в «Индекс запрещенных книг», а Галилею было официально предписано «отказаться и не защищать» подобного рода идеи, иначе он предстанет перед судом инквизиции. Этот институт был учрежден как часть общего движения Контрреформации, жестоко подавляющей ныне любое выступление против католической церкви. Цель инквизиции состояла в выявлении ереси, с применением в случае необходимости пыток; предполагалось, что таким образом любые побеги протестантизма в католических странах будут быстро выкорчеваны.
Галилей рассылал отчаянные письма кардиналу Барберини, великому герцогу Тосканы, другим влиятельным друзьям. В письме вдовствующей великой герцогине Кристине он осторожно обронил: «По моему мнению, запретить сейчас Коперника значит запретить истину». Но отклика эти обращения не возымели, и Галилею пришлось удалиться на виллу Беллосгвордо, где он и пребывал под защитой великого герцога Козимо II.
Семь лет спустя друг Галилея Маффео Барберини стал папой Урбаном VIII, и Галилей, преисполненный оптимизма, направился в Рим. Новый папа выслушал его более или менее сочувственно и дал соизволение написать книгу «Диалог о двух системах мира». В ней он мог изложить обе точки зрения на строение Вселенной — коперниковскую и церковную, при том, однако, условии, что читателю будет ясно дано понять: правда на стороне церкви. Так увидел свет «Диалог о двух системах мира», в котором воззрения Коперника вложены в уста остроумного интеллектуала Сагредо, а церковь с ее аристотелевскими воззрениями представляет персонаж по имени Симплицио — Простак. К сожалению, Галилей опять увлекся, и Простак получился как-то уж слишком простоватым. Хуже того, многим читателям показалось, что за этим псевдонимом скрывается сам папа. Урбан VIII пришел в ярость, а тут еще приближенные нашептывали, что новые идеи служат лишь тому, чтобы подорвать все движение Контрреформации. В Европе продолжалась Тридцатилетняя война с ее кровопролитными сражениями между католическими и протестантскими армиями, и в этой обстановке галилеевские взгляды казались более опасными, чем «Лютер и Кальвин, вместе взятые».
На беду Галилея, в 1621 году умер его покровитель и бывший ученик великий герцог Козимо И. Беззащитный отныне Галилей в 1633 году был вызван в Рим и предстал перед судом по обвинению в ереси. Всего тридцать лет назад здесь же, в Риме, и за то же судили и приговорили к сожжению на костре философа и естествоиспытателя Джордано Бруно. Чувствуя, что над ним нависла смертельная угроза, старый (ему уже было шестьдесят восемь лет) и больной Галилей направился в Рим, где, избегая пытки, вынужден был быстро капитулировать. Его заставили торжественно отречься от своих «богопротивных» воззрений, хотя легенда гласит, будто в последний момент он все же проговорил вполголоса: «И все-таки она вертится».
Галилея приговорили к пожизненному тюремному заключению, но, приняв во внимание возраст и состояние здоровья, позволили вернуться в Тоскану. Здесь, покровительствуемый новым великим герцогом Фердинандо II, он отбывал свой домашний арест в небольшом поместье Арчетри к югу от Флоренции. Четыре года спустя он начал слепнуть, но чувствовал себя лучше, чем выглядел. Громкое имя привлекало видных визитеров из северной Европы. Так, среди его гостей были английский философ Томас Гоббс и поэт Джон Мильтон. Буквально накануне полной слепоты Галилей наблюдал в телескоп, как, вращаясь вокруг Земли, Луна колеблется на своей оси. Несколько позже он завершил свой классический труд «Беседы и математические доказательства двух новых наук», представляющий собой полное изложение его идей. Рукопись была тайно доставлена в Голландию, отпечатана там и начала циркулировать в ученом мире Европы. Умер Галилей в возрасте семидесяти семи лет, 8 января 1642 года, буквально за несколько месяцев до того, как в Англии родился Исаак Ньютон. А три с половиной столетия спустя Ватикан наконец признал, что в случае Галилея «была допущена ошибка».
«Помилование» означало крупную уступку, ибо даже и по смерти Галилея церковь была вовсе не склонна прощать его «заблуждения», и наиболее непримирим к своему бывшему другу был в этом смысле папа Урбан. Так, он воспротивился решению великого герцога Фердинандо II похоронить Галилея в Санта-Кроче, рядом с такими великими флорентийцами, как Гиберти, Макиавелли и Микеланджело. Лишь через семьдесят пять лет он будет удостоен этой чести.
Великий герцог проявлял острый интерес к исследованиям Галилея, и после того как в 1632 году Фердинандо II достиг совершеннолетия и взошел на престол, в палаццо Питти, где жил ученый, то и дело появлялись курьеры с заданием изготовить для его высочества самоновейший телескоп. Особо гордился Фердинандо «Звездами Медичи», которые любил показывать своим высоким гостям. В 1635 году, после того как папа осудил «Диалог о двух системах мира», Фердинандо приложил немалые усилия к тому, чтобы трактат сохранился и получил распространение. Это он способствовал тому, чтобы его младший брат Маттиас де Медичи тайком переправил экземпляр рукописи в северную Европу, где он был переведен на несколько языков и быстро опубликован. Работа попала на глаза Томасу Гоббсу, о чем он и сообщил во время визита к находящемуся под домашним арестом стареющему ученому.
Так почему же Фердинандо II не защитил Галилея сразу после первоначальной публикации «Диалога» в 1632 году? И почему не воспрепятствовал поездке больного ученого в Рим, хотя на кону стояла его жизнь? Фердинандо II наследовал своему умершему в 1621 году отцу в десятилетнем возрасте, и все годы его несовершеннолетия Тосканой правили властная и суровая вдовствующая великая герцогиня Кристина и ее сноха — жена Козимо II. Когда ему исполнилось семнадцать, Фердинандо отправили в большой тур по европейским столицам для пополнения образования, но даже после обретения в 1632 году полной власти он продолжал оставаться под каблуком вдовствующей великой герцогини — до самой ее смерти, последовавшей в 1636 году. Когда в 1632 году Галилея вызвали в Рим, папа Урбан VIII порекомендовал Фердинандо II не вмешиваться, иначе может возникнуть крупный дипломатический скандал. И это была не просто угроза. При вдовствующей великой герцогине Тоскана полностью попала под влияние папы, в эти годы во Флоренцию буквально хлынул поток священников. Множество почти опустевших в свое время флорентийских монастырей теперь оказались заполнены до предела. При Кристине священники занимали крупные административные посты, что запретил еще, выстраивая новую бюрократическую систему, великий герцог Козимо I.
Фердинандо II был полноватый добродушный юноша с вьющимися волосами и тонкой стрелкой загибающихся вниз усов. Даже на раннем портрете Юстуса Сустерманса он, облаченный в блестящие доспехи, рука покоится на эфесе шпаги, предстает фигурой несколько нелепой — этакий наполовину денди, наполовину воин, впрочем, на воина непохожий. Но за вялыми манерами и неизменно приветливой улыбкой скрывались воля и незаурядные способности. Могло показаться, что к выполнению своих обязанностей Фердинандо относится как к приятному времяпрепровождению, однако же именно при нем Тоскане удавалось сохранять добрые отношения и с Австрией, и с Францией, и с Испанией, и с папой, при всем конфликте интересов последних.
В 1638 году Фердинандо II женился на Виттории делла Ровере, в явном расчете на скорое появление наследника мужского пола — Медичи нуждались в продолжении рода. Но дело с самого начала не заладилось. Женщина не только строгая и властная, но и крупная, хорошего сложения, Виттория тем не менее рожала с трудом. Первенец умер при рождении, та же несчастная судьба постигла и дочь, при появлении которой она сама едва не умерла. Возникли опасения, что наследника не будет вообще, тем более что Фердинандо II как будто предпочитал своей пышнотелой жене компанию смазливых придворных. Все же эти симпатии не помешали ему выполнить свой династический долг, и в 1642 году на свет появился долгожданный наследник мужского пола.
Влиятельную силу в Тоскане представляла пребывающая в тени трона мать Фердинандо II Маддалена. Особое внимание она уделяла чистоте нравов, и такое распределение обязанностей великого герцога вполне устраивало. Правда, вскоре после рождения внука, названного при крещении Козимо, вдовствующая великая герцогиня Маддалена предстала перед сыном с длинным списком гомосексуалистов, занимающих высшие административные посты в великом герцогстве, и призвала его к ответу: какие меры собираетесь предпринять, ваше высочество? Фердинандо II взял список, молча прочитал его и добавил в него свое имя. Маддалену это не смутило, она заметила лишь, что герцог сделал это, чтобы спасти грешников от заслуженного наказания. А что это за наказание, поинтересовался Фердинандо II. Костер, ответила мать. Тогда Фердинандо II смял лист бумаги, швырнул его в огонь и сказал: «Ну вот, ваше повеление уже выполнено».
Показательный анекдот — хотя бы тем, что за внешним добродушием герцога угадывается растущая решимость. Но важнее, пожалуй, — намек на господствующий во Флоренции моральный климат. Несмотря на то что при великих герцогах нравы в городе сделались проще и свободнее, у многих это вызвало недовольство; те силы, что привели к возвышению Савонаролы и Республики Христа, могли в любой момент вновь собраться под знамена.
Подобно многим Медичи — своим предшественникам, Фердинандо II любил устраивать для народа разного рода зрелища. Флоренция, как и прежде, гордилась своими художественными завоеваниями, но день сегодняшний был лишь бледной тенью великой эпохи; мир и преуспеяние, казалось, бессильны были породить гениев, каких вдохновляли времена непокоя и насилия. Даже прославленный вкус, каким всегда отличалась Флоренция, и тот пошатнулся — неопределенность обостряла его, а стабильность нуждалась лишь в развлечениях и сладостных воспоминаниях о «старых добрых временах». Это, пожалуй, лучше всего видно на примере самого популярного художника той поры Луки Джордано. В кои-то веки любимцем Флоренции стал даже не флорентиец. Джордано родился в Неаполе, и талант его был талантом копииста. Как пирожки, пек он подражания картинам Микеланджело, Рафаэля и других великих творцов Возрождения. Остались позади дни, когда Флоренция была законодательницей моды, теперь центры искусств рассеялись по всей Европе — Рим, Париж, Амстердам. Высокий Ренессанс, которому столь усердно подражал Джордано, стал достоянием истории, и все же флорентийцы предпочитали его подделки-анахронизмы господствующему в Европе стилю барокко.
Говорят, этот стиль, с его мелодраматизмом, склонностью к пафосу, любовью к избыточности, эмоционально чужд флорентийскому вкусу, предпочитающему четкость линий и классические формы. Но это весьма спорно. Ведь именно Флоренция породила и полюбила Микеланджело, чьи творения, исполненные драматического напряжения и муки, на самом деле торят путь барокко с его избыточностью. Флорентийский вкус развивался от Мазаччо к Боттичелли и, далее, к Микеланджело; но сейчас он, этот славный вкус, пошатнулся. И именно этим, а не какими-то изъянами барочного стиля объясняется неспособность города удержаться на волне художественного прогресса.
Тем не менее вовсе не все флорентийское искусство этого периода отличается вторичностью. Кардинал Джанкарло де Медичи, младший брат Фердинандо II, делал заказы неаполитанскому живописцу и поэту Сальватору Розе, чей значительный талант так и не нашел полного воплощения.
В противоположность запоздавшему Луке Джордано Роза как художник опередил свое время. Иные из его стихов, а также пейзажей и портретов безошибочно воспринимаются ныне как отдаленное предчувствие ненаступившей эпохи романтизма. На «Автопортрете философа» с его суровыми, мрачными красками художник сделал такую надпись:
Aut tace
Aut loquerre meliora
Silentio.
(Молчи,
а если говоришь, то
пусть слова будут
лучше молчания.)
К сожалению, сам Роза не всегда был верен этому призыву, сочиняя, в угоду массовому вкусу, слабенькие сатирические пьесы либо рисуя батальные сюжеты. Подобно времени и месту, когда и где он жил, Роза был не уверен в себе; как художник он хватался буквально за все, даже комические роли на сцене исполнял. Лишь небольшая часть его наследия сохраняет значение, но говорит куда больше, чем молчание его второстепенных работ и отсутствие художественного вкуса, что ощущалось во Флоренции его времен.
Другой брат Фердинандо II — самый младший — Леопольдо также в будущем стал кардиналом, но еще до отъезда в Рим на церемонию возведения в сан сделал шаг, знаменующий последнюю вспышку Ренессанса Медичи — покровителей искусств, вернее, в данном случае наук. В 1657 году он основал Accademia del Cimento, в самом названии которой содержится прямой отклик на излюбленный научный метод Галилея (cimento — «испытание», «эксперимент»). «Экспериментальная академия» Леопольдо ставила своей задачей именно такое развитие науки. Ее лозунг: «Опыт, и еще раз опыт», эмблема — сооружение, напоминающее печь для пробы металлов. Академики, а в круг этого десятка или около того энтузиастов входил и сам Фердинандо II, встречались время от времени либо в палаццо Питти, либо, с летним переездом двора, в Пизе.
Эксперименты проводились в самом дворце, иногда в большой печи, поставленной в садах Боболи. Строго говоря, постоянных членов, а также устава в Академии не было, — просто участники неформальных встреч. Результатами своих разысканий они делились в переписке с учеными из разных городов Европы — в то время это был единственный способ распространения научных знаний.
В эпоху Ренессанса возникло множество обществ для популяризации философских, литературных и теологических идей, но собственно научные общества появились лишь в XVII веке. Первое из них образовалось в 1603 году в Риме — Академия дей линсей (рысь). Тогда же членство в ней было предложено Галилею, а на одном из заседаний сооруженные им occhiale (очки) были названы телескопом. Но после осуждения Галилея церковью Академия была распущена. Таким образом, позднейшее — 1657 года — основание Экспериментальной академии было смелым шагом. Ну и новаторским, разумеется. Королевская академия в Лондоне появилась лишь в 1662-м, Академия наук в Париже еще четырьмя годами позже, а Берлинская — в 1700 году.
К тому же Экспериментальная академия была все же чем-то большим, нежели просто вольным клубом любителей-ученых из аристократического сословия, проявляющих интерес к новейшим научным открытиям. Среди ее активных членов был великий итальянский физик Эванджелиста Торричелли. В 1641 году, будучи тридцати четырех лет от роду, он занял пост помощника Галилея во Флоренции — честь немалая. А на следующий год, по смерти Галилея, Торричелли стал профессором математики во Флорентийском университете.
В 1643 году он занялся проблемой, подсказанной ему Галилеем. Он взял закрытую с одного конца U-образную трубку и наполнил ее ртутью; затем перевернул и открытым концом опустил в сосуд также с ртутью. Ртуть перетекла в сосуд, но не до конца, со стороны закрытого конца трубки образовалось пустое пространство. Это был вакуум, и Торричелли оказался первым, кто создал его в устойчивом виде. Изучая этот вакуум — торричеллеву пустоту, — ученый заметил, что уровень ртути день ото дня меняется. Он решил, что это объясняется изменениями в давлении воздуха, — так Торричелли изобрел барометр.
Разумеется, не все идеи академиков были столь существенны, но даже самые на вид причудливые из них они разрабатывали с большим энтузиазмом. Продолжая семейную традицию, заложенную еще прадедом Козимо I, Фердинандо II интенсивно занимался биологией, проявляя особый интерес к экзотическим животным. Так, по его указанию во Флоренцию из Индии было доставлено несколько верблюдов, — поначалу их поместили в сады Боболи. Фердинандо был убежден, что терпением и выносливостью верблюды превосходят других вьючных животных, например, мулов, и намеревался использовать их в тягловой торговле. К великой радости местных жителей, верблюды вскоре зашагали по всей Тоскане, хотя в конце концов пришлось признать, что это скорее экзотика, коммерческой выгоды они с собой не принесли. Что ж, идея не сработала, но верблюды остались надолго, чуть не до середины XX века, когда вышагивающие по прибрежному герцогскому парку в Сан-Россоре близ Пизы двести примерно верблюдов могли бы служить напоминанием о неудавшейся затее.
Фердинандо II намеревался дать сыну естественно-научное образование, но этому воспротивилась великая герцогиня Виттория, считавшая науку ересью. Она настаивала на том, чтобы сын получил сугубо теологическую подготовку. Не лучший, оказалось, выбор, ибо он лишь усилил склонность мальчика к набожности и меланхолической задумчивости — склонность, которая в отрочестве привела к навязчивой идее сближения с христианскими мучениками. Фердинандо II все это не нравилось, но он решил не вмешиваться: покой он ценил выше всего на свете. Многие усматривают в этом слабость характера, и трудно отрицать, что порой она действительно сказывалась. Отказ выступить в защиту Галилея, когда тот попал в беду, как и нежелание оградить сына от церковного мракобесия, трудно толковать иначе как слабохарактерность. Но в широком плане неудержимое стремление Фердинандо II к мирной жизни обернулось для Тосканы благом. На протяжении всего его продолжительного — всего года до полувека не хватило — правления Тоскана почти не знала войн. При этом нельзя сказать, будто эти годы были вполне безмятежны, ведь уже самое начало царствования Фердинандо II было отмечено стихийными катастрофами. Полная потеря урожая 1621 года, при том, что и предыдущие несколько лет тучными не назовешь, привела Флоренцию на грань голода; далее, три года подряд, вплоть до 1633 года, город страдал от вспышек чумы, выкосившей почти десять процентов населения. Личное появление Фердинандо II в квартале Санта-Кроче, где он в это время раздавал милостыню, сильно способствовало его популярности.
Отныне он правил как добросердечный деспот, меж тем как великое герцогство постепенно погружалось в долгий экономический застой, что было вызвано, в частности, упадком мировых цен на шелк и продукты текстильной промышленности. Были, правда, и светлые пятна: Флоренция привлекала все больше туристов. Распространение искусства и идей Ренессанса в Северной Европе привело к оживлению интереса к классическому Риму и итальянскому Ренессансу. Большой тур по Италии сделался частью обучения молодых людей из богатых семей, а Флоренция с ее ренессансным зодчеством, скульптурами, живописью стала непременной остановкой на пути в Рим.
В годы правления Фердинандо II Флоренция оказалась втянута лишь в одну военную кампанию, когда в 1641 году папа Урбан VIII занял крохотное квазинезависимое государство Кастро на южной границе Тосканы. Фердинандо II провел осторожную дипломатическую разведку и выяснил, что в случае контрудара ни Испания, ни Франция в конфликт не вмешаются. Вот он и надел в 1643 году свои блестящие доспехи и во главе многочисленной, хотя и пестрой армии добровольцев и наемников двинулся в сторону Кастро, где папские войска были быстро обращены в бегство. Флоренция ликовала, но радость жителей сильно поумерилась, когда стало ясно, что этот поход практически опустошил казну великого герцогства. Оно уже не могло больше платить проценты по государственным облигациям, что обесценило вклады многих граждан, крупные и мелкие. Возникла реальная угроза банкротства целой страны, но предполагаемая лихорадка продаж государственных облигаций так и не наступила; рост экономики замедлился настолько, что, кроме них, вкладывать было просто не во что. В сельской местности возникший недостаток наличных денег компенсировался при расчетах с работниками бартером, а в городе экономику кое-как удерживал на плаву увеличивающийся наплыв туристов.
К тому времени основные доходы семьи Медичи шли от церкви, и когда настали тяжелые времена, Фердинандо II основал несколько своего рода благотворительных фондов для поддержки безработных. Таким образом, подаяния, поступавшие в церковь от бедных, к ним же и возвращались. При этом уровень семейного благополучия с неизбежностью понижался, ибо он самым тесным образом был связан с благополучием государства. Лоренцо Великолепный мог залезать в городскую казну для удовлетворения своих разнообразных капризов, но Фердинандо II не было никакой нужды покушаться на общественные фонды, ибо казна великого герцогства — это его казна. Отсюда, например, следовало, что продолжающаяся реконструкция палаццо Питти проводилась за счет общественных работ, частные подрядчики к ней не имели никакого отношения. Далеко позади остались времена, когда главным источником преуспеяния семьи Медичи было банковское дело, и именно Фердинандо II полностью положил ему конец: Медичи стали аристократами, они вошли в королевский круг Европы и не имели никакого желания, чтобы им напоминали о коммерческом прошлом.
В отчаянной попытке оживить экономику Фердинандо II запустил несколько общественных проектов, самым крупным из которых было строительство домов в Ливорно, остро нуждавшемся в новом жилье. После того как Козимо I издал декрет о свободе вероисповедания, этот порт начал стремительно превращаться в процветающий многоязычный город, так что в 1634 году здесь открылось английское консульство, а сладкозвучное название Ливорно англичане грубо превратили в Легхорн. Сюда потянулась самая разнообразная публика — крупные негоцианты и мелкие торговцы, моряки, люди, бегущие от церковных преследований, дезертиры и прочие изгои. Торговля здесь не облагалась налогами, но опосредованно приносила великому герцогству немалый доход — в форме мелких ремесленных хозяйств, которыми обрастала городская окраина. С другой стороны, Ливорно заслужил печальную известность крупнейшего центра работорговли в северном Средиземноморье. Посетивший его в 1644 году английский путешественник Джон Ивлин записывал в дневнике: «Количество рабов, турков, мавров, людей иных наций, поражает воображение; кого-то продают, кого-то покупают, кто-то пьет, кто-то играет, иные работают, иные спят, дерутся, поют, рыдают, все раздеты до пояса, все в цепях». В соответствии со своей общей политикой Фердинандо II строил новые дома вдоль каналов, в районе, известном ныне под названием Новой Венеции; нежелательная же публика сгонялась в одно место и высылалась в Алжир.
По достижении пятидесяти лет Фердинандо начал страдать от водянки, мучили его учащающиеся апоплексические приступы. В 1670 году, когда ему исполнилось пятьдесят девять лет, великий герцог заболел всерьез, на помощь были призваны лучшие медицинские силы того времени. Но, по словам очевидца, «это ни к чему не привело, личный врач пустил ему кровь и извлек из мочевого пузыря большой камень... Затем попробовали прижигание, затем порошки в нос — никакого эффекта... Наконец разобрали на части четырех живых голубей и внутренности приложили ко лбу». Вскоре герцог умер. Фердинандо II не особенно любили в народе, но флорентийцы привыкли к его щедрому самодержавному правлению и смерть оплакивали пусть не безутешно, но повсеместно.
28. УЖЕ НЕ КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ?
В качестве великого герцога Тосканы Фердинандо II сменил его двадцативосьмилетний сын Козимо III. Царствование его было отмечено только продолжительностью — пятьдесят три года, столько не правил ни один из Медичи, — в остальном же ничего примечательного не произошло, и современники стали свидетелями долгого, медленного, порой печального заката и Тосканы, и ее правителя. Козимо был у отца вторым сыном, и, быть может, лучше всего для него было бы последовать обычным для вторых сыновей Медичи путем и сделаться иерархом церкви; но его старший брат умер при рождении, что автоматически и превратило его в наследника престола, хотя он был совершенно не готов к исполнению этой роли.
Все знавшие молодого Козимо отмечают его мрачность и набожность, а посол Луки утверждает даже, что никогда не видел великого герцога улыбающимся. Его властная мать Виттория всячески укрепляла в сыне эту набожность, которая казалась скорее неким психологическим ущербом, нежели проявлением истинной духовности. Говорил Козимо только о мучениках и спасении; читал только теологические трактаты и рассказы о чудесах; а всем иным занятиям предпочитал ежедневное посещение мессы и прогулки по святым местам в сельской местности. Когда ему исполнилось девятнадцать, даже флегматичный отец понял, что пора что-то предпринимать. Наиболее очевидным решением проблемы представлялся брак.
Фердинандо II занялся поисками вариантов, и в конце концов ему удалось устроить чрезвычайно выгодный брачный союз сына с племянницей короля Франции Людовика XIII. Таким образом, разделенные прежде потоки французской и итальянской королевской крови Медичи опасно сближались: жена Фердинандо I француженка Кристина была внучкой Екатерины де Медичи, а теперь правнук Фердинандо I женился на внучке Марии де Медичи, дальней родственницы Екатерины. Другие Медичи, через династические браки, уже успели породниться с крупнейшими королевскими дворами Европы — Габсбургами, Валуа и Бурбонами. Там тоже многие уже переженились внутри себя, и над королевскими семьями, стремившимися сохранить свою благородную родословную исключительно путем браков с равными себе, нависла опасная тень кровосмешения. Безумие, дегенеративность, отталкивающие физические черты (например, печально знаменитый габсбургский подбородок, когда нижняя челюсть выдается далеко вперед) становились все более и более характерными для королевских домов всей Европы, да и для не столь высоких, нередко внутренне связанных кланов, допустим, для великогерцогской ветви Медичи, стремившихся породниться с самыми знатными и самыми сильными. В этом своем стремлении Медичи играли в опасные игры.
Будущая жена Козимо Маргарита Луиза была дочерью Гастона, герцога Орлеанского, а посредником в заключении брака выступил кардинал Мазарини, первый министр Людовика XIV, взошедшего на французский трон в 1643 году, после смерти своего отца, Людовика XIII, сына Марии де Медичи. Мазарини хотел стать папой и частным образом дал понять Фердинандо II, что ценой брака будет поддержка Медичи на выборах понтифика.
Во Флоренции слышали, что Маргарита Луиза — девушка «с каштановыми волосами, зеленовато-голубыми глазами и добрым, кротким нравом». Что касается нрава, то дело обстояло прямо противоположным образом. Маргарита Луиза была своенравным, исключительно испорченным подростком, привыкшим всегда стоять на своем. В ту пору она была влюблена в своего восемнадцатилетнего кузена Шарля Лотарингского и хотела выйти за него замуж. Даже мать Маргариты Луизы герцогиня Орлеанская выступала против брака дочери с неведомым итальянцем, но Мазарини путем подкупа привлек ее на свою сторону.
Брачный контракт был подписан в январе 1661 года, церемония бракосочетания (заочная) была намечена на апрель. В ту пору королевские бракосочетания радикально отличались от нынешних и даже в лучшие времена порождали, должно быть, немалые психологические трудности.
По заключении этого заочного брака Маргарита Луиза должна была проследовать в Италию, почувствовать вкус замужней жизни и только потом познакомиться с мужем.
С самого начала Маргарита Луиза страстно противилась будущему замужеству. В марте 1661 года умер кардинал Мазарини, после чего герцогиня Орлеанская сразу же обратилась к королю с просьбой расторгнуть этот брак. Людовик XIV и слышать ничего не хотел. Тогда Маргарита Луиза сама отправилась к нему и, упав на колени, умоляла не заставлять ее выходить за Козимо. Но король оставался непреклонен, заочный брак был торжественно «отпразднован» в Лувре, и Маргарита Луиза, «рыдая у всех на глазах», отбыла во Флоренцию. Юной девушке и впрямь выпал тяжелый жребий, и упрямый характер только усугублял его. Ненадолго она ожила, лишь когда в Марселе проводить ее неожиданно для всех появился Шарль Лотарингский, но в конечном итоге от этого стало только хуже. Когда Маргарита Луиза отплывала на украшенной гирляндами и разноцветными лентами галере в Ливорно, происходящее могло показаться сказкой, только с дурным концом.
Вернувшись во Флоренцию, Фердинандо II с удовлетворением отметил, что в поведении его сына произошли некоторые перемены. Козимо начал следить за своей внешностью и даже, готовясь к встрече с женой-француженкой, одевался теперь по французской моде. Но даже и за этой маской трудно было скрыть угрюмого и полного девятнадцатилетнего юношу с тяжелыми, как у всех Медичи, веками и губами в форме луковицы.
Молодые впервые увидели друг друга 15 июня на вилле Амброджина, в пятнадцати милях от Флоренции, где Медичи охотились. Это было невеселое свидание: угрюмый вид Маргариты Луизы обескуражил Козимо, он даже не смог себя заставить поцеловать жену. При всех недостатках характера и мужа, и жены, трудно в этой ситуации (которая раз за разом повторялась во всей Западной Европе) не посочувствовать им обоим.
Таковы были эти персонажи, которым предстояло сыграть главные роли в самом ярком представлении, которое когда-либо разыгрывалось на флорентийской сцене. Празднества в городе, каждая улица которого была соответствующим образом украшена ввиду предстоящего события, начались через пять дней после прибытия Маргариты Луизы. За минувшие полтора столетия, со времени торжественного въезда во Флоренцию папы Льва X, город не выглядел так празднично. На пьяцца Сан-Галло поставили ряды скамеек, через улицу, ведущую к собору, перебросили триумфальные арки. Вслед за швейцарскими гвардейцами, в черной тунике, украшенной сверкающими бриллиантами, на площадь въехал Козимо. Его сопровождали сто оруженосцев в мундирах, расшитых цветами Медичи. За этой процессией, в открытом экипаже с белыми мулами в упряжке, ехала Маргарита Луиза. На ней было свадебное платье с серебряными нитями, на котором выделялись «бриллианты и сорок конусообразных жемчужин, прикрепленных к плечу с помощью еще двух, каждая величиной с небольшое голубиное яйцо». Защищал невесту от солнца большой золотистый балдахин, также украшенный жемчугами, — несли его, высоко подняв, тридцать два молодых человека, отпрыски старинных флорентийских семейств. Процессию сопровождали не менее трехсот экипажей с остальными представителями тех же самых кланов. Жених и невеста ступили на землю и направились к собору, где у входа на них прыснул святой водой епископ Фьезоле; в ту же самую минуту два больших хора запели «Те Deum». На протяжении всей церемонии отекшее лицо жениха было совершенно бесстрастным, невеста также не могла выдавить из себя даже подобия улыбки.
После венчания флорентийцы отмечали это событие так, как умеют только они; празднества продолжались без перерыва все лето. Гонки на колесницах, проходившие на пьяцца Санта-Мария Новелла, сменялись рыцарскими турнирами на пьяцца Санта-Кроче; за конными скачками следовала целая ночь фейерверков; а в промежутках — костюмированные балы палаццо Питти по мотивам древнегреческих легенд и с участием исторических героев. Даже на Маргариту Луизу произвел впечатление один роскошный маскарад, разыгранный в присутствии двадцати тысяч зрителей, заполнивших амфитеатр садов Боболи, — сцены из исторических сюжетов, танцовщики выделывают антраша на лошадях, а в финале всего представления появляется в инкрустированных драгоценными камнями доспехах сам Козимо в обличье Геркулеса. Но стоило празднествам закончиться, как Маргарита Луиза погрузилась во все увеличивающееся уныние, а Козимо замкнулся в своем обычном постном благочестии. Дворцовые слуги шептались даже, мол, муж с женой настолько терпеть друг друга не могут, что даже не спят вместе. Впрочем, это только сплетня, ибо на третьем году замужества Маргарита Луиза родила сына, которого назвали Фердинандо.
А вот потом брак действительно фактически распался. Маргарита Луиза делала все от нее зависящее, чтобы оттолкнуть от себя Козимо, а он, своим чередом, целиком погрузился в молитвы, находя в них единственное утешение. Однажды, когда он вошел в спальню жены, та схватила стоявшую на ночном столике бутылку и пригрозила разбить ее о череп мужа, если он немедленно не оставит ее покои. Маргарита Луиза окружила себя французскими слугами и чуть не каждую ночь меняла спальню, чтобы муж не мог найти ее, — благо их в огромном дворце было величайшее множество. Какое-то время назад она вынудила Козимо подарить ей драгоценности из казны Медичи, являющиеся собственностью короны, и сразу велела слугам переправить их во Францию (Фердинандо I удалось перехватить посланцев еще до того, как они достигли побережья). После рождения ребенка Маргарита Луиза засыпала Людовика XIV письмами, умоляя его воздействовать на папу, чтобы тот согласился на расторжение брака. В ответ король велел ей замолчать и не утомлять его далее такими просьбами. Тогда она написала Шарлю Лотарингскому, заверяя в своей неизменной любви и призывая навестить ее во Флоренции. В конце концов он сжалился над ней и нанес краткий визит, результатом которого стал лишь поток любовных посланий, сопровождавший его на всем обратном пути во Францию. Слухи о происходящем дошли до Фердинанда II, и он велел перехватывать отныне письма невестки. В 1667 году Маргарита Луиза вновь забеременела и в надежде избавиться от плода принялась, что ни день, подолгу скакать на лошади. Это не помогло, и в августе 1667 года она родила дочь Анну Марию Луизу.
Но ничего не изменилось. У Маргариты Луизы вспышки ярости перемежались долгими полосами уныния, а Козимо почти все время молился, получая, кажется, удовольствие лишь от обильной еды. Наконец Фердинандо II все это начало надоедать, и, в стремлении обрести покой, он предложил сыну отправиться в долгое путешествие по Европе — одному. Помимо отдохновения от семейных свар, это даст ему возможность завести полезные знакомства, что понадобится, когда он сам станет великим герцогом.
Таким образом, в 1668 году Козимо совершил продолжительную поездку по Австрии, Германии и Нидерландам, но с его возвращением домой ничего не изменилось, и на следующий год Фердинандо II отправил его в новое путешествие, на сей раз в Испанию, Португалию и Лондон. Его появление в английской столице было отмечено в дневнике Сэмюэля Пипса, которому Козимо показался «приятным на вид, полным мужчиной в траурном платье». Козимо был принят королем Карлом II и сам устроил несколько пышных приемов для лондонской знати, на которых присутствующие — судя по их собственным признаниям, — как и сам хозяин, весьма приятно провели время. На пути домой через Францию Козимо остановился в Париже, где, по отзывам, «с блеском рассуждал на самые разные темы и обнаружил близкое знакомство с образом жизни всех европейских дворов». Судя по всему, эти поездки все же во многом переменили Козимо, новое окружение заставило его отказаться от скучного благочестия и просто наслаждаться жизнью. Но эта светлая интерлюдия продолжалась недолго: вскоре после возвращения из второго путешествия по Европе умер его отец Фердинандо II. Великим герцогом Тосканы стал его двадцативосьмилетний сын Козимо III.
К удивлению двора, свое правление новый государь начал с осуществления финансовой реформы, призванной оживить застойную экономику Тосканы. План был смелый, но выяснилось, что осуществить его труднее, чем казалось поначалу, и Козимо II обратился за советом к своей матери Виттории. Убедившись, что сын постепенно утрачивает интерес к государственным делам, властная Виттория постепенно прибрала вожжи управления Тосканой к своим рукам, и по прошествии недолгого времени даже заседания кабинета министров великого герцогства стали проводиться в ее личных апартаментах.
В 1671 году Маргарита Луиза родила второго сына, которого в честь его французского деда, герцога Орлеанского, назвали Жаном Гастоном. Год спустя Маргарита Луиза писала Козимо: «Заявляю со всей откровенностью, что больше не могу жить с тобой. Я являюсь источником всех твоих несчастий, как и ты моих». В том же письме она извещает мужа, что обратилась к Людовику XIV с просьбой разрешить ей удалиться в один из женских монастырей Парижа.
Взбешенный Козимо III приказал великой герцогине немедленно покинуть Флоренцию. Ей было предписано направиться на виллу Медичи Поджио в Кайано, в двенадцати милях к востоку от города у подножия Монте-Альбано, и оставаться там вплоть до дальнейших повелений. Демонстрируя свое величайшее неудовольствие, Маргарита Луиза взяла с собой на виллу более ста пятидесяти кухарок, грумов и прочую обслугу. По распоряжению Козимо III ей разрешалось покидать виллу исключительно для конных или пеших прогулок, при этом всегда в сопровождении вооруженной охраны.
О происходящем стало известно Людовику XIV, и он написал резкое письмо Козимо III по поводу фактического пленения жены: король не привык, чтобы с его родственниками обращались подобным образом. В конце концов было решено, что Маргариту Луизу беспрепятственно отпустят во Францию, где она удалится в монастырь на Монмартре, на северной окраине Парижа. Такое решение как будто удовлетворяло всех: дети, все трое, остаются с Козимо III, и он сохраняет лицо; у Людовика становится одной заботой меньше; ну а Маргарита Луиза приобщается к монашеской жизни — так, как она ее понимает. Едва достигнув монастыря, она тут же предприняла очередную попытку снестись с Шарлем Лотарингским, но выяснилось, что он уже женат и счастлив в браке. Тогда Маргарита Луиза основала в монастыре танцевальный класс и «игры в помещении», в которых участвовали приставленные к ней охранники. Время от времени, нацепив светлый парик и обильно нарумянившись, она наведывалась в Версаль и наслаждалась азартными играми. Перестав получать от Козимо III регулярное содержание, она потребовала возобновить его, сопроводив послание таким признанием: «Не проходит и дня, и часа, чтобы я не мечтала о том, что тебя повесят». В конце концов аббатисе надоели выходки новой монахини, и она пожаловалась своему начальству. В ответ последовала угроза сжечь монастырь, после чего Людовик XIV перевел племянницу в другое место — Сен-Манде, на восточной окраине города. Здесь Маргарита Луиза — а было ей уже за пятьдесят — с удовлетворением обнаружила, что одна из отдаленных родственниц оставила ей небольшое наследство. В какой-то момент мать-аббатиса Сен-Манде, любившая разгуливать за стенами монастыря в мужском костюме, исчезла, и ее место заняла Маргарита Луиза, управлявшая отныне монастырем по собственному усмотрению. С годами ее буйный темперамент поутих, и в качестве матери-аббатисы она вела тихий домашний образ жизни в окружении одного попа-расстриги и часто менявшихся монашенок. В старости она с удовольствием вспоминала свои славные тосканские годы. Умерла Маргарита Луиза в 1721 году, семидесяти шести лет от роду.
Не успела она в 1675 году начать в Париже свою монашескую жизнь, как Козимо III заскучал по жене. Пусть одиночество его оживляли письма Маргариты Луизы, в которых она от всего сердца желала ему погибели, все равно что-то в глубине души оставляло его безутешным. Козимо III глубже и глубже погружался в тоску, находя отдохновение лишь в застольях, все более и более обильных; и по мере того как эти гастрономические марафоны приобретали все более героические пропорции, все величественнее выглядел их главный участник. Пиры окрашивались в национальные цвета, обслугу всякий раз наряжали в соответствующие национальные костюмы. На восточных пиршествах — в халаты и фески; на застольях в британском стиле — в черные гетры и парики; на мавританских заставляли покрывать лицо черной краской. Точно такое же внимание уделялось блюдам: окорока и жареная дичь, перед тем как украсить стол, взвешивались в присутствии Козимо III и, если что не так, отправлялись назад, на кухню. Мороженое подавалось в форме лебедей или лодок, конфитюр — в форме крепостей с зубчатыми стенами, для «строительства» которых хитроумно использовались такие экзотические фрукты, как ананас. Особое предпочтение Козимо III отдавал засахаренным фруктам; впервые отведав их в Лондоне, он специально отправил туда повара, чтобы тот постиг тайну изготовления этого деликатеса.
Простой склонностью к обжорству такого рода излишества не объяснишь, скорее всего у них была психологическая основа, ведь ни чувственными наслаждениями, ни иными явными проявлениями декаданса они не сопровождались. Совсем наоборот, при всей своей неуклонно увеличивающейся тучности, Козимо был убежденным — хотя на вид и не всегда убедительным — пуританином. Это был человек глубоко верующий и стремящийся к тому, чтобы нравы Тосканы отражали его благочестивое поведение. В этом смысле он оставался верным сыном своей матери Виттории, и в результате столь привычный к развлечениям флорентийский люд, который с таким энтузиазмом праздновал бракосочетание Козимо III, начал чувствовать себя весьма неуютно в стылом моральном климате, который становился чем дальше, тем строже.
Университет Пизы, уступавший по своему авторитету лишь Падуанскому собрату, получил следующее предписание: «Его высочество воспрещает кому бы то ни было... читать или обучать, будь то в аудитории или частным образом, в письменной или устной форме, философию Демокрита, атомарную теорию, а также все, что отклоняется от учения Аристотеля». От этой цензуры было не уйти, ибо тем же самым декретом гражданам Тосканы запрещалось поступать в университеты за ее пределами, а философам и ученым, которые нарушат его, грозили большие штрафы или даже тюремное заключение. Времена, когда Медичи покровительствовали поэтам и ученым, остались позади; Флоренция, некогда один из крупнейших интеллектуальных и культурных центров Европы, ныне стала местом гонений мысли и погрузилась во мрак невежества.
Установления подобного рода укрепляли моральное учение церкви; последующие декреты охраняли ее повседневную деятельность. Ежегодный майский фестиваль был запрещен под предлогом его языческого происхождения, а девушкам запрещалось распевать веселые майские песни под страхом телесного наказания. Запрету подверглась и давняя традиция ухаживания, когда юноши окликали девушек через окно, ибо это ведет к «насилию и абортам». Была даже предпринята — правда, неудачная — попытка возродить давний закон, запрещающий женщинам выступать на сцене. Точно так же не удалось упразднить такое явление, как проституция, хотя отныне оно было взято под строгий контроль. Всем проституткам вменялось в обязанность приобретение лицензии стоимостью 6 флоринов в год (сумма, равная ежемесячному жалованью неквалифицированного рабочего); одновременно они должны были носить на голове желтую ленту и ночью, выходя на улицу, держать в руках фонарь. Нарушительниц раздевали до пояса и ударами кнута гнали по городу. Грех содомии карался смертью, а с годами все шире входили в практику публичные казни. Даже за сравнительно мелкие проступки людей приговаривали к галерам, откуда возвращались немногие, да и те — бледные призраки.
Как это нередко бывает в таких случаях, новые законы вскоре приобрели отчетливо расовый характер. Запрет на проживание во Флоренции евреев действовал уже давно, теперь он стал со всей строгостью применяться на всей территории Тосканы. Антисемитизм был узаконен — евреям не разрешалась вступать в брак с христианами и даже жить под одной крышей. Точно так же евреям запрещалось вступать в связь с проститутками христианского вероисповедания, последние же, в случае нарушения этого правила, подвергались публичной порке и тюремному заключению. Особенно сильно действие этих законов ощущалось в Ливорно, где еврейская колония достигла двадцати двух тысяч человек; многие евреи эмигрировали, что привело к значительному снижению налоговых поступлений от торговли между этим свободным портом и внутренними районами Тосканы. В такой атмосфере, особенно во времена всеобщей нужды и аскезы, расцветают все ксенофобские предрассудки, и неудивительно, что евреи, турки, давно проживающие во Флоренции славяне с Балкан оказались преследуемыми национальными меньшинствами. Просвещенная деспотия прежних великих герцогов сменилась самой откровенной тиранией, и пока Козимо III мрачно отсиживался у себя во дворце, ночные улицы обнищавшей Флоренции все больше погружались во тьму и молчание. В связи с продолжающимся экономическим упадком великого герцогства Козимо III ввел дополнительные налоги, понадобившиеся для поддержания бюрократии, которая правила страной от его имени. Предоставленная сама себе, она могла бы и впрямь стать спасительницей Флоренции, однако же и сама чувствовала тяжелую длань тирании; с повседневными делами администрация справлялась вполне, но была лишена возможности инициировать реформы, потребные для оживления экономики. И лишь церковь процветала; священники и религиозные институты были в большинстве своем освобождены от налогов, и, более, чем когда-либо, Флоренция сделалась городом монахов и монахинь. Количество последних в годы правления Козимо III достигло двенадцать процентов от общего женского населения страны.
Меры, направленные на то, чтобы выжать деньги из немногих сохранившихся прибыльных отраслей экономики, привели лишь к ее дальнейшей стагнации. Купцам продавалось монопольное право на продажу основных продуктов, таких как соль, мука, оливковое масло, но при этом оптовым торговцам разрешалось покупать так называемые «освобождения», которые обеспечивали некоторую защиту от монополии. Тем не менее подобные монополии были для них весьма тягостны. Взять хотя бы монополию на торговлю солью: незаконная добыча соли, например, выпаривание ее из рыбного рассола, считалась одним из крупных нарушений закона.
Мелкая торговля и ремесленные работы, на чем всегда держалась экономика великого герцогства, пришли в упадок, а пахотные земли в деревнях превратились в пустошь. Достоверной статистики нет, но, судя по многим признакам, население Тосканы за долгие года правления Козимо III уменьшилось более чем на сорок процентов. Гилберт Вернет, епископ Солсберийский, путешествовавший по Италии в 1685 году, отмечает: «Тоскана кажется настолько опустевшей, что трудно поверить, будто едешь по стране, где некогда было так оживленно, где прогремело столько войн».
Козимо III тоже наверняка наблюдал подобные картины, ведь и он много путешествовал по Тоскане, хотя и не с целью изучения состояния дел в великом герцогстве. Козимо III верил в целительную силу поездок по заброшенным захоронениям, разбросанным по разным местам Тосканы, а в дни, свободные от этих душеспасительных путешествий, часами выстаивал на коленях в своей личной, тускло освещенной часовне палаццо Питти.
Не только поваров рассылал Козимо с различными поручениями в Европу; рассылал он по континенту и людей в поисках всякого рода реликвий. На их приобретение шли деньги из неуклонно тощавшей государственной казны. А когда ее возможности вовсе были исчерпаны, Козимо III начал подбираться к семейным накоплениям Медичи. Приобретение дорогостоящего церковного антиквариата, многие из предметов которого оказались излишними в протестантских странах, можно рассматривать как прощальный жест Медичи-покровителей искусств, хотя следует признать, что и дома эта деятельность иссякла не до конца. Козимо III находил удовольствие в прямой поддержке любимого художника, сицилийца Гаэтано Замбо, лепившего из воска чрезвычайно жизнеподобные фигуры грешников, мучающихся в аду, святых, подвергающихся самым страшным испытаниям, наконец, ужасных, поражающих воображение жертв чумы. Последним нашлось бы место в собранной Козимо коллекции рисунков, изображающих самые разнообразные природные вывихи, вроде телят и собак о двух головах, горбатых карликов, а также всевозможные экзотические существа; примыкали к этим рисункам и медицинские изображения всяких болезней. Эти последние подпитывали его увеличивающуюся склонность к ипохондрии, которую Козимо III лелеял также с помощью необычных медицинских средств и загадочных эликсиров. К счастью, все это не оказывало никакого воздействия на его физическое здоровье, остававшееся на удивление крепким, особенно если иметь в виду тучность великого герцога и как раз весьма нездоровый образ жизни; а вот душевное его состояние, как говорят, оставляло желать лучшего, его все больше и больше преследовал страх смерти.
Более двух с половиной столетий понадобилось Медичи, чтобы дойти до такого плачевного положения. Достаточно сравнить его с временами знаменитого тезки Козимо III — Козимо Pater Patriae. Да, этого первого из семьи Медичи правителя Флоренции мучила тяжелая, изнурительная болезнь, да, он жил в страхе перед адским пламенем, которое ожидает его за нарушение библейского запрета на ростовщичество. Однако же испытываемый им страх смерти и проклятия породил церкви и приюты, библиотеки — эти центры античного знания, он, этот страх, способствовал появлению первых носителей гуманистического учения и художественных шедевров раннего Ренессанса.
В 1694 году умерла властолюбивая и набожная мать Козимо Виттория, оставив сына править великим герцогством в одиночку. Теперь ему просто приходилось проявлять хоть какой-то интерес к государственным делам: пусть бюрократия управляла сама собой, но внешняя политика требовала решений, для бюрократии неподъемных. В этом смысле Козимо III оказался неожиданно искусным последователем своего отца Фердинандо II с его линией вялого нейтралитета. Продолжение этой политики означало, что Тоскана оказалась на задворках международной сцены. Раньше правителя Тосканы задабривали (и ему угрожали) короли Франции и Неаполя, с ним советовались (и понуждали к тем или иным действиям) императоры Священной Римской империи и римские папы; теперь его просто никто не замечал. Правда, это, к счастью, касалось и самой Тосканы, отчего она оказалась в стороне от такого, скажем, крупного события, как война за испанский престол[9], продолжавшаяся c 1701 по 1714 год, когда в борьбе Франции, Англии и Голландии за немецкие, испанские и австрийские территории Священной Римской империи вся Северная Европа оказалась разодранной буквально на куски. Из итальянских государств Савойя и Неаполь оказались втянутыми в эту распрю, а Козимо III не сделал ничего такого, что поставило бы под угрозу судьбы Тосканы, — просто потому, что он вообще ничего не делал.
Нейтралитет был для Тосканы не только мудрым выбором, но и необходимостью, ибо в ту пору великое герцогство было просто не способно вести военные действия. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на подробную военную документацию, которую вела пунктуальная, как обычно, бюрократия. Если судить по списочному составу, то военный гарнизон Ливорно составлял тысячу семьсот человек, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что многим из них было больше семидесяти, а кое-кому и все восемьдесят лет. Комическое впечатление производят такие, например, записи: «потерял зрение»; «не видит из-за преклонного возраста и ходит, опираясь на палку». Что же до некогда могучего тосканского флота, то он ныне сократился до трех галер и нескольких судов сопровождения, с общим составом в сто девяносто восемь человек.
При всем при том политику Козимо III нельзя называть полностью нейтральной. Еще в первые годы своего правления он наладил тайную переписку с больным и стареющим императором Священной Римской империи Леопольдом I. Долгое царствование последнего было омрачено чредой свар, предшествовавших войне за испанский престол, но Козимо III больше интересовало другое. Он настаивал на том, чтобы великим герцогам тосканским был предоставлен королевский статус и чтобы соответственно к ним обращались не «Ваше Высочество», а «Ваше Королевское Высочество». Чтобы положить конец этой грозившей стать бесконечной переписке, в 1691 году Леопольд I предоставил великим герцогам Тосканским искомое право «trattamento real» («королевское обращение»). Получив в руки такое оружие, Козимо III мог теперь сосредоточиться на решении проблемы наследования внутри собственной семьи. Это предполагало, в частности, попытку заключения династического брака в кругу какой-либо из королевских семей Европы, хотя осуществить ее было нелегко, в основном по причинам генетической наследственности.
На первый взгляд наибольшие династические возможности открывались перед Фердинандо, старшим сыном Козимо. Несмотря на то что ранние годы его были омрачены тесным общением со своенравной и непредсказуемой матерью, Маргаритой Луизой, вырос он развитым молодым человеком, с хорошим, быть может, лучшим в кругу семьи художественным вкусом. Прежние великие коллекционеры из клана Медичи всегда занимались меценатством с умыслом: оно было для них либо инструментом укрепления власти, либо попыткой примириться со своей совестью, либо мостом дружбы. В общем, неизменно существовали внехудожественные мотивы. Фердинандо же занимался коллекционированием из чистой любви к искусству, хотя, увы, и само это искусство, и художники, и доступные ему финансовые средства были на порядок ниже, чем у его предшественников. Вот почему собрания в его апартаментах, будь то дворец Питти или резиденция Медичи в Поджо в Кайяно, включают в себя лишь малые шедевры — в отличие, допустим, от великолепного собрания картин Боттичелли, написанных при Лоренцо Великолепном. Собрание Фердинандо — торжество чистого вкуса, а не результат некой политической стратегии.
Сыграл он немалую роль в музыкальном расцвете своего времени, ставшем естественным продолжением более раннего Ренессанса в других искусствах. Особого упоминания в этом смысле заслуживает его тесная связь с уроженцем Сицилии, композитором-сочинителем опер Алессандро Скарлатти. Зародившись за полтора столетия до того во Флоренции, оперное искусство быстро вышло за пределы Италии, сделавшись при Людовике XIV если не достоянием Франции, то достоянием Версаля, который при Людовике XIV стал культурным центром Европы, а при императоре Священной Римской империи Иосифе I — Вены. И все же итальянская опера, особенно в Венеции и Неаполе, оставалась недосягаемой. Скарлатти был ведущим оперным композитором своего времени, он расширил возможности жанра, открыв ему путь от ранних барочных образцов к новой музыкальной эре, именуемой ныне предклассицизмом. Он придал опере законченную форму, построил ее вокруг речитатива и арий, когда сюжет замирает, а исполнитель, нередко на протяжении довольно долгого времени, дает своим чувствам чисто музыкальный выход. Так начиналась эпоха певцов-виртуозов. Женские партии обычно исполнялись кастратами, и по характеру роли это были первые примадонны, настолько, что вскоре они прибрали к рукам большинство ведущих мужских ролей!
В 1702 году Фердинандо пригласил Скарлатти во Флоренцию, где тот написал пять опер, исполненных на вилле Медичи в Пратолино (там, где некогда Галилей обучал юного Козимо II). В свое время эти оперы получили высокую оценку, хотя до нас дошли лишь отдельные их фрагменты. Два года спустя Скарлатти переехал в Рим, затем в Венецию, но на протяжении ближайшего десятилетия регулярно переписывался с Фердинандо, и именно эти письма стали основным источником наших знаний о жизни композитора этого времени.
Еще молодым человеком Фердинандо быстро убедился, что делами великого герцогства его отец интересуется мало, но когда обратился к нему в надежде взять какое-либо из этих дел на себя, получил категорический отказ. Последовала ожидаемая психологическая реакция, и с тех пор способный и развитой сын делал все от него зависящее, чтобы разозлить своего ограниченного и нетерпимого отца. К несчастью, это начало оказывать на молодого человека разрушительное воздействие, и то, что началось страстным протестом, быстро выродилось в пустой разгул, чему немало способствовал наследственный темперамент Медичи. Фердинандо отправился в Венецию, представлявшую намного больше возможностей для такого рода поведения, но вскоре вернулся домой в сопровождении надменного певца-кастрата по имени Чеккино.
После венецианских развлечений Флоренция показалась ему тусклой и скучной. На улицах полно святош — монахов и монахинь, на каждом углу толпятся нищие. В попытке хоть как-то оживить затхлую атмосферу города (и к вящему гневу отца) Фердинандо организовал накануне Великого поста 1689 года большой рыцарский турнир. Он прошел на пьяцца Санта-Кроче при большом скоплении публики. Главной темой спектакля, организованного Фердинандо со страстью и мастерством, достойными самого Лоренцо Великолепного, стала война между Европой и Азией. Одна сторона была загримирована под воинов Востока — на иных были даже доспехи, взятые в качестве трофеев во время войн с Оттоманской империей; другие были одеты как европейские рыцари. Быть может, все это зрелище задумывалось как знак того, что Фердинандо пришла пора самому стать великим герцогом? Или то была последняя вспышка прежнего величия семьи Медичи?
Фердинандо продолжал вести рассеянный образ жизни. Сегодня он затевает переписку с немецким композитором Генделем, уговаривая его посетить Флоренцию, завтра принимает участие в попытках спасти от разрушения расписанный Рафаэлем алтарь в одной из городских церквей, послезавтра ударяется вместе с Чеккино в очередной загул по злачным местам Венеции, где подхватывает сифилис, весьма вероятно, от того же Чеккино. Тем временем Козимо III упрямо продолжает поиски выгодного брака для сына, итогом которого станет появление на свет наследника мужского пола и, таким образом, продолжение династии Медичи. В конце концов ему удалось сговорить в невесты баварскую принцессу Виоланту, которая оказалась довольно тусклой и к тому же несколько напуганной девицей шестнадцати лет. Тем не менее Козимо III настоял на браке, хотя сейчас уже можно было с большой долей вероятности сказать, что распущенность и гомосексуальные наклонности Фердинандо сводили его шансы на отцовство практически к нулю.
Убедившись в этом, Козимо сосредоточивает свои усилия на дочери — Анне Марии Луизе, довольно-таки мужеподобной и неуклюжей девице с длинными черными волосами. Поиски мужа велись во множестве королевских семей Европы. Испанцы не проявили интереса к этим поползновениям, как и португальцы; французы и Савойский дом вежливо, но твердо отклонили сделанное предложение; их примеру (во второй раз) последовала Испания. А вот в Германии Козимо III улыбнулась наконец удача — в мужья дочери был обещан пфальцграф Иоганн Вильгельм — весьма достойная пара. Выяснилось, увы, что и он заражен сифилисом, так что у Анны Марии Луизы случилась лишь целая серия выкидышей.
Тогда неунывающий Козимо III делает ставку на младшего сына — Жана Гастона, одаренного, наделенного художественным чутьем юношу, который любой компании предпочитал собственное общество. В глазах европейских правителей он оказался еще менее привлекательной партией, чем старший брат, — был этот молодой человек тучен, болезненно чувствителен, а столкновения с грубой действительностью приохотили его к пьянству. К тому же явное отвращение к женскому обществу ясно свидетельствовало, что и он тоже гомосексуалист. Впрочем, даже и этими помехами можно было пренебречь, не окажись выбор Козимо III невесты для своего чувствительного отпрыска столь катастрофическим.
Он решил, что лучше только что овдовевшей принцессы Сакс-Лауэнбургской Анны Марии Франчески ему никого не найти. Она наделена различными титулами, а претензии (по линии покойного отца) на саксонское курфюршество означают, что в один прекрасный день ее муж может стать императором Священной Римской империи. Иное дело, что, по описаниям, Анна Мария «на редкость своевольна, толста и некрасива». Говорят, именно ее властное поведение и нетерпимость за какие-то три года превратили ее мужа в горького пьяницу, от чего он и умер. В отличие от своего будущего мужа — утонченного эстета Анна Мария была женщиной необразованной и безнадежной мещанкой, обожавшей сельскую жизнь. По словам историка той эпохи Якопо Галлуцци, «больше всего она любила верховую езду, охоту и долгие беседы с лошадьми в конюшне».
Уже одни только слухи, касающиеся будущей жены, заставили Жана Гастона содрогнуться от ужаса, но отец был непреклонен: брак должен быть заключен. Уныло и покорно Жан Гастон направился через Альпы на север, навстречу своей суженой, обладающей столь высокими династическими достоинствами. По прибытии в Дюссельдорф он был буквально потрясен, обнаружив, что будущая жена так же грузна, как и он, и столь же, хоть и по-своему, физически непривлекательна. Более того, если Жан Гастон был просто некрасив, то Анна Мария — уродлива. К тому же вскоре выяснилось, что, помимо отталкивающей внешности, у них нет решительно ничего общего.
В июле 1697 года епископ Оснабрюкский обвенчал эту странную пару в часовне дюссельдорфского дворца курфюрста; считалось, что обоим было по двадцать пять лет, хотя выглядела жутковатая невеста постарше. Свадебные торжества были, помимо всего прочего, отмечены большой программой деревенских плясок; сельское одеяние, пронзительная музыка и голосистое пение оскорбляли слух Жана Гастона, привыкшего к классическим мелодиям, но жена его аплодировала артистам от всей души.
Новобрачная настаивала на немедленном — по окончании свадебных торжеств — отъезде из Дюссельдорфа, упирая на то, что она терпеть не может городской жизни и не переносит умных разговоров. Ухабистыми дорогами королевский экипаж направился в долгий путь через Баварию и богемские леса в Прагу, и далее в деревушку Райхштадт, где над хибарами и покосившимися домиками нависали зубчатые стены полуразвалившегося родового замка новобрачной. Счастливая от возвращения домой, Анна Мария сразу же удалилась в конюшни, гораздо более приспособленные для жилья, нежели сырые и холодные помещения, где Жан Гастон остался наедине со своими печальными мыслями. Вскоре стало ясно, что о наследнике или наследнице и мечтать не приходится. Анна Мария Франческа вновь отдалась прерванным было беседам с лошадьми, а Жан Гастон искал утешения в обществе итальянского грума по имени Джулиано Дами. По прошествии некоторого времени они стали наведываться в Прагу, приобщаясь к жизни местного дна. По словам одного мемуариста, «в Праге было немало дворцов, принадлежащих богатой знати. А в них служили целые роты лакеев, поваров, кухарок и иных людей низкого звания. Джулиано ввел его высочество в этот круг, побуждая его искать здесь развлечения и находить любые, по вкусу, особи».
Со временем Жан Гастон осмелел и однажды даже предпринял поездку в Париж. Узнав об этом, Козимо III сильно расстроился и отправил сыну письмо, в котором осыпал его упреками за дурное поведение и небрежение обязанностями отца будущего наследника престола. К этому времени Козимо III сделался еще более набожным и аскетичным, даже есть стал меньше. По словам английского путешественника Эдварда Райта, остановившегося на некоторое время во Флоренции, Козимо III «в последние двадцать лет своей жизни пил только воду и довольствовался самой простой пищей. Состояла она из одного блюда, и садился (Козимо) за стол всегда один, за исключением Дня святого Иоанна и других праздников, когда к нему присоединялась семья».
Столь же аскетический образ жизни вела и Флоренция. Население города уменьшилось наполовину и составляло теперь около сорока двух тысяч жителей. Мостовые в переулках проросли сорняками, дома покосились. Спад экономики задел все слои общества. Нищие липли к туристам, ибо видные люди из местных не выходили из своих опустевших дворцов, заказывая еду в ближайших тавернах. Уволенные повара и слуги болтались у ворот, самим своим видом удостоверяя положение, в котором пребывают их прежние хозяева, а также тот факт, что они свободны для найма. Холодными зимами и во времена сбора скудного урожая у окон палаццо Питти собирались группы людей, жалобно выпрашивая хоть кусок хлеба. Козимо III удалялся в часовню помолиться за этих несчастных, а стража тем временем гнала их прочь. К 1705 году государственная казна Тосканы опустела полностью.
Вскоре о положении дел во Флоренции стало известно за границей. Австрийцы начали посматривать на Италию, явно покушаясь на Парму и Феррару, а вскоре стало ясно, что Иосиф I намеревается присоединить к Священной Римской империи и Тоскану. Перспективы Медичи выглядели весьма печально: Фердинандо, сын и наследник Козимо III, пил беспробудно, страдая то от галлюцинаций, то от амнезии, хотя население, в своем большинстве, об этом не подозревало, ибо бодрствовал он только ночами и почти не выходил из дома. Точно так же, чем дальше, тем очевиднее становилось, что Жан Гастон просто не в состоянии управлять великим герцогством. С другой стороны, Иосиф I был убежден, что при австрийском правлении Тоскана вновь превратится в процветающую провинцию, а это, в свою очередь, поспособствует экономическому росту всей империи.
Иосиф I вступил в дипломатические переговоры со стареющим Козимо III. Фердинандо тем временем впал в эпилепсию — дни его были сочтены. Население, однако же, возлагало на него большие надежды, полагая, что его восхождение на престол будет означать возвращение к лучшим временам. В глазах многих Фердинандо был «хорошим Медичи». Иосиф I пригрозил Козимо III, что смерть его сына может породить массовые беспорядки, а это, в свою очередь, чревато свержением Медичи. Если же в Тоскану войдут австрийские войска, всего этого можно избежать.
Козимо III упирался, а Иосиф I стоял на своем. Он уведомил великого герцога, что, изучив родословную крупнейших королевских домов Европы, его юристы пришли к выводу, что Тоскана является частью Священной Римской империи. (Одна из дочерей Фердинандо II в свое время вышла замуж за австрийского кронпринца Фердинанда Карла, а другая — за герцога Пармы, являющейся ныне территорией Австрии.) Эта новость потрясла всю Италию: обоснованы претензии Иосифа I или нет, в любом случае весь полуостров может быть охвачен войной, грозящей опустошить Тоскану.
Папа Иннокентий XII, над чьими владениями также нависла угроза, срочно связался с Козимо III, предложив ему откупиться от императора Иосифа I. Козимо III не оставалось ничего, кроме как отговориться отсутствием денег, в ответ на что папа сразу же дал ему разрешение лишить налоговых льгот церковь на территории Тосканы. В результате Козимо III удалось собрать 150 000 флоринов. За эту сумму Иосиф I был готов отказаться от своих требований.
Однако же австрийская оккупация Пармы и Феррары все равно представляла для Тосканы постоянную опасность. Более того, угроза нависала со всех сторон — не только с австрийской. В своем нынешнем жалком состоянии тосканский флот был бессилен противостоять возможному вторжению французов, а на юге, в опасной близости к границе, были расквартированы испанские войска. В такой обстановке лишь перспектива защиты Тосканы со стороны Австрии, казалось, удерживала другие государства от воинственных шагов. Все это время Козимо III только и знал, что дрожал от страха, и в конце концов это полное отсутствие всяких активных действий чудесным образом окупилось. В 1711 году умер император Иосиф I, и это привело к временному затишью в войне за испанский престол. Поумерились и территориальные претензии Священной Римской империи. Два года спустя умер Фердинандо, но это вопреки угрозам и ожиданиям не привело ни к каким волнениям; жители были настолько запуганы и подавлены, что даже на улицу выйти сил не было.
Так и тянулось царствование Козимо III — в 1720 году он отметил пятидесятилетие восшествия на герцогский престол. Встречавшийся с ним в том же году английский путешественник Эдвард Райт оставил следующее описание:
«Его высочеству было около восьмидесяти лет. Состояние здоровья не позволяло ему выходить из дома, но когда такая возможность была, он ежедневно посещал пять-шесть церквей. Говорят, в кабинете у него было какое-то механическое приспособление в виде календаря, на каждой странице которого были оттиснуты в серебре небольшие изображения святых. Переворачивая их, он молился тому или другому святому, в зависимости от дня. Ел он и ложился очень рано, как, впрочем, и вставал».
Религиозная одержимость давно уже сделала Козимо III игрушкой в руках узколобых советчиков, большинство из которых составляли люди церковного звания. Все обнаженные статуи были убраны с улиц и из галерей под предлогом того, что они «пробуждают похоть». Даже «Давид» Микеланджело, этот великий символ Флоренции, был упрятан под брезент. Козимо редко отваживался покидать пределы палаццо Питти, но когда все же выходил на улицу, собиралась толпа любопытствующих, чтобы хоть краем глаза посмотреть в угрюмом молчании на своего ненавистного правителя. В сентябре 1723 года с ним случился за письменным столом странный припадок, продолжавшийся два часа, совершенно обессиливший его и сочтенный им дурным предзнаменованием. С октября Козимо III уже не поднимался с постели и целыми днями молился об отпущении грехов (хотя один декрет — о повышении подоходного налога на территории великого герцогства — все же подписал). 31 октября, в возрасте восьмидесяти одного года, Козимо III скончался, положив тем самым конец самому продолжительному и самому разрушительному в истории семьи Медичи царствованию.
29. FINALE
В отсутствие других претендентов очередным великим герцогом Тосканы стал второй сын Козимо III Жан Гастон. Было ему пятьдесят два года, и, поскольку все надежды его отца на наследника мужского пола пошли прахом, казалось, род Медичи пресекается.
В годы, последовавшие за его женитьбой на жуткой принцессе Анне Марии Франческе Сакс-Лауэнбургской, Жан Гастон вынужден был безвыходно находиться в ее обветшавшем замке в Богемии, ибо жена отказывалась даже говорить о переезде во Флоренцию. Она вбила себе в голову, что мужчины из рода Медичи отравляли своих жен. По свидетельствам современников, у Анны Марии Франчески вошло в привычку расхаживать по холодным залам своего замка в охотничьем костюме из грубой кожи и сапогах, всячески понося своего жалкого мужа. Когда она отправлялась охотиться на диких кабанов, он подходил к окну и часами смотрел на дымящиеся трубы райхштадтских хижин; и по пухлым его щекам у него катились слезы жалости к самому себе. Он пристрастился к карточной игре со своим итальянским любовником-грумом и его приятелями, проигрывая при этом крупные суммы, ибо они его бессовестно обжуливали. Чтобы расплатиться с долгами, ему приходилось тайком залезать в шкатулку своей жены и закладывать драгоценности, которые она никогда не надевала, в ломбардах Праги, куда он теперь наведывался все чаще и чаще. Здесь Жан Гастон находил свои удовольствия: «Переодевшись в простого горожанина, он сливался с разношерстной компанией лакеев и бродяг, шатавшихся, постепенно напиваясь, по притонам и тавернам Праги... Тут он приучился скандалить и дебоширить, курить табак и жевать под выпивку, как это принято в Германии, перец с хлебом и семенами тмина».
Наконец у Козимо III иссякло терпение — сын и наследник ему был нужен во Флоренции. Узнав, что жена отказывается ехать с ним в Италию, он разработал план, как выманить ее из замка. По просьбе Козимо III папа Климент XI направил в 1707 году в Райхштадт архиепископа Пражского, который в самых категорических выражениях напомнил принцессе, что долг жены обязывает ее сопровождать мужа во Флоренцию. Принцесса пришла в ярость и наконец, все более распаляясь, вполне недвусмысленным образом заявила архиепископу, что никакого смысла в этой совместной поездке нет, потому что муж ее — «полный импотент».
В 1708 году Жан Гастон вернулся домой один. Жену ему больше не суждено было увидеть, и принцесса Анна Мария Франческа Сакс-Лауэнбургская весь остаток жизни провела в своих захолустных богемских имениях. Уже достигнув пожилого возраста, она по-прежнему оставалась страстной охотницей, но в старости сделалась отшельницей с весьма своенравным характером. Умерла Анна Мария Франческа в 1741 году семидесяти лет от роду. Родственные ей семьи продолжали исправно поставлять королей и королев для Пруссии и Англии, но ее прямая линия пресеклась, как и род Медичи.
Жан Гастон поселился в Тоскане вместе со своим неразлучным Джулиано Дами, взявшим на себя организацию его быта. Исключительная чувствительность заставляла Жана Гастона по-прежнему искать одиночества. Ночами он подолгу молча сидел на кровати, не отрываясь от бокала с вином и глядя на луну. Оставшееся время Жан Гастон проводил в переездах с одной семейной виллы на другую, тщательно избегая при этом встреч с родичами. Его отталкивала религиозность отца, и он не любил свою невестку (вдову старшего брата Фердинандо) за ее постоянные поучения. Несколько позднее, по смерти своего немецкого мужа-сифилитика, во Флоренцию вернулась его любящая сестра Анна Мария Луиза де Медичи, но теперь и она вызывала у него крайнее отторжение, ибо именно ее он винил в своем неудачном браке (и действительно, как жена курфюрста, Анна Мария действовала в качестве посредницы Козимо III при европейских дворах и в конце концов порекомендовала в жены Фердинандо принцессу Сакс-Лауэнбургскую). Так, в безделье протекали во Флоренции дни наследника великого герцога Тосканы, жившего в трепетном страхе наступления того дня, когда отец умрет и бремя правления ляжет на его плечи.
Известный французский путешественник Гийо де Мервиль, живший в ту пору во Флоренции, отмечает «редкостную апатию (Жана Гастона). Он настолько ленив, что, говорят, даже писем не читает, чтобы не отвечать на них. При таком образе жизни он мог бы прожить до глубокой старости, если бы не астма, которая к тому же усугубляется сильными сердечными средствами, которые он принимает в больших количествах. Некоторые опасаются даже, и не без оснований, что он уйдет раньше отца». Но получилось иначе.
К моменту смерти Козимо III Жан Гастон превратился в настоящую развалину. Во многих отношениях он был гораздо старше своих пятидесяти двух лет; в то же время в его расплывшейся от жира фигуре было что-то удивительно детское. Случалось, он целыми днями не вставал с кровати, и его полусонное состояние могло даже навести на мысль о преждевременном старческом слабоумии. Джулиано Дами набрал целую команду бродячих артистов, призванных развлекать Жана Гастона; как правило, это были миловидные молодые люди — выходцы из обедневших флорентийских семей. Называли их ruspanti — от ruspi (монеты), которыми с ними расплачивались, хотя у этого слова имеются и иные коннотации: уборка мусора, подметание дворов. Жадность этих артистов не знала никаких моральных пределов. Жан Гастон лежал на своей необъятной кровати, рядом с ним сидели двое или больше ruspanti, а остальные, по указке Джулиано Дами, разыгрывали импровизированные эротические сценки. Жан Гастон осыпал их грязными ругательствами, заставлял развратничать самым бесстыдным образом, а потом засыпал с открытым ртом. Его маленькие толстые губы прикасались к округлому двойному подбородку.
Ко всеобщему удивлению, новый великий герцог Тосканы начал свое правление весьма энергично; он даже всерьез отнесся к своим обязанностям. Памятуя о том, сколь много вреда принесло великому герцогству долгое царствование его отца, Жан Гастон начал с целого ряда реформ. Прекратил публичные казни. Резко уменьшил властные возможности священства. Отменил антисемитские законы. В попытке оживить анемичную экономику резко уменьшил налоги с рабочих и ремесленников, организовал учет нищих и направил их на общественные работы. Разрешил университету Пизы расширить образовательную программу, не ограничиваясь долее окостеневшим учением Аристотеля: теперь можно было даже пользоваться работами Галилея, на многие из которых до сих пор распространялся церковный запрет.
Естественно, для осуществления всех этих реформ требовалось время, и все же постепенно Флоренция обретала хотя бы подобие былой живости. Скандальная частная жизнь Жана Гастона давно перестала быть для кого-либо секретом, но воспринималась теперь с добродушной терпимостью. Он был лучше своего отца-ханжи; по крайней мере по городу перестали шнырять шпионы, выискивающие отклонения от установленных правил поведения. В своем роде новый великий герцог даже сделался популярной фигурой: он делал все, что мог.
К сожалению, мог Жан Гастон немного. Постепенно он вернулся к своему привычному безделью, и реформы начали сворачиваться. Тоскана обнищала настолько, что, посетив ее, французский писатель Монтескье заметил: «Нет города, в котором люди были бы настолько же лишены роскоши, как во Флоренции». При этом он парадоксальным образом добавил: «А вот власть во Флоренции исключительно либеральна. Никто не знает и даже не подозревает о существовании государя и его двора. Одного этого достаточно, чтобы признать редкостную чистоту атмосферы в этой маленькой стране».
Подобного рода неведению вряд ли следует удивляться, ведь Жан Гастон теперь, случалось, неделями не поднимался с кровати. И жизнь его по преимуществу протекала не на публике: он просыпался в полдень, после чего советники могли хотя бы попробовать добиться аудиенции и решить текущие дела. Как правило, Джулиано Дами должен был останавливать их еще у входа во дворец, но иногда, ценой взятки, кое-кому удавалось проникнуть внутрь через боковую дверь. Аудиенция продолжалась максимально краткое время и часто напоминала игру в испорченный телефон, после чего великий герцог, нащупав где-то в простынях колокольчик, звонил Джулиано, чтобы тот выпроводил надоедливого гостя. В пять подавался обед, затем, после продолжительной трапезы, начинался «спектакль» в исполнении ruspanti, в ходе которого Жан Гастон, откинувшись на подушки, рыгал и грязно сквернословил. Около двух ночи подавался обильный ужин; герцог выходил к нему, надев длинный муслиновый шарф, вскоре покрывавшийся сальными пятнами и крошками табака, который он нюхал в паузах между переменами блюд. Под конец Жан Гастон, случалось, повелевал открыть окна и всем удалиться, задумчиво взирая на луну, отбрасывавшую свой бледный неземной свет на крыши домов, башни и купола городских соборов. Звон стекла от выпавшей из его рук бутылки указывал слугам, сторожившим вход в спальню, что его королевское высочество заснул.
В попытке хоть как-то вывести Жана Гастона на люди его невестка принцесса Виоланта организовала несколько официальных приемов, на которых великий герцог должен был играть ведущую роль. Цель ее состояла в том, чтобы оторвать Жана Гастона от его ruspanti и ввести в цивилизованное общество. Остроумные, светские друзья принцессы, составляющие аристократический круг Флоренции, обмахиваясь веерами, с некоторой настороженностью смотрели, как великого герцога ведут к креслу во главе стола. К сожалению, в новом для себя обществе великий герцог почувствовал себя настолько неловко, что начал опрокидывать в себя один бокал за другим и в конце концов «расслабился» так, что повел себя, словно был в компании ruspanti. Парик его сбился на сторону, он выкрикивал какие-то ругательства, которые, к счастью, было почти невозможно разобрать. Конец социальному эксперименту, предпринятому принцессой Виолантой, положил следующий эпизод: в самый разгар застолья великий герцог обильно отрыгнул себе на салфетку половину только что отправленной в рот пищи и принялся вытирать рот развевающимися локонами своего напомаженного парика, не обращая внимания на скрип стульев и шелест платьев поспешно удаляющихся дам.
После того как Жан Гастон практически перестал подниматься с кровати, по Европе — что неудивительно — поползли слухи о его смерти. Дабы положить им конец, его сестра Анна Мария Луиза настояла на его появлении на скачках 1729 года в Порта аль Прато, приуроченных к Дню святого Иоанна Крестителя.
Приготовившись психологически к встрече со своими подданными, Жан Гастон с трудом поместил свое тучное, китообразное тело в экипаж, поджидавший его у входа в палаццо Питти, и тронулся через прилегающую к нему просторную площадь. Последовало то, чего можно было ожидать: на глазах у любопытствующих граждан, провожающих глазами удаляющийся экипаж, его пассажир то и дело высовывался в окно, изрыгая на улицу очередную порцию рвоты. Достигнув западных ворот, Жан Гастон немного оправился и вскоре, заняв в окружении сливок флорентийского общества почетное место на трибуне и с интересом наблюдая за скачками, принялся по привычке весело сквернословить. В конце концов он впал в глубокую дрему, и в палаццо Питти его пришлось переносить на носилках, — так что те из горожан, что вышли на улицы встретить его, имели возможность сами убедиться, что их постанывающий, распростертый на носилках великий герцог отнюдь не мертв, просто пребывает в бессознательном состоянии.
К этому времени уже стало вполне ясно, что наследника мужского пола в семье Медичи не будет. Кто же тогда может претендовать на титул великого герцога Тосканы? Сложившаяся ситуация таила в себе немалую опасность, и европейские державы отдавали себе в этом отчет. По окончании войны за испанское наследство европейские престолы, не имеющие бесспорного наследника, распределялись более или менее поровну между двумя крупнейшими королевскими домами континента: Бурбонами и Габсбургами. В 1731 году в Вене собралась международная конференция, которой предстояло решить, кто взойдет на тосканский престол после смерти Жана Гастона, каковая, судя по сообщениям дипломатов, была уже не за горами. На конференцию съехались представители Англии, Голландии, Испании и Савойи. Самого Жана Гастона не только не пригласили, но даже не сочли нужным посоветоваться по этому вопросу. В конце концов было решено, что во главе великого герцогства встанет пятнадцатилетний дон Карлос, уроженец Испании, из рода Бурбонов; ему следует как можно скорее направиться во Флоренцию, дабы обеспечить максимально гладкую процедуру передачи власти. Это решение было закреплено в Венском договоре.
Таким образом, Жана Гастона полностью лишили каких бы то ни было полномочий, хотя дон Карлоса для вида назначили опекуном и предложили подписать соответствующий документ, подтверждающий это. Судя по всему, Жан Гастон был вполне доволен таким оборотом дел и при подписании бумаг небрежно бросил: «Один росчерк пера — и у меня появился наследник. Я добился того, чего не смог добиться за тридцать четыре года семейной жизни».
В 1732 году дон Карлос, сопровождаемый шеститысячным вооруженным отрядом испанцев, появился в Тоскане и беспрепятственно проследовал во Флоренцию. Граждане города, чрезвычайно довольные, судя по всему, тем, что за престол никто не будет воевать, восторженно приветствовали юного испанского государя. Больше всего им явно нравилось то, что у них теперь есть властитель, которого они могут публично прославлять (по иронии судьбы, это была традиция, утвержденная в кругу флорентийских республиканцев представителями клана Медичи). Приветствовал дона Карлоса и Жан Гастон, преподнесший наследнику обитый бархатом экипаж, запряженный двумя белыми осликами, а также расшитый золотом зонт от солнца. Это был прежде всего символ щедрости Медичи: нелепая детская игрушка для использования в садах Боболи. А ведь дон Карлос уже вышел из детского возраста, этот государь-подросток был заядлым охотником. Тем не менее странный и в какой-то степени унизительный подарок он принял с полным достоинством.
Тем не менее нельзя утверждать, будто проблема наследования тосканского престола была решена полностью: на нее оказывали влияние известные европейские события. Дело в том, что не повсюду династические проблемы решались с той же легкостью, и вот уже континент вновь оказался на грани катастрофы. В 1733 году умер король Польши, что вызвало войну за польское наследство, которая, своим чередом, побудила Францию и Испанию выйти из Венского договора и вступить в конфликт с Австрией. К счастью, на сей раз распря продолжалась недолго, ведущие державы подписали новый договор — Туринский, по которому произошло перераспределение королевских венцов. Юный дон Карлос стал королем Неаполитанским, в Тоскане ему на смену пришел младший брат, Франциск Лотарингский. Последний был помолвлен с наследницей Габсбургского трона Марией Терезией, из чего следовало, что Тоскана отныне переходит из испанских в австрийские руки. Таким образом, в 1737 году дон Карлос вместе со своими шестью тысячами испанцев покинул Тоскану, а несколько позже на их место пришли те же шесть тысяч, но уже австрийцев во главе с принцем де Краоном, представителем Франциска Лотарингского.
Жан Гастон был недоволен этими переменами — он успел привязаться к дону Карлосу, но сделать ничего не мог, ему оставалось лишь удостоверить своей подписью согласие с той процедурой передачи трона, что предусмотрена Туринским договором. Принц де Краон делится своими впечатлениями о Жане Гастоне с Франциском Лотарингским: «Я нашел этого государя в весьма жалком состоянии. Он не мог подняться с постели. Борода не подстрижена, простыни и пододеяльники грязные, без кружев. Вид бледный, слабый, голос едва слышен. В общем, выглядит он как человек, которому осталось не больше месяца жизни». Так и видишь, так и обоняешь эту сцену: не зря под конец жизни спальню хозяина густо опрыскивали благовониями.
Граждане Флоренции, со своей стороны, были подавлены своевольным назначением Франциска и выказывали всяческое нерасположение к австрийским военным, презрительно именуя их не иначе как «лотарингцами». Новые военные заметно отличались от тактичных испанцев и вскоре начали активно вмешиваться в жизнь города, вытесняя флорентийцев с влиятельных административных постов. Символическая оккупация утратила свой формальный характер и начала вызывать все большее неудовольствие местных жителей. Посетивший Флоренцию в 1739 году французский ученый Шарль де Боссе отмечает: «Тосканцы отдали бы две трети своих богатств за возвращение Медичи, а оставшуюся треть — за удаление лотарингцев. Они ненавидят их». Публичные торжества, какими встречали некогда Медичи, подверглись запрету. Это был удар по всему, чем так дорожили флорентийцы, — по их уникальной истории, завоеваниям, традициям. Раньше этими общественными празднествами отмечали день рождения Козимо Pater Patriae, восхождение Джулио де Медичи на папский престол в качестве Климента VII, избрание синьорией Козимо I первым великим герцогом Тосканы. Австрийский военный отряд закрепился в Фортецца да Бассо, артиллерия, защищавшая Флоренцию, была передислоцирована к зубчатым стенам, окружающим город.
Жан Гастон был теперь едва ли не единственным представителем рода Медичи. Его невестка принцесса Виоланта умерла, правда, здравствовала еще проживающая в палаццо Питти старшая сестра курфюрстина Анна Мария Луиза. Ей сейчас было далеко за семьдесят: престарелая дама, защищающая достоинство семьи. Невзирая на запрет Жана Гастона, она приходила к нему в апартаменты и энергично наставляла немощного великого герцога на путь истинный. Жан Гастон умирал долго и медленно, но никто (в том числе и он сам) не сомневался, что он действительно умирает. В конце концов Анне Марии Луизе удалось привести брата в лоно веры, которую он отвергал на протяжении всей жизни. Ослабевшими руками великий герцог поднял к посеревшему, с клочковатой бородой лицу распятие и прошептал: «Sic transit gloria mundi» («Так проходит слава мира»). 9 июля 1737 года, после тринадцати лет постыдного царствования, он умер. У него была возможность оставить Тоскану в лучшем состоянии, нежели он нашел ее после многолетней тирании Козимо III, но его полное — во всех смыслах — бессилие привело к тому, что великое герцогство утратило свою независимость. Так ушел из жизни последний правитель Флоренции из рода Медичи.
Когда Жан Гастон умер, Франциск Лотарингский находился на Балканах, где шла война с турками. В качестве жеста вежливости принц де Краон предложил Анне Марии Луизе исполнять обязанности регентши до возвращения Франциска. Разумеется, это был бы чисто символический пост, ибо все инструменты власти находились в руках принца. Мария Луиза гордо отклонила предложение.
На протяжении следующих шести лет она продолжала жить в палаццо Питти; лишенная власти, Анна Мария, однако, не утратила богатств Медичи и помнила о своем положении последней в длинном и славном ряду. Женщина старая, она редко показывалась в обществе, покидая палаццо Питти лишь для посещения церкви да редких прогулок летним вечером, когда в сопровождении личного телохранителя курфюрстина проезжала по улицам в экипаже, запряженном восьмеркой лошадей. Английский дипломат сэр Гораций Манн сообщал в Лондон: «На закате жизни она представляет полную противоположность своему бездельнику и неряхе-брату. Достоинство не позволяет ей даже улыбаться... Обстановка в ее спальне — сплошное серебро: столы, стулья, табуреты, ширмы». Зрителям эта обстановка, наверное, казалась «скорее необычной, нежели... красивой». Редких визитеров Анна Мария Луиза — курфюрстина — встречала, стоя под большим черным балдахином: последняя из Медичи кончала жизнь строгой и надменной гранд-дамой.
В конце 1742 года она подхватила легкую лихорадку, которая, однако же, изрядно обессилила ее. В феврале следующего года Анна Мария Луиза скончалась. Сэр Гораций Манн писал: «Простые люди уверены, что ее унес ураган; в то утро задул сильнейший ветер, он продолжался два часа, а теперь солнце сияет вовсю — вот и все доказательство... И никого в этом не разубедишь, люди считают себя свидетелями случившегося. Ее оплакивает весь город».
После ее смерти обнаружилось завещание, в котором содержались распоряжения, касающиеся всех принадлежащих Медичи «галерей, картин, статуй, библиотек, ювелирных работ и иных драгоценностей». Говорилось, что «во благо народа и для привлечения интереса иностранцев ничего из вышеперечисленного не должно отчуждаться либо вывозиться из столицы и вообще с территории великого герцогства». Сокровищам Медичи и их культурному наследию предстояло навсегда остаться во Флоренции, городе, которому они столь многим обязаны и который столь многим обязан им.
1. По другим данным, в замок Радольфцелль. — Здесь и далее примеч. пер.
2. Здесь автор довольно неточен: армяне тоже еретики-монофизиты, яковиты находятся в Сирии.
3. Неточность автора: Виссарион родился в Трапезунде, а с 1437 года стал архиепископом Никейским и в таковом качестве прибыл на Вселенский собор.
4. Неточность автора: Америка была открыта только в 1492 году.
5. Ошибка оригинала: Лодовико Моро стал герцогом Миланским в 1494 году после смерти своего племянника, сына Галеаццо Марии Сфорцы Джан Галеаццо, т.е. уже после смерти Лоренцо Медичи; другое дело, что и при жизни племянника он пользовался в Милане огромным влиянием.
6. Перевод А. Эфроса.
7. Историческое название южной области Германии.
8. Неточность автора: в ноябре 1621 года де Люинь осаждал крепость Монёр, но умер 15 декабря в Лонгвиле от «пурпурной лихорадки» — вероятнее всего, скарлатины.
9. Крупная неточность автора: война за испанское наследство (в которой наряду с Францией, Англией и Голландией участвовала и Австрия) велась за Испанию и те бывшие территории Священной Римской империи, которые остались за испанскими Габсбургами (Нидерланды, итальянские и заокеанские владения) после раздела Священной Римской империи в 1556 году на Испанию и собственно Священную Римскую империю во главе с австрийскими Габсбургами (Австрия, Чехия, германские земли). Франция вовсе не претендовала на эти последние территории.