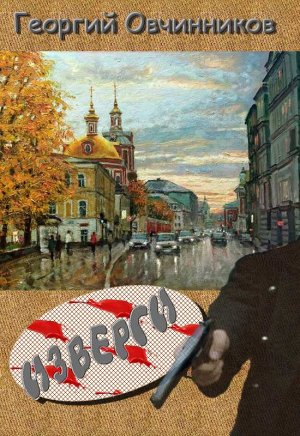
Пролог
Всё началось ещё в прошлом веке, когда наши деды воспылали очередным желанием построить новый справедливый или даже как они тогда думали совершенный мир; когда у невероятно терпеливого народа, наконец, лопнуло его терпение и он решил под гиканье кучки мерзавцев, как обычно возглавивших его поломать ход истории и позволить собственноручно провести очередной «лабораторный опыт» над собой; когда после «грандиозного» государственного переворота над ним самим ещё потом довольно долгий срок (семьдесят лет!) глумились…
И он (народ) весь этот срок опять терпеливо ждал и вкалывал, обманываясь с удовольствием (а с удовольствием как говорят всегда дороже!) превращался в ту серую массу уставших от собственного самопожертвования людей, наконец, получил ту метаморфозу коей и любуется сегодня со своей изумлённой «физиономии». Царей менял на «царей»; цепи на кандалы; несправедливость, открытую на несправедливость прикрытую.
Вот это всегда изумляло! Сначала разбаловать правительство до неприличия чтобы, потом, накопив огромную кучу обид, недомолвок, недовольства им — неожиданно взбеситься, получив определённую кучу неприятных духовных и физических увечий всё-таки начать (снова и снова) новую жизнь. Мы, наверное, мазохисты что ли? Мы сперва усиленно испокон веков сами себе создаём все различные проблемы, чтобы затем с пионерским усердием целенаправленно решать их. И как ни странно вот уже тысячелетие (и наверняка не одно!) живём так. К примеру, читая хотя бы тех же классиков, убеждаешься в этом. И живём, с таким непонятным для остального мира рвением неистовым упоением — нисколько не теряя искренности в своём деянии.
И правда! Порой нас не понимает: ни вечно рвущийся к цивилизованности — запад, ни хранящий тайну древности — восток, ни тем более не замечающие свою необыкновенность — мы. Тем не менее, мы не кичимся этим — мы даже как-то снисходительно отрекаемся от своей исключительности — вроде как бы даже стыдимся её, предпочитая первостепенному своему: либо западное, либо восточное. И ничего… Те с удовольствием принимают наше уважение, не возмущаются (как делали бы мы и делаем, во всяком случае, в душе).
Я вот вспоминаю 1985 год. Мы же вроде как до этого и не замечали, насколько плохо живём. Может потому что всем скопом? Как говорят: «На миру и смерть красна!» — что нам тогда бедность?! «Свято место — пусто не бывает». Потому материальную бедность заменяли богатством души и грамотностью. Говорил вождь пролетариата В.И.Ульянов (Ленин): знание — сила. Вот мы и «накачивали мускулы» мозга.
А теперь?! Объяснили нам, якобы счастье-то оказывается совсем не в этом, а в количестве денег, которыми ты располагаешь для приобретения материальных благ. Не то чтобы кто-то нам объяснял, мы сами вдруг навострились на это, глядя на «прогнивший» запад. Мы вообще жили почти по принципам аскетизма. Тогда и Шолохов-то воспринимался совершенно с противоположной стороны понимания. Зато сейчас его строки читаешь с уничтожающим ужасом.
Как начали (на государственном уровне) войну в 17-м году против богатых так и вели её впоследствии до самого 85-го, пока новый Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв не удосужился начать «ускоренную перестройку».
В начале-то всё двигалось широко — помпезно! Это потом к всеобщему «удивлению» оказалось, что советская экономика уже давно отыграла похоронный марш — верней по ней отыграли — а до этого все почему-то хоть и предчувствовали подвох, всё-таки упорно ждали КОММУНИЗМА. Так как развитой социализм уже — так же! — давно случился. (Об этом трубили и рапортовали все газеты). Почему — так же? — спросите вы. Да потому что простите меня за элементарную меркантильность, но на торговых прилавках в магазинах для такой огромной страны было шаром покати, зато давно осваивали космос и пугали мир ядерными ракетами. И вот этот нищий народ снова стоит на распутье, народ: прошедший гражданскую войну, вымиравший при коллективизации от разрухи и голода, прошедший «колючую проволоку» Гулага, победивший фашизм, освоивший целину и вообще привыкший «как-тось» выживать, что при татаро-монгольском иге, что при «коммунистах».
Опять спросите меня, а почему в кавычках? Отвечу. Потому как знавал несмотря ни на что честнейших людей среди них. Да и суть не в этом! Можно подумать, что экономика строится на одной честности и порядочности. (Если бы только!). Утопия! Она и есть утопия… и — никуда от неё не денешься. Нравится или не нравится, но до коллективного устройства надо морально дорасти ещё, надо измениться внутренне — духовно, когда своё естественным путём само собой становится общим, а не тогда когда его навязывают из-под палки. За частную собственность даже дети делятся тумаками, совершенно не имея никаких ещё представлений о собственности, да и вообще ещё не зная быта и устоев земли. Согласитесь, они просто говорят: «Моё!» и всё — и никаких гвоздей. Хотя на самом деле, это совсем даже (как может оказаться впоследствии!) не их вещь. А просто она им прилюбилась. Ну, вот и думай здесь.
Но речь свою повести я хочу совершенно не о политике. (Да Боже упаси!) Скорей о её удручающих последствиях. Каждый, мало-мальски поживший в те «старые добрые времена». Немного подышавший тем «сжатым воздухом» застойных времён и ощутивший на своей собственной шкуре тот «железный занавес» ту своеобразную атмосферу недосягаемости и недоступности «дикого запада» с его претенциозной культурой подтвердит, не кривя душой, что именно для неё (души!) тогда было гораздо больше положительных предпосылок, нежели сейчас. Хотя общество в целом являлось официально атеистическим. Казалось бы, откуда могут взяться такие понятия: как доброта, взаимовыручка, альтруизм… и многое другое тому подобное. Не хочу утверждать, что оставшиеся осколки религий способствовали этому. Хотя детей посвящали тайно в ту или иную, в зависимости от национальности и каких-либо других обстоятельств, религию. И это было в порядке вещей. Атеизм и религии шли негласно — рука об руку — в этом своеобразном обществе. Вот я, например, как и многие другие мои ровесники был крещён в православной христианской церкви, несмотря на то, что отец мой был убеждённый коммунист — свято веривший в светлое будущее коммунизма. Его (коммунизма) кстати, казалось вообще все «с минуты на минуту» ждали. Ждали как чудо. Как «манну небесную». Все предрекали — вот-вот и ОН настанет. Откуда? С чего вдруг?! Не знаю! Но я тоже верил.
В ночь на пасху молодёжь скрытно проникала на территорию церкви больше, чтобы удовлетворить своё любопытство, чем вникнуть в суть церемонии. Повсеместно: красили куриные яйца, стукались ими, катали… Администрацией создавались специальные дружины для поимки молодёжи на подобных религиозных мероприятиях. Нельзя было их посещать! Пойманных — наказывали. Не принимали в пионеры, в комсомол… И это было серьёзным наказанием.
О детях беспокоились. Слабым здоровьем: бесплатно давали в школьной столовой молоко, отправляли в санатории и оздоровительные лагеря отдыха, периодически проводили медицинские обследования. Да и вообще, каждого воспитывали в духе честного и добросовестного, юного ленинца, который должен будет заменить своих старших товарищей в борьбе за светлое будущее трудового народа всего мира. И все твёрдо верили, что пролетарии всех стран должны — действительно соединиться.
Кроме того, огромную роль в повседневной жизни трудящихся играла советская цензура. (Ибо не работающих не было, а если и были, то тунеядцы и их непременно сажали в тюрьму.) Цензура, она особенно остро несла свою вахту (и днём и ночью) оберегая внутреннее содержание и внешний облик нового человека. Человека будущего. Телевидение, радио, литература — вся культура! — к тому же пресса в любом её качестве всё преподносилось исключительно в рамках воспитания этого человека. Да и не только казалось, а большинство и в самом деле таковыми являлись: честными, морально устойчивыми, готовыми к взаимовыручке и в любой момент делящимися с товарищем последним, а самое главное способными в беде — «закрыть свою Родину грудью».
Прекрасные качества! И они в большинстве своём действительно были. Так думал тогда и думаю я сейчас о том времени. Как много было именно тогда всего такого: чистого, прекрасного, доброго… Вообще отрицательное тогда — скорее было случайным, чем закономерным. Может мы и в самом деле понапрасну поторопились, опять безоговорочно сразу разрушили старое, не подготовив ничего нового. Ломать — не строить! Что ж мы такие теперь нетерпеливые? Ведь был у нас уже пример Нэпа, которым в настоящий момент воспользовались китайцы.
Нет! Нам уже так не надо… Мы «по-русски»… Надо же, даже эта фраза и — то уже звучит как-то неприятно, вызывая широкую дисгармонию в окружающей среде; несколько отрицательное предвзятое преподнося ожидание; заранее готовя нас к напряжению. А ведь абсолютно ясно, что каждый хочет жить как можно лучше. Жить, по меньшей мере, хорошо, но мы — глядя на нас — как будто разучились… Или неужели не умели?
Теперь происходит обратное, тому — чего с таким трудом в своё время добивались всем обществом. Пусть не совсем правильным обществом (с экономической точки зрения), но зато всё-таки гораздо добрее нынешнего.
Когда началась перестройка, многие люди оказались на обочине её — ещё неизведанного пути движения. Люди оказались абсолютно не готовыми к новым, теперь наступавшим преобразованиям. Многое, ставшее за годы ковки нового человека враждебным, странным образом вдруг ожило и приобрело сейчас уже невинный характер. Спекулянты (фарцовщики) стали вполне безобидными коммерсантами. И это в то время когда в тюрьмах ещё отбывали свои весьма длительные срока за свою самостоятельную «коммерческую» деятельность вне закона некоторые наши товарищи и родственники.
Всё перекрутилось. Люди, способные взяться за какое-нибудь ремесло, открывали кооперативы или занимались индивидуальной трудовой деятельностью, а те, кто пошустрее и чуть пронырливее — позже своим делом (business). Неоспоримое большинство — растерялись. Теряли инициативу, но надо было кроме всего прочего как-то жить: питаться, одеваться, сначала хотя бы попросту выжить. Тут даже как говорится: не до жиру — быть бы живу!
А некоторые в глубоком отчаянии переступали закон и амбиции «кодекса совести». Таким образом, сначала опускаясь в собственных глазах, но впоследствии уже увязнув и несколько привыкнув к этому преступному статусу в глазах мечущегося общества (теперь уже даже упиваясь своей «значимостью»!) беспардонно продолжали эту деятельность с бурным энтузиазмом. А им, собственно говоря, ничего другого и не оставалось. Судьба, да и общество бросили их в кювет с такой лёгкостью, что было бы весьма удивительно их обозревать в иной интерпретации, то есть в жалком облике стоящих на паперти и просящих подаяния. Они посвятили свою жизнь (в своё время) советскому спорту… И вот эти, здоровые, крепкие парни оказались как таковые совершенно не у дел. Даже песенка-прибаутка появилась тогда: «Были мы спортсмены, а ныне рэкетмены…».
Вместе с берлинской стеной были разрушены и идеологические преграды. Представьте, как эта огромная глыба всякой всячины вдруг обрушилась на неподготовленные и нисколько не ожидавшие такого поворота в политике умы (некогда ещё «затворников») вот такой вот губительной (распылённой) новизны. Что от полученных «наркотических» доз информации лопнули ранее нажитые принципы и суждения, превратившись в шелуху совдепа. Можете себе представить эту запутанную противоречивость в разных умах. И — как?! брошенные на произвол судьбы люди теперь начинали думать обо всей этой галиматье. Отнюдь! не упрекая себя нисколечко за своё отступничество — а напротив! — «возвышаясь» в своих и чужих глазах, вставая на пьедестал «вольного человека» — «Робин Гуда».
Воля только эта заключалась в своеволии. В дальнейшем, будучи названной «безбашеньем», «отморожением» и другими народными эпитетами. Кто не умел зарабатывать трудом и умом — тот зарабатывал силой и наглостью. И это, даже вначале поощрялось в народе, прикладным определением, ведь коммерсанты ещё совсем недавно были врагами, туда же относились и кооператоры. Ещё жил в душах — дух революции.
Народ, по неизвестным причинам по-прежнему отрицательно относился к людям, самостоятельно ведущим свои дела без участия в них государства. Кооператор долгое время находился в списке отрицательных лиц. Товаров по-прежнему не было — особенно качественных и поэтому приходилось местным производителям — идти на различные уловки, скрывая отечественность товара липовыми лейблами зарубежных стран.
Постепенно окружающий мир торговли прогрессировал. В конце концов, производство стало нерентабельным и его, поглотив, захватило в свои руки посредническое проявление. Спекулянты переродились в «челноков» (кстати, неимоверных тружеников) отчего рынок перенасытился дешёвым и некачественным товаром. Надо было, как можно дешевле оптом купить и как можно дороже в розницу продать. И вот рынок всё-таки перенасытился. Появилась нелепая видимость некоего изобилия, что бесспорно непривычно для «изголодавшегося» глаза обывателя. Народ вникал в новую жизнь. Новое мировоззрение пронизывало последние остатки «совдеповского» кинематографа.
Недостаточно осуждённый бандитизм, приобрёл имидж — авантюры, приключений… а самое главное — достатка. На этом-то всё и завертелось, что мною и предполагается быть отмеченным.
Очень неожиданно для всех простолюдинов распался огромный Советский Союз. Предстал у власти новой страны первый президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин. Союз распался, преобразовавшись сначала в Союз Независимых Государств (экономически невыгодным для всех его обитателей-стран, а в первую очередь для России) а потому впоследствии именовался таковым лишь формально — и, в конце концов, совсем рассыпался. Даже сама новая Россия была в зыбком состоянии — ибо могла в любой момент раздробиться на множество мелких княжеств. Казалось, если бы в США знали бы об этом, они бы нас могли захватить голыми руками.
В стране господствовал — такой! — хаос, что порой с трудом верилось вообще в существование страны. Все алкали, поделить страну как огромную тушу убитого животного. Отрезать от него самый большой (и жирный) кусок. Обострилась межнациональная рознь. Кровавая бойня в Чечне. Повсеместно, шли распределительные войны между бандитскими группировками. Каждая, цеплялась за свою сферу влияния и норовила, отчекрыжить чего-нибудь от чужой. Формально, правительство с помощью «ваучеров» начало эту деятельность, ещё усугубив ситуацию — обострив её нагнетание.
Первая глава: Геннадий Николаевич — бывший профессор
Они с «Фомичом» (как звали его по имени или никто не помнил или просто не хотел знать, а кто знал, всё равно по обыкновению так же величал) постоянно уже в течение года лазают по помойкам в поисках каких-либо продуктов пригодных для использования таковых — как пропитание. А так же всяких различных вещичек: старых телевизоров, холодильников и другой ерунды, где можно разжиться цветным металлом, раскурочив их. Затем сдать его в приёмный пункт и наконец, уже на вырученные деньги приобрести в аптеке дешёвый «боярышник» (настойка на спирту) и в очередной раз — опохмелиться.
«Больные» люди — ищут «лекарство». Этот процесс они выполняют как зомби. Вполне привычно и мастеровито. Фомич хоть и на N-Ное количество лет был постарше его, но и невзирая даже на обильное употребление алкоголя довольно-таки шустро проводил свои поисковые манипуляции на зависть всякому молодому. Зачастую к ним присоединялись другие такие же «больные» бездомные или опустившиеся «товарищи по оружию» и они сообща всей гурьбой рыскали по помойкам с одной и той же целью. В настоящее время они промышляли вдвоём.
Ген-Ник (так его звали почему-то все, кто знавал его ещё как Геннадия Николаевича в прошлом, когда он ещё был профессором и преподавал в политехническом институте механику или же звали его так слепо, уже отдаваясь всеобщей привычке) он сейчас стоял в некоторой задумчивости поодаль. В данный момент на вид ему можно было смело дать лет полста не меньше, но и это первое впечатление иногда неожиданно меняется то в одну, то в другую сторону. В конце концов, представляя его человеком неопределённого возраста.
А и, правда! Он выглядел то до неприличия молодым юнцом с какими-то неправдоподобными взглядами на современную жизнь: веруя в Бога и преклоняясь перед ним (часто-часто испуганно крестясь); то виделся уставшим во всём стариком весьма практичным атеистом уже не верившим ни в судьбоносность событий, ни в их предопределение. Вообще толком никто не знал его жизненной истории. Вроде только кто-то (да и он сам) иногда вдруг то ли невзначай вспомнят, то ли брякнут о его преподавательской деятельности вскользь и — всё! Он не любил особо распространяться о себе, вроде как бы неприятно ему теперь об этом вспоминать… Да никого собственно и не интересовало его прошлое. Главное что в нём ценили так это то, что он был всегда спокоен, рассудителен и невраждебен, неважно пьян он или трезв. Случалось иногда очень редко, когда бывал он удивительно нервным расчётливым даже в некоторой степени жадным, но никогда злым, а потому зачастую забавляющим всех его окружающих «товарищей по несчастью».
А несчастья у каждого были свои: кто-то спивался (как они считали) из-за жены или тёщи; кто-то из-за сложившейся политической и экономической ситуации в стране; кто-то по поводу из солидарности к угнетённым трудовым массам, обманутым и обездоленным жуликами всех слоёв и «концессий»; у кого-то ежедневно «штурмом бралась Бастилия»; кто-то ещё чего-то придумывал, а кто-то по прямому стечению обстоятельств судьбы к коим и относился наш Ген-Ник. Но только он один, наверное, из всей этой пьющей шатии-братии твёрдо знал (или думал, во всяком случае, что знает), что временные неудобства запоев как неожиданно начались так неожиданно и закончатся предопределённые свыше. Это он ещё рассчитал когда-то давно, будучи студентом, хотя и не предполагал, что это окажется уж слишком так неприятно.
Так или иначе, он верил, что всё, что с ним происходит в тот или иной момент есть всего лишь неизбежный очередной эпизод его необычной судьбы, а потому безропотно предавался её воле и стойко переносил все тяготы и лишения любых независимо от их сложности и каверзности обстоятельств. Считая, что покорного — судьба ведёт, а непокорного — тащит. И честно говоря, он в этом черпал неиссякаемую силу для проживания всяких происходивших перипетий теперь и должных произойти с ним в будущем.
Обитали они с Фомичом сейчас в старой полуразрушенной деревянной хибаре Фомича. Своего жилья и прописки (то бишь регистрации) в паспорте Ген-Ника не было как впрочем, и самого паспорта тоже не было уже довольно-таки длительный срок; он даже при нужде и припомнить-то не сможет, ежели приспичит. Ему будет очень трудно назвать точную дату конкретного отчуждения себя как от квартиры, так и в частности от самого документа. И всё это благодаря «добрым людям» или правильнее мошенникам коих в народе позже только стали обзывать «чёрными риэлторами». Поэтому вот уже три года он ночует, где придётся, а точней у таких же бедолаг, как и он сам. Родственников у него не было, а если и были то где-то далеко, говорят, вроде как, в Сибири. Вроде как старшая родная сестра.
— Увай!.. Надо же, как повезло… клад! — доставая из мусорного ящика огромный чемодан, Фомич даже от восторга зацокал языком, предвкушая важность находки. Тут он, кряхтя, присел пред «хранителем тайн» на корточки и, достав рабочий нож начал ковырять им замок этого громадного «сим-сим». Тот совсем не сопротивлялся, раскрыл свои никчёмные дары без сожаления через несколько секунд, как будто опасался более жестокого к себе обращения.
— Ну, ё-моё! Припарки… — разочарованный Фомич, увидев скомканные старые обои с раздражением, безжалостно раскидал их вокруг себя на расстоянии пяти метров и с ожесточением принялся сначала втыкать свой нож в чемодан как в тушу недобитого животного, а затем не менее остервенело пинать старую вещь. («И хочется ему?..» — рассеянно тем временем думал Ген-Ник, пока тот измывался над вещью и собой.) Если бы она (вещь) была живой, она непременно бы заплакала. Но он (чемодан) безмолвно переносил незаслуженные побои и унижения. Ген-Ника иногда очень серьёзно раздражала непредсказуемо-излишняя эксцентричность поведения Фомича, и он поторопился облагоразумить разребячевшегося товарища, предложив ему свою руководящую помощь в продолжение поисков «полезных ископаемых» мусорных контейнеров.
За этими делами они проводят большее время суток, но никогда не бывало, чтобы безуспешно. Люди много выбрасывают хороших вещей. Одних только телевизоров и стиральных машин у Фомича в доме было бы уже несколько десятков, но все они в своё время были дикарски раскурочены. Хотя и будучи выброшенными (в смысле: вынесенными и аккуратно поставленными для тех, кто победней) они изначально почти наверняка имели вполне рабочее состояние. При необходимой-то смекалке и расторопности?..
Тут Фомича отвлёк от его увлекательного занятия сначала неподалёку дикий — пронзительный — нечеловеческий визг потом резкие свистящие фырканья и наконец, истошный леденящий вой как будто умирающего животного с последующим после этого громким развесёлым смехом… Десятилетки-пацаны в компании пяти особей живодёрничали над зажавшимся в комок облезлым грязным котом. Всё это у них (до противного) получалось, безусловно, ловко, словно упражнялись они в этом каждый день с глубокого детства. Получив некоторое удовлетворение от этого занятия, и нахохотавшись вдоволь, пацаны гурьбой двинулись прочь вдоль мрачной улицы в поисках новых развлечений. Нет, они не искали новой жертвы, просто им совершенно нечем было себя занять. Они были на всё свободное от занятий в школе время предоставлены самим себе, а кроме того каждый из них чувствовал себя в такие моменты — героем западного вестерна. А потому всячески старался, подражая жестоким героям фильмов как-то выделиться из толпы. По их мнению, дабы не упасть лицом в грязь. Бездействие угнетает сильнее всего молодые тела этой лучшей части человечества. Появившееся изобилие с некоторых пор на экранах телевидения информации насилия ужасно разлагает детские умы и сердца — призывая их к тупому подражанию.
С нескрываемым испугом и в тоже время, шаловливым любопытством проводив взглядом шумную компанию подростков, Фомич все-таки, наконец, мысленно вернулся к своему занятию. Сосредоточиваясь снова на своей миссии. При этом многозначительно жестикулируя руками и подкрепляя эту динамику философскими рассуждениями о «необузданной жестокости малолетних индивидуумов в виду неправильного их воспитания и неоправданного баловства представителей всех новых поколений».
— … От добра — добра не ищут… Ведь эти, нынешние балбесы (он так выразился потому, что и себя по молодости тоже считал — балбесом, как и всю молодёжь) ни хрена не ведают: ни холода, ни голода… Живут, мляди, можно сказать, на всём готовеньком… трёт твою мать… Вона какие! оболтусы нежалостливые растут… едит твою налево… Скажешь, не прав я?! Юшкин кот… Ваще, люди, скурвились, озлобились… едрическая сила… жадные стали, тьфу на них, суки и есть суки!.. Во-о-о пля!!! Фуроооор…
Фомич увидел в стороне от мусорных контейнеров несколько скрытую в густых кустах бузины одиноко стоящую старую стиральную машину и опрометью бросился к ней. Ген-Ник задумчиво направился к нему. (Дело в том, что он давно её уже приметил, но всё это время молчал. Почему? Сам не знает, наверное, посчитал, куда ей деться-то?! — не убежит или ещё как может быть до странности.) Он уже знал, что через пару часов у них будет, и опохмелка и чего-нибудь пожевать. Опыт ещё никогда не подводил его даже после лёгкого визуального осмотра. Настроение заметно улучшалось.
— Ну, Ген-Ник, давай, подсоби малость… щас мы тя родимая… бляха-муха! — они вместе под эти возгласы схватили с двух сторон агрегат и проворно поволокли его восвояси. Находка полностью удовлетворяла их потребности. Это была старая ещё советских времён стиральная машинка, щедро напичканная цветным металлом. Да! в те «старые добрые времена» не скупились на оснащение электроприборов «цветметом», который теперь доброй памятью платит бездомным и «болеющим» относительно лёгким пропитанием и «чаркой» живительной смеси поутру. Всё происходило на редкость однообразно. Сначала пару часов изнурительно-привычного колупания с предметом общего внимания. Затем торжественный вынос содержимого внутренностей того или иного агрегата в пункт (прямого назначения) приёма цветного металла. И наконец, весёлая прогулка: либо до полулегальной «точки» продажи самогона; либо спиртового суррогата или уж походом за самым популярным в алкогольном мире «боярышником» в аптеку. Всё это только происходило уже с некоторым ярким всплеском искреннего пафоса.
Вот они уже радостные пришли назад. Быстренько собрали на стол так называемую закуску, безвозмездно предоставленную им мусорными контейнерами. Уже спешно отваривалась «в мундире» слегка вялая проросшая картошка, ломался почерствевший слегка покрытый плесенью хлеб, кое-какие ещё добрые находки… Витиевато был разложен зелёный полудикий лук с «огорода». Короче говоря, стол ломился… но самое главное чинно стояли две полулитровые бутылки с алкоголем. Создавалось приятное впечатление очередного праздника. После первой дозы «лекарства» соизволил завязаться типический разговор. Сначала «о том — о сём», а потом обретая с каждой новой порцией спиртного уже убедительную твёрдость и, в конце концов, перейдя даже в более-менее теперь активные порой охватывающие самые необычные темы взаимные рассуждения. Житейские вопросы никак не обходили стороной когда-то ещё живших человеческой жизнью людей.
— Ну что, ты вчерась-то ходил на базу… берут грузчиком? Чё мне-то, ничё не рассказал? Берут, блин… без прописки на подёнку-то?
— Ага… Щаззз… — возмутился Ген-Ник, — я им тычу диплом о высшем образовании… Говорю, мол, паспорта вот только нет… А они мне глядя как на вошь. На какой, мол, помойке нашёл? А у меня сам знаешь, никаких документов больше нет.
— Да, ну!.. едит твою налево… Я уже давно не тыркаюсь в эти дырки. Какая там хрена батраловка… Эти финдарюги тока и думают, как объегорить честного человека… Кругом одно объедралово! Вон! Этот… как его… Игорёк, месяц отъефрашил. И что?! Обещали мильёны… получил пинка под зад. Запах от вааас, видите ли, непристойный исхооодит, а он младшого в армию тока спровадил. Жена хворая, тесть и тёща пенсии уже полгода не видали, мать помёрла месяц назад, а отец крякнул уже давно. То ли восемь, то ли десять годков назад… точно не помню. Вот и делай, чё хошь. Старшой сын зону топчет второй год за вымогательство (тоже передачек просит!). Как его?.. Рикет… Куда катится страна?.. Эт мы, с тобой, неприкаянные. Живём… куда глаза поведут. Нет, ни ответственности тебе… ничего другого. Помрём… никто и не вспомнит о нас… — и они тут (машинально под эти слова) даже не сговариваясь, добавили ещё понемногу (по сто где-то) и он, крякнув смачно, певуче продолжил:
— Щастье-то како!.. Слухай, вот скажи на милость, добр человек… Что такое щастье? Как стать щасливым-то вот?.. и чё ваще означает — быть щасливым!.. Ведь вот… одному положим — щастье это купаться в золоте… как Скрудж мак-Дак… Помнишь, в мультике? Давечь по телику много чего загранишного американишнего показыть стали… Ну, дак вот, а другому щастье… (тут он мечтательно закатил глаза, в потолок сладенько улыбаясь) великое щастье! — это босяком прогуляться под дождём на сытый желудок… как тогда, сразу после войны, в малолетстве, бывало, помню пацаньём!..
Тут послышались гулкие шаги где-то рядом за стеной, кто-то стремительно шёл по коридору. Торопливый топот то сначала удалился, а затем с новой силой раздался уже всё ближе и ближе к комнате; с некоторым запаздыванием страшно громыхнула входная дверь брошенная пришедшим и наконец, появился сам «пришелец». Пришелец или завсегдатай как всегда утомлённый и чем-то явно озабоченный мужчинка. Внешне больше похожий на обыкновенного алкаша с типичным для такового синюшным лицом. Он, зябко щурясь, вошёл в комнату и, вытащив из-за пазухи шкалик с аналогичной смесью пробурчал:
— Ф-фомич! К табе м-можно? А то я… моя визжит б-белугой… кидаца тигрицей… чуть пузырь… отняла бы… разкукошила бы на фиг, д-дура. А я ваще сдыхаю…
— Заходь, заходь, Николаш! Мы вот тоже уже лечимся, — добродушно пробурчал Фомич, указывая на свободный стул, — милости просим до нашего шалашу.
Некоторое время они молчаливо наблюдали, как тот мелко трясясь, «прошкондылял» к указанному стулу неуклюже переступая «свинцовыми» ногами. Плюхнулся на него, дотянулся, постанывая до порожнего стакана и с трудом откупорив бутылку, звякая дробно стаканом и тарой, друг от друга, наполнил стакан. А затем, крепко зажмурившись, самоотверженно вылил его содержимое одним махом в своё опухшее лицо. Секунды три, а может и больше Николай, застыв с немыслимой гримасой, в раскорячено ожидающей позе испуганно сидел, как заяц готовый в любой момент сорваться с места. И вот вдруг вскочил невероятно быстро. Помчался при этом, раскачиваясь из стороны в сторону, растопырив руки, усердно как бы держась за воздух и в тоже время с видом азартного ловца важной добычи ломанулся прыжками похожими на задорный танец даже капельку потешно (как могло показаться, выпендриваясь в прихожую). Но, более уже не удержав там вдруг выпростал всё в тёмный захламлённый угол прихожей, злобно рыча и истошно подвывая. За учинённый порядку и чистоте вред никто не переживал. Об этом здесь вообще никто и никогда не беспокоился. В помещении давно не прибирались. Жидкое — само высыхало и истлевало, а мусор «прятался» от ног по углам или ненароком выпинался теми же ногами на улицу.
Ген-Ник и Фомич с пониманием переглянулись. Они знавали такое состояние. Слушая его переливчатые завывания, невольно вспоминаются мысли о нашем русском мазохизме. И они (эти мысли) совсем уже не кажутся такими надуманными. Фомич и Ген-Ник многозначительно с явным пониманием и сочувствием ещё раз переглянулись; каждый по-своему выразив отношение к данной ситуации. Мимикой и как бы несколько шутливо грозя друг другу пальчиками, терпеливо ждали завершения неприятного сюжета. Наконец хаотические всхлипы и бурные рычания сменились тишиной.
— Ва-а-а!!! — неожиданно донеслось из-за «кулис», затем сплюнув и кашлянув, мученик появился с несуразной фразой, продекламировав её визгливым и неприятным голосом:
— Летят два крокодила: один на север, другой на юг. Зачем мне холодильник? если я не курю… Фомич, я там, в ведро како-то… — вот как раз с этими словами он и образовался в проёме дверей. Измученно разыскивая взглядом ненавистную посуду с постылым, но всё-таки невероятно любимым содержимым жидкого вещества. Отыскав её, он засиял доблестной улыбкой победителя. Той же манерой, как и давеча, просочился свинцово-расплавленной походкой и снова упрямо бухнулся в стул. Напряжения никакого не было. Всё происходило не впервые. Никто ничего не говорил каждый ожидал того что и должно произойти. Молча Николай схватил бутылку уже теперь свирепой рукой и вылил остатки «водяры» в стакан. Перекрестился. Затем обхватив двумя трясущимися руками объект душевного внимания, запрокинув голову, повторил виртуозный элемент движения. Ожидания не были тягостными для присутствующих, все только коротко подбадривали его извечными словами: ну, держи… держи её… милок… терпи… Бог терпел… и нам велел… сейчас она… приживётся…
И правда она («бодяга») прижилась… Сразу образовалась мимолётная суета; «ёла-пала»! появился новый проверенный «боями» собеседник. Николай и правда, изменившись цветом в лице (приятно побагровев!) быстро затараторил:
— Ну вот! А то моя поёт себе одно и то же — когда ж ты поганец «кони двинешь»! Измучил, щебечет, и меня и себя дармоед хренов; ха-ха-ха, загуляю скоро от тебя. Когда-а-а бросишь, юшку жрать и начнёшь, супружеский долг выполнять!? Короче… ха-ха… Это?! — я говорю ёй, — хоть щас… А она мне: да больно нужён ты мне такой вонючий… какая дура с тобой лягет-та?.. С уродом таким… ха-ха… — рассмеялся он, но не было веселья в его смехе, а скрежетал он скорей какой-то тоской и безысходностью.
— Аналогичный случай был у нас в колхозе… — продекламировал Фомич дежурную свою реплику, совершенно не претендуя на слушателей. Николай в своё время, не останавливаясь ни на миг, не слушая и не смотря даже в его сторону, продолжал свой блистательный рассказ:
— Представляете, что она сегодня утром учудила! Короче! Я вчера на кухне под мойкой корячился. «Колено» чинил. Засорился блин… мать-та твою! Цельный день возился. Шо ты думашь?.. Сделал. Короче! Намекаю ёй, так эт-то обмыть полагаца, инча «каюк», «кердык» случица. Хы, отказала!.. Скотина. Ну, лады, кумекаю фиг с тобой. Не цапацашь с ёй! Пошкондылял к бабке Нюрке (она давечась кликала) — халтурку сулила. Короче! Ёй толчок колотый сменить надыть было; новым прибарахлилась, а сменить-то некому. Слесаря — бесы, толкует, дорого требуют. Короче! Ну, вот я и намылился… Думаю, а шо?.. Надж как-тось ситуацию разруливать. Ну, тот… вжить!.. Этоть воздвигнул. Всё чин-чинарём, стало быть! Короче! Ясень день… охмелился блин… Правдать, опять переборщил! А поутряне… мать-та твою!.. снова, видимо, плохо… ещё хужее! Вот я сузыранку пока Галка дрыхла, шнысь с хаты и тягу к Нюрке. Мол, спасай мать, околею инач… в долг давай… отъеврашу! Разжился в «закуточной» «бояркой» — домой двигаю. Вертаюсь, короче, домой, а там моя стевра ужо посёт мя. Ждёть! Руки в боки — и глазеет настырненько. Сразу врубился, кичу готовит, линять надось. А та — як ворон крови… Чую хана табе паря!.. Тякай! Короче, та и заявлят: ты, паскуда, за фиг мойку спортил… спецьяльно, паразит, вредность кажишь?! Мстишь шо ли? Я ёй в недоумке: чевой-то ты, милая? (аж на нежности пробило, аж взмок весь!). А она мне: знаю я тебя (глиста во фраке!), потому так рано и смылся… А сама так с интересом зенками ужо по сторонам шарит… будто ищет чё… нашла, едрён корень! Хвать сковородищу, чугуний, и ко мне с интересом, многообещающе так бочком крадётся. Мне-то ясно всё как бож-день стало, чё тут непонятного коли череп зачесался. И она туть… шипит: я тута муздыкалась… гипнотизирует сама!.. Дурачка нашла!.. воды три ведра сдюжила… соседи снизу жаловались — затопили их… Я ходу, сабразил, убьёть ведь стевра!.. По себе судит дура…
— А чё ты хотел, Коля?.. У сильного всегда бессильный виноват. Нынче бабы — у-у-у! — каки… Бабы они ваще… всяки категории у них… бывают глупенькие, а есть дуры… Я этоть всегда подозревал. По своим… энтим… как их? гармунам так ведуть ся… Нет! — могут быть: образованными — на первый взгляд — умницы, да и только… Но всё равно, дуры ведь — они и есть дуры, нет-нет, да сморозят шо-нибудь неразумное… — вразрез сунул свою речь Фомич, — ихнее дело-то, како? Бабское! Рожать, да очаг сторожить. Марафет всякий на физьмониях малевать, чтобы самцов побогаче… едрить ту в корень… в свои силки заграбастать. Шмотки всяки напяливать… А щас ваще, шобы ещё и покладистым мужик был. На шею шоб взобраться, дак ножки свесить и болтать имя… Мля-я-ди! — закончил он, как бы отмахиваясь от несвоевременной проблемы.
Он вообще любил разговоры на всякие женские штучки только не в этом ракурсе. Его больше прельщали несколько слащавые и озорные так сказать женские темы: обсуждение поз, всяких различных позиций сексуального характера или как он сам выражался «в показухах». (Это когда на четвереньках они.) И только так представали перед мужским судом. Что самое смешное! не был он каким-либо мачо или каким-то там — «половым гигантом». Но вот: то ли шибко ущемлённое самолюбие, то ли ещё чего разыгрывало в нём невероятную сексуальную озабоченность. Хотя как таковой таким совершенно не являлся и даже напротив, когда дело доходило до серьёзных сексуальных ситуаций, он оказывался вдруг особенно занятым. И непременно по обыкновению своему ускоренно ретировался. Причём выказывал при этом ужасное сожаление о случившемся.
Да и действительно женский вопрос хоть и был всегда самой волнующей темой, так сказать спросом, имеющим широчайший диапазон интересов и охватывающим завсегда огромный обзор суждений (в основном нося сексуальный и даже несколько грубоватый характер). Однако в данный момент (для него! — во всяком случае) вызывал только всего лишь некую несуразность даже в виде настолько уж слишком несерьёзного обсуждения, что Фомич с каким-то непритворным удовольствием отмахнулся теперь от него. (Или сделал таковой вид?)
Да, но где бы ни была затронута эта животрепещущая тема, она как заноза всегда вызывала и вызывает адекватный (слегка поперченный) разговор в любой мужской компании. Так и сейчас, всё-таки настойчиво (как и сами наши женщины!) эта задача не преминула призваться к обсуждению и в сей момент, выражая всеобщую мужскую зависимость в данном критическом негласном обоюдном правиле. Так было, так есть и так будет, пока существуют различия в полах.
Ныне хоть и теряется это обострение разнополых взаимоотношений за появлением странных проявлений извращённости, то есть гомосексуализма среди неопределённого числа некоторых лиц. Однако всё равно вряд ли окончательно вымрет гетеросексуализм, ибо человечеству при этом придётся: либо осваивать деторождение из пробирки, либо просто вымирать. Эмансипированные женщины сегодня уже не мечтают с детства о семье, детях, единственном муже… и других атрибутах (здорового) общества.
Сегодня они не нуждаются в мужской защите. Сегодня, агрессивная женщина сама смело взваливает на свои плечи, некогда бывшие ещё недавно мужскими некие обязанности, привыкая к ним. Они не только сравнялись с нами своими правами, но и гораздо дальше шагнули как это обычно и бывает. Сегодня слабый пол первостепенно думает о карьере, бизнесе, блистательной славе… и другой совершенно противоположной своему природному статусу мишуре. Вот и эти, кстати, вопросы частенько охватываются весьма бурными обсуждениями этой компанией.
Они много о чём вообще болтают в самый разгар своих этих прямолинейных дискуссий и не всегда моё мнение совпадает с их громкими рассуждениями. Трудно быть объективным в этом мире. Мужчины и женщины несообразно много творят друг для друга различных пакостей, чтобы выбирать ту или иную из сторон. Порой просто диву даёшься этим поступкам, и честно говоря, зачастую вообще не хочется касаться этой «кухни». Люди разных полов нередко обобщая, вообще безоглядно хают и обвиняют противоположную сторону во всех грехах и бедах. Хотя и дураку ясно! — все хороши… Зачастую все подонки и мрази (если быть слишком строгим!) и невинны как ангелы (выбирая путь снисхождения). Что самое смешное и страшное так это то, что те и эти суждения верные. Стоит только каждому по внимательнее обратиться внутрь себя или внутрь своей памяти и любой (почти любой!) согласится со мной, если не будет пытаться обманывать себя. Живя и друг другу «раздаривая» всякую дрянь (привыкая к этому, доведя это порой до правила) мы совершенно забываем о внутреннем голосе — голосе совести.
Вот и сейчас Николай чихвостит вовсю свою благоверную, а если разобраться: он сам — хорош гусь! Да какой женщине понравится такая непонятная семейная «рапсодия», как свою семейную жизнь частенько с гордостью в голосе называет Николай. Если и в самом деле все дела по домашнему быту «костью в горле» наверняка не у этого «синюшника», а у той женщины, о которой как раз и идёт речь. Кстати, промежду прочим многие нередко интересуются у Николая: «А что такое — рапсодия?». На что он, совершенно не конфузясь кратко всегда отвечает, причём не без гордости: «Книжки читать надо!» И таким образом слушая его обширные разглагольствования, невольно думается: странно, что она его вообще ещё до сих пор не выгнала. Я не буду сейчас вдаваться в подробности его бурного словоизлияния, потому что такое можно сейчас услышать в любом: будь то мужском, будь то женском, да будь хоть вообще в каком совместном пьяном сборищах. Тем более беседа всё больше и больше меняет курс своего течения. Уже двигаясь совершенно по-другому руслу.
Это Фомича охватывала-таки любимейшая тема, тема — женского бюста и коленей. Тема заводила его — будоражила до умопомрачения. А вообще разговор нёс какой-то разносторонний весьма разбросанный характер. Поэтому чтобы уловить его точную суть надо обладать утончённым (для трезвого человека!) умом и невероятно фантастическим терпением. Они конечно понимали друг друга абсолютно. И за разговор, может быть, легко пошли б даже (в данный момент) на смерть. Но вот записать бы их болтовню на магнитофон и дать послушать им запись завтра утром — перегрызли бы друг другу непременно глотки — учитывая на тот момент к тому же ещё и их состояние похмелья. Теперь их беседа как раз достигла самого апогея в своей значимости. Вопрос обсуждался хотя и на самом деле важный, но единственно он только несколько смущал своей формой изъяснения. Или даже лучше сказать содержанием ненормативной лексики. Я, правда, именно из-за этого — исключительно с целью оберегания вашего слуха опускаю многое из их разговора. Который активно вели Николай и Фомич. Ген-Ник лишь молча иногда кивал головой: соглашаясь или нет с диспутирующими.
Но вот они уже полчаса мусолят очень интересную тему, в которую Ген-Ник всё-таки решил внести своё мнение, даже несмотря на то, что они уже все порядком были пьяны. И говорили, зачастую размазывая слова чуть ли не по столу. Что умеют делать и как! — притом делать, исключительно, кстати, только лишь пьяные люди. Однако всё-таки не терялись: ни острота беседы, ни тем более её осмысленность. А суть её заключалась в сексе. Тут было столько приведено интересных фактов, что любой сексопатолог был бы даже смущён предлагаемыми способами достижения оргазма. Да что там говорить, знаменитая КАМА-СУТРА и та «расписалась бы» в своей непросвещённости. Честно говоря, это был полнейший пьяный бред. Хотя рассматривая «дискуссию» с точки зрения совершеннолетней части населения и переведя разговор на нормальный гражданский язык, чисто техническая сторона вопроса многих практиков могла бы даже привести в несомненный восторг и решилась бы уйма семейных проблем. Однако Ген-Ника очень многое приводило в недоумение. Он был человеком, пережившим немалую долю грехопадений (в своё время среди молоденьких студенток). И многое его выводило из себя не потому, что теперь ничего не хотел или не мог, а исключительно по нынешним своим морально-этическим убеждениям. И наконец, не выдержав, он, чуть не захлёбываясь словами заговорил:
— Секс — это и есть только секс — и ничего больше! Вот смотрите… Ни в ветхом завете, ни тем паче в новом вообще ничего о сексе не упоминается. Там говорится как? Живите по Божьим заветам, работайте и размножайтесь. Нет даже намёка о получении от этого какого-либо удовольствия. Сейчас же, всё переиначили, все ушли от Бога, сделали всё по-своему… Как себе удобнее… Я уж не говорю о каких-то там супружеских еженощных обязанностях.
Сейчас могут — запросто — встретиться молодые совершенно незнакомые люди и без всякого зазрения совести… без всяких проблем, как животные, обнюхать поначалу друг друга, потом даже облизать друг друга и аналогичным путём чуть ли ни тут же совокупиться. Да животные и то — совокупляются только для того, чтобы оставить потомство: раз или пару-тройку раз в году. Не более! Единственно, что нас отличает от бессловесных животных это то, что мы (людишки!) создаём своим половым отношениям красивый фасад (чуть ли выдавая не за святость!). Прикрывая им не то чтобы какой-то там звериный инстинкт, а свою откровенную похоть. Умасливая совесть каким-нибудь слащавым словечком, витиеватой фразой. Да что там красивые слова?! Тут вплоть до того что, дескать, научно! Медики вроде как — и то: утверждают, будто бы сношения полезны для здоровья. Либо само воздержание даже пагубно чем-то влияет на физиологическое состояние организма. Таким образом, отгораживаясь от моральной стороны вопроса некой ширмой. А на самом-то деле поступают как страусы, пряча только голову в песок от надвигающейся проблемы своего морального распутства. Развязности и распущенности. Всё встало с ног на голову! А секс как таковой, есть — не что иное, как тот же смертный грех — равный убийству.
Я даже не хочу ничего говорить о гомосексуалистах! Там, люди, явно ищут только обыкновенных удовольствий, растеряв при этом вообще какие-нибудь не то чтобы человеческие черты (в человеческом облике!), а даже отдаляясь духовностью от животных. Деградируя пусть не внешним обликом (да что вы! внешне они порой вроде бы даже божественны! зачастую) — коверкаясь духовно… Падая в пропасть пустоты… Глядя на этих людишек (иначе их и назвать не смею!) я порой начинаю верить в теорию Чарльза Дарвина о происхождении человека с его постепенной миллионно летней эволюцией. Хотя абсолютно уверен, что этот мир с его величием природы, космосом, и его бесконечной необъятностью и величайшим множеством звёзд воистину мог быть сотворён только Богом. Только Богом! А вы говорите супружеские обязанности…
— Ген-Ник! Давай не будем сейчас об этом. Давай о бабах! — перебил Ген-Ника Фомич. Фомич просто хорошо знал, что если тот сейчас разойдётся, «расфилосопствуется», то его уже будет трудно остановить, — давай просто о бабах!.. О наших дорогих стеврах… о сиськах… ляжках… письках-миськах… попках… кругленьких коленочках… и тому подобном…
Долго они ещё вели всякие беседы, пока не угомонились и постепенно там же, наконец «вырубились» каждый в своём привычном пьяном амплуа.
Вторая глава: капитан Марочкин
Наконец закончилась эта ночь. Да! опять были эти убийства: непонятные, выделяющиеся необычной своей жестокостью и спецификой исполнения. Который раз местные грибники сообщают о новой и новой находке таковых. Закопанные стоймя обезглавленные тела вот уже полтора года пополняют этот страшный список. И нет никаких зацепок, даже опознать трупы никоим образом не удаётся. Главное, никто из родственников жертв за всё это время не обратился до сих пор в милицию с заявлением о пропаже родных. Прокуратура и милиция, находились всё это время на «ушах», работники обеих организаций с ног сбились, а всё без проку.
Начальство «брызгало слюной», подчинённый им следственный аппарат с его опытными кадрами в растерянности почти единогласно «пожимал плечами» и в недоумении «расписывался» в некомпетентности. Двенадцать безымянных трупов не столько смердели своей вонью, сколько навивали страх на всю округу… Так, вроде бы, должно быть! Но этого отнюдь тоже не происходило. Что-то проблёскивало в прессе, но никто на удивление в этой всеобщей суматохе или не слышал или, услышав, всё-таки не придавал особого значения происходящим событиям за своей чрезвычайной занятостью.
Люди гибли, умирали и без того каждый день в суровой взаимно конкурирующей жизни. Казалось, ошалевшие граждане легко прощались с ней. (По сути, негласно шла «гражданская война».) Создавалось такое обманчивое впечатление, что люди как будто были даже рады такому стечению обстоятельств — каждый или скажем, каждая семья вместе или порознь все бились за своё существование под солнцем. Все спешили, как сумасшедшие и в первую очередь само государство торопилось как можно скорее обогатиться, невзирая на потери. Никто не гнушался ничем.
Поначалу, три найденных трупа вообще никоим образом не произвели на общество никакого обстоятельного впечатления. Ни странность захоронения, ни жестокость как таковые не подействовали подобающим образом даже на государственные силовые структуры и его правозащитные органы. И только уже четвёртый «подснежник» заставил обратить на себя хоть какое-то адекватное на первый взгляд внимание со стороны тех, кому об этом следовало бы давно уже знать гораздо больше простолюдинов. Даже, наконец, проявить в том направлении конкретные соответствующие действия. И вот, казалось бы, последствия не замедлили сказаться. В разработку теперь были вовлечены особые службы. (Как было, во всяком случае, объявлено по местному каналу телевидения.) Но и это не дало никаких положительных результатов.
Даже милые собачки, поисковые служебные собачки, только усугубили положение и так в глубокой степени уже необычайно запущенной ситуации. То есть было найдено ещё шесть неприятных объектов аналогичного захоронения. Каким-то образом, (хотя и нет ничего удивительного!) информация так-таки добрела до Москвы, благо она рядом. Вот тут-то и начался весь «сыр-бор» однако снова и снова не повлёкший за собой абсолютно никаких новых положительных изменений, а только дополнительно внёсший лишь излишний шум и нервотрёпку. Органы местной государственной власти «кипели всесторонней инициативой», а как говорят, любая инициатива наказуема, следовательно, опять все бездействовали и только старательно делали излишне суетливый и больше визуально озабоченный вид. Перед кем?.. Зачем?! Шут его знает!
Народ безмолвствовал, стараясь по-прежнему, просто выживать. Это кстати всех устраивало. Прокуратура и милиция, тоже имели свои семьи, которые не меньше других зависели от привычки: хорошо одеваться и не менее хорошо кушать. Многие из их числа уже были полу тайно связаны с бандитами и почти откровенно вели двойную жизнь. Что нисколько не удручало: ни тех, ни других (хотя и относились к другу дружке с полу прикрытым презрением; но это отдельная тема!). В целом, тут не надо никаких особых разглагольствований, так как было ясно — как солнечным днём — господствовал беспредел!
Капитан Марочкин к своему удивлению почему-то ужасно не возлюбил свою работу. Хотя его начальство и коллеги считали его особенно опытным профессионалом. Но вот именно за последние годы или если быть точнее год он всё больше и больше в себе ощущал эту подчас странную, но и непримиримую к своей работе неприязнь. Не так он вёл свои дела раньше, раньше он их с особой любовью систематизировал, с каждым по отдельности проводил глубокий анализ, и уже отталкиваясь от этих логических умозаключений, делал правильные выводы… А что теперь? Куда ни сунься везде: либо преграда вышестоящего начальства, либо даже собственные коллеги — опера — вставляют всякие «палки в колёса».
Сильно воспламеняло в нём разочарования это непременно повсеместное буквально всеобщее перевоплощение сотрудников в совершенно непонятную для сыска ипостась. Когда, кажется, каждый думает теперь только о том, как бы набить свой карман долларами, нежели раскрутить какое-нибудь интересное дело. Порой, доходя уже чуть ли даже не до откровенного «очковтирательства» с тем же, в сущности, излишне расчётливым итогом. Всё это было, по меньшей мере, противно.
Противно было всё: и эти вихляния, совокупленные с продажностью коллег и эти снующие обуреваемые элементарной жадностью — вечно голодные (как куры!) граждане. Собственная постоянно ноющая жена. Вечно требующие на что-то денег — сын и дочь… Эти грязные улицы с понурыми домами; эта дождливая дурацкая погода и тем более, дырявые — по обыкновению пустые — собственные карманы. Его всё раздражало! Даже то, что приходилось тщательно, скрывать ото всех своё постоянное, внутреннее, душевное напряжение. А самое главное: работа совершенно «не клеилась», ничего не получалось, и наконец, что самое-самое главное — ничего не хотелось делать. Не хотелось даже идти домой и слушать опять эти беспрестанные брюзжания «супружницы и спиногрызов». Хотелось, просто взять и застрелиться, чтобы никогда больше не видеть — этот безумный, опостылевший до мозга костей мир.
Он знал, тем не менее, что при всей такой ситуации всё равно никогда не смог бы этого сделать и этот неоспоримый и возмутительный факт его ещё больше удручал, ещё значительнее мучил. В душе Александр Марочкин от бессилия рыдал, бился головой об стену или просто плакал как ребёнок. Если бы в коллективе узнали бы об этом то, по крайней мере, сильно удивились (или вовсе не поверили бы) но не дай Бог разнюхало б начальство… Другого ничего он делать не умел. Учиться же чему-либо в сорок шесть лет — глупо… и совсем не импонировало ему. И вот сейчас он шёл усталый и голодный безо всякого желания домой. Он мечтал, придя в свою двухкомнатную «хрущёвку», наконец завалиться на собственный диван и как можно скорее погрузиться в сон. Жена по времени должна быть уже на работе. Дети — Кирилл и Таня — должно быть тоже уже отправились в школу, и он вяло предвкушал приятный давно забытый им отдых.
С этими мыслями капитан зомбировано поднимался по ступенькам, доставая из единственно сохранившегося в целостности кармана ключи от входной двери квартиры. Привычно щёлкнул замок; привычно отворилась дверь; так же привычно он шагнул в полутёмную прихожую и уже машинально разулся и вылез из плаща. С кухни чем-то повеяло очень вкусным.
— Саша! Не раздевайся, сбегай-ка в булочную за хлебом. Сейчас будем есть… Тока борщ поспел… — в проёме кухонной двери появилась женщина неприметной наружности. Худое, чуть удлинённое лицо под копной небрежно растрёпанных волос с преждевременной сединой дополнялось снизу ныне теперь уже тщедушным станом. Но особенно всё-таки выразительно выделялись — с испуганкой — её огромные серые хоть и несколько поблёклые глаза…
Всё это сейчас предстало перед ним в виде его жены, а ведь когда-то была красавицей… когда-то он до беспамятства был в неё влюблён… Куда всё делось?! Внешне ей было лет этак «сорок с маленьким хвостиком», а, в самом деле, скорее всего наверняка меньше — трудно сразу сказать. Его всегда до колик в животе бесили её слова такие как: сбегай-ка, сделай-ка, принеси-ка… и т. д. и т. п. И вообще в любых смыслах слова как обращение к мальчишке.
— Пошла ты на хрен!.. Я спать хочу, — беззлобно сказал он, и с этими словами еле сдерживая внутреннее возмущение, двинулся в комнату к своему излюбленному дивану.
— Странно, почему-то дома?.. — полу про себя полушёпотом удивился он. Абсолютно забыв, что сегодня воскресенье. Хотя сегодня же об этом неоднократно был информирован и это, даже имело по работе какое-то вроде бы там значение, и уже не снимая дальше одежды как был, плюхнулся… и тут же уснул, если бы не вопли разобиженной «супружницы». Зоя (а так по случайности или нарочно звали его супругу) она смогла всего на пару секунд, удержать свою тираду дежурной нецензурной брани. На большее ей не хватило ни терпения, ни тем более каких-то иных способностей.
Да и выражать именно таким образом свои эмоции, она привыкла давно. Ибо где-то ещё в юности прочитала, что якобы с криком вылетают из тела всякие болезни, возникающие от содержащихся в голове дурных мыслей, то есть различные недуги нервного происхождения. С тех пор Зоя Андреевна и практикует этот нетрадиционный метод профилактики заболеваний. И уже не потому, что считает его действительно эффективным, а, просто не ведая или даже не сознавая как ей вообще по-другому совладать со своими бурными аргументами, не удерживающимися в её «аналитическом» (как она считала) мышлении. Так или иначе, по непонятным причинам, но «язва желудка» тем не менее, только периодически обострялась. Зоя Андреевна уже дважды лежала в стационаре по три недели, где её всячески лечили, но никаких положительных результатов так из этого и не получилось.
Сейчас валяясь в мягкой дрёме с неимоверным желанием уснуть, капитан думал даже к своему некоторому удивлению непременно именно о ней. Несмотря на хроническую усталость и невыносимое теперь — как зубная боль! — желание успокоиться и наконец-таки предаться долгожданному покою он думал всё-таки почему-то о ней… И опять о ней! — мучаясь душой: психуя и рыдая, там, в ней — но не было в нём ни капельки доподлинной злости. Ему её (милую Зоиньку!) до жгучей боли в сердце было сейчас жалко. Были же времена, когда и они были счастливы: молоды и симпатичны или — нет, Юшкин кот! — обязательно красивы.
Прекрасно зная смысловую ядовитость её обычных фраз назубок (которые вообще-то не отличались особой даровитостью и изобретательностью) «Сашка» старался, всячески упорно старался, не вникать в их суть. Не воспринимать их в свой адрес — и главное! — не принимать их близко к сердцу. А слышал он теперь лишь переливчатые интонации её речи — звучавшей на удивление даже несколько порой мелодично. Он можно сказать её не слушал совсем и думал исключительно о своём. Ему почему-то ясно вспоминались какие-то на первый взгляд пустяковые моменты из их совместной жизни, какие-то бессмысленные обрывки. Казалось бы, легкомысленные моменты повседневной суеты, но которые так дороги сердцу его, что от них щемило и тоскливо зудело где-то в груди. Он тут же немедленно вдруг осознал что: «…а ведь он и не сможет теперь без неё совсем жить!..»
Вспоминались всякие глупости, но такие нежные и близкие что от умиления хотелось — даже снова плакать только теперь от какой-то трепетной ласковости… Как когда-то, она, ему заглядывая ласково в глаза, как преданная собачонка завязывала такому важному и представительному галстук (потому как он сам не умел этого делать вовсе); он же тогда собирался на очень важную презентацию… Где потом напился и явился оттуда домой только к утру.
Нет, он верен был ей! но за этот поступок ему всегда было как-то неудобно даже стыдно перед Зоинькой. Вспомнился ему вдруг ещё один глупый момент. Как Зоя, чего-то там готовя в кухне, ковыряясь там по-своему, неожиданно, молча, испуганная прибежала с порезанным пальчиком к нему. И виновато показывая его, одним только взглядом объяснила тогда что ей — очень страшно и спасти её может — только он… и никто другой! В глазах её переливалось какое-то непонятно-странное выражение: всегдашней её готовности испытывать боль и вообще постоянно страдать всего лишь ради его микроскопического внимания. Смешно сунув свой окровавленный палец ему под нос, как будто стоило бы ему только глянуть на него, а уж тем более если ещё и дунуть то, конечно же, он заживёт — немедленно заживёт. И он дул… помнит как сейчас… смешно дул… счастливый до жутчайшего — трепетного — волнения от выполнения на тот момент жизни самой важной миссии на земле. И они были счастливы, тогда как дети!
Звуки Зоиного голоса гулким эхом отдавались где-то под потолком. Превращаясь там всего лишь в какую-то отдалённую трескотню. То ли теряя там свою яркость, а то ли преломляясь там и уже ударяясь о стены и потолок, меняли — неведомо как-то — своё направление и где-то вероятно заблудившись совсем, если и долетали до его ушей, то совершенно не приносили ему особых неприятностей. Да и усталость видимо всё-таки давала о себе знать. А трескотня волнами звучала и звучала, то приближаясь, то отдаляясь: как бы укачивая… убаюкивая… Им овладела хмурая и крепкая сила забытья.
Третья глава: Татьяна Ивановна
День начинался прекрасно. Это ночью дождичком слегка побрызгало, зато сейчас вовсю блестело солнышко, и совсем не было жарко. Казалось, мир по-весеннему ожил только сегодня. Выйдя из подъезда и проходя мимо чего-то или кого-то азартно обсуждающих тётушек-соседок, Татьяна на удивление самой себе улыбалась, улыбалась искренне и радостно. С каким-то даже очарованием и умилением. Мир казался ей таким прекрасным и добрым что она невольно им восхищалась. Да; действительно у неё сейчас буквально всё (ну как в сказке!) всё на редкость было хорошо. Наконец наладился поток чулочно-носочного производства; наконец все серьёзные вопросы по организации и эксплуатации нового технического оборудования решены, переоборудованы и запущены в поток, а так же произведены основные кадровые перестановки и распределения. Осталось только работать и увеличивать темпы производства и доходов, а самое главное она начинала хоть чуть-чуть мало-помалу понимать, что сама делает. Сбыт, налажен; уже целая куча заказов. Сырьё поступало бесперебойно, поставщики были верные и держали слово. Теперь всё решало только время и терпение. Наконец она очень скоро уже сможет поощрять хорошо работающих тружеников премиями.
И на семейном фронте у них с супругом всё — просто замечательно! Дети здоровы, ходят в школу и радуют своими отметками. Недавно приобрели, наконец, небольшую дачку. Что ещё надо для полного счастья? Она счастливая поздоровалась с женщинами, которые, увидев её с почтением, слегка поклонились ей и многозначительно улыбаясь, проводили взглядами до самого автомобиля, который уже ожидал её как директора фабрики. Она, молча заранее немного приосанившись, кивнула водителю в ответ на его громкое (по-армейски!) приветствие и поудобнее уселась в кресло не обращая, привыкнув — никакого внимания на угодливую суету водителя. Хлипкого человечка сначала открывшего перед ней дверцу, а следом с заискиванием закрывшего её.
Всё это, как уже полгода для неё стало совершенно привычным и абсолютно банальным. С неожиданным карьерным ростом из обыкновенной работницы с мелкими комсомольскими поручениями — до самого директора производства (имея всего лишь среднетехническое образование!) многое постепенно становится вполне привычным. Татьяна уже теперь не обращала никакого внимания на то, что совсем недавно вводило её в робость и жуткую краску или даже приносило ей некий душевный дискомфорт. Да и ей просто по должности теперь необходимо было вести себя должным образом. Как-то так: помпезно, наверное, немного высокомерно и это для неё было, прежде всего, на первых порах самым трудным — и неприятным. Так думалось ей, во всяком случае, теперь.
И эта необходимость излишней рисованности в поведении некоторой вычурной строгости, что ли… её угнетала. Так как она была по своей природе человеком простым и склонным скорее к доброте, а уж тем более ближе к скромному поведению, нежели к какому-нибудь позёрству или барски пренебрежительной важности.
С тех пор уже прошло немало времени как по территории ещё тогда огромной (могучей!) страны начали своё шествие ваучеры («детки» Чубайса) вызвавшие поначалу волнительную «ответственность» к себе в народе, которая чуть позже моментально утратилась в нём, когда выяснился очередной и крупномасштабный обман. Тогда она случайно (или не случайно?) попала, прежде всего, в незнакомо-знакомую для неё (по комсомольской линии) на первый взгляд стихийно создавшуюся компанию «ловких и очень умных» людей. Которые во многом чуть ли не предопределяя события, ввели её — робкую и наивную — в курс разумного использования стечения обстоятельств тогда в свою пользу. Не то чтобы они её чему-то конкретному научили или обещали чего-то там. Всё происходило порой как-то само собой и даже скорее может быть нарочно — на всякий случай — как бы подстраховываясь её мелкостью. Или может быть, она их невольно подкупила своим каким-то несколько «колхозным» (что ли?) обликом (я уж и не знаю право!). Или даже, в конце концов, готовили для себя в будущем, оценив её, какие-то может быть опять же индивидуальные качества… или… в общем-то, я и сам толком совершенно не ведаю, как там всё получалось. Как говорится: «Знал бы прикуп — жил бы в Сочи».
Она чувствовала, что это всё как-то происходит непросто, так — что это как-то не очень честно. Но с другой-то стороны люди сами продавали за бесценок свои ваучеры (она же, в конце-то концов, не воровала их!) а потому не всё ли равно они их приобретут или кто иной. Она нередко тешила себя только одной мыслью, что она как человек честный и это очень, наоборот прекрасно даже что именно она ведает этим делом, а значит обязательно, будет сделано всё с пользой для людей — во благо их! И это её окончательно успокаивало.
А потом закружилось, завертелось всё само по себе — и наконец, вылилось! — в то, что и произошло теперь: она стала полноправным учредителем. Пусть хоть и не единственным, но учредителем (одной из самых крупных в стране) чулочно-носочной фабрики со всем её оборудованием и людьми, работающими на ней. Ну что вот так вот сказать чтобы не вызвать недоверия у читателя: повезло!
Однако ей почему-то всё равно было ужасно неприятно об этом вспоминать и думать. Она себя чувствовала подсознательно так — будто бы однажды взявшей огромную сумму денег в долг у всего населения страны. Не знаю, может быть, это в ней совесть играла или — ещё чего?.. Не знаю! Трудно сказать, но теперь, так или иначе… Она — Татьяна Ивановна не то чтобы совершенно не осмысленно, но как-то уж слишком нежданно-негаданно стала вдруг директором — и даже не только! К тому же ещё, будучи человеком ни на йоту не разбирающимся на руководящем поприще — без всякого опыта; единственное благо, что только советчиков и помощников как впоследствии выяснилось, появилось в достатке, хоть отбавляй.
Трудно ей было особенно поначалу наблюдать себя в виде крупного собственника. Собственников то бишь буржуев она видела в детстве только по телевизору и то — в кино… И отношение у неё было к таким людям несколько предвзятым. Будучи ещё маленькой девочкой, она считала их заразившимися страшной болезнью (ей было жалко их!). И теперь подсознательно она чувствовала себя несколько ущерблённой. Но, тем не менее, материальная денежная поддержка, которую теперь получала её семья, как-то иначе выворачивала и выпячивала факты, приносящие явную пользу. Правда она ещё не знала и не могла себе даже представить всю масштабность своего материального благополучия. Поэтому-то они и поторопились приобрести эту теперь уж для её нынешних мерок — так себе — дачку. Хотя та — уже совершенно немыслимо велика хотя бы для тех их, — каковыми нищими они были раньше. А главное, я ещё раз повторюсь — всех тех тонкостей, я, разумеется, не знаю, да и не мог бы знать. Она приобрела для себя «новых друзей» (и продолжала приобретать!) или даже если можно так выразиться — «покровителей!». Но опять же снова никак не соображу, подходят ли те определения для этих субъектов или не подходят и кем они на самом деле являются для неё. Это ещё своего рода загадка — разгадку, на которую надо искать в будущем.
Сейчас она ехала как обычно на работу. Опять можно сказать по старой привычке даже (до забавного!) боялась опоздать. Потому что резко поменявшийся мир — в стране — не мог так же быстро поменять её мировоззрение и вообще её менталитет. В душе она по-прежнему оставалась всё той же девушкой-комсомолкой просто работницей привыкшей больше выполнять определённые манипуляции, нежели думать головой. А теперь? В принципе, рабочие и младший руководящий состав фабрики и без неё прекрасно были посвящены в тайны выполняемой работы и прекрасно могли бы обойтись без неё. Чего собственно и делали. А вот все самые серьёзные вопросы той же фабрики они (как соучредители или собственники) решали, конечно же, коллегиально: периодически встречаясь и совещаясь…
Татьяна Ивановна, пока белая «Волга» неслась по главному проспекту, доставляя её на работу, думала совершенно о своём. Водителя она не слушала, несмотря на то, что тот о чём-то оживлённо и деловито рассусоливал. О чём-то там: хохотал, небрежно и энергично жестикулировал руками и при всём притом весьма умело управлялся с авто. Она же на сей момент была в неимоверном состоянии релаксации… В какой-то странной даже умопомрачительной, скорее всего эйфории и при всём при этом исключительно думала (или мечтала?) только о своей семье — в особенности о детях.
Вихрем автомобиль подлетел к административному зданию. Вихрем, «водила» выскочил из автомобиля и, обежав кругом, уважительно распахнул дверцу. Татьяна Ивановна несколько вальяжно выбралась на улицу. Казалось бы, не обращая никакого внимания на то, что будет потом с той же дверцей, да и вообще с автомобилем. Когда Татьяна Ивановна оказалась уже на улице то к ней тут же неожиданно, как будто из ниоткуда выбравшись, подбежала её молоденькая секретарь Юленька (дочь одноклассницы и подружки тех лет). Она её вне сомнения не ожидала совсем тут встретить потому, как она привыкла её встречать завсегда у дверей своего кабинета, где они разлюбезно «здоровкались» после чего обычно начинался рабочий день.
А тут — на тебе!.. Вся почему-то взъерошенная какая-то, всклокоченная и явно чем-то: то ли озабоченная, то ли расстроенная и даже немного отчего-то заплаканная. Правда директриса ещё пока толком не придавала всему тому значения. Она даже мельком в первое мгновение подумала: у девочки вероятно зуб разболелся и вот она хочет, отпроситься — вылечить его. Так думала поначалу она, не отрываясь от своих текущих мечтаний. Но, так или иначе, та настойчиво подступала к ней. И то ли не умеючи как, а то ли переволновавшись тотчас отчего-то или пока ждала-ждала директора, терпела, а дождавшись — не вовремя захотела срочно в туалет. Во всяком случае, сейчас она нетерпеливо притоптывая, чего-то говорила и говорила. А директриса, тупо улыбаясь, совершенно не слушала её, а только при этом не осмысленно кивала головой. Наконец, до неё отдалённо стал доходить смысл некоторых слов, которые Юленька в сильном своём таком волнении, не умела как-то увязать между собой. Но усердно стараясь всё-таки, втискивала их как необходимую информацию. И Татьяну Ивановну как-то вдруг сначала посетило лёгкое недоумение, а потом уже совершено непонятное до сих пор, ещё никогда ранее не посещавшее её, уязвлённое собственническое ощущение.
Она уловила ключевые слова: наглые люди, бесцеремонно ведут себя, требуют вас… Любопытством это состояние не назовёшь; не назвать его и страхом. Скорее, в общем, в ней появился некий демон. Частный собственник, — который, несомненно, был теперь взбешён таким хамским поведением чужаков на его территории. И она, тут совершенно не испугавшись, а, дерзко хмыкнув, двинула всем телом вперёд. Почти ненароком оттолкнув Юленьку в сторону, понеслась к своему кабинету, как толпа при взятии «Зимнего дворца». Она ворвалась, ворвалась как ураган в помещение. Готовая, увидев беспорядки, немедленно вышвырнуть любого тут же. Но к её удивлению в помещениях было всё в порядке. Кроме того, что её ожидал вполне милый молодой человек. Сразу видно, что спортсмен: не пьющий, не курящий, элегантно облачён в прекрасный спортивный костюм «adidas» и всё… Никаких более наглецов, «бесцеремонщиков» или ещё каких-то там отвратительных личностей. Увидев её, тот с достоинством встал, но, как настоящий джентльмен, подойдя к ней, учтиво преклонил голову и совсем так скромненько и вежливо проговорил:
— Здравствуйте, Татьяна Ивановна, а мы как раз вас и ожидаем…
Татьяна Ивановна мельком оглянулась кругом, но никого больше не увидев, решила, что это просто такая манера выражаться. Конечно же, не заметив тут больше ничего предрассудительного, улыбнулась (мужчина явно ей импонировал!) и в своё время, тоже с аналогичным достоинством молвила:
— Здравствуйте, проходите…
Открывая ключом дверь кабинета, и совершенно уже успокоившись и даже несколько сконфузившись от своих предшествующих мыслей, она была чуть-чуть раздосадована той утрированной — панической! — информацией Юленьки и подумывала уже даже после сделать ей некий маленький нагоняй по этому поводу…
Четвёртая глава: Волчара
Он рос хорошим и добрым мальчиком. Его величали Славой. Вообще у него с детства было какое-то навязчивое чувство справедливости. При его физической несостоятельности, ибо мальчик рос весьма болезненным и хилым — у него почему-то тогда в детском возрасте постоянно возникали какие-нибудь проблемы со сверстниками. Вечно он с кем-то чего-то не поделит! Даже поэтому, наверное, его родителям — Сергею Никифоровичу и Марии Ильиничне — пришлось, в конце концов, отказаться от посещения Славиком детского сада. Ну, да и сами посудите какой тут садик, когда ребёнок опрометью юркал с жуткими визгами при малейшем упоминании о таковом под кровать и ни при каких обстоятельствах и уговорах не хотел, оттуда вылезать.
Волей-неволей родителям пришлось после недельного мытарства все-таки, наконец, в одно «прекрасное» утро договариваться с соседкой тётей Глашей (в то время к счастью уже пенсионеркой) о том, чтобы она присматривала за непокорным мальчишкой. Им же (то есть родителям) как и всем нормальным советским гражданам того времени необходимо было обязательно идти на работу и никуда от этого нельзя было деться. У тёти Глаши своих хлопот хватало и поэтому Слава, можно сказать, полностью был предоставлен самому себе. Она лишь приходила к нему для того, чтобы покормить и сразу же уходила. Мальчик самостоятельно в полном одиночестве развивался: лепил из пластилина всякие игрушки (танки, машинки, солдатиков и т. д. и т. п.) рисовал и фантазировал на мнимых полях боёв те или иные сюжеты — раскладывая порой целые панорамы. После, он даже поджигал эти пластилиновые танки на чугунной плите и очарованный наблюдал, как те сгорали. Так как мальчиком он был по природе своей довольно-таки осторожным и смышлёным опасности особой для квартиры он не представлял, да и родители ничего не замечали, так как он всё тщательно перед их приходом прибирал.
Позже школа, где у него опять были свои проблемы только теперь уже с одноклассниками. Должного опыта во взаимоотношениях с другими детьми у него не было: то бишь с теми же девочками, которых он ужасно стеснялся и даже до странности терялся при общении с ними (чем веселил порой весь класс!); а с теми же мальчиками вообще постоянно дело почему-то обязательно доходило до драк после уроков. Да и с преподавателями у него тоже мало чего получалось. Когда он учился ещё в первом классе, он частенько прятался под партой от излишне взволнованного внимания учителем на его шалости, чем в свою очередь снова весьма забавлял тот же класс. Будучи человеком обидчивым или чересчур остро восприимчивым ко всяким своего рода относящимся к его персоне шуточкам. И вполне может быть даже тогда с заболевавшим уже самолюбием, потому как он часто не по делу конфузился при всеобщем смехе над ним, выказывая этим полное порой отсутствие у себя элементарного чувства юмора (ну, не понимая его!). Иной раз чрезмерно реагировал на пустые мелочи. Тем, выставляя себя сызнова, не с самой симпатичной стороны и бывало ещё при этом начинал к тому же вообще ни, кстати, почему-то плакать, чем заразительно возбуждал оживлённое злорадство у присутствующих ребятишек. В общем, он всегда был субъектом насмешек и издевательств.
На третий год обучения в школе он записался в спортивную секцию классической борьбы. Куда ездил потом самостоятельно в другой конец города до трёх раз в неделю. Ему хотелось как можно быстрее стать «самым сильным», чтобы всегда уметь за себя постоять и не от кого не зависеть. Ввиду его усердия результаты не замедлили сказаться. В ближайшей скорости Слава начал выступая на все различных соревнованиях добиваться некоторых значительных успехов.
Так что впоследствии, будучи призванным или типа того уже вступив в ряды советской армии, он по сути своей был довольно-таки физически подготовлен, более того он был уже в отличной спортивной форме. Даже вдобавок ко всему был конкретно перворазрядником и подавал теперь, бесспорно, большие надежды в спорте. И если бы не семейные проблемы: развод матушки и отца, который не то чтобы уж слишком с болью отразился в юношеском сердце, но и доброго-то конечно ничего не принёс. Кроме некой нервозной суеты, которая все-таки пусть косвенно, но повлияла на его спортивную карьеру. Дело в том, что если бы он был призван в армию с прежнего места жительства, он непременно попал бы в «спортроту». А следовательно, не произошло бы того двухлетнего перерыва в его спортивной карьере, а именно этого-то самого срока оказалось вполне достаточно, чтобы он несколько охладел к единоборствам. Но так как матушка, следом за разводом не вынося ни физически, ни морально жизни вблизи с бывшим супругом в одном городе — соизволила тут же поменять место жительства, а сын не смог матушку оставить одну в чужом городе, таким образом, вынужден был переехать вместе с ней.
В связи с чем, через полгода был призван в армию уже теперь на общих основаниях. Так или иначе, служил он легко. Привыкший к самостоятельности и более того к постоянному самоутверждению ибо эта привычка брала начало с самого начала его сознательной жизни — он легко самоутвердился в мужском обществе с помощью силы даже не применив её ни разу в целях самозащиты. У него волей-неволей как-то всегда получалось везде самоутверждаться и не иначе…
Пока он служил, кое-что опять поменялось на «гражданке» в частности в семье или в том, что от неё оставалось. Отец в другой наскоро им созданной семье скоропостижно скончался. Вдобавок матушкин тройной квартирный обмен аннулировался по претензиям какой-то из сторон. То есть матушка без него должна была возвратиться на прежнее местожительство. О чём она, в общем-то, формально спрашивалась в письме у сына, но получив от него совершенно любой отклик всё равно бы переехала. То бишь из армии он снова вернулся уже в свой родной город и опять продолжил свои занятия спортом в той же секции у того же тренера. Кроме того, хорошо отслужив в армии, он оттуда ещё получил направление, то есть ходатайство армейского руководства о поступлении его в высшее учебное заведение. Так что Вячеслав тут же поступил в педагогический институт на физкультурный факультет. Таким образом, потихонечку начинали сбываться его давние планы. Он надеялся в скором будущем самоутвердиться в роли тренера по той же самой классической борьбе. Не торопясь надеялся, подыскать себе хорошую жену и зажить, спокойно воспитывая своих и тренируя чужих детей. Впрочем, такие у него были мечты и планы — на что, собственно говоря, он имел полное право.
Будучи на втором курсе он, наконец, повстречал премиленькую девушку, с которой учился теперь на одном курсе, и которая перевелась сюда откуда-то с другого института. Сейчас уже и неважно именно из какого. Между ними сначала завязалась дружба, а потом образовалась и чистая любовь. Чуть позже уже на третьем курсе та неожиданно забеременела, ускорив тем самым фактом их законное обручение и они, наконец, решили расписаться. Девушка (Нина) была сиротой только-только можно сказать из детдома.
Матушка, любившая сына до умопомрачения, была категорически против их бракосочетания. Предпочитая сыну более удачного брака. Но, несмотря на это, они всё равно поженились и стали жить отдельно от матушки — у Нины. Сирота имела свою комнатку в общежитии, где они и обитали, пока матушка не смирилась с этой ситуацией и наконец, всё-таки не позвала их жить к себе. Трудно сказать, что именно повлияло на дальнейшую их судьбу. То ли родившийся ребёнок (девочка Катенька) и возникшие при этом новые трудности, постоянно обостряющие их психологические несоответствия, а то ли участившиеся ссоры матушки и невестки. Или может быть скорей всего всё-таки изнуряющая бесконечная нищета. Потому, они очень скоро развелись и тут же возникли сразу в огромном количестве новые гадости, которые уже теперь висели над Вячеславом «дамокловым мечом».
Его душа разрывалась на части! Матушку положили в больницу с тяжёлым инфарктом миокарда; Нина с Катенькой переселились и уже жили в общежитии. Нина категорически не хотела с ним мириться, и всячески препятствовала общению дочери с отцом. Она демонстративно публично обзывала его «тряпкой», «никчёмным мужчинкой» и открыто смеялась над ним как над «маменькиным сынком». Позже, Нина, бросив очное обучение, перевелась на заочное обучение. У неё какое-то вроде как бы врождённое было противостояние мужу. В замужестве она сама порой не понимала, почему её бесили все его привычки. Вообще, всё его поведение почему-то всегда до безумия её раздражало. В общем, в прямом смысле они сосуществовали как кошка с собакой.
Вячеслав стал неимоверно тоже раздражителен, как будто заразился от Нины этой раздражительностью. Кроме того ему просто-напросто пришлось бросить в конце концов своё обучение в институте и пойти работать чтобы хоть как-то помочь строптивой бывшей жене воспитывать дочку. К тому же ещё хоть как-то помочь бедной матушке выздороветь. Льготных лекарств бесплатных почему-то постоянно не было, а покупать за деньги им было слишком дорого. Он согласен был на любую работу, — и работал: грузчиком, дворником и снова грузчиком одновременно. Больше он никуда не мог устроиться, везде требовались документы, то или иное специальное образование и т. д. и т. п. Он бы мог легко работать со своими способностями и электриком и слесарем-сантехником, но у него не было соответствующего образования, а без него по закону — он ноль. Полгода ходить в учениках с мизерным окладом он тоже не мог. Тренировки пришлось забросить уже давно. Матушка, без необходимых лекарств вот-вот могла умереть и оставить его… Крепкий, очень сильный физически мужчина почти рыдал у постели родительницы. Страдал: от бессилия и безысходности.
Тем временем вовсю уже кипела «перестройка». Но кипела она, пока как-то в стороне не затрагивая Вячеслава. Он вообще долгое время заковырявшись в своих рабочих буднях в погоне за копейками, казалось, не замечал того, что происходило в тот момент вокруг. И только однажды придя на толкучку (вещевой рынок того времени), чтобы приобрести в подарок на день рождения дочке ботиночки он неожиданно даже для самого себя как бы «проснулся». Всё дело в том, что он случайно встретил там своих давних товарищей, спортсменов (которые только-только укрепились в занятиях там рэкетом) и разговорился с ними. Они с величайшим удовольствием, поделились с ним, каким образом зарабатывают тут хорошие деньги. «Абсолютно ничего не делая», а только в «охранном» порядке в своём виде исполняют роль «крыши». В свою очередь, сообщив между тем что: «…на этом рынке кроме нас никого не может быть с подобными претензиями потому как… да, дескать, сам увидишь, если согласишься работать с нами». Да; он, разумеется, согласился — всё ещё пока не очень-то веря им.
Тут они, ненароком выяснив, зачем он сюда вообще сейчас пришёл. Вдруг снисходительно рассмеялись и затем всей толпой повели его вдоль торговых прилавков. Подойдя к одному из них — как раз туда, где торговала одна женщина как раз детской обувью. Запросто объяснив ей ситуацию: указав на него и представив его ей как своего «товарища по оружию». Причём при всех этих действиях было ясно видно, что та — даже с удовольствием готова помочь. Доставая нужные ботинки после того — как Вячеслав назвал ей нужный размер и, получив их, он протянул чисто машинально ей деньги, на что та смущённо улыбнувшись, сказала: «Это подарок!». Все громко рассмеялись, а Вячеславу пришлось сконфуженно, прятать свои деньги обратно в карман. В то время, было вообще очень трудно найти настоящую вещь заграничного производства и тогда, было особенно важно приобрести именно такую вещь по двум причинам: из-за моды и качества. В то время эти детские ботиночки стоили средней месячной заработной платы. Можно теперь себе легко представить: как — тогда! ликовала его душа по данному подарку. Он был в прямом смысле счастлив в тот момент потому, как теперь он мог купить ещё и для матушки жизненно необходимое лекарство!
Но сегодня он уже не тот… Он — матёрый «Волчара». Именно такое «погоняло» ему было негласно прилеплено и уже все — за эти пять лет — его знали как таковым, да и он сам привык откликаться на него. Многие люди в городе слышали эту «кликуху» и неважно — знали они её хозяина или никогда не видели — всё равно невольно осознанно или неосознанно уже уважали, а то и смертельно боялись — не приведи Господь! — встретиться с этим человеком на узкой дорожке. Это ещё тогда, пару лет назад, они однажды решали с помощью жребия — кому убивать. Никто тогда не хотел впервые обагрить руки кровью! Жребий пал на него — он был первым… Трудно было убивать совершенно невинного человека хоть даже он пусть и «отбросы общества» — никому ненужный «бомж». Они даже называли-то свои жертвы по особенному — «сорняк»; таким образом, хоть немного, но оправдываясь перед своей совестью.
Дело было до гениальности просто поставлено. Находился обыкновенный бомж, которому предлагалась подработка в виде показательного выступления перед очередным «клиентом», подвергнутым с их стороны вымогательству. Бомжи — как обычно чаще всего пьяницы, да и зачастую к тому же весьма доверчивые люди. Да и подработать — никогда не помешает, а тем более такие-то деньги; я уж и не знаю, сколько именно, но ясное дело, что немало предлагали. То есть надо было кричать любым благим матом, что ОНИ, дескать, СВИНЬИ — и НЕ ПОЛУЧАТ ОТ НЕГО НИ КОПЕЙКИ и это перед человеком которого приведут на него посмотреть.
Естественно, бедная истинная жертва нисколечко не подозревала, что именно ей-то и уготована внезапная жуткая смерть. Да, самая настоящая смерть, которая воистину (коли жертва была закопанная по самую шею в землю и торчать оставалась лишь её голова) в момент всего этого якобы «театрального» представления, смерть — стояла уже сзади с настоящей косой в виде молодого крепко сложенного парня. И никоим образом увидеть её нельзя за спиной! Жертва кричит, что ей приказано по сценарию. Она вопит, надрывается, выполняя условия — зарабатывая деньги и при этом совершенно не знает того что никогда их не увидит и не положит тем более в карман. Уже натренированный удар косой в мощных руках того геркулеса остановит навсегда эти вопли. Свист косы… звук перерубленной шеи… голова, слегка подпрыгнув, вдруг упадёт на бок… А увидавший это… «клиент»… подпишет любые документы… заплатит любые деньги…
Пятая глава: сюрприз…
— …Проходите, будьте как дома, по какому вы пожаловали вопросу, товарищ?.. — скороговоркой пролепетала Татьяна Ивановна, пропуская молодого человека, совершенно ничего не подозревая. Войдя следом за посетителем, она вдруг не поверила своим глазам. Она прекрасно помнила, что пропускала одного человека… В кабинете же находилось: откуда-то и почему-то уже три человека. И упорно не доверяя своим глазам, она как-то поначалу слегка стушевалась, но потом мысленно ещё раз пересчитав тут же посетителей, совершенно потерялась и даже в первое мгновение уже хотела покинуть помещение, уйти прочь из кабинета.
Нет, она не испугалась! Она вошла в некий стопор, оказалась в замешательстве. Она просто никак не могла сообразить, что же произошло… Что это за фокус такой. Смутно подумала, что может как-то обозналась… или не туда вообще вошла. Нет, она прекрасно помнит, кого в последний момент в жизни видела, абсолютно точно помнит и о том, кого и скольких пропустила вперёд себя людей в кабинет. Но вот почему там, оказалось на два — именно, на два человека больше — что за волшебство такое… Откуда? Прям фокус какой-то!.. Она догадаться, допустить сейчас, не имела ни какой возможности. Ну, в общем, трудно угадать, что в тот момент ею вообще двигало.
Так или иначе, перед ней стояли трое молодых парней. Сразу видно: весьма крепкие и сильные (как оценивала она) к тому же довольно-таки симпатичные и даже обаятельные (повторюсь: её оценка); все в спортивных одинаковых костюмах (и почему в таких костюмах? — как из инкубатора — тоже её умозаключение). И все почему-то с одинаковым выражением на лице смотрели на неё как-то странно: по-хозяйски снисходительно одобрительно… Иначе она и не могла определить. Особенно ей, «бросался в глаза» один из них, — высоченный! — которому она по своему росту по её же мнению: «в прямом смысле в пупок дышала».
— Татьяна Ивановна! Куда же вы?! — вывел её едва из оцепенения и всё того же смутного желания покинуть помещение приятный баритон молодого человека, — разговор-то у нас как раз будет здесь — и серьёзный и очень важный… вероятно долгий (в зависимости от вашей сообразительности). Так что уж будьте так любезны, займите, пожалуйста, своё место.
Совершенно сбитая с толку женщина, теперь уже медленно соображала, но узнав всё-таки своё кресло, двинулась к нему. И затем, быстро просеменив, плюхнулась в него. Как будто бы боясь, что его кто-то — вот сейчас вот — займёт и оттуда как из-за кустиков теперь выглядывала на них. Всё так же, никак не приходя в нормальное состояние, располагающее к продуктивному разговору. Дело в том, что она сейчас мысленно металась, шарахаясь от одного к другому: то подозревая в них работников милиции, то налоговой инспекции, а то даже вездесущих «чекистов». Особенно на последних она думала почему-то больше всего. Кагэбэшников или фээсбэшников она никогда в жизни вообще не видела, но зато была очень наслышана про них.
А ещё! её смущал их внешний вид. Но наглость, с которою они себя вели, снова и снова вводила её опять в какой-то «умственный стопор» и она уже совершенно растерявшись, даже представления не имела как ей теперь себя с этими людьми вообще вести. Всё больше и больше её охватывал невероятный страх. Он откуда-то изнутри её сначала подтачивал потихонечку полегонечку, но постепенно всё безжалостнее и наглее пробирался к её мозгам. Уже скрежетал по взвинченным нервам, перерождаясь на конечном этапе в ужас. У неё мелькнуло в голове: «…вот и всё! Дожила старушка; и вот теперь меня посадят в тюрьму… Боже! Что будет с детьми?». Она теперь умоляюще вглядывалась в них и не могла даже пикнуть. Воля её была подавлена. Разрушена! Сейчас она себя конкретно и совсем явственно почувствовала «божьей коровкой».
— Кто вы такие? — наконец нашлась она и, собираясь как-то не умеючи насильственно с духом, вновь умоляюще посмотрела на них. Глаза её бегали в разные стороны не находя объекта постоянного внимания. Потому, она поспешно куда-то спрятала свой просящий взгляд, как бы выключила свет в нём — и как могло бы показаться, теперь замкнулась в себе. И почти тут же, лишь немного внешне успокоившись, но в тоже время устало и обречённо выдохнула. Или скорее простонала, как бы произнеся в душе: «Господи, как я устала!». Мелькнуло, было, вспыхнувшее в ней безразличие — и тут же погасло. Вместо него появилась вновь заинтересованность жизнью. Пытаясь прочесть в их лицах ответы на глубоко волнующие её вопросы, она опять устремила на них свой бегающий взор. Спрашивая, у себя или у кого-то: кто они такие и что им, собственно, нужно от неё. И не найдя в их лицах ничего объясняющего ей, она резко встала и начала нервно метаться туда-сюда у окна. Сжимая и ломая свои кулачки в кулачках, отчего те звонко похрустывали. Но вскоре смутно почувствовав, что и это не облегчает и не объясняет ситуации. Она суматошливо, как бы извиняясь за свою дерзость, села обратно на прежнее место. Татьяна Ивановна подсознательно чувствовала что-то недоброе в этих людях; что-то необычайно сильное и плотоядное, даже хищное и бесконечно злое.
Её душу «вытаптывали» их надменные рисовано добрые — вроде как добрые! — улыбочки, но в глазах, которых присутствовал леденящий душу холод… или даже смерть. Это она чувствовала инстинктивно как животное. Самообладание — с перерывами — потихоньку то возвращалось к ней, а то его категорически выталкивал страх. И этот страх, хоть она и напрягалась — пытаясь, таким образом, победить его — всё-таки всё больше и больше овладевал ею. И тело — особенно ноги — понемногу, по малюсенькой капельке, но и в тоже время совершенно неотвратимо как бы слабело и, в конце концов, вообще переставало её уже дальше слушаться.
Те — спокойно ждали. Их лица на первый взгляд как ей показалось, ничего теперь не выражали. Видно было впрочем, только то, что они с некоторым удовольствием наблюдали, как она тщетно пытается выбраться из «глубокой скользкой канавы» куда они её своей шуткой (вроде как случайно!) столкнули. Но она им была нужна для разговора, а соответственно им было явно небезынтересно, когда же она соизволит-то — бедняжка такая — наконец, выбраться из своего стопорного состояния.
Молодой человек (по всей видимости, он был самым главным среди них) хоть и миленько, но при этом довольно-таки гнусненько и ехидненько ухмыляясь, теперь уже нагло наблюдал её… и молчал. Молчал как рыба! Однако в его глазах легко читалось: «Я-то о тебе, миленькая моя, всё знаю…», — но при всём притом умилённо ожидая финала, тоже с любопытством созерцал её шок.
— Я — не я… я — ничего не знаю… я только… это они… я сознаюсь, — наконец почти бессвязно пролепетав чего-то, вновь попыталась в глубоком волнении объяснить она. Чего-то в отчаянии втолковать им. Хоть она ещё и не представляла себе пока, в чём она должна или вообще в чём даже будет сознаваться, — собственно что я?! Вы и сами раз уж вы здесь, всё прекрасно, наверное, знаете…
— Ну-ну, ещё чем-нибудь порадуйте… — проговорив это, молодой человек весело глянул на своих товарищей. И они вдруг нагло и нарочито громко хором расхохотались, чем ещё больше смутили Таню. Та, продолжая, не то чтобы ничего не понимать, а как бы напротив слишком много чего-то себе в голове наоборот придумывать, наверное, вплоть — «До трёх лет расстрела!» — вся вдруг раскраснелась. И наконец, не выдержав, почти вот разрыдалась бы, или еле сдерживая слёзы, продолжала, только играть лицевой мимикой. Если бы она сейчас увидела бы себя со стороны, она бы скорей всего выпрыгнула бы из окна от неминучего позора.
— Милая, Татьяна Ивановна! — как по взмаху руки неожиданно прекратился смех и со специально вычурно рисованным уважением и даже полускрытой лаской проговорил всё тот же баритон, — вы нас дорогая, Татьяна Ивановна, с кем-то перепутали. Мы — совсем другие люди… Понимаете, мы, не из милиции… И не из других, каких-либо, глупых государственных инстанций. Мы, вот пришли к вам с прекрасным — изумительным! — предложением. Вот эти великолепные парни, — тут молодой человек указал рукой на стоявших рядом действительно соответствующих этому слову мужчин. Дальше продолжая красочно и ядовито улыбаться, добавил:
— Вас дорогая, Татьяна Ивановна, очень, глядя на ваш трепет и страх. Хотят стать вашими, так сказать, ангелами хранителями. Вам милая, Татьяна Ивановна, это будет практически, почти! ничего не стоить… так безделица! Пустячок…
Тут он потянулся и, взяв со стола карандаш и листок бумаги чего-то аккуратно совсем не торопясь, написал на нём. Потом молчком пододвинул его по столу прямо под нос шокированной женщины, а сам расслабленно откинулся на спинку стула в скромном ожидании.
Татьяна Ивановна, мало ещё чего понимая, машинально уткнулась носом в листок. Как близорукая она с минуту тупо смотрела на каракули, написанные на листке совершенно не видя их. Вдруг она встрепенулась, как будто до неё что-то всё-таки дошло. И собиралась уже возмутиться: «Что это хулиганство! Что она не нуждается ни в каких ангелах хранителях…» и т. д. и т. п. Но когда она мысленно хотела уже добавить, что она вызовет сейчас милицию. Тут же ей хватило ума — неожиданно осечься — ещё пока там же в мыслях… И как она внезапно было встрепенулась, так же внезапно и остыла. В её голове началось другое движение. Страхом давеча порабощённые мозги вдруг снова начали, хоть неохотно и беспорядочно, но включили свою работу. Ей даже показалось, будто бы они загремели так громко, что это грохотание услышали и посетители. Она даже зажмурилась сильно-сильно. Татьяна Ивановна поняла. До неё, наконец, дошло, что это никто иные как настоящие бандиты. Она много слышала о них, но ей до этого как-то ни разу не приходилось с ними сталкиваться. Вот так вот — близко. Она даже вспомнила, как называются их услуги — «крыша». Да! вот именно так и называются их услуги — «кры-ша».
Даже в кругу соучредителей неоднократно обсуждался этот вопрос. Правда, пока вскользь, как о вероятно возможной — некоей всего лишь ерунде. Вроде как совсем не заслуживающей их особого внимания. Тогда к общему знаменателю они так и не пришли. Но вот теперь?! Ей вспомнилось как Виктор Семёнович бывший коммунист, а ныне пенсионер, брызжа ещё тогда слюной, возмущался и требовал, в случае чего игнорировать их. Дескать, нечего кормить тунеядцев!..
Хотелось бы ей сейчас посмотреть на него вместо себя. Как бы он сам при теперешних-то обстоятельствах повёл бы себя. Да и все они, потом, вроде как поддержали его такую строгую позицию, в том числе и она. Только вот теперь она была — до истерического смеха! — совсем противоположного, абсолютно другого мнения. Среди этих трёх мужчин она чувствовала себя, по меньшей мере, как чувствовала бы себя мышь, прижатая металлическим ковшом экскаватора. Нет! такой вопрос она, однозначно решать в одиночку, не только не может, но и совершенно не желает. Думая так Татьяна Ивановна даже немного осмелела. С какой стати?! она должна одна за всех сейчас отдуваться. Да она, в конце-то концов, и не имеет никакого права, единолично решать такой вопрос! Конечно!
— Ах, вот как! — наконец подняла она голову и уже совершенно другими глазами посмотрела на молодого человека, — дело в том, товарищи, что я не могу одна решить это. Мне необходимо поставить этот вопрос на обсуждение нашей коллегией…
В её голосе прозвучал неожиданный тембр даже для неё самой. Какой-то металлический. Она ещё чего-то хотела сказать, но молодой человек вдруг резко встал (чем вновь её напугал). Он, почти вроде как, уходя и даже уже повернувшись к ней спиной, собираясь, действительно, — вовсе уйти. Тем не менее, нарочито медленно обернулся всё-таки к ней. Не полностью, а так — вполоборота. Смотря на неё с невероятным презрением, проговорил. Нет, даже не проговорил, а прокудахтал:
— Кукла! Мы прекрасно, это, и без твоих соплей знаем. Млять! Мы попробуем, немножечко — совсем чуть-чуть — подождать… Трёп твою мать! Скажем до завтра. Мы знаем, что ты всего лишь пешка, но так передай королю своему. У него же есть? Своя семья, дети, которых он очень! — наверно любит. Пусть быстрее — немедленно! — шевелит своей жопой. (Или где у него там — мозги?) И завтра же даёт нам свой ответ. И вон ту бумажку, на которой я написал циферки, передай ему… Да! и скажи ему так же, что каждый просроченный день — будет ровно удваивать эту сумму…
Они медленно вразвалочку двинулись к выходу. «Великан» проходя мимо стоявшего у стены книжного шкафа вроде как невзначай — случайно, причём абсолютно при этом не утруждаясь… Как будто спугнул сидящую на шкафу муху, одним лёгким движением опрокинул его на пол. Тот с неимоверным грохотом рухнул: зазвенели стёкла, полетели в разные стороны какие-то мелкие предметы… Татьяна Ивановна зарыдала навзрыд, уткнувшись головой в стол и укрывшись руками.
Шестая глава: вертеп
С первыми лучами солнца, а это значит по майским дням очень рано, когда основная масса населения города, городков и сёл области ещё досматривает свой десятый или какой-то там сон, они уже прибыли на двух автомобилях на излюбленное место Виталия Ибрагимовича. Это была великолепная поляна на берегу реки Ока — довольно-таки уединённое местечко. С одной стороны, несколько поодаль возвышался величественный сосновый бор. С противоположной стороны, непосредственно вблизи самой реки была достаточно большого размера травяная лужайка. Она постепенно переходила в шикарный песчаный берег — похожий на морской пляж… И всё это как в некой природной композиции дополняло друг друга, составляя вместе — одно целое, предвкушающее для отдыхающего сердца величайшую гармонию: тела и души.
Итак, они прибыли на двух авто (грузовом и легковом), а именно: четыре хорошеньких девушки и двое юношей. Приехали они сейчас для того, чтобы устроить и подготовить это изумительное место для отдыха весьма, наверное, важных особ. Слаженно разгрузился полуприцеп грузовика; расставлены столы, невдалеке установлен мангал, а девицы занялись всевозможными приготовлениями. Так или иначе, но всё шло как по расписанному сценарию. Лишь изредка слышались некие указания одной из девиц (той, что постарше) и всё! — а дальше только лёгкий шорох выполняемой работы. Иногда звучали короткие смешки да негромкие шуточные реплики. Все (даже до странности как-то не по-русски) были заняты работой. Вероятнее всего это никто иные как всего лишь прислуга будущего банкета.
Прошло три часа неторопливых работ, и всё уже было практически готово. Ровно к девяти часам на широких в ряд расставленных столах была сервирована необходимая посуда и различные другие предметы праздничных столов всего цивилизованного мира. То есть как раз к тому времени, когда уже должны появиться виновники события (судя по размаху — торжества!) ради которых всё это было кем-то затеяно. Время проведения этого мероприятия было заранее обговорено и всех оно, в общем-то, устраивало. Субботнее утро; ещё не так жарко; уже не кусаются комары и т. д. и т. п.
А вот и первые ласточки: целая вереница легковых автомобилей появилась на горизонте, поднимая пыль грунтовой дороги. Она торжественно подъехала к берегу и остановилась. Казалось, во всей этой значительной процессии не хватало только знамён и транспарантов. Не успел ещё никто даже выйти из тачек, да и там, в дали ещё не полностью улеглась мга, как снова там же что-то появилось. Опять, ещё больше всколыхивая пыль, летело уже во всю прыть именно сюда, весело поблёскивая на солнышке.
Из первого чёрного «БМВ» совершенно не торопясь, с особо непринуждённым видом вылез огромного роста мужчина. Встал, рассеянно всматриваясь вокруг по сторонам, как бы любуясь природой, и расслаблено так это потягиваясь, тем самым разминая отёкшие конечности и спину. Он как бы вдохнул полную грудь свежего воздуха, приподнял локти вверх и, обхватив при этом голову: начал покачиваться с некоторым вроде как удовольствием из стороны в сторону… Тем временем, следом, вразнобой повыскакивали как тараканы изо всех дверей других — не менее роскошных иномарочек несколько возбуждённые и довольные вполне самими собой другие мужчины… Манерно вылезали выхоленные и добротно принаряженные женщины, скрывая тут же свои глаза от ослепляющих солнечных лучей под шикарными импортными солнцезащитными очками.
— Вот она, наша матушка-природа. Кричит, зовёт к себе!.. — пропел или громко продекламировал мужчина, ведший прелестненькую девицу под ручку, отчего та несколько смущаясь, хихикнула, жеманно осматриваясь по сторонам.
Все широкой толпой хоть и не совсем организовано двинулись к предполагаемому центру нынешнего места отдыха. Да! было явно видно, что многие, если даже и не все — прибыли сюда не впервой для данного мероприятия. Там и сям, послышались оживлённые голоса; люди, делились своим восхищением природой — красивой дымкой над рекой; кто-то шутил; кого-то потянуло вдруг на поэзию и т. д. и т. п. Все столпились в ожидании кого-то или чего-то…
— Ну, господа-товарищи, все прибыли?! — слегка зазывно и в то же время чуть шутливо вроде как начал было свою речь толстенький коротышка. И все уважительно потихоньку по мере подхода концентрировались вокруг него.
— Представьте себе, уважаемые, что сегодня, как и ровно, пять лет тому назад, именно, этого же числа и месяца мы впервые собирались здесь чтобы почтить памятью безвременно усопшего товарища — великого государственного деятеля! — Виталия Ибрагимовича, который завещал нам: никогда не вешать носа и смело следовать его примеру… Ура! Господа…
Прозвучало вялое и нестройное — ура! — редкие хлопки в ладошки в основном женских голосов и ручек, а затем толпа плавно и уже намного организованнее двинулась к роскошным столам без каких-либо стульев — по-американски — на которых красовался весьма доброкачественный выпивон и далеко непростая закуска. Однако особой популярностью пользовались шашлыки. Количество, которого, периодически дополнялось шустрыми руками почти невидимой прислуги по мере его приготовления. За время банкета будет съедено, по меньшей мере, четверть быка.
Хоть и на первый взгляд как может показаться, все вроде как уж слишком хорошо одеты для проведения отдыха на природе. Но внимательнее приглядевшись, начинаешь прекрасно понимать, что эти люди знали куда едут и как для этого надо быть одетым, чтобы было удобно и практично. А нарядность их заключается скорее только лишь в их достатке.
Как ни странно могло бы показаться, но среди этой разномастной публики можно было увидеть в одной «куче»: некоторых депутатов, работников милиции, прокуратуры и других «эпохальных» функционеров, а так же ещё и каких-нибудь немаловажных дельцов… Имелись и такие субъекты в не редкости, которые, снимая модные футболки и рубахи под ласкающими лучами утреннего солнца, оголяли свои «синие» торсы. Обнажались, выказывая тем самым действием на всеобщее обозрение толстенные золотые цепи на шеях и разрисованные чисто тюремными наколками тела то бишь татуировками различной тематики. Здесь были и «церкви с куполами» и «тигриные оскалы»… и другие художественные произведения с не менее острыми претензиями к искусству и жизни.
Никого в принципе не смущало что: «овцы», «сторожевые псы» и «волки» веселились вместе. Всем было хорошо. Все прекрасно друг друга знали. Да мало того, неоднократно уже пили и перепили на брудершафт — и спьяну: обнимались нередко уже фамильярно, а иной раз даже лобызались, панибратски шутили… Но каждый, чётко всё-таки знал меру во всех этих своих действиях, и каждый, волей-неволей всё-таки ещё знал и то: кто он сам — а кто тот. Кроме того, как бы они все не были пьяны, а перепивались зачастую до «усрачки» — однако здесь никогда не было публичных никаких серьёзных ссор или скандалов. На таких «увеселительных» сборищах всегда присутствовали весьма тёплые взаимоотношения. Яркая или даже блистательная всеобщая любовь, почтение и взаимоуважение и всё это при всеобщей потаённой подсознательно-обоюдной — жутчайшей! — ненависти. Каждый, был всегда под одним и тем же «дамокловым мечом» — взаимной нужности и неотступно помнил об этом.
А тем временем на поляне уже вовсю звучала музыка. Продекламирован был уже далеко не первый тост. Все громко переговаривались, травили свежие анекдоты, пили, закусывали и смеялись… Помалкивали единицы, пожалуй, только новички. Эти только как говорится, присматривались, привыкали пока или пока ещё были относительно трезвы, просто осторожничали. А вот остальные кто вполне уже бывалый — вели здесь свои обычные, немало развязные светские беседы.
Такая сходка, если таковой можно назвать это собрание, где присутствуют почти всегда представители власти, по сути своей имела совершенно не развлекательную цель и, будучи по статусу в большей степени тайной, нежели официальной способствовала в большей мере обыкновенному сближению одних с другими. Причём при очень малозначительных обстоятельствах. Таких как день рождения Иван Иваныча или годовщина свадьбы Таисии Петровны или другого чего-нибудь подобного этому.
Всё здесь решалось только властью денег и — не более. Именно деньги являются самой главной движущей силой в любых вопросах общества, которое здесь сейчас собралось. Так вот тут, кстати, порой тайно совершались к тому же ещё и многие товарно-денежные манипуляции. Заключались порой неписаные подчас крупномасштабные договора. Что тоже было весьма удобно и взаимовыгодно. Выгода вообще имела первостепенное значение здесь.
Внимательнее присмотревшись и наконец, увидев, что они уже порядочно «приняли на грудь» к тому же у некоторых (а у слабого пола тем более кроме как исключительно отдельных особ) успели не только развязаться языки, но и в некоторых случаях даже слабо совсем ворочались. А значит, всё-таки ещё есть возможность подслушать их случайные речи. Таким образом, как бы лишний раз вкусить, чем же это общество, так сказать, вообще дышит. А добиться этого можно только прогулявшись среди отдельных рассредоточенных ячеек общего данного скопища людей с широко «раскрытыми ушами». Да собственно начну-ка с первых попавшихся, а там будет видно.
— Ты мне, Стёпа, вот что объясни. С какого хрена, я должен терять свои «бабки», отдавая ему эту квартиру? Нет! Конечно, по закону она его! Тут я ничего сказать не могу. Он детдомовец это понятно, что ему полагаются по исполнению его совершеннолетия, его, эти метры… Государство, так сказать, обязано предоставить, но с другой вот-тушки! стороны. Какого хрена, я буду выписывать ему ордер, если тут Иван Иваныч тоже нуждаясь готов отблагодарить меня. Если я так сказать войду в его ситуацию и передам ему эту жилплощадь, а? Вот, ты, мне объясни… Скажи, что я не прав… А ведь с жильём у нас проблемы… — так вслух рассуждал мужчина, вцепившись за грудки собеседника двумя руками и тряся его из стороны в сторону. Стёпе явно это не нравилось. Но будучи пьяным, он даже не пытался остановить агрессивного действия мужчины. Он был очень сильно занят, прежде всего, сохранением своего собственного равновесия. Периодически. Нет-нет, да и всё-таки пытаясь, вяло одной рукой чисто символически освободить от захвата кистей собеседника свою белую импортную сорочку с чёрным лейблом на нагрудном кармане где «золотом» было написано LONDON. Наконец порядком устав он миролюбиво и смачно хоть и немножко неуклюже поцеловал того в нос и сообщил:
— Я не Стёпа… Я Николай Гришови… Григори… ик… — но, так и не выговорив, он обречённо махнул рукой, и уже вовсе не думая о свободе, закрыл глаза и полностью отдался воле провидения. Тот не унимался, проворно повернувшись к столу, схватил, и тут же махнув как бы промежду прочим очередную стопочку водки, настойчиво продолжал почему-то стоять на своём, но уже, правда, далее не распуская своих рук:
— Нет! Стёпа, хочешь, я тебя квартиркой обеспечу… И недорого, а этот хренов молокосос пусть в общежитии живёт. И все они… Хочешь? Нет! Хочешь, подарю? — совсем за малюсенькую мзду. Мне же тоже надо кушать!
— Мне не надо… у меня ужо есть… — ответил «Стёпа» и опять сильно-сильно зажмурился. Отчего казалось, что он уже согласен быть и Стёпой… да и вообще кем угодно только бы его немедленно оставили в покое.
Наблюдать за этими двумя субъектами, честно говоря, уже порядком надоело. Пойду я вообще прогуляюсь среди присутствующей публики. Посмотрю, послушаю. Чем — вообще — дышит сей контингент. Иду и слушаю. Там и сям, везде, всюду слышится разное. Кто о чём. Настойчивое какое-то — безумное! — поветрие стяжательства и необузданной наживы. И ведь главное: хвастаются друг перед другом!
Вот тут поблизости дамы ведут беседу о: блузочках, шпильках, бретельках, каких-то «красненьких бюстиках», шикарных итальянских комбридесах, французском парфюме и так же о другой мелкой галантерее или прочем довольно-таки дорогом имуществе — аналогичном этому.
Другие, собравшись рядом в кучку, оживлённо болтали о каких-то (по их словам) неимоверно вкусных деликатесах и так смачно расписывали свои впечатления при дегустации, что скажу как на духу. Я был несколько излишне поражён их умением: пересказом сводить с ума внемлющих, что даже колкая ревность как вполне (по собственному мнению) искушённого литератора исподтишка цепляла меня за живое.
Разговоры мужчин не особо отличались духовностью от пересудов женщин. Впрочем, если только масштабом и выбором вещей. Очень часто можно было услышать такие восклицания: «…А я вчера своей подарил…» или «…Моя намедни выклянчила…». И затем перечисление: «брюлики», золотую брошь, соболью шубку, норковое манто и т. д. и т. п. Запросы мужчин в значительной степени дешевле. Тут и золотые печатки, и заказные цепочки, а так же всякие удочки, часы, запонки… и другая «дребедень». Однако, всё, что касается тачек — это свято!
— …Народ?! — вдруг прорезал воздух громкий выговор сразу видно хорошо поддавшего человека, — да для меня лично этот сброд был всегда необходим-то только как движущая сила для начального толчка в собственной карьере. А потом он стал для меня костью в глотке — только обузой! И всё. Конечно, поначалу приходилось перед ним: сюсюкать, лялякать, фамильярничать, то есть нередко мурлыкать ему всякие дифирамбы, чирикать витиевато-красивые речи… Тупо доказывать ему свою безупречность. Наконец обещать ему неимоверные приятности. Ну а как же без этого-то?.. — говоривший это был человек: среднего роста мужчина, плотного телосложения (но не толстый) с красивым холёным лицом, брюнет, с голубыми выразительными глазами явно пользующийся широким интересом и популярностью у женщин. Он был молод и великолепен. Говорят: он семь лет занимался в карате. В большей степени подкупали в его внешности — видимо врождённые — чисто только наружные признаки культурного и крайне честного человека. Мало того внешность его как-то даже как будто исступлённо кричала — я, самый честный! — как в принципе у любого настоящего мошенника. Рядом с ним стояли тоже весьма респектабельные на вид персоны.
Один, выше среднего роста блондин, кареглазый джентльмен с толстенной шеей, на которой сверкала золотая цепь толщиной с палец взрослого человека. Мужчина обладал широкими плечами явно спортсмен-борец и очевидно в прекрасной спортивной форме. Облачённый на нём костюм великолепного пошива изумительно подчёркивал его стройную фигуру атлета. На левой руке обручальное кольцо, а на правой настоятельно «бросалась» издали в глаза неординарная, сразу видно сделанная искусным мастером на заказ — золотая печатка с мордой оскалившегося волка. Человек этот был на вид лет тридцати.
Другой не менее тех двоих оригинален, так же как и говоривший давеча «красавчик»: среднего роста, тоже брюнет, так же достаточно широкоплеч и так же в шикарном костюме. Как говорится снова полный набор всяких золотых побрякушек. Правда в отличие от тех двоих он явно был постарше их, что можно было заметить не только по слегка уже морщинистому лицу, но и по его на аккуратной причёске седине. Тем не менее, сразу видно он был убедительно так же в прекрасной физической форме. Особенно выделялись из общего фона его внешности — его серые и умные глаза.
Все они, судя по их поведению, друг друга очень хорошо знали и эта встреча, и этот разговор происходят явно не впервые. Кареглазый блондин, как ни пытался скрыть от проговорившего только что свою «яркую» тираду мужчины некоторую неприязнь особенно к его последним словам или даже скорее антипатию к нему самому — всё равно тот с лёгкостью разгадал это. Но, не показывая вида напротив, казалось бы, даже нарочно, словно ковыряя гвоздиком своей ядовитости его вероятную ранку души ехидно продолжал, даже несколько забавляясь этим начатую тему. Тут, несомненно, проблёскивали его некие садистские наклонности. Да и, по-видимому, он тоже никого и ничего не боялся и держался очень самоуверенно.
— Ну, вот ты, Волчара, скажи разве ты не хотел бы власти над людишками? Видеть ежедневно, как они перед тобой лебезят. Гнут перед тобой свои спинки — пытаясь всячески тебе угодить; норовят настоятельно сделать ежеминутно тебе приятное. Разве, ты, не наслаждался бы тем, что порой от тебя зависит то или иное обстоятельство для этого сброда? Вячеслав Сергеевич, да я не поверю просто тебе, если, ты, вдруг сейчас мне скажешь что тебе это по фигу!
Вячеслав Сергеевич молчал; ему абсолютно не хотелось сейчас разговаривать на такие темы; мысли его в большей степени в настоящий момент были озабочены другим. Невзирая на то что теперь он может позволить для матушки самые современнейшие дорогостоящие медицинские возможности, может предоставить любое каким бы дорогим оно не было лекарство — всё равно у него никак не получалось сделать так чтобы матушка окончательно выздоровела. Она наоборот — как назло — вдобавок к инфаркту недавно перенесла пусть и относительно лёгкий, но всё-таки инсульт. А говорят: второй инсульт смертелен.
Голубоглазый брюнет, которого многие тут почтительно величали Кириллом Антоновичем, повернулся к столу находящемуся у него за спиной и налил себе новую рюмку коньяка. Нарочито поддельно — даже рисовано! — вполоборота манерно обернувшись с хмельной и несколько язвительной ухмылочкой уже прекрасно зная заранее ответ явно строя из себя невероятно величественную персону спросил:
— Господа, может всё-таки по рюмашечке? — и не получив никакого ответа, которого собственно вовсе и не ждал — с лёгкостью дирижёра — лишь взмахнув рукой, опрокинул содержимое в свой холёный ротик. А затем, даже не поморщившись, с показушной манерностью взял аккуратно ухоженной кистью руки с обязательно оттопыренным мизинчиком бутерброд с чёрной икрой и так же вычурно пикантно принялся его поедать. Он прекрасно знал, что они не употребляют ни крепких, ни мало крепких алкогольных напитков вообще.
Смотря на него, Вячеславу Сергеевичу почему-то вдруг стало как-то намного гаже на душе; он не считал себя хорошим или плохим; он думал о себе как о таком, каким он и был, а сейчас он был по собственным рассуждениям — душегубом. Но он считал, что он — это всё-таки только он — а он же слыл бандитом и исполнял по сути своей — злодейскую роль и никаких красивых иллюзий у него по поводу себя никогда не возникало. Он твёрдо знал, что никогда не полезет во власть и считал, что это было бы с его стороны уж слишком омерзительно. И когда он смотрел на таких вот людей как этот Кирилл Антонович — зама главы администрации города — рисующихся частенько принародно добренькими, благородными и честненькими — ему становилось всегда как-то уж на редкость не по себе. Не то чтобы он боялся или как-то ещё опасался, что ли этих людей — просто с такими людьми он вообще не хотел иметь никаких общих дел. По сути — людей — не имеющих в принципе: ни родины, ни флага и считающих что родина там, где они повесят свою шляпу. А скорее может быть даже вообще не имеющих никаких принципов! Кроме, пожалуй, одного: самого себя и абсолютного достатка для себя. Что было самым диким! Таких людей как Кирилл Антонович, что в депутатских рядах, что в государственном аппарате среди так называемых «чинуш» — было подавляющее большинство.
Он видел в жизни всяких людей и всегда их по-своему оценивал. Вячеслав наблюдал мир глазами себя, когда он был мальчишкой и смотрел по телевизору мультфильм «Маугли», но воспринимая теперь это же, как нынешний сам, проводя лишь идентичную аналогию. В дебрях жизненного пути встречались ему и хитренькие трусливые шакалы, и благородные волки, мудрые Каа, могучие властолюбивые Шерханы и всякие другие персонажи.
А он опять не знает, что ему делать? Бывшей жене, хоть та по-прежнему его воспринимает достаточно холодно, да и они уже несколько лет как разведены (ладно! зато больше не ершится по поводу дочери — а это для него верх желаний) недавно подарил пусть немного подержанный, но всё-таки «Фольксваген». Нашёл через хороших знакомых пусть не особо денежную, но и совсем непыльную с перспективами работу. Нина не собиралась вроде бы искать нового мужа, а жила одной только дочерью. Про случайных мужчин она ему не рассказывала, а он никогда и не спрашивал. Дочку Вячеслав пристроил в самый лучший детский сад, но скоро она пойдёт в школу — и тут у него есть уже нужные «подкрутки». Так что у них-то — всё будет в полном ажуре. И хотя бы только это его успокаивало. Вот разве ж только что матушка?
Тем временем сходка рассасывалась. Помаленьку, то там, то сям — люди начинали расходиться. Кто-то доводил шибко пьяного «гуляку» до автомобиля и терпеливо или грязно матерясь, усаживал туда; кто-то сам в одиночку преодолевал определённое расстояние в раскачку до ожидающего его транспорта, где терпеливые «водилы» уже ожидали таковых с распростёртыми нараспашку дверцами и те — туда молча плюхались с довольными физиономиями. Один весьма развеселившийся толстячок в окружении двух молоденьких и смазливеньких дамочек, громко гогоча и отпуская плоские шуточки, так же направился к своему роскошному во все времена «Мерседесу». По дороге он — то и дело их лапал за сиськи и периодически обнимая, лобызал, чем опять же очень радовался и вероятно несколько самоудовлетворялся. Те — в голос ему тоже хихикали и порой отчаянно терпели его некоторые чересчур неосторожные выходки, а иногда даже скрытно злились, морща свои прелестные носики и закатывая глазки, но, открыто не выказывая своего неудовольствия.
Вот, в конце концов, и всё. Немного напоследок повиляв задом как бы прощаясь, уехала последняя тачка, а на поляне осталась только та же самая шестёрка энергичных молодых людей. Прислуга, которая уже торопилась: скоренько прибрать разбросанный кругом мусор, погрузить в полуприцеп грузовика привезённую сюда с утра всякую утварь и т. д. и т. п.
Седьмая глава: жуткая история
После того как вся эта теперь уже шумная компания соизволила удалиться Татьяна Ивановна — как я давеча подметил — не выдержав тяжести столь мощного психологического напряжения которое на неё вдруг навалилось, разрыдалась. Разрыдалась навзрыд, ибо никогда ещё в своей жизни не сталкивалась с таким хамством. Её женское начало: никак не могло смириться с подобным этому к её собственной персоне обращением. Не было у неё ни капельки никакой там излишней гордости или амбиций каких-то там всяческих, а просто всё, что произошло в этот день с ней — ей представлялось теперь — необычайно возмутительным и настолько оскорбительным, что даже вспоминать-то произошедшее было как-то уж очень неприятно. И поплакав для порядка с четверть часика, она по сути дела тем временем непросто плакала и успокаивалась, а ещё пусть и хаотично, но всё-таки старательно обдумывала эпизод этой острой ситуации. И наконец, решив, что переживать-то собственно одной ей нечего, а потому ультимативно набрала номер телефона, и периодически всхлипывая носом, прижала к уху трубку, обострив своё внимание на длинных гудках в ней замерла. Вскоре там раздался щелчок, а затем грубый бас сообщил, что он якобы у телефона и при всём притом: «весь — внимание».
Через десять минут, дав некоторые распоряжения по поводу своего кабинета, то есть уборки в нём она уже мчалась в своём персональном автомобиле к Пётру Николаевичу. Опять водитель как включённое радио чего-то очень оживлённо рассказывал (он, судя по всему, ничего и не знал о случившемся). Опять он эмоционально жестикулировал руками при весьма умелом управлении автомобилем и снова Татьяна Ивановна его абсолютно не слушала. Впрочем, где-то подсознательно у неё мелькнула такая шальная мысль в связи с испытанными волнениями типа: «Опять, этот идиот чего-то там заливает», но и не более. Как ни странно, но она уже больше не тряслась всем телом от случившегося давеча — будто бы немного переболела. Хотя в теле ещё оставался некий несколько отдалённый озноб. Волнение у неё пропадало по мере передачи общей информации Пётру Николаевичу по телефону и улетучилось почти совсем. С поставленной точкой в разговоре она поставила точку и на своих об этом происшествии серьёзных переживаниях, как бы передав их по эстафете. По сути дела правильно рассудив: «Я своё отпереживала — пусть теперь попереживают другие». И то верно!
Приехав и потом, уже войдя в роскошный кабинет в четырёх комнатной квартире Пётра Николаевича (маленького толстячка) с огромными залысинами на голове и чрезвычайно шустрыми губками при разговоре она совсем как бы успокоилась. Притом сразу же было собралась, перейти к более подробному отчёту — ещё не окончательно свыкнувшись со своею новой ролью начальницы и как бы всё-таки ни совсем справившись с некогда бывшей своей подчинённостью — с лёту рассказывая эту историю. Но, несмотря на то, что она сходу повела своё сбивчивое повествование Пётр Николаевич вроде как бы слушая её, усадил её в кресло, никак не перебивая, но когда она уселась в кресло и волей-неволей остановила на мгновенье своё словоизвержение чтобы перевести дух он вдруг с широкой улыбкой на губах пропел ей совсем вроде бы как-то ни кстати:
— Чай?.. Кофе, дорогая Танечка? — вопрос его совершенно не относился к делу, так что она даже как-то поначалу растерялась вроде типа того, — «какой тут чай! кофе! Когда там уже Зимний дворец берут без нас!». И её понять сейчас, конечно же, можно было потому, как она только-только прибыла, если можно так выразиться с «поля боя». И в её душе ещё не угас ни пыл, ни ажиотаж и даже в ней ещё в некоторой степени кипели кое-какие совсем там неподдельные переживания, поэтому щекотливому вопросу, а тут: «кофе, чай… Может ещё отобедать предложат?!». Однако было явно видно, что пока он не услышит конкретного утвердительного или другого какого-либо вообще ответа на свой вопрос он так и будет её неутомимо несколько отрешённо созерцать, то есть, как бы взглядом говоря: «Успокойтесь и отвечайте на поставленный вопрос». Поэтому она невольно извинилась и несколько даже кроме того смутившись проговорила с оправдывающейся интонацией:
— Простите, давайте то, что у вас уже есть готовое мне всё равно…
Услышав это, он энергично кивнул и вихрем, что совершенно казалось несовместимым с его плотной, хотя и невысокой фигурой моментально удалился в кухню. Видимо, у него не было ничего уже готовым и ему только вот сейчас, пришла в голову такая замечательная идея как угостить чем-нибудь Татьяну Ивановну, сделав ей этим — приятное. Теперь я думаю пока он там чем-то своим занят, а Татьяна Ивановна устремив свой усталый взгляд в пол находится в состоянии глубокой задумчивости не будет ничего лишним если я воспользовавшись моментом соизволю просветить уважаемого читателя по поводу того же Пётра Николаевича. А Пётр Николаевич между тем при всей своей внешней обыкновенности и даже посредственности наоборот был человеком весьма так сказать незаурядным и отнюдь непростым как может показаться на первый взгляд.
Во-первых, хоть он и бывший функционер, но в отличие от некоторых бывших товарищей, которые как крысы спешно покидали корабль перед предстоящей его гибелью. То есть если быть более точным или выражаясь конкретнее — он коммунист. Причём истинный и верный в правильном смысле этих слов. А не тот, который узнав, что оказывается его бедного, обманывали всё это время и он теперь ни в коем случае уже не хочет в дальнейшем пачкать и даже ставить как-то рядом своё доброе имя с этим «прообразом человеческого безобразия». Можно подумать что этого «несчастного» когда-то тогда — раньше — когда он только вступал в коммунистическую партию, кто-то принуждал к этому. В компартию хоть и старались, безусловно, принимать достойных, но частенько получалось — впрочем, как всегда! Ибо лезли туда опять в первую очередь всякие рвачи и карьеристы — и выходило, что удостаивали снова зачастую кого ни попадя.
Во-вторых, он был не только интеллигентного внешнего вида, но был и по сути своей действительно интеллигентным человеком. Кроме того, был достаточно образованным и с практической точки зрения разбирался во многих вопросах жизни не понаслышке. Несомненно, мог считаться серьёзно начитанным мужем; чрезвычайно к тому же наделённым богатым жизненным опытом. Хотя он, как и все другие верил в светлое будущее и верит в него даже сейчас, но видя — что тогда что теперь — гнилую сущность некоторых людишек, поэтому поводу всегда искренне переживал. Вообще с годами к нему пришёл и философский подход к жизни, но он всё равно — чего бы ему ни устраивала судьба-злодейка — продолжал верить в гуманную чистоту души и всегда считал, что добродетель человеческая рано или поздно победит. И неважно, под каким флагом: красным или серо-буро-козявчатым.
В своё время, когда началась вся эта катавасия с перестройкой он, конечно же, как честный человек был только — за! — двумя руками. Но опять-таки по опыту своему уже серьёзно опасаясь всякой спешки в этом чересчур деликатном и очень важном вопросе боялся, что обязательно снова: чисто по-русски в правительстве непременно наделают множество поспешных (обычно уже необратимых) действий что собственно, в конце концов, и в самом деле случилось.
Поэтому когда произошла та чехарда с Гэкачепистами, он с открытой душой поддержал их. Даже надеялся, что вот теперь-то вероятно что-то разумное в этом роде обязательно и получится. То есть как-нибудь всё-таки удастся избежать всех этих глупых и опасных государственных ошибок, которые он заранее предвидел. Ведь даже дураку понятно, что не произошло великого краха и абсолютного падения страны в пропасть жуткого хаоса и наконец, той полной гибели её — как вообще какой-то ни есть страны — исключительно только из-за народа. Да русского народа! И непонятно по каким ещё другим критериям и неимоверным обстоятельствам не произошло распада великой державы. А впоследствии и полного разграбления её другими как они себя зачастую считают — цивилизованными странами, которые давно уже Россию рассматривают как некий сырьевой придаток; причём каждая страна именно своим.
— А вот и кофе! — пропел, занося поднос, Пётр Николаевич своим красивым басом который, несмотря на его низковатый рост прекрасно сочетался с ним:
— Вот теперь-то мы, пожалуй, и обсудим сегодняшнее предложение наших… товарищей (он сначала хотел сказать бандитов, но умышленно не сказал). Хотя лучше сразу скажу, тут, и обсуждать-то нечего. Надо соглашаться с товарищами, — продолжал он, тем временем расставляя чашечки с кофе и другие приборы. А затем, усевшись в кресло, напротив певуче добавил, — Да что там! надо соглашаться, милая Танечка. Скорее даже жизненно необходима нам — их защита! Завтра другие придут, послезавтра третьи… и нам так сказать никак, этого не избежать — хотим мы этого или не хотим… в конце концов. А вы что думаете, добрая моя фея? — и он с сердечностью уставился на неё в ожидании ответа.
— Я?.. Я не знаю, давайте я сначала поподробнее наверно расскажу, что же всё-таки… и главное — как! всё это произошло…
— Ну что ж если вы так настаиваете то, пожалуй, я с глубочайшим вниманием вас выслушаю, но предупрежу сразу, я всё это в какой-то степени уже себе представляю. Можно смело сказать, что ничего нового вы мне даже не сообщите, а вот я напротив после вашего рассказа — обещаю! в свою очередь вам, дорогая Танечка, тоже рассказать одну быль-небылицу. Хорошо?.. Ну что ж я готов выслушать вас. Я весь внимание!
Слушая её рассказ, он сначала в некоторых местах иронично улыбался. Иногда его лицо приобретало возмущённый или даже порой грозный вид, но ни в коем случае не выказывало какого-либо пренебрежения, а тем более неуважения к событиям или её поведению в тот или иной момент. Пётр Николаевич внешне был вообще натурален. Он просто слушал её — и всё. Когда же Татьяна Ивановна закончила своё повествование, он глядел на неё с каким-то уже даже восхищением и сочувственно (без всякой актёрской игры) покачивал головой, крепко сжав губы.
— Да милая моя девочка понатерпелись, однако ж, вы… бедная деточка… — а так как она по возрасту где-то действительно годилась ему в дочки, то это не прозвучало с его стороны как какое-нибудь издевательство над её амбициями, а он тем временем продолжал, — что же сказать… Во-первых, успокойтесь теперь. Считайте, что это всего лишь вам приснился такой маленький кошмарик… Завтра идите смело на работу и ничего не бойтесь. Я всё улажу с другими нашими товарищами… А вы, когда они пожалуют: дадите им наше полное согласие. Все вопросы с нашими соучредителями я улажу сам, не волнуйтесь. Это уже мои проблемы. А вы отдыхайте… Кстати хотите посмотреть какое-нибудь зарубежное кино по «видику» или может у вас есть свой видеомагнитофон?.. Тогда я могу дать вам кассеточку и не одну: у меня, кстати, широчайший выбор… Хотя, что я говорю! Вы домой, наверное, торопитесь…
— Пётр Николаевич! Вы мне кое-что обещали… — чуть плутовато улыбаясь (ей не хватало только выставить журящий пальчик) проворковала Татьяна, совершенно уже успокоившись.
— Не понимаю…
— Вы обещали, рассказать мне какую-то быль-небылицу. Уже забыли?
— О, помилуйте меня моя милая барышня. Вы и так сегодня столько понатерпелись, а я вам ещё тут буду такие страсти-мордасти на ночь глядя рассказывать. Вы что же меня совсем, моя деточка, за злодея держите. Нет! Это уж как-нибудь в следующий раз… Увольте!
— Пётр Николаевич! Не-е-е-е-т… Вы обещали, так и рассказывайте. Иначе я от вас… ну никак не отстану.
— Ну, хорошо-хорошо!.. — всё-таки нехотя согласился Пётр Николаевич, указывая ей на кресло, ибо они уже было встали и даже вроде как направились в сторону выхода. Молодая женщина с удовольствием плюхнулась обратно в кресло и, приняв удобную позу, приготовилась слушать. Пётр Николаевич, сначала виновато улыбнулся, но при этом отрешённо покачивая головой из стороны в сторону как бы говоря своим видом: «Эх, не надо бы — да ладно!» — вновь занял прежнее своё место в кресле:
— Видит небо, я не хотел уже вам теперь этого рассказывать. И даже уже раскаиваюсь, что пообещал вам, но да ладно… Эту историю мне ещё позавчера рассказал один мой давний товарищ. Многое мы с ним прошли вместе. Росли, заканчивали в школе мы тогда пятый год… когда потом война. Потом ещё бы доучиваться после победы — но где там! Кушать было нечего… разруха… полная разруха… Может всё-таки не надо?.. — и он умоляюще посмотрел на Таню, но та — категорически запротестовала и он продолжил. Сначала у него получалось как-то немного нескладно. Как будто он с трудом находил слова, но постепенно как бы набирая обороты — всё быстрей и быстрей — всё легче находя нужные вовремя слова, повёл свою историю:
— Когда началась перестройка Антон Валентинович, на тот период времени как раз уже был директором крупного машиностроительного завода нашего города. Ну, вы наверняка догадываетесь которого именно — тем более он один у нас. Да-да! именно этого завода… Сейчас он уже и называется-то по-другому, и статус имеет другой, да и множество других все различных изменений произошло. Стоит ли сейчас на этом заострять своё внимание: этот завод теперь — акционерное общество закрытого типа. Не буду вдаваться в административные тонкости, а перейду непосредственно к конкретным событиям. Антон Валентинович теперь уже не столько директор этого завода — как владелец основного пакета акций, то есть соучредитель. (Как и вы!) Но вы сами, наверное, догадываетесь для чего я, это вам сейчас рассказываю…
Так вот, одним прекрасным днём — в кавычках конечно — к нему так сказать заявился один посетитель. Это так сначала показалось, что он пришёл как обыкновенный посетитель. Довольно респектабельный — спортивного внешнего вида молодой человек. Но тут присутствуют некоторые весьма странные обстоятельства: во-первых, почему-то одетый в спортивный костюм (как и вы, только что рассказывали). Нет, я прекрасно понимаю, как и мой товарищ, что это естественно в настоящий момент: модно, красиво… Но, в конце-то концов, всему должен быть предел. И если человек нашёл деньги на такой костюм, который совсем недешёвый — то наверняка у него дома должно быть и настоящее светское для подобных встреч одеяние — то есть костюм и ни в коем случае не спортивный.
Но да ладно — не то всё-таки главное! В чём посетители должны приходить по элементарному этикету на аудиенции. Главное то, что он (тот молодой человек) сразу сделал ему настоятельное предложение. Причём таким своеобразным тоном и образом что вроде как Антону Валентиновичу и не оставляют (кто и что?) даже никакого другого выхода как само собой немедленно согласиться и непременно принять это предложение.
Тут я добавлю, что они только-только как раз обсуждали такой вопрос на всеобщем собрании руководства. Вопрос об организации охраны: как личной, так и производственной. В связи с обнаруживающимися за последнее время проблемами. Всякими, пусть пока ещё хоть и новыми — не особо, в общем-то, распространёнными, но вполне возможными в скором будущем: открытыми захватами-перехватами так называемыми «рейдерскими» неурядицами… Но дело-то как говорится — до самого-то дела — так пока и не дошло. Теперь, ему тем молодым человеком были предложены кое-какие другие условия, условия сразу скажу — не совсем приемлемые, но так или иначе — услуги предложены, дело сделано.
Они опять срочно собрались по этому вопросу. Только теперь уже с более казалось бы конкретными и ускоряющими процесс решениями. Но сами знаете, как у нас порой решаются вопросы на производствах такого масштаба. Охрана-то, она в принципе-то уже была, но что это за охрана была. Вы представление само собой тоже разумеется, уже имеете. Почти пенсионеры: дяденьки да тётеньки — уже давным-давно — дедушки да бабушки…
Но суть опять не в этом. Дело в том, что руководящий персонал вообще не придал всему этому серьёзного значения. Ну, пришёл какой-то так сказать мальчик, ну показал грозящий пальчик, да и всё. Все забыли об этом. У всех — сами понимаете — свои проблемы. Кому сейчас легко? Потом вообще все ходили и даже подшучивать уже начинали над этим происшествием. Вот, мол, молодёжь, дескать, какая шустрая нынче выросла! Палец в рот не клади!.. Да и вообще, даже смеяться в открытую стали над этим… И что же тут такого? Спросите вы. Да! Действительно, некоторое время это походило даже на скверную шутку, но ни несколько дней назад, когда Антона Валентиновича вдруг совершенно неожиданно — средь бела дня! — похитили…
Первое время никто, собственно говоря, и не обратил особого внимания на такую вроде как безделицу… Мало ли чего? Заболел… Решил ли отдохнуть… В конце концов, мало ли какие там семейные вопросы могут возникнуть у такого человека как Антон Валентинович. Он перед нами, дескать, не отсчитывается, да и не обязан вовсе… Потом-то конечно объявился он.
Но мне Антошка лично кое-что рассказал: где был, что с ним делалось. А отвезли его прямо в лес. Причём перед этим так скрутили, что он и пикнуть не успел, как оказался с мешком на голове. Его и связывать-то не стали (типа совсем не боятся). А молчаливые крепкие парни посадили его в машину и повезли неизвестно куда. Он поначалу попытался по дороге даже начать какие-то там вроде права свои качать: так ему так врезали! всего один раз — в печень — от чего он чуть там же не загнулся и минут двадцать вообще ничего не мог проговорить. Дышать говорит, было, нечем, а не то чтобы там чего-то ещё: возмущаться, спрашивать. Серьёзные ребята надо сказать. Всё у них так отлажено: не одного лишнего слова — не одного лишнего действия — всё чётко и конкретно.
Антошка вообще поначалу думал: «мочить» везут — даже с жизнью уже по дороге простился. Ну вот! Говорит, как приехали — его выволокли как вещь какую-то. Мешок сняли с головы и повели лесом куда-то, а уже стемнело, поэтому фонариками подсвечивали. Ну, думаю, говорит — сейчас доведут до нужного места, где там ямка уже приготовленная ждёт его, сердечного, и всё — кранты. (А то ещё может и капать могилку-то себе заставят…)
А ребята какие-то странные молчаливые и сила в них чувствуется какая-то сказочная. Жалко, что убивать ведут, а то бы я даже возгордился бы ими. Такие вот думаю, ребята, да за Русь-то матушку всегда и стояли насмерть. Эх, жалко убивать-то ведут, а то бы и правда от восхищения бы не иначе как заплакал бы, да и только. (Хотя говорит у самого и вправду ужо слёзки закапали.) Куда ведут витязи «богатыри русские»? — и спросить-то боюсь.
Вдруг, вроде остановились. Слышу где-то, кто-то — благим матом орёт — впрямь раздирается! Снова меня повели и… привели прямо на полянку хорошую такую — земляничную. Коли б лето было, а то ж весна: трава вокруг жухлая и только мелкая молоденькая еле-еле пробивается. Да в полумраке не видать особо… Хворост всякий то там, то тут валяется… Дождик видно недавно тока прошёл… Свежо, а воздух-то такой чистый — дыши, не надышишься! — жить аж прямо жуть захотелось.
Потом вижу, человеческая голова на земле стоит и в глазах у неё какое-то вроде удивление. Поначалу, я подумал даже что мёртвая, потом вижу — ан, нет! — живая… Моргает… Отплёвывается там от чего-то. И вдруг как заорёт опять: «…Не дам ничего — не подпишу ничего… Сволочи! Кровопийцы!..» и другое тому подобное. И всё чаще матом… Видно, что человек сильно, очень сильно расстроен. Голова грязная… в крови вся (пытали видимо!). А позади него — человек стоит с косой в руках — уже на изготовке. Я говорит и заметил-то это не сразу… Говорит, я хотел крикнуть ему, да и им тоже всем, мол, стойте! Что вы дескать-то делаете? Вы же убьёте его! Но не успел: тут — раз тот, что с косой-то был прям — вжить! — и покатилась голова-то… У меня ноги-то подкосились… Я уж и не помню точно, говорит, что и орал-то им — что-то типа того: сволочи!.. Мрази!.. Хуже фашистов… А голова-то прямо к ногам его подкатилась и смотрит. Так почему-то удивлённо смотрит. Вроде как на него, но и куда-то вроде бы как-то мимо — куда-то в пустоту. Но всё-таки как будто к нему имеет претензию. И у него сначала хочет — спросить, как будто это он ему голову отрубил… И в тоже время вроде как жалостливо так! — мол, за что это меня убили-то? А он — заглядывает в лицо… а оно бледнеет… синеет в свете фонарей. И кровь уже изо рта вместо упрёков и звуков — тоненькой струйкой стекает… У него говорит, ноги отнялись, не чует их…
А в голове-то мысль так и суетится проклятая: сейчас же и моя очередь подойдёт… Всё — пожил своё… И хватит!.. Эх, жалко внуков… Да и сына с дочкой… Тяжело им без меня-то теперь будет… Сашка последний курс в институте-то не успел закончить, а кто теперь поможет-то ему — ему ж деньги нужны… Да и Настеньке той ещё сложней без меня-то будет с мужем-то алкоголиком. Как пацанят поднимать-то будет? Жена-то Марьюшка… Эх, прощай родимая!.. И мысли-то — так и вертятся — так и вертятся вокруг их родных… Родненьких моих!.. Да, многих в тот короткий момент вспомянул я… Как жил… Сколь добра сделал; сколько зла — всё моментом пролетело — вспомнилось! Сколько сделал; сколько бы ещё нужно было бы сделать… Эх, заборчик на даче не поправил… И понял я, нет, не время — не время ещё! — мне умирать теперь. Нет, не время! Всё сделаю, что попросят… Всё отдам… лишь бы внуков ещё поднять…
Восьмая глава: халтурка
Сегодня Ген-Ник решил, во что бы то ни стало, самым что ни на есть обычным образом съездить в другой конец города, где жил его давний товарищ, с которым связывала его довольно-таки долгое время его давняя преподавательская деятельность. Он смутно помнил чисто визуально, где тот живёт бывший у него дома лет этак пятнадцать назад и то где-то два раза или может быть три — сейчас уж он точно даже этого и не припомнит. Они ещё с Никитой (так его кажись, звали) к нему ездили: первый раз со студентками — такими премиленькими девицами, но жуткими лентяйками третьекурсницами — с которыми они тогда шикарно повеселились. А потом ещё вдвоём чтобы распить там бутылочку водочки под просмотр прямой трансляции чемпионата мира по футболу; а третьего раза он вообще не помнит или помнит, но настолько смутно, что даже сейчас уже сомневается, был ли он вообще?
Для того чтобы совершить свой такой круиз ему пришлось немного «почистить пёрышки». Иначе говоря: простирнуть рубашку и носки заштопать, достать из заначки чистые почти, что новые брюки (ни разу «неодёванные» и как-то по случаю найденные им на помойке). Их даже не совсем-то и выбросили, а так вроде как приладили аккуратненько сложенными. Мол, вот: нате в добрые руки возьмите! Вот он и взял, а что хорошей вещи-то пропадать зря — ан вот и пригодилась! Штиблеты, он уже договорился с Фомичом, возьмёт его. Тоже как-то Фомич по случайности нашёл. Стояли себе так сиротливо и скромненько у одного подъезда девятиэтажного дома. Тоже вот пригодились… так что не всё так плохо. Деньги на дорогу: туда и обратно — тоже приберегли. Нынче в транспорте-то говорят даром уже не проедешь: кондуктора везде, да и злющие невозможно. Давно не пользуясь городским транспортом, они конечно не могли знать, что тогда ещё кондукторов как таковых было на редкость мало, а сам процесс набирал только свои обороты; а слухи? — всего лишь очередная тенденция сгущать краски.
Наконец закончив все свои приготовления Ген-Ник аккуратно с каким-то особым вдохновением начал всё это надевать на себя. Одеваясь в более-менее чистые и новые (коли сам впервые одеваешь!) «шмотки» — как бы одеваешь на себя вновь человеческий облик. И душа как-то радуется — поёт! И это торжество передаётся другим и овладевает и захватывает, так что на какие-то мгновения забываются многие лета невзгод и дискомфорта. Так и сейчас, так и до сих пор не ушедший ещё восвояси Николаша, да и тот же Фомич смотрели на преобразившегося Ген-Ника с некоторым восторгом. Как будто впервые увидели, а он оказывается даже человек и ничего себе — вполне симпатичный и культурный человек!
Спустя где-то час, теперь уже Геннадий Николаевич ехал в троллейбусе. Садиться на свободное место он не стал, боялся помять брюки, на которых были стрелки пусть не такие уж — что «бриться можно», но всё-таки. С какой-то внутренней гордостью он ехал стоя и смотрел в окно. Видя боковым зрением, что люди совсем на него не обращают никакого внимания или если и обращают, то без каких-либо косых взглядов. Смотрят, как на обычного пассажира и это лишний раз приятно трогало его соскучившуюся душу по человеческой жизни. Эх! возвратить бы те же пятнадцать лет назад… Тогда он ещё даже не был и профессором-то… Как бы тогда многое можно было бы изменить и далеко не меньшего избежать. К тому же, наконец, не совершить всех тех глупых поступков, которые привели его в нынешнее — его состояние в образе бомжа. Бросил бы он пить! Сошёлся бы с какой-нибудь доброй женщиной и жил бы, не тужил… Тут вдруг ему вспомнилась его первая жена. Она умерла при родах вместе с малышом — мальчиком. Внезапно нахлынула жуткая тоска, и сдавило спазмом горло. Чего бы он только не отдал, в сей миг и только лишь ради того: чтобы его добрая и ласковая Лизанька вновь появилась бы сейчас здесь. Появилась бы — вот только тут же перед ним! — вместе с малышом на руках с Андрюшенькой и, казалось бы, тогда всё — совершенно всё — можно было бы наладить. И он отвернулся, уткнувшись лицом в стекло, чтобы другие пассажиры не увидели, как он плакал. Слёзы катились как нарочно предательски по щекам — обжигая их. Давненько, ничего подобного он уже не испытывал; он даже забыл когда последний раз плакал — и тут же вспомнил… Он плакал, когда хоронил Лизаньку и Андрюшеньку…
Он старался изо всех сил, поменять ход своих мыслей, думать о чём-нибудь другом, о чём-нибудь весёлом. Он всячески силился, но почему-то именно сейчас никак ему не удавалось совладать с собой. Почему-то в голову лезло только всё ужасное, неприятное и гадкое… Он, даже задался таким вопросом, а было ли вообще у него когда-нибудь чего-нибудь хорошего? Должно быть было… Непременно… Непременно!..
И тут его память начала старательно листать его страницы жизни в поисках чего-то яркого и доброго, но в голову залазило почему-то только заплутавшееся когда-то, а теперь вдруг отыскавшееся где-то в её отдалённых уголках как бы новое видение — видение его второй жены… И опять! жгучей болью полоснуло, будто лезвием по оголённому сердцу. Да не может же быть так, что ему дважды не повезло. Но именно так и получилось; именно так и произошло. Сколько раз Геннадий Николаевич думал над этим. Неужели чтобы прийти к таким воспоминаниям — несущим ему — эту невыносимую боль нужно обрести просто на просто снова человеческий облик. И напротив, чтобы забыть и никогда больше не страдать от этого, достаточно лишь потерять его. Почему он такой к несчастный?! Одинокий…
Почему первая жена умерла, а вторая бросила его в самый такой острый судьбоносный момент. После чего он не мог на протяжении долгого времени оправиться — и вновь начать жить. Жить как все, семьёй и любимой работой, которые он потерял и потерял как-то подсознательно, толкая себя к этому почти умышленно. Вроде как невидимая рука сурового рока вела его предопределённой дорогой. Он только сейчас вспомнил что даже эти риэлторы — жулики! — и то встретились-то ему по закономерной случайности. Повстречались-то так, что нельзя сказать — случайно. Да и вообще, многое происходило в его жизни так: чтобы дать ему понять и, в конце концов, объяснить, объяснить настолько внятно и явственно, что даже теперь никак этого в воспоминаниях своих Геннадий Николаевич не мог совершенно опровергнуть. Рука проведения ему казалось, даже и сейчас его вела, вела куда-то неотвратимо и настойчиво.
Тем временем троллейбус, наконец, докатился до нужной остановки. Именно так — докатился, потому что уж слишком незаметным оказался этот отрезок прошедшего времени, который он провёл в своих воспоминаниях. Только что — он вроде бы как зашёл в троллейбус — только что, вроде бы троллейбус тронулся, набрал скорость… и вот уже надо было выходить из него. Он вышел из троллейбуса и чисто по наитию, двинулся влево от остановки, минуя микрорынок и проходя между двух пятиэтажек «хрущёвок». Геннадий Николаевич с лёгкостью почувствовал, что идёт верным путём. Тут — так ничего и не изменилось. Кроме того что появилось множество всяких разношёрстных щитов, пёстрых транспарантов, вывесок, да и вообще все магазины, в общем-то, сильно преобразились в этой яркой рекламной мишуре — завлекающей клиентов. Товаров было великое множество, а вот людей у которых были деньги для приобретения их: раз, два… и обчёлся.
Пройдя мимо сидящих на лавочке у входа в подъезд двух тётушек, которые почему-то всегда по обыкновению своему, обязательно присутствуют здесь со своими беседами несмотря ни на какое время дня. Он вошёл в дом и, поднявшись на четвёртый этаж, тут же позвонил, как будто это проделывал лишь только ещё вчера. Прождав несколько секунд и не услышав никаких признаков жизни за дверью, которая, кстати, тоже совершенно с тех пор не изменилась, он позвонил снова, но уже более настойчиво и уверенно.
Неожиданно за его спиной загремел открывающийся замок, а потом тут же открылась и сама дверь позади него и оттуда выглянула пожилая женщина. Рачительно оглядев его с ног до головы, она вдруг с душевным участием спросила:
— Вы к Никите молодой человек?
Хоть и вопрос её, его немножко удивил (почему, мол, молодой человек?) он — всё равно поспешил ответить утвердительно:
— Да.
Женщина, сначала как-то странно помявшись все-таки, наконец, пролепетала:
— Простите, голубчик, а разве вы не знаете, что он уж как три года умер? Пил-пил бедняжка, а как Настасья-то ушла от него… так и… — она ещё чего-то хотела добавить, но он уже её не слушал. Он — как быстро пришёл, так же быстро теперь уходил, шагая порой через ступеньку. Выйдя на улицу где, по-прежнему не обращая наималейшего внимания на него, оживлённо болтая, сидели — ясное дело — всё те же тётушки Геннадий Николаевич прошёл с удручённым видом мимо них. Он расстроился, но не столько почему-то смертью старого приятеля, сколько напрасной тратой времени. Теперь он, с усилием сделав два коротких выдоха, попытался расслабиться. Перестав торопиться, он подумал: «а, правда, куда мне, собственно говоря, вообще торопиться-то?». И сам он побрёл медленно по улице, куда глаза глядели, а глаза его глядели именно туда, куда или чего — и хотела его душа. А душа его просила почему-то непременно выпить. Внезапно, на него навалилась такая тоска, что не хватало совершенно никаких сил, перетерпеть её. Чисто интуитивно у входа в магазин он увидел — сидящего на бордюре невзрачно или даже грязно одетого мужчину. Невольно почувствовав в нём такого же бедолагу, как и он сам направился к нему. Он не ошибся, это был именно тот человек, который ему сейчас и был нужен, то есть возможный собутыльник.
— Здорово, братан! — панибратски обратился к нему Геннадий Николаевич. Тот поначалу с сомнением посмотрел на него, даже несколько привстал вроде бы чего-то, опасаясь и ничего не сказал, а просто как бы ни совсем понимая чего от него хотят, уставился на Геннадия Николаевича по-своему как бы тоже в свою очередь, спрашивая — мол, тебе чего, мужик?
— Братан, ты выпить хочешь? — с заранее извиняющейся улыбкой спросил Ген-Ник и, не дождавшись ответа, добавил, — если у тебя, конечно, найдётся хоть чуть-чуть тоже денег, да и если ты знаешь какую-нибудь тут дешёвую точку… У меня у самого денег-то только на чекушку.
Тот ещё раз, но уже гораздо внимательней и придирчивей оглядел его, несколько этим успокоившись, и наконец, всё-таки чего-то там у себя в голове сообразив, протянул ему для рукопожатия руку и немного заикаясь, проговорил:
— В-вова…
Они пожали друг другу руки. Ген-Ник тоже представился и тот кивнул ему головой в сторону — типа того: чего, мол, трепаться пошли. И они пошли.
— Послушай, Вов, ты случайно не знал такого — тут Никита жил — кореш мой?
— Ч-чего ж не знать-то, к-конечно, знал… А что?
— Да я вот к нему ехал, а приехал… соседка его сказала, что помер он.
— Д-да; хороший м-мужик был… царствия ему небесного… — тут Вова перекрестился, — а я ведь х-хорошо его знал-то. Мы же ещё со школы д-дружили: с пиждюков… дрались пацанами, бывало… Он мне один раз так рожу р-расквасил! хе-хе-хе. Я п-полмесяца дорогу себе освещал ф-фонарём… Да п-потом ещё вместе в институте студ-дентили… Эх! вернуть бы времечко…
Тут, они подошли к двухэтажному дому «сталинского образца» и Вова, протянув ладонь пробурчал:
— Д-давай, чё там у тя есть?.. п-пришли… Вон там, у забора ж-жди…
Ген-Ник высыпал оставшуюся мелочь тому в его ладонь, а сам молча двинулся к указанному месту и там присел на лавочку. Это был небольшой дворик. Рядом с домом стояли чуть поодаль деревянные сараи — целая галерея и вот как раз это-то пространство между домом и ними и составляло тот дворик. Висело на верёвке постиранное постельное бельё. Бегала одинокая рыжая дворняжка; на высоком заборе дремала чёрная кошка, а так же двое мальчуганов шести-семи лет сосредоточенно с чем-то ковырялись у другого подъезда. Дворняга, сильно была обеспокоена присутствием кошки на заборе. Она всячески пыталась привлечь к себе её внимание и тявкала на неё и подпрыгивала с разбегу на забор, опираясь на него передними лапами. В общем, чего только она ни делала, но та — упорно её игнорировала. Собачке, было видимо ужасно обидно. Она, даже поскуливая, подбегала к ногам Ген-Ника и как бы, то ли жалуясь ему, а то ли может просто просила его — как-нибудь посодействовать ей. Такой спокойный обычный дворик, как и всякие другие подобные этому.
Наконец появился Вова с синим пакетом в руках. Он как-то слегка озабоченный вышел из подъезда. Но кроме этой еле уловимой озабоченности ещё в нём проскользнула, кстати, хоть и гораздо менее выражено, но явная что ли какая-то торжественность или даже гордость за что-то… Что видимо известно было только ему одному. Ген-Ник и увидел-то сразу эту озабоченность лишь потому, что ожидал почему-то, скорее всего снова какого-нибудь очередного подвоха от судьбы, нежели положительного проистечения текущих событий. Так или иначе, но тот теперь уже с самым обычным выражением радости на лице подбежал к нему и сообщил:
— Фу! н-ништяк… п-пошли тут местечко есть хорошее… — и тут же не останавливаясь вдруг проскользнув мимо, засеменил дальше, взглядом как бы приглашая его за собой. Ген-Ник не задавая лишних вопросов, тут же послушно последовал за ним. Вова на ходу начал объяснять ему ситуацию — говоря больше сам с собой:
— Н-надо же поверила!.. В долг л-литр налила… И закусона н-навалила… так что ж-живём, щас оттопыримся по полной п-программе. Тут у меня корешок есть… так мы к нему… — то ли спрашивая, а то ли утверждая, закончил он. Через несколько минут они уже шли вдоль улицы частных домов. Такой вид города был достаточно привычен Ген-Нику по его «собственному» району, в котором он уже отирался последних пару лет как бездомный. Вова, внезапно остановившись и сунув ему набитый чем-то пакет пробурчал:
— Жди! Я щ-ща…
Сам почему-то затравленно или даже пристыженно подбежал к одноэтажному домику внешне неказисто-мрачному и хлипкому хоть и кирпичному — с ветхой крышей чем-то похожим на «доброе» жилище Фомича. Три раза выразительно стукнул в окно, но, не дожидаясь ответа или того что хозяин выглянет оттуда Вова махнув Ген-Нику рукой в знак «следуй за мной!» — дёрнул за ручку двери — открыл её и пропуская его вперёд вновь проговорил, но почему-то тотчас шёпотом:
— Хозяин б-больной… цирроз… валяется целыми днями — в-входи… не стесняйся.
И они прошли дальше. Зайдя в первую комнату Ген-Ник, сразу обратил внимание на то, что и здесь, как и в прихожей были очень низкие потолки, поэтому ему волей-неволей приходилось голову немного наклонять: либо вперёд, либо вбок — на своё усмотрение. В комнатах была вообще какая-то жуткая затхлость, заброшенность — а то ли запылённость… или всё вместе одновременно. Невольно создавалось впечатление, что хозяева если и были, то всё равно уже давно наверняка умерли. Другого впечатления это помещение никак не могло произвести. Во всём этом домишке чувствовалась какая-то «холодность» или что ли — «ознобленность» какая-то, которая обычно бывает в моргах. Оторвав свой взор от мрачных стен, грязного потолка, запаутиненных дремучих углов и мельком осмотренной мебели: стола, пару стульев и широкого дивана (на который он вряд ли бы осмелился присесть, а уж тем более прилечь, опасаясь вероятных «бельевых вшей» с которыми ему уже приходилось как-то сталкиваться по воле своей бродяжьей жизни, а ещё раз — да не приведи Господь!) Ген-Ник себя чувствовал очень неуютно. Хотя ну никак нельзя сказать, что был когда-нибудь излишне избалован по жизни эксклюзивными и исключительно комфортабельными жилищными условиями.
Первый вопрос, возникший у него(!) в мозгу был такой: «неужели — здесь! — ещё кто-то живёт?» Тем временем Вова уже кого-то там: то ли будил, то ли тормошил, пытаясь — либо вообще оживить, либо хотя бы привести в какие-то чувства. Всё это происходило в каком-то закутке, вернее маленькой спаленке за крайне тонкой перегородкой, где видимо и находился в постоянном возлежании больной. Через некоторое время, всё-таки добившись своего, Вова радостный вернулся в зал и начал всё содержимое пакета торопливо выкладывать на стол. Там оказались: завёрнутые в чистую бумагу и внушающее полное доверие к себе две отменные жирные селёдки, наскоро порезанный более-менее кусками белый хлеб, «цивильно» очищенные стручки зелёного лука и литровая бутылка так необходимой… До трепетной необходимости!.. Той прозрачной как слёзы младенца «водярой». Уже подшустрив — Вова достал откуда-то из загашника три стеклянных гранёных стаканчика. И те — теперь культурно и к тому же важно занимая свой пост, уже ожидали использования их по прямому своему назначению. Ген-Ник тоже терпеливо ожидал, пока Вова хозяйничал на столе: шинковал селёдку и разливал по стаканам «водяру»…
— Вов!.. Подь сюды… — раздался вдруг хриплый голос обитателя спаленки или всего этого «царства»; Вовчик суетливо «метнулся» на зов: некоторое время слышалось шушуканье и вот он с обиженным или несколько смущённым видом вернулся к столу. Сделал наскоро бутерброд и осторожно взял стаканчик с алкоголем. Он, безрадостно морщась со всем этим в обеих руках, снова так же суетливо отправился к больному. Слышно было, как тот упрекнул Вовчика что он, дескать, совсем ни к чему принёс бутерброд. Потом — звуки поглощения смачными глотками жидкости и наконец, Вовчик с видом успешно выполнившего задание бойскаута вновь появился в зале.
— Ну, теперь и наша п-пришла очередь в-выпить! — и он взял «соскучившийся» стаканчик в руки. Причём сразу было видно, что ему самому уже давно не терпелось побыстрее совершить подобный поступок. И он нервно указал жестом на соответствующее действие со стороны Ген-Ника, на что тот мгновенно и правильно отреагировал… Они тут же чокнулись и под общее «бум здрава!» каждый чисто по-своему исполнил с чувством и расстановкой простой древнерусский ритуал пития. Ген-Ник несколько скованно до этого сидевший на стуле (опасаясь всё тех же вшей!) немного разомлев, расслабился и теперь уже вальяжно отвалился на спинку стула. Жизнь потихонечку приобретала опять всё тот же давно уже привычный облегчённый и непринуждённый характер. Жить — стало легче; жить — стало веселей.
Очень скоро они вообще крайне страшно подружились. Завязалась беседа по ходу, которой они всё лучше и лучше узнавали друг друга. Хоть это, в общем-то, и не в обычных правилах Ген-Ника. Он сам не знает почему, но почему-то жутко теперь разоткровенничался с Вовой как родным. Рассказал ему, что он бездомный и что он временно ночует у товарища в такой же вот «вилле» (шутки ради так её, назвав) как и эта хибара. Тем временем: водка пилась потихонечку, селёдка, хлеб и лук кушались вдогонку…
— Причём ты понимаешь Вовчик, что самое главное так это то, что меня без паспорта никуда не берут на работу. И получается просто ведь какой-то, замкнутый круг получается. Без денег не могу сделать себе новый паспорт, а без паспорта не могу устроиться на работу. Прям — бег по кругу какой-то… Помнишь? у «Машины времени» песня такая есть: «Бег по кругу — по кругу бес конца…» — это он даже попытался слегка напеть, как бы изображая чуть-чуть мотив песни.
— Г-ген-Ник, тебе явно сегодня всё-таки в-везёт даже несмотря на то, что узнал о к-кончине Никиты. Дело в том, что я могу тебе п-помочь. Надо только Надежде Ко-константи-тиновне сказать. Она позвонит человеку, и он приедет за тобой с-сам. Им как раз нужны люди, которые хотят з-заработать, но сразу скажу работа специфическая. К-кстати это не то чтобы постоянная работа чего-то там. Одноразовая, что ли… х-халтурка, но денег отвалят — на год хватит… В мармеладе б-будешь. Ну, с-сам узнаешь… хочешь? Я и сам х-хотел, но меня почему-то не берут… Но деньги об-балденные предлагают!
— Да ты что, Вовчик! Ты ж меня можно сказать из могилы вытаскиваешь. Я ужо всё передумал и перепробовал… Ну, никак! Даже и не переживай с меня магарыч… Когда это дельце можно будет обстряпать-то? Сразу говорю, чтобы вылезти из этого болота я на любую работу согласен. Таскать! Копать! Мне любая халтурка по плечу раз уж и правда… если деньги хорошие заплатят. Да хоть чего делать! Всё! Дай пожму твою руку! Халтурка! Вот правда бывает же, что так везёт… Только это точно? Без трепотни!?
Они долго ещё сидели и болтали о всякой всячине. Ген-Ник даже захотел, во что бы то ни стало непременно остаться переночевать здесь. Дождаться утра и вместе с Вовчиком пойти завтра к Надежде Константиновне. И лично с ней уже обговорив обо всём окончательно довести — это дело по возможности до положительного результата. Чтобы быть абсолютно уверенным. Полностью и окончательно. Слишком много надежд Геннадий Николаевич поставил на эту новую «настоящую» возможность, наконец, вылезти из «зыбучих песков» — нищеты и бродяжничества. Ох, как он устал от всего этого! Как хочется ему, наконец, опять обрести простой человеческий облик. Начать всё с начала — с нуля! И снова стать достойным гражданином своей Родины! Ходить на выборы, участвовать в разных общественных мероприятиях… А самое главное пока относительно молодой встретить обязательно, встретить хорошую женщину. И наконец, вместе с ней родить ребёнка или даже двух, а потом все силы приложить на их воспитание. Ведь он же знает, как будет воспитывать своего сына или… и дочку…
Находился он, безусловно, теперь в полёте этих мыслей, которые улетучили его куда-то далеко и высоко от обыденной и несуразной жизни. Он с головою погряз в том радужном мире прекрасных иллюзорных грёз, где он окончательно потерялся как ребёнок — пятидесятитрёхлетний ребёнок! Он даже пить-то дальше не стал. Хотя и так ясно, что уже пьян, коли сообразить не мог, что хороших денег просто так не платят. А он к тому же даже ещё и не знал, в чём вообще заключается, сея халтурка. Потому что так его охватила эта надежда на новую жизнь, в которой он заново родившись душой! — уже не только не мог разумно оценивать ситуацию, но и вообще сейчас тупо соображал. Порой, совсем не представляя себе даже всей несерьёзности так необдуманно тонуть в своих нынешних помыслах и нереальных решениях. Окунаясь в них с такой громадной высоты, куда он давеча забрался (определив для себя вроде как раз и навсегда) в своих мечтах.
Сердце, отогретое этими самими мечтами, теперь уже не представляло себе жизни иначе. И та — обманчивая лёгкость, с которой как ему тогда казалось, он к ней неотвратимо движется, что он уже теперь начинал панически внутри себя бояться — вернувшись с небес на землю — что нежданно-негаданно вдруг чем-то не подойдёт работодателям. Вдруг они, увидев его похмельную физиономию, решат, что он конченый алкоголик и поэтому не подходит им; а чтобы нормально выглядеть, он знал одно: сегодня больше нельзя пить — и он отказался. Будучи по натуре очень впечатлительным и эмоциональным он уже никак не мог успокоиться.
В эти минуты Геннадий Николаевич уже заранее чувствовал себя невероятно счастливым. (Вряд ли кто-то из обычных и вполне нормальных людей смог бы его сейчас понять.) Да он, в конце-то концов, всегда был уверен в том, что судьба никогда не бросит его — вот просто так! — на произвол… И обязательно наступит тот долгожданный день в его суровой жизни, когда он уже через многие года будет с улыбкой, потом вспоминать — эти глупые несчастные деньки… И он… едва только вернулся в холодную реальность, спросил у Вовчика: возможно ли такое, чтобы здесь остаться на ночь? Хотя и знал уже наперёд, что если даже нельзя — то он на улице будет ждать до утра пусть, даже если ему придётся при этом всю ночь стоять, не сомкнув ни на минуту глаз. И получив утвердительный ответ. Остался. На том и порешили…
Девятая глава: исповедь
Он пришёл сегодня домой хоть и не позднее нисколько, а как обычно, но что-то очень странное проскользнуло в его взгляде. Это не то чтобы уж очень выразительно как-то проявилось: либо каким-то холодным мерцанием обозначая некую тревогу или ну какой-то болью, что ли отразилось в его глазах, скорее всего, нет, скорее просто присутствовало теперь каким-то вакуумом — и всё! А такое может вообще усмотреть только лишь очень тонкая натура — и то если она мать. Мария Ильинична поначалу приметив не предала особого значения увиденному — списав это на некоторое своё богатое воображение, но всё-таки потом по внимательнее присмотревшись уже — как-то даже обмерла. Материнское сердце тут же почувствовало что-то недоброе. Нет! Точнее: недоброе она всё-таки почувствовала уже давно — гораздо раньше того своего инсульта. Однажды, что-то внезапно как бы «вскрикнуло» в её сердце — что-то больно ущипнуло его, а когда сын потом пришёл домой и, посмотрев в её глаза: то ли потеряно как-то, а то ли обречённо даже что ли… нельзя было сказать ничего конкретного. И в тоже время в нём произошла какая-то малоприметная для постороннего глаза, но всё-таки метаморфоза.
Она видела это ясно: что в его душу вселилось теперь вдруг что-то необычайно гнетущее его и в тоже время невероятно непостижимое для неё. Она даже не ведала в тот момент как подступиться к нему, как узнать чего-нибудь. Но он, тогда как бы чего-то, почуяв торопливо отказавшись от ужина и пройдя в свою комнату, закрылся там и долго уже, потом не выходил оттуда до самого утра. Она слышала, что он не спал, а то и дело то, вставая, ходил по комнате туда-сюда, а то опять ложился, и некоторое время было тихо, но потом всё повторялось. Мария Ильинична это всё слышала, потому что сама не спала. Она собиралась ему непременно поутру задать свой вопрос, чтобы как-то может быть помочь подбодрить его — успокоить или как-то разговорив его, наконец, выяснить его непонятную кручину такую, чтобы уже потом вместе разобраться во всём.
Но Вячеслав тогда ушёл из дома раньше обычного, даже не позавтракав и не попрощавшись с ней, чего он делал по обыкновению. У неё тогда создалось невольно впечатление, что её сыну как-то неудобно теперь стало почему-то смотреть ей в глаза. Он торопливо теперь отводил почему-то свои куда-то вниз в сторону — как частенько поступал в детстве — напакостив; и тут же непременно старался как-то улизнуть с её поля зрения. Сначала это её саму очень удручало. Она чувствовала, что на сына надвигается какая-то вроде бы беда, — только вот какая? Но, в конце концов, она всё-таки так и не замечала никакой перемены или как таковых вообще не происходило каких-либо из ряда вон выходящих событий в повседневности. Иначе говоря, беды — слава Богу — так никакой и не выяснялось или не случалось, чем она ещё больше к своему удивлению была до странности озадачена. Это почему-то её не радовало. Но, в конце концов, решив, что это всего лишь её пустые домыслы неохотно, но всё-таки успокаивалась и даже переставала на это обращать какое-нибудь основательное внимание.
Впоследствии, она для успокоения самой себя приписала это к разводу сына с Ниной. Так или иначе, но неспроста с ней произошёл этот инсульт; он вообще — как удар откуда-то с неба вдруг обрушился на неё как кара небесная за что-то — и всё! Сын как будто испытывал свою какую-то в этом тайную причину чересчур как-то себя, считая виноватым, сделался с ней каким-то необычайно ласковым и обходительным…
После того как они переселились из той маленькой двухкомнатной «хрущёвки», где Мария Никитична и так себя зачастую ощущала иной раз заблудившейся привыкнув за все свои давешние годы вообще ютится в одной комнатке коммунальной квартиры на три семьи. Теперь часто оставаясь одной, ей становилось даже страшно иногда в этой квартирище: с высокими потолками, огромными тремя комнатами, кухней, ванной, отдельным туалетом и длиннющим — как проспект! — коридором. Славушка как устроился на эту работу, после чего бывало, говорил: «…Теперь, матушка, я директор частного предприятия. У меня огромные широчайшие возможности и я к тому же просто-напросто обязан по долгу своего положения жить теперь в такой вот квартире. Скоро — и Нина с Катюшкой тоже сюда же переселятся. Так что нам места много потребуется…». Но время шло — Нина с Катенькой не переселялись, а ей приходилось сейчас плутать в этих комнатах одной — умирая от одиночества.
А сегодня впервые в жизни он пришёл пьяным. Пусть не то чтобы сильно, а так — налегке. Хоть и пытался он это от матери скрыть, всё равно она это поняла и не столько по запаху, шедшего от него алкоголя, сколько по его теперешним манерам. Иначе говоря, по его чрезмерно нарочито развязному поведению в сравнении с тем как он себя вёл раньше — да что там раньше — буквально вчера! Ещё вчера, пусть даже на первый взгляд немного с прохладцей — можно даже сказать — с каким-то усталым равнодушием по приезде он спрашивал: о её здоровье, настроении… А сегодня? — пришёл и не то страшно, что он пришёл какой-то радостный; она видела его по-настоящему радостным ещё в детстве — пусть не так часто, но видела. Сейчас что-то в нём присутствовало постороннее даже не то чтобы деланное или наигранное, а как бы совершенно постороннее — опасное! Жестокое веселье и прежде всего жестокое-то именно к себе — к нему самому. Она видела то, что он сам: её сынок — милый и добрый — всегда такой ласковый сыночек! почему-то ужасно ненавидел именно себя… Презирал — и нисколько сейчас этого не скрывал от неё.
Он по обыкновению хотел и сейчас, немножко поговорив с ней тут же улизнуть, тут же скрыться в своей комнате и закрывшись там, как улитка в своей раковине провести свою очередную ночь в бессонном самоуничижении и еженощном самобичевании. Он как сумасшедший и любил теперь и презирал одновременно — это рассусоливание с самим собой. Последнее время, откуда-то появлялись всякие мысли, которые лезут — настырно! — в голову вопреки его желанию. Он нередко, зарывался с головой в подушку, прячась от них там, но они всё равно находили его и лезли ему в подсознание — больно и беспрестанно. Шебаршились, елозя там — по его оголённым нервам своими шершавыми языками как бы пытаясь тем тщетно очистить его грешные помыслы и деяния или же просто даже наказывая его, таким образом, через собственное тело. Этот страшный зуд сводил его порой с ума. Вот и сейчас, хоть он и выпил — ища в этом себе хотя бы какую-нибудь временную передышку, всё равно они назойливо пристают и лезут к нему в больную его душу. Причём ещё настырнее, чем прежде как будто сами стали пьяными и теперь на них нашёл их пьяный бред.
В комнату постучались; скорее всего, мать (больше — собственно не кому!). — Слава… к тебе можно? — жалобным голосом спросила матушка, всем сердцем почему-то именно сейчас ощущая, что сыну очень одиноко и тоскливо. Видимо опять думалось ей, болеет по Нинке и Катеньке сердечный. Она хотела приголубить его, как часто бывало в детстве. Обнять и расспросить обо всех его этих бедах, чтобы они вместе всё смогли обсудить и, в конце концов, успокоиться. Или даже вместе, во всяком случае, переболеть — это его несчастное состояние которое теперь угнетало, несомненно, их обоих. Но она не могла всё же даже, и предположить, насколько глубоки его раны, а тем более, насколько они запущены в своём смердящем гниении. Разве могла она себе — такое! — хотя бы на один миг представить. Слава ведь он: такой добрый и послушный мальчик…
— Отстань!.. — вдруг вырвалось изнутри его: грубое, нервное, хоронившееся где-то глубоко в его нутре отрицание. Куда он его старательно однажды запихнул — заколотил! Она опять настойчиво постучала, переживая за него… И тут он, в бешенстве заревев как медведь-шатун, вдруг вскочил с постели и обрушился «товарным поездом» на запертую (открывающуюся вовнутрь) дверь. В своём сумасшедшем сумбуре даже как будто и вовсе не видя её, вылетел… или влетел в другую комнату. Откинув необычайным образом — слава Богу! — матушку не причинив ей абсолютно никакого вреда. А только лишь слегка оттолкнув её даже не успевшую испугаться в сторону. Это было можно даже смело сказать — настоящее чудо. Дверь же словно пушечным выстрелом как направленным взрывом! — вместе с вырванным косяком вынесло вперёд и та — как какая-то фанерка, кувыркаясь и сметя в своём полёте стол, перевернула его. От чего изрядно повидавший на своём веку старинный стол с «изумлением» перевернувшись, застыл вверх тормашками. И всё это так и осталось в «изумлении» валяться теперь посреди комнаты. Всё это происходило для Вячеслава как во сне. В каком-то безумном мгновенном порыве. В этот момент он совершенно ничего не соображал. Сейчас он потерянно смотрел по сторонам, усиленно пытаясь в полной растерянности понять чего же всё-таки это сейчас произошло. По мере понимания на смену сумасшедшей силе пришло абсолютное бессилие. Тело его обмякло, зато взор принял осмысленный и вполне соображающий оттенок.
Вячеслав, увидев матушку — беспомощно продолжавшую лежать на полу неосознанно всё так же как во сне, но только теперь уже в испуге — на ватных ногах дошёл, наконец, до неё — всё это время, пытаясь заглянуть ей в глаза. Их взгляды встретились! Она его нисколько не боялась, а продолжала смотреть на него с нескрываемой жалостью. Казалось, глаза её говорили, умоляли его: «Иди сюда миленький сыночек, Славушка, я спасу тебя… У меня ещё столько сил! Ты даже не представляешь себе, сколько у меня много ещё сил, чтобы помочь тебе…» И он почувствовал, что только здесь, да только рядом с этим великим и необычайно добрым и бесконечно родным созданием он отыщет себя, отыщет тысячи способов чтобы стать по новому, снова стать — человеком. Поскольку себя он уже давно не считал таковым. Посему когда его кто-то называл «Волчарой» он в тот момент просто совершенно был согласен с тем названием, а ведь даже и оно ему порой казалось слишком ласковым для такого существа как он. Он, по меньшей мере, себя бы назвал как-нибудь типа: ИЗВЕРГОМ.
Не находя сил поднять её, он, растроганный сам упал к её ногам. И обняв их, вдруг зарыдал как тогда! — в глубоком детстве, когда иной раз прибегал домой с улицы в поисках «мамкиных» утешений и жалости… Сейчас, ему ко всему прочему просто ужасно было страшно. Из-за того что он только что мог не только сделать больно ей, но — и вообще даже убить свою матушку! — единственного человека (кроме ещё дочки Катеньки) до бесконечности дорогого ему, дороже даже самого себя. Это словно «обухом по голове» стукнуло его. Сердце на какое-то мгновение вдруг оборвалось… застыло… а потом бешено — неистово! — заколотилось. Он, невзирая на то: к чему может привести его откровенность и вообще он об этом в данный момент как впрочем, и о многом другом не думал. Кроме, пожалуй, того, что как-то необходимо всё-таки — жизненно необходимо! — ему с кем-то обязательно поделиться своей душевной тяжестью. Иначе он так и будет — медленно и мучительно умирать… А с кем же ещё? как не с матушкой-то… Кто его сможет всегда понять — и пожалеть?!
И тут его просто прорвало, весь накопившийся в душе мусор вдруг повалился, как из рога изобилия всё-таки понемногу облегчая его состояние…
— Матушка! Прости меня, миленькая! Я не знаю, что на меня нашло… Это безумие какое-то. Это просто наваждение… Ты не представляешь как мне сейчас плохо. Мне ещё никогда не было вот так вот плохо. Сердце разрывается на куски! Ты же помнишь меня маленького? Помнишь, какой я был… Я ведь был — добрый и хороший мальчик… Но почему у меня всегда так? Даже сейчас я опять — всё не о том, но я, правда, не могу слов таких даже найти, чтобы хоть как-то объяснить тебе, что со мной стало. Я же такой изувер… Такой потерянный… что даже человеком-то назвать себя не могу. Я же тебя обманывал… Говорил подлец, что я мол, директор частного предприятия. И ты мне верила!.. А я… А я… Я же бандит, матушка! Такой-сякой!.. Я же хотел стать тренером, чтобы детишек учить… И дочку — чтобы прекрасным человеком вырастить… Воспитать… Поднять на ноги… И поднял бы! Всё хорошо бы было… ЧТО с миром случилось?.. Зачем всё так жестоко стало в жизни??? Страна вот-вот рассыпится!.. Государство, какое там!..
Вдруг он приподнялся на руках и посмотрел опять ей в глаза. Он вглядывался долго и пристально, как будто где-то у себя в голове взвешивал на воображаемых весах: надо ли, стоит ли, сейчас распахивать — до конца! — свою душу. То — в чём он уже ей признался всего лишь маленький верх того айсберга… Нет! он не думал сейчас нисколько о себе и своей безопасности. Он думал о матушке, сможет ли она перенести такой шок. Неожиданно узнав, что родила когда-то — растила всю жизнь и наконец, вот воспитала такого подонка каким он считал на данный момент времени себя. Ведь именно это может оказаться сейчас для неё, несомненно, смертельным. Он бы сейчас если бы точно мог знать, что ни в коем случае не навредит матушке своим действием, с лёгкостью пустил бы себе пулю в лоб. Но ведь может опять оказаться это смертельным именно для матушки. У него доходило до абсурда! Убив себя, он как бы ни сознавал себя в этой смерти. Он видел в этом опять всё тот же очередной вред для матушки и дочки которые непременно будут очень переживать — и скорее всего совсем не переживут его смерти. А он гад — всё равно опять будет продолжать жить и убивать — ни в чём неповинных людей!
Посмотрев на матушку ему, как-то захотелось успокоить теперь её. И тут же сказать что это ничего — это только шутка. Чтобы они весело потом рассмеялись и, радуясь, совсем-совсем забыли обо всём плохом. Чтобы она рассказала ему на ночь сказку как тогда очень давно в детстве. Он любил слушать её сказки, понимая, что она их придумывает на ходу — импровизируя — и этим самым те сказки становились ещё ценнее и интереснее. А самое главное, что, почему он ценил её сказки так это, потому что в них всегда как бы поначалу не было плохо и страшно в самом конце вдруг всегда — и всё равно была счастливая развязка. Все хорошие: люди, звери… были обязательно, в конце концов, счастливы.
Но зато потом всегда он уже когда, повзрослев и встречаясь по жизни с разными её ситуациями, впоследствии почему-то лишний раз убеждался в том наперекор своим желаниям что жизнь, однако, совсем — не сказка.
Он попытался улыбнуться ей, но улыбка получилась какая-то вымученная зажатая или вообще, если быть точнее — мёртвая. И матушка, увидев её и приняв всё снова чрезмерно близко как всегда наворачивая своих призрачных страхов в той или иной степени, протянула к нему свои руки, куда он безвольно приник. И она, обнимая его и гладя по голове точно-точно так же как в детстве, и при этом при всём проговорила ему знакомые — до мозга костей — слова, которые ясно и чётко ему объяснили о том, о чём он сам до сих пор не решался — даже подумать. Теперь он знал совершенно точно, что как бы ему не было сейчас сделать это трудно он просто даже обязан уже сейчас повиниться перед матушкой в своих грехах. Да! она должна знать что он — душегуб и убийца!
Десятая глава: бег по кругу…
Стоит ли, много затрачивать времени на то чтобы в подробностях пересказывать о том, как Геннадий Николаевич дождавшись «своего» утра наконец-таки как он и собирался поступить — выражаясь его же термином — то есть «обстряпывать» новое предстоящее ему дельце так-таки, наконец, всё-таки и приступил к этому. По встречи переговорив с некоей Надеждой Константиновной по поводу предоставления ему весьма выгодной работы или халтурки, на которую он уже тут же возложил огромные надежды. По-пионерски готовый к любым трудовым подвигам, а так же к действиям в любых условиях — выполняя ту или иную задачу. Ещё всё-таки не поставленную даже перед ним. Совершенно ещё не зная мало-мальски самой сути как таковой. Он уже строил — великие планы! Господи, в самом деле, как ребёнок! Ибо обещанная халтурка лишь пока сулила или вернее обещала опять же только, по словам его нового знакомого пьяницы якобы получения в итоге каких-то там баснословных денег, которые теперь уже, по его мнению, должны будут помочь ему воспроизвести его паспорт.
Трудно сейчас сказать какие сложности могут вообще возникнуть при данных обстоятельствах. Кроме основных как таковых, например: каким же образом не имея никакой, абсолютно никакой регистрации (не говоря уже о жилплощади) — это можно выполнить. Его как такового как индивидуума или личности — в виде человека! — по сути, теперь в течение уже нескольких лет не то что уже нет в числе проживающих, а как бы даже — вообще не существует в этой стране. (Кстати у нас даже умерший должен иметь какое-нибудь свидетельство, подтверждающее его такое скорбное состояние!) А Геннадия Николаевича официально — просто-напросто нет! Хотя чем бес не шутит в такой-то вот «мутной воде». (Какой была ситуация в стране.) Наоборот порой на некоторые действия открываются зачастую такие необычайно широчайшие возможности! То есть может возникнуть интересная вероятность — будто бы даже вообще «воскреснуть».
Однако всё-таки каким-то образом он ведь предполагал, получив деньги непременно суметь решить столь щепетильный и очень важный для любого современного человека вопрос. Не имея для этого не то чтобы каких-то перспектив, а как говорят поднаторевшие люди в таких делах: нет даже элементарной «лохматой руки» или что-то там ещё — в таком же роде. Я может быть, не совсем даже правильно выражаюсь-то. Хотя, что тут из себя корчить невинного барашка? Кому надо тот уже давно сообразил, о чём это я тут вообще пытаюсь выразиться или распрягаюсь. А в принципе это, скорее всего уже и не наше дело: есть ли у него там «лохматая» какая-то рука — нет ли… В конце-то концов, может он даже и лучше всех нас знает, какую и где руку надо своевременно «полохматить» или «подмазать». Может он вообще без каких-либо даже специалистов во всём этом прекрасно разбирается? В чём я, конечно, посмею себе немножко засомневаться. Но суть-то, наверное, всё-таки в том, что для этого необходимо хотя бы перво-наперво где-то каких-то сначала иметь знакомых. Каковых по молодости лет (то есть когда действительно ещё мог) он не снискал, ибо был в этом отношении довольно-таки не дальнозорок или чересчур может быть даже ветреный. Но, собственно говоря, кто знает — кто знает, может он уже теперь обзавёлся какими-нибудь новыми навыками или даже набрался опыта какого-то там для этого. Кто ведает? Поживём — увидим.
Хотелось бы вот только добавить, так как в то время ещё очень было актуально (как в принципе и сейчас) выражение: «Без бумажки ты — какашка, а с бумажкой — человек». Так что этот вопрос действительно возможен на «повестке дня». Хотя я как-то сомневаюсь, что с решением только одного — этого вопроса другие, мол, автоматически отпадут. Обычно — знаю по опыту — их только прибавляется.
Как-то так нынче получается, что действительно человек не то чтобы совсем уж без паспорта, а даже и без обычной-то в нём регистрации то бишь по-простонародному без (так сказать) прописки и то уже не имеет многих прав. Не только не имеет многих прав присущих для всех живых людей на этой планете или даже если всё-таки быть более точным: абсолютно! не имеет никаких прав.
Поэтому было бы вполне резонным тотчас переместиться в центр города, где можно понаблюдать там за тем же капитаном Марочкиным который только что вышел из здания городского управления внутренних дел, куда его судьба соизволила «засунуть» в связи с его профессиональной деятельностью. Куда он был вызван и где он только что получил от вышестоящего начальства: сначала за что-то нагоняй — потом тут же за что-то благодарность. И вот теперь он не торопливо шёл вдоль главного проспекта в сторону своего района, а точнее к зданию «своего» РОВД просто решив — малость прогуляться.
Проходя мимо рекламных щитов в глубочайшей задумчивости, он как бы ненароком совершенно бесцельно пошарил глазами от мнимого безделья по выставленным на всеобщее обозрение объявлениям. Это им было сделано непроизвольно, чисто механически в поисках чего-нибудь того что в конце концов его могло бы — хоть как-то — вывести из тяжелейшей депрессии.
Капитан вдруг уткнулся глазами в написанную достаточно аккуратненько белой масленой краской на тёмном фоне основания фразу. Она была выведена сразу видно рукой взрослого человека и находилась в самом низу под объявлениями. Надпись крупными печатными буквами безапелляционно сообщала: «Милиция и чиновники — больше не нужны». Тут Александр Марочкин невольно призадумался, а собственно, почему милиция-то не нужна, автору сей фразы? Ладно, чиновники, те — действительно совершенно не дают людям спокойной жизни. Тут ничего он только — за! Но милиция? Ему даже жутко обидно как-то стало. Нет! всё-таки правда, почему и милиция-то кому-то вдруг стала не нужна? Когда кругом в стране такой-то хаос, кругом бесчинствует бандитизм! Тут он решительно не согласен с автором.
Но отойдя от этой надписи метров на сто и тем временем немного поразмыслив, он ужаснулся от посетивших его голову внезапных раздумий. А ведь и действительно, если честно-то говорить: порой, чем лучше-то, если даже и не хуже те же менты — тех же бандитов. Да порой прикрываясь законом и используя тот же закон в свою пользу (перевернув его зачастую с ног на голову) при вполне естественном первоначальном доверии к ним — эти пресловутые представители власти — такие иногда опять же пакости народу творят! Что народ, уже за помощью в каких-либо ситуациях скорее обратится к тем же бандитам, нежели пойдёт в милицию.
Кроме того — что там говорить, а нынешняя милиция, которая ещё как-то вроде бы почему-то существует, вообще по множеству причин бездействует, когда не делает вреда. Те же бандиты бывают технически оснащены, гораздо лучше вооружены, да и никакие бумажные волокиты — их особо не утруждают и не сковывают. Никаких тебе показателей; никаких тебе лишений премий. А тут крутишься — вертишься и всё понапрасну. Отбили тут ему: не только следовательский нюх, азарт и тягу к какой-нибудь карьере, но и вообще желание жить.
Так шёл и с некоторым отчаянием в душе рассуждал про себя оперуполномоченный капитан милиции Александр Марочкин. Весь патриотизм и служебный пыл его высыпался наружу через его же протёртые до дыр на заднице и коленях брюки. Поэтому он плюнет сейчас на всё и пойдёт к соседу по лестничной площадке — давнишним корешком Петром и «квакнут они с ним на пару бутылочку водки». А потом пойдёт он домой спать и наконец, отоспится на тысячу лет вперёд. Зоя опять в больнице вторую неделю лежит… Спиногрызы теперь наверняка гуляют… Хоть он несколько и привык их так называть, но это совсем не значит, что он их нисколько не любит. А любя-то, как только не наречёшь!
Татьяна Ивановна, точно следуя инструкциям Пётра Николаевича, встретилась (вернее тот сам пришёл) с представителем (всё с тем же молодым человеком, что приходил давеча с компанией) той же бандитской группировки, которая им, собственно говоря, и предложила свои услуги. Познакомилась с ним так сказать поближе на условиях чисто деловых отношений и с полной договорённостью о конкретных сроках и выплатах им как охранной теперь уже организации некой суммы денежных средств. Они согласовались и во многом достаточно точно условились. Я, в общем-то, не знаю всех тех тонкостей да мне собственно и не надо их знать — крепче спать буду. Знаю только что в случае «наезда» на фабрику какой-либо аналогичной местной или «залётной» бригадой — у них были определённые и конкретные на такой случай весьма чёткие ориентиры. Впоследствии Татьяна Ивановна в отличие от первого своего впечатления по поводу этих энергичных парней была теперь напротив, безусловно, даже довольна. Она даже как-то чувствовала себя теперь увереннее и гораздо вольготнее, нежели ранее. Со временем у неё, поэтому поводу появилась какая-то даже своеобразная гордость что ли… Так как она по каким-то своим уже «тайным» каналам узнала якобы именно данная теперь уже как бы «ихняя» бандитская группировка, оказывается, пользуется огромным авторитетом. И не только в этом городе, но и среди других подобных ей, причём на всероссийском уровне полулегальных организованных преступных группировок. А позже — когда начались всякие вдобавок войны между такими группировками; когда то там то сям стали: то взрываться в дорогих иномарках, то кое-кто выпадать совсем ни, кстати, из окон или балконов, то расстреливаться неожиданно и прилюдно… она вовсе пришла к выводу что они очень даже своевременно обзавелись подобной «крышей».
Правительство страны в свою очередь тоже по-своему занималось воплощением в жизнь государственных идей. Почти убедительно это делалось. И прежде всего это делалось первым лицом страны — президентом России Борисом Ельциным, который разъезжая тем временем по миру с каким-то непонятным ликованием восторгался тем временем «великими» достижениями демократии. Кстати, будучи сам частенько и открыто в нетрезвом состоянии. Позоря страну! Однажды тоже, к месту будет сказано, как-то «торжественно» и самозабвенно дирижировал иностранным оркестром по прибытию (если мне не изменяет память) в Германию, когда надо было бы лучше дирижировать наведением порядка дома. Борис Николаевич всенародно, неоднократно выступая по телевидению, раздавал направо и налево самостоятельность регионам России. А те почему-то боялись её брать; хоть он им и говорил: «Берите — сколько хотите!». Чуть ли не навязывая. Вот и получалось — брать-то боялись, но брали.
От того в каждом — каком бы то ни было — мало-мальски задрипанном регионе России появились аналогичные центру административные структуры. Появились всякие президенты (что можно было даже иной раз перепутать — кто же из них самый главный-то!). Ну и само собой: такие же халяву любящие депутатские сборища. В полном своём блеске! (Что в принципе и сейчас без изменений). Если порой и бывали из центра вполне толковые рекомендации или же даже попытки руководства… например: всячески поддерживать или даже поощрять малый и средний бизнесы, то на местах зачастую почему-то местные «царьки» предпочитали по личному усмотрению наоборот: либо препятствовать развитию таковых, а то и вовсе душить их. То есть все прекрасные начинания центра, почти всегда находили негативный отклик на местах. Так было — так есть — и, наверное, всегда будет, пока существует государственность. Бардак полнейший!
Я не то чтобы сейчас умышленно вроде как игнорирую своё повествование о дальнейшей судьбе Геннадия Николаевича. Вроде как преднамеренно отдаляю о нём речь. Конечно, вы как любой вполне проницательный читатель уже наверняка догадались какую халтурку ненароком, а, может быть, и специально подкинуть соизволил ему новый его товарищ и пьяница Владимир. Не буду утверждать, что там вообще его или какого-то другого подобного ему человека уже, несомненно, даже ждали, приглядывали. Однако попробую вас заверить, а то ведь вполне можете подумать что, мол, исписался дядя Гера и теперь сам толком не ведает, куда и как — тотчас повести свой рассказ и вот, мол, крутит-вертит, время выгадывает… Ан вот нет! Там-то как раз — до теперешних строк — было всё чётко. Там уже как говорится давно всё на мази — так на мази что вероятно уже пора произойти какому-то ни есть даже сбою.
Налаженный и уже неоднократно проверенный механизм работает безукоризненно. Только, как известно любой механизм состоит из разнообразных деталей, которые в совокупности своих действий и совершают ту или иную функцию, изначально возложенную в целом на этот механизм. Но порой стоит только одной — подчас малюсенькой — совершенно незначительной детальке этого само собой всенепременно сложного механизма поломаться или как-то износиться и… всё! Либо для дальнейшей работы агрегата нужна новая деталь, которую срочно заменяют при соответствующем ремонте; либо уже в зависимости от важности таковой детали порой даже полностью приходится избавляться от сломавшегося — самого механизма.
Так вот — как раз — тут и случилась такая ситуация что подошла очередь к довольно-таки интересной развязке. Можно очень долго рассуждать о принципах, морали, нравах и других, безусловно, важных аспектах общепризнанных всечеловеческих ценностей. Но любому, пожалуй, известно, что, сколько не говори — сколько не обсуждай эту тему, а всё равно как должно было произойти, так и произойдёт в полной мере. Тут — много сразу отыщется умных людей — твёрдо владеющих своим мнением. Ну что сказать? Порой с ними не поспоришь…
Одиннадцатая глава: «камера смертника»
Таким образом, опустив некоторые малозначительные подробности, касающиеся непосредственно переговоров-разговоров с Надеждой Константиновной, которая на поверку оказалась довольно-таки молоденькой особой вообще почти что девчонкой; а затем и другой встречей и снова-таки переговорами-разговорами лишь теперь с таким же по возрасту своему только мальчишкой, но довольно-таки въедливым и (беспременно стоит к тому же ещё подметить) чересчур нагловатым, кстати, совсем не по годам. С этого-то как раз-то я и продолжу своё дальнейшее повествование про Геннадия Николаевича. При всём при том пересуды все получались тривиально безрезультатными и при всём своём многословии практически малозначимыми в виду предлагаемой информации, ибо основывались в основном на конкретном обсуждении данного вопроса только непосредственно прямо на месте.
В связи с тем, начну пожалуй сразу с того момента, когда тот же молоденький парнишка в полном безмолвии за всю дорогу завёз его на своей тачке куда-то в лес. А именно к какой-то полу избушке или вернее даже полу сараю, но на редкость добротному, в чём Геннадий Николаевич вполне потом убедился, токмо гораздо позже оглядев его уже изнутри. Где вроде как он должен будет теперь расположиться до особых распоряжений. О чём «мальчик» ему только что, сообщил, и уже сам шустро выскочив из автомобиля, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, в настоящее время ожидал его на улице. По дороге без каких-либо лишних вопросов явно для него была куплена в одном из придорожных магазинчиков шикарная семисотграммовая бутылка водки, да и так кое-что перекусить из некоторых без видимой причины навязанных весьма дорогих продуктов. Ген-Нику — эта халява показалась слишком дорогим удовольствием, а для вдумчивого Геннадия Николаевича не вполне уместным расточительством в данной ситуации. Тем более один он вообще никогда не любил пить, а тем более водку. Совершенно справедливо предположив, что этот юноша тоже вряд ли будет с ним угощаться этой водкой ну и само собой продуктами.
— Стой-ка, стой-ка! Дай-ка я, мля, ещё разок, понимашь, гляну на твою морду-лица, — живо проговорил молодой человек, не в первый раз разглядывая Геннадия Николаевича с ног до головы, когда тот вылез из машины. Теперь всё больше и больше уже будто бы как, убеждаясь в том, что найденный «сорняк» просто изумительно подходит по всем своим внешним параметрам для предстоящего мероприятия. Хоть и «мордаха чуток пропитая», но зато в основном гораздо больше плюсов. И самый главный плюс — это «безусловишно энтелегенешная видуха, а дальше всё обслюнявим»…
— Так-с дедуля, что я тебе могу сказать? А сказать, мля, я тебе буду только то, понимашь? что на первый взгляд, мля… ты вроде как подходишь… понимашь? подходишь!.. А как у тебя, дедуля, с артистными-то делами? Мне очень любопытошно так это сказать, мля, смогёшь ли ты. Понимашь? дедуля, полностью оправдать-то наши возможности, понимашь? Деньги-то отсмаркивать обеща… гм… башляем-то пригожие, понимашь? а конгриндиент-то не всегда благонадёжным, мля, получатся… А ваще не парься, дедуля… Мы помагём, мля!
Молодого человека — мужчину лет двадцати двух — звали по официальным бумагам Николаем, а неофициально его «коллеги» почему-то величали «Шустриком». Он был невысокого роста, спортивного телосложения, говорят: самбист… каратист… и ещё там с цирком вроде бы каким-то боком что-то связанное. А Шустриком его видимо прозвали, прежде всего, за его весьма подвижный образ поведения. Он какой-то был, как на шарнирах был со всеми своими порой непредсказуемыми телодвижениями. Коля казалось во всех своих немногим кривляньях совершенно не тратил энергии. Хотя их было много и многие из них, бесспорно, казались лишними; все его движения, какими бы сложными они не были, давались ему с необычайной лёгкостью. А движения тела у него, вероятно, были таковыми: то ли от своих каких-то там чисто природных как бы врождённых может быть данных, а то ли от многолетних тренировок. В связи, с которыми они просто стали своего рода привычкой. По характеру-норову собственной натуры и именно поведению своему среди своих сверстников хоть он и слыл вроде как иной раз весельчаком, но на самом же деле по сути своего естества (при всей своей алчности) это была, может быть несколько своеобразная пусть хоть и во многом обыкновенная или уж даже совсем ординарная, но всё-таки вполне рядовая фигура. В нём до удивления сочетались, как положительные, так и саркастически отрицательные качества, а это значит, что он до личностных проблем был жутко противоречивым человеком.
Часто он и сам не знал, как он может поступить в тот или иной критический момент. Гораздо чаще Шустрик был: хоть и исполнял роль мелкой шестёрки человеком нескромно себялюбивым и, кроме того так противоречиво этому своему свойству всё-таки невероятно к тому же ещё и трусливым. Видимо в первую очередь эта трусливость-то и не позволяла, поскольку постольку ему «положительно» как-то определённо выделиться из толпы и оказаться в числе лидеров. Или может просто слишком «зелен» ещё пока был? Но, так или иначе, на данный момент, когда ему позвонила Надька, с которой Николай учился ещё в школе в параллельных классах, он принимал ванну. К сведению будет сказано: ещё там — в школьной кутерьме — у них в своё время возникало что-то такое типа любви. Ну а теперь у них на это была просто заблаговременная некая договорённость, в твёрдой валюте подкреплённая материальным интересом. Поэтому теперь он — уже через час — был у неё, быстро преодолев расстояние с одного края города до другого. (Он всегда всё делал быстро.) Особенно сейчас на своём-то хоть и слегка подержанном, но всё-таки отличном «БМВ».
— Ты понимашь? — дедуля, в чём заключатся твоя работёнка. А заключатся — понимашь? — она в том наперёд всего: то есть в твоих артистных данных, мля. Смотри! Понимашь? Сначала ты, выкопашь, где тебе скажут ямочку и очень даже глыбоку… Понимашь? Ну да ладнось! Это не проблема. Я думаю: струмент есть, ручонки у тебя тоже на месте… Понимашь? — тут он ещё раз мельком глянул на него как бы лишний раз, убеждаясь в этом, — Ну вот потом понимашь? Когда выкопашь и опять — когда тебе скажут, понимашь? Залезешь в неё, и мы тебя чуть-чуть прикопаем, мля. Причём так, понимашь? чтобы головёнка с мордочкой — наверху остались. Понимашь? Тока они чтобы из земли торчали. Мля! Понял, дедуля? Понимашь. Об чём — это я ваще речь-то толкаю.
— Понял, это стал быть как в кино «Белое солнце пустыни» — там ещё Саид был в песок закопан… Так? Тока на хрена?!
— Во-во, в точку, клёвый фильмец. Понимашь, прям как обучающное пособие, мля… хе-хе… Слушай сюда! Мы, понимашь? там немного подкрасим тебя, кровью чуть-чуть обрызгаем, чтобы по-правдашнему выглядело. Понимашь? Потом — слушай сюда! Приведут одного «пингвина» — понимашь? — который на тебя любоваться станет, а ты! — понимашь? В свою очередь вот тут-то… Понимашь? Самое главное-то и начинается! Тут, ты должен будешь изображать человека, но не себя конечно! Понимашь? А с понтом ты богатый… хоть чуть-чуть напос… гм… побудешь в жизни богачом! Понимашь? С тебя типа чего-то требуют, а ты типа ни в какую… ничего типа не хочешь отдавать и — всё! Понимашь? Главное, чтобы эмоций — нервов! — побольше. Понял, дедуля?!
— Да, конечно, понял. Что тут не понимать-то… преступники вы все тут, стало быть!
— Ну, понимашь, дедушка? Это уже, мля, не твоя проблемка. Твоё дело маленькое: отвизжать… оторать… Понимашь? И денежку получить… если конечно… А дальше? Всё! Вася — я снеслася… Понимашь?
— А зачем закапывать-то? Вон к дереву привязали бы, да и инсценируй, сколько влезет… А закапывать-то зачем?
— Ну, дедуля, и бестолковый же ты! Понимашь? Как ты не понимаешь что это всё для куражу — просто так надо, мля. Чтобы чел сильно спугнулся… обкакался… и долг сразу же отдал! Понимашь? Вот тупой же ты чувак… попадаются же такие… Тебе что — денег не нужно? — уматывай тады… — заключил он, а сам смотрит уже с некоторой опаской всё же типа: как бы и в самом деле не отказался, сволочь!
— Да! Пожалуй, не справлюсь я, уж чересчур вы тут усложнили всё. А я совсем не актёр; обделаетесь вы только со мной…
И Геннадий Николаевич тут и вправду вроде как начал собираться уходить, он повернулся и уже было уверенно даже шагнул, но не тут-то было. Шустрик и в самом деле вполне соответствовал своему погонялу. У него в тот момент только глазки как-то шустренько вдруг забегали как-то: туда-сюда, быстро-быстро… Потом он вроде чуть так крутанулся и… всё! — дальше Геннадий Николаевич ничего уже и не помнит… Он очнулся теперь только запертым в сарае. Но даже руки не были связаны, да и это совершенно ни к чему потому как сарай был прочный — бревенчатый — ворота у него вообще по ходу дубовые. Топчан — и то спасибо — да табуретка, на которой стояла всё та же бутылка водки, добротная закуска и стакан. Была бы другая ситуация непременно бы Геннадий Николаевич воспользовался бы таким приятным гостеприимством, но только не сейчас.
Сейчас у него в голове чётко отпечатались все давешние слова этого молодчика. А больше всего запомнились всё-таки его глазки: такие подленькие, свинячьи маленькие, вездесуще шустренькие! И Геннадий Николаевич теперь только пытался чего-то сообразить, как бы уяснить чего-то себе. Он правильно разгадал обстановку. Да и надо быть просто совсем слепым чтобы не увидеть как этот пацан (кстати, при всей своей ушлости — отвратительный актёр!) чуть ли вот-вот и сам бы проболтался, что ясное дело — их конечная цель это умертвить его, но как?! — он пока этого ещё не знал. Да и какая тут собственно разница! здесь в таком-то его положении. Да и хватит дурака валять! Они же — даже несвязанного его — легохонько могут умертвить тысячью способами.
Ясно теперь одно — он в плену — даже собственно не в плену, а в «камере смертника!». Его определённо ждёт смерть и эти люди (или нелюди!) ни перед чем не остановятся. И это бесспорный факт! не требующий безотносительно никаких, абсолютно никаких доказательств — он покойник! Геннадий Николаевич не знал и даже предположить теперь не мог: сколько сейчас времени, какое время хотя бы суток — долго ли он был в отключке. Часов у него не было, в сарае совершенно отсутствовали: окна и даже какие-нибудь щели или хотя бы любые мельчайшие щёлки. Ничего похожего! Хорошо хоть свет ещё есть. И всё-таки водка — и он опять на неё тоскливо посмотрел.
На душе у Геннадия Николаевича было сейчас… Впрочем, мне тут даже и описывать-то его внутренние переживания я думаю совсем не к чему и так всё ясно. И он всё-таки настоятельно для себя теперь решил: «а что в конце концов-то между прочим пьяным и умирать-то будет легче, наверное, легче, а умирать так или иначе всё равно видимо придётся. Знать Богу так угодно». И он обречённо смахнул рукой. А затем без лишних осторожностей, теперь уже решительно заграбастав пятернёй бутылку сорвал с неё винтовую пробку и сразу же, даже с запоздалой какой-то нелепой жадностью, налил себе целый стакан, по самый рубчик. Сразу видно, что хоть в этом-то они (эти подонки!) поступают не совсем по-свински с некоторым очевидно своим каким-то суеверным бандитским милосердием. Любому бедняге, а тем более перед смертью-то всё-таки весьма может оказаться уместным некий сервис: напоследок хорошенько выпить и так же — обязательно покушать. На сытый желудок любому некогда испытавшему определённое время гнетущей муки голода, наверное, всё-таки действительно и умирать-то должно, быть легче. Хотя, что он мелет — умирать в любом состоянии — хреново!
Тут он зажмурился и памятью убежал из этого сарая. Теперь он уже был там, на воле — со своею второю женой… Та была значительно моложе его — на целых пятнадцать лет и это действительно немаленькая разница в возрасте. Хотя, что такое возраст — это же состояние души, а душой он даже сейчас почему-то себя чувствует очень молодым. Как будто ему всего лишь тринадцать лет — не больше! Отрок, да и только! Как говорится: только жить начинает. Может поэтому даже ему порой бывает как-то уж слишком всё-таки так тяжело общаться с людьми особенно с взрослыми. Если это и так, то всё равно объяснить он своего такого ощущения ну никак не может — загадка смешная тут вытанцовывается, прям-таки какая-то!
Он тогда только диссертацию защитил, только-только можно сказать профессором стал. Только как говориться: наконец человеком себя почувствовал. А он всю жизнь можно сказать об этом будто бы даже подсознательно, что ли мечтал с самого юного детства, не распространяясь лишнего об этом ни перед кем. И даже как-то своё вообще всякое произвольное благополучие он как бы с этим невольно связывал. И вот тут-то она ему как по небесному заказу и повстречалась: лёгкая, какая-то мимолётная, какая-то неземная что ли. Что-то в ней было такое, от чего хотелось почему-то всегда как-то быть у неё на виду. Вспомнил сейчас он её — тогда идущей ему на встречу, нет, даже несколько скорее летящей походкой приближающейся к нему — они ещё тогда и не знали вовсе друг друга. А она шла-плыла-летела: во что-то своё мыслями погружённая и радостно улыбалась — наивно и чисто — как замечательный такой ребёнок. Он впервые за много-много лет был влюблён, влюблён даже как-то по-новому и ему в то время показалось, что до этого самого случая он никогда никого — вот так вот! — по-настоящему и не любил. Даже Лизаньку с Андрюшей… Но сейчас это было уже прошлым и ему даже как-то совестно теперь перед памятью умерших — родных и дорогих его сердцу людей…
Единственно сейчас и он это прекрасно понимает, что Наташа никогда его не любила, да и не могла хотя бы в какой-то мере к тому же вовсе полюбить. По простой и основной черте своего характера, природе своей. В чём собственно и не была даже сколько-нибудь виновата. Поскольку любой человек, будучи в своё время единственным ребёнком в семье — всегда — независимо от правил и методов воспитания (кроме, пожалуй, явного издевательства над ним; но это уже другая история) обязательно на всю оставшуюся жизнь будет хоть немножко — хоть самую малость: чуть-чуть! — но обязательно эгоистом.
Наташа оказалась ни то чтобы не исключением. Она оказалась несомненно абсолютным воплощением того эгоизма который только могла бы в себя впитать с молоком матери прелестная девочка. И родители-то у неё были на редкость — добрые и отзывчивые. Как могло такое случиться? Хочется прямо подчас задать тому, кто свыше такой вопрос: почему Наташенька стала такой страшной эгоисткой?! Самое главное, что этим людям бесполезно чего-нибудь объяснять, говорить, доказывать. Просто выходит так, что за всё время своего произрастания они настолько с малых лет привыкают к тому, что всё в семье (а значит порой и в мире) существует исключительно только ради них, что привыкать к обратному, а уж тем более прийти к разумному добродетельному выводу: либо у них не остаётся времени, либо вообще уже не получается. Только живя в семье, где много детей — очень редко может такое произойти, что вырастишь эгоистом. Так что родители, не утруждающие себя многодетством, по меньшей мере, обрекают заранее своё любимое чадо к психологическому уродству, а в таком случае и к несчастью.
Да! Наташа всегда — каждый Божий день — совершенно была несчастна. Это проявилось для Геннадия Николаевича гораздо позже. Всего — чего она хотела, конечно же, уже после того как они поженились он на свою профессорскую зарплату естественно не мог ей обеспечить. Ей, по меньшей мере, надо было родиться одиноким ребёнком в семье Рокфеллеров. Запросы всегда были велики, сказочно непредсказуемы и кроме того милая Наташенька весьма умела экономно расточать свои капризы, но очень надоедливо! — и с наименьшими затратами для себя используя их, получать своё. Однако как бы Геннадий Николаевич не любил бы её — как бы ею не дорожил — всё равно и это он обстоятельно понял только лишь сейчас: он был, безусловно, просто обречён, потерять её. Что собственно и произошло. Только опять же произошло-то это не сразу: сначала он залез в неимоверные долги — вернее нет! сначала он тратил все деньги исключительно на неё — сам ходил, а бы как. Подспудным к тому же ещё несчастьем оказалось: её нежелание рожать детей — да что там! — у неё совершенно отсутствовал материнский инстинкт.
Наташенька очень любила свою прекрасную фигурку вместе со смазливым личиком и обожала постоянно их обстоятельно наряжать как боготворимую куколку в разные шикарные и обязательно последнего — шика моды! — вещами. Она просто как сумасшедшая обожала всякие мелочи: шляпки, тапочки, сумочки, блузочки, трусики, туфельки и т. д., и т. п. до бесконечности. Причём скажу только для маленького примера: одних туфелек у неё было пар — так числом, оканчивающимся на — …цать… «Коробочка» — да и только! Это ещё не считая её искренней любви к вещам всякого рода дорогущим, которые купить-то можно было: либо с огромной переплатой в специализированном магазине типа «Берёзка», либо по величайшему её какому-то знакомству, но тоже, разумеется, с бешеной переплатой. К таковым относились: прежде всего, норковые шубки, соболиные шапки, моднючие меховые варежки… и опять и т. д., и т. п. Кроме того, хоть и выбор в ювелирных магазинах был огромен разнообразных изделий, а они же в конце концов — такие дорогие! — сами по себе всякие эти золотые украшения. И почему-то, которые по закону подлости невероятно часто и порой до жутчайшей обиды с необычайной лёгкостью ею терялись как… у Маши-растеряши!
Так вот после всего этого, когда он по всем своим возможностям влез уже в наижутчайшие долги. А отдавать, собственно говоря, было не только нечем, но и любимой женщине абсолютно можно сказать больной до всяких давно даже уже совершенно ненадобных вещей — требовались до истерик новые другие траты денег. Вот тут-то он запаниковал. Потому как его давно уставшие ждать возврата своих денег кредиторы (а долги, между прочим, незаметно для него почему-то выросли до неимоверных астрономической специфики размеров) явно опасаясь подвоха, те уже натравили на него самих, что ни на есть бандитов. А те! его просто-напросто ещё к тому же поставили на «счётчик» с неимоверно безжалостными процентами. Пока он разбирался со всеми этими проблемами, а при всём при этом ему ещё предстоял теперь квартирный обмен на меньшую жилплощадь. Тут-то вот как раз и случилось познакомиться с теми жуликами-риэлторами (о том, что те прохвосты он, разумеется, узнал уже потом, когда потерял всё) и тут всё закрутилось-завертелось… Наташенька поначалу просто как бы растерялась, немало приуныла, а потом как-то вдруг однажды неожиданно попрощалась — в слезах и угрызениях — с ним навсегда. То есть, в конце концов, вымолив развода неизвестным курсом вообще испарилась… Потом ходили, правда какие-то там слухи что она — якобы кто-то видел — садилась в очень дорогую иномарку типа «Мерседес», но и только.
Даже сейчас, понимая всю подлость с её стороны, она была дорога ему и, вспоминая её часто просящую наивно-невинную улыбку, его сжигала тоска даже сейчас, когда смерть за этими дубовыми воротами уже ждала его. Всё равно он желал бы сейчас хотя бы напоследок увидеть Наташеньку. Он посмотрел на стакан с водкой, который приготовил для себя давеча, потянулся за ним… но тут вдруг загремел замок… грохнул, упав засов… и в помещение вошёл здоровенный красивый (как ему тогда показалось) с атлетической фигурой молодой человек. Геннадий Николаевич всколыхнувшись, встал как бы в ожидании чего-то страшного и немного растерялся, спрятав по-детски почему-то руки за спину, смотрел теперь затаив дыхание на мужчину. У него в этот момент вообще как бы пропала любая способность: думать, анализировать или хотя бы более менее осмысленно рассуждать в собственных мозгах. Ноль — абсолютный ноль!
Даже двигаться телом, как бы шевельнуться и переместиться им, теперь почему-то не мог как парализованный. И только страх потихонечку вероломно подкрадывался, даже уже не подкрадывался, а мерзостно неприятно щекоча плоть сначала где-то в ступнях. Но затем, поднимаясь жгучими мурашками постепенно — пробежав холодком по коленям — всё выше и выше обретая уже леденящую остроту, наконец, пробрался через шею туда в мозг, где и начал свой титанический разрушающий труд.
Геннадий Николаевич вспотел, но внешне совершенно не выказал своего страха. Он почему-то теперь смотрел на мужчину во все глаза, пытаясь как бы понять к чему этот визит.
— Здравствуйте! Это, вы, тот дедуля, который хочет сразу много заработать денег? — вдруг спросил мужчина, нагло и открыто разглядывая его сквозь едкую улыбку как некую вещь, выставленную на продажу. Геннадий Николаевич упорно молчал. Не потому что боялся. Со страхом он наоборот постепенно как раз начинал справляться. А ему просто как нарочно, как бы даже назло не хотелось лишний раз говорить, ибо чувствовал, что слегка мелко дрожащая невольно челюсть, если он её откроет, однозначно не даст ему достойно вести беседу. Поэтому он молчал.
— Дедушка, а как вас хоть звать-величать-то? — вроде как, удовлетворившись предлагаемым товаром, снова пробасил пришелец.
— Геннадий Николаевич. (Сквозь зубы процедил он)
— Вот и замечательно… — пробурчал пришелец, горестно вздохнув и как бы тут же задумавшись о чём-то своём. Сначала как бы полностью погрузившись в какую-то глубокую целую ямищу тяжёлых раздумий и при этом отрешённо глядя куда-то в пустоту, как показалось Геннадию Николаевичу. А потом всё-таки тут же, как бы уже встрепенувшись и наконец, вроде как, вылезая даже от туда, а вылезши! — чего-то, наконец, решил для себя уже. Вроде как само собой, решившись на что-то совсем капитальное, что только что — как бы вообще тока только что вспомнил, что об этом оказывается давно уже собирался у кого-то спросить… тяжело переместив пустой и в то же время совсем не бессмысленный, но и никак всё-таки необъяснимый свой «свинцовый» взгляд ему прямо в глаза…
— Геннадий Николаевич, вы, мне вот что скажите… Вы, верите в Бога? — спросил мужчина совсем как-то — вдруг! — неуместно (такого вопроса Геннадий Николаевич совершенно даже предположить не мог!). Тот стоял перед ним, как бывало нередко стояли раньше перед ним студенты, не знающие чего отвечать по заданной теме. Профессор не видел, не чувствовал в нём почему-то врага или такого вообще в нём человека, от которого надо опасаться какой-нибудь неординарной и не здравомыслящей выходки. Но всё равно — он бы сам с удовольствием теперь задал бы свой — единственный вопрос. Тут его внимание привлёк перстень на руке этого человека. Великолепная золотая печатка с изображением, бросающимся прямо в глаза оскалившегося волка. Некоторое время было абсолютно тихо. Казалось, что сейчас должен быть слышен даже стук их сердец. Подавляющая или даже скорее всего разительно угнетающая теперь тишина резала слух Геннадия Николаевича. И совершенно вдруг ни с того ни с сего как будто вот только-только сейчас что-то похожее на то что как будто бы его укусило! — и укусив прямо в самое сердце совсем не причинило ему ни зла ни боли какой-то там, а скорее это было как бы вроде использования дефибратора при реанимации остановившегося сердца. Тут он даже сразу как-то встрепенулся. Его будто осенило! Ему как бы дан был толчок!
— Бог?! Вы, молодой человек, хотите узнать, Кто Такой — Бог… так слушайте!
Геннадий Николаевич медленно заговорил. Сначала ему совершенно как бы отстранённому от реальности показалось, что это кто-то другой — сидящий там где-то внутри его — заговорил самостоятельно вне зависимости от него. Но слова лились, и ему как бы некогда было теперь выяснять всех туманных тонкостей этой ситуации; некогда сейчас уже разбираться…
Двенадцатая глава: подонок
Она стояла в вестибюле и ждала его: о чём он её и попросил. Там в глубине помещения где-то за этими смешными побрякушечками и висюльками над входом в зал в мерцании разноцветных огней вовсю продолжал играть музыкальный ансамбль. Люди, в полумраке копошились и кривлялись как марионетки. Дивный вечер ещё был в самом разгаре. Да! весьма своеобразный человек — этот новый её знакомый. Такой солидный представительный и дружелюбный Кирилл Антонович (для неё как он сказал: можно просто Кирилл). С каким глубочайшим почтением многие к нему здесь обращаются. Некоторые прямо-таки даже лебезят перед ним. Угодливо заискивают, видимо уважают его сильно. Кто интересно он такой? Как приятно и своевременно было с ним познакомиться, а уж тем более подружиться. Если это правда что о нём говорила ей сегодня Генриетта то… она даже подумала: а может это судьба? Но тут её вдруг отвлёк от её мечтаний и грёз полупьяный немного резковатый разговор двух весьма респектабельных на вид молодых парней, которые видимо только что вышли из-за стола, чтобы здесь покурить, и случайно видимо вынесли сюда свой застольный диспут.
— Ты представляешь, Боря? Какую он сумму стервец запросил… — тут он как бы ни желая, чтобы кто-нибудь посторонний услышал их чаяния немного полуслепо пошарил слегка осоловелыми глазами по сторонам. Затем вполне удовлетворившись отсутствием около них кого бы то ни было могущего подслушать, а в вестибюле вообще было пусто и только лишь несколько поодаль, от них стояла сама Татьяна Ивановна, не представляющая из себя, как тому видно показалось ничего опасного. Тем не менее, он всё равно злобно шепнул своему товарищу действительно видимо уж совсем какую-то конфиденциальную цифру на ушко от чего тот в состоянии явного изумления (аж чуть-чуть присвистнув) покачал осуждающе головой. А этот с ожесточением в голосе продолжал уже вслух:
— Вот так вот, Боря, надо «бабки-то» делать! Я — за эту сумму год пахать должен, а он — сволочь — за одну свою резолюцию столько просит. Ведь знает скотина, что если мне нужна эта грёбанная аренда, я выложу ему эту сумму. А главное была бы она его — хотя бы личная — его площадь-то, а то ведь государственная площадь-то! Знает стервец, что всё равно она мне нужна, а значит дам я ему на лапу — всю сумму — до копеечки выложу. Даже ежели сам без штанов останусь, а всё равно выложу! А ведь там ещё и официальная ежегодная плата есть… Так и готовы мрази всё до последнего забрать… так вот и думай Боря!
— Да! Петя, так оно и будет… А что ты хотел? У нас всегда к власти одни подонки лезут! Зря всё-таки наши предки себе на свою шею варягов из-за моря посадили, чтобы они правили имя. Ведь жили же до этого безо всякого государственного устройства. Жили, не тужили и вопросы как-то свои решали. И не всегда же методом ограбления друг дружки… Нет! им надо было обязательно кого-то посадить себе на шею — на горб! А самое главное эту государственную систему, — и он раздражённо подкрепил свои слова шлепками раскрытой ладошкой по своей же шее состряпав при этом на лице недовольную гримасу, — нет, Петя, мы-то конечно вряд ли уже доживём, но вот — гадом буду! — лет этак через сто не будет никаких государств. А то — вообще-то может быть даже и совсем скоро. И будут тогда люди жить: спокойно и радостно… сами себя кормить будут… и обеспечивать во всём. Поверь мне!
Татьяна Ивановна дальше уже не могла подслушать беседы, так как появился Кирилл Антонович. Причём тот грациозно кружась и одиноко вальсируя, элегантно нёс в своей руке великолепную розу (где он её тут мог сейчас взять???). Подошёл или скорее всё-таки плавно подплыл, и разлюбезнейше поклонившись и даже исполнив всё так же с безупречной грацией реверанс, в том же поклоне покорно склонил пред ней свою с модной причёской голову брюнета. Он торжественно протянул ей цветок и поэтично проговорил:
— Мадам!.. Я весь у ваших ног… Хотите, я рассыплюсь в бисер?..
Она, слегка покраснев от удовольствия — польстившись его поступком и словами, приняла из его руки розу и с улыбкой смущения, но и не без апломба проворковала:
— О, Кирилл Антонович, — тут она совершенно нарочно так к нему обратилась, — где вы отыскали такую прелесть?.. Ой! Право, вы, меня избалуете… Кирилл Антонович.
— Баловать прекрасную даму как вы, дорогая Татьяна Ивановна, не только ужасно хочется, но и необычайно приятно к вашему сведению будет сказано. Ну что, вы, принимаете моё скромное приглашение?.. Или всё-таки собираетесь уничтожить меня?! Низвергнуть ниц, затоптать, стереть с лица земли своим жесточайшим отказом. Вы, моя добрая фея — колдунья! — вы очаровали меня, захватили в плен мою душу… О, прошу вас, помилосердствуйте, не покидайте, не оставляйте меня в одиночестве! Иначе сделаете меня самым-самым несчастным человеком в мире! Вы убьёте меня своим отказом и я — паду к вашим ножкам бездыханный…
— Да! я согласна, но только у меня есть одно — но…
— Я у ваших ног! Я впитываю каждое ваше слово как воздух!.. Как живительный нектар для моей души!.. Я раб ваш навеки…
— Я простите в том смысле, чтобы не было с вашей стороны никаких так сказать неожиданностей… В смысле каких-нибудь непозволительных приставаний… глупого какого-нибудь уговаривания… Ну, вы, надеюсь, понимаете меня, понимаете о чём — это я?
— О, Татьяна Ивановна, да за кого же вы меня держите? За гадкого червяка?.. Подонка?! ИЗВЕРГА!!! Ваше любое слово — закон! Я раб ваш… Ныне присно и во веки веков…
До этого мы как-то ещё не касались достаточно близко семьи Татьяны Ивановны. Мы старались вообще как-то обходить её стороной. А тем временем, между прочим, там много произошло все различных несколько шокирующих любого добропорядочного семьянина событий. Мы рассматривали, но и то лишь краем глаза как говорится её, то есть исключительно рабочую обстановку. Её так сказать карьерный рост — головокружительный! — для обычной женщины где-то средней руки в России. Да и посудите сами: замужняя и энергичная, честный человек и красавица, бывшая спортсменка, комсомолка, ныне мать двоих малолетних детей. (Учеников первого и второго классов.) А значит женщина — соответственно относительно ещё молодая в самом как говорится соку, причём весьма миловидной внешности со среднетехническим образованием. Правда, по совершенно другому профилю, но это как видите по ситуации неважно. Она уже можно сказать директор, она более того — что значительно главнее — собственница! Да и состоит-то в штате фабрики директором так: как говорится — на всякий случай. «…Мало ли чего может завтра произойти в нашей совершенно непредсказуемой стране на политической арене!..». Так ей, во всяком случае, объяснил Пётр Николаевич, а ему она единственно кому доверяла. Он ей так и говорил: «…пока всё так шатко…»
До нынешнего дня, мы определённо считали или даже были уверенны, что как раз в семье-то у Татьяны Ивановны непременно всё очень и очень даже хорошо, то есть тыл у неё не иначе как отменный. Собственно говоря, так оно и было — пока наша Татьяна Ивановна «пугалась собственной тени» при новом своём таком положении, то есть вела себя тихо скромно и не выпячивалась. В принципе, ничего такого уж чрезмерно страшного она конечно тоже не натворила, но вот, пожалуй, если только успехи в бизнесе сильно прогрессирующие за последнее время до невозможности в ней «опьянили» её амбиции. Она слишком стала о себе непозволительно высокого мнения наверное даже больше чем того следовало бы. Донельзя чуть ли завысив планку своего статуса, конечно же, только в своих глазах. Иначе говоря — зазналась. Наша Танечка с лёгких и частых комплементов, звучавших нередко в её адрес от подчинённых мужчин, которые прямо-таки теперь осыпали её ими ежедневно! Да и не только подчинённых, а и вообще просто знакомых мужчин и даже совсем незнакомых. Кстати как-то уж дюже легко и скоро привыкнув к ним, основательно разбаловалась этаким вниманием к собственной персоне — головушка её закружилась! А, кроме того, она, как-то необычайно сойдясь с новыми подружками (ниоткуда возьмись взявшимися) чрезвычайно увлеклась модой, стала шикарно с безукоризненным вкусом одеваться, нередко приобретать себе очень дорогие вещи.… В принципе, а чего бы — и нет! — коли денег уйма…
Подружки показушно восхищались её внешними данными, которые в принципе и в самом деле были от природы отменными, но ставшие теперь ещё более заметными — более блистательными что ли! Хотя и восхищались-то как-то неестественно, скорее притворно. Чаще несколько грубовато или даже вовсе не умеючи льстиво и как бы с завистью подчас подыгрывая ей, «подмасливаясь» под добрую ручку. Между тем почти ей внушали её изысканность и необычайную талантливость, а то порой даже не пренебрегали в открыто льстивой форме, накручивать ей и её гениальность. Глядя же на её мужа, несколько куксясь и морща свои носики — чуть ли ни открыто — нашёптывали с заговорщическим видом, что Коля её — совсем ей не пара. Дескать, они вообще друг другу не подходят; мол, ты Танечка — птица белая гордая порхающая высоко и красиво. Тебе, мол, нужен такой же, как и ты сама — мужчина, мужчина — «орёл». А это, мол, что за супруг такой? — сморчок какой-то, — да и только! Таня и действительно немножко попуталась, посчитав уже своего Колю недостойным и впрямь для неё как «контингент». Поначалу, правда, её, их речи сильно раздражали, но постепенно она начала как-то даже присматриваться к себе и Коле, сравнивая как бы, а, в конце концов, и прислушиваться начала к ним. Особенно когда заимела новёхонький красненький «Опель» и тем более, когда очень скоро сдав на водительские права, уверенно села сама за руль.
До этих пор я умышленно не касался её второй половины, даже хотел, как бы вообще про него сначала умолчать. Дескать, замужем — и замужем соответственно есть муж — и всё! но не тут-то было… Муж её был довольно-таки простой мужчина на два года старше её: не сказать что, мол, красавец, но и не сказать, конечно, ничего про него и плохого. По характеру поведения своему или по внешнему, к примеру, «необстоятельному» облику со стороны, коль глянуть: так чисто русский мужик — добрейшей души человек. Обыкновенный слесарь-сантехник из местного ЖЭУ. Никаких повышенных амбиций. В меру культурен, имеет характерные для слесаря-сантехника вредные привычки. Хотя и в значительно даже меньшей степени типического. Такие же у него: ни лучше, ни хуже — друзья. В общем, всё как обычно — как собственно и полагалось ещё в недавних советских семьях. Супруг же Коля со своим вполне опять же обычным мировоззрением: не рвался ни к звёздам, ни к большим деньгам, ни тем более к славе. Он и прожил бы вот так вот всю жизнь: тихо и спокойно, но при всех своих этих преимуществах и недостатках он весьма хорошо уживался со своими принципами и возможностями, будучи на редкость самодостаточным.
А вообще вот если взять и спросить о нём среди его же друзей-товарищей: дескать, что же представляет собой ваш Коля-то? Ответ будет однозначным. Причём при любом их состоянии трезвости или нетрезвости: отличный мужик! Наверное, он и в самом деле был таковой. Известно и вполне достоверно, что Татьяна была серьёзно в него влюблена ещё со школы, особенно до замужества и поначалу их совместной семейной жизни. Почему? Да кто его знает?.. Ей, наверное, всё-таки видней! Да собственно и сейчас если бы только не щебетание новоиспечённых подружек так бы и жили бы они потихоньку-полегоньку вместе до конца своих дней.
Как Коля относился к её необычайной карьере? Наверное, нормально… а как ещё должен относиться нормальный человек к делам такого рода, когда вопрос касается достатка? Может быть, у него и были какие-нибудь тайные мыслишки, но он ими ни с кем не делился, кроме своих может быть друзей конечно. Но и те молчали как рыбы. При всём при этом — ему всё чаще приходилось дома исполнять роль домохозяйки и воспитателя детей. С чем научился вполне достойно справляться. Так как Татьяна Ивановна последние полгода дома бывала очень редко: повидать детей, да и переночевать иногда; а на работу Николай ходил чисто просто по привычке или типа того: ведь всё-таки надо было куда-то ходить.
Но совершенно недавно между ними произошла и уже не впервые — ссора. Раньше — хотя бы полгода назад — за восемь лет совместного проживания до этого вообще ничего подобного даже и не могло произойти, а теперь это прямо бросалось в глаза. Прежде всего, невозможно было не увидеть того как постепенно с нормального межсупружеского оптимально-лояльного тона в разговоре она перескочила вдруг на тон приказа. К, какому-никакому ну никак не мог привыкнуть, да и категорически с которым не хотел свыкаться её муж. Он ей поначалу вроде бы даже пытался различными способами это объяснить как-то, втолковать, но Татьяна Ивановна: то ли нарочно, а то ли и в самом деле не видела или не понимала очевидного; скорее всего, конечно же, второе. Она основательно изменилась за последнее время. Если раньше она всё-таки у него ещё спрашивалась и даже по обыкновению как бы отчитывалась перед ним: где была, куда ездила. Даже вкратце иногда делилась какими-нибудь новостями по работе. А теперь? Николай кроме денег, которые теперь имелись, безусловно, в изобилии, детей, домашних мероприятий по уборке квартиры с приготовлением для детей и себя пищи (чего тоже легко усвоил!) и, в конце концов, своей работы, где он по-настоящему теперь только отдыхал, ничего не видел. В самом деле, матриархат какой-то — да и только! Хотя я именно не понимаю и понимать не хочу: матриархат патриархат! — в чём и какая тут разница. В каждой семье давно всё это уже присутствует и, конечно же, в каждой семье по-своему.
Кроме того последнее время она часто стала приезжать на своём «Опеле» совсем неслабо поддатая. При этом обильно сверкая бриллиантами и золотом — увешанная в них с ног до головы, как новогодняя ёлка и даже совершенно не опасаясь никаких опасных последствий и случайностей. Милиция была куплена, бандиты тоже.
А вот в семье, в конце концов, дело вдруг перешло: от очередных ссор и скандальчиков до серьёзного разговора и даже уже о разводе. Николай ей вчера сделал последнее «китайское» (как она сообщила своей подружке Генриетте!) предупреждение. И теперь она была на очередном необходимом при её профессиональной деятельности банкете, где сегодня собрался разнопёрый контингент в шикарном по нынешним меркам ресторане «У реки Ганга». Этот вечер созвал их снова, чтобы тут порешать многие сугубо важные вопросы, а иначе говоря, блеснуть своими достижениями в бизнесе, какими-нибудь новыми необычайными приобретениями-покупками и, конечно же, сумасбродно повеселившись «надраться» алкоголем или… и покадриться.
Буквально давеча она была приглашена на танец «обалденным мужчиной» (по словам её подружки Генриетты) и они сразу же легко разговорились. Он вообще был очень забавный, интеллигентный и даже шикарный не только внешне, но и милый собеседник. Они совершенно даже можно сказать как-то сразу незаметно сдружились да и вёл он себя мало того что вежливо и даже с достоинством как настоящий джентльмен, но и вовсе даже без каких-либо там сальных намёков: на что-то там такое вроде как недозволенное с моральной точки зрения. А если всё-таки и позволял, то это звучало максимум — как шутка или некий комплемент ни к чему не обязывающий. Он пригласил её так сказать для дальнейшего проведения их весьма интересной беседы и тем более упрочнения их дружбы к себе за город в гости. На его «виллу» (как он сам выразился) куда собственно говоря, они в данный момент и направлялись, уже заранее договорившись на его роскошном «Мерседесе». Последней, конечно же, самой! последней модели — изъясняясь его словами. А её «Опель» они оставят пока здесь под присмотром патрульной милиции.
Когда они приехали в его загородный довольно-таки роскошный дом — средневековый замок! Она с воображением уже несколько напичканным такого рода вещами всё-таки всё равно была искренне ошарашена. Она была поражена и размахом и роскошью. Вряд ли кто из бывших советских граждан в то время вообще смог бы даже себе такое представить впрочем, если только посмотрев какой-нибудь американский фильм про миллиардеров. Это был райский уголок!
Давно откипели первые впечатления; обсуждено немало интересных тем; только что была начата вторая бутылка шампанского… Татьянин фужер так и стоял немного всего лишь пригубленный. И это в то время когда Кирилл Антонович не в пример ординарному своему состоянию сильно поднакачался шампанским и уже начинал терять контроль над собой (или было так в задумке?). Позволяя себе нет-нет, да и некую вольность в своём фривольном поведении. Вообще-то конечно мне надо было ещё раньше об этом сказать, да всё было как-то недосуг. Кирилл Антонович очень часто по своей горячей молодости допускал себе такие пикантности — то есть приглашать в свой загородный «дворец» хорошеньких барышень, которых непременно потом, всячески обхаживая, затаскивал обязательно в постель. В принципе, казалось бы, ничего тут особо предрассудительного-то и нет потому как мало ли как может проводить своё время — свободный в семейном плане, и, разумеется, от работы молодой человек, но…
Всё дело в том, что Кирилл Антонович был ещё тот «ходок» или проще говоря, жутким волокитой он был за слабым полом. У него было почти до, если можно так выразиться — спортивного азарта всё это и даже доходило до исключительного правила, чем больше он встречает сопротивление со стороны (с его слов) «объекта внимания» тем значительней разгорается и его похоть. А в способах достижения своей цели он никогда не гнушался. Кроме того — он был великолепный психолог женских сердец и это не только он сам так считал, а, пожалуй, наверное, и в самом деле так оно и было.
Сначала Татьяна Ивановна даже не придавала особого значения его некоторым действиям типа: стоя у неё за спиной и рассказывая какую-нибудь совершенно постороннюю историю, Кирилл Антонович поначалу позволял лишь лёгкие обнимания прикосновения руками к её телу в некоторых не совсем как бы дозволенных местах. Но позже, постепенно его действия доходили уже даже до наглого вполне прямого хватания рукой за грудь… и так далее. Первоначально она просто брала его руку своею рукой и аккуратно не возбуждая ещё в себе никаких пока обид просто-напросто отстраняла чересчур обнаглевшую руку. Сама же продолжала так сказать мирную беседу. Но потом его поступки совсем стали открыто-наглыми. Он уже практически начинал обычную любовную атаку-прелюдию, возбуждаясь при этом и даже как бы постанывая чуток… Чем невероятно смущал её. И наконец, всё-таки совсем не выдержав, она явно засуетилась, собираясь уйти. Однако ненароком вспомнив что они находятся далеко от города для пешего передвижения, а машина-то её осталась у ресторана, но уважаемый Кирилл Антонович (во всяком случае пока уважаемый!) для того чтобы подвезти её на своём «Мерседесе» — не вполне адекватен.
— Поздно уже, Кирилл, может быть вы, мне предложите, найдёте что-нибудь в ваших апартаментах поскромнее. Небольшую там, например, какую-нибудь комнатку с кроватью или диванчиком, чтобы я смогла там отдохнуть — поспать немножко. Я ужасно устала мой друг нельзя ли устроить где-нибудь, переночевать? А завтра утречком продолжили бы наши обсуждения…
— Здесь, милая моя, вам не гостиница! А место такое, разумеется, есть и оно в моей спальне. И мы сейчас вместе пойдём туда и само собой его тотчас разделим, как говорится: «два — в одном»… У нас будет шикарная ночь — ночь для двоих. Ночь — любви, ночь — безумной страсти… ночь — безрассудства бесстыдства и необузданной благодати!..
— Кирилл Антонович, вы обещали…
— Танюша! Да! Я обещал… но вы… — излишнее опьянение его вдруг как-то сразу улетучилось. Он снова стал бодр и весел, как будто и не был никогда пьян, — вы меня так! Так меня околдовали своею небесной красотой, что я абсолютно не в силах уже больше терпеть! Я сейчас в дикой страсти накинусь на вас как тигр! — и тут он действительно совсем неожиданно подхватил её, вдруг своими сильными руками и почти бегом… нет — даже прыжками! В самом деле, как тигр с добычей — стремительно! — понёс её наверх по ступенькам. Она не успевала, да и не могла сопротивляться. Она не успела даже, и сообразить-то, как они уже оказались в просторной изумительно обставленной спальне, где он её, можно сказать, бросил на шикарную и необычайно мягкую постель. Он совершенно дикими — безумными! — глазами пожирал её. Он глядел на неё и тем временем ловко снимал с себя одежду и демонстративно разбрасывал её в разные стороны, не обращая никакого внимания ни на что. Миг и он уже был в одних только плавках (кстати, неимоверно моднючих!). Его равномерно загорелое прекрасно развитое тело — натренированного спортивного мужчины выражало собой полную готовность, которая даже несколько выпячивалась стеснённая плавками. Он был великолепен! И он об этом прекрасно знал; он сотни раз уже, таким образом, побеждал. Казалось бы, какие ещё тут могут быть рассуждения, разговоры или тем более слова: отговорок и отказов! Всё! казалось каким-то не нужным и лишним…
Да! может быть любая другая женщина и посчитала бы даже за честь оказаться сейчас здесь в интимной близости с этим молодым целеустремлённым и блистательным мужчиной! Но Татьяна Ивановна почему-то именно сейчас вспомнила о своих детях и о своём супруге; ей необычайно внезапно как-то стало жутко стыдно и паршиво на душе…
— Простите меня, Кирилл Антонович, но мне всё-таки надо домой. Я как раз вспомнила. Не могли бы вы меня подвезти на своей машине к моему «Опелю».
Наверно с минуту Кирилл Антонович смотрел на Татьяну Ивановну, совершенно ничего не понимая. Как будто она только что проговорила всё это на другом совершенно незнакомом ему языке — да что там! — казалось, если бы она сейчас, в самом деле, ему что-нибудь сказала на чисто китайском языке — он бы и то меньше удивился. А тут?
— Ты что мля, дура?! — чего только и смог, наконец, выдавить он из себя. Поэт в нём угасал на глазах, и взамен появлялось что-то новое: холодное и страшное… На его побагровевшем лице вдруг чётко выразилась ненависть обнажённое презрение и какая-то излишняя — настырная! — лезущая на показ надменность явно не предвещающая ей ничего хорошего.
— В общем, слушай меня сейчас внимательно — я сейчас выйду… покурить, а когда приду, ты уже раздетая должна будешь меня здесь в этой постельке ждать. Наведи лоск, плюмаж, вон там вон ванна… и всё остальное там тоже есть… — и он неторопливо с выражением на лице, будто оплёванный вышел. Татьяна осталась одна; мало того что она находилась в шоке от быстрой такой перемены в своём отношении к ней Кирилла Антоновича, ей никак не верилось в происходящее глядя в его честные благородные голубые глаза, а к тому же ещё в ней как бы тоже внезапно — как бы совсем-совсем к тому же — проснулось какое-то странное чувство. Видимо дремавшее в ней последние эти полгода. И вот на тебе! Так неожиданно оно: ядовито и нестерпимо больно вцепилось теперь, как острыми когтями где-то внутри её — в её же плоть, отчего у неё обильно полились слёзы. И совсем не от физической боли она сейчас страдала, а от боли — более страшной и мучительной — душевной. В этих слезах было всё: и какая-то обида и угрызения совести и даже жалость к себе. Ей вспомнились её деточки: такие милые, такие добрые нежные… Она даже как наяву сейчас увидела их прелестные, чистые и счастливые улыбки. Вспомнила, что не виделись они уже так давно, давненько просто даже не беседовали. Последнее время она даже не интересовалась их отметками в школе… И так ей стало тоскливо! — что она откровенно была готова сейчас рвать на себе волосы: за то, что была такой невнимательной ни к детям, ни к собственному мужу… Эх, какая она дура!..
Он зашёл голый, даже без плавок и его достоинство свободно вися, болталось из стороны в сторону (выглядя совершенно безобидно). Он был абсолютно уверен в том, что всё, что им было приказано ей — само собой уже выполнено и та покорно ждёт его уже голенькая в постели. Но каково было его изумление, когда он её обнаружил всё в том же одетом виде, как и оставил её давеча.
— Ты что, курица, поиздеваться надо мной решила?! — еле сдерживаясь от эмоционального взрыва, прошипел он, глядя предельно ненавистно ей прямо в глаза. Казалось, сейчас он подойдёт к ней и медленно, очень медленно задушит её, наслаждаясь её смертью… Она бесстрашно и бесстрастно встретила его взгляд и выдержала его до конца, но потом… что-то мелькнуло у неё в голове. Что-то как бы щёлкнуло: что-то недоброе, может быть, даже необдуманное и поспешное — весьма опрометчивое! Но она, к сожалению, уже не могла остановить себя. И вот как бы весь накопившийся ужас в её сердце — негодование… Сейчас просто всё это выплеснулось из её души в какой-то, может быть даже весьма глупой форме необдуманного поступка. Может быть, в какой-нибудь другой ситуации она бы никогда не поступила бы так. Но она тоже, как бы уже мстя ему за своё унижение. Показывая пальцем на его предмет гордости (не то чтобы он там какой-то был особенный, нет, абсолютно такой же, как и у всех обычной формы и размера — нормальный) и яростно хохоча — аж захлёбываясь смехом, проговорила как бы несколько удивлённо. А скорее всего у неё была просто истерика:
— И что? Вот этой вот… штучкой… ха-ха-ха!.. Ты хотел меня… ха-ха-ха!..
Она не закончила того чего хотела договорить. Охватившая его ярко обнаруженная ненависть вдруг перелилась в дикое несусветное буйство. Он теперь подсознательно где-то там — далеко в мозгах! Даже уже боялся убить её. Потому как не хватало ему ещё каких-нибудь неприятностей от этого действия. А карьеру свою и собственно говоря, саму жизнь ставить на карту он совершенно не собирался, а поэтому он едва всё-таки сдерживаясь, проорал:
— Уматывай отсюда, мразь! Быстро! Быстро, сука! Убью, млять! Ты у меня ещё пожалеешь… приползёшь, сука!.. Будешь умолять, тварь! — дать тебе его отсосать, падла!..
Татьяна Ивановна быстро даже ни о чём, не задумываясь, тотчас выскочила на улицу и бегом направилась в сторону города с туманной надеждой поймать в такое время ночи какую-нибудь попутную, да и собственно — любую машину…
Тринадцатая глава: Геннадий Николаевич говорит о Боге
— …Бог не только бесконечно многогранен, но и настолько всеобъёмен и всемогущ, что ЕМУ не зачем доказывать: мне, тебе, им, нам — своё присутствие. Многие почему-то представляют себе Бога в облике человека, которого можно: потрогать, увидеть или даже чем-то обидеть при желании… И который где-то прячется почему-то ото всех в виде такого степенного слегка уставшего от всего, однако, очень строгого дедушки. Но тут они глубоко ошибаются потому, как Бог-Отец не может быть исполнен в образе всего лишь одного человека. Ибо — это НЕ ЧЕЛОВЕК, а Великая Сущность Истины, иначе говоря, вездесущий ДУХ. А представляют себе Бога строгим дедушкой люди исключительно только своими: ограниченностью и невежеством.
Да, Сын Божий — Иисус Христос один из тех, который сошёл в ад с небес в образе Бога-человека, чтобы человек осмыслил. Наконец постиг, что Господь Бог заботится о нём. ЕГО высочайшее присутствие само собой разумеет, что любой из нас — рано или поздно, но, в конце концов, вернётся именно к НЕМУ. Потому как любой из нас является ИМ или ТОЙ ничтожно малюсенькой частичкой САМОГО ЕГО, которая вселилась в сегодняшнее тело любого из нас. И которую мы уже ошлифовываем — как себя.
Он вдохнул в нас жизнь, дал — эти тела. Только ОН мог создать ВСЁ!.. ОН сотворил этот мир: землю, небо, природу… всё-всё-всё до мельчайших микроскопических подробностей. И если вдруг кто-то скажет, что сей мир — несовершенен. Ох, как он ошибётся! Потому как — всё — в этом мире подвластно ЕМУ, как и во всей Вселенной. Мало того ОН и есть — Вселенная! Хотя и не весь космос… Напротив наш мир — это верх совершенства. Необычайно взаимосвязаны его составляющие. Рассматривая космос: с минус бесконечности (то есть вывернутого её состояния) перетекающую через слом — центром которого является каждый в отдельности индивидуум вселенной — уже минуя звёзды — созвездия! — чёрные и белые «дыры» потусторонних миров (с бесконечностью их измерений) в плюс бесконечность, а в целом: бесконечность всех бесконечностей…
Не может случиться у Бога, так как происходит иной раз у нерадивого «папочки», которого по недоразумению ослушался «сынок». Тот же Сатана брат Иисуса Христа тоже выполняет свою миссию и в том несёт опять своё испытание… Свою трагедию! Ангелы тоже видимо бывает, грешат. Но Господь Бог и ему скорей всего давно уже простил потому, как непременно знал уже всё наперёд. (Ничто так не облагораживает добра — как зло.) И во всём этом, но прежде всего поначалу на этой земле мы проходим и каждый по-своему и вместе и в отдельности своё ИСПЫТАНИЕ.
В каждом теле присутствует то, что мы называем душой. По своему незнанию мы ассоциируем душу — как вроде с чем-то посторонним или нечто в какой-то степени только относящееся косвенно к нам или даже просто — как некий бесплотный орган, но, никак не видя в ней самих себя. Ибо самими собой мы непрестанно считаем в первую очередь именно свои физические вот эти грубые тела. С ними связываем и ассоциируем своё присутствие в этом мире и вселенной — как истинную сущность… И это! в то время когда тело как раз-то в наименьшей степени и относится-то к нам; мало того — оно вообще нам неприсущее. Оно временно. А главенствующую роль играет наше теперь уже вечное Я, но и вечное-то оно только рядом с Богом! (Без Бога — там — мы вообще будем: слепы, глухи и немы… лишь сознание…) Так вот это наше — Я и есть — Искра Божья. Именно она в каждом из нас и есть — мы. Каждый из нас. Поэтому для Бога нет среди нас избранных. Как нет у нас самих: ненадобного пальца, глаза или какого-то другого органа или части тела. А сами мы — то, что мы сами накопили (для себя сделали!) за время своего пребывания, здесь начиная с нуля (от микроорганизмов до млекопитающих) в том или ином теле. Затем в целой очерёдности разных человеческих уже тел проживая в них определённые жизни, обогащаясь познаниями и опытом, несём уже это в новое следующее тело: в виде здоровья или немощи; положения или неустроенности; удачливости или невезения… И всё это! В зависимости от своего благоразумия в прошлом теле — и так: плача, болея, смеясь, тоскуя, любя и ненавидя… и в сложном переплетении других чувств — находим себя. И наконец, становимся самими собой каждый в своём — Я. Человеческое тело — есть уникальное устройство для сбора и хранения всей информации прошлых воплощений с последующей её реализацией.
Нет того — кого бы ОН выделил; ОН одинаково любит нас всех (а как же себя-то не любить?!); абстрактно наше единство и есть ОН, но ОН есть ещё и кроме нашего единства. Те ступени жизней, по которым мы проходим: либо топчемся порой на месте; либо даже скатываемся вниз (опять к животным, а то и ниже) — назад! откуда собственно и начали своё движение. А ведь у каждого есть своя бесконечная итоговая цель в этой плеяде воплощений. Становление, в «конечном» итоге — аналогичном образу Иисуса Христа — ОН и есть пример для нас — к чему мы и должны-то, стремиться, но только уже в своём лице… А простора-то великое множество! Бесконечность! Чтобы заполнить всю эту бесконечность пустоты тем Святым Духом, той Истинной Любовью, которые нам — передал Иисус Христос как эстафету. А мы, в свою очередь, приняв её и достигнув Высоты Святости должны понести её в далёкие и ещё неизведанные «уголки» бесконечной пустоты. И там — в том же образе Бога-человека должны где-то передать её другим чтобы те — передали дальше… И эта цепочка опять бесконечна! Это только для нас земля одна, а таких планет в космосе бесконечное множество! Нет — предела совершенству! Таким образом, нам всем даётся великая честь — выполнить Высочайшую Миссию во вселенной жаждущей нашей Высочайшей Любви! Слушайте своё сердце, только в нём мы найдём те крупицы правды о той Истиной Любви, чтобы достичь Величайшего Состояния! Вследствие этого, чем дольше мы топчемся на месте или, что гораздо хуже — задерживаясь в ничтожестве, мы задерживаем и необходимое заполнение мироздания — Любовью и Святостью Чистоты, стопорим и час достижения Вселенской Гармонии.
Мы должны как можно быстрее впитать в себя то добро и понести его в себе вершить неминуемую насыщенность бесконечности — ИМ. Но возвращаюсь тут снова на землю. Ибо здесь и происходит самое основное действие: первый наш главный шаг — каждого из нас. Шествуя по жизни и совершая те или иные поступки, которые, самопроизвольно переплетаясь и записываясь в память Гигантского Космического Компьютера (или как мы привыкли — Господа Бога) фиксируются, там проходя определённую обработку. Увязываются с другими единицами такими же, как и мы сами, а затем волей Проведения уже в новых рождениях всех нас и наших совершённых уже ранее действиях переплетаясь между собой, каким-то образом доводят до совершения с математической точностью упорядоченных — закономерных — случайных случайностей. И всё это выливается, наконец, для каждого из нас в определённую и конкретную программу. Иначе говоря, судьбу… Упрощая, всё выглядит так: украл у другого — украл у себя, обманул другого — обманул себя. Убил другого, оскорбил… оклеветал и т. д. и т. п., то есть чего бы ни сделал прочему — в новых реинкарнациях переживёшь это же сам. Снова упрощая: всегда зло — делаешь против себя… добро для! «…Возлюби ближнего — как себя самого!..»
Многие, получая какой-то удар судьбы, бывает, ропщут мол — за что??? Я же теперь такой хороший!!! Но ведь он не знает своих прошлых поступков, а значит остаётся только одно — стойко и покорно нести свой «крест» найдя его — в смирении и покаянии… Ещё Л.Н.Толстой писал: «…даже волос не упадёт с твоей головы без ведома Бога…». Здесь легко можно сделать вывод: каждый сам себе строит свою будущую судьбу, сам «придумывает» себе препятствия и наказания для следующего прохождения в новой жизни своего дальнейшего испытания. От каждого зависит высота сложности его будущего нового пути! «…Ищите во всём великого смысла. Все события, которые происходят вокруг нас, имеют свой смысл. Ничего без причины не бывает…». Даже те, — которые думают, что они всегда идут наперекор своей судьбе, считая себя истинным хозяином любых событий, на самом же деле глубоко заблуждаясь, так и двигаются-то именно всё-таки по её посыланию, гораздо больше лишь мучаясь. Наконец достигнув чего-то желаемого, что им было и так суждено. Однако они, записывают это себе как подвиг, считая теперь себя героями. Но я о другом повторюсь…
Да-да! Именно повторюсь, так как, плюнув кому-то в лицо, если даже, казалось бы, это лицо отъявленного подонка и как бы ни выглядело это порой невероятно всё равно ты плюёшь снова только себе в лицо. Не нам решать — не нам судить! «Не суди — судим, не будешь!» Тут — так — всё взаимосвязано! И так — всё для нас запутанно. Что нам не дано разобраться. Ибо совершая грех, любой индивидуум заносит его в память тела на генном уровне, а невинный потомок уже потом на том же генном уровне будет иметь свои трудности от этой записи. Которые он: либо достойно предотвратит — переборов их; либо усугубит! — повторением грехов своего предка. Жизнь — постоянная борьба Духа с телом. Важная задача — победить прихоти тела. Научиться управлять и контролировать его желания и слабости — это и есть главная цель! Тренируйте свою силу воли. Бывает такое, что обладатель тела просто не знает того что ему приходится бороться чаще всего или даже в основном-то с самим собой — с тем бесом которого вогнали в плоть его предки или он сам за многие свои прошлые воплощения. То есть опять же — предки тела и только тела! — душа же дана, повторяюсь, нам САМИМ БОГОМ… Такова «плоть» самого ЕГО!
Потому-то мы и есть рабы Божьи — что всегда не ведаем своего пути. И слепо должны следовать его заповедям… Причём, не откладывая на потом, перелагая «в долгий ящик», рассчитывая на следующую жизнь, ибо опять мы не смеем знать, что будет дальше и будет ли у нас другая подобная возможность для этого в ближайший миллиард лет… А как долго его придётся ожидать в каком-нибудь камне или даже целой планете! Чем больше ты раб Божий — тем больше ты сам Бог… — тут Геннадий Николаевич вдруг сел или скорее всё-таки упал на топчан и потупив свой взор замолчал. Он как бы в свою речь вложил все остатки своих сил. Всё это он проговорил вроде как на одном дыхании, ни разу не остановившись и ни разу не сбившись. Как выученное наизусть. Единственно только, что с каждым новым словом или фразой он становился — прямо на глазах — увереннее, смелее. В его глазах неистово тогда горело некое мощное исступление, вызванное какой-то неведомой силой: захватившей тогда его и как бы уже ведшей. Всё происходило вроде как под контролем Геннадия Николаевича, но в большей степени скорее даже неосознанно — как бы во сне…
Некоторое время они молчали. Видимо каждый был поглощён своими мыслями. Но вот Волчара встал, как будто неожиданно вырос, словно освободившийся от ноши атлант; потом в зависимости: то ли от полного осмысления услышанного, а то ли пока слушал эту проповедь — задремал и вот только сейчас окончательно проснувшись, ухмыльнулся. При этом скептично мотнув головой и резво подойдя к табуретке, вдруг схватил стакан с водкой, и ни секунды не раздумывая — залпом осушил его, как будто он это делал каждый день. А затем в задумчивости вытершись рукавом, наконец, проговорил:
— Гм… Однако, вы, сказочник отменный… Тут — надо отдать вам должное… Хотя скорей всего: так оно и есть или где-то рядом… наверное. Эх, вытравили из нас веру в Бога коммуняки! Ведь хочется же — верить. Ведь веришь, но и тут же рядышком овивают паутиной сомнения. Исподтишка как-то — подкрадываясь, подползая, затягивая… Глянешь, а они уже в мозги вползают… Смотришь, а они уже в сердце елозят! Так и копошатся там как черви навозные… эти мерзкие сомнения! Правы, вы, конечно, всюду и есть кругом одно испытание… И жизнь — сама и есть не что иное, как испытание. Неужели у вас, Геннадий Николаевич, никогда не бывают эти самые сомнения?! По словам вашим, судить так вы верите, в Бога по-настоящему. Я ещё ни разу не встречал в своей жизни таких людей как вы… — тут Вячеслав посмотрел на Геннадия Николаевича ещё раз: только пристальнее, внимательнее якобы присматриваясь опять к чему-то, но усмехнувшись, продолжил:
— Вы вот, наверное, теперь думаете: вот, мол, этому дурачку «лапши на уши навешал», он теперь не захочет, мол, на душу грех брать и отпустит меня. А я вам так скажу, я сюда уже шёл с таким намерением, чтобы отпустить вас. Вы же вот сюда-то попали, поди, потому как бродяга бездомный. Кстати, как вы догадались, что вам денег не дадут, а голову откромсают косой? Мне Шустрик пожаловался, что вы отказаться решили и того… взбрыкиваться начали, но он вроде как на место поставил вас… Что молчите-то? Боитесь?!
— Нисколько… — ответил Геннадий Николаевич. И вдруг тут же ему: то ли показалось, что ему действительно ни капельки не страшно теперь; то ли устал он как-то бояться да и жить так дальше — боясь всего. А то может и в самом деле? Стал верить в то: что без ведома Бога не упадёт даже волос с его головы; а значит в любом случае: чему быть — того не миновать. И он с какой-то неподдельной уверенностью добавил:
— Нисколько не боюсь потому, как знаю, что придёт время и буду я ещё вспоминать эти хмурые деньки через пару десятков лет с лёгкой улыбкой некой даже тоски…
— Ну, вы прям поэт, Геннадий Николаевич… Говорите, смерти не боитесь. Сейчас проверим… — и Волчара вдруг неожиданно вынул откуда-то сзади из-под пиджака револьвер. Большой — серебристый такой — огромный даже! — барабанный пистолет невероятно крупного калибра. Произвольно при этом приставил ствол к его виску, взвёл курок и напряжённо глядя тому в глаза проговорил:
— Ну что поехали! — а немного погодя раздался едкий щелчок бойка. Конечно же, в большей степени он шутил. И, разумеется, он не собирался причинять Геннадию Николаевичу ни то чтобы какого-нибудь вреда, а уж тем более-то его убивать. Так! можно сказать — «проверка на вшивость». Ребячество, которое, правда у кого-нибудь, однако могло бы вызвать и некие приступы: неожиданной диареи или нечаянного мочеиспускания.
Геннадий Николаевич — тот даже глазом не моргнул. Во-первых, всё настолько быстро произошло, что он, если честно — даже среагировать-то не успел, не успел даже сообразить! — потому, как заторможённый был. А, следовательно, не то чтобы там ещё испугаться чего-то. Сказывалось к тому же вероятное психологическое переутомление. (А может быть и в самом деле не испугался бы даже вовсе!).
— Однако молодец, Геннадий Николаевич! Правда ваше счастье, что я вообще никогда не беру с собой к нему патронов: не люблю, понимаете ли, надеяться на него. Так для бравады больше таскаю… Короче, — заговорил он, теперь уже смущённо улыбаясь и прекрасно понимая всю нелепость и глупость своего поступка, — вот вам адрес: там моя матушка живёт, там вам будут — и стены и крыша над головой, да и паспорт, а работу сами найдёте. Вижу вовсе не дурак! Больше вряд ли свидимся… Матушку не обижать под землёй достану! — уже совсем тут перейдя на шутливо-дурашливый или несколько даже панибратский тон разговора, договорил Вячеслав Сергеевич, — А сейчас давай мотай, улепётывай отсюда! Быстро!.. — и Вячеслав резко отшагнул в сторону. Повернувшись боком, указал ему рукой на открытые ворота. И опять засмеявшись, но уже как-то совсем по-доброму как-то по-дружески даже добавил, — иди-иди… и не надейся! что я тебя с корешами знакомить буду… Ступай, не искушай меня, тебя умолять об этом… А то сейчас ещё на колени бухнусь!.. Только лесом — лесом! — иди, а то эти «волки тряпочные» повстречаются…
Геннадий Николаевич медленно скорее выплыл, нежели вышел из этого опасного убежища… И ссутулившись, побрёл, постепенно набирая скорость движения, держа прижатые к туловищу худые руки засунутыми в карманы. Как сомнамбула поплёлся прочь тупо глядя перед собой. И уже только перед тем как войти в гущу ветвистых зарослей тёмной полосы леса он немного неуверенно издали, всё-таки вдруг обернулся, а следом так же неуверенно и несколько скованно махнул Вячеславу рукой. «Мол, пока, мол, будь счастлив» — а уже совсем скоро и вовсе скрылся в густой тёмной чаще.
Четырнадцатая глава: месть подонка
Кто этот молодой человек?.. Я думаю, внимательный читатель уже наверняка разобрался во всём прекрасно сам. И, разумеется, едва покопавшись в своей памяти уже обязательно сообразил, что Кирилл Антонович и есть некий чиновник именно как раз тот или если быть окончательно точным — один из замов Главы администрации города. Давеча присутствовавший на некоем совместном собрании приятного времяпрепровождения, на берегу реки — Ока. На том самом сборище: представителей самых крупных преступных группировок области, некоторых блюстителей порядка, новоиспечённых предпринимателей и заблудших «слуг народа». Вот уже с некоторых пор, если конечно можно так выразиться это мероприятие снискало статус традиции в некотором своём роде. Причём совершающееся, как правило, на любимом месте (на лоне природы) одного из бывших крупных государственных деятелей — ныне покойного Виталия Ибрагимовича. Про то собрание или сборище (тут уж как вам будет угодно!) я имел уже такую возможность вам рассказывать в одной из предшествующих глав. Где Кирилл Антонович, тогда позволив ещё себе слегка лишнего в употреблении алкоголя развязал, таким образом, как бы ненароком свой язычок и несколько разоткровенничался. Он тогда проговорился про свою жуткую нелюбовь к народу — даже скорее неприязнь что ли — и вообще о своих особенных взглядах на рычаги власти в собственных руках.
И вот надо же было такому, потом произойти, надо было случиться такому невезению, чтобы именно этот молодой человек голубоглазый брюнет — красавчик! — так же ненамеренно как-то встретился или схлестнулся на очередном совместном банкете именно с одной из наших общих хороших знакомых — милой героиней этого романа — Татьяной Ивановной. Право если и говорить-то по-честному мне очень — ну очень! — не хотелось бы этого искренне не хотелось бы, но что тут поделаешь…
Итак, вернёмся, пожалуй, к Кириллу Антоновичу. Возвратимся к нему как раз в тот самый момент, когда вот только что Татьяна Ивановна под его вопли опрометью выбежала из его «дворца». Она выскочила как пробка из бутылки из-под шампанского: с одним только заветным на данный момент желанием — как можно скорее добраться до дома. По прибытию домой, в самую первую очередь — она примитивно жаждала посмотреть — вот именно хотя бы просто полюбоваться! — на спящих своих малюток. Как бы ища в этом, глоток спасения для собственной души или хотя бы по возможности очиститься от столь нежелательного осадка скопившегося в ней от общения с Кирилл Антоновичем; да! это, несомненно, было чисто материнское чувство несравнимое по своей силе ни с чем…
Кирилл Антонович, теперь оставшись один, ещё некоторое время находился в каком-то крайне таком странном — своеобразном — своём состоянии. В какой-то прострации он был. В какой-то невероятной — жутчайшей! — угнетённости. То есть, как бы ничего не могущего контролировать в своих мыслях. Иначе говоря, он был настолько поглощён злобой и негодованием всё-таки до такой степени даже охвачен ими, что просто так и сидел теперь: голый и босой посреди спальни на полу. Куда он от избытка переполнявших его возмущений и негодований всё-таки, наконец, как бы упал — присев. Его сейчас трясло мелкой дрожью даже вроде как бы непонятно было от чего же всё это происходило: то ли от холода и он просто-напросто жутко озяб, а то ли от сильного чувства создавшегося уже в нём ядовитым сплетением в один комок: жгучей досады, горького сожаления, кипящего неудовлетворённого вожделения и беснующейся в нём ярости.
Такое (за последние десять лет) с ним впервые! В голове у него сейчас кипели думы примерно так: эта стерва убила его! Да, она просто убила его!.. Унизила эта сволочь! Тварь! Мразь… И ещё огромное множество других эпитетов возникало в его воспалённом мозгу. И вспомнилось ему, как он стоял перед ней нагой — как мальчишка! — а она смеялась… Нагло ржала!.. Над кем? Над ним!!! Над тем, кого… которого обожали и обожают сотни, сотни женщин! Многие из них готовые были ползать (кстати, в чём некоторые сами в своё время перед ним признавались!) и даже ползали, умоляя его — в его ногах. В самом прямом смысле: на коленях! — чтобы только хотя бы оставаться в его любовницах… А кто она такая?.. Откуда она взялась?! Где живёт?! Нет, это-то он легко выяснит, установит вообще без проблем завтра же… Нет уже сегодня!
Всё больше и больше в нём закипала его злоба и снова он, окунулся в свои патологически больные размышления. Они лихорадочно и суетливо скрежетали где-то в груди, царапаясь там по его себялюбию. От чего он даже раскраснелся весь и даже всё-таки излишне взмок… жутко вспотев. А ведь он изначально специально не сказал ей, не сообщил, кто он такой, какое он занимает важное место в этом мире! Каким обладает положением в обществе! И самое главное… какой занимает государственный пост! Он нарочно самодовольно старался держать это несколько в тайне… про запас — как бы обладая некоторое время сюрпризом! Чтобы потом опять с радостью весельем обалдеть — увидев на её лице удивления восторг! И опять — «приторчать» — в своих неожиданно созданных для себя, но совершенно по-новому вспыхнувших теперь вокруг него как бы ореолом — уже в неких лучах! — своего величия. Рассказав уже потом ей (лёжа в постели — после случившегося) как вроде бы просто так: мол, вот он какой, мол, такой он прекрасный человек! Совсем не какой-то там тщеславный субъект или хвастунишка. Что он, дескать, и не хвастается, не кичится вовсе этим! И это в то время так сказать когда он на самом деле имеет такой огромный — просто огромаднейший! — вес в этом городе… области… Стране!..
А ведь он впервые хотел добиться своей победы без заранее сказанной о себе — той возвышающей его — информации. То есть того самого главного о чём ещё мало (по его мнению) кто даже знает. Однако невероятно распирающего в нём его чувство гордости за себя, которым, он всё-таки теперь почти невольно, но и порой неприглядно превозносился. Между прочим, невероятно гордился Кирилл Антонович, прежде всего тем, что он имеет теперь вот уже как целые полгода статус деятеля — государственного деятеля! Пусть пока хоть и зама, но всё-таки… А скоро — очень скоро — он обязательно станет первым! И не каким-нибудь замом, а самим мэром. А эта глупая кикимора! — и не поняла даже всей важности их встречи, которую ей предоставила её же судьба!.. Глупышка! Но мало того что она просто надсмеялась над ним — она ещё оскорбила его мужское достоинство!.. Нет: этого он принципиально так не оставит; он теперь просто даже обязан поставить эту возомнившую о себе кретинку на своё место, а место её — естественно — у него в ногах!.. И тут Кирилл Антонович даже явственно представил её себе (он даже сам резко встал!) вообразив её себе валяющейся на полу и жалостливо смотрящей снизу вверх прямо ему в глаза — по-рабски! — в некоем как бы раскаивании перед ним за свой проступок. Как бы прося пощады! В виноватом таком заискивании и в тоже время в каком-то исступлённом восторге и восхищении им! Он теперь даже представил себе, как он на неё ставит свою ногу, а та, понимая только-только сейчас свою ничтожность, вдруг сжимается в своей покорности в комочек и жалобно плачет…
Тут Кирилл Антонович всё-таки вроде, наконец, очнулся, и слегка осмотревшись по сторонам как бы несколько сожалея, что никто не мог видеть всей этой такой важной последней сцены. И тут же опять погрузился в свои больные размышления. Кипевшие в нём как в огненной фантастической клоаке — его мысли в его голове. Где перемешалось всё вместе: и обида с досадой и уязвлённые себялюбие с гордыней и этот её паршивый смех он сейчас рассматривал как удар ниже пояса нанесённый ему этой дрянью.
Как ему было сейчас обидно жутко досадно и жалко себя за такое нелепое первое поражение после долгого перерыва. Вот уже за многие годы после тех давнишних школьных случаев, неоднократных и подобных этому — как и тогда! — которые он помнит и поныне. И от неприятных воспоминаний теперь его опять затрясло и бросило снова в холодный пот. Такой как бы ни совсем правильный симбиоз его почти, что живых существ: злобы и ненависти, взаиморазжигающих друг друга и от которых его колотило чуть ли порой не до эпилептических конвульсий. Только лишь что при этом он не падал и не терял ни сознания, ни памяти. Он изничтожался от раздавленного его самолюбия, которое, теперь выползя откуда-то оттуда — из-под той тяжести гадкого чувства поражения уже было забывавшегося им, но вот вдруг снова ожившего теперь в нём и снова выползшего оттуда, где его раздавили — на волю! Теперь уже в своём инвалидном таком состоянии уродливом даже вернее! Как бы предъявляя ему оттуда свои претензии типа: ну ты! — как ты мог допустить вообще такое, чтобы какая-то амёба «инфузория туфелька» посмела безнаказанно уйти отсюда… И тут он опять вспомнил её хохот… и снова он затрясся и снова взвыл как затравленное животное…
Зачем же он её выгнал? Отпустил!.. Какой дурак! Надо было её здесь задушить. Нет, сначала помучить поиздеваться над ней, поглумиться насытить свою похоть и наконец — задушить! Потом закопал бы её под той вот берёзкой что недавно «ботаники» ему у пруда посадили… Всё бы польза была — удобрение — и никто бы никогда не узнал! И какой бы ему потом оно — её похороненное мёртвое тело было бы изумительной памятью, нет даже «памятником» — о его новой победе! Эх, какой он дурак!
Эта мразь была в его руках — здесь — только что совсем недавно, где и когда он мог бы с ней сделать: всё что захотел бы! Зачем тормознулся?! Как бы он сейчас над ней бы покуражился… Чего бы она — ему — тут только не делала бы. А потом бы ещё кайф поймал — поиздевавшись! — убил бы… медленно чтобы мучилась… Вот дурак!..
Долго он ещё потом вот так вот сидел, обхватив свою голову обеими руками раскачиваясь с бешенством сжимая её и причитая в досаде упущенного удовольствия; Кирилл Антонович такие представлял себе омерзительные картины издевательств — в таком богатом выборе всяких этих извращений. Где бы как! и каким бы образом он насладил бы её телом свои: похоть, себялюбие с мстительностью и садистские наклонности… А позже… совсем уже позже… Всё-таки в самом конце, когда Кирилл Антонович уже улёгся в кровать и накрылся одеялом, лишь только маленько успокоившись, он проговорил тотчас уже вслух как будто бы кому-то ещё здесь присутствующему, при этом сладко зевая и почти засыпая:
— А всё-таки нет! Я эту голубушку по-своему осажу… Я ж не убийца какой… Буду я ещё ручки марать о всякую погань, вдруг ещё найдут и тогда всё — конец — всей жизни … трёп её мать!
Татьяне Ивановне повезло; ей удалось поймать запоздалую «Жигули-пятёрку» ехавшую как раз до города. Водитель запросто посадил её, даже нисколько не удивившись столь поздней или вернее слишком ранней прогулке такой на вид респектабельной женщины. (Как будто он их тут постоянно встречает.) Она попросила его, ехать сразу по её домашнему адресу решив свой «Опель» забрать потом — думая: вряд ли он куда денется.
Войдя в квартиру, она сразу же проследовала в спальню детей и тут же была неожиданно ошеломлена: детей не было… Их кроватки были аккуратно заправлены и почему-то пусты: её малюток там не было! Поэтому остальное время — до того времени когда уже можно было бы воспользоваться телефоном Татьяна Ивановна провела в жутком нетерпении и душевном терзании! Она бегала в отчаянии по пустым (без семьи) комнатам заламывая себе руки, и всячески уже кляла себя (почём зря!). Она не находила себе места ей всё хотелось даже раньше времени взять бросить все правила этикета и позвонить свекрови чтобы хоть в этом-то хоть как-то успокоится узнав что все наконец живы… и конечно же здоровы.
Да! Муж уже неоднократно грозился уйти. Странно конечно обычно женщины уходят куда-то вместе с детьми, а тут мужчина. Ей опять было безумно теперь стыдно. Да! чтобы на всё это сказала бы её мамочка, если бы сейчас узнала обо всём этом? Но мамочка с папой сейчас далеко — почти за три тысячи километров отсюда. Ах! как она одинока… И тут она вспомнила, что вполне бы могла позвонить сейчас Генриетте — своей давней подружке ещё со школьной поры. Она подбежала к трюмо, рядом с которым на миниатюрной полочке сделанной её Колей стоял телефон. Почти машинально набрала номер и начала ждать… Но телефон Генриетты, вероятно, был попросту на ночь вовсе отключён.
Всё, разумеется, конечно же, выяснилось, всё произошло именно так, как она и предполагала. Николай уехал вместе с детьми к своей матери не, потому что хотел своим действием как-то «насолить» ей или как бы это был его какой-то временный эмоциональный всплеск, а потому что решил что, в конце концов, им действительно пора разойтись. Одних же детей не оставишь… Вот они и уехали к бабушке в гости. Сам же Николай тем временем сходил в районный суд и подал заявление, о разводе — окончательно решив его целесообразность.
Рассказывать о том, как Кирилл Антонович вообще это дельце своё такое подленькое совершал я, конечно же, не собираюсь. При его-то положении, связях, да и вообще способностях творить всякие пакости это совершенно несложно. Тем более, раз уж он задался такой себе целью: изничтожить в конец эту (как он считает) «взбунтовавшуюся» и возомнившую из себя дамочку. Было бы конечно (с его точки зрения!) гораздо проще, собственно говоря, просто её (так сказать) «заказать», но это было бы уж очень даже слишком просто в его понимании. И тем более ему ужасно не хотелось в свои дела опять же такой своей можно сказать именно «кровной мести» посвящать постороннего человека. Это естественно означает как-никак, что надо будет довериться опять же совершенно чужому человеку, а такое считай, от роду претило принципам Кирилла Антоновича. Да и чересчур уж это просто, да и сам он из этого опять-таки не извлечёт попросту никакого удовольствия. А именно удовольствия-то он всегда и во всём искал для себя в первую очередь… и ставил их выше всего!
Поэтому Кирилл Антонович так и решил: именно по-своему всё так и обстряпать всё так в аккурат и обделать это — чтобы получить от этих действий как он любил частенько выражаться в таких случаях: «максимум крайне всевозможных эстетических удовольствий». Описывать, конечно же, все его на этом мстительном поприще шевеления я и не собираюсь. Так как, честно говоря, уж слишком дюже противно, да и науку такую для некоторых подобных этой натурам не хотелось бы выносить на обозрение. Да и собственно говоря чтобы не возбуждать острых болезненных переживаний вообще всё в тех же добрых людях.
А раз такое серьёзное дело как убийство он не мог доверить совершенно постороннему человеку, поэтому Кирилл Антонович (в чём я абсолютно уверен!) скорее всего, здесь использовал непосредственно свои «хорошие» знакомства. Иначе говоря, связи и некую солидарность этих отношений. Учитывая общую ситуацию в стране на тот отрезок времени, то вероятнее всего он и не особо-то перетруждался. А, следовательно, если конечно уважаемого читателя убедили мои изъяснения то поэтому, собственно говоря, я буду сразу рассказывать лучше эту неприятную историю со стороны Татьяны Ивановны. То бишь смотря на происходящие события её глазами — с её точки зрения. Просто не хочется потом наблюдать на некоторых лицах читателей неожиданное изумление. Тем более чтобы никто не мог потом сказать, будто бы я не предупреждал.
Да! и ещё чего бы непременно хотелось бы добавить так это то что «бомбардирования» все, которые обрушивались тогда на Татьяну Ивановну, происходили естественно не в течение одной недели как могут, вероятно, подумать некоторые читатели, а всё-таки как минимум в течение нескольких месяцев. Так что если моё повествование займёт весьма маленький объём информации, охватив, казалось бы, на первый взгляд как бы короткий промежуток времени то убедительно прошу, не удивляйтесь, ибо всё-таки всё равно они (эти события) проследовали только для постороннего взгляда с головокружительной стремительностью. И это в то время когда Татьяна Ивановна наоборот по-черепашьи медленно тянувшимися днями ежечасно боролась с тоской и неожиданно навалившимися на неё проблемами…
Всё начиналось так незначительно, что на первый взгляд как будто бы и вовсе ничего и не начиналось. Однажды поначалу придя на работу, она вдруг столкнулась с какой-то внеплановой проверкой финансовых и организационных вопросов фабрики; даже из пожарной охраны тоже нежданно-негаданно пожаловали. Всё это произошло (опять же) не то чтобы вдруг тут же непосредственно в последующие дни — типа после её побега из «дворца» Кирилла Антоновича, а началось недельку другую погодя. Шельмец подмечу, даже в ожидании исполнения своей коварной мести и то находил некоторые приятные впечатления. Собственно она и думать-то обо всём этом уже позабыла. Ей в принципе достаточно нервотрёпки приносили пока свои так сказать семейные проблемы; она и с ними-то, в общем-то, страшно утопала в изнурительных потасовках и волнениях, особенно в своих душевных терзаниях упрямо пытаясь спасти свою семью совершенно отнюдь не мысля себе её распада.
Вначале были найдены уж дюже докучливыми и придирчивыми служащими контролируемых государственных учреждений вроде как — так себе! — всего лишь несколько некоторых как они сами имели честь, выразится: «мелких несоответствий и не состыковочен». Правда, как впоследствии выяснилось эти мелкие «недоработочки» принесли крупные неприятности. Уже сразу вылившиеся в значительную суету с полнейшим выматыванием Татьяны Ивановны как морально, так и физически. Что самое главное: вопросы почему-то сугубо касались исключительно только самой Татьяны Ивановны и ни в коем случае её соучредителей. Было бы у неё достаточно опыта и знаний в делах такого рода, она бы конечно ко всем этим вопросам в первую очередь подключила бы обязательно юриста и только бы после консультаций с ним решала бы эти вопросы. Само собой разумеется, или даже тем более эти вопросы не смогла бы решить и её молоденькая секретарь, если бы Татьяна Ивановна вздумала бы ей их поручить. Так или иначе, я не знаю, на что там вообще Кирилл Антонович надеялся или рассчитывал, но видимо каким-то образом так и получилось.
Может быть или даже скорей всего ей надо было просто-напросто сразу как-то согласоваться со своей коллегией соучредителей, и они бы вероятнее всего легко разрешили бы эту абсурдную ситуацию. Но директор фабрики, посчитав случившееся маленьким недоразумением по собственной инициативе взялась — с пылу с жару — собственноручно покончить с такой мелочью раз и навсегда; решив поначалу, что это ей, в конце концов, даже будет полезно. Понадеявшись, что это даст некоторую возможность получше обдумать свои семейные передряги и прийти к какому-то определённому хотя бы в своих мыслях единственно правильному консенсусу. Однако, уже ввязавшись в эту интригу, она очень скоро поняла свою ошибку в недооценки произошедшего, но и остановить этот затянувшийся и утомительный процесс она уже тоже не могла. Клубок, который вроде как слегка кое-где поначалу спутавшись и который она попыталась, как бы с лёгкой руки сразу же распутать — всё больше и больше запутывался. Нервируя и выводя её окончательно из душевного равновесия (не забывайте ещё плюсом и семейные неурядицы), а, следовательно, наконец, завёл её вообще в тупик и это тогда, когда она вдруг ясно увидела что: «клубок-то превратился неожиданно в комок неимоверно запутанных проблем».
Так или иначе, но судьба, наконец, всё-таки дала ей узнать и причину всех своих, таким образом, навалившихся на неё сразу злоключений. Однажды при решении снова возникшего инцидента с её ценными личными бумагами и их какой-то там как ей опять-таки почти «по дружески» сообщили «не учтённостью», Татьяне Ивановне пришлось опять посетить целый ряд кабинетов. Как она уже потом почувствовала и поняла сама — совершенно «никчемушных» кабинетов главного здания города с его «чиновничьей душой». Первый чиновник сказал что, в общем-то, всё нормально вот только надобно зайти туда-то — и взять то-то и то-то. Чего она — на что, потратив вновь уйму времени и сил — сделала. Причём при посещении другого чиновника того которого можно было бы смело назвать вторым и который тут же порекомендовал ей обратиться за консультацией к третьему лицу — она решила что должна чего-то предпринять необычное. И вот тут у неё само собой мелькнула шальная мысль, что необходимо просто дать денег кому следует «на лапу» и тогда дело разрешиться автоматически, что собственно она и сделала — уже в третьем кабинете. На что тот молодой человек, радостно приняв знак благодарности, направил её в четвёртый кабинет, где якобы получив резолюцию она, наконец-таки уже точно разрешит давно набивший «оскомину» вопрос.
И вот на следующий день: миновав длиннющий коридор и найдя ту заветную дверь ещё одного — того самого кабинета. И уже теперь не очень-то веря в счастье и добрые сказки, Татьяна Ивановна всё-таки соизволила, наконец, войдя в помещение поиметь такую серьёзную неприятность как увидеться снова с Кириллом Антоновичем.
Можете себе представить, какое изумление у неё нарисовалось в тот момент на лице, когда она встретила вновь — эти голубые и «честные» глаза. Кроме этого у неё мгновенно прокрутилось перед её глазами всё это кино. Эпизоды и сюжеты этих месяцев прожитых ею в диких переживаниях. Но только уже в обратном порядке назад до самой их первой встречи. И она теперь абсолютно точно — с точностью до микрона — была уверенна, что вот сейчас-то уж точно до неё всё дошло. Чего-то такое у неё и раньше как бы напрашивалось, что кто-то методично скрупулёзно и вполне основательно копает под неё, но она решительно отбрасывала эти мысли как нереальные в «корзину» отбросов памяти. Считая такое вообще своего рода нонсенсом. Но нет! Вот ведь он — перед ней… Со своею ядовитой злорадствующей ухмылочкой сидит так и смотрит на неё, причём сразу видно: явно с неимоверным нетерпением он ждал этого события — этой встречи…
Наверное, кто-нибудь посчитает Татьяну Ивановну ненормальной сумасшедшей или просто дурой. Своё же мнение об этом хорошем милом и добром человеке я, пожалуй, утаю — имею право. Но, так или иначе, Татьяна Ивановна быстро сообразив и не то, чтобы у неё в душе вдруг родилось какое-то там сожаление или даже страх, напротив она как-то вдруг улыбнувшись ему — так ласково как своему старому доброму знакомому и совсем беззлобно проконстатировала:
— А! Так это, ты, тут… а я-то, думаю, откуда это так говном-то завоняло…
…И Кирилл Антонович не успел даже и слова молвить, он только было, рот открыл… как Татьяна Ивановна ушла, а тот так и остался сидеть с открытым ртом в недоумении. Она вышла из административного здания медленно, в глубокой задумчивости подошла к своему «Опелю»… Хлопнула дверца, заработал равномерно и еле слышно двигатель, а через несколько минут она уже мчалась по проспекту в шумном потоке движущихся автомобилей. Да, но что же ей теперь делать?
В голове её был такой хаос — такой сумбур, что мысли путались, и она никак не могла сконцентрироваться на чём-то одном конкретном. Она всячески пыталась хоть как-то найти для себя какое-нибудь объяснение или решение, которое смогло бы помочь ей в сложившейся ситуации. Мысленно Татьяна Ивановна перебирала разные варианты. Вдруг кое-что, вспомнив она резко прямо через две сплошные линии, развернула свой «Опель» в обратную сторону немного внеся сумятицы в движении других автомобилей на дороге. Спереди и сзади завизжали тормоза, зазвучали психованно и испуганно сигналы, но всё обошлось без дорожно-транспортного происшествия.
Через полчаса она была уже у «Лиса» (это Лёха — тот молодой человек, бандит) и с нетерпением давила на кнопку звонка его квартиры. Дверь открылась быстро:
— Вот это да! Кого мы видим — и без охраны… Привет, Татьяна! Каким ветром, — немного посторонившись и пропуская её в помещение, радостно проговорил Лёха, — занесло нашего дирехтура к столь низшим слоям населения?
— Привет, Лис! У меня очень серьёзное дело к тебе. Можно сказать вопрос: жизни и смерти.
Татьяна Ивановна молча разулась и прошла в комнату, осматриваясь вокруг себя. Здесь она была впервые хоть, и адрес знала уже давно. Это была совсем обычная двухкомнатная квартира девятиэтажного панельного дома. Всё было на удивление просто и даже можно сказать несколько бедновато. Обшарпанные дешёвые обои. Обычная вдоль стены слева «стенка» (которые пользовались особой популярностью лет десять назад). Ковёр на стене со стороны дивана и ковёр на полу и если бы не аппаратура, которая занимала самое значительное место в комнате то, вообще можно было бы смело сказать, что бандиты в России ведут аскетический образ жизни. А тут было сразу видно, что человек жуткий меломан.
— Да, а я думала, что российские бандиты намного лучше живут.
— Тут скажу тебе, Татьян, ты глубоко ошибалась. Пойдём лучше на кухню. Там чайник поставлю: чай-кофей попьём, да и побазарим. Что у тебя там произошло? По пустякам-то ясное дело не пришла б.
— Ах! Знаете ли, Лис… А можно я буду вас лучше называть Алексеем? А то мне это как-то не очень удобно, — и она тут же на ходу вопросительно заглянула молодому человеку в глаза. И тут же получив от него одобрительный кивок, присаживаясь как раз в тот момент на указанное ей место продолжила:
— Алексей, дело в том, что один так сказать государственный деятель. А именно некий Кирилл Антонович один из замов Главы администрации мне мстит за то, Алёша, что я однажды… В общем, Алёш, меня дуру угораздило как-тось к нему… Алексей, на загородную виллу его — в загородный его дом, Алёш, это под Первомайским где-то… попасть. Так поехали-то просто… повеселиться… пообщаться. Повеселиться. Отдохнуть. Я даже его сразу и предупредила перед самой поездкой туда, Алексей, чтобы он, мол, никаких планов себе постельных там, чтобы себе не строил… никаких, Алексей, иллюзий… В общем, я ему не дала… — тут она густо покраснела, как будто совершила в тот раз какой-то немыслимо постыдный поступок, — а он теперь… Алёша… козни всякие «чинушные» свои строит.
Татьяна Ивановна говорила всё это, когда они уже находились в кухне, где она заняла место у стола со стороны окна, куда Алексей своевременно указал ей и, в общем-то, за этим как раз её рассказиком-то они и расположились уже. В кухне всё так же было очень скромно, но чисто и аккуратно, несмотря на то, что Алексей жил один. (Так как она где-то случаем слышала, что родители его живут в каком-то совсем другом городе.)
— И ты, конечно, Татьяна, пришла за помощью… за защитой… Я правильно тебя понял? — и он, не дожидаясь ответа, продолжил, — правильно сделала! Мы этот вопрос «разрулим» в элементе. Даже не переживай! Вот здесь, — он с полки кухонного гарнитура достал ручку с блокнотом и положил перед ней, — напиши о нём всё, что ты знаешь: где работает, где живёт и т. д. и т. п. Мы его разыщем и, конечно же, с ним культурно поговорим…
Она тут же сразу коротко и ясно всё расписала: чего о том сама знала. А дальше они ещё где-то с часик, наверное, культурно посидели, поговорили о том и сём. Лёха рассказал Татьяне о своей девушке Марине, с которой они собираются пожениться и что Марина теперь на третьем месяце беременности — а, следовательно: он скоро будет папой! — и они уже подали заявление в ЗАГС. И очень скоро где-то через месяц у них будет шикарная свадьба, на которую, кстати, он её уже заранее тоже приглашает. Хотя она ещё будет специально им об этом уведомлена. Потом Татьяна Ивановна, значительно уже успокоившись, поехала домой, предварительно заехав к свекрови за детьми. Николая дома не было — он был на работе. Поэтому ей опять не удалось с ним поговорить о перемирии. Потому как он пока вообще об этом даже категорически не хочет разговаривать и всячески поэтому, наверное, избегает их встреч. Она собиралась неоднократно ещё раз как-нибудь улучить такой момент, чтобы всё-таки уговорить его начать всё сначала как прежде, но уже пересмотрев её ошибки и перегибы. Сейчас у неё всё равно на душе было более-менее хорошо! Светланка и Костик были очень рады мамке, весело о чём-то теперь щебетали между собой на заднем сиденье. Так как дома было шаром покати из еды то: она решила вместе с детьми заехать в кафе. Пообедав, они потом прошлись так же все вместе по магазинам и закупили продуктов. А уже потом весело провели прекрасный вечер дома.
На следующее утро, подвезя по пути на работу детей до школы, она приехала, как полагается на работу. И как обычно, перед тем как войти в свой кабинет по негласной традиции как повелось — они поздоровались и, перекинувшись парой добрых фраз с секретарём Юлей, вошла в кабинет. В течение всего последующего дня самозабвенно и даже с некоторым увлечением она занималась впервые за эти несколько месяцев своей работой. Дети в школе оставались на продлёнку где они: обедали, делали домашние уроки, отдыхали и играли с другими детьми, а вечером она их забирала домой. Так прошло два дня. Пока не появился Виктор (тоже бандит из той же группировки) который войдя в её кабинет вдруг с некоторой, хотя и еле заметной грустью сообщил ей, что вместо Лиса теперь будет приходить он.
— А куда делся Алексей? — с некоторым удивлением и разочарованием спросила она, как-то успев за прошлую встречу у него дома сильнее сдружиться с ним, да и не понимая вовсе к чему всякие эти перестановки. На что Виктор, уходя, коротко ответил ей:
— Лис! Теперь в гостях у Бога… — и быстро ушёл.
Всё дело в том, что когда Татьяна Ивановна оставила данные на Кирилла Антоновича, и сама уехала, Лёха тотчас же созвонился с «братвой». Он передал им жалобу с объекта находящегося под их «крышей». Буквально через час, лично сам Лис уже был в кабинете Кирилла Антоновича (разумеется, без всякой очереди и предварительной записи) с «предъявой» к нему. Где Кирилл Антонович в свою очередь сразу созвонился уже со своими «братками» и тут же передал трубку Лису. Таким, собственно говоря, образом как раз и была тогда «забита стрелка» на определённое время и место.
Обычно встречи при «забивании стрелок» происходили в безлюдных местах. Где-то на пригородных пустырях чтобы никто не мог помешать — спокойному «разбору базара» между переговаривающимися сторонами. В городе несколько районов и на каждый район по одной крупной «бригаде», но на самом же деле конечно количество группировок (в общем, по городу) было гораздо больше. Постоянно происходили всякие «кипения» в этой взрывоопасной среде. Одни группы распадались, зато тут же появлялись в удвоенном количестве другие. Трудно было сказать, сколько их было на самом деле. Но самих этих групп было на самом деле гораздо больше, чем, во всяком случае, сообщалось по обыкновению в милицейских сводках и все они без исключения бились с огнестрельным оружием в руках ежедневно не на жизнь, а на смерть — отстаивая своё место под солнцем.
Причём чем мельче была группировка, тем зачастую безрассуднее и ожесточённее, а самое главное наглее и отчаяннее она отстаивала свои «права». То и дело между их клиентами возникали конфликты. И эти конфликты ежедневно «разруливались» этими «крышами». То есть улаживались «на разборках» по предоставленным самой жизнью определённым «понятиям». Обычно самими участниками, то есть вооружённой огнестрельным оружием «братвой» в том или ином месте. Довольно-таки часто происходили перестрелки и бойни: с соответствующим числом убитых и раненых молодых и крепких парней с той и другой из сторон.
То же самое произошло и сейчас. Люди сошлись и, не придя ни к какому взаимоприемлемому соглашению, решили в очередной раз договориться силой оружия. За всем этим естественно скорей всего крылись и ещё какие-нибудь свои тайные и давние причины, а эта «мелочь» лишь послужила поводом. В то ранее утро как передавали в новостях, потом по местному телевидению погибло с обеих сторон — семь человек. Лис — он же Алексей: мужчина двадцати девяти лет, холост (так, пожалуй, мы его и запомним) неоднократный чемпион Советского Союза, двукратный чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, мастер спорта по вольной борьбе и т. д. и т. п. — погиб в перестрелке между группировками организованной преступности…
Пятнадцатая глава: уход из стаи…
Геннадий Николаевич ушёл и с его уходом, стало как-то уж чересчур почему-то пусто — и так нестерпимо пусто! в душе Вячеслава Сергеевича, что он даже сейчас немного пожалел о том, что тому так скоро пришлось уйти. Но иначе поступать, конечно же, тот и не должен был. Потому как могут в скором времени, считай уже вот-вот появиться и другие участники их группировки — их волчьей стаи. А сейчас? — сейчас это даже очень хорошо, что он остался теперь один. Ему как раз ещё очень многое надо обдумать и решить до их появления. Он прекрасно понимал, что теперь у него будет, несомненно, само собой свой «геморрой». Свои каверзные (всякие «штучки-дрючки») и скорей всего в первую очередь всё те же «психические проблемы» и нервотрёпка. Какие-то там, на первый взгляд кажущиеся ему вовсе даже ненадобными все эти теперь объяснения со своими бывшими подельниками.
Ко всей этой чуши он был не только абсолютно безразличным, но и вообще она ему казалась даже скорее лишней (или так он, во всяком случае, может быть, просто на это себя настраивал). Типа того: так что же они ему, поэтому поводу могут вообще сказать или тотчас скажут? Какие могут со своей стороны «налепить предъявы»? И какими могут вдруг случиться всё-таки для него они острыми — все эти их претензии по сути своей. Да и вообще: он даже уже себе пытался как-то представить их всех — вообразить перед своими глазами, но этого у него никак не получалось.
Он знает точно, что он им совершенно ничего не должен. И ни чем перед ними не обязан — всё, что он делал — он делал только сам. А всё-таки, наверное, какими у них будут «дурашливыми их рожи» — и их широко раскрытые «хлебала», когда он вдруг сообщит им о своём непоколебимом намерении… Как они вообще к этому отнесутся?! Тут, он даже невольно засмеялся слегка, но смех тот, правда, был слишком всё-таки для такого громкого своего названия определённо мало или скорее совсем мизерно значительным. Скорее это была некая пародия такового действия, нежели само проявление в полном его виде и присущем ему объёме. А потому следом за тем вроде как заблудившимся проявлением вылезло теперь уже новое уродливое и даже наверняка ядовитое какое-то скверное предчувствие чего-то приближающегося к нему: неумолимого, безжалостного и в тоже время бесконечно омерзительного. Определённо, при возможном некотором стечении обстоятельств могущее элементарно оказаться в конечном итоге даже смертельным.
Таков был тот мир, в котором он уже довольно-таки долгий срок копошился — вот именно! — копошился, а не иначе. Где они ради наживы пожирали всех вокруг себя и готовы сожрать, кроме того в любой момент даже друг друга. И трудно сказать, куда и по каким рельсам вообще нёсся этот бешено мчащийся преступный состав. У которого нет — стоп-крана! Но с которого непременно необходимо уже как можно скорее спрыгивать. А это значит надо немедленно покидать его на полном ходу при любой полнейшей опасности… И каким бы не, казалось бы, это безумством он просто должен это сделать! Теперь в его сознании в абсолютно полной мере всё это вдруг выяснилось для него раз и навсегда — а значит, и нет назад уже пути. И не надо… лучше уж тогда даже смерть!
Теперь-то его матушка всё знает, они обсудили с ней давеча в ту долгую ночь, в которую они окончательно тогда решили, что он непременно уйдёт из банды и затем следом отправится в монастырь для замаливания своих грехов. Уйти — чтобы спасти там, в каждодневных и беспрестанных молитвах свою упавшую в поганый мерзопакостный омут душу, душу было растерявшуюся в нём в том неожиданном для неё умерщвлении самой себя. Так, в общем-то, и постановили они вместе с матушкой. Решили так же: что человека того которого он отпустит обязательно он потом пошлёт к матушке чтобы пристроить его — помочь ему — вылезти из этой «страшной трясины бедствий». А поэтому тот теперь будет жить в одной из комнат их квартиры на правах собственной. Чего он собственно уже сделал: отпустил и передал ему адрес. Осталось за малым: объясниться с бывшими «товарищами» и покинуть этот суетный светский мир, уйдя в монастырь.
Вячеслав знал, что вот-вот с минуты на минуту должны уже начинать в неопределённом порядке появляться кто-то из его бывших подручных и соратников по грабежам. Вследствие этого выйдя на улицу, он присел на лавочку и решил ещё раз в голове прокрутить, что и как он будет говорить. Сначала собирался он, дождавшись и собрав всех тех вместе объявить им о своём таком намерении как бы разом — всем; поэтому сейчас он заранее хотел продумать хорошенько свою речь, чтобы потом не мямлить, а говорить твёрдо и уверенно. Но как назло мысли либо урывками путались, либо совершенно отсутствовали: ну хоть какая-нибудь более менее путёвая пусть и завалящаяся бы появилась. Ноль! Тогда он решил, что поступит, так как получится само по себе.
Первым подкатил на своём новеньком «Фольксваген» — почти нулёвом — самой последней модели как тот сам частенько не без гордости в весёлых компаниях хвастался — здоровенный Борман. Борманом его кликали ещё с давнишних времён, когда они — многие из них — только как раз начинали заниматься классической борьбой (им было по десять — двенадцать лет тогда) под руководством одного прекрасного тренера на спортивном манеже центрального стадиона города. Тогда это было совершенно мирное прозвище, однако теперь которое, выдержав немало «передряг и лихолетий» немыслимо окрепло — став по достоинству настоящим боевым «погонялом». Он и в центральной тюрьме, где он «чалился» восемь месяцев пока был под следствием, закалился и сам — и подкрепил имидж «блатного урки». Если, по правде говоря, то — во всей этой «чехарде» было больше рисовки, нежели истинного зековсого геройства (настоящий рецидивист на это только бы иронично ухмыльнулся), но так или иначе он ни в чём не проиграл.
Они увидели друг друга ещё издалека. Вячеслав сидел, облокотившись о стену сарая, а Борман как раз только заруливал на парковку. Припарковавшись ловко и умеючи он выпрыгнул из авто и не закрывая двери несколько тяжеловатой походкой с широченной улыбочкой направился прямо к нему. Стараясь двигаться как-то по-простецки тот вероятно не думал, что выглядел наоборот довольно-таки смешно. Он видимо предполагал, что идёт-то красиво даже величаво («как в море лодочка»), а в реале получалось несколько по-медвежьи, неуклюже при этом вертя задницей как бы пританцовывая кривыми косолапыми и толстыми ногами, да ещё и напевая чего-то трогательное, судя по гримасам. Сразу видно, что настроение у него было великолепное.
— Здравие, бояре! — это была его любимая манера приветствовать своих корешей. По сути это говорило, что тот с кем он таким макаром поздоровался, по меньшей мере, его наидревнейший корешок. Вячеслав нехотя кивнул ему и даже слегка отвернулся пока тот не подошёл к нему вплотную и не протянул ему руку. Он просто хорошо знал всю «говнистость» натуры того и был меньше всего рад теперь что тот оказался самым первым. Он равнодушно пожал протянутую руку, чем вызвал поначалу некоторое лёгкое удивление, следом уже быстро переросшее в яркую и заметную даже со стороны ядовитую обиду.
— Волчара, шо случилось? Грустный главно такой… Шо тёлка шо ли кака не дала? — он вообще был жутким бабником, но чисто только по-своему. В постели женщины всегда для него были только как прислуга над его обнажённым телом. Он — очень большой был в сексе эгоист. В женщинах он просто как бы ни замечал людей, а вполне открыто их даже презирал; с сексуальными партнёршами был всегда чрезвычайно груб, поэтому они у него постоянно были разные. Больше двух постельных встреч мало кто из них выдерживал. Женщин он примитивно покупал. Вряд ли он когда-нибудь сможет вообще найти себе жену. Впрочем, если только какую-то заядлую мазохистку? — Ну, Волчара… нелады, братан, совсем нелады! — тем временем закончил он.
И тут он, даже не договорив ещё тех самых своих фраз, уже обратил своё изумлённое внимание при этом как гиппопотам шутливо раззява нарочно, скорее, для комичности рот на широко распахнутые ворота сарая. Со странным несколько шутовским выражением в физиономии, а к тому же ещё и с каким-то вычурно трепетным волнением или даже более того с озабоченным изумлением Борман теперь тихонько подкрался к открытому проёму и как-то по «куриному» только что не кудахча, заглянул туда.
— А где этот-то хрен морковкин? Где этот сорняк хренов?! Волчара, он чи шо смылся шоль гадила как-тось, во!? А я и смотрю ты какой-то угрюмый шибко…
— Нет, Борман, он не смылся…
— А шо це таки? Я не бачу…
— Я отпустил его, Борман.
— В смысле?
— Без смысла!
— Не понял!
— На волю я его отпустил. И сам, кстати, собираюсь уходить. Всё, Борман, ухожу я от вас. Завязываю я! Не хочу больше быть в бригаде…
— Слушай, Волчара, пойдём, поищем его, он не мог далеко уйти, — всё ещё не мог поверить услышанному от Вячеслава Борман, — да я… даже наверняка знаю, где этот урод сейчас прячется!
— Ты что, Борман, дурак или притворяешься? Я же тебе русским языком уже объяснил, а ты как баран чего-то не въезжаешь… Ухожу я из бригады!
Видимо всё-таки до Бормана начинало потихоньку кое-что мало-мальски доходить, но он всё же с каким-то сомнением пока присматривался к нему и вдруг ехидно как бы чего-то неожиданно сообразив, съязвил:
— Шо к Тёртыму шо ли подашься? Думашь там лучше?!
— Дурак ты, Борман! Я вообще ухожу… в монастырь… — тут Вячеслав Сергеевич подумал: «да кому я собственно объяснять-то собрался? Уйду сейчас, а Борман остальным сам всё передаст. В конце концов, отчитываться перед ними я не намерен». И он несколько брезгливо, ещё раз осмотрев внимательно Бормана с ног до головы как бы намереваясь запомнить на всю оставшуюся жизнь, с какими людьми на будущее ему лучше теперь больше никогда не встречаться или лучше даже не иметь вообще ничего общего. Потом как-то с недовольным выражением лица он хмыкнул и, отвернувшись, было, уже двинулся в сторону своей тачки, чтобы сесть в неё и уехать. Только теперь видимо до Бормана всё-таки что-то там уже совсем дошло, и он кроме всего этого понял и достаточно конкретно, что Волчара сейчас совершенно не был настроен на какие-нибудь там шуточки. Поэтому прыжком догнав Вячеслава, вдруг схватил его за грудки, и грубо развернув к себе лицом глядя при этом куда-то ему в нос заорал, обильно брызгая слюною тому в подбородок:
— Ты шо, Волчара, в натуре?! Ты шо блин с дуба рухнул, тлять? Мы шо тут, по-твоему, в бирюльки музьдякаемся?! Зассал шо ли… Э, да ты точно зассал падла, кругом братва гибнет — битвы всякие кругом, а ты сука решил смыться, падла! Нет, я всегда знал, всегда подозревал в тебе гниду тухлую трусливую!.. Никуда ты, падла, не пойдёшь, я сказал!.. Ты понял?.. — и, увидев, что тот спокойно освободившись от его захвата одним коротким, но достаточно мощным рывком собирается явно и дальше продолжить свой путь. Борман вдруг как бы чего-то, вспомнив, сунул быстро руку за спину, но не успел… и глазом моргнуть. Ему прямо в нос прямо меж глаз был уже направлен неимоверного калибра огромный ствол. Поэтому доканчивая чисто механически свои действия, но получив некоторый сбой в команде: мозг — ошибся. Так как ранее рука уже почти было выхватила пистолет после первой команды, но та неожиданность опережения сбила его с толку и растерявшийся организм как бы спасовав, выронил оружие… Борман вдогонку кинулся, снова пытаясь всё-таки напоследках поймать пистолет, а получилось наоборот. Случайно откинул по неловкости, неуклюже ловившей рукой его ещё дальше от них обоих в сторону метра на два на три. Большой пистолет кувырком затерялся в траве. Тут Борман вообще как бы мгновенно заморозился. Нельзя сказать, что испугался потому, как кипел открытой ненавистью. Но уж потерялся немного точно.
Борман, ошалев от своей нерасторопности с досадой, медленно поднял руки и отступил в нерешительности назад. Вячеслав улыбнулся на эту глупую ситуацию, а больше на застывшую совершенно слабоумную гримасу Бормана — глядя на него совершенно беззлобно. Вдруг — ну уж чего совсем не мог, наверное, ожидать Борман Вячеслав как-то перехватив быстро свой пистолет из руки в руку, тут же протянул ему револьвер рукояткой вперёд как бы этим жестом говоря: «держи! и больше не теряй…» А затем, когда тот невольно принимая протянутое ему оружие и совсем ничего не соображая, наконец, всё-таки взял его Вячеслав молча повернулся и дальше проследовал к авто.
Борман, в руке которого неожиданно оказалось оружие само собой сразу же, как только опомнился, соизволил его использовать по его прямому назначению. И нацелившись Вячеславу в спину, дважды нажал на спусковой крючок… Выстрелов не прозвучало — только щелчки. Вячеслав, тем не менее, даже не обернувшись, следовал далее. Тогда Борман, уже в панике отшвырнул в сторону не выстреливший пистолет. Подумав второпях, что тот неисправен или совсем ни о чём, не подумав (а просто матюгнулся в сердцах!) уже ища на ходу свой «родной» ТТ. и найдя его глазами, мигом подбежал и, схватив его, так же теперь направил его на открывшего в тот момент дверцу своего автомобиля Вячеслава… И тут их взгляды встретились. Вячеслав понимал, что вряд ли уже тот-то «ствол» окажется незаряженным. Но он абсолютно спокойно встретил столь опасный момент в своей жизни, может быть и самый что ни на есть — последний. У него даже в голове промелькнуло: «прощайте милые девчонки». (Подразумевая: матушку и Катеньку.) Но он тут может быть даже сделал это больше для того чтобы себя как-то что ли подзадорить напоследок или уж как говориться — умирать так с песней! — улыбнулся Борману, подмигнул ему с задоринкой, и, садясь уже в машину, так же попросту кинул тому фразу, как бы на прощание, совершенно конечно, «наобум Лазаря»:
— Да он тоже не выстрелит, Борман; сегодня нестрельная погода, пока!
Борман, с самодовольной ухмылкой садиста два раза нажал на спусковой крючок… С такого расстояния промахнуться такому стрелку как он — тренирующемуся в стрельбе на тайной своей полянке в лесу, каждое воскресенье — почти немыслимо. Сердце его злорадствовало, давненько он мечтал: «завалить» Волчару и вот, наконец, его мечта сбылась… Но снова всё те же сухие щелчки!.. Борман почти в истерике — на грани сумасшествия распсиховавшись с топотанием ног, шмякнул вдруг пистолет со всего размаху об землю и, продолжая своё возмущение уже в полном бессилии, проковылял и уселся на лавочку. С уничтожающей ненавистью он тогда глядел на то, как Вячеслав Сергеевич на своём автомобиле тем временем уже отдалялся всё дальше и дальше.
Шестнадцатая глава: пути Господни неисповедимы…
Вот так вот и получилось с ним; когда он уходил: он ещё очень долго не мог поверить ни ушам своим, ни даже глазам. Единственно, что он мог без каких-либо обиняков теперь с уверенностью сказать: так это то, что этот паренёк ему однозначно очень и очень понравился. А вот чем? — на этот вопрос, пожалуй, было бы трудно ему с такой же лёгкостью уже дать вразумительный ответ прямо сейчас, сходу. Однако всё равно он точнёхонько и непременно знал, что благоволение это брало свои корни отнюдь совсем не из той почвы, откуда якобы обычно берёт своё начало простая почти рефлекторная, но и в тоже время вполне легко объяснимая чисто человеческая благодарность за элементарное избавление его от смерти. Не углубляясь в обширные рассуждения и излишнюю полемику можно было смело сделать верный вывод, что тот просто-напросто симпатизировал ему, как он это тотчас ощущал — чисто даже визуально внешним ну что ли славянским каким-то своим обликом. Хотя и это совсем ничего не объясняло. Потому как что-то в нём чувствовалось кроме всего прочего ещё и очень искреннее и даже фундаментальное откровенно некое человеколюбивое качество.
Он сейчас пока не мог точно сообразить: как и что — тут чего-либо объяснять по этому поводу ни то чтобы себе или кому-то ещё более интересующемуся конкретно, чтобы делать там какие-нибудь поспешные выводы или уже даже проводить какие-никакие там параллельные и серьёзные умозаключения. Вообще типа: что и, как и почему? — ибо в голове у него была всё-таки сумятица на данном отрезке времени: какой-то вернее винегрет! Да что там — бардак!.. А впрочем, что я опять-то такое тут говорю. Вы и сами, наверняка должно быть теперь уже догадываетесь или как-то всё-таки сможете даже явно себе представить это. Иной раз, опосля праздника-то идёшь домой, а в «котелке» — трамтарарам неописуемый! А тут всё-таки можно даже смело констатировать, что он шествует после целых убийственных в нервозном отношении суток; практически с не меньшей смелостью можно ещё добавить, что он с несостоявшихся собственных похорон идёт.
Рука его была до сих пор в кармане, а в руке была записка, которую он ещё там получив от молодого человека туда определил. И не вытаскивал теперь, судорожно зажав её в пальцах (аж пальцы ломило!). Он так и шёл, боясь потерять её, как будто бумажка с написанным на ней аккуратным подчерком адресом (это куда, по словам молодого человека, он должен немедленно проследовать) могла улететь как птичка. И тут он, как бы вдруг спохватившись, поспешно вынул руку из кармана. Судорожно торопясь, развернул, расправил листочек и сразу, лицом зарывшись в него начал усердно в отблеске луны читать содержимое. Решив, что лучше всего, если он вообще прочтёт её содержимое и просто-напросто запомнит написанную в ней информацию.
Ах, как он был удивлён! Когда прочитал знакомые и улицу и даже номер дома. Оказывается, он уже как минимум год постоянно ошивался рядом — ничего к тому же и, не подозревая даже. Вблизи долгое время ходил там нисколько и не думая, что судьба злодейка его однажды порадует таким сюрпризом как сейчас. Дело в том что они с Фомичом частенько проходили мимо того дома с некоторой даже завистью наблюдая (как они тогда думали) бесхлопотно ютившихся в том доме и прекрасном скверике — тихих и добрых людей. Там, по его же (того молодого человека) словам должно быть его уже теперь ждёт женщина — мать этого весьма странного молодого человека. Ну что ж если это, правда, о чём тот ему говорил то вероятнее всего, у него теперь больше действительно не будет проблем с жильём, даже прописку обещали и он сможет, наконец, устроиться на работу. Неужели такое вообще возможно? Ему в это совершенно никак не верилось: да хоть ты тресни! Хотя кто его знает?.. Странный молодой человек — весьма странный! И вообще, почему всё-таки он решил его свести со своею матерью. С какой такой стати он вдруг решил его отпустить даже специально для этого приехал ночью?.. Всё-таки волей-неволей эти вопросы теперь уже почему-то сами самостоятельно барахтались в его голове. Настырно выпячиваясь и как бы даже требуя теперь снова и снова хоть какого-нибудь ответа. Но ответа не было. Пока — не было.
Пройдя лесом в общей сложности немногим немалым где-то, наверное, с час он, в конце концов, вышел на какое-то шоссе. Уже полностью рассвело. Но время всё равно было ещё слишком раннее и вряд ли, могла пока появиться какая-нибудь машина, а куда идти дальше хотя бы просто в какую сторону он тоже не знал. И поэтому увидев с боку шоссе прекрасный пенёк, он сел на него. Только-только он, потихонечку, вот только сейчас он начинает приходить в себя. Утренняя свежесть немного охладила его пальцы рук и ног. Где-то звонко пел соловей, как будто встречал его доброй вестью о продолжении его жизненного пути. Так славно заливался, как будто ласкал виртуозными трелями за эту ночь его уставшую душу, как бы в настоящее время, сообщая или даже как бы предвещая ему о его дальнейшей — прекрасной! — безоблачной жизни. Геннадий Николаевич почему-то порой откуда-то твёрдо знал, что с ним ничего не может случиться плохого. И пока, во всяком случае, пока до этих пор его предчувствия постоянно сбывались. Судьба, проводила нередко его по жутчайшим местам, благосклонно всё-таки сама как бы оберегая его от острых смертоносных своих лезвий лишь частенько всё-таки пугая его, но, не выполняя физического его уничтожения. Хоть он это и чувствовал как бы заранее, но всё равно случалось иногда уж невозможно как бывало страшновато.
Особенно было страшно, когда он только начинал понимать в какую передрягу на этот раз, вообще попал. Да! Это было что-то… Он дважды чуть не описался… Это сейчас звучит, пожалуй, всё чуточку смешно, когда события уже на сегодняшний день теперь позади, а вот тогда-то — ай-я-яй!.. И он начал опять невольно всё вспоминать.
Как появился этот молодой человек… (Господи! он даже имени-то его и не знает). Надо было конечно спросить. Вот всё-таки балбес! Даже в таких элементарных вещах и то опростоволосился. Потом его мысли вдруг повели его сознание путаными лабиринтами к тому: как тогда, совершенно вдруг, как-то внезапно, абсолютно неожиданно, тот паренёк спросил. Спросил ни с того ни с сего верит ли он после того как узнал его имя — верит ли Геннадий Николаевич — да! так и спросил, верит ли Геннадий Николаевич в Бога? Вопрос этот прямо можно сказать его — ошеломил! Застал врасплох. Он помнит прекрасно сейчас сам что он в тот момент, когда говорил — «что конечно верит!» — на самом деле ещё не ведал даже что он вообще дальше, потом будет высказывать, если потребуются объяснения. Или высказывания каких-то собственных мнений по этому вопросу. Не было в голове совершенно ни одной мыслишки… только пустота! Но когда тот с каким-то странным видом — очень странным! С одной стороны как бы скептически даже с какой-то ехидцей и ядовитостью улыбаясь, а с другой стороны одновременно как бы уже другой человек тоже живущий в нём робко спросил. И с каким-то уж чересчур жалобным даже каким-то детским — особенно в глазах! — выражением справлялся. Причём голос его тоже был несколько двояк: какой-то ехидно-умоляющий.
— Ну и где — этот ваш Бог?
А дальше всё как бы застыло; заморозилось. Геннадий Николаевич до сих пор не может никак понять, что же тогда вообще произошло… что такое случилось? То ли его мозги, соскучившись по лекциям которые он когда-то с таким удовольствием декламировал, вот именно декламировал как поэзию, а не просто читал. С пылкой любовью к предмету иной раз, подслащивая свою речь пикантными шуточками, а порой меняя резко направление и отстраняясь чуть-чуть от главной темы, уводил аудиторию в совершенно другой — несколько сказочный мир. Даже некоторые студенты с других факультетов нередко захаживали в аудиторию послушать его лекции, и он никогда не противился этому. Что самое интересное так это то что, несмотря на явно иногда заметную удалённость от темы он всегда великолепно вёл её всё-таки ортодоксально рядышком, выражая свои идеи по заданной теме последовательно, и всё у него получалось на славу. Многие студентки были просто влюблены тогда в него. Они посылали ему свои наивные записочки с душевными признаниями на что он, конечно же, в своё время по-тогдашнему своему восприятию ценностей жизни — само собой «правильно» реагировал и не пропускал без внимания ни одной юбки. И тему проходили, и аудитория не дремала, а восхищённо «пожирала» его глазами и если можно так выразиться ушами…
А тут он лично сам не понял, что же это такое с ним тогда произошло. Он никогда особенно-то и не интересовался: ни религиозными книгами, ни конкретно теософией, ни другой какой-то ещё подобно этой литературой. Бабушка (он как сейчас помнит) когда он был ещё совсем маленьким, читала ему тогда ветхий завет, да и он сам, как только читать научился, потом новый завет одолел. Даже перечитал его дважды кряду. Это была его вообще самая первая — «такая толстая книга». Да и думал, нередко бывало об этом, несомненно, очень и очень часто и помногу. А в остальном: где-то там — чего-то прочтёт, где-то здесь — чего-то услышит. И всё! Если только в студенческие годы было такое, интересовался чуток хиромантией. Да и помнит, прочёл как-то на третьем курсе между семестрами «Раджа йогу» — да и всё! А тут как нахлынули совсем не его… даже слова-то какие-то не его и манера другая и говорил как будто кто-то другой. Что он и сам его слушал — и слышал многое впервые… И зачастую звучавшее: поначалу даже казалось нелепым — абсурдным! — не поддающимся пониманию к тому же сказано было часто с каким-то подвыподвертом… Он только сейчас, полностью сам осознал или всё же не на сто процентов — а только частями, что же именно он в тот раз — «выдал на верха»…
Вдруг там вдали он ясно увидел, сначала что-то засверкало на солнце, а чуть позже он понял, что это не что иное, как непременно приближающийся грузовой автомобиль. Геннадий Николаевич встал и поднял руку. Как ни странно, но грузовик, а это был «КамАЗ-дальнобойщик» остановился. Геннадий Николаевич открыл дверь и, в общем-то, безо всякой надежды даже голосом как бы уже заранее извиняясь, спросил:
— Извините, мил-человек, будьте так любезны, объясните старому дураку, где я вообще нахожусь и далеко ли до города?
Водитель, мужичок средних лет, с улыбчивой физиономией и уставшими глазами усмехнувшись, проявил чувство юмора:
— Бать, ты, что с луны свалился? До города ещё ажно вёрст десять буде… Если табе туды залазь!.. Чего оробел? Карабкайся, Юшкин кот!
— Да у меня это… денег нет!
— Ну и что… брезгавашь что ль? Другого лунохода ты может ваще ещё очень долго, дожидаться будешь! Садись! — и он уж в нетерпении нажал на газ торопясь отпустить сцепление. После чего даже машина как будто проревела, гневно требуя поторопиться: «Садись!!! Тляяя». Геннадий Николаевич дважды себя упрашивать не позволил. Он как пацан проворно для своего возраста запрыгнул в кабину, уселся и не успел он ещё захлопнуть дверь, как они уже вовсю мчались дальше по шоссе.
— Ты это что за грибами, что ли ходил? Заблудился?.. Так вроде раноть?.. — располагаясь к длинной беседе, пробурчал шофёр, сразу видно уже отчаянно борясь со сном:
— Эх! Домчимся ща… в ванну нырну и сразу там усну!.. Едрён корень! Это ж надо сменщика по пути в больницу пришлось уложить. Хорошо всё случилось-то рядышком, а то кыркнулся б Вася! И было б: «Вася — я снеслася!». И все дела… Таперь надо буде ащщо Матрёнке егойной стукануть, а то он там с тоски помрёть…
Водила ехал и тараторил как из пулемёта. Геннадий Николаевич чувствовал, что согреваясь, начинал потихоньку клевать уже носом. Он поначалу вовсю силился, порой неупорядоченно кивал тому головой, с понтом его слушал, а сам уже на самом деле давно его не понимал, и только где-то рядышком вроде бы бубнило что-то и всё! Да и шофёр хороший парень видимо попался не слишком-то гордый. Знал своё дело — только наяривал! Как и обещал: быстро домчались. Высадил он Ген-Ника на остановке у кинотеатра где тот его и попросил: оттуда до того дома всего-то десять минут неторопливой ходьбы.
Геннадий Николаевич превосходно знал, где та улица, на которой живёт та женщина, да и дом тот тоже прекрасно помнил потому, как в том же районе находился, где и Фомич живёт. (Почти по-соседски: три минуты ходьбы). Да! Что тотчас Фомич делает? Заждался его, поди… Скажет: «всё бросил его бедолагу, Ген-Ник, совсем бросил… Пропал окаянный…» Ничего скоро он к нему сам зайдёт вот только сейчас проведает эту женщину. Поклонится ей в пол, дескать, спасибо мать за сына твоего — добрый человек! Вот от смерти отвёл, а то бы всё! — хана бы была…
Хоть и шёл он, медленно не выбирая дороги, просто шёл и думал тем временем о своём, а пришёл-то быстро, да и безошибочно равно к себе домой… да и как же иначе-то! Вот вошёл во дворик он — симпатичный такой скверик тут рядом оградкой невысокой аккуратненькой огороженный, а там клумбочки всякие с разными цветочками, в скором времени которые будут — уже выросли, осталось-то только малость. Такую капельку: расцвести, раскрыться для всеобщего обозрения. Два столика, да и лавочки при них с обеих сторон. И бельё уже какая-то хозяйка вывесила, а ли со вчерашнего дня ещё висит. Маруся, небось! Здесь он точно знает, что бывал и нередко даже: мужички частенько в «доминишко» тут режутся. Замечательное местечко такое — благодать. Тополя стоят летом от солнышка прикрывают. В самый жаркий день здесь желанное спасение — прохладой. Детишкам тут вообще раздолье вдали от проезжих дорог. Город вроде, а суеты городской нет — тихо и спокойно, живи — не хочу! Вот и устраивают дети тут всякие свои шумные и задорные игры. В «казаков-разбойников», «жмурки», «выбивалы», да много игр у них тут бывает — весело! Подошёл он к подъезду дома, а ведь он даже и квартиру-то знает. На первом этаже, а этажи высокие — окна у комнат большие; помнит, кстати, как-то грелся в этом-то подъезде однажды зимой он. Тёплый, хороший подъезд, а главное люди здесь хорошие живут. Знают они его, а как же конечно знают! А вот в этой-то квартире, где сейчас та женщина-то живёт, мужик раньше одинокий обитал — пьяница горький был, да нет теперь его. Пропал, говорят, без вести куда-то. Давно.
Надавил он на звонок, услышал трель за дверью. Прислушался, слышит, кто-то шаркает вроде ближе-ближе, загремел замок, дверь открыла маленького роста женщина. Сразу он её узнал, как не узнать коли сын — на мать похож как две капли воды. Ему почему-то даже подумалось ненароком совсем ни с того ни с сего: «сын на мать похож — знать счастливым должен быть». (Поверье такое в народе есть.)
— Здравствуйте! — сказал он, стараясь как можно ласковее. А сам смотрит на неё и опять думает: нет, женщина уж слишком хрупкая прямо и не верится, как такая крошка могла вот такого-то богатыря родить. Странно как-то всё! А та — тем временем как вроде бы чего-то вдруг вспомнила, распахнула дверь, улыбается только зашиблено как-то, виновато:
— Здравствуйте, проходите… милости просим…
А у самой почему-то слёзы по щекам потекли. Нет, не такие слёзы, которые слёзы огорчения или когда от беды какой-то там плачут. А слёзы какой-то как будто внутренней благодарности, что ли… Причём благодарности к нему за то, что пришёл… слёзы умиления какого-то… от сознания верности своего поступка что ли… И блеск в её глазах какой-то чистый добрый. Вошёл Геннадий Николаевич, представился. Представилась и она. Стоят и улыбаются друг другу, словно оба помешанные не иначе. Оказалось, что и не надо было даже никаких слов итак всё ясно…
— Вот, Геннадий Николаевич, вот в этой комнате вы теперь жить будете. Завтра, то есть, нет сегодня — прямо сейчас — как раз ЖЭУ только-только открылось. Подождите, я только свой паспорт возьму. И она быстро забежала в другую комнату, видимо у неё было уже всё наготове. Потому что Мария Никитична тут же выскочила назад только с сумочкой. И они вместе пошли на выход… на улицу…
Эпилог
Прочитав это, если можно так выразиться произведение у некоторого читателя, возможно, невольно возникнет некое двойственное чувство. (Хотя об этом все-таки, наверное, потом.) А вполне допустимо, что кто-то — кто, пожалуй, более щепетильный или требовательный там: может вообще со мной как с автором во многом здесь совершенно не согласится. И будет даже скорей всего просто-напросто готов поспорить со мной в том или ином месте повествования. Найдя в моих рассуждениях, или даже в самой этой истории какую-нибудь неточность или противоречивость, а может быть даже просто какую-нибудь оплошность в технике написания. Про технику написания — я пожалуй умолчу — кого устраивает того устраивает. Тут я поделать, собственно говоря, уже ничего не могу. Кроме того — что как, выслушав чьи-то замечания, конечно же, с некоторым сожалением в душе кинув взгляд на себя как бы со стороны: посмотреть да и вздохнуть уныло. Ну и само собой немножечко «всплакнуть» над убитым понапрасну временем: что есть, кому всё-таки совсем не угодил.
Это я опять пытаюсь вроде как пошутить не к месту. А так! — вообще-то я полностью полагаюсь на некоторую всё-таки хотя бы лёгкую снисходительность к себе со стороны столь почитаемого мной читателя. Скромненько сообщая ему, что я вовсе и не требую — да Боже упаси! — каких-нибудь себе громких и всяческих тому подобных похвал, а вполне спокойно удовольствуюсь хотя бы тем, что останусь в некоей милости, будучи просто до конца выслушанным или то есть прочитанным.
Всё это само собой вполне может иметь под собой некую зыбкую почву, но я отнюдь и не претендую на столь высокое звание как звание историка. И мне вообще как-то немного ещё со школьной поры всегда трудновато давались все эти исторические цифры и всякие там тонкости точных дат. То есть, иначе говоря, насколько мною изложены какие-то там события, сохранившиеся с той или иной степенью точности в моей памяти — ровно настолько они и правдивы. (Тут, я даже не побоюсь каких-то там мщений от возможных таинственных лиц или даже каких-то «предъяв» с их стороны.) А поскольку в моей голове нередко бывает такое, что вся информация очень часто как-то смешивается кроме, пожалуй, самого главного или основного. И это касается, конечно же, самих конкретных событий свершившихся, так что их, безусловно, можно выдать за цепочку определённых фактов. Однако, разумеется, что вам (уж простите меня великодушно!) ничего и не оставалось-то делать, как принимать изложенное таковым, каким оно, собственно говоря, тут излилось!
Это в принципе ни столько важно, в конце концов. Потому как если вы мой добрый читатель всё-таки в прочтении своём добрались до данного замысловатого места — честно скажу! Я уже от всей души очень рад: в первую очередь за себя и, конечно же, извиняюсь, но скажу правду, хоть она и не очень-то подымет меня в ваших глазах, а всё-таки — но и в чуть меньшей степени за вас.
Конечно, как у любого нормального человека по поводу особенно некоторых героев романа, которые там чем-то особенно запомнились или просто вызвали некое скромное любопытство. А может быть даже, и полюбились чем-то! Так или иначе — но, несомненно, возникнут (и даже должны, наверное!) какие-то там своеобразные вопросы. А так как напрямую мне мало кто их лично, то есть глядя мне прямо в глаза, сможет — задать. Что собственно ещё в большей степени облегчает мне выполнение моей задачи: ибо тут я смело могу малость и приврать, где-то ссылаясь на плохую память или использования вроде как бы некоего писательского приёма с весьма характерным для любого автора желанием вызвать к повествованию ещё больший интерес, причём, совершенно не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Извините, но это я опять всё-таки всего на всего пытаюсь пошутить!
Ладно! хватит воду в ступе толочь; поэтому берусь, на себя взять такую ответственную задачу как поведать вам (почти по секрету как читателю) тут же известную мне информацию без излишних вихляний — как на духу, а, не прячась за замысловатыми фразами и при этом попусту рассусоливая. Поэтому немедленно сообщаю вам в этом эпилоге — пока ещё не остыла от тепла моей руки авторучка, но только смею заметить то — что, прежде всего, конечно самому известно. Всё-таки без обмана!
А известно-то мне хоть не так уж и много, но и не сказал бы что мало. Знаю или надеюсь, что точно знаю. Например, кое-что про Геннадия Николаевича, которого на первый взгляд судьба руководствуясь, конечно же, своими правилами поводив и не так что, как бы за ручку водят ребёнка куда-то. Ну, в садик, например или там, в парк погулять. И отнюдь далеко не с целью какой-нибудь приятной экскурсии, а тем более по столь суровым-то «помойкам» жизни. Причём в самой гуще приватных событий и без какой-либо пощады среди той же обездоленной публики, не имеющей вообще никаких прав на рядовое существование в своём родном отечестве. Людей, зачастую отдавших ему в своё время (государству, конечно же!) — здоровье и молодость. Попав потом почти ненароком у того же государства в своеобразную опалу (тут прежде всего камешек-то конечно в государственный огородец!) при этом став социально беззащитными. А так как граждане мало в общем-то вообще кому-то и чем-то обязаны кроме самих себя и своих родных да и сами от того же государства небось совсем бессчётно в своё время тоже гадостей заполучили. Хочу добавить, тем не менее и всё-таки среди основной массы граждан оказавшись поневоле в среде которых изгоями где получили к сожалению совершенно незаслуженное презрение, а то и того хуже — пустое равнодушие.
Проговорят тут мне, наверное, многие с укором: «Ну, надо же выразился!». А вот позвольте мне всё-таки настоять на своей мысли, ибо презрение напротив равнодушию ведёт всё-таки к какому-то решению данной проблемы неимущих и бездомных людей. Потому как если претит наблюдать некоторым индивидуумам таковых «тварей» — выражаясь их же словами, то соответственно будет какая-нибудь всё-таки с этой страшной проблемой даже война. А это напрямую означает, в конце концов, и конкретное решение этого вопроса (порой зачастую висящего безмятежно на широком всеобщем обозрении); тогда как равнодушие вообще не видит этой проблемы. А ведь они (эти люди — изгои) и теряются-то зачастую в связи со своим воспитанием. Имеющим некую однобокость, которая в своё время широко пропагандировалось во всей тогдашней «заполитизированной» стране. Где нередко, насильно вдалбливались те или иные нехитрые постулаты товарища Макаренко в человеческие умы и, кстати, не всё далеко было конечно — плохо, если даже где-то не сказать обратного. Мало того, люди тех времён после такого воспитания замечу в большинстве своём, оттого что сами были честны, а значит и доверчивы потому и, доверяясь другим — более «продвинутым» попадали во всякие курьёзные ситуации. Где, в конце концов, и гибли, но только усмотрю — чисто физически.
Так или иначе, проведя Геннадия Николаевича через определённые серьёзные испытания, судьба его вероятнее всего имела вполне конкретные цели. Бывший профессор, попавший в столь каверзную ситуацию, где он даже был так жестоко опущен ею (всё той же озорницей судьбой!) на столько — что дальше просто некуда! Но который, видимо так и не должен был всё-таки остаться просто Ген-Ником в силу своих духовных и умственных качеств. Прежде всего, умением своевременно овладевать своим строптивым и необузданным телом. То есть, всё-таки обуздав его широчайшие слабости и потребности. А так же теперь неожиданно всплывших совершенно новых заметьте: целомудренных и относительно добрых — морально выдержанных качеств… Она (судьба — особо выделю для тех, конечно, кто вообще в неё не верит в принципе!) всё-таки вернула его, казалось бы, к долгожданной возможности снова устроить свою жизнь. Когда он пришёл тогда к Марии Ильиничне — надеюсь, помните? — по приглашению или направлению самих же хозяев. Причём на выделенную ими ему жилплощадь. Где ему, конечно же, снова не без трудностей (из-за тех же чиновников которые вечно больше всех всего хотят!) сделали всё-таки новый паспорт, который зарегистрировали по адресу квартиры Марии Ильиничны. А жить, как и предполагалось Геннадий Николаевич, дескать, теперь будет в одной из комнат трёхкомнатной квартиры перешедшей в его личную собственность по дарственной.
Всё; вроде бы живи, казалось бы, и не тужи. Ан вот нет! Не смог он польститься чужой жилплощадью и некоторым неожиданно предложенным ему комфортом. Да и вообще чьей-то может быть где-то излишней, как он тогда посчитал добротой. И он, как только получил в руки свой новый паспорт нежданно-негаданно без каких-либо предупреждений, вдруг просто-напросто исчез. И если бы опять не случай, то мог бы пропасть с нашего поля зрения и в самом деле бесследно. Правда это снова лишь слухи, но говорят, мол, где-то однажды совсем недавно добрые люди вроде как видели то ли похожего сильно на него человека, а то ли и впрямь его самого. Тогда вроде как Геннадий Николаевич гулял в парке весьма элегантно одетый с премиленькой молоденькой дамочкой под ручку. И дружно они катили впереди себя как-то уж совсем необычайно счастливые двухместную детскую коляску с двойней. Не знаю, правда, это или сказки какие, но честно говоря, хотелось бы всё-таки надеяться, что это именно так.
Хотя знаете, чуть позже, но в подтверждение тому, о чём я вам только что тут расписывал, ссылаясь притом на какие-то там слухи — есть ещё один маленький, но весьма неопровержимый фактик. Несомненно, серьёзно дающий основания вводить данные слухи как раз в разряд правдоподобных. Дело в том, что как-то мне самому пришлось тоже по случайным обстоятельствам ещё кое от кого услышать о том же Геннадии Николаевиче. А именно от одного студента политехнического института. Сына моего одного очень хорошего знакомого, который уж очень хвалил профессора, читающего им лекции по механике. Знаете, он так красноречиво расхваливал чтение его лекций, что мне самому, по правде говоря, очень захотелось непременно послушать его.
Мария Ильинична говорят, очень скоро как бы неожиданно и скоропостижно скончалась как-то так тихо — во сне. Вячеслав Сергеевич ещё ранее ушёл в монастырь: замаливать грехи свои, как и обещал при её жизни своей матушке. Никаких претензий от своих бывших подельников и соратников по оружию само собой он не получал. Так как снова и снова вспыхивали ожесточённейшие междоусобицы среди преступных группировок. И у них вероятно просто совершенно не было ни сил, ни времени, да и, наверное, желания, в конце концов, для этого. Наиболее ревностные хранители преступной чести, а таковая с полной уверенностью утверждаю, есть (во всяком случае, тогда точно была) по великой случайности либо погибли, либо были поставлены ситуацией в такое прескверное положение что им, собственно говоря, было просто не до него.
В квартире Вячеслава Сергеевича поселились Нина и его дочь Катенька. Так как на квартиру (кроме, пожалуй, той комнаты) была подписана дарственная весьма предусмотрительной, но ныне уже покойной Марией Ильиничной заранее на свою внучку. Геннадий Николаевич скорей всего вряд ли уже появится тут. Хотя бы для того чтобы вступить в законные права владения этой комнатой. А там вообще-то: кто его знает?
Садясь за написание своего романа, я поначалу совершенно не знал, если быть окончательно честным что же это всё-таки такое даже вообще будет: повесть ли, исторический роман или просто роман. Всё что угодно, но только вот точно знал, что не детектив. Сначала, во время его предварительного обрабатывания он у меня довольно долгое время был повестью. И только ближе к концу его написания я наконец-то чётко уяснил, что ничего другого и не могло получиться кроме как романа. Пусть он не такой обширный по своему объёму, да и совсем (наверное!) не такой, какими бывают вообще настоящие романы. Какими их может быть привыкли видеть вполне начитанные или даже несколько избалованные этим люди. А вот название, а именно вот как раз это одно слово во множественном числе «Изверги» — и родилось-то самым первым у меня в голове. Кстати говоря, сразу же после прочтения мной романа Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы». Именно он-то и подвигнул меня. Именно он и послужил, самым что ни на есть прямым толчком для рождения в моей доселе пустой голове как раз вот этого самого опуса с невероятным «криком» на статус хроники… Хотя сами прекрасно понимаете, что из этого вышло.
Как-то мне случилось однажды разговориться с одним молодым, весьма молодым и умным человеком: о поэзии, прозе… да и вообще о литературе. Однако беседа наша, забежав куда-то вкривь да вкось — вышла, наконец, совсем как-то в другом направлении. Почему-то она потом повелась уже о философии. Ну и само собой, конечно же, непременно и о самих философах. (С чего он вообще взял?! Не знаю.) Так вот молодой человек очень как-то сокрушался по поводу того: почему, дескать, в России никогда не было настоящих философов. Русскую классику он вроде как вообще не любит — типа даже как бы ни признаёт её — за её так сказать многословие. И поэтому никогда толком не читал и на моё предложение всё-таки хотя бы как-нибудь заглянуть туда, заявил: «Что, мол, никогда не читал и не будет читать». Справедливости ради подмечу, я даже не берусь особо тут разглагольствовать-то! Когда и так ясно: можно ли вообще кому-то судить о том чего никогда не пытался не то чтобы понять, а вообще даже сроду не желал хотя бы поначалу познакомиться с этим, чтобы чего-то конкретное об этом утверждать. Как можно судить, о чём лично сам ничего не знаешь, а пользуясь при этом только исключительно слухами или чужим мнением. Лично я — очень сожалею, что в своей глубокой юности, когда ещё учился в школе под стать этому молодому человеку, тоже, точно так же не любил русской классики. А жаль! Может быть гораздо раньше стал бы мудрее…
Что я ему мог бы теперь посоветовать? Пока у меня есть вот такая вот конкретная возможность. Так это, прежде всего то, что разве можно говорить? Во-первых, не прочитав ни разу ни одного романа или хотя бы рассказика Л.Н. Толстого, Ф.М.Достоевского, Н.В. Гоголя и т. д. и т. п. до конца — чтобы делать такие умозаключения. А во-вторых: что, по-моему, самое главное! значит и не узнать той Высшей Философии, в просторах которой ведут речь такие гениальные авторы о Боге. (Да и ещё как!) А какая философия ещё может быть вообще для человека более важной, нежели эта. И в-третьих, нынешняя молодёжь (что по моему пониманию — не менее главное! хотя бы для неё) вообще не приучает себя понапрасну к прочтению объёмных произведений. И это тогда когда только именно они-то и тренируют по-настоящему человеческие мозги, приучая человека к длительному умственному труду.
Но впрочем, я опять вернусь к своим героям, к которым, кстати, мы уже несколько успели привыкнуть. К героям этого романа. Наиболее сложная ситуация на тот момент была всё-таки у Татьяны Ивановны. Ведь что не говорите, а всё равно ей предстояло ещё довольно долгий срок противоборствовать с неким Кириллом Антоновичем в их тайной войне. Конечно, она теперь была в курсе всех этих событий! По крайней мере, знала так сказать врага в лицо. И это ей в некоторой степени облегчало уже её задачу. И мало того, она теперь непросто защищалась от зарвавшегося чиновника, но и что стало совершенно неожиданным даже для самого Кирилла Антоновича, она перешла конкретно в контрнаступление, лишь только-только разрешив в положительную сторону свои семейные «катаклизмы».
А что? Наняв лучших, или скажем так, весьма хороших юристов, которых ей посоветовал Пётр Николаевич. И других необходимых специалистов. Татьяна Ивановна спокойно, без всякой суеты, начала свои «военные действия». Вы даже не можете себе представить как, кроме того, но найдя себе весьма удобный случай, Татьяна Ивановна проявила в дальнейшем свою смекалку и расторопность. А именно, она наняла ещё из некоторых тогда уже возникших как грибы после дождя частных детективных контор нужную ей. И возложила на неё функцию: тайного слежения за тем же Кирилл Антоновичем. Очень легко собрала необходимый ей о нём подробный и достоверный компрометирующий материал. А затем выставила его на всеобщее обозрение самиздатом в местной газете. Дискредитировав тем самым его в глазах не только общественности, но и выше стоящих лиц. Впервые, за долгое время на политической арене страны добилась, чтобы чиновника «попросили подать в отставку».
Говорят некоторые приближенные к нему или может совсем несведущие лица что он, дескать, потом спился. Но совсем уж потом, уверяли совершенно другие люди, что Кирилл Антонович каким-то образом наоборот почему-то где-то в соседней вроде как области или где-то в каком-то вернее отдалённом районе нашей страны после всего этого всё равно баллотировался. И наконец, всё-таки пробился — чего и хотел — в мэры. Я, этого точно даже при всей своей, так сказать, не боязни каких-то там чрезмерно опасных последствий за свои слова, утверждать не могу. Ибо тут, пользуюсь исключительно только информацией со стороны. Причём, довольно-таки давно не имею столь пагубно-заманчивой привычки, смотреть телевизор.
Да и двоякость своего романа я вижу только в том, что частенько принципиально и периодически даже чуть ли не конструктивно разбегаюсь во многих взглядах некоторых своих и чужих суждений на протяжении всего повествования этого произведения. Но уж тем более только не в том, что якобы совсем не знаю куда мне, наконец, примкнуться. Если можно так выразиться? К верующим в Бога или наоборот. И уж тем более, совсем даже не в том дело — чего там мог высказать профессор в экстремальной такой своей ситуации о Боге. Кстати, речь его — прозвучавшая как информация, несколько заманивающая или даже нарочито соблазнительно предлагающая что ли, а потому не очень-то похоже на то, что якобы эти слова — есть идущие от Бога. Господь Бог всё чаще нас проверяет на твёрдость нашей искренности — отбирая только истинно любящих! Это уже моё умозаключение. Так что мало ли чего там Геннадий Николаевич мог наговорить со страху или в виду каких-либо других совсем неизвестных нам причин. Хотя кто его знает, это может быть вполне воспринято нами, как его — death speech или, в конце концов, личное такое his opinion. А уж принимать его во внимание или нет — вопрос сугубо индивидуальный. Однако для меня однозначно, так или иначе — этот вопрос, давно уже решён, — а вот вы, пожалуй, подумайте…
Может быть, у некоторых прочитавших это произведение вдруг возникнет такое невольное впечатление что, дескать, оно вообще написано человеком ещё вроде как бы юношеского возраста… Что ж отвечу! Буду искренне рад такому в ряде случаев впечатлению. Затем что знать и в самом деле можно быть душой молодым, будучи за пятидесятилетним рубежом своего жизненного пути.