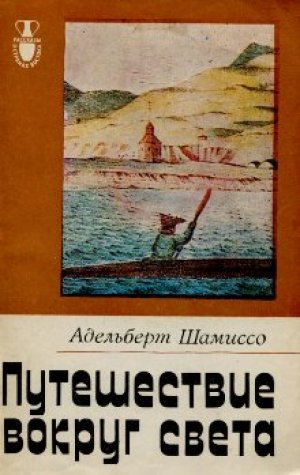
Предисловие
В третьем томе книги лейтенанта русского императорского военно-морского флота Отто Коцебу «Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Entdeckung einer nordöstlichen Durchfahrt, unternommen in den Jahren 1815–18 auf Kosten Sr. Erlaucht des Herrn Reichskanzler Grafen Rumanzow auf dem Schiffc «Rtirik». Weimar, 1821.4» {1}»] опубликованы мои «Наблюдения и замечания», относящиеся к этому путешествию, в котором я участвовал в качестве естествоиспытателя.
Единственной наградой за все мои усилия как ученого и писателя во время и после путешествия должна была стать, как я надеялся, достойная и безупречная публикация моего труда, с тем чтобы с ним могли познакомиться читатели, которым он предназначался. Однако результат не оправдал ожидания. Написанное мною было во многих местах искажено или утратило смысл в результате бесчисленных опечаток, а мне не дали возможности внести необходимые поправки. В сочинении, которое можно было бы приписать мне и которое действительно считают написанным мною{2}, Эшшольц излагает такие взгляды на происхождение коралловых островов, опровержение которых я считаю своей главной заслугой. Издательство отклонило предложение одного знакомого французского ученого перевести мой труд на французский язык, отказавшись предоставить необходимые для этого гранки. Наконец, мрачный отпечаток на книгу Коцебу наложило злосчастное деяние Занда{3}, и имя Коцебу, стоявшее в подзаголовке трудов экспедиции, стало объектом борьбы политических группировок.
Я встретил лишь одну достойную оценку описания этого путешествия, да и то лишь его морской части, в журнале «Quarterly Review»{4} за 1822 год.
И все же мне кажется небесполезным спасти от забвения некоторые части моего труда. То, что здравомыслящий человек видел своими глазами, исследовал и кратко описал, заслуживает сохранения в анналах науки. Лишь та книга, которая списана или скомпилирована из других книг, может быть вытеснена или вообще заменена новыми произведениями, более полными и талантливыми.
Если бы я захотел теперь заново рассмотреть все то, что исследовал тогда, мне пришлось бы сравнить и оценить свидетельства и высказывания моих многочисленных преемников; но это уж дело нынешних ученых, располагающих полными материалами; я бы сказал — дело современных путешественников. Сообщения более ранних мореплавателей, совершивших кругосветные путешествия, как правило, правдиво отражают действительность, но ключ к их пониманию могут дать лишь собственные наблюдения.
Во времена моего детства Кук{5} приподнял завесу, за которой скрывался сказочный, манящий мир, и я мог представить себе этого незаурядного человека лишь в ореоле, подобном тому, в котором Данте увидел на пятом небе своего отдаленного предка Каччагвиду. Я был по крайней мере первым берлинцем, совершившим такое путешествие. Теперь участие в кругосветном плавании является, кажется, одним из требований научного образования, а в Англии даже собираются за небольшую плату возить бездельников на почтовом корабле по следам Кука.
Я часто давал молодым друзьям совет, которому, однако, никто из них не последовал. Если бы я вернулся из научного путешествия, говорил я им, и должен был бы рассказать о нем, то я не подходил бы к этому с позиции ученого, а стремился лишь к тому, чтобы интересующийся читатель получил представление о чужой стране и чужих людях или скорее обо мне самом в этом чуждом для меня окружении. Если бы мой замысел увенчался успехом, то читатель вместе со мной побывал бы повсюду, где проходил наш путь. Лучше всего было бы написать эту часть во время самого путешествия. Особо я написал бы для ученых обо всем, будь то не столь значительное или, наоборот, очень важное, что мне удалось сделать в каждой из областей науки.
От меня не требовали рассказа о моем путешествии, и я, не испытывая большого удовольствия от писания, охотно предоставил другим — капитану Коцебу и художнику Хорису{6} — возможность заняться таким сочинительством. В моих «Наблюдениях и замечаниях» я изложил наиболее существенное о странах, с которыми мы познакомились. Некоторые из этих страниц, несмотря на неизбежно присущую им сухость изложения, я хотел бы включить в настоящую книгу. И, откровенно говоря, именно это побуждает меня наверстать упущенное и адресовать эти строки вам, друзья мои и моей Музы. Я мысленно представляю себе, что обращаюсь не к чужим, а к друзьям, откровенно рассказывая о себе, о самой важной главе в истории моей жизни.
Но разве не высохла роса на цветах, разве не исчез их аромат? С той поры прошло уже почти двадцать лет, и я уже больше не бодрый юноша, а довольно старый, больной и усталый человек. Но ум мой еще молод, и сердце не остыло. Будем надеяться на лучшее. Именно болезнь, которая подтачивает мои силы и мешает заняться более серьезными трудами, дает мне необходимый досуг для доверительного разговора.
Вступление
Тот, кто захочет сопровождать меня в далеком путешествии, должен сперва узнать, кто я такой, как играла мной судьба и как случилось, что в качестве титулярного ученого я поднялся на борт «Рюрика».
Отпрыск старинного рода, я родился в замке Бонкур в Шампани в январе 1781 года. Но уже в 1790 году [точнее, в 1792] в период эмиграции французского дворянства мне пришлось покинуть родную землю. Воспоминания детства — для меня поучительная книга, в которой обостренному взгляду открывается время, полное кипучих страстей. Суждения ребенка относятся к тому миру, который в них отражается, и мне хочется задать себе вопрос: часто ли суждения взрослого человека в большей степени принадлежат ему самому?
После долгих скитаний по голландским и немецким землям, претерпев немало мук и страданий, моя семья наконец обосновалась в Пруссии. В 1796 г. я стал пажем королевы — супруги Фридриха Вильгельма II, а в 1798 году уже при Фридрихе Вильгельме III поступил на военную службу в пехотный полк Берлинского гарнизона. В начале XIX века, в период более умеренного правления первого консула{7}, наша семья получила возможность вернуться во Францию, но я остался. Так в годы, когда мальчик становится мужчиной, я оказался в одиночестве, без образования, ибо никогда серьезно не посещал школу. Я начал сочинять стихи, сперва на французском языке, потом на немецком. В 1803 году я написал «Фауста»{8}, с которым у меня связаны светлые воспоминания. Этот почти мальчишеский метафизически-поэтический опыт случайно сблизил меня с юношей, как и я пробовавшим свои силы в поэзии. Его звали К. А. Варнхаген Энзе{9}. Мы побратались, и так появился на свет незрелый «Альманах муз за 1804 год». Поскольку ни один книготорговец не соглашался его издать, мне пришлось взять все расходы на себя. Это безрассудство, о котором я не сожалею, стало благословенным поворотным пунктом в моей жизни. Несмотря на то что мои тогдашние стихотворения представляли собой преимущественно освоение тех поэтических форм, которые рекомендовала так называемая новая школа{10}, книжечка привлекла к себе некоторое внимание. Благодаря ей я завязал тесную дружбу с превосходными юношами, впоследствии ставшими выдающимися мужами; к тому же она привлекла ко мне благосклонное внимание видных людей, среди которых достаточно назвать хотя бы имя Фихте{11}, почтившего меня своей отеческой дружбой.
За первым «Альманахом муз» А. Шамиссо и К. А. Варнхагена последовали еще два ежегодника; для них уже нашелся издатель. Альманах перестал выходить лишь после того, как политические события разбросали в разные стороны и авторов, и издателей. Тем временем я усердно учился; прежде всего изучил греческий, затем перешел к латыни, а потом и к живым европейским языкам. Во мне зрело решение оставить военную службу и полностью посвятить себя научным занятиям. Однако роковые события 1806 года{12} помешали моим намерениям и отсрочили их осуществление. Университет в Галле, куда мне хотелось последовать за друзьями, был закрыт{13}, а друзья рассеялись по миру. Смерть отняла у меня родителей. Разочаровавшись в себе, не имея положения и занятий, надломленный, сокрушенный, я переживал в Берлине мрачные дни. Самое губительное воздействие оказал на меня один из выдающихся умов своего времени — человек, которого я боготворил{14}. Одного лишь его слова, одного кивка было бы достаточно, чтобы понять меня, но вместо этого по причинам, до сих пор мне непонятным, он предпочел меня растоптать. Один из друзей порекомендовал мне тогда совершить какой-нибудь безумно дерзкий поступок, чтобы восстановить хоть что-то из утраченного и вновь обрести жизненную энергию.
Из подавленного состояния, в котором я пребывал, меня вывело приглашение занять пост преподавателя лицея в Наполеонвиле, неожиданно полученное поздней осенью 1809 года от старинного друга нашей семьи. Я направился во Францию, но так и не смог приступить к работе. Случай, за которым стояла неумолимая судьба, еще раз распорядился мной по своему усмотрению. Я попал в кружок мадам Сталь{15}. После ее изгнания из Блуа зиму 1810–1811 года я провел в Наполеонвиле у префекта Проспера Баранта{16}, а весной 1811 года последовал за знатной госпожой в Женеву и Коппе. В 1812 году я деятельно способствовал ее бегству{17}. В обществе этой удивительной женщины я провел незабываемые дни, познакомился со многими самыми выдающимися людьми той эпохи и пережил одну из глав истории Наполеона — его противодействие силе, не желавшей ему покориться, ибо рядом с ним не должно было существовать ничего самостоятельного.
В конце 1812 года я покинул Коппе и своего друга Огюста Сталя{18}, чтобы посвятить себя изучению природы в Берлинском университете. Так впервые в жизни я стал действовать решительно и начертил себе путь, которому отныне неизменно следовал.
Мировые события 1813 года, в которых я не принимал активного участия — ведь у меня больше не было отечества, или я его еще не приобрел,— породили в душе моей страшную раздвоенность, но не смогли совлечь с избранного пути. Чтобы рассеяться и позабавить детей друга, я написал в это лето сказку «Петер Шлемиль»{19}, нашедшую благосклонный прием в Германии, а в Англии ставшую чуть ли не народной.
Едва лишь почва под ногами упрочилась и над головой засияло голубое небо, как в 1815 году разразилась новая буря{20} и опять позвала людей к оружию. То, что я слышал от близких друзей, впервые выступавших в поход, теперь обращал к себе: мне нет места на поле брани. Но как тяжело оставаться пассивным созерцателем в годину вооруженного народного движения!
Принц Макс Вид-Нойвид{21} собирался в ту пору совершить путешествие в Бразилию. Мне пришла в голову мысль присоединиться к нему, и я предложил свои услуги. Однако подготовка к экспедиции была завершена, и принц уже не мог расширить ее штат, а предпринять поездку на собственные средства я был не в состоянии.
У Юлиуса Эдуарда Хитцига{22} мне в руки случайно попала газетная статья, в которой коротко сообщалось о предстоящей в ближайшее время экспедиции русских к Северному полюсу. «Хотелось бы мне побывать с этими русскими на Северном полюсе!» — мрачно воскликнул я, топнув при этом ногой. Хитциг взял газету, перечитал статью и спросил: «Ты это серьезно?» — «Да!» «Тогда быстрее достань сведения о твоих ученых занятиях и способностях. Посмотрим, что можно будет сделать».
Руководителем экспедиции газета назвала Отто Коцебу. Хитциг был связан со статским советником Августом Коцебу{23}, жившим тогда в Кёнигсберге, и сохранил с ним дружеские отношения. С ближайшей почтой Хитциг послал статскому советнику Коцебу письма и отзывы моих наставников, коих с гордостью могу назвать своими друзьями. Вслед за его ответом вскоре пришло письмо из Ревеля, датированное 12 июня 1815 года, от его зятя, адмирала, в то время капитана императорского русского военного флота Крузенштерна{24}, уполномоченного быть организатором экспедиции графа Румянцева. Я назначался естествоиспытателем экспедиции, посылаемой для открытий в Южное море и вокруг света, вместо профессора Ледебура{25}, который вынужден был отказаться от этой должности по слабости здоровья.
Радость предвкушения. Поездка через Гамбург в Копенгаген
Теперь я действительно был на пороге самых светлых грез, на которые едва ли мог отважиться даже в детстве. Они носились еще в «Петере Шлемиле», но я не смел надеяться на их осуществление и став мужчиной. Я был как невеста, ждущая горячо любимого с миртовым венком на голове. Это была пора настоящего счастья; жизнь оплачивает предъявленные векселя не полностью, и на этой земле самый блаженный тот, кого отзовут с нее прежде, чем жизнь преобразует необузданную поэзию его мечтаний в низменную прозу будней.
Ощущая в себе радостную деятельную силу, я смотрел в широко распахнутый передо мной мир, горя желанием сразиться с любимой природой, вырвать у нее ее тайны. Подобно тому как в те немногие оставшиеся до посадки на корабль дни страны, города, люди, с коими я познакомился, представлялись мне в наивыгоднейшем свете, который излучала радость, переполнявшая мою грудь, так и я производил самое благоприятное впечатление на всех, кто видел меня тогда; ведь отраден уже сам вид счастливого человека.
В письме капитана Крузенштерна в весьма точных выражениях излагалось все, что мне надлежало знать о своем ближайшем будущем. Время торопило: «Рюрик» должен был покинуть Петербург 27 июля, а Кронштадт — 1 августа. При благоприятных обстоятельствах он мог уже 5 августа прибыть в Копенгаген. Мне предстояло решить вопрос, где присоединиться к экспедиции: в Петербурге или в Копенгагене. В случае, если я предпочту первое, на границе меня будет ждать паспорт для въезда в Россию. Никаких перспектив, связанных с удовлетворением честолюбия или стремлением к наживе, передо мной не открывалось; единственной наградой должно было служить сознание того, что я участвую в славном предприятии. Судно было, по-видимому, превосходно построено, весьма хорошо и удобно оснащено. Моя каюта, как указывалось в письме, несмотря на небольшие размеры корабля, была много лучше той, которую занимал Тилезиус{26} на борту «Надежды».
После здравого обсуждения вопроса с друзьями было решено, что мне следует сесть на корабль в Копенгагене, а три недели до середины июля с пользой провести в Берлине.
В эти дни я получил от Огюста Сталя письмо из Парижа, датированное еще 15 мая, но прибывшее с запозданием, поскольку в силу сложившихся обстоятельств его доставили кружным путем. С чувством душевной боли я отложил письмо. Жребий был брошен, и мой взор устремился только вперед.
Мысли моего друга были обращены от старой Европы к Новому Свету: он собирался отправиться в девственные леса у реки Св. Лаврентия, принадлежавшие его матери, чтобы основать там город Некерстаун. Он желал соединить наше будущее, излагал свой далеко идущий план, который надлежало обсудить подробнее, и определял отведенную мне роль. Вместе с завербованными рабочими мне предстояло следующей весной встретить его в Нью-Йорке. Я смог лишь написать ему об обстоятельствах, изложенных выше, и не без огорчения отказаться от сотрудничества в осуществлении плана, который, впрочем, остался невыполненным. Мне так и не довелось узнать, что помешало этому.
Я занимался теперь прежде всего тем, что, используя время и благожелательное отношение сведущих людей, старался узнать, какие пробелы в науке можно надеяться заполнить, совершив путешествие, подобное намеченному; спрашивал, что нужно повидать и что следует собирать. Я мог задавать себе и другим лишь общие вопросы; о цели и плане путешествия Крузенштерн мне ничего не сообщил — я не знал, какие берега нам предстоит посетить.
Нибур{27} указал мне на слабо изученный участок восточного побережья Африки, заметив, что его нетрудно было бы достичь, если бы экспедиция при возвращении двигалась на запад. Смущенно и почти испуганно я ответил ему, что решать подобные вопросы может только капитан. Он считал, однако, что в этом случае совет ученого может иметь определенный вес. О том, что представляет собой ученый в такой экспедиции, станет ясно из последующих страниц этой книги.
Поэт Роберт{28} сказал мне: «Шамиссо, собирайте для других и везите домой камни и песок, водоросли, грибы, Entozoa и Epizoa, что означает, как я слышал, кишечнополостных червей и паразитов, но не пренебрегайте моим советом: если представится возможность, собирайте также и деньги и откладывайте их для себя. Мне же привезите трубку дикарей». Я привез другу эскимосскую трубку, и это его порадовало, но о деньгах забыл.
Замечу кстати, что на «Рюрике» я обнаружил статью д-ра Шпурцгейма{29}, в которой в целях развития краниологии рекомендовалось срезать у дикарей волосы на голове и делать гипсовые слепки их черепов.
Я выехал из Берлина в Гамбург 15 июля 1815 года обычным почтовым дилижансом. Теперь уместно и своевременно дать описание чудовища, носившего название дилижанса, ибо прогресс покончил и с ним. Чтобы не подорвать доверие к своим словам, могу сослаться на Лихтенберга{30}, сравнившего эту адскую машину с бочкой Регулуса{31}. «Немецкая почтовая карета,— писал я тогда{32},— кажется, создана специально для ботаников, ибо действовать можно, только находясь вне ее, а движется она так медленно, что человек при желании может уйти далеко вперед и вернуться обратно. Ничего не упустишь и ночью, так как утро застанет тебя примерно на том же месте, где ты был вечером».
Кучер, правивший лошадьми в самом начале пути, долговязый, веселый жандарм, за те пять с половиной лет, что он пробыл в отставке, проделал по своему маршруту — примерно 10 миль от почты и обратно — 8524 немецкие мили{33}, в то время как длина экватора составляет лишь 5400 миль. Пассажиры попались малоинтересные. Но в Ленцене к нам присоединился простолюдин, красивый, крепкий старик, служивший ранее матросом в Гамбурге, а сейчас — речник на Эльбе. Не раз он видел северные полярные ледники, так как долго работал гарпунером на судах, промышлявших китов и тюленей. Однажды его корабль вместе с многими членами экипажа погиб во льдах. Проведя на льду семнадцать голодных дней, он сумел добраться до Гренландии, где семнадцать месяцев прожил с «дикарями» и выучил их язык. Датское судно с командой из пяти человек взяло его с двадцатью товарищами по несчастью на борт и доставило в Европу. Примерно из 600 человек домой возвратилось лишь 120. Сам он потерял несколько пальцев. Встреча с этим человеком доставила мне больше радости, чем чтение книг, и вскоре мы подружились. Просто и живо он поведал мне обо всем, что довелось увидеть, пережить и претерпеть; я внимательно слушал, стремясь почерпнуть из этого нечто полезное, и перед моим мысленным взором вставали ледяные поля и торосы, берега Ледовитого океана, куда я надеялся попасть через Берингов пролив и где, возможно, и на мою долю выпадут такие же переживания и страдания.
18 июля я прибыл в милый сердцу город Гамбург, где занялся делами, навещал старых друзей и завязал новые полезные знакомства. Особенно любезен и внимателен был Фридрих Пертес{34}. В его книжной лавке со мной приключился презабавный случай. Слуга, заметив дружеское отношение ко мне хозяина и увидев, что я, стоя у глобуса, рассказываю о дальних путешествиях, спросил у одного из служащих: кто этот черноволосый чужеземец, чьи поручения он так часто выполнял? «Разве ты не знаешь? Это Мунго Парк{35}»,— ответил тот. Радостный и гордый, словно газетный лист, где напечатана важная новость, курьер стал бегать по городу, сообщая всем, кого знал, что Мунго Парк не погиб, что он здесь, у его хозяина, выглядит так-то и так-то и много рассказывает о своих путешествиях. Тогда добрые гамбуржцы — группами и в одиночку — устремились в лавку Пертеса, чтобы воочию увидеть Мунго Парка. В четвертой главе «Шлемиля» сказано: «Признаться ли? Мне льстило, что меня, пусть по ошибке, принимают за венценосца».
Вечером 21 июля почтовым рейсом я выехал в Киль.
Гамбург был в то время северной границей известного мне мира, и, продвигаясь дальше к Копенгагену по суше или по морю (еще ни разу в жизни мне не доводилось плавать на корабле), я ощущал себя путешественником. В Копенгагене я добросовестно изучал северную природу, подобно тому как прибывший на «Рюрике» мой друг и спутник Эшшольц, никогда еще не спускавшийся так далеко к югу, начал знакомиться с южной природой и приходил в восторг от дикорастущей виноградной лозы.
Помните? Vitis vinifera sub duo. (Радость — в вине.) Юг и Север — словно Молодость и Старость! Каждый человек, пока он жив, находится как бы между ними. Быть старым и принадлежать Северу не хочется никому. Однажды мне пришлось вычеркнуть слово «старый» из стихотворения, посвященного некоему юбиляру, а один лапландский священник рассказал мне о том, как его с севера перевели на юг, в Торнио, находящийся у Северного полярного круга.
Прибыв 22 июля в Киль, я сразу же почувствовал себя как дома. Вообще я подметил в себе способность всюду чувствовать себя как дома. Кое-кто из тех, кого я надеялся встретить здесь, отправились в Копенгаген на коронационные торжества. Один старый товарищ ввел меня в круг своих знакомых, и я с радостью предвкушал тот момент, когда отплывет пакетбот, на борт которого меня пригласили. Это произойдет только 24 июля, на рассвете. Я робко осведомился: возможно ли, чтобы из-за задержки, вызванной противодействием встречных ветров, пакетботу понадобилось на переход в Копенгаген более восьми суток? Меня заверили, что в любом случае судно своевременно достигнет Датских островов.
Морской залив, который доходит до Киля, образует как бы озеро, окруженное холмами с великолепной, сочной зеленью. Это внутреннее море без приливов и отливов, с ровной, зеркальной гладью, отражающей зеленый наряд земли, лишено величественности океана. Неттельбек{36} шутливо именует Балтийское море «утиной лужей». На пути из Киля в Копенгаген судно не выходит в открытое море, а все время держится на расстоянии видимости от берега. Начинаешь хорошо понимать, что моря, по существу, те же дороги. Об этом говорит и множество парусов вокруг нас. На пути между зелеными равнинами Зеландии и низменным побережьем Швеции мы всегда Насчитывали их не менее полусотни.
Мы подняли паруса утром 24 июля. К вечеру ветер усилился, а ночь выдалась бурной. Когда наш корабль, галеас с командой из пяти человек, начало качать, веселившиеся поначалу пассажиры приутихли. Я отдал первую дань морю, но уже на другой день оправился и подумал, что дешево отделался по сравнению с тем, что могло бы быть. В этой предварительной школе кругосветного плавания я понял и другое, о чем хочу здесь сказать. В копенгагенской аптеке я, не зная датского языка, призвал на помощь все свои познания в латыни, однако ученик фармацевта, вручая нужную мазь, ответил мне на немецком языке, который был гораздо лучше моего собственного. 26 июля в полдень при полном безветрии и спокойном море буксир ввел нас в гавань Копенгагена.
В Копенгагене, сразу же почувствовав себя как дома, я провел, может быть, самые веселые и радостные дни своей жизни в обществе дорогих и участливых друзей, в теплом и поучительном общении с людьми, кои являются гордостью своей родины в сфере науки и искусства. Хорнеман{37} в это время отсутствовал, а Пфафф{38} из Киля был в Копенгагене. Эленшлегер{39} переводил «Ундину» Фуке{40}. Театр, как обычно в летние месяцы, был закрыт. Дневные часы я проводил в библиотеках, собраниях и садах, а вечерние посвящал чудесному общению с друзьями.
Мне довелось присутствовать при помазании, или, как мы говорим, на коронации, горячо любимого датского короля Фредрика VI в замке Фредриксборг. Замечу попутно, что друзья раздобыли для меня пригласительный билет у одного еврея, который торговал ими.
В Копенгагене мне не удалось отведать конины, чего мне хотелось как естествоиспытателю. Старания моих друзей ни к чему не привели. В ветеринарной школе — единственном месте, где можно было это сделать,— во время моего пребывания в Копенгагене не было забито ни одной лошади.
Лейтенант Вормскьёлль, который, путешествуя по Гренландии, приобрел определенный опыт в изучении естественной истории, захотел принять участие в экспедиции Румянцева в качестве добровольного естествоиспытателя. Мы увиделись сразу же после моего приезда в Копенгаген. Я встретил его с распростертыми объятьями, радуясь еще одному работнику в грядущей жатве. Меня поздравили с трудолюбивым помощником.
Ранним утром 9 августа из адмиралтейства пришла радостная весть: только что принят сигнал с русского брига.
Прежде чем вы попадете вместе со мной на борт «Рюрика», приведу здесь несколько строк, которые я написал тогда о Копенгагене и Дании. Вспомним при этом о нападении англичан и о потере флота в 1807 году, а также о новейших событиях: вынужденной передаче Норвегии Швеции, обороне Дании под руководством принца Кристиана и заключительном договоре, по которому она, будучи самостоятельным королевством с собственными законами, подчинилась воле шведского короля{41}.
Копенгаген, как мне кажется, по размерам и населению не больше Гамбурга: широкие улицы, новые, безликие дома. Ратуша построена в греческом стиле из кирпича и оштукатурена[1]. С давних пор датчане ненавидят немцев; только братья могут ненавидеть друг друга. Но теперь они больше всего ненавидят шведов, потом англичан, вражда к немцам ослабла. Они стремятся утверждать свой национальный характер и чувствуют себя униженными. Поэтому многие не любят Наполеона, но все признают — да и кто стал бы это отрицать,— что они расплачиваются за чужие грехи. Они принимают участие в судьбе Франции, потому что ее могущество служит противовесом могуществу их угнетателей — англичан. Они мореплаватели, морская нация. В Копенгагене становится ясно, что Норвегия еще меньше, чем немецкие провинции{43}, связана с Данией; наоборот, по языку, национальному духу, истории она составляет другую часть государства. Флот оставался опорой. На собраниях, куда меня приглашали, обычно со злобой и тоской пели норвежскую народную «Песню Синклера» и провозглашали тост: «За первое удачное морское сражение!». К королю датчане питают чувство преданной любви и не считают его виновником несчастья. Церемония помазания, когда он появился, увенчанный короной и со скипетром в окружении рыцарей, облаченных в старинные одеяния, не была лишь зрелищем и развлечением: она привлекла к себе сердца датчан, и народный дух оживил почтенные старинные формы. Справедливые, доброжелательные люди с чувством признательности и любви связывают с именем принца Кристиана все, что было предпринято и действительно сделано для Норвегии; несправедливые люди возлагают на него ответственность за все неосуществленное и хулят его. В Киле профессора настроены пронемецки, а студенты — продатски.
«Рюрик». Отбытие из Копенгагена. Плимут
Утром 9 августа 1815 года на рейде Копенгагена я представился капитану на борту «Рюрика». Вместе со мной то же сделал лейтенант Вормскьёлль, и капитан Коцебу, очевидно, тронутый нашим единодушием, объявил ему, что согласен включить его в состав экспедиции. Если судить по описанию путешествия, сделанному Коцебу{44}, он действовал тогда не на собственный страх и риск. Он вручил мне лестное письмо от графа Румянцева и письмо от капитана Крузенштерна, но не дал никаких инструкций и приказаний. Тщетно я просил об этом; мне так ничего и не сообщили о моих обязанностях и правах, о корабельном распорядке, которого мне предстояло придерживаться. В море я должен был испытать то же, что и на суше, где сама жизнь учит жизни. Нам было приказано через три дня прибыть с багажом на борт корабля. Отплытие задержалось до 17 августа. 13 августа судно посетили послы ряда государств, и, когда они покидали его, им салютовали тринадцатью пушечными залпами.
Здесь уместно дать предварительные сведения о том маленьком, замкнутом мирке, коему я теперь принадлежал, и об ореховой скорлупке, куда был впрессован и заключен этот мирок, которому целых три года предстояло бороздить океанские просторы. Корабль — родина мореплавателя; в подобном путешествии он проводит более двух третей времени в полном уединении между голубизной моря и голубизной неба; почти треть всего времени корабль стоит на якоре недалеко от берега. Цель дальнего плавания — добраться до чужой страны; и это так тяжело, что трудно вообразить. Но где бы ни был путешественник, его корабль — это старая Европа, от которой он напрасно стремится уйти, с привычными людьми, говорящими на привычном языке, с чаем и кофе, которые пьют в установленные часы по установленному обычаю, со всем убожеством ничем не приукрашенного домашнего быта, который его так крепко держит. Пока с чужого берега он видит флаг своего корабля, взор прочно связывает его с родной землей. И все же он любит свой корабль, как любит житель Альп хижину, где проводит долгие месяцы, добровольно погребенный под снегом[2].
Вот что я записал в начале путешествия о своем странствующем мирке. К нашим фамилиям по русскому обычаю были добавлены имена и отчества: так нас называли на корабле.
Капитан «Рюрика» — Отто Евстафьевич Коцебу. Старший офицер — Глеб Семенович Шишмарев. Друг капитана, старше его по возрасту, говорит только по-русски; его веселое, сияющее лицо подобно полной луне, на него хочется смотреть; сильная, здоровая натура, один из тех, кто не разучился смеяться. Второй офицер — Иван Яковлевич Захарьин, болезненный, обидчивый, но добродушный человек; немного понимает по-французски и по-итальянски.
Судовой врач, естествоиспытатель и энтомолог — Иван Иванович Эшшольц, молодой доктор из Дерпта, несколько замкнутый, но верный и благородный, как золото. Естествоиспытатель — это я сам, Адельберт Логинович. Художник — Логин Андреевич Хорис, немец по происхождению. Он еще очень молод, но уже сопровождал в качестве рисовальщика маршала Биберштейна{45} в его путешествии по Кавказу. Естествоиспытатель-доброволец — Мартин Петрович Вормскьёлль. Три штурманских помощника: Хромченко, весьма добродушный, трудолюбивый юноша; Петров, невысокий, веселый парень; Коренев, держится поодаль от нас. Два унтер-офицера и двадцать матросов.
Моряки, как те, кто добровольно присоединился к экспедиции, так и специально для нее отобранные,— народ, заслуживающий всяческого уважения; люди стойкие и подвергающиеся самой суровой муштре; к тому же хорошие работники, гордые своим призванием кругосветных мореплавателей.
Капитан в ранней молодости уже совершил плавание вокруг света вместе с Крузенштерном на «Надежде». Он единственный человек на судне, кто пересек экватор. Самым старшим по возрасту был я.
«Рюрик», которому император разрешил во время путешествия идти под военно-морским флагом,— совсем небольшой двухмачтовый бриг водоизмещением 180 тонн с восемью небольшими пушками на палубе. На корме под палубой находится каюта капитана. Общая лестница отделяет ее от кают-компании, расположенной у основания грот-мачты. Обе каюты с верхним освещением. Остальное помещение вплоть до кухни у основания фок-мачты служит жилищем матросам. Кают-компания имеет форму квадрата, каждая сторона которого не превышает 12 футов. К утолщенному основанию мачты примыкает камин, образующий выступ. Напротив камина зеркало, а под ним прикреплен к стене четырехугольный стол. У каждой стены каюты две койки, стенные шкафы, оборудованные под спальные места, приблизительно 6 футов в длину и 3,5 фута в ширину. Под ними вдоль стен имеются выступы, служащие для сидения, а внутри — выдвижные ящики, по четыре на каждую койку. Меблировку завершают несколько табуреток.
Две койки принадлежат офицерам, две другие — доктору и мне. Хорис и Вормскьёлль спят в каюте в гамаках. Койка и три выдвижных ящика — единственное, чем я располагаю на корабле; четвертый ящик взял для себя Хорис. В тесной каюте спят четыре, живут шесть и едят семь человек. За столом в семь часов утра пьют кофе, в полдень обедают и затем моют посуду, в пять часов пьют чай, а в восемь часов вечера едят то, что осталось от обеда. Продолжительность каждой трапезы удваивалась, когда офицер нес на палубе вахту. В перерывах между едой художник с чертежной доской занимает две стороны стола, третью сторону занимают офицеры, и только тогда, когда их нет, здесь могут расположиться другие. Если тебе надо писать или еще что-либо делать за столом, ты должен ловить быстро бегущие, скупо отмеренные минуты и жадно использовать их. Матрос Шафеха, маленький татарин, мусульманин, прислуживает капитану; другой матрос — Зыков, русский, один из самых усердных, почти геркулесового сложения, обслуживает кают-компанию. Курить разрешается только в каюте. Хранить что-либо под палубой или на палубе, вне отведенного вам помещения нельзя — это противоречит корабельному распорядку. Капитан возражает против собирательства во время путешествия, ибо этого не позволяют размеры корабля, и к тому же в распоряжении натуралиста имеется художник, который может зарисовать все, что тому угодно. Но художник, в свою очередь, протестует: он должен получать распоряжения непосредственно от капитана.
В Копенгагене к перечисленной команде прибавился еще повар, беспризорное дитя моря; судя по его виду — индиец или малаец, по языку же, в котором непонятным образом перемешались все диалекты, на коих только говорят люди, его трудно было принять за человека. Кроме того, на борт взят лоцман, чтобы провести судно через Канал{46} и в Плимут, и, таким образом, число членов нашего застолья возросло до восьми, так что за маленьким столом для всех уже не хватало места.
«Рюрик» вышел из Кронштадта 30 июля 1815 года (на два дня раньше, чем мне сообщили) и 9 августа прибыл на рейд Копенгагена. 17 августа в 4 часа утра мы подняли якорь, но спустя четыре часа нам вновь пришлось бросить его у Хельсингёра. Ветер, дававший возможность либо войти в гавань, либо выйти из нее, стал нам благоприятствовать лишь 19 августа, и в 10 часов утра мы прошли Зунд [Эресунн] вместе с шестьюдесятью другими судами, которые только и ждали этого момента. Мы отсалютовали крепости, не ожидая лодки, высланной навстречу нам с блокшива. Двигаясь быстрее окружавших нас торговых судов, мы обогнали те, которые ушли вперед, и вскоре вся их флотилия осталась далеко позади. Это были действительно прекрасные и волнующие мгновения.
Во время перехода через Северное море почти не переставая дул встречный ветер, было холодно и дождливо, небо затянуто тучами. После долгого лавирования вызванное нами судно указало сигнальный корабль в устье Темзы, который мы не смогли обнаружить. В ночь с 31 августа на 1 сентября меня пригласили на палубу полюбоваться огнями Кале на французском побережье. Впечатление, однако, не вполне соответствовало моим ожиданиям. Утром при благоприятном ветре мы прошли Дуврский пролив [Па-де-Кале]. Справа неподалеку высились белые берега Альбиона [Великобритании]. Далеко слева в тумане чуть виднелись берега Франции; постепенно мы потеряли их из виду, и больше они не появлялись. В этот день пришлось еще на несколько часов встать на якорь. Днем 7 сентября мы бросили якорь в Кэтуотере перед Плимутом.
Этот переход был для меня суровой школой. Прежде всего я познал морскую болезнь, с которой непрерывно боролся, будучи не в силах ее превозмочь. Эта болезнь повергает человека в самое плачевное состояние. Безучастный ко всему, ты лежишь на койке или сидишь на палубе возле грот-мачты, где тебя обвевает ветер, да и в центре корабля движение менее ощутимо. Спертый воздух каюты невыносим, а запах еды вызывает отвращение. Голод, вызванный недостатком пищи, которую я не мог удерживать в себе, сильно меня ослабил, но тем не менее я не утратил мужества. Я слушал рассказы о тех, кто мучился больше меня, о Нельсоне, страдавшем этой болезнью при каждом выходе в море. Ради заветной цели я безропотно терпел все муки.
Вормскьёлль тем временем взял под контроль инструменты и приборы для метеорологических наблюдений. Знание морской жизни давало ему большое преимущество передо мной. Я же не был знаком с новыми условиями и неоднократно нарушал установленные порядки, что послужило поводом для нелестных обо мне суждений. Например, я еще не знал, что нельзя без приглашения заходить в каюту капитана, что лишь ему принадлежит наветренная сторона на палубе и что, когда он там находится, к нему нельзя обращаться; что это место, если там нет капитана, положено занимать вахтенному офицеру. Не знал я и о многих других подобных вещах и узнавал о них случайно.
Я не сразу заметил, что по части обслуживания между офицерами и нами существует различие. Когда мы прибыли в Плимут, я отдал почистить сапоги нашему Зыкову; он принял их из моих рук и тотчас же у меня на глазах поставил туда, откуда я только что их взял.
Так он дал мне понять, что обслуживает лишь офицеров. С этого дня мне пришлось отказаться от мелких услуг, которые он до сих пор оказывал мне добровольно. Честный малый относился ко мне сердечно; думаю, что он был готов пойти за меня в огонь, но к моим сапогам он больше не прикасался. Хорису такие услуги оказывал другой матрос, а Эшшольц делал все сам.
Едва корабль стал на якорь, меня пригласили к капитану. Я явился к нему в каюту. Он говорил со мной строго и резко, сказал, что мне не мешало бы еще раз взвесить свое решение. Сейчас мы находимся в последнем европейском порту, где еще легко отказаться от участия в экспедиции. Мне было дано понять, что, находясь в качестве пассажира на борту военного корабля, где вообще не должно их иметь, я не могу предъявлять никаких претензий. Несколько задетый, я ответил, что твердо решил участвовать в экспедиции на любых условиях и не покину корабля, если только меня не удалят с него.
Слова капитана — воспроизвожу их здесь так, как тогда услышал и записал, — подействовали на меня весьма угнетающе. До сих пор они звучат в моих ушах. Я не давал повода для подобных слов, однако считаю, что капитан был тогда прав. Естественно, что участник научного предприятия, ученый, может претендовать на авторитет, чего капитан не хочет понимать. Два авторитета не могут сосуществовать на одном судне. Это подтверждает и опыт торговых судов; когда вместе с капитаном находится суперкарго или представитель судовладельца, обстановка складывается большей частью неблагоприятно. В тех странах, где развито судоходство, с этим считаются. Во Франции и в Англии в состав экспедиций не включают штатных ученых, а стремятся, чтобы все участники были таковыми. На американских торговых судах капитан одновременно ведет и торговые дела. Торговые компании имеют свои фактории, и капитаны пользуются неограниченной властью на зафрахтованных судах, совершающих рейсы между факториями и странами, где находятся компании. Хотя, может быть, это коренится в самой сути вещей, но все же приходится сожалеть, что ученый, который, как правило, хорошо чувствует себя на борту торгового судна, весьма стеснен именно там, где перед ним открывается, казалось бы, широкое поле деятельности. Он приходит туда, исполненный желаний и надежд, обуреваемый жаждой деятельности, но вскоре узнает, что главная задача, которую ему предстоит решать, заключается в том, чтобы оставаться по возможности незаметным, занимать как можно меньше места и не слишком часто мозолить глаза. Он возвышенно мечтал о борьбе со стихиями, об опасностях, о подвигах, а вместо этого встречает привычную скуку и неиссякаемые мелочи неустроенного быта — нечищеных сапог и всего прочего.
Столь же мало ободряющим был и другой опыт, полученный мной на корабле. Предусмотрительно изучив конструкцию фильтровальной установки и принцип ее действия, я предложил изготовить ее. Воду из Невы взяли в неблагоприятный момент, и сейчас она весьма скверно пахла, поэтому мое предложение, казалось, должно было быть принято. Тем не менее оно не встретило отклика. Не хватало места, времени и других условий, и, наконец, капитан полагал, что фильтрование лишит воду питательных примесей и сделает ее менее пригодной. Я понял, что надо бросить эту затею.
Плимут находится на берегу морского залива, который окрестные возвышенности делят на бухты, вдающиеся в сушу и окаймленные красивыми скалистыми утесами. Вдоль берегов теснятся старые и новые города, деревни, верфи, склады, укрепления, роскошные загородные дома; все это — сплошной город, и собственно Плимут — лишь часть его. Стены и изгороди делят землю на поля. Белые стены, тонкая пыль, тип построек, гигантские вывески на зданиях и афиши невольно напоминают окрестности Парижа. Сам Париж — тоже огромное скопление домов, но ему не хватает моря как главной улицы. По морю в гавани, на якорные стоянки плывут бесчисленные корабли: в одну сторону, к доку Плимута — военные суда, в другую, в Плимут-Кэтуотер — торговые суда всех стран. Здесь строилось гигантское сооружение — волнорез-дамба, которая должна была частично перегородить вход из Ла-Манша и защитить внутреннюю акваторию от волн. Более 60 повозок непрерывно доставляли камень. В каменоломнях на берегу залива взрывали скальную породу. В обстановке глубочайшего мира грохот взрывов, сигнальные выстрелы, корабельные салюты — все это напоминало картину осажденного города.
Я был и остался чужим в Плимуте. Природа привлекала меня больше, чем люди. У нее здесь неожиданно южный характер, а климат весьма мягкий. На горе Эджкомб раскинулись пригородные рощи каменного дуба (Quercus Hex){47} и шпалерами цветет на воле магнолия (Magnolia grandiflora){48}.
Море с высокими скалистыми берегами и приливами, достигающими такой высоты, как ни в одном другом месте земного шара (кроме побережья Новой Голландии [Австралии]), предстает во всем своем великолепии{49}. Прилив поднимается к глинистым и известняковым утесам на высоту 22 фута [6,7 м], а при отливе взору естествоиспытателя предстает богатый и загадочный мир. Нигде с тех пор я не встречал берегов, столь изобилующих водорослями и червями. Я не знал ни одного из этих животных и растений и не мог найти их в книгах; собственное невежество удручало меня. Лишь позднее выяснилось, что большинство из них вообще еще неизвестны и не описаны. Во время этого путешествия я многое упустил и в назидание моим последователям хочу сказать: наблюдайте, друзья, собирайте и откладывайте все, что вам встретится, для науки и не обманывайтесь тем, что то или иное должно быть известно всем, но неизвестно лишь тебе. Ведь даже среди тех немногих растений, которые я взял на память из Плимута, оказался один вид, неизвестный до сих пор для флоры Англии.
Нам сопутствовала чудесная, солнечная погода. Как-то во время прогулки я встретил двух офицеров 43-го полка. Им очень хотелось увидеть наш корабль, и, поднявшись вместе со мной на борт, они пригласили капитана и всех нас пообедать вместе с ними. У них в полку заведено: раз или два в неделю накрывается общий стол, на котором гораздо больше еды, чем обычно, и каждый, кто хочет, приглашает гостей. Мы с капитаном приняли приглашение. Мне никогда не доводилось видеть стол богаче этого. Съедено и выпито было премного. На гостей не оказывалось никакого давления; однако за столом не было весело. Вечером офицеры, пригласившие меня и капитана, пошли нас провожать, и по дороге один из них на виду у всех освободился от выпитого вина, не нарушив при этом приличий.
С тех пор как я получил приглашение принять участие в этом путешествии, я не вспоминал о политических событиях, которые побудили меня сделать это. Они отошли на задний план. Плимут, дружеский обед с офицерами 43-го полка напомнили мне о человеке роковой судьбы, которого именно отсюда незадолго до нашего прибытия «Беллерофонт» увез на остров Св. Елены{50}, чтобы этот некогда поработивший мир человек закончил там свои дни в жалких препирательствах и ссорах со стражниками. Мы воочию наблюдали воодушевление, которое проявлялось здесь по отношению к побежденному врагу во всех слоях общества, особенно среди военных. Каждый рассказывал о том, когда и сколько раз видел его, будучи в славившей толпе, и что он делал. Каждый носил выбитые в его честь медали, восхвалял его и гневно клеймил произвол, поставивший его вне закона. Как отличалось здешнее настроение от чилийского{51}, выражавшегося в грубой брани испанцев, которые напоминали животное из басни, пожелавшее лягнуть дохлого льва{52}! «Беллерофонт» стоял далеко в проливе Ла-Манш на якоре, и император обычно выходил между пятью и шестью часами на палубу. К этому времени бесчисленные лодки окружали судно, и люди жадно ждали момента, чтобы приветствовать героя, и упивались его созерцанием. Позже «Беллерофонт» поднял паруса и бороздил воды пролива в ожидании необходимого оснащения. Рассказывали, что Наполеону было предъявлено обвинение в неуплате каких-то долгов и что за этим последовала повестка от мирового судьи. Если бы эта повестка была вручена, когда судно стояло на якоре, то обвиняемый должен был бы явиться в суд. Но ступи его нога на английскую землю, его уже нельзя было бы лишить защиты закона.
В театре Плимута в это время гастролировала мисс О’Нил{53} (билеты продавались по завышенным ценам). Я видел ее дважды: в «Ромео и Джульетте» и в «Людской вражде и раскаянии» („The Stranger“){54}. Вернувшись в 1818 году из путешествия, я видел в Лондоне Кина{55} в роли Отелло. Перед упадком французского и немецкого театров, которые я знал в период их наивысшего расцвета, хотелось бы сказать, что я благодарен судьбе, которая познакомила меня, пусть и бегло, с некоторыми властелинами английской сцены. Мисс О’Нил не удовлетворила меня в роли Джульетты: она была для нее слишком массивна. Что же касается роли Евлалии{56}, то я не могу ее ни в чем упрекнуть; удивительный дар правдоподобно рыдать на сцене был здесь особенно кстати. Вообще мне показалось, что исполнители шекспировской пьесы играют именно так, как Гамлет не хотел, чтобы играли его «Мышеловку». В остальном английские актеры весьма пристойны, правильно декламируют стихи и прилагают очевидные усилия, чтобы вопреки происходящему в повседневной жизни ясно и четко выговаривать слова. В этом отношении я мог бы их сравнить с французскими актерами, нуждающимися в обязательной тренировке, которая включает все, что может выработать в себе и выразить и не обладающий божьим даром артист. Художники милостью божьей повсюду встречаются редко. Может быть, их сравнительно много в Германии, но там редко увидишь на сцене таких, которые бы достигли уровня, который требуется от французских актеров. Что же касается обычных ремесленников от искусства, составляющих большинство, то что о них скажешь?
Поскольку я только что рассказал о том, как мне довелось на родине Шекспира видеть пьесу Коцебу в исполнении первоклассных артистов, игравших в ней роли лучше, чем роли своих национальных героев, то сразу же засвидетельствую, чтобы больше не возвращаться к этому, что те, кто подходит к искусству не формально, считают Коцебу писателем мирового масштаба. Как часто в различных уголках мира — на Ваху [Оаху], Гуахаме [Гуаме] и т. д., учитывая мой скромный вклад в начинания его сына, мне пытались польстить, воздавая хвалу великому человеку, с тем чтобы и меня коснулся краешек мантии его славы. Повсюду вокруг нас звучало его имя, американские газеты сообщали, что премьера пьесы Коцебу под названием «Неизвестный» прошла с огромным успехом. Во всех библиотеках на Алеутских островах, насколько я мог выяснить, имелся том произведений Коцебу в переводе на русский язык. Правитель Манилы, воздавая хвалу Музе, вручил сыну драматурга подарок для передачи отцу — самый лучший кофе. На мысе Доброй Надежды берлинский естествоиспытатель Мундт, зная, что я нахожусь на борту «Рюрика», и ожидая меня, получил известие о прибытии корабля от матроса, сообщившего ему, что капитан этого судна носит ту же фамилию, что и драматург. Об «Аларкосе», «Ионе»{57} и об их авторах на таком же удалении от дома не слышал ничего.
Американские купцы, которым доступно любое омываемое морем побережье, но над которыми еще не взошло солнце романтической поэзии,— это странствующие апостолы славы Коцебу; он служит пригодным для них суррогатом поэзии. Практика показывает, что у них есть преимущество, которого лишены многие более достойные; поможет ли кобыле Роланда{58} то, что она столь несравненна и безупречна, если ее уже, к сожалению, давно нет в живых?
Как правило, мы сталкивались с широко распространенным мнением, будто великий писатель уже умер. И это естественно. Кто станет искать Гомера, Вольтера, Дон Кихота и других великих, чьи имена он привык чтить с детства, среди живых? Но сообщения о смерти Коцебу проникли на Ваху, как и в другие места, из американских газет. Эти обеспокоившие меня слухи дошли и до капитана, считавшего, что они относятся к смерти его брата, геройски павшего в походе 1813 года. Из дальнейших страниц этой книги будет видно, что в Европе нас вполне могли считать потерявшимися или погибшими, поскольку нам не удалось на Камчатке воспользоваться почтой, и что у отца нашего капитана было веское основание оплакивать своего сына. Наконец «Рюрик» неожиданно, опережая все возможные сообщения о нем, возвращается, Отто Евстафьевич спешит представить отцу свою молодую супругу — и находит его на смертном одре истекающим кровью!
После этого весьма пространного отступления я снова возвращаюсь в Плимут к моменту, предшествующему нашему отъезду.
Время, которое мы не всегда использовали разумно, прошло очень быстро. Каждый из нас пополнил и усовершенствовал необходимое ему оснащение; мы не были связаны друг с другом, нас ничто не объединяло; каждый заботился о себе сам; многое можно было бы сделать лучше и быстрее, если бы мы все дела обсуждали сообща и выполняли планомерно. Мои наблюдения во время двух обедов, на которые мы с капитаном были приглашены, не принесли ничего нового. О нравах англичан, скорее внушавших почтение, нежели привлекавших своим радушием, можно прочитать во всех книгах. Я отведал там вина из крыжовника, известного по роману «Векфильдский священник»{59}, и нашел, что оно похоже на шампанское, только слаще на вкус. Я наблюдал англичан, когда они пили вино на зеленом ковре, после того как со стола было уже убрано: серьезные, невозмутимые, скупые на слова. Они по очереди кланялись друг другу в знак уважения или благорасположения. Вообще англичане смеялись, лишь когда я пытался разговаривать по-английски; это не раз, к моему удовольствию, веселило их. Позже, во время плавания, я научил английскому языку моего друга Хориса. Он вознаградил меня за мои усилия тем, что в дальнейшем был переводчиком при моих встречах с англичанами. Непонятно только, когда он в дополнение к полученным от меня знаниям овладел и произношением. В общем, я нашел англичан вежливыми, готовыми к услугам. Я посетил морской госпиталь, после чего могу засвидетельствовать, что описанное в книгах — богатство, чистота и красота подобных английских заведений, царящий там порядок — слишком далеко от того, что видишь в действительности.
22 сентября «Рюрик» был готов к отплытию. Обсерваторию, размещенную неподалеку, в палатке на пустынном полуострове Маунт-Бэттен, снова погрузили на корабль. Разобрали и парную баню для офицеров и матросов, находившуюся в палатке рядом с обсерваторией. В Плимуте я познакомился с русской баней и привык к ней.
На следующий день нам предстояло поднять якорь, а письма от родных и близких и денежные переводы — небольшой капитал, который я хотел взять в дорогу,— все еще лежали в русском посольстве в Лондоне, куда я просил их направлять. Меры, предпринятые мной для их пересылки на мое имя в Плимут, не дали результатов. Позже я узнал, что через посольства редко что-либо доставляется своевременно, и больше уже к этому способу не прибегал. Получение корреспонденции до востребования удобно в решении многих, но не всех дел. Тогда я сожалел, что капитан не осуществил своего плана и не высадил меня в Дувре или в любом другом пункте английского побережья, откуда через Дувр можно было добраться до Плимута. Лишь после того как мы дважды выходили из этой гавани и оба раза буря вынуждала нас возвращаться, я наконец получил свои письма. Бури периода равноденствия сжалились надо мной, над моими горестями и тревогами.
В далеком путешествии надлежит проявлять особую заботу не только о здоровье людей, свежей пище и т. п., но и о развлечениях, ибо нет ничего убийственнее скуки. Для сопровождения матросского хора были взяты инструменты янычарского оркестра; у нашего бенгальского повара была скрипка. Однако капитану хотелось, чтобы музыки было еще больше. Иван Иванович играл на рояле, и для него решили раздобыть цимбалы или другой инструмент, для которого найдется подходящее помещение. За это дело весьма ревностно взялся Мартын Петрович. В последний день он явился на корабль и с воодушевлением сообщил, что нашел превосходный орган и что размеры позволяют установить его у основания грот-мачты. За инструмент надо уплатить 21 фунт стерлингов. Нельзя стоять в стороне, когда большинство принимает какое-то решение сообща. Предложение было одобрено, и за три фунта я стал таким же ревнителем благородного музыкального искусства, как и остальные. Капитан вместе с Мартыном Петровичем съехал на берег в магазин, чтобы купить инструмент. Вскоре он был доставлен на борт. Для сборки и установки органа прибыл рабочий. Наши офицеры молча, но с удивлением, смешанным с возмущением, наблюдали, как устанавливали большой механизм — церковный орган, перекрывший все люки и лазы в нижнее помещение. Отто Евстафьевич, вернувшись на корабль вскоре после того, как дело было сделано, пришел в ужас и хотел распечь вахтенного офицера за то, что тот допустил подобное. Но ведь капитан сам отдал приказ. Поэтому ему ничего не оставалось, как распорядиться, чтобы в течение получаса орган либо вернули на берег, либо выбросили за борт. Было выбрано первое. Как согрешили, так и воздастся. Меня — отнюдь не любителя музыки — утешает то, что в эту принадлежащую нам в Англии собственность я вложил не одну, а две доли, так как выкупил долю Мартына Петровича, когда он покинул нас на Камчатке.
23 сентября мы снялись с якоря, но, поскольку ветер переменил направление, пришлось вновь бросить его. Лишь 25 сентября утром при слабом попутном ветре удалось выйти в море, однако сразу же у выхода из Ла-Манша нас встретил южный ветер; он крепчал и вынудил нас держаться вблизи берега. Ночью он перерос в сильную бурю, причинившую судну некоторые повреждения. Пострадал один из членов команды, и мы сочли себя счастливыми, вернувшись на рассвете 26 сентября на прежнюю стоянку. При этом наш корабль повредил оснастку соседнего английского торгового судна. Его капитан в рубашке с салфеткой на груди, полунамыленный, полубритый, появился на палубе, осыпая нас проклятиями.
«Рюрик» боролся с бурей темной осенней ночью между Эддистонским маяком{60}, освещавшим ярким светом всю сцену, и английским побережьем. Судну грозила опасность разбиться о скалы, поскольку мы не могли убрать паруса. Из потрепанных иллюстрированных детских книжек вы, наверное, хорошо знаете маяк Эддистон, это прекрасное произведение современного строительного искусства. Он сооружен на скале, одиноко возвышающейся посреди пролива, высота маяка известна, и я не хочу сейчас тратить время на его описание. Вы знаете, что в сильную бурю пенные гребни волн достигают самого фонаря. Вы заметили, что здесь все словно объединилось, чтобы создать действительно прекрасную бурю, и ждете от меня подлинно поэтического ее описания. Друзья мои, опорожнив желудок, я тихо, очень тихо лежал на койке, не интересуясь ничем на свете и едва замечая шум, поднятый столом, стульями, сапогами, ящиками, которые в такт музыке, свистевшей и гремевшей на палубе, беспокойно танцевали по всей каюте. О том, сколь жалок человек, страдающий морской болезнью, вы можете судить хотя бы по тому, что наш добрый доктор, обычно старательный как никто и преисполненный сознания своего долга, на сей раз, когда его позвали помочь раненому матросу, продолжал тихо и неподвижно лежать на койке, пока все не кончилось.
Довелось ли вам пережить, как это случилось однажды ночью со мной, пожар в доме?{61} Действовали ли вы целеустремленно и решительно, спасая жену, детей, добро, стараясь не забыть ничего, что надлежало сделать? Для морского офицера подобным испытанием является шторм. С растущей энергией он борется со стихией; победитель или побежденный — он доволен собой; преодоление опасности обогащает его радостным сознанием деятельной силы. Это чувство похоже на то, что владеет солдатом после сражения. Но для пассажира шторм — это время неописуемой скуки. Опишу вкратце, что ему приходится переживать во время путешествия. Едва на палубе раздавалась условная команда, в каюте уже знали: война объявлена. Каждый закреплял свой ящик и следил за тем, чтобы все движимое имущество было прочно закреплено. Мы ложились на койки. Когда очередная волна прокатывалась по палубе и нередко вода проникала через люки в каюту, мы завешивали их просмоленными полотнищами и больше уже ничего не видели. Затем от меня обычно требовали извлечь из кладовых памяти несколько еще не рассказанных доселе анекдотов, но вскоре все замолкали, и слышалась лишь поочередная зевота. Общие трапезы прекращались. Мы ели сухари и выпивали рюмку водки или стакан вина. Натуралист едва отваживается выйти на палубу, чтобы, повинуясь чувству долга, хотя бы мельком взглянуть на бушующие волны; если его окатит волна, он совершенно беспомощен, у него нет возможности сменить одежду, белье и обсушиться. Однако все это опасностью и не пахнет, ведь ее не приходится испытывать на себе; в лучшем случае ее можно представить. Дуло направленного на меня незаряженного пистолета внушает чувство опасности, но я никогда не ощущал ее в качающемся на волнах утлом деревянном домике.
Ранним утром 30 сентября мы еще раз попытались выйти в море, но нас вновь встретил шторм и погнал обратно. В тот же вечер пришлось укрыться за волнорезом, где мы и стали на якорь. Наш лоцман, прозванный Джоном Буллем{62} за его сходство с известными карикатурами, казался постоянно возвращающимся горбуном из сказок «Тысяча и одной ночи».
Только 4 октября удалось наконец выйти в море.
Путешествие от Плимута до Тенерифе
Мы отплыли из Плимута 4 октября 1815 года в 10 часов утра. Ветер был благоприятным, но море еще волновалось после прошедших штормов. Весь день виднелась земля. Но когда наутро я вышел на палубу, чтобы взглянуть на мыс Лизард, он уже скрылся из виду, и вокруг не было ничего, кроме неба и волн. Позади была родина, впереди — надежда.
С начала путешествия и примерно до 14 октября я страдал морской болезнью, причем так тяжело, как никогда раньше. Но все же я сохранял мужество и пытался чем-нибудь заняться. Вместе с Мартыном Петровичем я начал читать по-датски «Хакона Ярла», а затем продолжал чтение самостоятельно. Эленшлегеру я обязан многими радостями и утешениями. «Корреджо»{63} всегда действовал на мои чувства, а Хакон Ярл, христианин-отступник, единственный живой образ верующего язычника, встреченный мной в литературе, неизменно внушал мне почтение.
При попутном ветре мы шли по большому транспортному пути, ведущему из пролива Ла-Манш на юг, к Средиземному морю или к обеим Индиям. Редкий день не встречались суда, и с суши, ближайшие части которой находились от нас примерно в 300 милях к востоку{64}, когда дул северо-западный ветер и было ясное небо, к нам прилетали крылатые гонцы. 9 октября на корабль опустился маленький жаворонок и целых три дня пользовался гостеприимством, которое ему охотно оказывали; три сухопутные птицы летали над нашим «Рюриком» в разные дни. Атлантический океан не казался обширным; мне все представлялось, будто нахожусь на дороге с оживленным движением, края которой не надо было видеть, а только ощущать их. Но еще менее обширными казались мне моря, по которым мы плавали до сих пор, где ночью береговые огни, как фонари в городе, видны почти все время и где постоянно опасаешься столкнуться с другими судами или, наоборот, того, что другие суда налетят на корабль. Величественную, внушающую благоговение картину являло собой небо с происходящими на нем переменами. За нами опускалась Полярная звезда, и Большая Медведица, которую Гомер называл «непричастной к соленой пучине», поочередно погружала свои звезды в море, а перед нами поднимался источник света и жизни.
Начиная с 13 октября почти пять дней на широте 39°27' к северу от экватора был полный штиль. Море лежало как зеркало, паруса вяло свисали с рей, не ощущалось ни малейшего движения. Примечательно, что и в такое время течения незаметно «играли» с судном, менявшим свое положение относительно солнца так, что находящийся на палубе мог видеть, как его тень описывала круг у ног и падала то с одной, то с другой стороны. Привязанная к кораблю лодка также не стояла на месте; она то приближалась к кораблю, то удалялась от него. Если бы мое воображение захотело нарисовать картину более ужасную, чем шторм, кораблекрушение или пожар на корабле в море, то оно представило бы себе судно в открытом море во время штиля, когда уже нет никакой надежды на его окончание.
Штиль, однако, призывает естествоиспытателя, праздно устремляющего при благоприятном ветре свой взор вперед и грезящего берегом, который ему предстоит посетить, к нового рода деятельности. Солнце манит обитателей нижних слоев моря на поверхность, и ученый легко может заполучить в руки какую-нибудь увлекательнейшую загадку природы. При скорости судна по крайней мере два узла (две мили) в час укрепленным на палке сачком из материи для флага можно было ловить прямо с палубы всякую живность.
Здесь нас с Эшшольцем особенно занимали сальпы{65}, мы сделали казавшееся нам важным открытие, относящееся к этим прозрачным мягким организмам высоких морей. Сменяющиеся поколения одного и того же вида сальп имеют две весьма различные формы. Свободно плавающая сальпа производит на свет иначе устроенных особей, связанных друг с другом почти как полипы. Каждая из этих объединенных в колонию особей, достигнув определенного возраста, снова рождает одиночных, отдельно плавающих сальп, в которых снова повторяется облик предыдущей генерации. Получается так, словно гусеница рождает бабочку, а бабочка, в свою очередь, гусеницу[3].
Вместе с верным Эшшольцем мы вели наблюдения, изучали и собирали материал. Между нами царило полное согласие, и никогда не было деления на «твое» и «мое»; каждый лишь тогда радовался открытию, когда другой был его свидетелем или участником. Почему я об этом говорю? С лейтенантом Вормскьёллем все складывалось иначе. Отношение ревнивого соперничества, к сожалению нередко встречающееся среди ученых, он предпочел отношениям, которые установились у нас с Эшшольцем и которые я ему предложил с самого начала. То, что он считал меня натурфилософом (а он их вообще не особенно жаловал), разделяло нас. Он полагал также, что будет в большом выигрыше, если не покинет общества, куда больше внес, нежели откуда почерпнул. Сейчас мне кажется смешным глубокое отчаяние, даже горе, которое охватило меня тогда, о чем можно судить по письмам, отправленным мною из Тенерифе, Бразилии и Чили. Я делал все, чтобы убедить себя и других в том, что неповинен в разладе, натянутых отношениях. Теперь, будучи пожилым человеком, когда страсти уже поутихли, еще раз проглядев эти письма, могу быть себе судьею и сказать: действительно, я не был ни в чем виноват. Меня не утешала мысль, что у лейтенанта Вормскьёлля были разногласия не только со мной, но и с художником Хорисом. На корабле они легко возникают и определяются характера ми и особенностями людей. Вспоминаю, что, когда наш корабль проплывал мимо острова Эстадос, я окидывал взором печальные голые скалы и почти желал, чтобы маленькая лодка доставила меня с корабля на этот зим ний пустынный берег — лишь бы избавиться от мучительной действительности.
Впрочем, лейтенант Вормскьёлль еще в Плимуте за явил, что, возможно, уже в Тенерифе он покинет экспедицию. Когда мы плыли от Тенерифе к Санта-Катарине, он сказал, что наши пути разойдутся в Бразилии. Прибыв туда — суша успокаивает разыгравшуюся на море желчь,— я дружески посоветовал ему собирать свою научную жатву на этой благодатнейшей для исследований ниве и, чтобы облегчить решение задачи, предложил денежную помощь. Но у него были иные намерения. Ему хотелось остаться в Чили, но этому воспрепятствовали испанцы, проявлявшие осторожность и боязнь, что создало непреодолимые трудности. Лейтенант Вормскьёлль расстался с нами лишь на Камчатке.
Писать эти строки мне так тяжело, словно исповедоваться в чем-то, и я больше не вернусь к этой теме, но и умалчивать не считаю вправе. В корабельной жизни есть что-то весьма необычное. Читали ли вы у Жана Поля{66} биографию сросшихся спинами сиамских близнецов? Между тем и другим есть определенное сходство, хотя нельзя сказать, что это то же самое. Внешне жизнь однообразна и пуста, как зеркальная гладь моря и голубизна неба: никаких историй, никаких событий, никаких газет. Одни и те же повторяющиеся дважды в день трапезы. Совершенно невозможно как-то обособиться, отделиться друг от друга, устранить возникший диссонанс. Если случится, что друг вместо привычного «доброго утра» скажет «добрый день», мы долго обдумываем новость и печально переживаем про себя, ибо на корабле попросить друга объяснить свое поведение невозможно. То один, то другой впадает в меланхолию. Отношение к капитану тоже особое, несравнимое с тем, какое бывает на суше. Русская поговорка гласит: «Бог высоко, а царь далеко». Более неограниченной властью, чем царь, пользуется на корабле человек, который присутствует здесь постоянно, к которому вы приросли спиной: от него нельзя скрыться и его нельзя избежать. Отто Коцебу был любезен и достоин любви. Среди многих других присущих ему похвальных качеств было и чувство справедливости. Но силу, необходимую для выполнения функции руководителя, он должен был бы применять разумно. Коцебу был человеком настроения, с не слишком твердым характером. Он страдал от болей в животе, и мы, хоть и не говорили ничего об этом, всегда знали, как обстоит дело с его пищеварением. Страдая от болезни, особенно к концу путешествия, когда она обострилась, он легко убеждал себя в том, что все, кто действует открыто и решительно, вредят ему. Во время нашего плавания по Атлантическому океану он отбросил существовавшее у него против меня предубеждение, и я стал его любимцем. Я отвечал ему почти восторженной любовью. Позже он отвернулся от меня, и его немилость долго тяготела надо мной.
С помощью Логина Андреевича я стал изучать русский язык: сперва — под прекрасным небом тропиков — не столь прилежно, а потом, когда мы взяли курс на север, весьма серьезно и с большим усердием. Я продвинулся настолько, что смог прочитать уже много глав в книге Сарычева{67}, но, поразмыслив, четко понял, что мне не одолеть разговорной речи, которая образует барьер между мной и ближайшим окружением. Замечу, что впоследствии ничто я так быстро и основательно не забыл, как русский язык. Случалось, что за столом (мое место было посередине) я сидел неподвижно, как бы в оболочке, каковой было незнание языка, тупо уставясь в висевшее напротив зеркало, давясь кусками, один, как во чреве матери.
Возвращаюсь, однако, к тому времени, когда начал это отступление. Мы медленно плыли при слабых переменных ветрах навстречу полуденному солнцу. Повторяющиеся штили замедляли продвижение. Вместе с изменением картины звездного неба менялся и климат. Мы не испытывали больше физической боли, как на нашем севере; наоборот, дышать стало просто удовольствием. Глубокой синевой сверкали море и небо; нас окружал яркий свет; мы наслаждались равномерным благодатным теплом. На палубе, овеваемой морским ветром, жара никогда не была тягостной, хотя в закрытой каюте она угнетала. Мы сняли одежду, которая дома в погожие, теплые летние дни была более обременительной, чем во время враждебных зимних холодов. Легкая куртка и панталоны, соломенная шляпа и легкая обувь, никаких чулок и галстуков — в подобной скромной одежде в этой жаркой зоне все европейцы обычно чувствуют себя на верху блаженства. Исключение составляют лишь англичане, которые всюду, где бы они ни находились, превыше всего почитают лондонские обычаи. В жаркий полдень натягивается тент, а ночью мы спим на палубе под открытым небом. Красота этих ночей не может сравниться ни с чем; слегка покачиваясь, обдуваемые свежим ветерком, вы сквозь колеблемые ветром снасти созерцаете усеянное сверкающими звездами небо. Позже нас, пассажиров, лишили этого удовольствия, запретив рулевым давать нам старую парусину, необходимую для ложа.
К здешним красотам можно отнести и свечение моря — зрелище, которое в теплых широтах, где люди большую часть времени проводят на открытом воздухе, наблюдается весьма часто и особенно впечатляет. Этот феномен никогда не утрачивает притягательной прелести, и после трехлетнего плавания смотришь на светящийся след корабля с таким же восторгом, с каким смотрел в первый раз. Обычное свечение моря, которое наблюдал Александр Гумбольдт{68} («Путешествие». T. I) и я тоже, вызывается отмершими органическими частицами в результате удара или сотрясения воды. Корабль бороздит волны, и вокруг него возникает свечение, причем волны светятся, лишь когда на них появляются пенистые гребни. Кроме этой игры света мы наблюдали и другое явление: в толще воды начинают сверкать огни, и некоторое время это свечение продолжается. Мы полагали, что оно исходит от живых организмов (медуз), способных, как кажется, излучать свет.
23 октября в районе с координатами 30°36' сев. широты и 15°20' зап. долготы, примерно в 300 милях от побережья Африки был штиль. Море вокруг нас было покрыто остатками саранчи, стаи которой трое суток сопровождали «Рюрик». 25 октября днем показались Салважские острова. На следующий день прошли вблизи них, и 27 октября на расстоянии примерно 100 миль под очень большим углом показался вулкан Пико-де-Тейде. Поднявшийся ночью ветер привел нас к цели.
Во время этого перехода я отрастил усы, подобные тем, какие носили раньше в Берлине, но, когда мы приблизились к месту стоянки, капитан попросил сбрить их, и мне пришлось принести эту жертву.
28 октября в 11 часов утра мы бросили якорь на рейде Санта-Крус [Санта-Крус-де-Тенерифе].
Целью стоянки у берегов Тенерифе было пополнение запасов прохладительных напитков, но главным образом вина. До сих пор мы пили только воду. На это было отведено три дня, и мы могли использовать их, чтобы совершить экскурсию в глубь острова.
Ученые неоднократно посещали Тенерифе и описали его так подробно, как никакое другое место в мире. На этом острове побывали Александр Гумбольдт, Леопольд Бух и Кристиан Смит{69}, которых нам, к сожалению, уже не суждено было здесь встретить; во время своего длительного пребывания они избрали объектом исследований всю цепь Канарских островов. Теперь нам предстояло самим набираться опыта и обратить пытливый взор на жизненные формы тропической природы.
Казалось бы, на воображение путешественника, который переместился с севера на юг, сильно воздействует контраст между суровой северной природой и сказочной южной. Но это не так. Полученные на севере впечатления образуют вполне самостоятельный ряд, остающийся позади; начинается ряд новых впечатлений, ничем не связанный с предыдущим. Созданию общего впечатления мешает отсутствие промежуточных звеньев, которые могли бы соединить оба конечных звена в одну цепь, обе группы — в единую картину. Когда мы наблюдаем, как после зимы постепенно на деревьях появляются почки, а после теплого дождя деревья покрываются листьями и цветами и наступает во всей своей красе весна, мы погружаемся в чудесную сказку, которую рассказывает нам природа. Когда в Альпах от распаханных предгорий через лиственные и хвойные леса и луга мы поднимаемся к снежным вершинам, а затем спускаемся в плодородные долины, нас восхищают неожиданные смены ландшафтов. Таких перемен нет в природе тех стран, куда нас влечет «Рюрик». Но подобные изменения можно сравнить с изменениями картины звездного неба и температур во время плавания. Чтобы пояснить эту мысль, приведу еще один пример: на высоте кружится голова, когда взор обращен вниз вдоль стены башни или на предметы, находящиеся далеко внизу, а воздухоплаватель может смотреть сверху на землю, не испытывая головокружения.
В садах городка Санта-Крус поднимает ввысь кроны лишь пара финиковых пальм да несколько бананов свешивают широкие листья через выбеленные стены оград. Местность пустынна, высокие зубчатые скалы на побережье уходят к востоку и лишены растительности. Лишь кое-где они покрыты зарослями гигантского, бледного, похожего на кактус Канарского молочая. Вершины скал окутаны облаками. По пути от Лагуны{70} мы видели спускающихся с горы верблюдов.
Я воспользовался первой же представившейся мне возможностью, чтобы отправиться на берег. Ученый-минералог Эсколар, с которым я здесь познакомился, любезно и охотно обещал прислать на другой день проводника. Ранним утром 29 октября мы с Эшшольцем тронулись в путь, не пожелав воспользоваться проторенной дорогой к Лагуне. Наш проводник сеньор Николас повел нас в пустынные, окаймленные скалами долины на востоке острова. Вокруг немногочисленных селений росли драконово дерево, американская агава и кактус опунция (Cactus opuntia). Большинство встречавшихся нам форм тропической флоры некогда были завезены человеком. В четвертом часу дня мы подошли к Лагуне. Начался дождь. Мы подкрепились виноградом и навестили ученого доктора Савиньона, давшего нам рекомендательное письмо к г-ну Кологану в Оратаве: «No quierendo privar a la casa de Cologan de su antiquo privilegio de proteger los sabios viageros» etc. («He желая лишить дом Кологана его старинной привилегии оказывать покровительство ученым-путешественникам» и т. д.). Мы нашли ночлег и вновь поужинали виноградом у очень разговорчивой и веселой старушки. На острове только две гостиницы — в Санта-Крусе и Оратаве Утром 30 октября хлынул ливень. Мы направились в Оратаву. Наш путь лежал через Матансу и Витторию эти два названия часто встречаются на картах испанских колонии и как бы символизируют судьбу коренных народов — резня и победа. В Виттории мы прежде всего дошли до виноградников, которые являются гордостью и богатством острова. Отсюда открылся исключительно красивый вид на горы и побережье, на вершину вулкана и море, тем более что они предстали в лучах заходящего солнца. Внизу у берега собирались облака и время от времени по склонам гор поднимались к вершинам. Из тумана проступала покрытая свежим снегом вершина вулкана. Однако мне не удалось определить высоту этой горы: впечатление не соответствовало ожиданиям. В Альпах ориентиром для установления высоты мне служила снеговая линия; там же, где этого ориентира нет, я не могу сказать ничего определенного.
В Оратаву мы добрались слишком поздно, в час ночи, и решили остановиться. Я выкурил под пальмой трубку Votum solvenis (выполняя обет), срезал лист дерева на память, а стебель использовал как трость. Не найдя ночлега, мы вернулись в Матансу. Здесь в одной из хижин нам удалось поесть винограду и расположиться прямо на голой земле. Чтобы подкрепиться белковой пищей, мы покупали у хозяек куриные яйца.
31 октября под проливным дождем мы прошли через Лагуну, где посетили еще один сад, а затем вернулись в Санта-Крус. Здесь нас весьма гостеприимно встретили разные просвещенные мужи и пригласили осмотреть сады, собранные ими коллекции, мумии гуанчей{71}. Однако у нас не было времени.
Люди, встречавшиеся во время экскурсии по острову, показались нам весьма бедными и некрасивыми, по вместе с тем веселыми и любознательными. Чувство собственного достоинства, присущее испанцам и находившее выражение в оборотах речи, впервые встречалось нам здесь среди бедняков и привлекло наше внимание. «Ваша милость» — обращение, которое в ходу и у простолюдинов.
Сперва в Тенерифе, а потом и везде, где бы мы ни бывали во время кругосветного плавания, любознательные люди, с которыми я, столь же любознательный, как и они, встречался, стремились изучить черты русского национального характера, общаясь с русским, бывшим на самом деле немцем, а скорее даже французом, уроженцем Шампани.
Путешествие из Тенерифе в Бразилию. Санта-Катарина
1 ноября 1815 г. мы подняли якорь и покинули рейд Санта-Круса. В проливе между островами Тенерифе и Гран-Канария нам сопутствовал либо полный штиль, либо слабый ветер. У Пико-де-Тейде совсем не было облаков, а еще утром вершину вулкана окутывал туман, поднимавшийся с моря, и она скрывалась из виду. 3 ноября по выходе из пролива мы встретились с сильным северо-восточным пассатом и поплыли намеченным курсом со скоростью 6–8 узлов (столько же миль) в час. Замечу попутно: то, что говорит любой капитан о скорости своего судна, заслуживает столь же мало доверия, как и то, что говорит женщина о своем возрасте. 6 ноября в 4 часа утра мы пересекли Северный тропик. В этот день видели дельфинов, а 7 ноября — первых летучих рыб{72}.
У этих рыб, похожих на сельдь, по всей длине расположены грудные плавники, предназначенные для полета, а не для плавания. Рыбы летят по изогнутой линии, распустив плавники довольно высоко и далеко над волнами, в которые должны время от времени погружаться, дабы поддерживать эластичность плавников. Поскольку у них нет таких зорких глаз, как у птиц, да они в них и не нуждаются, ибо природа не ставит им в воздухе никаких преград, эти рыбы не могут избежать столкновения с встречающимися им на пути судами и часто падают на палубы, особенно если высота корабля, например «Рюрика», не превышает высоты их полета. Вполне понятно, что северяне, не знающие о существовании подобных рыб, наблюдают за их полетом со страхом, полагая, что встретили нечто противоестественное. Первую же упавшую на палубу летучую рыбу наши матросы в полном молчании разорвали на куски и разбросали в разные стороны по морю, чтобы отвести беду. В Атлантическом и Тихом океанах летучие рыбы падали на палубу так часто, что не только мы, но, помнится, и матросы не раз лакомились их превосходным мясом.
В Тенерифе мы взяли на борт кошку и маленького белого кролика. Они жили в полном согласии. Кошка ловила рыб, а кролик питался рыбьими костями, которые она ему оставляла. Упоминаю здесь об этом, поскольку заметил, что кролик, подобно мышам и другим грызунам, питался лишь животной пищей. Кролик все же подох прежде, чем мы пересекли экватор. Не добралась до Бразилии и кошка.
9 ноября мы достигли широты самого северного из островов Зеленого Мыса. 10-го днем уже под очень большим углом из тумана показался остров Брава. В половине второго этот высокий остров был от нас в 10 милях к юго-юго-востоку, а восточнее вдали виднелись два других острова, причем в центре самого восточного из них высился пик, по-видимому, вулканического происхождения. Вечером мы подошли к острову Брава весьма близко, используя ветер, который потом внезапно прекратился. Над облаками, находившимися выше гор, на короткое время почти под таким же углом показалась вершина острова Фого [Фогу]. Между «Рюриком» и островом резвились бесчисленные дельфины. Очевидно, они не замечали нас, поскольку не приближались к кораблю.
Острова Зеленого Мыса, находящиеся под португальским владычеством, населены большей частью бедными неграми. Жители разных островов весьма отличаются между собой. Белых на острове Сантьягу обычно характеризуют как людей неразумных, с разбойничьим нравом; бедные и добрые негры с острова Брава напоминают негров, с которыми нас познакомил и которых заставил полюбить Мунго Парк{73}.
Легенда рассказывает, что первыми на Фогу высадились два христианских проповедника, пожелавшие жить там угодной богу мирной жизнью простых поселенцев. Тогда на острове еще не было никакого подземного огня. Неизвестно, были ли пришельцы алхимиками или волшебниками, однако они обнаружили золото в горах и устроили там свои кельи. Они добывали золото и накопили несметные богатства; сердца их вновь обратились к мирской жизни. Один из них возвысился над другим и присвоил себе большую часть золота, отсюда возникли взаимная вражда и ненависть. Языки пламени сообщили их мести особую злую силу, но оба погибли при пожаре, охватившем остров. Потом огонь стал ослабевать и, наконец, сосредоточился в центре острова.
Погрузившись в созерцание Фогу, куда, насколько мне было известно, еще не ступала нога натуралиста, я мечтал о том, чтобы самому побывать там и исполнить свой долг ученого.
Вообще же мы не видели ни дыма, ни пламени, которые свидетельствовали бы о наличии на этом острове вулканов, действие которых наблюдали прежде путешественники. Кук, высаживавшийся на Сантьягу, тоже не упоминает о вулканической деятельности.
Мы льстили себя надеждой, что северный пассат будет сопровождать наше судно до 6° сев. долготы, но он прекратился у 10° 13 ноября. Вместо этого уже 18-го между 7° и 8° нас встретил южный пассат, который, как мы полагали, должен был проявиться только за экватором. В этих широтах погода была непостоянна: штили прерывались порывами ветра и потоками дождя. Дважды сверкали молнии и слышался гром. Однажды, после полудня 17 ноября, мы наблюдали нечто похожее на смерч. Наш ночной сон на палубе не раз нарушался внезапным ливнем. Крылатые вестники приносили сведения о земле, находившейся в 5,5° к востоку. 15-го на бугшприт «Рюрика» села красивая сухопутная птица с красным оперением и вновь улетела. 16 ноября вокруг нас летали три цапли; одна из них, намеревавшаяся опуститься на корабль, упала в воду, другие полетели дальше. С утра 17-го за нами летела утка (Anas sirsdir Forst), которую в полдень подстрелили. Наконец, 18 ноября показалась еще одна утка.
Тогда же удалось поймать нескольких акул. Их мясо было желанной свежей пищей. Должен сказать, что мне никогда не доводилось есть более вкусного мяса, чем акулье; они попадаются в открытом море именно тогда, когда в них особая нужда.
18 ноября установился ветер, дующий в юго-юго-восточном направлении, и мы стали двигаться западным курсом. 19 ноября видели морской пузырь, возможно одно из самых редких животных, обитающих на поверхности моря. Севернее экватора попался только один экземпляр; южнее они встречались часто. Утром 21-го мы заметили два судна, а днем разговаривали с третьим, возвращающимся из Ост-Индии. С него к нам послали шлюпку, чтобы узнать новости из Европы, а они передали кое-какие вести с острова Св. Елены, куда прибыл Наполеон. 22-го и 23-го вокруг «Рюрика» резвилось множество дельфинов.
23 ноября в 8 часов вечера мы впервые пересекли экватор. На «Рюрике» был поднят флаг, дан залп из всех орудий и устроен праздник. Матросы-новички не знали толком, что надо делать; их Нептун выглядел весьма нелепо. Однако они были настроены очень весело, а к вечеру разыграли комедию, и день завершился хотя и поздно, но радостно. Капитан приказал выдать всем по довольно большой порции пунша.
Успех этого представления дал повод устроить 3 декабря еще один праздник, прошедший более удачно. Пьесу сочинил рулевой Петров, он же сыграл одну из главных ролей. Это была трогательная история, сочиненная и представленная с подобающей иронией. Церковное песнопение под руководством рулевого Петрова при благословении любящей пары свелось к восхвалению всех снастей и парусов корабля.
Вообще развлечения для матросов устраивались каждое воскресенье. Доставали музыкальные инструменты и пели хором. Замечу попутно, что среди русских народных песен, которые мы исполняли во всех пяти частях света, была и песня о Мальбруке{74}. Не сомневаюсь в том, что, если и сегодня по морям плавает русская экспедиция, подобная нашей, ее участники повсюду распевают среди своих народных песен и «Песню о шинели» немецкого поэта Хольтея{75}.
24, 25 и 26 ноября нам повстречался английский бриг, у которого не было брам-стеньги грот-мачты.
С тех пор как нас настиг южный пассат, небо стало часто заволакиваться облаками, и пошли кратковременные дожди, особенно по ночам. Ветер, постепенно менявший направление с южного на восточное, 30 ноября стал дуть на север, а с 1 декабря вовсе прекратился. После короткого штиля подул южный ветер. 5 декабря солнце стояло прямо над головой. 6-го «Рюрик» пересек Южный тропик. В эти дни мы поймали много бонит{76} и обеспечили себя свежим мясом. Бабочки не раз приносили вести об американском материке, находившемся на расстоянии 120 миль к западу. На пути нам встретилось несколько судов.
7 декабря примерно в 1,5° южнее мыса Фриу наблюдалось явление, еще ярче повторившееся 9-го. На огромном пространстве ветер и течение резко разделили морские воды на две разноцветные полосы — соломенно-желтую и зеленую. Мы исследовали воду из этих полос, которые пересекали, следуя по курсу. Светло-желтая вода была словно пропитана очень мелкой белесой пылью или плотной массой микроскопических частиц. Под микроскопом красящее вещество оказалось водорослями, свободно плавающими в вертикальном створе. Не было заметно, чтобы они совершали какие-либо направленные движения.
В пробах воды, взятых 7 декабря, содержалось немного зеленой слизистой материи, а также мельчайшие красивые организмы из класса ракообразных. Плавая вокруг, они часто тянули за собой нити с поверхности моря на дно. Полосы воды зеленого цвета, наблюдавшиеся 9 декабря, обычно были не столь широки, как светло-желтые, и распространяли весьма резкий гнилостный запах. Чистый зеленый цвет придавало воде бесчисленное множество инфузорий. Вода кишела ими. Планарии таких организмов нельзя было различить невооруженным глазом. Вода в проливе Санта-Катарина часто, особенно при южном ветре, приобретала такую же окраску и издавала подобный запах, но организмов мы в ней не обнаружили.
10 декабря вблизи гавани на нас обрушился шторм. На следующий день мы увидели землю и 12 декабря в 4 часа пополудни стали на якорь в проливе Санта-Катарина близ форта Санта-Крус.
Не возьму на себя смелости сказать что-либо поучительное о Бразилии: ведь я всего лишь путешественник, на короткое время ступивший на землю этой страны и буквально пораженный гигантским многообразием ее буйной природы. Хотелось бы рассказать друзьям о том впечатлении, которое произвела она на меня, но боюсь, для этого не хватит слов.
Остров Санта-Катарина расположен в Южном полушарии за тропиком на той же широте, что и Тенерифе в Северном полушарии. Скалистый грунт там лишь местами скупо покрыт зеленью; к европейским видам растений примешиваются иногда иноземные, но и наиболее часто встречающиеся из них отнюдь не составляют заметного большинства на этой земле. Здесь европеец встречает совершенно новый мир, и его поражает многообразие природы, где все приобретает гигантские размеры.
Когда вы плывете по проливу, отделяющему остров Санта-Катарина от материка, вам кажется, что вы в царстве еще не тронутой природы. По обе стороны величаво и плавно поднимаются цепи гор, покрытые девственными лесами, и только у подножий заметны следы труда недавно поселившихся здесь людей. Далее в глубине материка, словно конусы или купола, выделяются более высокие вершины, и взор наблюдателя, смотрящего с юга, упирается в горный хребет.
Поселения здесь большей частью расположены в долинах и окружены апельсиновыми деревьями высотой с наши яблони или чуть больше. Вокруг них —посадки бананов, кофейного дерева, хлопчатника и других культур; на огородах растут некоторые наши съедобные растения; незаметно размножились и европейские сорняки. Среди этих садов высятся дынные деревья{77} и пальмы одного вида (Cocos romanzowiana). Если человек бросает свой ранее вырванный им у природы клочок земли, он быстро зарастает высокими дикими кустами, среди которых выделяются виды семейства меластомовых с красивыми цветами и пурпурно-красная бегония, Если вы попытаетесь углубиться в темную лесную чащу, то скоро потеряете тропинку и не сможете достичь вершины ближайшего холма. В лесу вы встретите богатейшее разнообразие всевозможных видов деревьев. Упомяну лишь об акациях с их мелкими листочками, высокими стволами и расходящимися веером ветвями. Под ними, скрывая поваленные гниющие деревья, буйно растут злаки, осока, папоротники, широколистные геликонии{78} и т. п., поднимающиеся выше человеческого роста; среди них встречаются карликовые пальмы и древовидные папоротники. От земли к верхушкам деревьев и оттуда, свисая вниз, тянутся сети многократно переплетающихся вьющихся растений. Различные виды многих семейств и классов растительного царства принимают здесь форму лиан. Высоко на ветвях висят воздушные сады из орхидей, папоротников, бромелиевых{79} и других; седыми серебряными прядями свешивается с верхушек старых деревьев Tillandsia usneoides{80}. Вдоль ручьев растут широколистные аронники{81}. Гигантские колонноподобные кактусы образуют причудливые обособленные группы. Папоротник и лишайники покрывают сухие песчаные субстраты. На влажных почвах вздымают свои кроны воздушные пальмы, а недоступные болота, окаймляющие морские бухты, покрыты сплошным ковром ризофоры (Rhizophora){82}. В этих районах горная порода — крупнозернистый гранит — обычно не выходит на поверхность и лишь кое-где обнажается в береговых уступах или рифах, торчащих из воды в проливе.
Должен заметить, что нигде — ни в Бразилии, ни на Лусоне, ни на Яве — я не замечал, обозревая близлежащую местность с борта корабля, чтобы пальмы господствовали над другими видами растений, возвышались над лесом и определяли бы облик ландшафта. Исключение составляют, пожалуй, только посаженные человеком и послушные лишь ему самые красивые пальмы — это стройные, колеблемые ветром кокосовые пальмы, виденные мною на островах Южного моря. Однако пальмы господствуют в поясе тропиков в обширных низменных, часто затопляемых равнинах, по которым протекают великие реки Америки.
Хотя Америка не может ничего противопоставить гигантскому разнообразию форм животного мира — от слонов до удавов, характерному для Старого Света, тем не менее думается, что пышность и многообразие животного царства Бразилии до некоторой степени восполняют этот недостаток. Животный мир здесь находится в гармонии с миром растительным. К лианам приспособлены лапы некоторых птиц или легко загибающиеся хвосты млекопитающих, включая даже хищников. Повсюду кипит жизнь. На влажных участках суши, недалеко от моря, обитает несметное число раков; завидя путника, они уползают в свои норы, шевеля поднятыми над головой большими клешнями. Особенно богат и великолепен мир насекомых, где бабочка соперничает с колибри. Когда на это зеленое царство спускается ночь, загораются светлячки. Воздух, заросли и земля наполняются блеском и освещают море. Щелкун{83}, летящий по прямой, несет на переднегруди два источника постоянного света — органы свечения, связанные с нервной системой. Светляк{84} неверными линиями носится по воздуху, причем его брюшко мерцает то ярче, то слабее. При сказочном освещении раздаются шум и крики похожих на лягушек амфибий и пронзительные рулады прыгающих прямокрылых{85}.
Неиссякаемому богатству флоры Бразилии посвящены многолетние труды Огюста Сент-Илера{86}, Мартиуса{87}, Неза Эзенбека{88}, Поля{89}, Шлехтендаля{90}, частично Кандоля{91} и Адриана Жюсьё{92}, а также и мои собственные. Все в этой стране было ново для науки. Труды столь многих людей охватывали лишь части целого, и когда кто-то изучает имеющееся в семье наследие, которое уже обработал другой, то нередко это мало уступает первой жатве.
13 декабря утром «Рюрик» подвели как можно ближе к берегу. Я сопровождал капитана в его поездке на остров в город Ностра-Сеньора-ду-Дестеру [Флориано-полис], расположенный в самом узком месте пролива примерно в 9 милях от нашей стоянки. Потом я посетил его вторично, но у меня мало что сохранилось в памяти; не сложилось определенного мнения и о людях, с которыми довелось встретиться. Только природа, эта могучая природа надолго оставила неизгладимое впечатление.
14 декабря на берег перенесли обсерваторию и разбили там палатку. Убогий домик и палатка служили жилищем капитану и тем членам экипажа, которых он взял с собой на берег. Глеб Семенович остался на корабле, командование которым было ему поручено.
Лейтенант Захарьин во время путешествия чувствовал себя все хуже и наутро должен был подвергнуться тяжелой хирургической операции. Эшшольц, которому предстояло ее сделать, сказал, что рассчитывает на мою помощь. Пожалуй, одним из самых серьезных моментов в моей жизни был тот, когда, получив соответствующие наставления и приготовив все необходимое, мы с Эшшольцем подошли к кровати больного и я сказал себе: «Будь тверд и внимателен! Сейчас от твоего хладнокровия зависит человеческая жизнь». Однако перед самым началом операции Эшшольц вдруг увидел, что состояние больного улучшилось. Операция была отложена, лейтенант поправился и вновь смог нести службу.
Хотя давно кончился сезон дождей, который в этой части Бразилии приходится на сентябрь, лило почти каждый день, и в народе такую необычную погоду связывали с прибытием русских. К тому времени весь запас бумаги я израсходовал на то, чтобы сохранить собранные и медленно сохнущие растения. Члены экипажа, перешедшие спать в палатку,— художник, рулевой и матросы — использовали мои пакеты с растениями для устройства ложа и для подушек. Меня об этом не спросили, и напрасными были мои протесты. В одну бурную дождливую ночь палатку опрокинуло, и, разумеется, во время этого бедствия никто и не подумал о том, чтобы перенести пакеты с растениями в сухое место. Таким образом я лишился не только части растений, но и части бумаги — невозместимая потеря, тем более что мой запас был незначителен и к тому же приходилось делиться с Эшшольцем, вовсе не имевшим бумаги.
Крузенштерн, с которым был тогда и Отто Коцебу, 12 лет назад примерно в то же время года и в той же гавани поставил на якорь свои корабли — «Надежду» и «Неву». Его обсерватория располагалась на маленьком острове Атомери, где находится форт Санта-Крус. Тогда в Сан-Мигеле, в 4 или 5 милях от нашей нынешней палатки, жил некий Адольф, уроженец Пруссии. Он оказал сердечное гостеприимство Крузенштерну и его офицерам и поддерживал с ними весьма дружеские отношения. Отто Евстафьевич с любовью вспоминал о своем друге. Он справился о нем и узнал, что Адольф умер, но его вдова жива. Капитан Коцебу решил навестить старую знакомую, и мы отправились в Сан-Мигель. Однако вдова оказалась совсем не та, которую знал Отто Евстафьевич. На этой молодой даме Адольф женился вскоре после смерти первой жены. А теперь в заново отделанном доме жил ее соотечественник и друг. Некогда на стене гостеприимного дома русские офицеры начертали свои имена; теперь того места уже нельзя было найти: стены были перекрашены. Никто уже не помнил о русских, и, казалось, память о скончавшемся лишь в прошлом году Адольфе исчезла так же безвозвратно, как и воспоминания о гостях из России.
Местные жители, с которыми мы заговаривали во время подобных экскурсий, любезно приглашали нас к себе, угощали фруктами, предлагали все, что у них имелось. Когда мы хотели расплатиться за съеденное, нас просто не понимали. Перенаселенность не смогла заглушить естественного чувства гостеприимства.
Работорговлю мы застали здесь в полном расцвете. Администрация Санта-Катарины требовала доставлять на остров ежегодно пять-семь партий негров по сто человек вместо тех, кто умер на плантациях. Португальцы привозили их на кораблях из своих колоний в Конго и Мозамбике. Цена на крепкого взрослого мужчину колебалась от 200 до 300 пиастров. Женщина стоила намного дешевле. Более выгодным считалось как можно быстрее использовать всю силу человека, а затем купить вместо него другого, чем растить рабов здесь, на месте. Эти простые слова, сказанные плантатором из Нового Света, звучат, наверное, непривычно для вашего слуха.
Невыносимо мучительно видеть этих рабов на мельницах, где тяжелыми пестиками они измельчают в деревянных ступах рис{93}, издавая в такт своеобразные стоны. В Европе подобную работу выполняют ветер, вода и пар. Еще во времена Крузенштерна в деревне Сан-Мигель стояла водяная мельница. Рабы, которых держат в домах богатых господ или в более бедных семьях, больше похожи на людей, чем те, чью рабочую силу используют на мельницах. Впрочем, нам нигде не довелось видеть жестокого обращения с ними. Рождественский праздник, повсюду являющийся праздником для детей, здесь отмечается и как праздник чернокожих. Причудливо нарядившись, они ходят группами из дома в дом и за небольшое подаяние играют, поют и танцуют, предаваясь непринужденному веселью. Мыслимо ли, на рождество вас окружает мир зеленых пальм и цветущих апельсиновых деревьев! На открытом воздухе флаги и факелы, песни и танцы, радостные ритмы фанданго...
В последние дни мои товарищи познакомились с местными жителями и готовились отметить праздник вместе с новыми друзьями. А я в этот вечер чувствовал себя таким одиноким!
Люди повсюду находят знакомых. В городе жил портной, родом из моей провинции, из моего родного города Шалон-сюр-Марна. Он слышал мою фамилию и даже заходил ко мне. Непонятно, как случилось, что мы так и не встретились.
Позволю себе сделать еще одно замечание. Название «армансао» обозначает королевские компании, занимающиеся китобойным промыслом. В здешней провинции их четыре. Лов ведется в зимние месяцы перед входом в пролив, в открытых деревянных лодках. В каждой — шесть гребцов, рулевой и гарпунер. Убитых китов вытаскивают на берег и там разделывают. Каждая компания добывает за зиму до сотни китов, и нас уверяли, что это количество можно было бы значительно увеличить, если бы китобоям более аккуратно платили жалованье, которое теперь не выдано за три года. Провинции, расположенные севернее, тоже участвуют в китобойном промысле. Китов можно встретить даже у 12° южн. широты. Вероятно, эти обитающие у берегов Бразилии под жарким солнцем киты — не что иное, как кашалоты (Physeter){94}.
В одном из моих писем из Бразилии в Берлин я писал о своем открытии и, хотя оно не имеет никакого отношения к путешествию, все же упомяну здесь о нем. Мне кажется забавным, что именно французу по рождению понадобилось отправиться в кругосветное путешествие, чтобы оттуда сообщить об этом открытии немцам. Дело в том, что на пути в Бразилию я обнаружил лишнюю стопу в четвертой строке четвертой строфы «Коринфской невесты» Гёте, одного из самых совершенных его стихотворений, жемчужины немецкой и европейской литературы! Вот эта строка: Daß er angekleidet sich aufs Bette legt[4].
Я не встречал ни одного немецкого поэта, критика, который заметил это; я прочитал все комментарии к «Коринфской невесте» — и превозносящие ее до небес, и ругательные, но не нашел там никаких упоминаний об этой лишней стопе. Немцы часто так много говорят о вещах, которые так плохо изучают! Я все еще считаю свое открытие новым.
26 декабря 1815 года мы перенесли на корабль приборы и сели сами. Из-за штормовой погоды мы оставались в гавани и 27-го. Лишь на третий день «Рюрик» вышел в море.
Переход из Бразилии в Чили. Стоянка в Талькауано
Мы отплыли 28 декабря 1815 года в 5 часов утра при слабом ветре. По выходе из пролива, так же как и 7 декабря, когда мы входили в него, наблюдалось, хотя и менее отчетливо, то же явление: вода кишела микроскопическими водорослями, встречались и маленькие красные рачки. Ночью поднялся ветер, а утром земля уже скрылась из виду.
Суда, которые огибают мыс Горн, обычно следуют в этих широтах юго-юго-западным курсом вдоль американского побережья на удалении 5–6° от него. Они проходят между материком и Фолклендскими (Мальвинскими) островами, не видя суши; течение направлено к островам. Море там неглубокое; лот ложится на серый песок на глубине 60–70 футов. Южнее суда придерживаются более восточного курса, чтобы обогнуть мыс Сан-Хуан, восточную оконечность острова Эстадос, единственный выступ суши, который они могут наблюдать. Двигаясь вдоль побережья, суда рассчитывают на попутные северные ветры; в более южных широтах западные ветры и штормы зачастую прекращаются. Подобно тому как в поясе тропиков постоянно дуют восточные ветры, в этом регионе, где переменные ветры направлены к полюсу, господствуют западные ветры. Борясь с ними, корабли стремятся достичь более высоких широт (до 60°), чтобы оттуда, пройдя меридиан мыса Горн, вновь повернуть на север. Бывает, что после длительной и безуспешной борьбы со штормовыми западными ветрами, потеряв надежду обогнуть мыс Горн, суда решают изменить западный курс на восточный и попадают в Тихий океан, следуя мимо мыса Доброй Надежды.
Мы сначала шли восточным курсом, затем капитан решил, обогнув мыс Горн, сразу повернуть к западу, не заходя в высокие широты. Я все же полагал, что, поскольку конечная цель путешествия вынудит «Рюрик» долгое время находиться в Северном Ледовитом океане, южные льды, южный ледниковый материк, к которым мы тогда очень близко подходили, дадут поучительный сравнительный материал для предстоящих исследований, пищу для нашей любознательности. Однако капитан Коцебу, выслушав мои соображения, не одобрил эту идею. Два года спустя капитан Смит на корабле «Уильям» открыл острова Новой Южной Шотландии [Южные Шетландские острова]. Если бы капитан Коцебу принял мое предложение, то эта честь, возможно, выпала бы ему.
Мы увидели мыс Сан-Хуан утром 19 января 1816 года и обогнули его следующей ночью, а 22-го пересекли линию меридиана мыса Горн на широте 57°33'. 1 февраля наше судно было на широте мыса Виттория. 11 февраля в 10 часов вечера при свете луны мы увидели землю и 12-го после сорокашестидневного плавания вошли в бухту Консепсьон.
Коротко расскажу о некоторых событиях во время этого плавания. Будьте ко мне снисходительны: подобно тому как большое место в жизни узника занимают муха, муравей или паук, так и для мореплавателя важное значение имеют водоросль, черепаха или птица.
В Бразилии мы взяли на борт несколько птиц (молодых особей рода Ramphasios{95}) и обезьяну (Simia capucina){96}. Птицы не перенесли первого же шторма в открытом море; а обезьяна до Камчатки оставалась самым общительным членом нашей компании.
30 декабря 1815 года мы видели судно, направлявшееся, очевидно, в Буэнос-Айрес, единственное, порадовавшее наш взор во время этого одинокого плавания. По пути — на расстоянии 300 и более миль от берега — встречались морские черепахи; лично я их не видел. Приблизительно на широте 41° северный ветер прекратился; холод (12° по Реомюру) стал ощутим. Мы вытащили зимнюю одежду и затопили в каюте. У мыса Горн, где минимальная температура составляла плюс 4°, мы не чувствовали холода, ибо привыкли к нему. Южные ветры приносили ясную погоду, а северные — дожди. На широте примерно 40° мы увидели первых альбатросов, а немного южнее наблюдались гигантские южные водоросли: Fucus pyriferus и Fucus antarcticus{97}— новый вид, который запечатлен в альбоме Хориса и описан мной. Я собрал много экземпляров различных подвидов этого интересного растения, и мне разрешили положить их для просушивания в корзину на мачте. Однако позже во время одной из приборок на корабле это маленькое сокровище выбросили за борт, не предупредив меня; удалось спасти лишь один лист Fucus pyriferus, который я хранил в спирту для других целей.
В разные дни встречались киты, другие морские млекопитающие, белобрюхие дельфины (Delphinus peronii). 10 января стоявший на утренней вахте рулевой Хромченко видел шлюпку с людьми, боровшимися с морской стихией. В тот же день с юго-запада налетел шторм, который почти непрерывно на протяжении шести суток преследовал нас между 46° и 47° южн. широты. В 4 часа дня в корму нашего судна ударила сильная волна. Она причинила большие повреждения и сбросила за борт капитана, который, однако, к счастью, успел ухватиться за снасти и лишь на короткое время повис над морской пучиной, а затем опустился на палубу. Перила на корабле были сломаны, самые прочные звенья носового обвода расщеплены; одну из пушек перебросило на другую сторону палубы; руль поврежден; ящик с 40 курами смыло за борт, и почти все оставшиеся куры погибли. Через разрушенную надстройку вода проникла в каюту капитана; хронометр и инструменты не получили повреждений, но часть сухарей, хранившихся в помещении под каютой, подмокла и пришла в негодность.
Весьма чувствительной для нас была потеря кур. Еда на корабле приобретает очень большое значение, чего на берегу даже не представляют себе; это важнейшее событие в повседневной жизни. Вот почему мы так расстроились. Размеры «Рюрика» не позволяли брать на борт каких-либо других животных, кроме нескольких небольших свиней, овец или коз, а также кур. Наш бенгалец, о котором с большим основанием, чем г-жа Сталь говорила о своем поваре, можно было сказать, что он лишен фантазии, на протяжении всего плавания потчевал нас теми же блюдами, что и в первый день после выхода в море, разве только запас свежих съестных припасов вскоре сократился наполовину, а к концу перехода и вовсе иссяк. Когда этому сумасброду запрещали готовить набившее всем оскомину блюдо, он начинал плакать и просил разрешения подать его еще раз. Оставшихся животных берегли, как правило, на крайний случай, и, если такового не представлялось, они становились близкими человеку и были такими же его друзьями, как и собаки, В описываемое время на борту оставалась пара свиней, взятых еще в Кронштадте, но о них речь пойдет впереди.
В один из таких штормовых дней выпал град и прогремел гром. Кроме дельфинов и альбатросов мы видели тюленя, быстро плывшего под водой, высоко подпрыгивая. Играя, как дельфин, он приблизился к носовой части корабля. Его убили гарпуном, но вытащить; на палубу так и не смогли. Вблизи Фолклендских (Мальвинских) островов погода была весьма переменчивой: то шторм, то штиль. Тюленя встречали еще раз. На палубу залетел маленький сокол, и его поймали руками.
Огненная Земля, которую мы увидели 19 января,— это высокие горы с зубчатыми голыми вершинами. В более западных, внутренних районах на склонах гор кое-где лежал снег. Отделенный от Огненной Земли проливом Ле-Мер остров Эстадос является восточным продолжением архипелага. На западе острова есть две близлежащие вершины, но в целом поверхность плавно поднимается к более высокому пику в центральной части, а на востоке предгорья спокойно снижаются к морю. Вблизи мыса Сан-Хуан особенно часто попадались водоросли, между ними плавало нечто загадочное — не то животное, не то растение, вызвавшее наше любопытство, однако вытащить его не удалось. Вокруг корабля покачивалось на волнах множество альбатросов; мы пытались в них стрелять, но пули не могли пробить густое оперение.
На меридиане мыса Горн нас встретили юго-западные штормы, не утихавшие несколько дней. Здесь на наш корабль обрушились самые большие волны из всех, какие были на пути прежде. Море не фосфоресцировало. Не наблюдалось и северного сияния. Киты попадались очень редко.
Путешественники обычно приветствуют созвездие Креста в южном небе стихами из «Чистилища» Данте (1, 22 и сл.); однако их мистический смысл с трудом можно отнести к данному созвездию. Путешественники вообще считают, что блеск и великолепие звездного неба Южного полушария оставляют далеко позади звездный купол севера. Наблюдать южное небо — вот преимущество, которое имеет путешественник перед теми, кто сидит дома. Осагов, ботокудов{98}, эскимосов и китайцев гораздо легче увидеть у себя на родине, никуда не выезжая, чем в чужих странах. Многие животные — носорог и жираф, удав и гремучая змея — выставлены для обозрения в зоопарках и музеях мира. Китов доставляют вверх по течению рек, чтобы удовлетворить любопытство жителей больших городов. Но созвездие Южного Креста можно наблюдать только в Южном полушарии. Южный Крест — действительно прекрасное созвездие, блестящая стрелка на южных звездных часах. Однако я не хочу расточать безудержную хвалу южному небу и отдаю предпочтение родным звездам. Возможно, я так же привязан к Большой Медведице и Кассиопее, как житель Альп к снежным вершинам, ограничивающим его горизонт.
Когда мы повернули на север, водоросли исчезли. 31 января 1816 года вблизи мыса Виттория я отметил свой 34-й день рождения или скорее день крещения. (Точная дата моего рождения и вообще, случилось ли это событие, документом не подтверждается, свидетелей теперь уж не найти, и это можно лишь предполагать с той или иной долей вероятности.) У меня сохранилось несколько апельсинов, взятых еще в Бразилии, я выложил их на стол, а капитан поставил бутылку портвейна из личных запасов, чтобы отметить событие.
Мы двигались на север вдоль западного побережья Америки (на удалении примерно в 2°), и нам сопутствовали хорошая, ясная погода и южные ветры, обычные для этого времени года. Что касается описания побережья Чили у Консепсьона, то сошлюсь на материал в «Наблюдениях и замечаниях»; там же можно найти и другие беглые зарисовки и заметки{99}. В основе их лежат записи, сделанные на месте во всех пунктах, куда мы высаживались. Сразу же после того как «Рюрик» снимался с якоря, я передавал их капитану по его требованию.
Днем 12 февраля 1816 года мы вошли в бухту Консепсьон и в 3 часа, лавируя против ветра, оказались на рейде Талькауано. Мы подняли флаг и по морскому обычаю потребовали лоцмана. Но на нас смотрели лишь издали и со страхом. Мы не понимали, что нам кричали, да и сами не могли объясниться. Спустилась ночь, и пришлось бросить якорь. На следующий день подошла шлюпка, с которой за нами наблюдали. Наконец удалось уговорить сидевших в ней людей подойти вплотную. Наш флаг был в этих местах неизвестен, кроме того, местные жители очень боялись корсаров из Буэнос-Айреса, от коих не знали как защищаться. Нам указали путь на якорную стоянку у Талькауано. Капитан тотчас же направил лейтенанта Захарьина и меня к коменданту поселения.
Властителем Чили в это время был Фердинанд VII. Администраторы и военные, с которыми мы попутно столкнулись, напомнили мне Кобленц в 1792 году{100}, книга моего детства лежала передо мной раскрытой и понятной. Я увидел, как уже немолодой офицер в порыве непритворной преданности и обожания опустился на пол перед изображением монарха, которое нам показывал губернатор, и со слезами умиления лобызал ноги на портрете. В этом поступке, могущем многим показаться странным, проявились не что иное, как самоотверженность и преданность идее, будь она даже пустой игрой ума. В нем нашло свое выражение то высокое и прекрасное, что принесла людям эпоха политической борьбы. Но оборотной стороной медали стало торжество высокомерия, жестокости, животного удовлетворения жажды мщения. «Vae victis!» («Горе побежденным!»){101}. Вот еще пример. На балу, который губернатор дал в нашу честь, я наблюдал, как его сын, невоспитанный мальчишка лет 13–14, пинал ногами укутанных в мантильи женщин, по местному обычаю присутствовавших на балу в качестве зрительниц; он плевал в них и оскорблял лишь потому, что они патриотки. Поведение мальчишки было в порядке вещей. На не эмигрировавших, не высланных, не заключенных в тюрьмы патриотов или на подозреваемых, а также на членов их семей возлагаются, как на бесправных и угнетенных, все тяготы — поставки, транспортная повинность, постой. Действует формула: «Это — патриоты!».
С последними всемирно-историческими событиями{102} здесь уже были знакомы. Честь их приписывалась исключительно русскому оружию, что проявлялось и в отношении к нам. Само собой разумеется, дружественному флагу и капитану судна, на котором он развевался, были оказаны всевозможные почести; но и в них испанцы не знали ни меры, ни такта; меня удивляло столь странное отношение высших властей провинции к молодому лейтенанту русского военно-морского флота.
Комендант Талькауано подполковник дон Мигуэль де Ривас тотчас же прибыл на борт «Рюрика» и пригласил нас вечером к себе. В Консепсьон был срочно направлен посланец, и вскоре появился адъютант губернатора-интенданта дона Мигуэля Мария де Атеро, а на следуюшее утро прибыл и он сам, дабы нанести лейтенанту Коцебу первый визит на борту корабля. Поскольку, с одной стороны, мы должны были салютовать испанскому флагу, а с другой — губернатору, возникло недоразумение относительно числа залпов для приветствия флага. По этому поводу начались переговоры с испанцами, и те поспешили пойти на уступки. Капитану на борт корабля была прислана почетная охрана из пяти человек и письмо, слова которого звучали по-испански весьма высокопарно и гордо, в то время как смысл был почти пресмыкательский. Перед отведенным капитану домом, где он разместил обсерваторию и с 16 февраля поселился вместе со мной, единственным из всего экипажа, был выставлен почетный караул.
Однако должен представить вам и военных. Вместо подробного описания достаточно сперва рассказать анекдот. Капитан искусно разместил коменданта и его офицеров за нашим плотно заселенным столом. Мы были хозяевами, они — нашими ежедневными гостями, которые очень редко заставляли себя ждать. Комендант дон Мигуэль де Ривас — мы называли его просто Фрондосо, потому что он очень любил напевать: «Nello frondoso d’un verde prado»[5], — не был приверженцем какой-либо политической партии, а был хорошим, веселым человеком, ставшим нашим преданным другом. Однажды, после того как убрали со стола, он хотел выйти из комнаты под руку с капитаном. Его телохранитель решил соснуть после обеда и устроился на пороге за дверью. Любопытно было, как поведет себя Фрондосо. Он подошел к спящему, посмотрел на него, добродушно улыбаясь, а затем осторожно и легко перешагнул и подал руку капитану, приглашая его выйти на улицу таким же способом, не нарушив покоя солдата.
Мы договорились с доном Мигуэлем де Ривасом отправиться 19 февраля в Консепсьон к губернатору с ответным визитом. Однако последний просил капитана отложить его до 25-го, чтобы он мог достойно подготовиться к приему почетных гостей. Порешили на том, что 19-го мы посетим губернатора с дружеским визитом, а 25-го он примет русского капитана с подобающими тому официальными почестями.
Тем временем дон Мигуэль де Ривас вновь пригласил нас на приятный вечерний прием и на бал. В Консепсьоне мы познакомились с первыми людьми провинции: епископом, превосходившим остальных тонким образованием и ученостью; доном Франциско де Ринесом, губернатором Вальдивии; доном Мартином ла Пласа де лос Рейесом и его семью очаровательными дочерями и другими. Я навестил достойного старого миссионера патера Альдая. Он много и охотно рассказывал о красноречивых арауканцах и подготовил меня к тому истинному наслаждению, которое мне предстояло испытать при чтении «Гражданской истории Чили» Молины{103}. Не думаю, что это произведение переведено на немецкий язык, но оно подобно творениям Гомера. Книга повествует о людях, находившихся примерно на том же этапе истории, и об их деяниях, достойных героического времени.
25 февраля при въезде в резиденцию нас приветствовали семью пушечными залпами. Губернатор дал в нашу честь торжественный обед, а вечером устроил блестящий бал. На ночь, как и в первый раз, нас разместили по квартирам, потому что дворец, резиденция губернатора, не был предназначен для иностранных гостей. Стол был богато сервирован, в избытке подавали мороженое.
Епископ, губернатор и капитан Коцебу сидели на почетных местах; епископу прислуживал священник. Под гром пушек и звуки труб произносились тосты. Некоторые из присутствующих выступали со стихотворными импровизациями; стремясь привлечь всеобщее внимание, они стучали по столу и кричали: «Bomba!»[6] Не могу назвать эти экспромты превосходными; выделялись лишь полнозвучные стихи епископа: в весьма удачных стансах он воспел Александра и Фердинанда, Био-Био и национального поэта Эрчиллу{104}.
Весьма забавный эпизод произошел с Хорисом. К одному из поданных блюд ему захотелось добавить уксусу, но на столе его не оказалось. Хорис никак не мог объяснить, что ему нужно. Я сидел поблизости и должен был перевести, но из памяти выпало нужное слово. То, что aceite означает не acetum[7], а «масло», мне было известно; я пытался, демонстрируя большую ученость, образовать испанское слово из oxys[8], но все усилия оказались напрасными. Невозможно было прервать злополучный разговор, приближались новые подкрепления; во главе стола уже почувствовали, что гостям на другом его конце чего-то не хватает и они никак не могут это выразить. Губернатор поднялся, за ним и епископ — потом встали все! Наконец, мне вспомнилось подходящее слово vinagr[9], послали за уксусом, и... река вошла в свои берега. Но когда принесли уксус, виновник этой суматохи уже съел блюдо, для которого тот требовался, и не захотел им воспользоваться.
Вечером на танцы собралось самое изысканное общество; многие дамы были очень красивы и, очевидно, старались произвести впечатление; мне понравилась утонченность их манер.
Капитан пригласил губернатора и все его окружение на ответный прием. Позднее было решено, что праздник состоится 3 марта.
27 февраля испанцы праздновали захват Картахены{105}.
29-го скончался от чахотки матрос — единственный, кто умер во время плавания. Капитан выразил желание похоронить его на общем кладбище по церковному обряду. Он сказал об этом нашему другу коменданту, но тот ответил весьма уклончиво, сказав, что это в компетенции духовных властей. От него зависят только воинские почести, и он готов их соблюсти. К счастью, капитан удовлетворился этим, и к назначенному часу явилась воинская команда, дабы сопровождать гроб. Казалось, весьма рискованно доверять порох этому сброду. Кое-кто из них разряжал ружья прямо во дворе, не особенно заботясь о том, куда стреляет. Наконец они присоединились к траурной процессии, и добрая воля властей была таким образом продемонстрирована. Когда на следующий день наши отправились на кладбище, чтобы установить на могиле сколоченный на корабле греческий крест, то увидели, что могила разорена; кругом валялись опилки, бывшие ранее в гробу. Капитан решил не поднимать шума. Позже, в беседе с доном Мигуэлем де Ривасом, я вспомнил об этом случае. Он ужаснулся злодеянию и даже отступил, крестясь, на два шага.
Настало 3 марта, и на корабле появились гости. Празднично одетые матросы перевозили их группами в шлюпках на борт для осмотра «Рюрика». Примыкающий к нашему дому сарай был украшен миртовыми ветвями и приспособлен под танцевальный зал, цветочное убранство коего наверняка вызвало бы восторг в Европе. Кроме того, он щедро освещался восковыми свечами, и это невиданное до сих пор в Чили роскошное освещение удивило собравшихся более всего остального. Cera de España! Cera de España! [10] Эти слова звучали повсюду, а когда мы покидали Чили, губернатор попросил у капитана в подарок кроме русской подошвенной кожи 10 фунтов восковых свечей. Хорис нарисовал два транспаранта, придавшие празднику еще большую торжественность: соединившиеся в рукопожатии руки и выведенные около них имена обоих монархов, лавровые венки, гений победы или славы с голубыми крыльями, парящий над Землей. Неудачная мысль изобразить Землю, как бы глядя на нее с Южного полюса, привела к тому, что мыс Горн получился в вертикальной проекции, на что я не мог взирать без стыда.
Мне показался вполне естественным вопрос, который нам часто задавали даже наиболее осведомленные гости: из какой гавани мы начали плавание — из Москвы или из Санкт-Петербурга? Вопрос же: «Изображает ли эта парящая в воздухе фигура императора Александра?» — был намного легче. Но пальму первенства следует отдать вопросу, поводом для которого послужил установленный на «Рюрике» бюст графа Румянцева из черной бронзы. Вопрос этот заслуживает упоминания хотя бы потому, что его задавали нам не только в Чили, но и в Калифорнии, где местный миссионер спросил: «Почему он такой черный? Разве граф Румянцев негр?»
Двор и сад были обильно освещены лампионами, для чего использовались раковины моллюска Concholepas peruviana, которого здесь употребляют в пищу. В саду устроили фейерверк. Столы расставили в нескольких тесноватых комнатах дома. Хор матросов и артиллерия «Рюрика» сделали свое дело. На празднике всем было очень весело, и гости остались весьма довольны. Недовольство выразили лишь любопытные зрители, с которыми у дверей пришлось выдержать неприятную маленькую войну. На другой день они наполовину разобрали крышу сарая только для того, чтобы взглянуть на то место, где был бал.
Я упомянул о моллюске Concholepas peruviana. Будучи в Чили, я лакомился им почти ежедневно, находя его очень вкусным. Для освещения нам привезли целую повозку этих раковин, и я собрал несколько пригоршней отборных экземпляров, а потом на «Рюрике» раздал добрую половину другим желающим, ибо все мы занимались собирательством. Лишь позже — не бросайте в меня за это каменья, друзья,— я узнал, что этот моллюск в то время был совершенно неизвестен и из-за него естествоиспытатели вели научные споры. Он почти не встречался в коллекциях и ценился очень дорого. Однако мне вовсе не хотелось связывать подобные вещи с денежными расчетами, и, поскольку все мои естественнонаучные коллекции я пожертвовал берлинским музеям, в выигрыше оказались они, а не я.
Наши гости из Консепсьона провели почти весь следующий день у друзей, предоставивших им кров, и Талькауано, по которому двигалась эта празднично разодетая толпа, выглядел непривычно оживленно. Группами разгуливали дамы и кавалеры, из всех домов неслись звуки музыки, а вечером во многих местах начались танцы. Мы с капитаном поздно вернулись домой, легли спать, но неожиданно под нашими окнами зазвучала музыка — гитара и пение. Раздраженный капитан поднялся, достал пиастры, чтобы ублажить нарушителей тишины. «Ради бога, не делайте этого! — вскричал я, ибо лучше разбирался в местных обычаях.— Это серенада! Здесь, вероятно, самые знатные из ваших гостей». Выглянув из окна, я узнал среди четырех молодых дам, которых сопровождал молодой человек, двух дочерей нашего друга Фрондосо. Мы быстро оделись, зажгли свет и пригласили ночных гостей зайти в дом. Далеко за полночь продолжались музыка, песни, танцы. Но что за танец исполняли юные дочери Риваса? О друзья мои! Знаете ли вы, что такое фрикассе? Нет, разумеется, не знаете. Вы слишком молоды для этого. Я познакомился с фрикассе в 1788–1790 годах в Бонкуре в Шампани. Тогда это был старинный народный характерный танец. Его танцевали уже немолодые люди, выучившиеся ему в молодости у стариков. С тех пор я лишь раз мимолетно вспомнил о фрикассе в Женеве, но со времен Бонкура знаю его во всех подробностях: встречаются два кавалера, приветствуют друг друга, беседуют, потом, поссорившись, дерутся и закалывают друг друга — и все это под мелодию, которую я спел бы вам, если бы только умел петь. Что же еще Танцевали девицы Ривас, если не фрикассе! На другой день, к вящему ужасу капитана, обнаружилось, что за фрикассе мы забыли о хронометре. Из-за сотрясений он заметно изменил свой ход.
Я присоединился к нашим ночным гостям, когда они покинули обсерваторию, и мы еще долго, веселясь и проказничая, бродили по улицам Талькауано. Стучали в окна молодым господам и офицерам, и одна из подруг, подражая беззубой старухе, обращала к неверному капризные, ревниво-нежные упреки, разыгрывая эти забавные сценки весьма талантливо. Мужчины, как правило, только ворчали, и никто нас не приглашал зайти, как пригласили мы девушек зайти к себе в обсерваторию.
«Рюрик» уже готовился к отплытию, когда 6 марта исчез Шафеха, вестовой капитана. Об этом дезертире опять пришлось вести переговоры с губернатором. Можно было предположить, что, спрятавшись в каком-нибудь укромном уголке, он появится не раньше, чем «Рюрик» выйдет в море. Меня буквально охватил ужас, когда губернатор Консепсьона дон Мигуэль Мария де Атеро вручил мне гарантийное письмо, в котором черным по белому значилось, что, если беглец будет пойман, его арестуют и доставят в Санкт-Петербург для наказания. Разумеется, здесь было обещано больше, чем можно было сделать; но каково обещание!
Разве азиат, мусульманин-татарин, находясь на краю света, в другом, западном мире, в Южном полушарии, не может не страшиться шпицрутенов своих североевропейских, греко-католических тиранов? Разве римско-католическая Испания еще и здесь, в Новом Свете, на границе со свободными арауканами, должна выступать в роли палача по отношению к русским?
При таких переговорах я с моим французским, которым владел превосходно, и испанским, выученным мною настолько, чтобы читать «Дон Кихота» в подлиннике, был полезен капитану, которому помогал из чувства благодарности. И это было замечательно. Но скажу о последних сведениях, которые мы получили о дезертире. По возвращении в 1818 году в Лондон капитан узнал, что Шафеха сам, как раскаявшийся грешник, явился в русское посольство в Англии и просил выдать ему паспорт для поездки в Петербург. Однако из-за канцелярской волокиты паспорт нельзя было выдать немедленно, а проситель не настаивал на ускорении дела.
Возможно, история одной свиньи — не могу не рассказать о ней здесь — покажется заманчивой какому-нибудь новеллисту, и должным образом разукрасив и расширив, он занесет ее в свою записную книжку. Во всяком случае, лучше истории и не придумаешь. В Кронштадте на борт погрузили молодых свиней весьма мелкой породы для офицерского стола. Матросы в шутку назвали их своими именами. Злая судьба настигала то одну, то другую, и, подобно спутникам Одиссея, матросы видели, как поочередно убивают и съедают их тезок-животных. Только пара свинок проплыла мимо африканских островов и Бразилии, мимо мыса Горн и добралась до Чили; среди них была и маленькая свинья по кличке Шафеха. Она пережила своего патрона на борту «Рюрика». Свинью Шафеху, которую в Талькауано высаживали на берег, вновь погрузили на борт; она проплыла вместе с нами Полинезию и благополучно прибыла на Камчатку. В Азии она принесла первенцев, которых зачала в Южной Америке. Поросят съели, а их мать направилась с нами дальше на север. В то время она уже пользовалась правом гостя, и нечего было и думать о том, чтобы ее заколоть, разве лишь когда наступит голод, а в таких случаях, бывает, и люди поедают друг друга. Но наши честолюбивые матросы, ревностно относившиеся к почетному званию кругосветного путешественника, уже ворчали по поводу того, что животное, свинья, так же как они, будет пользоваться славой и почетом. Со временем это недовольство становилось все более угрожающим. Так обстояли дела, когда «Рюрик» вошел в гавань Сан-Франциско (Новая Калифорния){106}. Здесь вокруг свиньи Шафехи начали плести интриги; обвинили ее в том, что она напала на собаку капитана, несправедливо осудили и закололи. Ее, видевшую пять частей света, закололи в Северной Америке в гавани, которая была объята миром и покоем. Она пала жертвой пагубного соперничества людей.
После того как я в связи с Шафехой рассказал о свиньях, хочется поведать и о мелких заботах, выпавших на корабле на долю ученого. В Бразилии мой набитый мхом матрац промок под дождем и так сопрел, что пришел в полную негодность. Нечего было и ждать помощи от матросов, которые повиновались только своим офицерам, но даже их обслуживали неохотно, зато с радостью шли на вахту и несли морскую службу. В Чили, где я был в более близких отношениях с капитаном, я улучил момент и пожаловался ему, «патушке», батюшке, на огорчения, которые доставлял мне матрац, и он приказал своему Шафехе позаботиться обо мне. Вместе с Шафехой исчезли надежды на матрац, о котором никто не вспомнил, да и я больше не заговаривал. Единственное, чем я был обязан матросам «Рюрика» за все время путешествия, это пустым местом вместо матраца на моей койке.
В эти последние дни и нашему бестолковому повару взбрело в голову остаться в Талькауано. Чтобы удержать его от такого шага, наш друг дон Мигуэль де Ривас прочел ему с испанским достоинством длинное наставление, употребляя при этом обращение «usted» (обычное «ваша милость»), и рассказал множество прекрасных вещей; глупец не понял ни слова, но тем не менее отказался от своего намерения.
На эти чилийские картинки, которые я попытался вам нарисовать, хотелось бы тонкой гравировальной иглой нанести еще две фигуры.
Первая: дон Антонио, долговязый, тощий, живой итальянец, обеспечивавший нас, будучи поставщиком, всем необходимым — лошадьми и другим, что нам требовалось; он горячо и дельно всюду встревал, бессовестно всех надувал, где только можно, и дабы снискать наше расположение, непрерывно бранил испанцев. Самым большим горем для дона Антонио было то, что он не умел ни читать, ни писать, а это весьма пригодилось бы для его двойной бухгалтерии.
Вторая: бедный парень, я думаю, кабатчик, у которого наши матросы пили вино, приводившее их в состояние, близкое к безумию. Этот человек лез ко мне со всякими любезностями и маленькими подношениями, пока наконец нерешительно не изложил свое дело. Поляк по рождению, он совершенно забыл родной язык и думал, что я, русский, с которым он может объясняться и по-испански, соглашусь обучать его забытому польскому языку.
Самым большим наказанием, которому подвергались матросы на «Рюрике», было, насколько я сам видел, наказание палками, производившееся двумя унтер-офицерами. Капитан допрашивал, выносил решение, и экзекуция производилась в его присутствии. При этом он не советовался с другими офицерами. Такие экзекуции бывали редко; обычно после них капитан удалялся в свою каюту и приглашал врача. Упоминаю об этом потому, что в Чили для подобной надобности были нарезаны миртовые палки.
Мы приняли на борт (не помню, было ли это подарком губернатора) вино из Консепсьона, напоминавшее сладкие испанские вина. Наш прежний запас иссяк, новый был весьма желателен. Погрузили и несколько овец. Все было готово к отъезду. Мы поднялись на корабль, а за нами прыгнула маленькая уродливая собачка, которая привыкла к нам за это время. У нее была кличка Валет.
Прежде чем покинуть этот берег, процитирую несколько строк из письма, которое написал другу{107} на родину из Талькауано. В них запечатлено настроение, владевшее мною в те мимолетные часы:
«Гектор, ты теперь мой отец и любящая мать, а также мой единственный брат.
Ты ведь знаешь, что благодаря тебе Берлин стал для меня и родиной, и тем центром моего мира, откуда я отправился в кругосветное странствие и куда, усталый, я вернусь в свое время, если на то будет воля божья, чтобы отдохнуть рядом с тобой. Добрый мой Эдуард, в плавании живешь так же, как и дома. Очень скучно при шторме, когда человек от долгой качки и тряски не способен ни на что, кроме как спать, играть в дурака (по-немецки — в баранью голову) и рассказывать анекдоты (в коих я оказался более неистощим, чем предполагал). Чувствуешь себя весьма несчастным и подавленным, если сталкиваешься с подлостью; радуешься, когда сияет солнце; полон надежд при виде земли; а на земле вновь горишь желанием ее покинуть. Взгляд неотступно устремлен в будущее, которое, как и настоящее, проносится над головой. К смене картин природы привыкаешь, как привыкаешь к чередованию времен года у себя дома. Полярная звезда зашла, как это когда-нибудь случится и с нами; холод идет с юга, а зенит располагается на севере; под рождество танцуешь в апельсиновой роще. Что же это может означать, как не то, что ваши поэты рассматривают мир через горлышко бутылки, в которую они заключены. И мы это хорошо понимаем. Поистине ваши юг и север, весь наш натурфилософско-поэтический хлам превосходно воспринимается именно там, где в зените стоит Южный Крест. Бывают дни, когда я говорю себе, своему бедному сердцу: ты глупец, что так бездумно слоняешься по свету! Почему ты не сидишь дома и не изучаешь что-либо стоящее? Ты похваляешься, что любишь науку? И это тоже обман, ибо каждую секунду всеми порами я впитываю в себя новые впечатления; и даже если оставить науку в стороне, мое путешествие надолго даст нам пищу для разговоров, когда старые анекдоты уже иссякнут. Прощай».
Из Чили на Камчатку
Здесь начинается, если можно так выразиться, исследовательский этап экспедиции на «Рюрике». Мы отплыли 8 марта 1816 года из бухты Консепсьон и 19 июня прибыли в Авачинскую бухту. За три месяца и одиннадцать дней мы лишь однажды, да и то на короткое время, бросили якорь у острова Пасхи, только дважды — на этом острове и на острове Румянцева [Тикеи] — мы ненадолго ступили на сушу, нам лишь бегло удалось поговорить с жителями островов Пасхи, Пенрин [Тонгарева] и Радак [Ратак], да и видели мы только то, что перечислено выше. В поле зрения не было ни одного европейского парусника; только 18 июня вечером близ побережья Камчатки, при входе в Авачинскую бухту, мы встретили первое судно, напомнившее, что на свете есть и другие подобные нам существа.
На путях, пересекающих этот огромный водный бассейн, движение не столь оживленно, как в Атлантическом океане; здесь не видно берегов, к которым могла бы устремиться мысль мореплавателя; однако Пролетающие морские птицы и другие признаки суши зачастую позволяют ему думать о близости островов, и он не чувствует себя затерянным в безбрежных просторах. Суда, следующие одно за другим, встречаются, как правило, лишь у гаваней Сандвичевых [Гавайских] и других островов, служащих им сборными пунктами. Во время нашего долгого плавания мы избегали торговых путей и, двигаясь по затерянным следам прежних мореплавателей, старались пролить свет на некоторые, вызывающие сомнение положения гидрографии. Этот отрезок нашего путешествия, один из самых важных с точки зрения деяний капитана Коцебу, занимает довольно много места в его путевых записках, и поэтому здесь ему будет посвящено лишь несколько страниц. То, что мне хотелось рассказать о виденных нами островах и с людях, с которыми мы встречались, я сообщил в моих «Наблюдениях и замечаниях» и подробно изложил там, в частности, в разделах «Общий обзор» и «Радак» свои суждения о геогностических особенностях Низменных, или Коралловых, островов [Туамоту], к которым относятся все упоминаемые здесь географические объекты, кроме островов Пасхи и Сала-и-Гомес. Что же касается вопросов навигации и географии, то здесь я должен сослаться на Отто Коцебу, а также на Крузенштерна, в произведениях которого дана критическая оценка открытий экспедиции «Рюрика» в Южных морях.
Приходится сожалеть о том, что немецкое издание описания путешествия О. Коцебу изобилует столь многими неточностями и погрешностями, что содержащиеся в тексте цифры и величины никак нельзя считать достоверными. Если сравнить указания широт и долгот, приведенные в тексте описания, с теми, что даны в метеорологических таблицах, то обнаруживается, что в описании не только зачастую опущены секунды, но п сами градусы приведены неточно. Таблица «Аэрометрические наблюдения» (т. 3, с. 221), по-видимому, более правильна, чем текст, и может служить для уточнения данных полуденных наблюдений с 18 июля 1816 года по 13 апреля 1818 года, на пути от Камчатки до Св. Елены, а также сохраняет значение и для последующей части пути с 5 по 24 ноября 1817 года между островами Радак и Марианскими через Каролинские острова. Например, в тексте (т. 2, с. 125) для 20 ноября 1817 года указана широта 10°42', что, очевидно, ошибочно, а в таблице (с. 226) 11°42'29", и это более точно. Для того этапа путешествия, который нас сейчас интересует, подобной таблицы нет. Достойно сожаления, что капитан Коцебу не приложил к своему описанию извлечений из судового журнала. Жаль также, что в описании он не поместил многих карт и планов, которые хотелось бы здесь видеть и за которые ему благодарна гидрография. Между тем Крузенштерн (т. 2, с. 160) позаимствовал из этих источников планы гаваней Гана-руру [Гонолулу] на Ваху [Оаху] и Ла-Кальдерона-де-Апура на Гуахаме [Гуаме]. Можно также сожалеть, что Коцебу не воспроизвел инструкции, полученные им от организатора экспедиции{108}, хотя и он сам, и Крузенштерн неоднократно на них ссылаются. Приходится опять-таки выразить сожаление и по поводу того, что О. Коцебу не сохранил результаты барометрических наблюдений, которые в течение долгого времени проводились на судне в определенные сроки.
Те указания широт и долгот, высот гор и т. д., которые капитан сообщал мне во время плавания, всюду не согласуются с теми, которые приведены в его книге. Поэтому я пользуюсь последними, за исключением тех случаев, где могу подозревать описку или опечатку.
Прошу извинить меня за это отступление. Теперь я бегло прослежу на карте курс «Рюрика», а потом добавлю кое-что о событиях нашего плавания.
Мы поплыли на север, оставив остров Хуан-Фернандес с подветренной стороны, то есть с запада, а затем, достигнув 27° южн. широты, направились к западу. 25 марта мы увидели голые скалы Сала-и-Гомеса (26°36'15" южн. широты, 105°34'28" зап. долготы) и 28 марта оказались у острова Пасхи. Оттуда продвинулись несколько далее к северу и 13 апреля достигли 15° южн. широты и примерно 134° зап. долготы. По этой параллели мы следовали на запад по следам Ле-Мера и Схоутена{109} по очень опасному району, изобилующему низкими островами и банками, на которые можно было натолкнуться, не заметив их. Зачастую приходилось лавировать всю ночь, вовсе не двигаясь вперед, отчасти для того, чтобы избежать опасности, а отчасти чтобы не упустить ни одного клочка суши. Во время этого перехода Маркизские острова остались к северу от нас, острова Товарищества [Общества] — к западу и к югу. Примечательно, что, начиная от острова Пасхи и до экватора, нас сопровождал большей частью северный и северо-восточный ветер, тогда как, по нашим расчетам, в этой области пассатов следовало бы встретиться с юго-восточными ветрами. Часто налетали порывы ветра, лил дождь, сверкали молнии.
16 и 17 апреля. Остров Сомнительный [Пукапука]. Широта — 14°50'11'' южн., долгота — 138°47'7'' зап.
20-го был открыт остров Румянцева, и 21-го мы высадились на нем. Широта его — 14°57'22" южн., долгота — 144°28'30'' зап. Это единственный из названных островов, где päcтeт кокосовая пальма; на других — лишь скудная растительность. Широкое белое побережье придает островам сходство с песчаными банками, за которые их и принимали прежние мореплаватели, удивляясь тому, что в непосредственной близости от них лот не доставал дна. Они никогда не упускали случая отметить это обстоятельство.
22 апреля — остров Спирндова [Такапото] — широта 14°51'00" южн., долгота 144°59'20" зап.
23-го вблизи открытых Куком Паллизеровых островов [Паллисер] — островная цепь Рюрика, от которой мы направились на юг. Она находилась между 15°10'00" и 15°30'00'' южн. широты и 146°46'00'' зап. долготы. Насколько далеко она простирается на cевер, установить не удалось. На юго-юго-востоке видели землю, но не исследовали ее.
24-го и 25-го была отмечена цепь Динc [Рангироа] (южная оконечность — в направлении северо-запад 76° и юго-восток 76° между 15°22'30'' и 15°00'00'' южн. широты и 147°19'00" и 148°22'00" зап. долготы).
25-го — острова Крузенштерна [Тикахау], центр группы — 15°00'00'' южн. широты, 148°41'00'' зап. долготы.
Оттуда мы изменили курс в северном направлении, разыскивая различные сомнительные острова, которые так и не находили. Затем поплыли к островам Пенрин и увидели их 30 апреля, а 1 мая встретились с их обитателями в море. По определению капитана, центр группы имеет координаты 9°1'35'' южн. широты и 157°34'22'' зап. долготы. Когда мы покидали эти острова, разразилась сильная буря.
Теперь частые штили сменялись порывами ветра, сопровождавшимися ливнями. 11 мая «Рюрик» вторично пересек экватор у 175°27'55'' зап. долготы.
19 и 20 мая мы посетили северные острова группы Малгрейв, а 21-го, идя на север, впервые увидели, к нашей радости, северные острова группы Радак — Удирик [Утирик] и Теги [Тика]. Об этих островах с милыми обитателями, коих мы встретили впервые, речь пойдет дальше. Пролив между обеими группами имеет координаты 11°11'20'' сев. широты и 190°9'23'' зап. долготы.
От Радака мы взяли курс почти прямо на север, к Камчатке. У 33° сев. широты началась область северных туманов; небо и море утратили свою голубизну. 13 июня на широте 47° сев. корабль настигла буря и появились льды. 18 июня в 4 часа пополудни туман рассеялся, и перед нами открылся вход в Авачинскую бухту.
Уже в Чили капитан поручил наблюдение за физическими и метеорологическими приборами доктору Эшшольцу.
Перед входом в бухту Консепсьон нам тоже доводилось видеть море с пятнами красноватого цвета. Это явление более отчетливо повторилось в первые дни нашего плавания к северу вдоль побережья Южной Америки. Красящий элемент, очень мелкий и распыленный, нельзя было распознать так, как, например, водоросли или инфузории в Атлантическом океане. Я не смог ничего различить в воде, которую подняли на палубу, и даже сомневался, действительно ли ее взяли из окрашенного участка.
9 марта, в день, когда мы проводили подобные наблюдения, мимо нас проплыла туша кита, на которой сидели и кормились бесчисленные стаи птиц (род Procellaria?){110}. Может быть, окраска моря была вызвана этой гниющей массой?
Киты, которых часто можно наблюдать в бухте Консепсьон, где их в то время видели лишь американцы, сопровождали нас еще какое-то время. Лишь когда северные киты будут достаточно изучены и описаны, можно будет надеяться сравнить их с южными.
10-го в 6 часов вечера капитану показалось, что воздух как-то странно сотрясается и судно немного дрожит. Шум, который он сравнивал с отдаленными раскатами грома, повторился приблизительно через 3 минуты; потом он больше ничего не замечал. Другие ощутили подобное сотрясение в ночь на 11-е, а затем днем. Мы забеспокоились, не произошло ли в этой, так гостеприимно встретившей нас стране землетрясение, не стала ли она ареной ужаса и разрушения? Впрочем, наши опасения не подтвердились.
В Чили наш корабль атаковали несметные полчища блох; если бы они размножились, это сулило бы большие неприятности. Но поскольку мы плыли навстречу солнцу, они начали мало-помалу исчезать, а скоро мы от них и вовсе избавились. В Северном полушарии, когда мы плыли от Калифорнии к Сандвичевым островам, в сходных условиях повторилось то же самое.
Но вместо блох появились другие паразиты, с которыми нам прежде не доводилось встречаться в море, и во время плавания в поясе тропиков они быстро размножились. Я имею в виду тараканов (Blatta germanica){111}, пользующихся у русских священным правом гостеприимства. Позже они стали для нас ужасным бедствием. Тараканы не только уничтожили весь наш запас сухарей, но и принялись грызть все, даже кусали людей во время сна. Иногда они заползали в ухо спящему, причиняя ему невыносимую боль. Доктор часто вливал в ухо пострадавшего масло, что весьма помогало.
16 марта на удалении более 17° (примерно 1000 миль) от ближайшего участка американского побережья была замечена летящая птица, которую приняли за бекаса{112}.
24-го мы увидели первую тропическую птицу. Не могу преодолеть искушения назвать этот великолепный воздушный парусник райской птицей.
Утром 25-го ветер с Сала-и-Гомеса принес множество морских птиц — пеликанов и фрегатов,— что говорило о близости излюбленного места их гнездования, которое мы миновали в полдень.
Радостным был день 28 марта 1816 года. Мы познакомились с людьми чудесного племени, и сбылись впервые прекрасные мечты нашего плавания! Я искренне обрадовался, когда из моря поднялась высокая вершина острова Пасхи, покрытая красивой зеленью. На склонах раскинулись разноцветные поля, вероятно хорошо возделанные, с холмов поднимался дым. Подойдя ближе, мы увидели на побережье залива Кука людей; две лодки (казалось, больше у них не было) отделились от берега и направились нам навстречу. Я радовался, как ребенок, и был уже достаточно взрослым, чтобы радоваться тому, что еще могу так радоваться. Короткие мгновения высадки, когда нас окружили эти подобные детям шумливые люди, прошли как в чаду. Все железо — ножи, ножницы — все, что взял с собой, я скорее раздарил, чем обменял, а взамен, даже не знаю зачем, получил тонкую красивую рыбачью сеть.
Подозрительный прием части островитян я описал в «Наблюдениях и замечаниях», что можно сравнить со сведениями, данными Коцебу и Хорисом. Я лишь наметил предполагаемые причины почти угрожающего настроения островитян. Капитан Коцебу сам рассказал эту историю, я же воспроизвожу ее здесь с его слов.
Ее можно найти на с. 116 первого тома его описания путешествия{113}.
«Считаю нужным сообщить здесь читателям известие, полученное мной впоследствии на Сандвичевых островах от Александра Адамса и объясняющее причины неприязненного обращения островитян. Капитан шхуны „Нанси“ из Нью-Лондона в Америке (имени которого мне Адамс не сказал) занимался в 1805 году на необитаемом острове Мас-а-Фуэро ловлей морских котиков. Меха этих животных имеют высокую цену в Китае, поэтому американцы стараются отыскивать их во всех частях света. Но так как у этого острова нет удобного якорного места и корабль должен был оставаться под парусами, а капитан не имел достаточной команды, чтобы отделить часть ее для ловли котиков, то он решил отправиться к острову Пасхи, намереваясь там похитить мужчин и женщин, перевезти их на Мас-а-Фуэро и основать тут колонию, исключительным занятием которой была бы ловля морских котиков. Это злодейское мероприятие он совершил в 1805 году: в Куковом заливе вышел на берег и старался захватить некоторое количество островитян. Сражение было кровопролитное, ибо храбрые островитяне неустрашимо защищались, но были принуждены покориться страшному европейскому оружию: 12 мужчин и 10 женщин попали в руки бессердечных американцев. Несчастные были посажены на корабль и заключены в оковы, доколе земля не скрылась из виду. Когда же через три дня оковы с них были сняты, то первым делом все мужчины бросились в воду; женщины хотели последовать за ними, но были удержаны. Капитан немедленно приказал лечь в дрейф, надеясь, что дикари, побоясь утонуть, вернутся на корабль; но он вскоре понял свое заблуждение, так как этим людям, с молодости привыкшим, так сказать, жить в воде, казалось возможным достигнуть своей отчизны, несмотря на трехдневное расстояние; во всяком случае, они предпочитали смерть мучительной жизни в плену. Поспорив между собой о пути, они разделились: одни поплыли прямо к острову Пасхи, а другие направились к северу. Капитан, раздраженный этим неожиданным геройством, послал вслед за ними шлюпку, которая, однако, возвратилась без успеха, ибо, как только она приближалась к пловцам, они ныряли. Наконец капитан оставил этих людей на произвол судьбы, женщин же привез на остров Мас-и-Фуэро и часто еще возобновлял свои попытки похищать людей с острова Пасхи. Адамс, которому капитан сам рассказывал это происшествие и имя которого он, вероятно, не хотел мне сказать, уверял меня, что сам в 1806 году был у острова Пасхи, но не мог пристать к берегу из-за враждебного отношения жителей. Так же случилось в 1809 году, по словам Адамса, с кораблем „Альбатрос“ под командой капитана Виндшипа».
Пользуясь случаем, выскажу здесь слова решительного протеста против употребления термина «дикари» применительно к жителям островов Южного моря [Тихого океана]. Я всегда стараюсь связывать те или иные понятия со словами, которые использую. Дикарем я называю человека, не имеющего постоянного местожительства, не занимающегося ни охотой, ни скотоводством, владеющего лишь оружием и добывающего себе пропитание охотой. Если и можно винить жителей островов Южного моря в испорченности нравов, то, как мне кажется, она свидетельствует не о дикости, а скорее о переизбытке цивилизации. Различные изобретения, такие, как монеты, письменность и т. д., по которым можно судить, на какой ступени цивилизации находятся народы нашего континента, здесь, в иных условиях, уже не могут служить мерилом для этих групп людей, живущих без вчера и сегодня, лишь данным моментом и вкушающих его на обособленных островах под благодатным небом.
Вблизи суши как будто больше летучих рыб; по крайней мере две их разновидности мы видели в Великом [Тихом] океане. Много таких рыб встречалось у берегов острова Пасхи.
В ночь на 1 апреля мы пересекли Южный тропик; 3-го видели фрегата, 7-го и 13-го был штиль. Именно здесь, наблюдая морских червей, доктор Эшшольц, к своей радости, открыл настоящее морское насекомое. Оно может быть сравнимо с нашей обычной палочковидной водомеркой (Hydrometra rivulorum F.), так же передвигается и скачет по поверхности воды; встречается во всех морях в поясе тропиков.
15-го видели много морских птиц — фрегатов и пеликанов; из-за нескольких резких порывов ветра ночью мы совсем не смогли продвинуться. Небо заволокло черными тучами, хлестал сильный дождь, во всех направлениях сверкали молнии.
16-го днем раздался возглас: «Земля!» Все были радостно возбуждены. Напряжение еще более усиливается, когда как бы сама по себе, можно сказать, а не но воле мореплавателя на зеркально ровной поверхности появляется и постепенно разворачивается перед вами суша. Взор жадно ищет дыма, развевающихся флагов, которые как бы дают знать человеку, что его ищет человек. Когда видишь поднимающийся кверху дымок, начинается странное сердцебиение. Но те печальные рифы, которые мы увидели на этот раз, скоро перестали представлять интерес даже для простого любопытства.
20-го было решено сделать попытку высадиться на маленький, густо поросший пальмами остров Румянцева, и этот час стал для нас большим праздником. Капитан приказал лейтенанту Захарьину обследовать место высадки, а мне и матросу — сопровождать его. Полный радости и надежд, я сел в лодку, и мы отчалили. Мы подплыли совсем близко к острову, от берега нас отделяла лишь полоса пенящегося прибоя. Смелый матрос поплыл с веревкой к берегу. Он пошел вдоль него, увидел следы человека, скорлупу кокосовых орехов, проторенные тропы; пробрался сквозь заросли, сорвал зеленые ветки и вернулся к веревке. Захарьин показал мне рукой на остров и спросил: «Ну как, Адельберт Логинович, не хотите ли и вы попробовать?» Думаю, что никогда прежде меня не охватывало столь мучительное чувство. Пишу об этом ради собственного уничижения. То, что сделал матрос, я повторить не смог. Матрос приплыл, и мы направились к кораблю. Выслушав наш доклад, капитан приказал сколотить плотик из всего имеющегося на борту «Рюрика» свободного дерева. На следующий день мы опять поплыли к острову и с плотика поодиночке сошли на берег, где нас обдало пенистой волной. Мы бодро прошли через лес и, обследуя остров, замечали следы людей, шагали по проторенным тропинкам, осматривали покинутые хижины, служившие им кровом. Чувства, охватившие нас, я сравнил бы с теми, что возникают при посещении жилища хотя и не близкого, но дорогого нам человека; такое я испытывал в летнем домике Гёте, находясь в его кабинете.
В «Наблюдениях» я писал, что на этом острове не было постоянных жилищ и что, по-видимому, его посещали лишь пришельцы с других, неизвестных нам островов.
Этот день — пасхальный праздник русских— был торжественно отмечен на «Рюрике» пушечными залпами. Команда получила двойную порцию спиртного. Для тех, кто оставался на судне, мы привезли несколько кокосовых орехов. Чтобы достать их, пришлось прибегнуть к помощи топора. Зрелище это буквально разрывало мне сердце; в наказание, правда, мы забыли на острове топор.
Вблизи Низменных островов, изучением которых мы занимались в последующие дни до 25 апреля, морские птицы встречались редко, зато летучих рыб было много. Однажды мне довелось там увидеть плывущую морскую змею.
Давно уже у нас не было свежей пищи; 28-го впервые стали выдавать воду по норме. Порции были вполне достаточные; я расходовал их даже не полностью, а в случае необходимости обходился и морской водой. Во время своих пеших экскурсий я не раз без отвращения и ущерба для здоровья пил ее, однако не могу сказать, что она утоляла жажду лучше, чем пресная. Частые ливни, которые особенно освежали нас в Южном полушарии, давали желанную возможность запастись свежей водой, для чего была приспособлена и наша палатка. Эта свежая, чистая вода — настоящее наслаждение. К сожалению, в наших запасах воды изобиловали посторонние примеси. 4 мая шел такой сильный дождь, что нам удалось собрать двенадцать бочек волы.
Мне нечего добавить к тому, что я написал в «Наблюдениях и замечаниях» об островах Пенрин, которые мы увидели 30 апреля, а на следующий день познакомились с их обитателями. Подобный день се всеми его событиями — это яркий луч света в однообразной корабельной жизни, оживляющий ее монотонное течение. Если я вновь стану описывать радость, которую мы тогда испытали, то вызову у читателя скуку, от которой нам удалось избавиться. Мы даже испытали на этот раз чувство восторга, что не было результатом только первого впечатления. Нигде я не видел таких красивых пальмовых рощ, как на островах Пенрин. Между высоким, колеблющимся на ветру куполом из крон и землей, а также между стволами виднелись небо и необъятная даль. Казалось, низких кустов и земляных откосов, ограждающих и защищающих обычно такие острова, и вовсе нет. Нас окружили островитяне. Их было довольно много. Они производили впечатление людей сильных, не знающих недостатка в пище, настроенных мирно и уверенных в своем оружии, хотя и незнакомых с нашим. В каждой лодке, как нам показалось, сидела семья во главе со старейшиной. Они получили от нас ценный металл — железо и, когда мы стали собираться в дорогу, с трудом расстались с нами.
В последующие дни штили чередовались с порывами ветра. 4 мая приблизительно на 7°30'' южн. широты нас встретил настоящий северо-восточный пассат. Попадалось множество морских птиц, которые утром летели против ветра, а после захода солнца — по ветру. Не раз мы ловили маленьких крачек (Sterna stolida). Некоторых отпустили, написав на пергаментном кольце название корабля и дату поимки. В этих дальних морях экипажам кораблей приятно будет встретить таких посланцев. И нам на «Рюрике» довелось в Китайском море поймать пеликана, выпущенного с нашего спутника «Эглантины», где его окольцевали.
11-го мы пересекли экватор. 12-го видели множество морских птиц и одну сухопутную. Впервые удалось загарпунить дельфина. Это было желанное блюдо. Мясо у него черное, сочное, пахнет землей, невкусное, но не отдает рыбьим жиром. Однако хотелось бы воздать хвалу и акуле, и дельфину: они попадаются именно тогда, когда бывает не до придирок.
19 мая у островов Малгрейв господствующий ветер неожиданно встретился с противоположно направленным ветром; шквал спутал паруса и порвал много снастей. Одна из них ударила капитана по голове, и он, оглушенный, упал на палубу. Это столь напугавшее нас происшествие, к счастью, не имело последствий.
21-го мы открыли атолл, лишь кое-где покрытый скудной растительностью; торчало несколько кокосовых деревьев. 22-го с этого атолла к нам направились, лавируя против ветра, две изящные лодки. Сидевшие в них нарядные люди весьма привлекательного вида приглашали нас высадиться на острове, но, сознавая свою слабость и нашу силу, не решались подойти поближе. С «Рюрика» спустили шлюпку, в которую сели Глеб Семенович, Логин Андреевич и я. Мы поплыли навстречу островитянам. Но нам так и не удалось внушить им доверие. Они бросили подарки — красивую циновку и плод пандануса{114}, а затем быстро удалились в сторону острова, жестами приглашая следовать за ними. Это были радакцы. После первой встречи они расстались с нами, не получив ответных подарков.
Плывя по курсу на север, 27 мая мы наблюдали солнце в зените, а 28-го пересекли Северный тропик, проведя, таким образом, 42 дня к югу от экватора и 12 дней к северу от него в жарком поясе. Мы двигались навстречу родным звездам; впереди поднималась Большая Медведица, а позади опускался Южный Крест.
2 и 3 июня, несколько южнее, чем обычно указывают местоположение островов Рика-де-Плата и Рика-де-Оро, приблизительно на широте острова Меарн мы увидели приметы суши. 3 июня утром на корабль опустился маленький бекас. Птицу покормили тараканами. В море плавали деревья и водоросли. Вода была очень мутная, но лот, опущенный на глубину 100 футов, не достал дна.
Становилось все холоднее. Нас окутал северный туман. Он оседал на снастях и тягучими, как смола, ручьями стекал с них. С первых дней июня на широте Гибралтара начали отапливать помещение, а в середине месяца, прежде чем корабль достиг широты Парижа, на борту появился лед. Море, которое в поясе тропиков было темно-ультрамаринового цвета, здесь стало темно-зеленым и не просматривалось в глубину. Предметы, окрашенные белой краской, там были видны на глубине 16 футов, тут — всего на глубине 2 футов. Чем дальше на север, тем больше встречалось в воде плавника.
4 июня загарпунили еще одного дельфина, принадлежащего к малоизвестному нам виду; их здесь весьма много. Дельфины одной стаи, резвившиеся вокруг «Рюрика», отличались от дельфинов других стай по цвету, очертаниям и размерам.
6-го на море появились красные пятна. Это были скопления маленьких рачков; вода буквально кишела ими.
С тех пор как был взят курс на север, наши желания и помыслы, обгоняя корабль, устремились к берегу, где мы надеялись получить письма с родины. Мы начали просматривать свои дневники, готовить к отправке бумаги, писать письма родным и близким. Побуждаемый шуткой капитана, я написал из северного района Великого океана, обозначенного соответствующей широтой и долготой, распоряжение отправить государственному советнику Коцебу корзину шампанского. Вино было отправлено и дошло до адресата.
Прилетевшая 17 июня маленькая птица (Fringilla){115} возвестила близость земли, которую мы увидели на другой день,— большие горы с острыми зубцами, за которыми в глубине поднимались более высокие конусы вулканов. Снег покрывал вершины не равномерно, как в наших Альпах, а пятнами или полосами по склонам гор и спускался глубоко в долины. 18 июня, а так много снега!
19-го мы вошли в красивую широкую Авачинскую бухту [Авачинскую губу]. С вершины горы, которая образует северный выступ внешних ворот, о нас по своеобразному телеграфу сообщили в город Св. Петра и Павла [Петропавловск-Камчатский]. Оттуда навстречу нам выслали бот-буксир. При попутном ветре через узкий пролив мы вошли в бухту, где ветер тотчас утих. Когда нас отбуксировали в гавань, наступила ночь. Нестерпимая вонь от рыбы возвестила близость города. Установка для сушки рыбы — хлеба насущного для этого северного края — расположена на косе, ограничивающей внутреннюю гавань.
Здесь, в городе Св. Петра и Павла, я впервые вступил на русскую землю; тут должно было состояться мое первое знакомство с Россией.
О нашем прибытии уже сообщили; нас ожидали и знали по именам. Об этом было напечатано в газетах. А что же в таком городе еще делать, как не читать газеты! Прием соответствовал нашим ожиданиям. Мы внесли оживление в застоявшуюся жизнь, и, казалось, в этом уголке земли наступил день, непохожий на все обычные. Мы были земляками, встретившимися в глухом месте, так далеко от сердца родины, как хозяева и гости.
Губернатор лейтенант Рудаков позаботился о корабле, у которого сильно пострадала медная обшивка, и отдал нам медные листы с «Дианы». После плавания в Японию Головнин{116} оставил это судно, уже непригодное для дальнейшего использования, в здешней гавани. Капитан Коцебу переехал на берег, и начались праздничные обеды и торжественные приемы, как их могли устраивать на Камчатке. Порадовала нас и русская баня. Это самое первое и, наверное, самое приятное, что может предложить русское гостеприимство. Во время плавания матросы ставили для себя банную палатку, когда в этом возникала потребность. Только под более солнечным и теплым небом можно было обойтись без бани.
22 июня на «Рюрике» был устроен ответный прием, а вечером мы ужинали у губернатора. В воскресенье 23-го после посещения церкви стол был накрыт у нас.
30-го был торжественный обед у коменданта, где пировали под гром пушек. Вино, правда, нельзя было назвать превосходным. Многочисленное общество состояло сплошь из русских. По английскому обычаю, который в большей или меньшей степени соблюдается повсюду, где побережье омывают соленые морские воды, каждый должен был чокнуться со всеми и все — с каждым из нас; на этот акт вежливости следовало ответить тем же, и поэтому пришлось осушить немало бокалов. Когда мы встали из-за стола, нам предложили познакомиться с местным транспортом и съехать на санях в собачьей упряжке с зеленого склона холма: в долинах снег уже растаял. Никто из нас не смог удержаться в санях: для этого необходима известная сноровка. Вылетев из саней, мы расползлись по кустам и укромным местечкам и там завершили праздник в одиночестве.
4 июля мы обедали у г-на Кларка, американца, который, оказавшись однажды в этих краях, хорошо приспособился к местным условиям. Ему лишь раз удалось обогнуть мыс Горн, но он уже шесть раз (последний — шесть лет назад) побывал на Сандвичевых островах. Его рассказы об этих островах и нарисованная им картина показались мне весьма достоверными. У г-на Кларка я впервые увидел портрет, который потом часто встречал на американских судах. Американские торговцы распространяли его и на островах и побережьях Тихого океана. Это был искусно написанный на стекле рукой китайского мастера портрет г-жи Рекамье{117}, любезной подруги г-жи Сталь, приятное общество которой я имел удовольствие разделять в течение долгого времени. Когда я увидел здесь ее портрет, то все наше путешествие показалось мне не больше чем забавным, правда, порой скучно рассказанным анекдотом.
11 июля, в церковный праздник Св. Петра и Павла, мы участвовали в денежном пожертвовании на строительство церкви. В этот день нас принимал главный представитель Российско-Американской компании{118}.
12-го мы отмечали у себя день рождения Глеба Семеновича. Матросы пришли на праздник весьма охотно, потому что Шишмарева все любили. Этот праздник дает мне повод рассказать о русском обычае, который может показаться странным, если принять во внимание наличие строгой муштры и безусловного подчинения матросов своим офицерам. Однако мне кажется, что отношение простого русского к своим господам, будь то капитан, барин или император, можно назвать скорее детским, чем рабским. Хотя он и подчиняется палке, но способен отстаивать свои детские свободы. Матросы, построившись в две шеренги лицом друг к другу и взявшись за руки, схватили Отто Евстафьевича и безжалостно заставили его «проплыть» по рукам. Такое своеобразное подбрасывание у нас вряд ли бы сошло за проявление уважения или дружеского расположения. За Отто Евстафьевичем наступила очередь Глеба Семеновича, а затем всех, кого удалось поймать. Тех, кто пользовался большей любовью, подбрасывали особенно высоко и безжалостно. После я узнал, что подвергшийся этой процедуре должен был отблагодарить команду подарком.
13 июля мы были готовы к отплытию, но столь желанная почта из Санкт-Петербурга так и не прибыла, и пришлось отложить наши ожидания до осени 1817 года, когда мы вновь вернемся на Камчатку. Однако и этим ожиданиям не суждено было сбыться. За три года мы не получили ни одной весточки с родины, ни одного письма от близких. Если бы не сильное желание поскорее получить здесь почту, то я предпринял бы экскурсию во внутренние районы. Но было еще слишком рано, поскольку зима пока не собиралась уступать свои права. Когда мы прибыли сюда, в окрестностях города еще лежал снег, но все же появились и первые признаки весны. Когда я писал отсюда на родину и на бумагу ложились мертвые буквы, которые и сами не были откликом, да и не находили ответного отклика, у меня мучительно сжималось сердце.
Хочу рассказать еще вот о чем. Из книг, оставленных здесь или в соседних внутренних областях Сибири путешественниками еще со времен Беринга{119}, составилась целая библиотека, где, к нашему удивлению и радости, мы обнаружили произведения, отсутствие которых ощущали весьма болезненно. Труды Боска{120} могли бы служить пособием при очень заманчивом для нас изучении морских червей, и в таком руководстве мы остро нуждались. Не говорю уже о том, сколь желанными оказались для нас в этом северном краю «Путешествия» Палласа{121} и «Флора Сибири» Гмелина{122}. По мнению губернатора, самое естественное предназначение этих книг — быть участниками таких научных экспедиций, как наша, и посему он разрешил взять из библиотеки нужные мне книги, с тем непременным условием, чтобы по возвращении я передал их Петербургской академии. Среди других в библиотеке было несколько книг, которые некогда оставил на китайской границе Юлиус Клапрот{123}. На них стоял его китайский штемпель — изречение Конфуция: «Ученые — это светочи во тьме». Такой же штемпель был и у меня, Юлиус Клапрот подарил его мне в 1804 или 1805 году, когда мы с ним дружно жили в Берлине и я хотел выучиться у него китайскому языку. Случайно я взял этот штемпель с собой в путешествие и мог бы, предъявив его, вполне обоснованно претендовать на эти книги как на свою собственность.
Естествоиспытателю и коллекционеру Редовскому, нашедшему в этом уголке земли свой несчастный конец, принадлежали два маленьких ящика с засушенными растениями и промокательной бумагой, которые г-н Рудаков преподнес мне в подарок. Промокательная бумага мне была очень нужна. Как бережно я расходовал каждый клочок! В одном письме, написанном из города Св. Петра и Павла, я с глубокой благодарностью упоминал о бумажных рулончиках, подаренных мне детьми одного друга перед отплытием из Копенгагена.
В Англии я обзавелся хорошим двухствольным ружьем. Сам капитан распорядился запастись оружием. Во время путешествия я пользовался им довольно редко, однако затвор был не в порядке, и ствол загрязнен, поскольку у меня не было необходимых принадлежностей для ремонта и чистки. В городе Св. Петра и Павла кто-то одолжил его у меня, чему я безмерно обрадовался, полагая, что с ружьем будут обращаться должным образом и по возвращении оно будет выглядеть как новое. Но я заблуждался: его вернули невычищенным и в еще большем беспорядке. Увидев мое ружье, губернатор захотел его приобрести и попросил капитана переговорить со мной насчет цены. Убедившись, что капитан Коцебу был бы рад доставить удовольствие губернатору Рудакову и сам хотел посредничать в сделке, я сказал ему, что поскольку, как он и сам видит, я не очень нуждаюсь в ружье как в средстве защиты, то охотно уступлю его г-ну Рудакову; однако не знаю, сколько оно стоит, да к тому же я не торговец. Пусть его люди снимут шкуры и оперение с тех зверей и птиц, которых он подстрелит до нашего возвращения, и передадут их мне. Это и будет плата за ружье. Обе стороны такой оборот дела устраивал и был бы весьма кстати и для берлинских музеев, если, конечно, нам удастся вернуться на Камчатку.
Лейтенант Вормскьёлль остался в городе Св. Петра и Павла. Журнал метеорологических наблюдений, которые он вел с помощью приборов, принадлежащих экспедиции, Вормскьёлль соглашался отдать на условиях, неприемлемых для капитана Коцебу. Последний, которому я поручился за него, вернул мне мое слово. Больной лейтенант Захарьин, хоть и очень неохотно, тоже расстался с экспедицией. Мы обменялись сердечными рукопожатиями. Действительно, из-за своего физического состояния он уже не мог выполнять свои обязанности; служба морского офицера связана с такими тяготами, которых не знает пассажир.
Нашего веселого спутника — обезьянку капитан подарил губернатору. Можно полагать, что обезьяны, которые на кораблях обычно живут в самом тесном контакте с человеком, будучи ловкими, весьма любопытными и любознательными, могли бы достичь многого на пути к образованию, если бы у них было' то, что так необходимо ученому и в чем им отказала природа,— зад. У них нет терпения. Все это в большей степени относится к малайским обезьянам, которых мы позже взяли на борт, чем к нашей бразильской обезьянке.
Для пополнения экипажа «Рюрика» местное начальство передало капитану шестерых матросов. Российско-Американская торговая компания прикомандировала к нам алеута, весьма опытного и сообразительного человека. Всех семерых капитан Коцебу должен был возвратить, вернувшись на Камчатку на следующий год. Кроме того, он взял на борт байдару, построенную здесь по его распоряжению,— открытую плоскую лодку с легким деревянным каркасом, обтянутым тюленьими шкурами. Во время ночлега на берегу ее можно использовать как палатку или для защиты от ветра.
Все мы обзавелись парками, многим удалось достать медвежьи шкуры, которые стелили на койки. Парка — это обычная меховая одежда северных народов — длинная рубаха из оленьих шкур без прорезей с колпаком или капюшоном. У многих парок мех и внутри, и снаружи.
14 июля 1816 года мы покинули гавань Св. Петра и Павла, но только 17-го нам удалось выйти из Авачинской бухты.
Плавание от Камчатки до Берингова пролива
«Для отыскания Северо-Восточного морского прохода» — эти слова продолжают название книги Отто Коцебу «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив»{124}. Теперь мы плывем на север, к Берингову проливу, и, кажется, настало время поделиться с вами, столь доброжелательно следовавшими за мной до сих пор, не зная целей и задач нашего путешествия, теми сведениями, которые я постепенно получил относительно его главной цели и того плана, по которому оно совершалось. Летняя кампания 1816 года должна была быть посвящена лишь рекогносцировке. Гавань, надежную якорную стоянку для судна предполагалось найти в заливе Нортона или, еще лучше, на севере Берингова пролива. Оттуда на байдарках вместе с алеутами[11], этими амфибиями здешних морей, должно было начаться в ходе второй летней кампании выполнение основной задачи экспедиции. Нам надлежало пораньше прибыть на Уналашку, где служащие Российско-Американской компании должны были подготовить людей и снаряжение, байдары, провиант для будущего сезона, а также доставить из Кодьяка переводчиков, знающих языки эскимосов Севера. Чем позднее мы пошлем туда из Уналашки трехместные байдары с людьми, тем более это будет опасно и менее надежно. Поэтому не следовало медлить. Северную зиму мы проведем в теплых странах, отчасти для того, чтобы предоставить экипажу необходимый отдых, а частично чтобы продолжить географические исследования.
Весной 1817 года мы должны будем вернуться на Уналашку, дождаться, пока полярное море откроется для судоходства, взять приготовленное для нас снаряжение и людей, отвести «Рюрик» в назначенную гавань и, оставив его в надежном укрытии с байдарами и алеутами, начать поиски Северо-Восточного морского прохода, продвигаясь — насколько это удастся — по воде или по суше как можно дальше на север и на восток. Если позднее время года или другие обстоятельства помешают достичь намеченной цели, нам надлежит вернуться на Камчатку и на обратном пути исследовать опасный Торресов пролив. Действительно, было весьма целесообразно использовать для открытий в полярных морях детей Севера и их транспортные средства. Неправильно, однако, связывать все надежды на успех предприятия только с одной кампанией, чему могли бы помешать неблагоприятные условия данного года. Все вопросы, которые еще стоят перед географией этих морей и побережий, могли быть лучше всего разрешены именно с помощью алеутов и небольшого числа сильных, закаленных моряков, которые могут приспособиться к местной обстановке и использовать такую базу, как Уналашка.
Летняя кампания 1816 года, чьи результаты закреплены на карте, составленной капитаном Коцебу в названном его именем заливе, вполне оправдала связанные с ней ожидания. Морской залив Коцебу на севере у Северного полярного круга глубоко вдается в побережье Америки, и его самая восточная часть, расположенная приблизительно на 1° севернее и на той же долготе, что и самая восточная часть залива Нортон, защищена островом Шамиссо и представляет собой надежнейшую якорную стоянку и превосходнейшую гавань для морских судов. Капитан Коцебу в 1817 году не захотел воспользоваться преимуществами своего открытия для новых исследований в полярных морях. Англичане продолжили дело, от которого отказалась экспедиция Румянцева: капитан Бичи{125} на корабле «Блоссом» в 1826 и 1827 годах, базируясь в этой же гавани, обследовал часть американского побережья Полярного моря [Северного Ледовитого океана].
Возвращаюсь к нашему северному плаванию. Оно проводилось в географических целях. Хотя мы часто общались с коренными жителями острова Св. Лаврентия, с эскимосами американского и чукчами азиатского побережий, нам не довелось жить рядом с ними и среди них. Карта и отчет капитана Коцебу, альбом зарисовок художника Хориса, которые он воспроизвел в своем «Живописном путешествии» [Voyage pittoresque], более поучительны, чем мой скудный дневник. Впрочем, все, что я мог сказать об этих людях монгольской расы, коротко сказано в очерке о северных странах в «Наблюдениях и замечаниях»{126}.
17 июля 1816 года мы вышли из Авачинской бухты и 20-го увидели остров Беринга. Небольшие холмы на его западной оконечности, где мы высадились, плавно опускались к морю. Мы увидели эту часть острова в яркой зелени альпийских лугов; лишь местами еще лежал снег.
Пользуясь попутным ветром, от острова Беринга мы взяли курс на западную оконечность острова Св. Лаврентия. Нас окружал очень густой туман. 26 июля он на миг рассеялся — показалась горная вершина, и занавес вновь сомкнулся. Мы шли в опасной близости от невидимой земли.
В тот день на палубе появилась крыса, и это событие нас обеспокоило. Крысы — очень вредные гости на корабле, их размножение нельзя остановить. До сих пор на «Рюрике» не было крыс; если эта крыса попала к нам еще на Камчатке, то теперь в нижних помещениях судна их должно быть уже много. Охота на крыс на палубе стала весьма ответственным делом. Трех удалось убить, и с тех пор не попадалось ни одной.
27 июля мы направились к берегу. Земля предстала перед нами в ярком солнечном свете, когда мы наконец вышли из плотной завесы тумана. Для высадки были подготовлены две лодки. На пути к берегу нам встретилась байдара с десятью островитянами. Мы вступили с ними в контакт, хотя, как и они, были начеку. Островитяне громко требовали: «Табак! Табак!». Получив ценные листья, они дружелюбно, весело и вместе с тем осторожно последовали за нашими лодками. Когда мы высаживались на берег вблизи их палаток, они помогали нам. Стоявшие здесь на берегу шатры-яранги, покрытые тюленьими и моржовыми шкурами, были скорее летними жилищами, а постоянные находились, по-видимому, за предгорьями на западе. Оттуда появилась еще одна байдара. Наш алеут, долгое время живший на американском полуострове Аляска, нашел, что его население по языку и обычаям родственно здешнему. Он и служил нам переводчиком. Пока капитана в палатке, куда его пригласили, обнимали, поглаживали и угощали дружески настроенные, пропитанные запахом рыбьего жира люди и пока тот одаривал их табаком и ножами, я без помех взобрался на скалистый высокий берег и занялся сбором растений. Редко когда подобное занятие доставляло мне столь радостное, чудесное ощущение. Это была знакомая флора — высоких Альп нашей Швейцарии близ снеговой линии, со всем богатством, полнотой и великолепием прижимающихся к земле крохотных форм; с ней вполне можно сопоставить немногочисленные виды здешних растений. На самом высоком месте острова под каменными обломками, покрывающими землю, я обнаружил человеческий череп и взял его с собой, заботливо спрятав среди растений. Мне выпало счастье пополнить богатое собрание черепов Берлинского анатомического музея тремя экземплярами, которые было не так уж просто достать: только что упомянутым черепом с острова Св. Лаврентия, черепом алеута из старого захоронения на Уналашке и черепом эскимоса из могилы на берегу бухты Доброй Надежды в заливе Коцебу. Из всех трех был поврежден лишь последний. Только у воинственных народов, которые, подобно нукухиверам{127}, считают человеческие черепа боевыми трофеями, они могут быть предметом торговли. Большинство людей, в том числе и северные народы, покойников хоронят и относятся к могилам как к святыням. Лишь счастливая случайность может сделать путешественника или коллекционера обладателем черепов, которые в высшей степени важны для изучения истории человеческих рас.
К 2 часам пополудни мы вернулись на корабль.
28 июля и первую половину дня 29-го «Рюрик», окутанный густым туманом, простоял вблизи острова, мимо западной оконечности которого лежал наш курс. Вечером 28-го туман рассеялся, показалась земля, и на трех байдарах к нам прибыло множество островитян. В их вожде капитан узнал гостеприимного хозяина, принимавшего его накануне. Вслед за взаимными объятьями, потиранием носами и обменом подарками началась оживленная торговля. Вскоре мы все, в том числе и матросы, обзавелись камлейками. Это верхняя одежда северных народов, предохраняющая от дождя и набегающих волн, рубашка с колпаком или капюшоном, сшитая из тонких кишок тюленей и других морских животных. Полосы кольцевидной или спиралевидной формы сшиваются нитками из жил тех же самых животных и непроницаемы для воды. Швы украшают иногда перьями морских птиц или еще чем-нибудь. Над изготовлением даже самой грубой камлейки искуснейшая мастерица трудится много дней. Но любые камлейки жители с радостью отдают за несколько листьев табака, то есть за столько, сколько один курильщик выкуривает до обеда.
Странный обычай курить табак, происхождение которого остается неясным до сих пор, пришел к нам из Америки, где он начал укореняться примерно полтора века назад. С нашей помощью этот обычай стал на земле самым распространенным. На двух, питающихся хлебом, приходится пятеро, которые видят утешение и радость жизни в этом магическом куреве. Оказалось, что усвоить этот обычай стремятся все народы мира в равной степени: изящные, чистоплотные лотофаги Южных морей и грязные ихтиофаги морей полярных. Тот, кто не имеет представления о присущем этому обычаю волшебстве, пусть посмотрит, как эскимос набивает свою маленькую каменную трубку драгоценной травой, которую он для экономии смешал пополам с древесными опилками; пусть посмотрит, как осторожно он зажигает трубку, а затем, прикрыв глаза, жадно, длинными, глубокими затяжками вдыхает дым в легкие и вновь выпускает его в небо. В тот миг все взоры устремлены на него, а сидящий рядом уже протягивает руку, готовясь взять трубку и в свою очередь сделать желанную затяжку. У нас главным образом, а во многих странах Европы исключительно табак курит простой народ. Я всегда с душевной болью отмечаю, что эта маленькая крупица блаженства, которой пользуются неимущие классы по сравнению с привилегированными, облагается самым высоким налогом. Меня особенно возмущает, что людям на заработанные с огромным трудом деньги продают, например во Франции, самый худший товар, какой только можно представить.
29 июля мы увидели северный мыс острова, крутой, скалистый утес, к которому примыкает низина со стоящими на ней ярангами коренных жителей, похожими на кротовые кучи. Они окружены деревянными помостами, на которых хранится то, что хотят уберечь от собак. От берега отплыли три байдары, в каждой сидело около десяти островитян. Прежде чем приблизиться к судну, они совершили религиозный обряд: сначала пропели протяжную песню, после чего принесли в жертву черную собаку. Один из них поднял собаку, убил ударом ножа и бросил в море. Проделав все это, они подошли к «Рюрику», и некоторые из них поднялись на палубу.
30 июля погода прояснилась; утром мы увидели острова Кинга, а вскоре и мыс Уэльс, острова Гвоздева (последние представляют собой четыре стоящие посредине пролива скалы-колонны), а затем — само азиатское побережье. Кук видел лишь три из упомянутых скал; четвертая — остров Ратманова, как его назвал Коцебу (это открытие принадлежит ему). Мы прошли пролив вдоль американского берега на удалении примерно 3 миль от суши днем за 2 часа.
Здесь я должен ответить на вопрос, который в глазах ученых символизирует непрерывный прогресс времени и истории. Вы, упрямцы, отрицающие движение, не желающие даже допустить его существование, посмотрите, ведь вы сами движетесь вперед. Разве вы не раскрываете сердце Европы по всем направлениям для судоходства, железных дорог и телеграфа? Разве тем самым не обретают крылья обычно медленно ползущие мысли? Это дух времени, который, будучи сильнее вас, овладевает вами. Гаусс{128} из Гёттингена осенью 1828 года в Берлине задал мне вопрос, который с тех пор ставили передо мной не раз: можно ли проводить геодезические измерения и триангуляцию с Азии в Северную Америку? На этот вопрос я даю однозначный утвердительный ответ. Обе опоры водных ворот — это высокие горы, находящиеся на виду одна от другой. На азиатской стороне они круто поднимаются над морем, а на американской — окаймляют примыкающую к ним низменность. У азиатского берега море глубже и течение, устремляющееся в пролив с юга со скоростью от двух до трех узлов, сильнее. На азиатской стороне пролива мы часто видели китов и бесчисленные стаи моржей. Пики гор возвышаются над покровом тумана, который летом обычно стелется над морем. Но бывают и такие дни, какой выдался, например, 30 июля 1816 года.
Когда нашим взорам стал открываться низменный американский берег, впечатление было такое, словно его коснулся своим жезлом волшебник. Он густо населен и усеян ярангами, окруженными помостами. И кругом торчат колья, китовые кости и стволы деревьев. Все это мы увидели сначала на горизонте в отражении миража, удлинявшего и изменявшего очертания. Казалось, там, вдали,— неисчислимый флот, целый лес мачт.
Мы следовали в востоко-северо-восточном направлении вдоль противоположного берега, держась как можно ближе к суше на глубине 5–7 футов. Побережье, за исключением редких пятен на возвышенностях, было свободно от снега и покрыто зеленью. Утром 31 июля мы бросили якорь там, где низменный берег как бы прерывался, словно это было устье реки или вход в морской залив. Мы высадились напротив нашей стоянки и очутились на голом, плоском острове, который, словно речная плотина, наполовину преграждал широкий, бегущий через низменность поток. В этом районе на карте Коцебу показаны острова Сарычева и бухта Шишмарева. Глубина в середине более широкой северо-западной части бухты достигала 8 футов, и во время прилива поток оттуда устремлялся в сторону суши.
На острове Сарычева мы вновь столкнулись с игрой миража. Я увидел пред собой водную поверхность, в которой отражался низкий холм, тянувшийся вдоль противоположного берега, и пошел по направлению к воде, и вдруг она исчезла, и я посуху достиг подошвы холма, а когда прошел примерно половину пути, Эшшольцу, стоявшему там, откуда я начал свой путь, показалось, будто я по самую макушку погрузился в дающий зеркальное отражение слой воздуха. И в таком укороченном виде я был похож скорее на собаку, чем на человека. Продвигаясь к холму, я все больше выходил из этого слоя, и, поскольку зеркальное отражение удлиняло рост, теперь я казался Эшшольцу очень высоким, прямо-таки гигантским и тощим.
С феноменом миража можно, впрочем, встретиться и на обширных пространствах наших торфяных болот, например близ Линума{129}, где мне довелось его наблюдать. Он виден в вертикальном направлении. Наиболее удобно изучать условия, при которых он возникает, на поверхности длинных, освещенных солнцем стен (например, кольцевых стен Берлина к югу и западу за чертой города), постепенно вплотную приближая к ним взгляд. Когда суша поднимается над горизонтом, как говорят моряки, линией горизонта считается ближе расположенный к глазу край образуемой самым низким слоем воздуха зеркальной поверхности; но в действительности эта линия лежит дальше, чем видимый горизонт. Я полагаю, что это заблуждение во многих случаях может оказывать влияние на астрономические наблюдения, вызывая ошибку порядка пяти, а может быть, и более минут. Таким образом, миражи наряду с девиацией, или отклонением магнитной стрелки, наблюдаемые на борту корабля, надо отнести к числу тех причин, которые в полярных районах влияют на точность астрономических наблюдений и гидрографических съемок побережий. О девиации было известно еще до начала нашего путешествия (см. труды Флиндерса, Росса, Скорсби{130} и др.). Не думаю, кстати, что О. Коцебу принимал во внимание миражи или девиацию.
Мы высадились на берег у яранг, покинутых людьми. Там осталось лишь несколько собак. Мы воспользовались случаем, чтобы ознакомиться с постоянными зимними жилищами этих людей. Капитан Коцебу описал одну из таких яранг (т. 1, с. 152){131}. Более наглядными были бы план и эскиз.
Помещение — квадрат со стороной 10 футов, стены— 6 футов высотой, потолок сводчатый, наверху четырехугольное, затянутое пузырем окно. Постройка сделана из балок, изнутри гладко обтесанных. Спальным местом служат нары высотой 1,5 фута, расположенные напротив двери. Они занимают треть помещения. Вдоль стен тянутся, напоминая лестницу, полки, на которых размещаются утварь и орудия труда. Дверь — круглое отверстие посередине стены, 1,5 фута в поперечнике. Похожая на ходы в кротовых норах штольня выложена деревом; стоять во весь рост там можно не везде. Она соединяет внутреннюю дверь помещения с четырехугольным выходом высотой 3 фута, огражденным двумя земляными валами и открывающимся на юго-восток. От главного хода ответвление ведет к яме, где хранится зимний запас — куски сала размером с фут, здесь же решета с длинными рукоятками, чтобы их доставать. Главное помещение и переходы снаружи присыпаны землей.
Пока мы рассматривали все это, парусная байдара с островитянами подошла со стороны моря к юго-западному входу в бухту, направилась вдоль побережья на восток и затем скрылась из виду. Двое мужчин, каждый в одноместной байдаре [каяке], появились со стороны материка и принялись наблюдать за нами, но мы так и не смогли уговорить их приблизиться.
Одноместная байдара для этих людей — то же, что конь для казака. Она представляет собой узкий, длинный, заостренный в передней части пузырь из моржовых шкур, который натянут на легкий деревянный каркас. Посередине имеется круглое отверстие. Туда садится человек и вытягивает ноги. Он соединен с лодкой кожухом из камлейки, имеющим такую же ширину, что и отверстие. Сидящий в лодке завязывает кожух под мышками. Держа в руках легкое весло, балансируя, как всадник на коне, он стрелой несется по зыбкой поверхности. Перед ним в полной боевой готовности лежит оружие. Это транспортное средство у различных народов почти одинаково по своему устройству и хорошо известно из описаний путешествий и по изображениям. Его демонстрировали и сами эскимосы в европейских столицах. Наоборот, большую байдару, женскую лодку [умнак], можно сравнить с тяжелой повозкой в караване кочевников.
Когда вечером мы возвращались на свой корабль, за нами следовали три байдары — в каждой по десять человек. Они подошли к одной из наших лодок, отставшей от других, в которой находились капитан, лейтенант Шишмарев и только четыре матроса. Эскимосы, по-видимому незнакомые с огнестрельным оружием, заняли угрожающую позицию, но воздержались от враждебных действий и сопровождали лодку до самого корабля; однако мы так и не смогли уговорить их подняться на борт «Рюрика».
Мы двигались прежним курсом вдоль такого же низменного побережья до тех пор, пока днем 1 августа не оказались у входа в обширный морской залив. Берег к востоку терялся из виду, а вдали на севере виднелись высокие предгорья. Ветер улегся; мы бросили якорь; течение с силой устремилось в залив. Складывалась весьма многообещающая ситуация. Возможно, мы находились у входа в пролив, отделявшего сушу на севере от континента подобно острову. Этот пролив мог стать искомым проходом. Капитан Коцебу приказал высадиться на берег, чтобы взобраться на холм и с его вершины обозреть окрестности. На этом месте, обозначенном на карте капитана как мыс Эспенберг, к нам пришли местные жители. Как и подобает храбрым мужчинам, они показали нам, что вооружены для войны, но готовы и к миру. Именно здесь, еще до того как мы их увидели, я один, безоружный, занимаясь на свой страх и риск сбором растений для коллекций, неожиданно столкнулся с группой, состоявшей примерно из двух десятков мужчин. Поскольку у них не было причин меня опасаться, они приблизились ко мне, как друзья. Я захватил с собой трехгранные иголки, которые можно купить в Копенгагене; они служат здесь ходовой монетой. Изготовляются они на потребу жителей, подобных встреченным нами, ими торгуют в Гренландии. Ушко — ненужная деталь. Нить из звериных жил крепится непосредственно к стальному стержню. Я вынул коробочку с иголками и, начиная с правого фланга, по очереди одарил каждого из людей, стоявших передо мной полукругом, двумя иголками. Это был ценный подарок. Я заметил, что один из стоявших впереди, получив причитающиеся ему иглы, перешел на другой фланг, где ему освободили место. Когда я вновь подошел к нему и он опять протянул руку, вместо ожидаемых иголок я неожиданно сильно хлопнул его по ладони. Я не просчитался: все — и я в том числе — засмеялись, а когда люди смеются вместе, у них устанавливается взаимопонимание.
К кораблю нас сопровождало большое число байдар. Шла оживленная торговля, много шутили. Оказалось, что коренные жители хорошо разбираются в торговле. Они получали от нас табак и не столь ценные мелочи: ножи, зеркала и т. п.; но длинные ножи, которые они так хотели приобрести в обмен на ценные меха, никто из нас им предложить не мог. Мы покупали у них изделия из мамонтовой кости, фигурки зверей и людей, орудия, украшения и т. п.
Вечером поднялся ветер с юга, и «Рюрик» поплыл по проливу на восток. Утром 2 августа на севере мы еще видели высокий берег, на юге — низменное побережье, а прямо перед собой на востоке — открытое море. Лишь к вечеру на горизонте показались отдельные контуры суши; они соединились и протянулись цепью между обоими берегами. Мы могли надеяться пройти только в одном месте. Погода не благоприятствовала нам. 3 августа удалось пройти через пролив между узким предгорьем материка на севере и островом и бросить якорь в защищенном месте. Окружавшие нас берега были гористы; лишь на севере открывался свободный обзор. Чтобы обследовать эти места, 4-го мы предприняли экскурсию на байдаре и баркасе. Вскоре вокруг нас сомкнулась бухта, которая на севере и на востоке вдавалась в сушу; берег круто поднимался почти на восьмидесятифутовую высоту и далее волнистыми складками плавно переходил в необозримую голую равнину, на которой кое-где виднелись пятна торфяников. Мы провели ночь под байдарой и 5-го при неблагоприятной погоде вернулись на корабль. Оставалась надежда открыть устье реки. 7-го мы совершили еще одну экскурсию в бухту на север. 8-го буря заставила нас снова вернуться на стоянку. В этот день Эшшольц, который тогда, как и все мы, пытался продвинуться дальше, направился вдоль побережья к горам в направлении нашей якорной стоянки и открыл так называемые ледяные горы{132}, которым те, кто незнаком с Севером и полярными путешествиями, уделяют, по-видимому, слишком много внимания. Я внимательно прочел и изучил все, что написал Бичи{133} об этом ледяном береге, и все же остаюсь при своем мнении, которое я высказал в «Наблюдениях и замечаниях». Либо в период с 1816 по 1826 год разрушение ледяного обрыва быстро прогрессировало и обнажился контакт льда с подстилающими песками, либо пески замаскировали те условия, которые нам были отчетливо видны. Ненарушенное залегание горизонтальных слоев, четко различимых на ледяной стене, на мой взгляд, не подтверждает мнение Бичи. Все свидетельства, как мне кажется, сходятся на том[12], что в Азии и Америке в высоких широтах промерзшая земля не оттаивает; что повсюду, где проводились исследования, она остается промерзшей на большую глубину и что местами лед, в котором часто встречаются остатки древних животных, выступает в качестве горной породы. Он покрыт слоем почвы, на которой, подобно другим видам почв, развивается растительность (дельты Лены и реки Макензи, залив Коцебу). Но там, где на поверхность выходит древнее ядро земли, могут быть иные температурные условия, хотя на тех же широтах встречаются ледяные формации{135}.
Не сомневаюсь, что зубы мамонта, которые мы здесь собрали, сохранились во льду; но правда и то, что зубы, попавшие к нам в руки, еще раньше были найдены, осмотрены и повреждены аборигенами, на месте стоянок которых мы разбивали свои лагеря. Однако если остатки первобытных животных сохранялись именно во льду, то он должен был иметь более древнее происхождение, чем песок, где я находил только рога оленей и особенно часто плавник, ничем не отличающийся от того, какой море и сейчас выбрасывает на берег. Следует также иметь в виду, что этот ледяной берег простирается между древними горами и песком.
Я собрал и заботливо отложил в сторону много обломков бивней мамонтов, но, к сожалению, ночью их сожгли в лагерном костре. Пришлось радоваться хотя бы .тому, что впоследствии мне удалось найти бивень, коренной зуб и обломок бивня, которые я подарил Берлинскому минералогическому музею. Надо было бдительно стеречь находки и самому отнести их в лодку. Мне ничем не помогли и ни словом не поддержали. Бивень, который показался мне слишком толстым и вместе с тем слишком мало изогнутым, чтобы принадлежать мамонту, Кювье{136} в своем великом трактате отнес именно к этому виду животных, основываясь на моих рисунке и описании.
Бухта, где мы находились, была названа именем Эшшольца, а остров, под чьей защитой «Рюрик» стоял на якоре,— моим (в «Наблюдениях и замечаниях» у него еще нет имени). На песчаной косе, где мы расположились лагерем, так же как и на скалистом острове, отклонение магнитной стрелки компаса было весьма неравномерным.
Во время таких экскурсий, как описанная выше, моим часам с секундной стрелкой берлинской фирмы «Шуниг» выпала честь служить хронометром; поскольку мне они были не нужны, я передал их капитану. Два дня мы провели в лагере, где очень пригодилось английское консервированное мясо (свежее мясо с бульоном в запаянных жестяных банках). На третий день, утром 9 августа, мы вернулись на корабль. Вовремя нашего отсутствия островитяне на двух байдарах хотели посетить «Рюрик», но по приказу капитана их туда не пустили. Территория вокруг залива Коцебу необитаема, и на его берегах заметны лишь места стоянок аборигенов. Одно из таких мест находится, например, на острове Шамиссо, а другое — у ледяных гор бухты Эшшольца; аборигены появляются там, вероятно главным образом для сбора костей и бивней мамонтов.
10 августа шел дождь; после обеда погода прояснилась, и мы подняли паруса. Предстояло еще обследовать часть южного побережья. Когда стемнело, стали на якорь, и к нам опять заходили жители. 11-го мы при близились к высокому, гористому выступу побережья обозначенному на карте Коцебу как мыс Обманчивый! отсюда к нам направилось несколько байдар. Между этим гористым мысом и расположенным к северу от него мысом Эспенберга находилась обширная бухта с низменными берегами. Море было здесь не таким глубоким; мы стали на якорь и сразу же начали готовиться к высадке на берег. Предполагалось, что там находится устье реки. Было уже далеко за полдень; густой туман вынудил нас вернуться на корабль. 12 августа ранним утром мы осуществили намеченную высадку, но из-за весьма незначительных глубин удалось выйти на берег лишь в отдаленном пункте, примерно в 6 милях от нашего судна. Внимание капитана привлек поток на низменности; он имел выход в море, и, возможно, течение в нем было направлено в сторону суши. Вернувшись с ботанической экскурсии, я застал капитана беседующим с местным жителем, у которого он пытался получить сведения о направлении и особенностях этого пролива{137}. Этот человек поставил здесь палатку для своей семьи. Увидев капитана, сопровождаемого четырьмя людьми, он приготовился к бою, положил стрелу на тетиву лука и вместе с сыном двинулся навстречу капитану. Он вел себя решительно, мужественно и умно, как и подобает храброму человеку, встретившемуся с чужаками, чьи силы превосходящи, а намерения вызывают подозрения. Капитан успокоил его, отпустив охрану, и один без оружия подошел к нему. Мир был скреплен подарками. Эскимос гостеприимно пригласил капитана в палатку, где находились его жена и двое детей, но чувствовал все же себя не вполне спокойно в присутствии чужеземца. И тут я вновь выступил в своей старой роли переводчика. Изображая пантомиму, будто плыву по проливу в направлении от моря, я спрашивал нашего друга взглядами и жестами: «куда, когда?» Он тотчас же понял вопрос и ответил весьма ясно: «Девять солнц плыть, девять ночей спать. Земля справа, земля слева; потом свободный горизонт, никакой земли не видно». Мы бросили взгляд на карту, она подтвердила предположение, что этот пролив, с которым может соединяться другой пролив, идущий из бухты Шишмарева, вероятно, выходит к заливу Нортон.
Как только нашему другу удалось отделаться от нас, он свернул палатку и вместе с семьей перебрался на противоположный берег. А мы устроили на ночь лагерь У подножия холма с могильными памятниками аборигенов. Покойники лежат прямо на земле, покрыты плавником и таким образом защищены от хищников; вокруг торчит несколько шестов, на которых укреплены весла и другие предметы. Движимые жадным любопытством, мы разворошили могилы, забрали черепа. То, что собирал естествоиспытатель, понадобилось и художнику, а затем и всем остальным. Вся утварь и орудия, оставленные умершим их близкими, были расхищены. Наконец матросы, чтобы поддержать огонь в лагерном костре, отправились к могилам за плавником и разрушили памятники, чего вполне можно было избежать, но это пришло нам в голову слишком поздно. Я никого не виню; действительно, все мы были настроены самым дружелюбным образом, и не думаю, чтобы европейцы могли бы относиться лучше, чем мы, к чужим народам, «дикарям» (капитан Коцебу тоже называет эскимосов «дикарями»); наши матросы в полной мере заслужили похвалу, которую им адресует капитан. Однако, если бы местные жители взялись за оружие, чтобы отомстить за осквернение могил, на кого пала бы ответственность за кровопролитие?
Ночью нас потревожила большая группа жителей Америки, прибывшая на восьми байдарах из района мыса Обманчивого и устроившая свой лагерь напротив нашего. Их превосходство в силе требовало от нас осторожности; мы выставили сторожевые посты и зарядили ружья. Теперь мы заняли по отношению к ним ту же позицию, какую незадолго до этого один из них занимал по отношению к нам. Желая уклониться от тягостного визита, капитан еще ночью приказал свернуть лагерь и сесть на весла. Однако был отлив, и море изобиловало мелями, которые мы не заметили во время прилива. Похоже, что капитан считал положение весьма опасным. «Я не видел никакого выхода, чтобы избежать смерти» — вот его слова. Правда, я был на той байдаре, которая подвергалась меньшей опасности. Наступивший день вывел нас из затруднительного положения. Ценой большого напряжения сил матросов мы благополучно вернулись на корабль.
13 августа, после того как аборигены на двух байдарах посетили корабль, «Рюрик» снялся с якоря. Мы приблизились к высоким предгорьям, ограничивавшим вход в залив Коцебу с севера. Густонаселенная низменность расстилается перед горами и объединяет все горные массивы, которые со стороны моря можно принять за острова.
Главная задача летней кампании была решена удовлетворительно, и мы прекратили здесь исследования. Снова войдя в густой туман, мы пересекли участок моря, расположенный к северу от пролива, и направились в сторону азиатского побережья, намереваясь пройти вдоль него, чтобы потом войти в бухту Св. Лаврентия в стране чукчей. Возможно, что время, которое мы провели бы в этой бухте, мы смогли и должны были бы использовать для проведения рекогносцировки в северном направлении. Эта рекогносцировка при благоприятных обстоятельствах могла бы стать более успешной, чем при неблагоприятных — предусмотренная вторая кампания.
Южный ветер дул непрерывно, затрудняя плавание; глубина моря увеличилась, температура понизилась, и море вблизи азиатского побережья было холоднее. В ночь с 18 на 19 августа корабль лавировал против ветра и течения, проходя через пролив между мысом Восточным [Дежнева] и островом Ратманова. Утром, когда мы полагали, что достигли высот у бухты Св. Лаврентия, оказалось, что мы находимся у мыса Восточного (максимальная, отмеченная на карте глубина моря там 30 футов). Луч света, прорвавшийся сквозь туман, дал нам возможность увидеть передовые цепи гор, и мы направились туда, в полдень бросили близ них якорь и тотчас же на двух лодках поспешили к берегу. Чукчи встретили нас на берегу так, словно мы прибыли с государственным визитом,— дружественно и вместе с тем торжественно, что нас весьма сковывало. Они усадили всех на разостланные шкуры, но не пригласили в свои жилища, расположенные дальше на холме. После того как им были вручены подарки, несколько чукчей, в том числе две знатные особы, последовали за нами на «Рюрик». Прежде чем подняться на борт, каждый из них преподнес капитану лисью шкуру, а затем уже вместе со свитой бесстрашно ступил на палубу. Капитан Коцебу провел их в свою каюту, где висело большое зеркало. По этому случаю он заметил: «Северные народы боятся зеркала, а южные, наоборот, смотрятся в него с видимым удовольствием».
После обеда мы воспользовались попутным северо-восточным ветром, чтобы продолжить плавание. В предыдущие дни нам встречались по одному, по два моржа, теперь же в районе мыса Восточного их бесчисленные стада оглашали воздух ревом. Вокруг резвилось множество китов, пуская вверх высокие фонтаны воды. Мы плыли по направлению к бухте Си. Лаврентия в дождь и в туман. Днем 20 августа «Рюрик» был уже у входа в нее, погода прояснилась, и в 3 часа мы бросили якорь за маленьким песчаным островом, защищавшим гавань.
От ближайшего берега, где на противоположном склоне холма стояли палатки чукчей, отчалили две байдары по десять человек в каждой. Они с пением приблизились к нам, однако держались на некотором расстоянии от корабля и, лишь получив приглашение, бесстрашно поднялись на палубу. Мы готовились отправиться на берег, и гости, довольные нашей щедростью, сопровождали нас. На своих легких суденышках они плыли гораздо быстрее, чем мы на своих лодках, и потешались, видя, как матросы безуспешно пытались перегнать их.
Болотистая почва и снежные поля, разреженная растительность с заметным участием альпийских видов, холмы и склоны, покрытые обломками горных пород; выше поднимаются голые стены скал и зубцы гор, покрытые снегом всюду, где он только может держаться. Застывшая зимняя страна.
Здесь стояло двенадцать больших вместительных палаток из шкур животных, которых мы еще доселе не видели. Один старик, по-видимому, обладал властью над соплеменниками. Он с подобающими почестями принял гостя, появление которого все же не могло не показаться ему подозрительным. Чукчи у себя дома, в родных горах — независимый, непорабощенный народ. Они признают верховную власть России, но это проявляется лишь в том, что они уплачивают налог на базарах, где ведут взаимовыгодную торговлю с русскими.
Один из матросов, которых мы взяли на Камчатке, немного говорил по-корякски и мог здесь с трудом объясняться. Капитан раздал подарки, но уклонился от ответных даров, что показалось этим людям весьма странным. Он попросил лишь свежей воды и нескольких оленей, которые и были ему обещаны. Однако, чтобы доставить их из внутренних районов, потребовалось два дня. Обе стороны расстались довольные друг другом.
Не могу умолчать о характерной особенности этих жителей Севера, невыгодно отличающей их от привлекательных полинезийцев. Один из ораторов на упомянутых выше важных переговорах, стоя перед капитаном и не прерывая беседы, сохраняя вместе с тем почтительность, расставил ноги и помочился из-под парки.
Мы приготовились к тому, чтобы на следующий день отправиться на шлюпках в отдаленную часть бухты, однако 21 августа погода изменилась к худшему, и поездку пришлось отложить. Нас посетили чукчи, прибывшие на шести байдарах из Нунямо в Мечигменском заливе (где некогда высаживался Кук). Они с песнями обогнули корабль и доверчиво поднялись на борт. Чукчи быстро завязали дружбу с матросами, а стаканчик водки развеселил их. Они устроили стоянку на берегу, где мы их посетили и смотрели их пляски, показавшиеся нам, впрочем, малопривлекательными.
22 и 23 августа мы осуществили намеченную экспедицию на шлюпках и на байдаре; ее результаты отражены на карте Коцебу. Внутренняя часть бухты необитаема. На берегу, где в первый день был устроен дневной привал, охотники-чукчи преподнесли нам несколько морских птиц и двух только что убитых тюленей. Сперва охотники хотели бежать от нас, но, получив подарки, стали друзьями. Птиц мы съели сразу, а тюленей оставили, чтобы на другой день взять на корабль. Однако ночью кто-то, вероятно песцы, полакомились ими, и пришлось их выбросить. В отдаленной части бухты, где мы разбили лагерь, характер ландшафта и растительности не менялся. Ивы приподнимались лишь на несколько дюймов над землей. Скалы вокруг нас были сложены белым мрамором. Ночью все на поверхности покрывалось инеем.
Вернувшись днем на корабль, мы узнали, что прибыли наши олени, и отправились за ними на берег. Не которые были уже забиты, других зарезали на наших глазах. Оленина — это действительно превосходное блюдо, но она особенно вкусна после того, как в течение долгого времени вы питаетесь старым соленым мясом и пахнущим рыбьим жиром мясом морских птиц или еще чем-либо в этом роде! Я совсем забыл о тюленях, хотя то, что мы их бросили, не желая доедать после песцов, казалось мне неоправданным предосудительным расточительством. Тогда же чукчи на песчаном острове разделали кита; они предлагали нам куски жира, но мы довольствовались олениной.
Вечером к нам снова пришли с визитом. На одной из байдар был мальчик. Он строил уморительные рожицы, что было вознаграждено несколькими листьями табака. Ободренный успехом, он стал неистощим на обезьяньи ужимки, которые с природной веселостью воспроизводил вновь и вновь, требуя за них награду и получая ее. И под этими небесами смех, по меткому выражению Рабле, был неотъемлемым свойством людей, когда человек, сохраняя еще независимость, радуется свободе, которой он пользуется от рождения. Вскоре на Уналашке мы встретим ближайших родичей этих веселых жителей Севера, совершенно разучившихся смеяться. Я знаком с самыми различными формами общественного устройства, жил среди разных народов. Довелось мне видеть соседние народы, принадлежащие к одной и той же семье, одни из которых можно было назвать свободными, а другие — зависимыми. У меня никогда не было причин восхвалять деспотизм. Конечно, документ о свободе, лист бумаги, сам по себе еще не обусловливает свободу и ее цену, и самое трудное из всего, что мне известно,— это переход от длительной зависимости к самостоятельности и свободе.
Мы хотели отплыть 25 августа, однако встречные ветры, штили и бури задержали нас в гавани до 29-го. 28-го один из находившихся на стоянке чукчей применил но отношению к нашему матросу насилие и, угрожая ножом, отнял у него ножницы. К нарушителю порядка быстро бросился другой чукча и остановил его. Когда об этом зашла речь, местный вождь уже наказал провинившегося. Капитану показали этого нарушителя порядка; чтобы загладить свою вину, он должен был непрерывно бегать в одном направлении по небольшому кругу, словно лошадь в манеже. Происшествие не имело последствий, показав, что у этого народа есть своя хорошая полиция.
Ранним утром 29 августа 1816 года мы вышли из бухты Св. Лаврентия, а вечером на нас обрушился сильнейший шторм. «Рюрик» взял курс к восточному берегу острова Св. Лаврентия. Капитан хотел провести там съемку, но помешали туманы, и 31-го мы прошли мимо острова, так и не увидев земли. Из-за мелей плавание по американской зоне этого морского бассейна было небезопасно. Отсюда взяли курс на Уналашку. 2 сентября стали свидетелями редкого в этих местах зрелища восхода солнца. 3-го на корабль села небольшая наземная птица (зяблик), а морскую птицу (гагару) мы поймали руками. После обеда вахтенный, находившийся в укрепленной на мачте корзине, далеко на западе увидел Остров Св. Павла, а утром 4-го мы миновали остров Св. Георгия, также оставшийся на западе. В этот день нас обрадовала неожиданная встреча с судном; догнав его, мы начали переговоры. Это оказалась шхуна Российско-Американской компании; она забрала меха с островов Св. Павла и Св. Георгия и направлялась в Ситху. Мы вместе поплыли на Уналашку. Ночь была бурной, темной, а море светилось. Более прекрасной картины мне видеть не доводилось и в тропическом поясе. На парусах, куда долетали брызги волн, блестели светящиеся искорки. Утром 5 сентября нас окутал туман, и мы уже не могли разглядеть шхуну. Зная, что находимся вблизи земли, мы тем не менее не могли ее видеть и не могли полагаться на наше судовое счисление. После обеда полог тумана на мгновение поднялся; показался высокий берег, но тотчас снова скрылся. Всю ночь мы лавировали.
Утром 6-го нашим взорам предстало удивительное зрелище. Над морем нависло темное небо; высокие, освещенные солнцем заснеженные зубцы гор Уналашки пылали красным пламенем. Весь день в виду земли нам пришлось бороться со встречным ветром. Бесконечные вереницы морских птиц, паривших низко над гладью вод, издали напоминали плывущие острова. Вокруг «Рюрика» резвилось множество китов, пускавших во все стороны высокие фонтаны воды.
Эти киты напомнили слова одного гениального естествоиспытателя. Он сказал мне, что следующим шагом, который надлежит совершить человеку и который продвинет его гораздо дальше, чем паровая машина и паровое судно (эти теплокровные животные, созданные его руками), следующим шагом будет приручение кита. В чем задача? Отучить кита от ныряния! Видели ли вы когда-либо полет диких гусей? Видели ли старуху, которая, держа в трясущейся руке хворостину, гонит полтысячи подобных воздушных кораблей на пустырь и управляет ими? Все вы видели это чудо, и оно не поразило вас? Почему же вас страшит мысль о возможности приручения китов? Воспитайте малышей в фьорде, укрепите у них под грудными плавниками с помощью плавательного пузыря пояс с шипами и дерзайте! Воистину, ради соединения обоих морей и сокращения расстояния между Архангельском и городом Св. Петра и Павла [Петропавловск-Камчатский] до 8–14 дней пути стоит предпринять такую попытку. Будет ли кит тащить или нести, Надо ли его запрягать или нагружать и каким именно образом, как его взнуздать, как им управлять, кто будет погонщиком «морского слона» — все эти вопросы решатся сами собой.
7 сентября 1811 года попутный, но слабый ветер привел нас ко входу в бухту; между высокими горами острова ветер неожиданно полностью прекратился, и из-за того, что якорь не доставал дна, мы оказались в довольно беспомощном положении. Однако агент компании г-н Крюков вышел нам навстречу на пяти двадцативесельных байдарах и отбуксировал в гавань. В час мы стали на якорь у главного селения Иллюлюк. Для нас заботливо натопили баню.
Г-н Крюков в соответствии с приказом директоров компании в Санкт-Петербурге выполнял требования капитана Коцебу и был с ним во всем почтительно-предупредителен. Тотчас же для нас закололи одну из немногих имевшихся на острове коров. Команду обеспечили картофелем, свеклой и другими овощами, которые здесь растут, и свежим мясом.
Требования капитана Коцебу заключались в следующем: построить одну двадцатичетырехвесельную, а также две одноместные и две трехместные байдары; держать наготове для будущей весны пятнадцать здоровых, сильных алеутов и все необходимое снаряжение; к тому же сроку обеспечить команду «Рюрика» камлейками из тюленьих шкур; тотчас же направить специального посланца в Кодьяк, чтобы там с помощью агента Российско-Американской компании найти и доставить сюда переводчика, который понимал бы язык жителей северного побережья Америки и был бы полезен при общении с ними. Три весьма решительных алеута вызвались исполнить это опасное поручение.
Трехместная байдара строится по образцу одноместной, но она длиннее и не с одним, а с тремя отверстиями для сидения. В ней сидят в центре европеец в алеутской одежде, в камлейке и с козырьком, защищающим глаза от соленых морских брызг, и два гребца-алеута — спереди и сзади. Я и сам в одно погожее весеннее утро в гавани Портсмута плавал на такой байдаре и таким же способом, к вящему удовольствию англичан.
8 сентября утром в гавань вошел «Чирик», шхуна, встреченная нами в море. Капитаном на ней был Бинземан, родившийся в окрестностях Данцига [Гданьска]. Этот пруссак, ставший капитаном курсирующей между Уналашкой и Ситхой шхуны Российско-Американской компании, претерпел и пережил на белом свете столько, о чем и представления не имеют те, кто за всю свою жизнь ходил не дальше, чем от задних рядов школьного класса до кафедры. У Бинземана была одна нога, вторую раздробило, когда на его корабле взорвалась пушка. Совмещая должность капитана и судового врача, он приказал матросу отрезать ножом ногу, висевшую на лоскутке кожи, а затем перевязал культю пластырем из... шпанских мушек{138}. Этот импровизированный метод лечения ноги после ампутации без перевязки артерии увенчался полным успехом. Выздоровление шло как нельзя лучше. Я не мог удержаться от того, чтобы не рассказать здесь эту историю, поскольку вместе с тем, что сообщил нам Маринер{139} насчет хирургических операций на острове Тонга, она поколебала мое давнее почтение к хирургии как важнейшей части медицины.
Нам пришлось надолго задержаться на этом печальном острове. Я наблюдал, как бедствовали порабощенные, нищие алеуты, но видел и их господ — здешних русских, которые и сами были угнетены. Однако все дни я проводил, бродя по горам, окаймлявшим селение. Отвлекли меня от людей притягательные дары флоры. Эшшольц также занимался сбором растений. Мы пришли к выводу, что на суше лучше действовать врозь, поскольку мы достаточно времени проводим вместе на корабле.
10 сентября был день именин императора, и я использую здесь описание, сделанное капитаном Коцебу (т. 1, с. 167){140}:
«11 сентября. По случаю вчерашнего торжества именин государя императора Крюков давал на берегу обед всему экипажу, после обеда мы пошли в просторную землянку, в которой было собрано много алеутов для плясок. Я твердо уверен в том, что в прежние времена, когда они еще были свободными, они были иными, чем теперь, когда рабство довело их почти до животного состояния и танцы уже не радовали их. Оркестр состоял из трех алеутов с бубнами, которыми они производили простую, печальную, состоявшую из трех тонов музыку. На сцену выходило только по одной танцовщице, которая, без всякого выражения сделав несколько прыжков, скрывалась между зрителями. Мучительно было смотреть на этих людей, принужденных прыгать передо мною; мои матросы, также чувствуя скуку и желая развеселиться, запели веселую песню, а двое из них, встав на середину кружка, сплясали. Этот быстрый переход от печали к радости развеселил всех нас, и даже на лицах алеутов, стоявших до этого с поникшими головами, блеснул луч радости. Один промышленник Американской компании, оставивший отечество в расцвете лет и здесь поседевший, вбежал внезапно в дверь и, воздев руки к небу, воскликнул: „Так это русские, русские! О дорогое, любезное отечество!“ На его бледном лице в эту минуту изображалось блаженное чувство; слезы радости оросили его, и он скрылся, чтобы предаться своей горести. Меня поразила эта сцена, я живо представил себе положение старца, со скорбью вспоминавшего о своей юности, счастливо проведенной в отечестве. Он прибыл сюда в надежде приобрести здесь достаточное состояние, чтобы наслаждаться потом беззаботной старостью в лоне своей семьи, но был обречен, подобно многим другим, окончить жизнь в этой стране».
Российско-Американская торговая компания использует систему денежных авансов, которые она выдает тем, кто, движимый духом предприимчивости, служит ей в подобных условиях, и тем самым удерживает этих людей в своем ярме. Принимаются различные меры, чтобы они никогда не смогли погасить свою задолженность. Как сказал своим воинам Фридрих: «Из ада нет спасения»{141}.
Мы взяли запас воды; закончили все работы и утром 13 сентября 1816 года были готовы поднять якорь. Опустилась ночь, а Эшшольц, ушедший в горы за растениями, все еще не вернулся на судно. Хоть и рискую прослыть хвастуном, но не премину рассказать о том единственном случае, когда я подвергся немалой опасности. Никто этого не заметил, никто меня не поблагодарил, и здесь об этом будет упомянуто впервые. Капитан приказал мне взять нескольких матросов и алеутов и отправиться на поиски доктора в горы, где он, должно быть, заблудился, увлекшись сбором растений. Я попросил пару пистолетов для сигнальных выстрелов, но мне не дали. Я повел людей к обрыву у котловины, которую хотел обследовать. Матросы считали, что туда забраться невозможно. Но когда я оказался наверху, ибо знал этот проход, все последовали за мной, и мы с обратной стороны подошли к более пологому склону зубца скалы, по гребню которой я намеревался идти. С «Рюрика» прозвучал пушечный выстрел, призывавший всех вернуться обратно. Я приказал алеутам вести нас с высоты самым коротким путем к берегу. Меня подвели к ущелью, образованному талыми водами; круто, почти отвесно оно падало к морю. Как и подобало, я начал спускаться первым, а за мной поодиночке, как по лестнице, последовали другие. При этом не удалось избежать камнепада. Позже, когда я посмотрел вверх на ущелье, то никак не мог понять, как нам всем удалось в ночной тьме спуститься невредимыми. Когда мы вернулись на корабль, доктор уже давно был там. Можно было спокойно ложиться спать. Я еще не проснулся, когда 14 сентября 1816 года «Рюрик» вновь поднял паруса.
От Уналашки к Калифорнии. Пребывание в Сан-Франциско
Ранним утром с попутным ветром мы вышли из гавани Уналашки. В бухте матросы выстрелили по киту, подплывшему слишком близко; я был еще в постели. Капитану расхвалили проход между островами Акун и Унимак как самый надежный, чтобы пересечь цепь Алеутских островов с севера на юг. Поэтому он и выбрал этот маршрут, а потом рекомендовал его всем мореходам. Погода была ясная, и высокий пик Унимака на острове, высоту которого О. Коцебу определил в 5525 английских футов, был свободен от облаков. Обстоятельство, задержавшее нас здесь,— сильное свечение моря между островами — благоприятствовало съемке местности для составления карты, на которую Коцебу ссылается, но которую не приводит. 16 сентября мы были уже в открытом море.
Теперь нашей главной задачей было избежать северной зимы. Мне в данном путешествии удалось обойти три зимы, а это, на мой взгляд, самое удачное из того, что мне довелось сделать в своей жизни. Три зимы! Если бы мне пришлось опять пережить зиму, думаю, что я нашел бы в себе достаточно мужества, но хвалить и прославлять ее не могу, да и не хочу. Мы, жители зимних стран, восхваляем божественную мудрость, которая дарит нам радость встречи весны. Не следует ли нам обратиться к властям предержащим с просьбой полдня подвергать нас пытке, чтобы мы радовались тому моменту, когда она прекратится? Смена времени года за полярным кругом на нашей планете — это такое явление, о котором большая часть публики не имеет представления. Наши поэты могут восхвалять многие из благословенных даров бога, обеспечивающего их материалом для весенних песен. Однако тому, кто однажды пересек полярный круг, непонятно и даже кажется неправдоподобным, что человек, это вилообразное голое животное, смог поселиться в северных странах на 52° и даже на 72° северной широты, где он влачит жалкое существование, опираясь лишь на силу своего духа. Подумайте об этом, божьи создания, и в зимний день выйдите наружу и оглядите вымершую на полгода местность, укутанную снежным саваном. Прерванная жизнь спит в семени и яйце, в зародыше и в личинке, глубоко под землей, глубоко в воде подо льдом. Птицы улетели; амфибии и млекопитающие погрузились в зимнюю спячку; лишь немногие виды теплокровных животных паразитически собираются у ваших жилищ; лишь немногие из более крупные независимых видов могут пережить это суровое время ценой огромных лишений[13].
Но такое разумное животное, как человек, владея похищенным им огнем{142}, не знает на земле никаких ограничений. Живущие на 60° сев. широты остякские рыбаки, сообщает нам Адольф Эрман («Reise». I, с. 721){143}, тоже знают о потерянном рае, но они помещают его на севере и даже за полярным кругом! Сага, достойная внимания.
Мне уже пришлось упоминать об одном проповеднике в Лапландии. Семь лет этот человек провел в своем приходе, за пределами той зоны, где растут деревья. Когда наступали теплые летние месяцы, он оставался совсем одни; его паства вместе со стадами оленей перебиралась в более прохладные области у моря. В зимние лунные ночи он садился в сани и ездил по округе, ставил палатку, хотя в термометре замерзала ртуть, навещал своих лапландцев, которых очень любил, и совершал службу. Только дважды за эти семь лет он в своем уединении слышал обращенные к нему слова сородичей по крови и языку: первый раз его навестил брат, а другой — с ним заговорил заблудившийся в этой местности ботаник. Проповедник умел ценить радость, которую человек приносит человеку; но ни эту радость, ни что-либо другое, уверял он, нельзя сравнить с тем блаженством, которое испытываешь при виде того, как после долгой зимней ночи солнечный диск снова поднимается над горизонтом.
Весна для нас — это пробуждение от длительной, медленно текущей болезни, и последнее определение более правомочно, чем зимняя спячка, какая бывает у зверей. Человек живет полнее и интенсивнее под щедрым солнцем, вызывающим жизнь из недр земли, как, например, в Бразилии; под холодным небом, на скудной почве он больше занят счетом дней и лет.
Сказать по правде, мне хотелось бы жить в краю, где растут пальмы, и сознавать, что зиму, это старое чудовище, изгнали за зубцы гор. Я охотно нанес бы этому чудовищу государственный визит в его царстве вместе с Парри{144} или Россом{145}, но с трудом могу подумать о том, чтобы приютить его в своем доме на полгода. За эти годы, пока стояли два северных лета, мы лишь несколько раз испытывали ночные заморозки — такие и у нас в это время года не такая уж редкость.
«Рюрику» постоянно сопутствовали попутные северные и северо-западные ветры; равноденствия и полнолуния сопровождались весьма сильным ветром, почти штормом, помогавшим нам двигаться вперед на всех парусах.
Мы держали курс на Сан-Франциско в Новой Калифорнии{146}. Капитан Коцебу, получивший от капитанов судов Российско-Американской компании богатую информацию о Сандвичевых [Гавайских] островах, куда ему в соответствии с инструкциями надлежало направиться из Уналашки, выбрал именно эти острова, где из-за частых посещений судов цены на все товары и услуги повысились и где расплачивались только испанскими пиастрами, листами меди, оружием и тому подобными материалами. Он выбрал этот порт для отдыха команды «Рюрика» и пополнения запасов провианта.
Поскольку об этом плавании мне сообщить нечего, включу в свой рассказ кое-что другое, о чем еще не упоминал. К тому распорядку дня на корабле, о котором я уже сообщал раньше, хочу добавить, что уже в 10 вечера гасили свет. Учитывая монотонный, без всякой затраты энергии образ жизни, никто из нас после этого не мог крепко, без сновидений, уснуть; мы долго лежали без света в полусне, предаваясь грезам. О них я и хочу рассказать. Я никогда не грезил о действительности, о путешествии, о мире, к которому теперь принадлежал. Корабль, как колыбель, укачивал меня, я становился ребенком, время возвращалось вспять, я вновь был в родительском доме, дорогие исчезнувшие образы окружали меня, двигались в своей повседневной обыденности, как будто я совсем не вырос за эти годы, как будто их не унесла смерть. Я грезил о полку, в котором служил, вспоминал муштру и шагистику. Звучала барабанная дробь, я прибегал, а между мной и моей ротой уже стоял старый полковник и кричал: «Но, господин лейтенант, сто чертей бы вас побрали!» О, этот полковник! Он неотступно преследовал меня на морях пяти частей света, это ужасное чучело, потому что я не мог найти свою роту и являлся на парад без шпаги, потому что... не помню еще почему; и все время угрожающий возглас: «Но, господин лейтенант, но, господин лейтенант!» Этот мой полковник был, по существу, честным служакой и добрым малым, однако, как истинное порождение уходящей эпохи, он считал, что без грубости в его деле не обойтись. Вернувшись из путешествия, я решил навестить этого человека, так долго смущавшего мой ночной покой. Предо мной предстал восьмидесятилетний, совершенно слепой старик гигантского роста — гораздо выше, чем представлялся мне в грезах. Он жил в доме бывшего унтер-офицера своей роты, занимая маленький флигелек во дворе и из милости получая жалкое пособие, поскольку в несчастной войне{147} больше из скромности, чем по собственной вине утратил все права на пенсию. Немного удивленный тем, что его навестил офицер полка, где, надо сказать, старика не любили, не зная, как соблюсти такт, он держал себя подчеркнуто вежливо, что причиняло мне боль. Подавая руку, он двумя пальцами ощупал мое платье, и в этом движении было что-то такое, чего я никогда не забуду. Я послал ему дружеский подарок — несколько бутылок вина. Через год он умер, распорядившись перед смертью пригласить меня на похороны. Я следовал за гробом вместе со старым майором из полка и его унтер-офицером. Мир праху его!
Хочу сообщить еще кое-что о животных, пользовавшихся на борту правами членов нашей большой семьи и гостей. Валет, маленький пес из Консепсьона, был нам предан чрезвычайно, но на море показывал пример феноменальной лени. Пес просительно смотрел на нас, и стоило кому-нибудь одобрительно кивнуть, как он одним прыжком оказывался в койке и спал там до следующей еды. При каждой высадке он стремился первым попасть на берег, и если его не брали в шлюпку, то плыл вслед за ней. Валет, как и все мы, искал своих сородичей, но, найдя их, возвращался домой сильно потрепанный и растерзанный. В молодой собаке, породы, весьма распространенной у эскимосов, которую капитан привез из своего путешествия на Север, Валет нашел соперника. Этот новый пришелец получил на «Рюрике» кличку Большой Валет. Наконец, у нас была свинья по кличке Шафеха, которая мужественно шла навстречу своей уже вполне определившейся судьбе.
Когда мы плыли от Камчатки на север, у нас на борту был последний, выпущенный из клетки петух; он, как гордый холостяк, свободно разгуливал по палубе. С большим любопытством я ждал, как он будет вести себя и спать после того, как солнце перестанет заходить. Наблюдения прервались по двум причинам: во-первых, мы не продвинулись так далеко на север и, во-вторых, петух перелетел через борт, упал в море и утонул, прежде чем мы достигли острова Св. Лаврентия.
Однако возвращаюсь к нашему плаванию. 2 октября 1816 года в 4 часа дня мы вошли в гавань Сан-Франциско. В форте у южного входа в бухту царило большое оживление; там подняли свой флаг, мы показали свой, здесь как будто еще неизвестный, и салютовали испанскому флагу семью залпами, на что по испанскому обычаю было отвечено двумя залпами меньше. Мы бросили якорь перед стенами президио{148}, но ни одна шлюпка не отошла от берега нам навстречу, потому что у Испании в этом чудесном уголке моря не было ни одного судна.
Мне сразу приказали сопровождать лейтенанта Шишмарева в президио. Лейтенант дон Луис де Аргуэлло, ставший после смерти ротмистра комендантом, принял нас исключительно дружелюбно, немедленно осведомился о насущных нуждах «Рюрика» и послал на корабль фрукты и овощи. В тот же вечер он направил гонца в Монтерей к губернатору Новой Калифорнии с известием о нашем прибытии.
На другое утро (3 октября) я встретил артиллерийского офицера дона Мигуэля де ла Люс Гомеса и патера из здешней миссии, которые прибыли к нашему кораблю, когда я по поручению капитана собирался отправиться в президио. Я проводил их на борт; они передали самые дружественные обещания помощи со стороны коменданта и богатой миссии. Духовный пастырь, кроме того, приглашал нас на следующий день, в праздник св. Франциска, посетить миссию Сан-Франциско, для чего нам будут поданы лошади. По просьбе капитана нас весьма щедро снабдили мясом и растительной пищей. После обеда на берегу были поставлены палатки, обсерватория и устроена русская баня. Вечером мы нанесли визит коменданту. Президио салютовал в честь прибытия капитана восемью пушечными залпами.
Однако капитан не только хотел, чтобы был дан этот, салют особой вежливости, но и твердо настаивал еще на двух залпах, полагающихся русскому флагу. Переговоры велись долго, и лишь неохотно, по принуждению (возможно, это произошло по приказу губернатора) дон Луис де Аргуэлло распорядился произвести еще два залпа. Пришлось отправить в форт одного из наших матросов, чтобы привести в порядок веревку для подъема флага. Ее порвали, когда поднимали флаг последний раз, а среди местных жителей не нашлось ни одного, кто решился бы взобраться на мачту.
Праздник св. Франциска дал нам повод наблюдать как деятельность миссионеров, так и народ в «прирученном состоянии», которое они ему навязали. К тому, что написано об этом в «Наблюдениях и замечаниях», мне добавить нечего. О местных племенах можно прочитать у Хориса, давшего в своей книге «Живописное путешествие»{149} также серию хороших портретов; следует исключить лишь нарисованные позже в Париже листы X и XII: всем известно, что луком и стрелами так, как там изображено, не пользуются. В своих текстах Хорис записал даже калифорнийскую музыку. Не знаю, кто смог в этом и в других местах его книги дать нотную запись пения Хориса. Допускаю, что мой друг пел лучше меня, но он не сможет оспорить преимущества моего пения: его почти не было слышно.
Здесь, как и в Чили, капитан сумел приохотить коменданта и его офицеров к нашему столу. Мы ели в палатке на берегу, и друзья из президио не заставляли себя ждать. Отношения складывались почти сами собой. Бедность, которую они испытывали в течение 6-7 лет, забытые и покинутые своей родиной — Мексикой, не позволяла им быть настоящими хозяевами, а потребность излить душу побуждала их сближаться с нами, ибо в нашей компании они чувствовали себя легко и непринужденно. Они с раздражением говорили о миссионерах, которые, несмотря на плохое снабжение, имели в избытке съестные припасы. Кое-что из самых необходимых продуктов миссионеры давали тем, у кого кончились деньги, но только под расписку, причем ни хлеба, ни муки они не давали. На протяжении многих лет люди не видели хлеба, питаясь только кукурузой. Даже отряды, охраняющие миссии, обеспечиваются продовольствием очень скупо, и тоже под расписку. «Слишком уж благородны эти господа! — воскликнул дон Мигуэль, имея в виду коменданта.— Они должны дать нам возможность производить реквизиции, требовать поставок». Один солдат пошел еще дальше и пожаловался нам, что комендант не позволяет им ловить людей в глубинных районах и, как это делают миссионеры, заставлять их работать на себя. Недовольство вызвало и то, что новый губернатор Монтерея дон Паоло Висенте де Сола, вступив в должность, повел борьбу с черным рынком, который удовлетворял насущные потребности людей.
8 октября из Монтерея вернулся курьер и привез капитану письмо от губернатора, уведомлявшее его о скором прибытии в Сан-Франциско. Дону Луису де Аргуэлло по желанию капитана Коцебу поручалось направить нарочного в Бодегу к Кускову; капитан написал последнему, рассчитывая получить из его цветущего торгового поселения многое из того, в чем начинал нуждаться «Рюрик».
«Г-н Кусков,— пишет капитан Коцебу (т. II, с. 9, примечание),— обосновался в Бодеге по приказу г-на Баранова, агента Российско-Американской компании. Оттуда он снабжает съестными припасами все владения компании»{150}. Но Бодегу, расположенную примерно в 30 милях — половине дня пути — к северу от Сан-Франциско, испанцы не без основания рассматривали как свою собственность. На этой испанской территории г-н Кусков с двумя десятками русских и пятьюдесятью кадьякцами в условиях мира создал довольно большую крепость, располагающую дюжиной пушек. Здесь занимались сельским хозяйством, содержали лошадей, мясной скот, овец, имелась ветряная мельница и т. д. Тут же была база для торговли с испанскими портами, и сюда, на калифорнийское побережье, Кусков посылал своих кадьякцев ловить каланов{151}. Ежегодно их вылавливали до 2 тысяч. Как сообщает, по-видимому, хорошо информированный Хорис, на рынке в Кантоне шкурки худшего качества продавались по 35 пиастров за штуку, а лучшего — по 75 пиастров, в среднем по 55 пиастров. Оставалось только сожалеть, что гавань Бодега могла принимать лишь суда с осадкой не более У футов.
Мне кажется вполне понятным, почему губернатор Калифорнии, когда до него наконец дошли сведения об этом поселении, проявил крайнее недовольство. Были предприняты меры, чтобы побудить Кускова уйти из Бодеги; однако последний в ответ на все обращения неизменно адресовал испанские власти к г-ну Баранову, который направил его сюда и по чьему приказу, если таковой последует, он весьма охотно отсюда уйдет. Так обстояли дела, когда мы прибыли в Сан-Франциско, и губернатор возлагал теперь надежды на нас. Я тоже поведу речь о конференциях и переговорах и обнародую важные факты моей дипломатической карьеры. Но пока еще не время.
9 октября несколько испанцев переправились на северный берег, чтобы при помощи лассо поймать там лошадей для курьера, отправляемого к Кускову. Я воспользовался этой возможностью, чтобы познакомиться с местностью. Тамошние красно-коричневые скалы сложены, как сказано в «Наблюдениях и замечаниях» (в чем можно наглядно убедиться, посетив берлинский Минералогический музей), кремнистыми сланцами, а не конгломератами, как утверждает Мориц Энгельгардт («Kotzebues Reise». Bd. 3, с. 192){152}, основывая на этом свои дальнейшие построения.
Год близился к концу, и местность, казавшаяся Лангсдорфу{153}, когда он ее наблюдал, цветущим садом, теперь представала перед ботаником сухим, вымершим полем. На одном из болот около нашей палатки зеленело какое-то водное растение, о котором Эшшольц спросил меня уже после нашего отъезда. Я его не заметил, но Эшшольц полагал, что такое растение (а к ним я питал особую слабость) не ускользнуло от моего внимания, и поэтому не сорвал его, не желая зря мочить ноги. Вот чего можно ожидать даже от ближайшего друга!
На голой равнине, расстилающейся возле президио, далее на восток среди низких кустов стоит одинокий дуб. Это дерево еще недавно видел мой юный друг Адольф Эрман; если бы он рассмотрел его повнимательнее, то увидел бы мое имя, вырезанное на коре.
15-го возвратился от Кускова курьер, а на другой день вечером орудийные залпы президио и форта возвестили о прибытии губернатора из Монтерея. Потом из президио прибежал нарочный с просьбой, чтобы наш врач помог двум тяжело раненным людям, обслуживавшим одну из пушек. Эшшольц тотчас направился на место происшествия.
17-го Отто Коцебу на борту корабля ожидал первого визита губернатора провинции, а губернатор, пожилой человек и офицер высокого ранга, в свою очередь, полагал, что Коцебу первым нанесет ему визит в президио. Капитан случайно узнал, что его ждут в президио, и послал туда меня с деликатным поручением осторожно сообщить губернатору, что капитану-де стало известно, будто губернатор собирается посетить его утром на борту «Рюрика», и что капитан ждет его. Я увидел маленького человека в парадной форме, при всех регалиях и атрибутах, на нем был даже ночной колпак, который он в нужный момент готов был снять, но пока держал на голове. Я старался как можно лучше выполнить поручение: лицо этого человека вытянулось втрое по сравнению с его обычной длиной. Он прикусил губу и сказал, что сожалеет, но натощак не переносит езды по морю, печально, но должен отказаться от радости знакомства с капитаном. Я понял, что старик может сесть на лошадь и несолоно хлебавши поскакать по. пустыне назад в Монтерей, ибо нельзя было надеяться на то, что капитан Коцебу, раз дело дошло до столкновения, пойдет на уступки.
Размышляя об этом, я спустился к берегу, но именно тогда вмешался добрый гений и, прежде чем дело дошло до недоразумений, установил прочный мир, заключив прекрасный дружеский союз. Утро прошло, и наступил час, когда капитану Коцебу понадобилось съездить на берег, чтобы замерить высоту солнца и завести хронометр. Находившиеся на берегу наблюдатели сообщили в президио о приближении капитана, и, когда тот ступил на сушу, губернатор начал спускаться со склона к нему навстречу. Капитан, в свою очередь, стал подниматься наверх, чтобы встретить губернатора. И на полдороге Испания и Россия упали друг другу в объятья.
В нашей палатке был устроен обед, и, когда речь зашла о Бодеге, капитан имел возможность высказать сожаление, что, не имея инструкции, не может урегулировать несправедливость, причиняемую Испании. Из этой гавани сегодня прибыла большая байдара, доставившая от Кускова все, что требовал капитан. С этой же байдарой, которая на следующий день, 18 октября, возвращалась обратно, капитан Коцебу от имени губернатора направил Кускову приглашение прибыть на конференцию в Сан-Франциско.
18 октября мы не видели губернатора, возможно ожидавшего в президио государственного визита. 19-го там были накрыты столы, и тост за союз монархов и дружбу народов сопровождался артиллерийским салютом. 20-го обедали у нас, а вечером танцевали в президио. Когда колокол пробил восемь, музыка на время умолкла, и в тишине была совершена вечерняя молитва.
Капитан Коцебу был чрезвычайно любезен, и дон Паоло Висенте де Сола, весьма заботившийся о формальностях, на которые у нас не обращали особого внимания, успокоился и быстро сошелся с нами, пообещав показать любимое здесь зрелище — борьбу медведя с быком. 21-го десять-двенадцать солдат переправились в баркасе миссии на северный берег, чтобы поймать медведя с помощью лассо. Поздним вечером со стороны моря были слышны крики: значит, охотники за медведями находились на том берегу; но лагерного костра мы не видели. Индейцы могут поднять очень сильный шум. Только вечером 22-го охотники вернулись и привезли маленькую медведицу. Они могли бы поймать и более крупного зверя, но было слишком далеко нести его до берега.
Медведице, которая должна была на другой день участвовать в борьбе и провела ночь на баркасе, против обычая оставили голову и морду свободными, чтобы она была смелее. Губернатор весь день и вечер провел в наших палатках. Ночью на берегу в отдаленной части гавани горели большие костры; у местных жителей существует обычай выжигать траву, что способствует ее росту{154}.
23 октября на берегу состоялась борьба медведя с быком. Зверей связали, и они дрались неохотно, поэтому зрелище не воодушевляло. Жаль было лишь бедных созданий, с которыми так позорно обращались. Вечером нас с Глебом Семеновичем пригласили в президио. Губернатору только что сообщили, что корабль из Акапулько, который уже много лет не бывал в этих краях, наконец доставит необходимые грузы из Калифорнии в Монтерей. Вместе с этим известием он получил и свежие газеты из Мехико. Губернатор всякий раз проявлял ко мне симпатию и благорасположение, на сей раз он поделился со мной газетами. Издаваемые под королевским патронатом, они содержали лишь краткие сведения о «la pacification de las provincias» — «покорении провинций»— и длинную статью с продолжениями: историю Иоганны Крюгер, унтер-офицера Кольбергского полка. Мне известна сия история, ибо я имел возможность лично познакомиться с этой храброй женщиной-солдатом у одного из офицеров полка.
Дон Паоло Висенте, спустившись однажды из президио к нашим палаткам, торжественно преподнес в подарок a su amigo — своему другу дону Адельберто, ботанику,— цветок, сорванный им по дороге. Это оказалась наша гусиная лапчатка (Potentilla anserina); лучшего экземпляра не сыщешь и в Берлине.
В Монтерее тогда было много пленных разных национальностей; в эти места их привели контрабандная торговля, охота на каланов и страсть к приключениям. Случалось, что одни страдали за других. Среди них была пара алеутов, или кадьяков, с которыми 7 лет назад один американский капитан занимался промыслом каланов в испанских водах этого побережья. Среди пленных в Монтерее находился и Джон Эллиот де Кастро, о котором речь пойдет ниже. После многих приключений он, будучи суперкарго одного из судов Российско-Американской компании, направленных г-ном Барановым из Ситхи [Ситка] для контрабандной торговли на этом побережье, попал вместе с частью экипажа в руки испанцев. Среди пленных там находилось трое русских, бывших служащих Российско-Американской компании. Они ушли из поселения Бодега и теперь, оторвавшись от языка и обычаев своей родины, видимо, сожалели о содеянном.
Дон Паоло Висенте де Сола предложил выдать капитану пленных русских, к которым относили и алеутов, и кадьяков, хотя он отказывался передать их г-ну Кускову. Нам показалось, что испанцы не требовали исполнения какой-либо службы и не имели выгоды от этих лишенных родины людей. Король Испании распорядился или должен был распорядиться отпустить на содержание каждого военнопленного по полтора реала в день. Капитан, стесненный обстоятельствами, соглашался принять на борт только трех русских, покинувших Бодегу, и доставить их на Сандвичевы острова, откуда они легко могли попасть в Ситху или в какое-нибудь другое место по своему усмотрению. Губернатор послал за русскими и, когда они прибыли, передал их капитану Коцебу, предварительно взяв с него честное слово, что эти люди, искавшие и нашедшие защиту у испанцев, не будут подвергнуты наказанию. Я счел все это весьма благородным.
Среди русских был старик Иван Строганов, радовавшийся, что очутился у земляков. Поскольку он уже не мог нести матросскую службу, капитан приказал ему прислуживать нам, пассажирам, в кают-компании. В один из последних дней нашей стоянки в гавани старика послали на охоту. Несчастный! Накануне отъезда его пороховница взорвалась; его принесли на корабль смертельно раненного. Старик хотел умереть только среди русских, и капитан из жалости оставил его на борту. Он скончался на третий день плавания. Тело его тихо опустили в море, а с ним и последнюю надежду на то, что наши сапоги будут вычищены хоть раз за время путешествия. Мир праху твоему, Иван Строганов!
Однако я забежал вперед.
25 октября на семи маленьких байдарах из Бодеги прибыл г-н Кусков, опытный и вполне соответствующий своей должности человек.
26 октября в предобеденные часы в президио состоялась дипломатическая конференция. Дон Паоло Висенте де Сола, губернатор Новой Калифорнии, подчеркнул, что Испания имеет неоспоримое право на территорию, занятую под русское поселение, управляемое г-ном Кусковым, и потребовал от него освободить эти земли. Г-н Кусков, представитель Российско-Американской торговой компании и глава поселения в Бодеге, заявил, что он может покинуть Бодегу, но лишь в том случае, если получит соответствующее указание от своего начальника г-н Баранова, который его туда направил. Губернатор потребовал от г-на Коцебу осуществить эвакуацию русских из Бодеги. Лейтенант императорского русского военного флота и капитан «Рюрика» Отто Коцебу отказался вмешиваться в эту историю. Таким образом, мы пришли к тому, с чего начали.
В конце концов договорились составить протокол переговоров в двух экземплярах. Все участники подписали его и скрепили печатями, а затем его следовало направить обоим монархам: его величеству русскому императору — через капитана «Рюрика», его величеству королю Испании — через губернатора Новой Калифорнии.
Я слышал, что упомянутый протокол{155} был доставлен в Петербург и, не получив дальнейшего хода, подшит к делу в соответствующем министерстве. Дона Паоло Висенте де Сола, губернатора Новой Калифорнии, наградили русским орденом, а я получил от г-на Кускова почетный дар — красивый мех выдры. Вы и сейчас еще можете его увидеть в берлинском Зоологическом музее, которому я его подарил.
Последствия конференции 26 октября были весьма неблагоприятны для «Рюрика». Переговоры затянулись далеко за полночь, и вместо капитана хронометр пришлось заводить кому-то другому. Капитан сообщил мне, что большой хронометр после этого фактически стал непригодным.
Территориальные притязания Испании на это побережье расценивались американцами и англичанами не выше, чем русскими. Устье реки Колумбии Испания тоже считала своим владением. Об истории тамошнего поселения испанцы и г-н Эллиот рассказывали почти одинаково. Американцы отправились туда из Нью-Йорка частью по суше, а частью морем и основали там поселение. В годы войны между Англией и Америкой для захвата этого поста был направлен фрегат «Енот» под командованием капитана Блека. Английские купцы из Канады прибыли в этот район, и, когда военный корабль, угрожавший колонии, находился уже в виду гавани, они за высокую плату — 50 тысяч фунтов стерлингов — купили это место и подняли английский флаг. Торговый путь по суше должен был связать Колумбию с Канадой.
Время нашего пребывания в Калифорнии подошло к концу. В воскресенье 26 октября после поездки в миссию мы дали торжественный прощальный обед. Артиллерия «Рюрика» сопровождала тост за союз монархов и народов и за здоровье губернатора. Один почтенный миссионер слишком старательно приложился к виноградному зелью, и его заметно пошатывало.
28 октября лагерь был свернут и погружен на корабль. В то время как в президио мы скрепляли печатями протокол, г-н Кусков с ведома капитана Коцебу отправил две байдары на ловлю выдр в отдаленную часть бухты.
29 октября ранним утром г-н Кусков со своей флотилией байдар отплыл в Бодегу, а позже добрый дон Паоло Висенте де Сола выехал в Монтерей. Он взял с собой для пересылки в Европу наши письма — последние, полученные нашими друзьями от нас за все время путешествия. Поскольку к концу 1817 года мы не вернулись на Камчатку, в Европе нас считали погибшими.
30 октября на борт погрузили много животных, запас зерна и овощей. Одновременно на корабль залетели бесчисленные полчища мух. Мы взяли и свежую воду, хотя запастись водой в здешних гаванях, особенно летом, чрезвычайно трудно. Губернатору мы были обязаны бочонком вина из Монтерея. Наши друзья из президио пообедали с нами на «Рюрике». Все было готово к отплытию.
31-го друзья собрались на корабле, чтобы проститься с нами; после обеда кое-кто из наших еще раз съездил в миссию. Поздно вечером прибыл г-н Джон Эллиот де Кастро, который все еще не знал, воспользоваться предложением капитана или нет. Наконец он решил этот вопрос положительно.
1 ноября 1816 года, в день праздника всех святых, утром, в 9 часов, когда наши друзья были в церкви, мы подняли якорь. Однако они пришли в форт — мы видели это, когда «Рюрик» проплывал мимо. С пушечным выстрелом они подняли испанский флаг, а мы тотчас подняли свой. Друзья первыми салютовали нам семью залпами, на которые мы ответили столькими же.
Вода в гавани Сан-Франциско сильно фосфоресцировала мельчайшими светящимися точками, и волны, бившиеся о берег за пределами бухты, мерцали. Я исследовал воду гавани под микроскопом и обнаружил в ней немногочисленные мельчайшие инфузории; они, как мне кажется, не играют никакой роли при свечении.
Ежедневно мы наблюдали здесь игру тумана: когда господствующий морской ветер относил его на восток, к освещенному солнцем берегу, он распадался на части, а затем рассеивался. Особенно красивым было зрелище, представшее перед нами при отплытии, когда облака то скрывали от нас различные вершины и части побережья, то вновь открывали их нашим взорам.
Из Калифорнии на Сандвичевы острова
1 ноября 1816 года только мы вышли из гавани в открытое море, как подул сильный ветер, который так раскачивал корабль, что у бывалых матросов и даже у капитана начался приступ морской болезни. Я никогда не мог избежать этой напасти и страдал всякий раз, возвращаясь на море, даже после самого короткого пребывания на суше; не буду говорить о том, что и на этот раз лежал пластом. Ветер сдул мух — на другой день на «Рюрике» не было ни одной. 2-го мы видели крупные морские водоросли, потом дельфина, а 4-го под 30° сев. широты — первую тропическую птицу.
Море было голубое, небо сплошь покрыто облаками, кругом пустынно, как ни в одном другом районе океана. Никаких птиц, кроме тропических. Они летали высоко и пронзительно кричали. Часто мы слышали, но не видели их; нередко эти птичьи голоса были слышны ночью.
В поясе между тропиками нас встречали затяжные южные и юго-западные ветры. По вечерам на юге полыхали зарницы. Временами южный ветер сменялся штилем, но потом неизменно возобновлялся, 8 ноября вокруг киля играли и резвились дельфины. 12-го утром и вечером нас сопровождала пара кашалотов (Physeter?).
16 ноября (22°34' сев. широты, 104°25' зап. долготы) мы наконец ощутили пассат.
21-го сквозь облака показались горные цепи островов Оваи [Гавайи].
Джон Эллиот Кастро, в чьих жилах перемешалась английская и португальская кровь, был так мал, что его можно сравнить лишь с фигурирующим у Жана Поля коротышкой{156}, который сам себе не доставал до колен, не говоря уж о более высоких людях. Благочестивый католик, он все свои надежды связал с кольцом братства Св. Франциска. Джон носил его, и за это ему было уготовано совершенно особое снисхождение. Он женился в Рио Жанейро [Рио-де-Жанейро] и работал там хирургом в госпитале. Однако он был влюблен, и влюблен несчастливо, эта страсть погнала его в дальние странствия и ввергла во многие несчастья; он был влюблен в двадцать тысяч пиастров, которыми не мог завладеть, и говорил о них с такой захватывающей страстью, правдивостью и увлеченностью, которые отличают лишь немногие стихотворения в поэтических альманахах. Его страсть была поистине романтической. Было трогательно смотреть, как он перегибался через борт «Рюрика» и, воображая, что видит в голубой дали парус, кричал: «Американец! Он нагружен пиастрами, полученными от контрабандной торговли со святыми отцами на испанском побережье! У нас больше пушек, чем у него! Мы можем его захватить!» Но вокруг не было ни одного судна. Попробовав однажды в Буэнос-Айресе спекулировать табаком, он угодил в тюрьму. Прежде чем отправиться искать счастья у г-на Баранова, что закончилось тюремным заключением у испанцев, он два года искал его на Сандвичевых [Гавайских] островах, где пытался торговать жемчугом реки Жемчужной. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Он стал личным врачом короля Тамеамеа{157}, который дал ему землю, и теперь, возвращаясь к своей семье, Джон надеялся найти эти земли в хорошем состоянии и зажить по-прежнему.
Общение с нашим гостем на «Рюрике» было для меня весьма поучительно. Я, конечно, читал все, что написано о Сандвичевых островах, и собрал много сведений об их нынешнем положении, особенно о торговле, перевалочным пунктом для которой они стали. Но здесь передо мной был житель Ваху [Оаху] по прозвищу Ная Хаоре («дельфин белых людей»), общавшийся с этим народом и принадлежавший к определенной касте; он мог познакомить меня с языком и обычаями. Я воспользовался представившейся мне возможностью и действительно, прибыв туда, где живет этот привлекательный; и еще не утративший своей самобытности народ, был уже хорошо подготовлен, и даже язык, чем-то напоминающий детскую речь, не показался мне совсем чужим. Как старательный ученик, я охотно и сердечно выражаю здесь своему доброму учителю самую большую благодарность. Но и ученик доставил учителю немалую радость: когда однажды мы заговорили о даре пророчества, я серьезно и многозначительно предсказал ему, что он закончит свои дни в монастыре как духовное лицо ордена. И, судя по тому, как он был растроган, меня ничуть не удивит, если само пророчество станет началом его осуществления.
В мой адрес в это время были сказаны слова, сердечно меня порадовавшие, которые я, пусть это даже и нескромно, хотел бы здесь воспроизвести. Застольная беседа, как обычно, коснулась страны, куда мы направлялись, народа, с которым придется общаться. Ранее мы лишь видели полинезийцев, теперь будем жить среди них. Я сказал, что на этот раз мое любопытство особенно сильно и что многого жду от новых впечатлений. На это капитан Коцебу, не скрывая намерения сказать мне нечто неприятное, заметил, что я мог бы и не употреблять выражения «на этот раз», ибо я из тех людей, кто всегда проявляет особое любопытство, и никто так не полон ожиданий, как я. Таким образом, было признано, что именно я, самый старший по возрасту, духом и сердцем моложе всех.
Продолжаю описание путешествия. Ни одна морская птица не возвестила нам с наветренной стороны Сандвичевых островов приближение суши, не встретили мы их и между островами. Несколько тропических птиц пролетело очень высоко в воздухе, и низко над волнами носились летучие рыбы.
Мы держали курс к северо-западной оконечности Оваи, чтобы обогнуть его по совету г-на Эллиота, побеседовать с Хаул-Ханной, г-ном Юнгом{158} в заливе То-кахаи (область Кохала), где жил этот человек, весьма известный в истории Сандвичевых островов. Г-н Юнг сообщил нам необходимые сведения о нынешнем состоянии дел и местопребывании короля. Мы должны непременно представиться королю, прежде чем войдем в гавань Хана-руру [Гонолулу] находящегося дальше к западу острова Ваху.
В ночь на 22 ноября и утром нашему взору открылись плавно вздымающиеся вверх вершины, на которые днем и вечером опускаются облака. Мы увидели также Мауна-Кеа (Малую гору). Она хоть и ниже Монблана, но над морем поднимается выше, чем тот над долинами, откуда на него можно смотреть. Северный берег у подножия Мауна-Кеа — самое пустынное место на всем острове.
Днем мы обогнули северо-западное холмистое побережье Оваи, проплыли по проливу, отделяющему этот остров от Муви [Мауи], и там, в ветровой тени, прекратился пассат. Вдоль западного побережья Оваи мы шли при очень слабых ветрах с суши и с моря или при полном штиле.
Со стороны предгорий к нашему кораблю подплыли на каноэ два островитянина. Один из них поднялся на палубу и столь робко и нерешительно отвечал на вопросы хорошо ему знакомого Найаса, что у того возникли опасения, не случилось ли чего-нибудь на острове. Мы узнали, что Хаул-Ханна и большинство вождей находятся на Ваху, а Тамеамеа — на Карекакуа [Кеала-кекуа]. Привязанное к кораблю каноэ перевернулось вместе с сидевшим в нем островитянином, и нам представился случай восхищаться силой и сноровкой этих рыбаков.
Еще в открытом море с корабля можно было видеть построенные на европейский манер дома г-на Юнга, возвышавшиеся над соломенными крышами хижин островитян. Все побережье было усеяно поселениями, но лишено тени. Лишь южнее вдоль берега дома перемежались с кокосовыми пальмами. Леса растут высоко в горах, образуя целый пояс, и не спускаются в долины. В разных местах острова вверх вздымались клубы дыма.
К «Рюрику» подплыли и другие каноэ, нам удалось поговорить со многими островитянами, а одного бывалого человека из окружения короля, видевшего и Бостон на северо-западном побережье Америки, и Китай, мы попросили остаться на борту и быть нашим лоцманом до Карекакуа. Мы узнали, что в Хана-руру находятся два американских судна, а у Карекакуа — третье, сильно потрепанное штормом, без мачт, случайно оказавшееся близ этих островов. Наконец, нам стало известно, что с Российско-Американской торговой компанией сложились плохие отношения и в связи с этим ожидается визит русских военных кораблей.
При таких обстоятельствах мы появились на Ваху и сочли для себя удачей, что на борту находился Эллиот, личный врач короля, который мог поручиться за нас.
Всю ночь был полный штиль. Утром 23 ноября мы узнали, что король из Карекакуа переехал к северу, в Тиутатуа [Keayxoa], ближе к нам, к подножию Ворораи [Хуалалаи], но долго не задержится. Г-н Эллиот направил ему известие о нас и о себе и сообщил о желании капитана встретиться с его величеством в Тиутатуа.
«Рюрик» продвигался вперед очень медленно. Вечером загарпунили дельфина. Ночью ветер усилился. Утром 24 ноября мы были у Тиутатуа. В бухту только что на всех парусах вошел американский корабль. Капитан приказал спустить малый бот, в котором Эллиот, я, Эшшольц и Хорис направились к берегу. По пути мы встретили европейца в каноэ, который пересел в наш бот.
Деревня на морском берегу под пальмами очень живописна. За ней поток застывшей лавы, поднимающийся к гигантскому конусу Ворораи. На выступе лавы стояли две кумирни с отвратительными идолами.
На берегу собралась толпа вооруженных людей. Старый король, к чьей резиденции мы подплыли, в окружении жен сидел на красивой террасе в национальной одежде — пурпурном маро (набедренной повязке) и черном, широком, складчатом плаще из лубяной материи— тапы. У европейцев он заимствовал ботинки и легкую соломенную шляпу. Черный плащ носят лишь знатные особы; красящая смола, которой пропитывают материю, делает плащ непромокаемым. Все подданные сидят ниже короля с обнаженными плечами. Старый властитель охотно принял своего врача, не выказав, впрочем, чрезмерной радости, и выслушал его сообщение о мирной цели нашей экспедиции; затем он приветствовал нас в знак мира, пожал нам руки и пригласил отведать жареной свинины. (Я горжусь тем, что три выдающихся деятеля старого времени пожимали мне руку: Тамеамеа, Джозеф Бэнкс{159} и Лафайет{160}. Обед мы отложили до прибытия капитана; Эшшольц и я решили пособирать растения, а Хорис остался и предложил королю нарисовать его портрет. Тамеамеа выделил нам для охраны одного из придворных, предупредив, что народ сильно возбужден. Он пожелал позировать только в европейском наряде, а именно в красном жилете и рубашке с рукавами, но без сюртука, который стесняет движения. Король поручил Эллиоту сопровождать капитана на берег и направил вместе с ним двух из своих наиболее знатных вождей; один из них должен был оставаться на корабле заложником, пока капитан не вернется на борт.
Теперь коротко расскажу о событиях, предшествовавших нашему появлению на Сандвичевых островах.
Некий доктор Шеффер в 1815 году прибыл на корабле «Суворов» (капитан корабля — лейтенант Лазарев){161} как судовой врач в Ситху [Ситку] и остался там на службе у Российско-Американской компании. Возможно, посланный г-ном Барановым с научными целями, он попал на Сандвичевы острова, где пользовался покровительством короля. Доктор Шеффер объехал многие острова. На Ваху, у которого стояли два корабля Росссийско-Американской компании («Клеменция» и «Открытие»), были допущены какие-то выпады против короля и местной религии. Люди Шеффера водрузили свой флаг над капищем{162}. Европейские посредники вмешались в конфликт, и Шеффер вынужден был ретироваться. Затем он отправился на западные острова и побудил тамошнего вождя Тамари выступить против своего сюзерена Тамеамеа.
Известно, что бывший ранее самостоятельным король Отуаи и западных островов уступил Тамеамеа власть как сильнейшему и добровольно покорился ему.
Так обстояли теперь дела. Когда мы в конце 1817 года вернулись на Сандвичевы острова, доктор Шеффер уже сыграл свою роль в этом районе: король Отуаи, которому он стал в тягость, выслал его и вновь поклялся в верности Тамеамеа. Шеффер отправился в Петербург, где, очевидно, не стали слушать его авантюристических советов и предложений. Впоследствии он объявился в Гамбурге в чине бразильского императорского офицера, занимавшегося вербовкой.
Когда мы с Эшшольцем собирали растения, нас окружила большая, скорее весело, нежели враждебно настроенная толпа. Вождь, а его нельзя было не узнать по поведению и почти гигантскому росту, смеясь, потрясал копьем, направляя острие в мою сторону, а потом с мирным приветствие «ароа!» пожал мне руку. То, что он при этом говорил, могло означать: «Вы хотели сыграть с нами шутку? Мы думали, нам придется драться, а теперь вы наши добрые друзья».
Сухое, выжженное поле за деревней сулило ботаникам небогатую добычу; и все же нам доставили большую радость первые экземпляры с Сандвичевых островов. «Циперацеа!»{163} — крикнул я доктору и издали показал ему растение. «Кипераке! Кипераке!» — закричал вслед за мной наш провожатый, бросая через голову пучки травы и танцуя, как Петрушка. Таковы эти люди, веселые, как дети, и, живя среди них, сам становишься таким же. После того, что я написал о них в «Наблюдениях и замечаниях», мне остается лишь предоставить им возможность выступить в маленьких характерных сценках.
В ожидании капитана нас провели к королевам: большим, сильным, довольно красивым женщинам. Кахуману — любимая жена короля — вошла в историю еще при Ванкувере. Они возлежали в соломенной хижине на настиле из циновок. Нам надо было расположиться среди них. Почти с ужасом я, новичок, воспринимал взгляды, бросаемые на меня моей соседкой. Я последовал за Эшшольцем, который еще раньше выбрался из хижины. Он сказал, что его королева изъяснялась еще красноречивее.
Явился капитан. Старый король принял его весьма сердечно. Он хорошо разбирался в обстановке и держался величественно, внушая почтение, и вместе с тем непринужденно. Г-н Кук, европеец, пользовавшийся его доверием и только что вернувшийся с американского корабля, куда его послали, был переводчиком. Король не скрывал своей досады на людей, которые за королевское гостеприимство отплатили черной неблагодарностью. Но в нас, прибывших сюда, чтобы вести наблюдения и заниматься исследованиями, и не имеющих к тем никакого отношения, он хочет видеть сыновей и последователей Кука и его друга Ванкувера{164}. Мы не торговцы, и король тоже не желает играть эту роль; он позаботится, чтобы все наши потребности были удовлетворены безвозмездно. Мы не обязаны ничего давать королю, а если захотим преподнести ему подарок, то это только наша добрая воля. Так говорил Тамеамеа, король Сандвичевых островов.
Наши ответные дары свидетельствовали о мирных намерениях. Две маленькие мортиры со снарядами и порохом. Железные стержни, служившие нам балластом и, видимо, понравившиеся королю, были отправлены ему в Хана-руру. Беседуя с нами, он осведомился, не можем ли мы оставить ему вина, и получил бочонок отличного тенерифского из наших запасов. Капитан захватил с собой несколько хороших яблок из Сан-Франциско. Король нашел их весьма вкусными, дал попробовать своим вождям и приказал тщательно собрать семена. По желанию капитана Коцебу Тамеамеа велел принести плащ из перьев и передал его в дар императору Александру. Без колебаний и с достоинством он отклонил приглашение посетить «Рюрик», поскольку сделать это не позволяли ему тогдашние настроения народа. Мы нанесли визит наследнику престола Лио-Лио. Не могу ничего добавить к тому, что сказано в «Наблюдениях и замечаниях», хотя приведенные там пророчества (главным образом относительно г-на Марини) не сбылись{165}. Стол для нас был накрыт на европейский манер в доме, расположенном близ королевского мараи{166}. Король и его вожди проводили нас туда, но никто не прикоснулся к пище, и мы ели одни. Потом таким же образом поели и матросы. Позже мы узнали, что во всю эту церемонию угощения вкладывался определенный религиозный смысл. Ждали врагов, а пришли друзья, ели священную свинью в священном месте, в марай короля.
Тамеамеа обедал в своем доме, и мы наблюдали за ним так же, как и он ранее наблюдал за нами. Он ел по традиционному обычаю: пища — вареная рыба и жареная птица, посуда — банановые листья, а каша из таро заменяла хлеб. Слуги ползком приносили кушанья, которые кто-либо из знатных особ передавал королю. Капитан Коцебу пишет о странном наряде придворных Тамеамеа — будто все они надевали черный фрак на голое тело. Могу припомнить лишь один-единственный случай, когда я видел такой костюм. Конечно же, он не был столь распространенным, ибо даже не бросился в глаза художнику (см. «Живописное путешествие» Хориса).
Тамеамеа оставил Эллиота при себе, хотя нам очень хотелось, чтобы доктор проводил нас на Ваху. В качестве провожатого и переводчика король дал нам одного из своих придворных более низкого ранга по имени Мануя, пользовавшегося его полным доверием. Тамеамеа велел доставить этого человека из селения, расположенного в 10 милях отсюда, поэтому он прибыл поздно. «Рюрик» оставался под парусами. Мы уже дали сигнальные выстрелы, пустили ракеты и подняли фонари, когда в 8 часов вечера Кук доставил на борт нашего телохранителя.
При очень слабом ветре, дувшем с суши, мы взяли курс на Ваху. Восход солнца 25 ноября застал нас близ Овахи [Гавайи] и Мауе [Мауи]. Ветер улегся. Стояло прекрасное утро. Величие, покой и ясность. Воздух прозрачный, и море тихое. Чистые и безоблачные, вздымались высокие, с плавными очертаниями горные вершины обоих островов. Капитан Коцебу воспользовался этим моментом, чтобы измерить высоту гор.
Ночью поднялся ветер, мы вновь встретились с пассатом. Увидели огни на острове Тауора. 26 ноября быстро прошли вдоль цепи островов и взяли курс на юг. Недалеко выбрасывали фонтаны два кита. Мануя лежал на палубе, страдая морской болезнью, и его слуга вряд ли был в состоянии помочь ему. Мануя тоже тщательно собирал и сохранял семечки яблок, которыми мы его угощали. Ночью лавировали у берегов острова Ваху.
27-го днем «Рюрик» подошел к гавани Хана-руру. С первым же прибывшим каноэ Мануя отправился на берег, и вскоре появился королевский лоцман, англичанин Херботтел, который предложил стать на якорь за рифом, поскольку каждое прибывающее судно буксируют в гавань во время штиля, регулярно наступающего здесь перед восходом солнца.
Как только «Рюрик» бросил якорь, капитан отправился на берег. Только что из бухты вышла американская шхуна «Трэвелер» из Филадельфии под командой капитана Вилкокса. За полосой прибоя мы могли разглядеть красивый город, окаймленный стройными кокосовыми пальмами, крытые соломой хижины и европейские белостенные дома под красными крышами. Город словно прерывает солнечную равнину, раскинувшуюся у подножий гор. Лес с вершин спускается далеко вниз по склонам. В гавани стояли два корабля; оба принадлежали властелину островов. Трехмачтовое судно, которое вскоре должно было получить имя жены короля Тамеамеа, утром 29 ноября с грузом таро вышло на Оваи. Второе судно, названное «Кахуману» по имени самой благородной жены Тамеамеа,— это небольшой, элегантный, быстроходный бриг, построенный во Франции как каперское судно; первоначально он носил название «Большая колымага» (La grande guimbarde), а потом англичане окрестили его «Лесником» (Forester). Будучи сторожевым судном, «Кахуману» произвело при заходе солнца обычный пушечный выстрел.
Капитан вернулся на корабль, не слишком довольный оказанным ему приемом. Народ был все еще настроен против русских, и у губернатора Каремоку ему тоже пришлось бороться с этим предубеждением. Капитану помог Юнг. Губернатор, которого англичане называют Питтом, второе по значению лицо после короля на Сандвичевых островах, все же обещал Коцебу пунктуально выполнять приказы Тамеамеа, касающиеся нашей экспедиции.
28 ноября в 6 утра условленным пушечным выстрелом мы вызвали каноэ, которые должны были отбуксировать нас в гавань. Прибыли лоцман и восемь двойных каноэ, в каждом под командой владельца от 16 до 20 гребцов. Якорь был поднят; с играми, смехом и шумом островитяне повели за собой «Рюрик», соблюдая при этом такой порядок и демонстрируя такую силу, которые удивили наших моряков. Мы плыли со скоростью три узла в час, а затем стали на якорь под стенами крепости. Г-н Юнг поднялся на борт, чтобы получить вознаграждение за услуги, оказанные нам людьми короля.
Не могу обойти молчанием первое, что бросилось, как и всякому чужестранцу, в глаза: всеобщую, назойливую, алчную предупредительность другого пола, громко раздававшиеся вокруг нас предложения женщин, а также мужчин от имени женщин.
Стыд, как мне представляется, — врожденное чувство людей, но целомудренность — это добродетель лишь в нашем представлении. В условиях, более близких к природе, женщина в этом отношении зависит от воли мужчины, собственностью которого она является. Мужчина живет охотой. Он заботится об оружии и добыче, кормит семью. Способный носить оружие, используя свою силу, он осуществляет грубую власть над женщиной, а та вынуждена терпеть. У мужчины нет никаких обязательств по отношению к врагу; повсюду, где бы он ни встретил врага, он должен его убить. Употребит ли он мясо убитого в пищу или оставит гнить, не имеет значения. Но если он дарит чужаку жизнь, то вместе с жизнью должен давать ему все, что нужно для существования; еда готовится для всех, и мужчине нужна женщина.
На более высокой стадии развития гостеприимство становится добродетелью; глава дома поджидает чужака на дороге и ведет его в палатку или под крышу своего дома, ибо вместе с ним входит и благословение божества. С этим легко связывается и обычай предлагать пришельцу свою жену, а отказ становится оскорблением.
Чистые, неиспорченные нравы.
Этому народу, народу радости и довольства, — о, если бы я мог вам дать возможность хотя бы раз вдохнуть тепловатый, пряный воздух, бросить взгляд на чистое, яркое небо, почувствовать всю красоту бытия! — этому народу, говорю я, мы привили стремление к приобретению собственности и лишили его чувства стыда. На северном побережье, отделенном горами от портового города, я надеялся встретить более патриархальные, неиспорченные нравы.
В первый же день я познакомился с г-ном Марини (доном Франциско де Пауло Марини, которого островитяне называли Манини). Он не сразу пошел мне навстречу, но потом всегда охотно помогал и делился знаниями. Угадывая душой и взглядом именно то, что мне было нужно, он снабдил меня теми сведениями об этих островах, которыми я сейчас располагаю. Марини был еще очень молод, когда однажды в одной из гаваней американо-испанского побережья, я думаю в Сан-Франциско, его с фруктами и овощами послали на корабль, который готовился сняться с якоря. Матросы напоили мальчика, он заснул, и его спрятали. Когда же он проснулся и вышел на палубу, корабль был уже в открытом море. Жребий, определивший судьбу Марини, был брошен. Его высадили на Сандвичевых островах, и впоследствии он стал вождем. Будучи рачительным сельским хозяином, г-н Марини извлекает из земли все новые источники дохода, без устали выращивая ранее неизвестные островитянам полезные виды животных и растений. Будучи деятельным торговцем, он снабжал всем необходимым многочисленные суда, идущие к этим островам. Под жарким небом тропиков ему удается надолго сохранять мясо, засаливая его, что испанцы в Новом Свете считали невозможным. У меня сложилось впечатление, что Марини, как независимый человек, держался вдали от короля и был у него в немилости. Он вращался больше в торговом мире. Я был счастлив отметить, что теперь он уже не интересовался кораблями. В первой же нашей с ним беседе меня привлекло одно его высказывание. Речь шла о последних мировых событиях и о Наполеоне. «Он, — сказал Марини, — пригодился бы в нашей испанской Америке». Таких слов я не слышал еще ни от одного испанца.
Я совершил первую ботаническую экскурсию; взобрался на потухший вулкан за городом, спустился в лес и вернулся по долине, в которой теперь с помощью искусственного орошения выращивается культура таро. Я изведал и прохладу горных долин, и жару, всегда ощущаемую при спуске с гор на солнечный берег.
Я ежедневно бродил по этим местам и забирался в горы. Однако не буду подробно описывать свои прогулки, а расскажу лишь о тех маленьких историях, которые со мной случились.
Через реки и ручьи здесь нет мостов; каждый радуется любой возможности искупаться в пресной воде; те, кто живет на море, ценят это и стремятся к этому так же, как мы, жители стран, удаленных от моря, ценим морские купания. Повсюду используют любую такую возможность. Выражение «Хочешь купаться?» запоминаешь здесь очень быстро.
Я разделся, чтобы вброд перейти поток, впадающий в залив позади Хана-руру, и зашел уже почти по колено в воду, когда заметил плывущее навстречу каноэ и услышал громкий смех. В каноэ сидела дама, принадлежавшая, по-видимому, к высшей касте, и ей захотелось меня подразнить. Я почувствовал себя невинной девушкой, которую какому-то невеже шутки ради вздумалось побеспокоить во время купания.
F однажды на экскурсии, где я был с провожатым, нам встретилась на пути широкая, спокойная река. Мой проводник, житель Оваи, вошел в нее — вода не доходила ему до груди. Мне пришла в голову мысль — мне, не умеющему плавать,— переплыть на ту сторону. Попробовал, и — смотрите-ка! — вода понесла меня, я стал двигаться вперед. И тут подумал: а неплохо бы показать людям, что хотя ты и не мастер в их деле, но все же кое-что можешь. Непрерывный смех, все громче раздававшийся с берега, пробудил меня от грез. Когда я обернулся, чтобы узнать, в чем, собственно, дело, то увидел, что берег густо усеян людьми. Они сбежались посмеяться над смешным канака хаоре (белым человеком), который, вместо того чтобы поступить разумно и перейти реку вброд, прилагает чудовищные усилия, показывая свое неумение. Но в этом смехе не было ничего враждебного. Смех — это право человека: каждый смеется над каждым, будь он король или простой смертный, не обращая внимания на обстоятельства. О других забавных случаях я расскажу в свое время.
«Ароа!»— широко распространенное мирное приветствие. На каждое «ароа!», обращенное к кому-нибудь, следует ответное «ароа!», и люди продолжают путь, не оглядываясь. Как-то раз, отправившись собирать растения из Хана-руру, я пошел к посадкам таро и обратил внимание на то, что дома уже кончились, но приветствия все еще слышались, хотя ни справа, ни слева никого уже не было. «Ароа!» — непрерывно звучало на все лады, и я чистосердечно отвечал. Незаметно оглянувшись, я увидел, что за мной следовала целая толпа ребятишек, которых забавляло, как канака хаоре без конца повторяет: «Ароа!» «Ну погодите!» — подумал я и, терпеливо выслушивая приветствия и отвечая на них, по шел дальше вместе с сопровождавшей меня детворой, через рвы, изгороди, канавы и земляные насыпи до полей таро. Потом, неожиданно обернувшись и подняв руки, я с ужасным ревом кинулся на ребят. Перепугавшись, они бросились наутек, натыкаясь друг на друга и падая в канавы. Я смеялся над ними, они хохотали, мы расстались друзьями: «Ароа!»
Во время прогулки по плодородной долине за Хана-руру на берегу одного из водоемов, где выращивали таро, я нашел красивое растение, которое, казалось, раньше никогда не встречал, и сорвал для себя несколько экземпляров. За этим занятием меня застал местный житель, он стал ругать и срамить меня, и мне лишь с трудом удалось его успокоить. Об этом случае я рассказал Марини и показал ему растение. Местный житель был его арендатор, а растение оказалось рисом. После нескольких неудачных попыток в этом году рис впервые дал здесь зеленые побеги. Пусть посмеется надо мной любой ботаник, однако и у него, возможно, дело обстояло бы не лучше. Я не смог определить гербарный экземпляр Oryza sativa{167}.
Лианы на Сандвичевых островах, в отличие от похожих на деревья гигантских лиан Бразилии, представлены корнеобразными и вьющимися видами бобовых. Здешние лианы сплетают свои сети над низкими зарослями, и однажды в горах, в стороне от тропинки я ступил ногой в сеть из лиан и, когда хотел пройти дальше, обнаружил, что повис, как в гамаке, над пропастью у скалистого обрыва.
29 ноября нас по приказу Тамеамеа впервые снабдили продовольствием, доставив в изобилии овощи и фрукты, какие только растут на этой земле, а свиней прислали столько, что мы не могли съесть и половины; остальных пришлось либо съесть потом, либо взять с собой живыми.
Капитан решил в этот день сделать план гавани Хана-руру и приказал Хромченко установить в различных пунктах шесты с сигнальными флагами. Местные жители взялись за оружие, предвкушая праздник битвы, ибо этот веселый народ охоч до оружия и у него давно уже не было подобной забавы. Хаул-Ханна, которого, к счастью, предупредили заранее, вмешался в дело, успокоил Каремоку, сам отправился на корабль, дабы известить капитана, и стал нашим добрым ангелом. Все, напоминавшее флаги, тотчас же исчезло, и война не состоялась.
30 ноября по приглашению капитана Каремоку и наиболее знатные вожди — Теимоту, брат королевы Кахуману, Хаул-Ханна и другие — прибыли к нам на обед. Каремоку держался дружелюбно и встретил капитана мирным приветствием. Многие гости были одеты в европейскую одежду, по самой новейшей моде и выглядели вполне прилично. За столом их поведение являло собой образец благопристойности и хороших манер. Мы же оказались невежами, ибо известно, что правила хорошего тона основаны на знании нравов и обычаев тех, кого собираешься принимать у себя. Однако свинья, чье мясо мы предложили нашим гостям, не была предварительно освящена в мараи и, значит, не годилась в пищу, как и все, что жарилось и варилось вместе с ней на огне. По сухарю и по стакану вина — вот то немногое, что наши гости могли себе позволить. Они вынуждены были ограничиться тем, что смотрели, как мы едим, не имея даже возможности беседовать с нами: таково было наше гостеприимство. При этом они держали себя лучше, чем, вероятно, держали бы мы себя на их месте, и претворяли свою добрую волю в дела. Каремоку выпил («Ароа!») за русского императора; последовало «Ароа!» за Тамеамеа, и мы стали добрыми друзьями.
Тем временем несколько прибывших на корабль женщин пили вино и опьянели, чего никогда не позволит себе порядочный житель Оваи. Надо сказать, на кораблях не столь строго соблюдают табу, как на суше, где женщинам под страхом смерти запрещено входить в помещение, в котором едят мужчины.
Написанный Хорисом очень похожий портрет Тамеамеа имел исключительный успех. Все с радостью узнавали его. Не забуду одну черту, весьма характерную для нравов народа Оваи. Художник нарисовал рядом с королем женщину из средней касты. Г-н Юнг, посмотревший рисунок первым, нашел такое соседство настолько сомнительным, что посоветовал нашему другу или разделить их, или никому не показывать. Поэтому, прежде чем показать портрет короля другим жителям Оваи, лист разрезали. Хорис сделал с этого весьма удачного портрета несколько копий. Когда мы на следующий год приехали в Манилу, портрет уже приобрели американские купцы и, размножив его в китайских художественных мастерских, открыли торговлю. Хорис привез с собой в Европу один экземпляр портрета, сделанный в Китае.
На заходе солнца 30 ноября начался праздник табу-пори, который должен был закончиться на третий день с восходом. Побуждаемый любопытством, желая присутствовать при самых священных мистериях культа Оваи, я обратился к Каримоку, который тут же пригласил меня; я был его гостем в его мараи в течение всего праздника. В 4 часа он покинул корабль, и до захода солнца я был у него.
Не буду здесь подробно рассказывать о молитвах и священных обрядах, уже описанных прежними путешественниками; скажу только: по сравнению с царящим там весельем веселье наших балов-маскарадов напоминает похоронную процессию. Религиозные церемонии занимают всего несколько часов. Как и при католическом богослужении, народ в нужное время присоединяется к пению ведущего службу пастыря. В промежутках все очень весело беседуют, вкусно едят, причем меня обслуживали персонально на европейский манер, дали мне печеное таро вместо обычной каши. Во время обеда, равно как и беседы, люди лежат в два ряда на устланном матами настиле, головами к разделяющему их центральному проходу, ведущему к двери. Еду накладывают на банановые листья, откуда ее руками отправляют в рот; вязкую кашу из таро, заменяющую хлеб, слизывают с пальцев. Воду для умывания подают до и после еды. Факелы, пропитанные маслом из плодов кукуи (Aleurites triloba){168}, укрепленные на палочках, дают ночью очень яркий свет. Все это происходит в мараи так же, как дома. Того, кто хочет удалиться из священного места, сопровождает мальчик, несущий в руке маленький белый флажок, чтобы предупреждать всех встречных. Женщину, которой кто-либо коснулся, следует немедленно убить; мужчины подвергаются такому обособлению только в мараи.
Хорис в своем «Живописном путешествии» (табл. V— VIII) зарисовал храмового идола на Ваху. Тип, повторяющийся в табл. VI, 4; VII, 3 и 4; VIII, 1 и 3{169}), в то же время и иероглифический, представляется мне древним и народным. К тому же типу принадлежит и украшенная красными перьями фигура корзинщика, которая хранится в самом священном месте мараи и выносится во время праздника табу-пори. Широкий рот полон настоящих, думаю, собачьих зубов. В перерыве двое юношей поднесли ко мне фигуру, чтобы я мог ее получше рассмотреть. Желая узнать границы дозволенного, я потрогал зуб божества. Но человек, несший фигуру, резким движением захватил ртом фигуры мою руку. Испугавшись, я быстро отдернул ее, и все стали без удержу хохотать.
Обряды, которые я наблюдал тогда, теперь на этих островах уже не совершаются, и язык религиозных церемоний умолк. Никто и не подумал о том, чтобы исследовать и спасти от забвения то, что могло бы помочь понять, как действуют законы этого народа, пролить свет на его историю, а может быть, на историю человечества, разгадать ту сложную загадку, которую предлагает нам Полинезия. Действительно, румянцевская экспедиция могла бы получить ценные для науки данные, если бы добросовестный, усердный наблюдатель мог провести год на этих островах. Но ты проносишься по свету, как пушечное ядро, и возвращаешься домой лишь со сведениями о вершинах гор и глубинах морей. Когда я попросил у капитана разрешения остаться здесь до прихода «Рюрика», он ответил, что не будет удерживать меня — я волен оставить экспедицию, когда мне будет угодно.
4 декабря Каремоку устроил для нас танцевальное представление, а 6-го — еще одно. После того как я много раз с трудом наблюдал за отвратительными телодвижениями наших танцовщиц в балетных танцах, которыми так восхищаются, то, что я писал в моих «Наблюдениях и замечаниях» о великолепных танцевальных представлениях на Сандвичевых островах, кажется мне бледным и не передающим суть дела. Мы варвары! Мы называем этих людей, одаренных чувством прекрасного, «дикарями» и позволяем поэтам и грустным мимам изгонять балет из тех залов, о которых мы с гордостью говорим, что они посвящены искусству. Я всегда сожалел и хочу здесь вновь выразить сожаление о том, что ни один добрый гений ни разу не позаботился о том, чтобы на этих островах побывал живописец, художник по призванию, а не только профессиональный рисовальщик. Но теперь уже слишком поздно. На Отаити [Таити], на Оваи миссионерские рубашки прикрыли прекрасные тела, все танцевальные представления прекратились, и на этих детей радости тихо и печально опустилось табу субботнего дня.
Хочу подтвердить непредвзятость моих высказываний. 4 декабря танцевали трое мужчин, а 6-го — группа девушек, среди них немало весьма красивых. Но не они произвели на меня неизгладимое впечатление, нет, мужчины танцевали более искусно, даже притом что первого из них нельзя было назвать красивым. Впрочем, не надо обращать внимания на два плохих рисунка, которые отнюдь не украшают альбом Хориса. Танцы не поддаются передаче в рисунке, а то, что он нарисовал, пусть простит ему гений искусства. Нигде в других местах и на других праздниках я не видел, чтобы публика была так увлечена, прямо-таки опьянена радостью, как жители Оваи во время этих представлений. Они бросали танцорам подарки — вещи, украшения.
Расскажу о малозначащей детали, замечу только, что в ребенке проявляется характер народа. Когда я смотрел, находясь в толпе, как танцевали мужчины под кокосовыми пальмами, мне очень мешал, наступая на ноги, стоявший впереди мальчик. Я довольно резко оттолкнул его от себя; он гневно обернулся, и по его помрачневшему лицу я понял, что причинил боль человеческой душе. В ответ я изобразил злую гримасу и сделал движение, будто потрясаю копьем и собираюсь метнуть его в противника, то есть в него. Тогда мальчик смягчился, засмеялся. Раз я счел его себе равным и способным носить оружие, то все в порядке, но он не желал, чтобы его толкали.
Нам обещали и другое зрелище: народные игры с оружием в исполнении вождей и других знатных людей. Инсценировка битвы, особенно если учесть особую горячность этого народа, может легко превратиться в настоящую битву. Оружием служило копье, которое бросали не высоко поднятой рукой, как это делали греки, а опущенной, сначала пронося над землей и затем подбрасывая снизу вверх. Во время игр вожди надевают плащ из перьев.
Я пропустил эти игры, что было для меня невосполнимой утратой. Они должны были состояться 7 декабря, но в тот день их не было. 8-го капитан отправился на двухдневную охоту в окрестности реки Жемчужной [Перл-Ривер]. Я же решил совершить экскурсию через весь остров на северное побережье. Каремоку поручил двум людям сопровождать меня и подготовил все для дружеского приема там, где мне предстояло побывать. Я прошел долину позади Хана-руру и поднялся на гребень горы в его самой низкой точке. С крутого, обращенного к северному побережью обрыва я спустился босиком, как привык делать в Швейцарии, переночевал внизу и вернулся в Хана-руру по другой долине вечером 9 декабря, через расположенный чуть западнее и выше горный проход. Игры с оружием, которые состоялись в тот день, уже закончились.
Мануя старательно, точно и с любовью исполнил все приказы своего повелителя, обеспечил заготовку и доставку дров и т. п. Мы вновь поручили ему привезти королю то, что ему полагалось. Самому Мануе вручили щедрые подарки.
13 декабря «Рюрик» был готов к отплытию. Замечу попутно, что европейцы на Сандвичевых островах пользуются счетом времени с запада на восток через Кантон, так что мы, счислявшие время с востока на запад, как на Камчатке и в русских поселениях, отставали от них на один день. Такое же различие существовало между двумя соседями — Сан-Франциско и Бодегой. Когда имеешь дело со старым и новым календарем, со счетом времени с востока и с запада, с временем гринвичским и корабельным, со средним и действительным, с солнечным и звездным, астрономическим днем и т. д., то действительно нелегко разобраться, какое же сейчас время. Часы я считаю по долготе до завершения круга к западу от Гринвича, а дни — по новому календарю и судовому счислению.
14 декабря в 6 часов утра мы пушечным выстрелом потребовали лоцмана, который прибыл с несколькими двойными каноэ. Нас вывели из гавани, Каремоку поднялся на борт. Мы салютовали королевскому флагу Оваи, реявшему над фортом, семью залпами, с форта в ответ было дано столько же. Семью же залпами нам салютовал королевский сторожевой корабль «Кахума-ну», на что мы ответили тем же. В 8 часов «Рюрик» покинул гавань; Каремоку и его спутники сердечно с нами простились. Усевшись в каноэ и оттолкнувшись от корабля, они приветствовали нас троекратным «Ура!». В ответ мы прокричали то же самое.
Отъезд из Хана-руру. Острова Радак
14 декабря 1816 года мы отплыли из гавани Хана-руру [Гонолулу]; в течение трех дней нас сопровождали легкие ветры и полные штили. Вдали можно было видеть кашалотов (Physeter). 16-го нам удалось поймать на палубе крачку (Sterna stolida).
17 декабря ветер возобновился, и мы намного продвинулись вперед. 19-го шел дождь. 21-го и 22-го мы тщетно искали под 17° сев. широты острова, которые в 1807 году видел капитан Джонстон{170}; за нами летели морские птицы — пеликаны и фрегаты. Мы следовали курсом на юго-восток, судно шло очень быстро, и качка была весьма утомительна. Горизонт не просматривался так ясно, как обычно. С 26 по 28 декабря мы искали под 11° сев. широты остров Сан-Педро, но не обнаружили его; с 28-го — взяли курс на запад между 9° и 10° сев. широты, чтобы найти острова Малгрейв; лавировали большей частью ночью. 29 декабря видели дельфинов, летучих рыб, плавник. Птиц стало меньше. В ночь с 30 на 31 декабря начался затяжной дождь, длившийся весь день. Утром мимо корабля проплыл кусок дерева, на нем сидела птица. Это бекасовидный веретенник. Уже ночью было слышно пение птиц. Ветер стал умереннее. 1 января 1817 года после обеда, когда мы пошли более северным курсом, чтобы посетить группы островов, которые видели в прошлом году, показалась земля.
На этом отрезке пути на «Рюрике» очень сильно размножились рыжие тараканы (Blatta [Blatella] germanica), став для нас подлинным бичом божьим. Кажется невероятным чудом, что природа неожиданно превращает этот второстепенный зоологический вид, каждая отдельная особь которого сама по себе — бессильное ничтожество, в непреодолимую силу из-за своей чудовищной плодовитости. От человека скрыты все факторы, способствующие размножению или сокращению этого вида, и поэтому он лишен возможности воздействовать на них; насекомые внезапно появляются и столь же внезапно исчезают. Бессильный перед этой игрой природы, человек взирает на нее с удивлением. В конце 1817 года, когда мы вторично направились на юг от Уналашки, эти тараканы почти совсем исчезли и больше не появлялись в сколь-нибудь заметном количестве.
Другим неудобством корабельной жизни, с которым мы столкнулись в пути, начиная от Калифорнии, был нестерпимый запах тухлой воды, скопившейся в трюме корабля. На судах, подобных «Рюрику», не пропускающих воды и поэтому не нуждающихся в помпах, от этого запаха больше страдают, чем на судах, где воду откачивают, что препятствует ее скапливанию и загниванию. Нам самим приходилось наливать свежую воду взамен протухшей.
До сих пор я еще не упоминал о том, как в жаркой зоне мы устраивали себе благодатные освежающие процедуры. Я имею в виду душ, обливание морской водой в вечерние часы на палубе, в носовой части судна. Люди еще не устали и всегда готовы были пошутить. Однажды, когда Логин Андреевич купался, Иван Иванович спрятал его рубашку и сказал, что ее унесло ветром за борт.
Логин Андреевич продолжал ночью спать на палубе, тогда как я и доктор вынуждены были отказаться от этого удовольствия. Через окно он вытаскивал свой матрац на палубу, а потом поднимался туда по трапу и стелил себе постель. Как-то, улучив момент, когда он вышел из каюты, я быстро втащил матрац с палубы в каюту и положил на его койку. Тот искал пропажу всюду, но только не на койке, ругался со всеми, кто ему попадался на палубе, и, как это было ни смешно, пришел в отчаяние.
Да простится мне это веселое отступление. Возвращаюсь теперь к Радаку и его жителям.
Кроме того, что я написал в «Наблюдениях и замечаниях», мне остается лишь рассказать историю нашего появления на этих рифовых островах [атоллах], о том, как мы познакомились с их народом, который мне милее всех сыновей земли. Слабость радакцев не позволяла нам относиться к ним с недоверием; со свойственными им кротостью и добротой они вверяли свою судьбу превосходящим по силе чужеземцам; мы стали подлинными друзьями. Я видел их чистые, неиспорченные нравы, привлекательность, изящество и высокоразвитую стыдливость. Что касается силы и свойственной мужчинам уверенности в себе, то жители Оваи далеко превосходят их. Мой друг Каду, который, будучи чужаком на этой группе островов, присоединился к нам,— один из самых замечательных характеров, когда-либо встречавшихся в моей жизни, один из тех, кого я полюбил больше всех; он стал позднее моим наставником во всем, что касалось Радака и Каролинских островов. В статье «О нашем знакомстве с первой провинцией Великого океана»{171} я упоминаю о нем как о научном авторитете. Из отдельных эпизодов нашей совместной жизни я воссоздал его портрет и его историю. Будьте снисходительны, друзья, к тому, что я иногда повторяюсь,— ведь я говорю здесь о своей любви.
Цепь островов Радак в целом расположена между 6° и 12°, виденные нами острова — между 8° и 11°30' сев. широты и 188° и 191° зап. долготы. Замечу только, что я сообщил о рифе или отмели Лимпосалюлю (к северу от Арно), отсутствующей на карте капитана Коцебу. Во всем остальном, что касается географии, отсылаю читателей к сочинениям Коцебу и Крузенштерна.
Возвращаюсь к дневнику нашего путешествия.
1 января 1817 года погода прояснилась и ветер улегся. Все еще высокие волны свидетельствовали об отсутствии земли с наветренной стороны. Вокруг резвились бониты. После обеда появилась земля; но с палубы ее стало видно только после захода солнца. Это был небольшой низменный остров Месид. Яркий лунный свет помог нам избежать опасности. Утром 2 января при очень слабом ветре мы приблизились к южному берегу острова. Семь небольших лодок без мачт и парусов, с пятью-шестью островитянами в каждой, поплыли нам навстречу. Мы узнали и форму лодок, и людей с группы островов, виденных нами в мае прошлого года. Опрятные и привлекательные на вид, они держали себя весьма достойно; когда их пригласили, они подплыли ближе к судну, но никто не решился подняться на палубу. Началась меновая торговля, в которой они показали себя очень честными. Мы дали им железо, взамен они предложен украшения, изящные ожерелья из раковин. Капитан приказал спустить ялик и байдару для высадки на берег. Яликом командовал лейтенант Шишмарев; я, Эшшольц и Хорис сели в байдару. Лодки, окружавшие корабль, последовали за нами, как только мы направились к берегу, где стояла толпа мужчин; женщин и детей не было видно. Мне показалось, что там было около сотни людей, по мнению Шишмарева — вдвое больше; так или иначе, здесь их больше, чем на других островах этой группы. Учитывая то, что нас было немного и это давало повод островитянам держаться свободнее, а также и то, что мы владели смертоносным оружием, Глеб Семенович решил не высаживаться на берег. Один из наших уже сцепился с островитянином, который подплыл к байдаре и ухватился за руль. Торговля велась у самого берега. За железо люди отдавали все, что у них было: кокосовые орехи, плоды пандануса, циновки, изящные ожерелья из раковин, рог тритона{172}, деревянный обоюдоострый меч, украшенный зубами акулы. Островитяне привезли нам свежую воду в скорлупе кокосовых орехов; они хотели, чтобы мы высадились на берег;.один из них попытался сесть к нам в лодку. Все это напоминало то, что мы наблюдали на острове Пенрин. Оставив им довольно много железа, мы вернулись на корабль.
Длина острова Месид с севера на юг составляет примерно 2 мили. Мы приблизились к нему с узкой южной стороны, где стояли хижины. Разбросанные в беспорядке кокосовые пальмы не особенно возвышались над лесом, состоявшим главным образом из зарослей пандануса. Далеко под зеленой крышей листвы виднелся обнаженный белый коралловый грунт. Ландшафт был похож на тот, который мы наблюдали на острове Румянцева [Тикеи], однако последний не так беден и скуден.
Мы поплыли на восток при слабом ветре и вечером потеряли остров из виду.
3 января видели много бекасовидных веретенников и песочников, кашалота (Physeter), нескольких пеликанов (одного из них застрелили). Повернули и взяли курс на юго-восток.
Днем 4-го, когда капитан отказался было от дальнейших поисков, нам попалась цепь островов, которая, насколько мог видеть глаз, тянулась с востока на запад. В местах скопления зелени, где рифы окаймлял прибой, нельзя было различить кокосовые пальмы, ч ничто не выдавало присутствия людей. К вечеру мы достигли западной оконечности островной группы, с ее подветренной стороны море было спокойным. Коралловый остров, лишенный почвенного покрова, простирался на юго-восток. Мы поплыли вдоль него и обнаружили проходы. Это позволяло надеяться на то, что удастся проникнуть во внутренний водоем со спокойной, зеркальной гладью вод. Ночью течение отнесло нас к северо-западу. Утром 5 января земля скрылась из виду. Лишь в 9 часов вечера мы достигли того места, где провели предыдущую ночь. Лейтенанта Шишмарева послали обследовать проходы; у второго он сигнализировал, что нашел проход для «Рюрика». На одном из отдаленных островов поднялся столб дыма; мы радостно приветствовали этот признак присутствия человека. Однако ни одной туземной лодки не было видно.
День клонился к вечеру. Бот отозвали назад, а чтобы «Рюрик» ночью оставался на месте, на берегу установили небольшой якорь. «Рюрик» должен был принять канат, поэтому он под парусами приблизился к пенящемуся прибою. «Так мореход цепляется за скалу, о которую может разбиться»{173}. Северо-восточный пассат лишь на длину каната удерживал нас от гибели.
Здесь, у рифа и его проходов, вокруг было много бонит, летучих рыб, а также акул, которые гнались за нашими лодками. Двух мы поймали и съели.
6 января в полдень ветер переменился и, приняв восточное направление, понес нас навстречу пенящемуся прибою. Мы сняли канат и подтянули паруса, а с восходом солнца вернулись обратно. В 10 утра, обдаваемые с обеих сторон прибоем, на всех парусах, с помощью ветра и течения мы вошли через пролив Рюрика в лагуну группы Отдиа [Вотье] островной цепи Радак.
Этот водоем подвержен сильному влиянию приливных течений: при отливе вода устремляется через проходы в океан, а при приливе вновь наполняет лагуну.
Лейтенант Шишмарев, плывя в шлюпке, обнаружил у самого западного из островов надежно защищенное место, где «Рюрик» и стал на якорь.
Смелые, ловкие маневры капитана Коцебу во время прохода через этот и другие рифы должны заинтересовать даже тех, кто не имеет никакого понятия о судовождении. Европеец вдали от родины встречает людей и, чувствуя свое превосходство, нередко относится к ним с высокомерием, однако с этим не следует спешить. Я полагал, что эти дети моря будут несказанно удивлены при виде огромного корабля, который, раскинув паруса, как птица летит навстречу ветру, устремляется в рифы на восток, к жилищам островитян. И надо же! Каково было мое удивление, когда оказалось, что мы с трудом лавируем и еле-еле двигаемся вперед, а они на своих ладных суденышках, следуя прямым курсом, по которому мы шли зигзагами, обгоняли нас и затем поджидали, убрав паруса.
Капитан Коцебу приказал тщательно изготовить достаточно большую модель местного судна при помощи самых опытных островитян Отдиа. Капитан уделил ему столько внимания, сколько оно того заслуживает с точки зрения моряка. Однако его книга обманула мои ожидания: я не нашел в ней достаточно сведений об оа — судне радакцев. Хорис в «Живописном путешествии» («Voyage pittoresque», «Радак», табл. XI и XII) приводит три рисунка. Вид сбоку (табл. XI){174} правильный, а профиль неточен. Основание мачты всегда крепится на балке вне корпуса судна на стороне поплавка, как на чертеже (табл. XII). Но на этом чертеже мачта вынесена в сторону поплавка дальше, чем это имеет место в действительности. В целом рисунки Хориса неполны. Лучше изображено на табл. XVII судно с Каролинских островов, в основных чертах сходное с радакским. Никакое описание не может воспроизвести облик предмета, и все же я попытаюсь хотя бы кратко обрисовать названное выше судно, дабы читатель получил представление о нем. Судно имеет два одинаковых конца, которые могут служить во время плавания либо носом, либо кормой, и два неравных борта — один обращен к подветренной стороне и ограничен ровной плоскостью, а другой — к наветренной и немного изогнут. Узкий, глубоко сидящий, снабженный острым килем корпус судна на концах слегка загнут кверху и служит только для обеспечения плавучести. Посередине поперек корпуса укреплена гибкая балка, которая торчит над водой по обе стороны судна, причем более короткая ее часть — с подветренной и более длинная — с наветренной; длинный конец загнут книзу и соединяется с параллельным лодке корпусом поплавка. На балке вне корпуса крепится с помощью нескольких канатов мачта, которая наклонена к тому концу, который в данном случае служит носом. На мачте простой треугольный парус; одним углом он крепится к носовой части судна. Управляют судном с помощью рулевого весла, сидя на корме. Члены экипажа лежат или сидят на балке; при сильном ветре они располагаются ближе к поплавку, а при более слабом — к корпусу судна. К той же балке с обеих сторон крепятся ящики с провиантом и другим имуществом. На самых крупных таких судах могут находиться до 30 человек.
Привожу размеры одного судна, которое вряд ли можно отнести к средним: длина корпуса — 17 футов 6 вершков; ширина — 1 фут 10 вершков; высота — 3 фута 7 вершков; удаление поплавка от корпуса — 11 футов 10 вершков; длина отрезка балки, проходящей за корпусом с подветренной стороны,— 2 фута; высота мачты — 19 футов 6 вершков; длина рей — 23 фута 4 вершка. Капитан Коцебу на Ауре измерил два судна длиной по 38 футов.
Не буду усыплять читателя подробным описанием повседневных опытов и наблюдений, производившихся во время пребывания в этой гавани. После того как 7 января был перенесен оставленный на рифе небольшой якорь (верпанкер), закончены необходимые астрономические наблюдения и сделана рекогносцировка на шлюпках, мы намеревались проникнуть в восточном направлении в группу островов, где, как полагали, могли находиться постоянные жилища.
Печальное зрелище являла собой эта западная часть цепи. Ближайшие к нам острова были пустынны и лишены пресной воды, но человек оставил здесь свой след, и недавно посаженная кокосовая пальма свидетельствовала о его заботливой деятельности. И что же? Трудно предсказать все, что может произойти в маленьком корабельном мирке. Однажды наш придурковатый повар отправился к посадкам — этой надежде будущих поколений,— чтобы приготовить овощное блюдо к нашему столу. Нет нужды говорить, что подобное больше не повторялось.
На четвертом острове (считая с запада) около ямы с водой стояли соломенные навесы на низких столбах; мы решили, что они, видимо, служили островитянам кровом во время кратковременного посещения этой местности. Кроме кокосовой пальмы там было посажено хлебное дерево. 6 января к острову подошла лодка, потом она отчалила: сидевшие в ней решили наблюдать за нами на расстоянии. Не удалось даже подозвать этих людей к себе — при виде шлюпки, в которой мы поплыли им навстречу, они обратились в бегство. Островитяне бросили нам фрукты, а потом пригласили к себе на остров; с таким поведением мы уже сталкивались в прошлом году в открытом море у Удирика [Утирик].
На следующий день эта лодка показалась снова, и мы последовали за ней. Завидя нас, женщины отошли к зарослям. Мужчин вначале было немного; держа в руках зеленые ветки, они нерешительно двинулись нам навстречу; мы тоже несли ветки; прозвучало уже не раз слышанное мирное приветствие: «Эйдара!» Мы ответили тем же. Против нас, внушавших страх чужестранцев, они не держали наготове оружия. После первых дружеских контактов подошли и другие мужчины, позвали женщин. Люди показались нам веселыми, дружелюбными, скромными, щедрыми, некорыстолюбивыми. Мужчины и женщины предлагали все свои украшения — изящные ожерелья из раковин и цветочные гирлянды, и это скорее походило на милое проявление любви, чем на простое одаривание.
На другой день капитан сам поехал на этот остров, но уже не застал там наших друзей. Очевидно, они покинули его, чтобы оповестить всех о наших мирных намерениях.
Из тех животных, которых мы взяли на борт в Ваху, осталось еще несколько коз. Капитан Коцебу привез их на остров, и сначала они наводили ужас на вернувшихся к тому времени островитян. У нас были благие намерения развести этих полезных животных на Радаке, но никто не обратил внимания на то, что в маленьком стаде находился один козел (хотелось думать, не единственный), который, замечу я, horribile dictu! (страшно сказать!), был кастрирован. То ли от стыда, что не в состоянии выполнять свои обязанности, то ли от яда или от болезни он околел, и на следующий день его раздувшийся труп был найден на берегу. Кроме коз на острове оставили петуха и курицу, которые вскоре устроились в одном из жилищ. Позднее мы узнали, что куры издавна водились на этих коралловых островах. Наконец, были посажены и посеяны некоторые растения, оставлены подарки.
Назавтра Хромченко обнаружил, что на острове уже не те люди, с которыми мы подружились вначале. Во время отлива островитяне вдоль рифов отправились на более отдаленные острова. Хромченко приняли и ухаживали за ним весьма заботливо. Подарки лежали нетронутыми там, где мы их положили. Он их раздал, и это всех очень обрадовало. Но козы наводили на островитян ужас.
10 января лейтенанта Шишмарева послали на баркасе на рекогносцировку. Ему мешал сильный ветер. Он увидел лишь необитаемые острова и вечером вернулся обратно. 12-го мы отплыли, но погода была неблагоприятной, и нам скоро пришлось вернуться на прежнюю стоянку.
14-го капитан, офицер и пассажиры предприняли на шлюпках вторую поездку вдоль цепи островов.
К козьему острову пристала лодка с островитянами, и, когда мы проезжали мимо, они звали нас к себе, прельщая фруктами и другими подарками. На следующем, расположенном к востоку острове, где мы переночевали, 15 января утром нам нанес первый визит Рарик, вождь этой группы. Он прибыл на двух Лодках. В большей, в которой сидел сам Рарик, капитан Коцебу насчитал 25 человек. Рарик с тремя людьми, оставив остальных в лодках, вышел на берег и преподнес подарки властителю чужеземного народа, вероятно желая этим показать, что он подчиняется ему. Так, некогда европейские князья встречали своих завоевателей. Но Рарик стоял не перед завоевателем, и его ожидала дружба, а не унижение. Молодой человек держался во время этой первой, столь важной для него встречи весьма стойко, его робкие спутники, казалось, боялись за него больше, чем он сам за себя. Нередко мы встречали у властителей больше мужества и благородства, чем у простых людей. По сути дела, все зависит от условий; так, в странах Ближнего Востока турок отличается от райя{175}. Рарик, ставший впоследствии моим близким другом, выделялся не столько своим умом, сколько добродушием и кротостью. Коцебу и Рарик сели друг против друга, их окружили радакцы и члены нашей команды. Юный вождь громко оповещал тех, кто оставался в лодках, обо всем, что привлекало его внимание и казалось ему новым. «Эрико! Эрико! Эрико!» — этот возглас удивления чаще всего звучал и повторялся затем многими. Вначале мы старались запомнить имена. Коцебу, Рарик — все мы назвали себя по многу раз, а потом спросили имя сидящего слева от вождя радакца. «Ери-дили?» — кивнул на него Рарик. Мы запомнили это слово, а юноша подтвердил, что так его зовут; он и сейчас для нас Еридили. Однако вокруг все смеялись; причину смеха мы поняли позже, когда Каду объяснил, что «еридили» означает «слева», а вовсе не имя. Думаю, что во время этой первой встречи Рарик предложил капитану дружески обменяться именами. Позднее Еридили предложил доктору Эшшольцу тоже обменяться именами и спросил, как того зовут. Эшшольц не понял его, и мне пришлось вмешаться и выступить в роли переводчика. «Дайн наме!»[14] — сказал я, обращаясь к другу. «Дайн-нам»,— повторил радакец. «Да, Дайннам»,— подтвердил доктор, и таким образом они без всякого зазрения совести обменялись фальшивыми монетами.
Чтобы порадовать нас, друзья сняли с себя все украшения. Капитан приказал принести из шлюпок железо — ножи, ножницы и другие мелочи. Железо! Железо! Милль! Милль! Так высоко ценился здесь этот металл. Милль! Милль! Даже те, кто сидел в лодках, не могли противостоять искушению; все устремились сюда, чтобы только полюбоваться железом, этим сокровищем, этим нашим неизмеримым богатством! Однако никто не позволил себе никаких грубых проявлений алчности, никаких нарушений порядочности.
За все время долгого пребывания «Рюрика» на Радаке было отмечено лишь две попытки кражи. Наверное, если чужеземцы рискнули бы проверить честность нашей толпы массой золота, то европейцы не получили бы такого хорошего аттестата, как тот, который мы могли дать жителям Радака.
Всем достались щедрые подарки. Капитан Коцебу дал понять Рарику, что хочет посетить его жилище, и пригласил его занять место в нашей шлюпке и показать путь. Рарик хорошо понял его и смело сел к нам, но его спутники, еще окончательно не отделавшиеся от страха, казалось, были против подобного риска, да и самого Рарика сильное любопытство влекло, видимо, в другую сторону: увидеть чудесных, с длинными бородами животных, о которых он уже слышал. Мне сдается, что коз, завезенных европейцами на другие острова Южного моря [Тихий океан], местные жители не без основания относят к птицам. Ведь свиньи, собаки и крысы — это не птицы! У них есть имена, а кроме них существуют только птицы или рыбы. Наконец, Рарик больше не мог противостоять искушению; он прыгнул в воду и поплыл к своим лодкам, и затем все направились на остров, куда были выпущены козы.
15 января мы переночевали на девятом острове, где нашли лишь покинутые жилища. На нем слой почвы был мощнее, чем на козьем острове, и растительность куда пышнее.
16-го днем мы остановились на тринадцатом острове и отошли от корабля на девять миль. Здесь состоялась вторая встреча с Рариком, который с двумя спутниками прошел вдоль рифа и обрадовался, увидев нас. Вскоре прибыли плывшие против ветра другие лодки Рарика и остановились рядом с нашими шлюпками. Теперь он пригласил капитана сесть в его лодку и всем вместе поехать к нему. Мы обещали отправиться туда вскоре, и он отчалил. После обеда мы прошли еще полторы мили до четырнадцатого острова, поросшего густым лесом, о котором я упомянул в «Наблюдениях и замечаниях». Оттуда голый риф простирается еще на много миль к северо-востоку; ближайший остров был едва различим на горизонте. У того острова, где мы находились, мог бросить якорь корабль. Капитан приказал поднять паруса, и в тот же вечер мы подошли к «Рюрику».
Ранним утром 18 января «Рюрик» продолжил плавание. Дул попутный ветер, и поэтому лавировать пришлось лишь после обеда; стояла ясная погода, яркое солнце освещало мели, и надобности в лоте не было. В 4 часа мы стали на якорь у Ормеда, семнадцатого острова (считая с запада). Он находится примерно в 20 милях от самого западного острова в северной части группы. С этой хорошо защищенной якорной стоянки можно было разглядеть северо-восточную, самую населенную часть архипелага, цепь из множества мелких островов. Она защищает акваторию от господствующего ветра.
Лодка — среди ее пассажиров мы узнали одного из спутников Рарика — доставила нам в подарок фрукты. Но страх еще не прошел, и никто из сидевших в лодке не отважился подняться на корабль.
На Ормеде, наиболее плодородном из островов этой группы, где кокосовые пальмы, однако, не поднимаются над лесом, нас принял престарелый достойный вождь Лаэргас[15], самый благородный и добросердечный человек из всех, кого я знал. Он хотел только давать, дарить, причем делал это даже в тех случаях, когда рассчитывать на ответный подарок не приходилось. Этим он отличался от Рарика, не имевшего таких добродетелей.
Нам показалось, что на острове живет примерно 30 человек. Их постоянные жилища не отличаются от тех, что встречались нам на западных островах. Мы радовались гостеприимству старого вождя и примеряли украшения, которые нам преподнесли дочери острова, но вдруг хорошее настроение было испорчено — все пришли в смятение. Вприпрыжку примчался Валет, не ведавший о том, какой ужас он нагоняет на островитян. Все бросились врассыпную от этого невиданного доселе чудовища, которое к тому же громко лаяло. Нам стоило немалых усилий восстановить утраченное доверие.
Радакцам, не знавшим других млекопитающих, кроме крыс, наши животные — собака, свинья и козы — внушали непреодолимое отвращение. Но больше всего их пугал именно маленький Валет, который с лаем бегал от одного к другому. Большой Валет, взятый капитаном у Берингова пролива, был посерьезнее и ни к кому не приставал. Он погиб на Радаке. Вероятно, не вынес жаркого климата.
20 января мы покинули Ормед и, пройдя вдоль рифа, подошли к Отдиа, главному и самому крупному острову одноименной группы, расположенному в восточной части кольца. У острова мы нашли подходящий для якоря грунт и расположились здесь, как в лучшей гавани. За Отдиа риф поворачивает на юго-юго-запад, а затем — уже без почвенного покрова — на запад к проливу Рюрика. Протяженность группы с запада на восток составляет около 30 миль, наибольшая ее ширина с севера на юг — 12 миль. Капитан Коцебу насчитал здесь 65 островов.
На Ормеде нам сообщили, что Рарик постоянно живет на Отдиа. Сперва меня хотели послать на берег, но скоро сам Рарик, надев нарядные украшения, в своей лодке подплыл к «Рюрику» и первым из радакцев бесстрашно поднялся на борт.
Этих опытных мореходов, разумеется, необычайно заинтересовали конструкции огромного корабля. Они все осмотрели, изучили, измерили. Влезть на мачты до самого флагштока, осмотреть там, наверху, все — реи, паруса, а затем, спустившись, разглядеть хитрую паутину снастей для них не представляло труда. Другое дело — спуститься через узкий люк и из светлого, воздушного царства последовать за загадочными чужестранцами в мрачную глубину, во внушающий ужас мир внутренних помещений. Первыми на это решились самые отважные, прежде всего вожди; думаю, что добрый Рарик послал вперед одного из своих людей.
Можно ли уговорить кого-нибудь из островитян, привыкших радоваться своим праздничным зрелищам, сидя под навесом из крон кокосовых пальм, среди вольной дивной природы, зайти в темные, освещенные тусклыми лампами коридоры и переходы наших зрелищных заведений и внушить ему, что эти зловещие, душные помещения предназначены для представлений? Поистине мне становится грустно, когда читаю, что в Афинах собираются построить для балетных спектаклей театр по нашему образцу.
Внизу в каюте висело большое зеркало. Гёте пишет в «Годах странствий Вильгельма Мейстера»: «Подзорные трубы таят в себе нечто магическое; если бы мы не были смолоду приучены смотреть в них, то каждый раз, поднося их к глазам, мы содрогались бы и ужасались».{177} Один храбрый и образованный офицер сказал мне, что подзорная труба внушает ему нечто вроде страха и, чтобы посмотреть в нее, ему приходится собрать всю свою волю. Зеркало — еще один волшебный, ставший для нас привычным предмет, хотя в сказочном, фантастическом мире оно сохранило свой зловещий характер. Наших друзей зеркало сначала очень удивляло, а потом приводило в состояние неудержимого веселья. Правда, нашелся один, кто пришел от него в ужас; он молча вышел, и его так и не удалось уговорить вернуться.
Однажды в Гамбурге я неожиданно попал в дом, где по обе стороны длинной лестницы блестели серебристые панели высотой в человеческий рост. От них исходила странная мерцающая сила, которая так подействовала на меня, что тут же появилось ощущение, будто я иду по пороховому складу. Видимо, нечто подобное испытывали и наши друзья при виде металлических пушек и якорей.
Богатство островитян — это несколько кусков железа и твердые, пригодные для шлифовки камни, выброшенные морем с рифов. Лодки, украшения и барабаны составляют все их имущество. Нигде не встретишь неба красивее, температуры более равномерной, чем на этих коралловых островах[16]. Море и легкий ветер взаимно уравновешивают друг друга, а быстро проходящие ливни сохраняют пышное зеленое убранство лесов. Как приятно погрузиться в темно-голубые струи, чтобы освежиться после того, как тебя насквозь прокалит солнце, и вновь опуститься в них, ощутив прохладу наступившего утра после ночи, проведенной на открытом воздухе. На этих островах задумываешься над тем, почему солнце столь благосклонно, а земля — мачеха. Панданус, чей сладкий сок идет здесь в пищу, на других островах служит только украшением. Похоже, на этих островах больше пищи для пчел, чем для людей. Почва мало где пригодна для выращивания съедобных растений, хотя местным жителям очень хотелось бы этим заняться. Красивые, душистые лилии, посаженные вокруг домов, свидетельствуют о трудолюбии островитян и о присущем им чувстве прекрасного.
Возможно, они могли бы получать более обильную пищу благодаря ловле рыбы, и в частности акул, кишащих на подходах к рифам. Но, как мы заметили, они едят лишь мелкую рыбешку: рыболовные крючки у них очень маленькие.
Мы не жалели сил, чтобы научить островитян освоить новые источники питания. Если судить по описанию второго путешествия капитана Коцебу, из тех животных и растений, которые мы им оставили, сохранился лишь ямс, а значит, в какой-то мере сбылись наши скромные надежды.
Теперь мне хотелось бы, отойдя от мучительного хронологического принципа, рассказать кое-что о наших друзьях, с которыми, как только у них прошел первый страх, мы зажили душа в душу.
На Отдиа, протяженность которого превышает 2 мили, как правило, живут 60 человек, но они нередко меняют свое местопребывание. Наше присутствие привлекало гостей из самых отдаленных частей группы. Каждый день мы разбредались по острову, общались с семьями и безбоязненно спали под гостеприимным кровом их хижин. В свою очередь, и они охотно посещали «Рюрик». Вождей и наиболее уважаемых островитян приглашали к столу; они довольно легко и с большим тактом приспосабливались к нашим обычаям.
Среди жителей Отдиа наше внимание скоро привлек один человек по имени Лагедиак. Он был незнатного происхождения, хотя и отличался от других умом и сметливостью, способностью быстро схватывать и передавать окружающим все, что понял сам. Позже я обменялся с Лагедиаком именами. У него мы многое почерпнули и с его помощью надеялись передать островитянам то, чему удалось научить его. Капитан Коцебу сперва получил от Лагедиака ценные сведения по географии Радака, о судоходных проливах между рифами к югу от Отдиа, о соседней группе Эрегуб [Эрикуб] и о других группах, образующих островную цепь. Лагедиак чертил свои карты камнем на прибрежном песке, грифелем на доске и показывал направления, которые можно определить по компасу. Вместе с ним капитан Коцебу заложил фундамент своей будущей интересной работы о Радаке и расположенной к западу островной цепи Ралик. Первый шаг был сделан, теперь надо было двигаться дальше.
Лагедиак понял наше намерение внедрить здесь на благо островитян неизвестные им виды культурных растений, возделать участок и раздать семена. 22 января начались работы по разбивке участка: расчистили грунт, вскопали землю, посадили клубни ямса, посеяли семена дыни и арбуза. Наши друзья, стоя вокруг, внимательно и с интересом следили за тем, что мы делали. Лагедиак изо всех сил старался передать сородичам полученные знания. Мы раздали семена, пользовавшиеся большим спросом, и с радостью увидели, что в последующие дни по образцу нашего участка было сделано много других.
22 января произошел случай, о котором хочется поведать, дабы более наглядно показать черты характера наших милых друзей. Взглянув на лица людей, наблюдавших за работой, я заметил на многих выражение боли и печали. Обернувшись, я увидел матроса, который корчевал кусты и прореживал лес, чтобы освободить место для посадок. Только что он ударил топором по красивому побегу редкого и потому высоко ценившегося здесь хлебного дерева. Зло свершилось: молодое деревце упало. Когда кто-либо, пусть даже по неведению, совершает проступок, его начальник должен публично выразить неодобрение. Капитан сделал матросу строгое внушение, приказал отдать топор и удалиться. Тогда добрые радакцы вступились за матроса, а некоторые даже пошли вслед за ним, утешая его и предлагая подарки.
Крысы, расплодившиеся на этом острове в несметном количестве, в последующие дни сильно опустошили возделанные участки и выбрали из земли большую часть семян. Но все же, когда мы покидали Отдиа, участки были еще в хорошем состоянии. Вновь побывав на Радаке в конце следующего года, мы оставили там кошек. Когда капитан Коцебу посетил Радак во время второго путешествия, он увидел, что кошки размножились и одичали, но крыс меньше не стало.
24 января на берегу была сооружена кузница. Там находился довольно большой запас железа, за которым наблюдал матрос, находившийся там и днем и ночью. Однажды какой-то старик попытался стянуть кусок железа, что трудно даже назвать воровством, но ему помешали возмущенные земляки. Однако в случаях настоящих краж радакцы единодушно осуждали их.
Понятно, каким притягательным зрелищем была для наших друзей неизвестная им доселе обработка драгоценного железа с помощью огня и молота! В кузнице собралось все население. Одним из самых внимательных и смелых зрителей был Лагедиак. И действительно, требуется немалое мужество, чтобы наблюдать вблизи, как работают мехи и брызжут снопы искр. Сперва выковали гарпун для Лагедиака, затем для Рарика, потом несколько мелочей для остальных и лишь тогда приступили к работам, необходимым для «Рюрика».
У нас оставались еще боров и свинья с Оваи, которых мы намеревались подарить островитянам. Всех, кто бывал на «Рюрике», мы старались приучить к виду этих животных, терпеливо объясняли им, что их мясо служит нам пищей, что его пробовали уже и находили вкусным многие из тех, кого мы угощали у себя за столом.
26 января свиней доставили на берег и поместили в загоне возле дома Рарика. Одному из матросов приказали присматривать за животными, которые все еще внушали страх. С Лагедиаком, который был достаточно умен, чтобы оценить значение этого дара, мы связывали особые надежды на успех задуманного мероприятия, потерпевшего, впрочем, как и следовало ожидать, неудачу. Оставшиеся без надзора свиньи были позже выпущены на свободу и вскоре после нашего отъезда погибли. Пару последних кур мы подарили Лагедиаку.
Живя в полнейшем согласии с радакцами, я старался изучить особенности различных мест их обитания, надеясь собрать полезный материал, необходимый для того, чтобы лучше понять природу коралловых рифов и островов. Для изучения мадрепоровых и других кораллов требуется целая человеческая жизнь. Выцветшие, побелевшие их скелеты, хранящиеся в коллекциях, не представляют большой ценности, но все же я мечтал привезти домой хотя бы такие. Во время купания Эшшольц собирал встречавшиеся ему различные виды кораллов и приносил на корабль, складывая их для сушки в ящики, в которых прежде были куры. Полипы при этом распространяют неприятный запах. Когда однажды утром Эшшольц решил взглянуть на свои сокровища, в ящиках было пусто: содержимое вышвырнули за борт.
На южной оконечности Отдиа, в верхних окаменевших слоях рифов много пустот, образующих бассейны, где можно купаться. В спокойной воде, среди цветущих коралловых садов там хорошо делать наблюдения и обдумывать загадки этих образований. Я выгородил на прибрежном песке участок и разложил там все, что хотел сохранить под палящим солнцем — кораллы, морских ежей и многое другое. Посредине воткнул палку с привязанным к ней пучком листьев пандануса, обозначив таким образом свою собственность. Под защитой такого символа мой участок для всех добрых радакцев, на чьем пути он лежал, был священным. Ни один мальчик, играя, ничего не тронул. Но разве можно все предусмотреть? Однажды в воскресенье матросы, получив увольнение на берег, решили обойти остров. Они наткнулись на мою сушильню, разорили собранную с таким трудом коллекцию, а потом добродушно поведали мне о своем открытии и передали обломки разбитых кораллов. Все же мне удалось составить хорошее собрание мадрепоровых кораллов Радака и подарить Берлинскому музею большой ящик с коллекцией. Но злая судьба по-своему распорядилась и этой частью моих трудов. Радакские литофиты, за исключением Millepora caerulea и Tubipora chamissonis Ehrenb., в королевском собрании или не имели этикеток, или не были приведены в порядок. Их продали вместе с другими дублетами. Поэтому Эренбергу{178} в его труде о кораллах удалось сделать интересные заключения лишь о двух названных выше видах.
Однажды Рарик сопровождал меня к месту купания и коралловому саду. Когда мы пришли, я объяснил, что хочу искупаться, и начал раздеваться. Зная о том, как удивлял темнокожих друзей белый цвет нашей кожи, я полагал, будучи не столь стыдливым, как он, что Рарик воспользуется этим случаем, дабы удовлетворить свое вполне понятное любопытство. Я уже шагнул было в водоем и обернулся, но не увидел его и решил, что он ушел. Искупавшись и сделав необходимые наблюдения, я вылез из воды, оделся, осмотрел сушильню и хотел уже двинуться в обратный путь, как увидел, что кусты раздвинулись и из зеленых зарослей показалась добродушная, улыбающаяся физиономия моего спутника. За это время он успел красиво украсить свои волосы цветами сцеволы{179} и сплести венок для меня. Рука об руку мы вернулись в его жилище.
Подобная стыдливость присуща всем радакцам. Никто никогда не подсматривал за нами во время купания.
Я решил провести эту ночь на берегу и понаблюдать, как ведут себя радакцы в домашней обстановке. Когда мы пришли, капитан уже отбыл на корабль, и вполне естественно, что семья Рарика приняла меня как гостя. Все были заняты приготовлением могана — теста из пандануса. Вечер мы провели под кокосовыми деревьями возле лагуны. Луна была в первой четверти, огонь не горел, не удалось даже разжечь трубку. За едой говорили только о нас, все изъяснялись громко и длинными фразами. Милые друзья всячески старались развлечь гостя. Они пели, что доставляло им огромное удовольствие. Будет ли правильно называть эти ритмы пением, а красивые естественные телодвижения (они выполнялись сидя) — танцами? Когда смолкли радакские барабаны, Рарик попросил меня спеть русскую песню. Я не мог отказать другу в этой скромной просьбе и должен был теперь, несмотря на свой, уже снискавший дурную славу голос, выступить достойным представителем европейского вокального искусства. Такова ирония судьбы! Но я не растерялся, встал и спокойно продекламировал, сильно подчеркивая размер и рифму, стихотворение Гёте «Дружеский теснее круг». Да простит меня бессмертный немецкий классик — француз выдал это на Радаке за русскую песню и танец! Островитяне внимательно следили за мной, весьма забавно подражая, а когда я закончил, то услышал, как они, искажая произношение, повторяли строки:
Ночевал я вместе с Рариком в большом доме; мужчины и женщины спали на помосте и на земле, и сон часто прерывался беседами. Утром я отбыл на корабль, но сразу же вернулся на берег.
Я описал лишь один из дней, проведенных на Радаке; все они протекали легко и приятно, мало чем отличаясь друг от друга, поэтому не буду много об этом говорить — достаточно и того, что сказано выше.
Доброта, утонченность нравов, исключительная чистота этого народа находили свое выражение в каждом, даже самом незначительном поступке; мною упомянуты лишь немногие из них. Надо ли рассказывать, например, о том, как поступают члены семьи, когда ребенок в присутствии посторонних ведет себя неприлично? О том, с каким достоинством был однажды удален провинившийся и как, несмотря на вызванный этим поведением гнев, взрослые старались сохранить почтительность к уважаемым гостям, а ребенок вместе с тем получил урок, как надо себя вести. Отрицательное нередко весьма поучительно. Можно ли вообще судить о том, что всегда было скрыто от наших глаз?
Народное воспитание, народные предания, сказки и поучения прививают нам глубокое уважение к дару божьему — хлебу, не ценить который — большой грех. Во времена моего детства бросить на землю пусть даже крошечный кусочек хлеба действительно считалось большим грехом, неизбежно и немилосердно каравшимся палкой. У бедного народа Радака такое же чувство воспитано по отношению к фруктам — главной пище. Один из наших друзей дал капитану кокос, чтобы тот утолил жажду, а он выбросил скорлупу вместе со съедобной мякотью. Радакец робко обратил его внимание на то, что с пищей обращаться подобным образом нельзя. Его чувство было уязвлено, а мне стали приходить на ум старые, вбитые еще няней нравоучения.
Замечу попутно, что лишь в последние дни пребывания на Отдиа радакцы наглядно убедились в эффективности нашего оружия, после того как капитан в присутствии Рарика и Лагедиака подстрелил птицу. Разумеется, выстрел их страшно напугал; Рарик умолял капитана, увидя у него ружье, не стрелять; таков уж был характер островитянина.
К югу от Отдиа есть лишь два плодородных и обитаемых острова, если не считать множества мелких и необитаемых островков. Первый — Эгмедио — отличается от других тем, что только там кокосовые пальмы высоко поднимаются над лесом и встречаются корневища отмерших деревьев. Это местожительство вождя Лангиена, уже побывавшего на «Рюрике». Он привез нам в подарок кокосовые орехи и пригласил посетить его на острове. Другой остров лежит у юго-восточной оконечности рифа. К западу от него — лишь маленькие, необитаемые острова.
28 января мы отплыли на двух шлюпках с целью обследовать проливы, о которых сообщил Лагедиак. Мы вышли по направлению к Эгмедио, куда до нас отправился Лангиен, находившийся до этого на Отдиа, чтобы дружески принять нас на родине. Это был гостеприимный, добросердечный человек, и наш визит его очень обрадовал. Мне показалось, что на острове кроме него и жены живет только несколько человек. К его удовольствию, я возделал ему небольшой участок. В тот же день мы обследовали один из проходов, пролив Лагедиака; для «Рюрика» этот путь был бы весьма опасным. Непогода вынудила нас отказаться от дальнейшего продвижения и заняться поиском места для ночлега. Ближайшие пустынные острова не годились, надо было вернуться к тому, что располагался у оконечности группы. Здесь, к неожиданной радости, мы повстречали старого друга; нас приветствовал веселый Лабигар, одарив кокосовыми орехами и плодами пандануса. Тут жили только ом и его семья.
На Отдиа мы познакомились со всем населением островной группы. Для Лабигара, этого радушного и дружелюбного человека, я также возделал небольшой участок (к тому времени у меня оставались лишь семена арбуза). Лагерь мы разбили на берегу. Утром, открыв глаза, я увидел Лабигара и его близких, терпеливо дожидавшихся нашего пробуждения, чтобы угостить нас на завтрак кокосом.
В это утро (29 января) мы вернулись на корабль. Позже, 3 февраля, Глеб Семенович на баркасе обследовал другой проход, названный в его честь проливом Шишмарева. Через него любое судно без труда может войти или выйти, используя пассат.
30 января у наших людей, посланных за водой, дровами и другим необходимым, чем надлежало здесь запастись для дальнейшего путешествия к Северу, похитили ведро с железным обручем. Рарику строго внушили, что пропажу надо вернуть; однако, как ни странно, когда все громко выражали осуждение, он проявил медлительность, бросившую на него тень. На следующее утро от него снова потребовали вернуть похищенное, и тогда один из его людей после серьезного разговора с вождем принес из лесу ведро. Было объявлено, что тот, кого вновь уличат в воровстве, будет сурово наказан. Хочу рассказать о единственном случае, когда нам все же пришлось осуществить эту угрозу.
Лагедиак обедал на корабле. Его сопровождал похититель ведра, которому, однако, не разрешили войти в каюту. Лежа на палубе, он наблюдал за нами через окно. Лагедиак велел вынести ему кое-что из еды, а также показать нож. Но нож так и не был возвращен в каюту, а очутился в мудирдире (мужской одежде, состоящей из плетеного пояса с подвешенными к нему полосами луба) этого человека. Его выследили и, когда он собирался покинуть корабль, схватили, обыскали и выпороли.
К этому времени наши имена — Дайннам, Тамиссо и другие — уже фигурировали в коротких песенках и тем самым избежали забвения:
Монеты и памятники (даже если на них нет надписей или изображений) становятся материальным воплощением устных преданий и легенд. В саге об Эйгидле{181} изречения, строившиеся так, чтобы посредством аллитерации, ассонанса и рифмы запечатлеть то или иное памятное событие, нередко не имеют прямой связи с деянием, сохранившимся в памяти людей.
Мы объявили о своем намерении покинуть Отдиа и посетить Эрегуб [Эрикуб], Кавен [Малоэлап] и другие островные группы и, разумеется, желали и надеялись, что кто-либо из здешних друзей будет нас сопровождать. Рарик начал строить новое судно, на котором обещал плыть вместе с нами, но работе не было видно конца. Лагедиак хотел отправиться на «Рюрике», однако не смог этого сделать, так как строительство судна для Рарика затянулось. Рарик, Лангиен и Лабигар решили было сопровождать нас на другом судне, но отказались и от этого намерения. Пришлось расстаться с нашей надеждой.
7 февраля 1817 года с наступлением дня мы выбрали якорь; друзья стояли на берегу, никто не поднялся на корабль. Только одна парусная лодка вышла вслед за нами из Ормеда. Очевидно, в ней был старый Лаэргас. Несколько дней назад он навестил корабль, поблагодарив нас за подарки. Ему хотелось сказать нам последнее «прости». Мы потеряли его лодку из виду, когда, выйдя из пролива, поставили при попутном ветре двойные паруса.
Отплывая от Отдиа, с верхушки мачты можно было видеть Эрегуб. 7 и 8 февраля мы произвели съемку этой бедной, покрытой скудной зеленью островной группы, гдё, по-видимому, живут всего три человека. Во всяком случае, мы никого больше не заметили на берегу единственного острова, на котором растут не очень высокие кокосовые пальмы.
С подветренной стороны этой группы был обследован пролив, но плыть по нему было опасно. Мы покинули Эрегуб и направились к Кавену. Пришлось бороться с сильным ветром. 10-го после обеда показался Кавен. Эта группа находится примерно в 45 милях от Отдиа — Лагедиак довольно точно указал ее местоположение.
11-го утром мы были у пролива, ближе всего расположенного с подветренной стороны к северо-западной оконечности группы. Ветер не утихал. Две лодки вышли навстречу «Рюрику» из протоки, и сидящие в них островитяне наблюдали за нами издали. Порыв ветра перевернул одну из лодок. В другой не обратили на это никакого внимания: гребцы должны заботиться о себе сами. Вскоре мы увидели, что часть из них сидит на киле, а другие, держась за канаты, вплавь тянут лодку к берегу, до которого оставалось еще добрых полмили. С большого острова навстречу нам вышли еще три лодки, и островитяне пригласили нас на берег.
Ворота были широки, а сам пролив узок, так как путь преграждали коралловые банки. Быстро и ловко мы провели смелый маневр. Через толщу прозрачной воды взору предстали таинственные коралловые сады на дне пролива. Якорь бросили у одного небольшого и самого бедного острова группы.
Кавен по своим размерам не отличается от Отдиа, но один из окаймляющих его рифов, простирающийся с северо-запада на юго-восток, обращен к пассату, а основная часть — собственно остров Кавен — занимает северо-западную оконечность группы. С наветренной стороны риф окружен множеством плодородных островов (капитан Коцебу насчитал их шестьдесят четыре). Над большинством вздымаются высокие стволы кокосовых пальм; повсюду встречается хлебное дерево; выращиваются три разновидности Arum (таро), которые дают, однако, скудный урожай; на одном из островов нам впервые попался завезенный сюда банан. Численность населения возрастает по мере того, как растет плодородие почвы. Люди показались нам побогаче, немного увереннее в себе и доверчивее, чем на Отдиа. Возбужденные нашим прибытием, островитяне на лодках (а лодок у них много) то и дело пересекали лагуну, походившую теперь на оживленную гавань.
На Кавене мы сталкивались со многими островитянами, и, хотя образы этих гостеприимных людей уже стерлись в моей памяти, некоторые из них еще продолжают излучать особый свет. Не забуду, например, дружелюбного, веселого, жизнерадостного, полного энергии сына правителя острова Айрик.
На острове, у которого мы стояли, были обнаружены только молодые кокосовые посадки и покинутые дома. 12 февраля с востока появились две большие лодки и приблизились к кораблю. На наше мирное приветствие с них ответили тем же, и затем они еще ближе подошли к «Рюрику». Привязав лодки к брошенному канату, островитяне остались в них, а вождь, сопровождаемый лишь одним человеком, поднялся на палубу. Он тотчас же обратился к капитану и вручил ему кокосовый орех, водрузив на голову венок. Мы научились по-дружески общаться с этими удивительными людьми, между нами установилось полное взаимопонимание.
Капитан Коцебу, уже обменявшийся именами с Рариком, вновь предложил обменяться ими с Лабадини, властителем Торуа (восточного острова этой группы), пришедшим от этого в восторг. Дружественный союз был заключен.
Вождь переночевал на ближайшем острове. Ночью поднялся шторм; 13 февраля нам не удалось ни отплыть, ни побывать на берегу.
14-го мы снялись с якоря и, лавируя, проникли дальше на восток в глубь островной группы. Наш друг следовал за нами в лодке; он держался против ветра увереннее нас и продвигался чуть медленнее, чем корабль. После обеда бросили якорь у небольшого, густо поросшего пальмами острова; Лабадини поднялся на борт «Рюрика». Ему принадлежал и этот остров — Тиан; но его постоянное местопребывание было не здесь, а на Торуа, и Лабадини попросил, чтобы мы поехали с ним туда. Мы пообещали ему прибыть на следующий день. На берег высадились вместе, причем Лабадини вынес капитана на руках.
На острове, где неблагоприятный ветер держал нас и 15-го, мы радовались, видя, что эти милые люди живут в благополучии и достатке; нас приглашали в каждый дом, и везде мы находили дружеский прием. Некоторые посадки и плодовые деревья вместо изгородей были окружены веревкой из кокосовых волокон. Видели ручную цаплю со сломанным крылом и несколько домашних кур. Лабадини угостил капитана вкусно приготовленным рыбным блюдом и испеченными плодами хлебного дерева. В его лодке мы чувствовали себя так же спокойно, как в собственной шлюпке, и за те два дня, что мы провели на берегу, островитяне принесли нам столько кокосовых орехов, что их хватило на много дней для всей команды; в ответ мы подарили островитянам железо. Кокосовых орехов с Кавена нам хватило до Уналашки.
16 февраля «Рюрик» вновь отправился в путь, и, следуя вдоль островной группы, простиравшейся к югу, мы увидели всех жителей, привлеченных на берег чудесным зрелищем идущего под парусами огромного корабля.
От одного более крупного острова — позднее мы узнали, что он называется Олот,— отошла большая лодка, в которой было примерно 30 человек. Они показывали нам кокосовые орехи, кричали, жестикулировали. Мы не остановились, и лодка пошла за нами. Вдали показалось и судно Лабадини. На большом острове, откуда цепь поворачивает на юг, есть защищенная гавань, где мы и бросили якорь. Это был Торуа, остров, где жил Лабадини. Лодка с Олота стала рядом с нами. Хозяин этого острова, молодой вождь Лангедиу, не замедлил подняться на борт «Рюрика». Татуировка у него была богаче, а украшения изящнее, чем у Лабадини. Он предложил капитану Коцебу обменяться именами, на что последний, всегда сохранявший то, что он отдавал, не раздумывая согласился. Из-за этого могли возникнуть раздоры между вождями. Прибывший вскоре Лабадини, почувствовав себя уязвленным, отвернулся от нас, и здесь, на его острове, мы имели дело только с Лангедиу. Вместе с этим живым, умным и славным юношей капитан проверил и усовершенствовал географическое описание Радака.
Торуа, находившийся в 24 милях от Кавена по прямой, вдвое больше по площади и сравнительно меньше населен, чем Тиан. Нас угощали блюдом из тертой кокосовой древесины; мне оно показалось невкусным. Здесь или на Тиане нам предлагали кислое тесто из плодов хлебного дерева. Оно хорошо известно по описаниям путешествий на Отаити [Таити] и не пришлось европейцам по вкусу. Мы провели здесь три дня, запаслись множеством кокосовых орехов и раздали немало железа. Распределявший железо матрос пользовался у островитян особым уважением, и все старались подольститься к нему.
19 февраля мы снялись с якоря и поплыли на юг вдоль рифа, который окружен зеленым венчиком из небольших островов. Через 10 миль его направление меняется, и внутреннее море продолжается на юго-восток, образуя мешкообразную бухту, где и заканчивается эта островная группа. Наше внимание привлек более крупный остров Айрик, расположенный в отдаленной части бухты, и мы направились к нему. Но еще до того, как мы его достигли, с верхушки мачты на юге перед нами открылась земля, лежащая по другую сторону рифа. Это была группа Аур. Мы бросили якорь у Айрика.
Команда отправилась на берег, а капитан, у которого были дела на корабле, задержался. Лодка с Айрика подошла к нам еще у Торуа. Нас приняли весьма сердечно; одарили кокосовыми орехами, как будто мы были для них старыми, долгожданными друзьями. Это самый населенный и плодородный остров из всех, что встречались нам до сих пор. У берега стояли шесть или семь больших лодок. К одному юноше, скорее мальчику, еще не имевшему мужской татуировки, население относилось более почтительно, чем к другим вождям, и поэтому мы сразу приняли его за властелина острова. Но такие же почести оказывались и юной, тоже еще не татуированной девушке, возможно его сестре. Еще большие почести воздавались женщине (их матери), увенчанной нимбом знатности. Нигде на Радаке я не видел, чтобы женщина пользовалась подобным авторитетом. Значит, достоинство и власть вождей определяются не только их имущественным положением; мне не удалось подробно выяснить, в чем причины этого неравенства.
Юноша всем сердцем привязался ко мне и последовал за мной на корабль; его сопровождал пожилой мужчина, по-видимому присматривавший за ним. Веселый, дружелюбный, живой, любознательный, умный, смелый и весьма порядочный — более привлекательного существа я не встречал. Он представился капитану и очень ему понравился. Вместе со своим спутником он измерил корабль и высоту мачт; для этого была предусмотрительно припасена веревка. Желая порадовать его интересным зрелищем, я достал рапиры и сразился с Эшшольцем. Он зарделся от удовольствия: о, и он должен научиться этой игре! Юноша учтиво попросил рапиру; со смехом, но не теряя достоинства, он целиком доверился мне и с гордым видом стал с обнаженной грудью против направленного на него блестящего холодного железа белого чужеземца. Представьте себе — это было прекрасное зрелище!
После обеда мы вновь отправились на берег, и юноша представил капитана своей матери. Она молча приняла знатного гостя и его подарки, а в ответ вручил; два рулона могана и кокосовые орехи. Моган — это самое ценное из всего, что может дать житель Радака, его нельзя купить даже за железо. Потом они вместе пошли к сестре юноши, окруженной группой девушек державшихся несколько поодаль. Во время этого визита повсюду на острове вокруг вождей и их высоких гостей в почтительном отдалении собиралась плотная толпа зрителей.
Днем «Рюрик» окружили лодки островитян, на корабле от посетителей не было отбоя — их доверчивая назойливость становилась все утомительней и тягостней.
20 февраля с запада подошла большая лодка, в которой находились 22 человека. Среди них был Лабелоа, вождь Кавена, последовавший за нами и преподнесший капитану рулон могана. Он рассказал, что это его лодка перевернулась у входа в островную группу.
Команду матросов послали за водой, а вечером, когда уже стемнело, унтер-офицер прокричал с берега, что один из них пропал. Капитан приказал выстрелить из пушки и просигналить ракетой. Матроса, оказывается, задержали островитяне, не имея каких-либо враждебных намерений; он вскоре нашелся, и за ним послали шлюпку.
Выстрел, произведенный накануне для устрашения, 21-го был предметом всеобщих разговоров, и мы заметили, что островитяне стали почтительнее и сдержаннее. Мы же вели себя по-прежнему. Всем любопытствующим Эшшольц отвечал, что капитан вознесся на небеса, но теперь вернулся. В последний раз мы навестили здешних друзей, но капитану не разрешили посетить старшую властительницу. Нам преподнесли множество кокосовых орехов.
21 февраля «Рюрик» покинул Айрик и направился к острову Олот, выполняя данное капитаном обещание посетить Лангедиу. Лабелоа, намеревавшийся сопровождать нас на Аур, следовал за нами в лодке, однако, увидев, что мы остановились у Олота, взял курс на Кавен, а позже присоединился к нам на Ауре.
По плодородию почвы и плотности населения Олот уступает другим островам. Но зато здесь возделывается таро, и только тут растут бананы. Как и на других островах группы Кавен, где мы высаживались, я вместе с островитянами сажал семена арбуза и распределял их между вождями. И вот тогда-то у меня украли нож. Я обратился, и не зря, к авторитету Лангедиу — похищенное тотчас же возвратили. Лабадини тоже находился здесь в гостях у Лангедиу, и на первый взгляд казалось, что между ними восстановлены хорошие отношения. Обоих вождей щедро одарили.
23 февраля 1817 года мы покинули Олот и островную группу Кавен, выйдя оттуда по тому же проливу, по которому входили. Мы взяли курс на Аур и на всех парусах, ловко маневрируя между коралловыми отмелями, вошли через узкий проход в его гавань. Эта небольшая группа просматривалась из лагуны. Она имела 30 миль в длину, 6 — в ширину и состояла из 32 островов. В 5 часов пополудни мы бросили якорь у главного острова, образующего юго-восточную оконечность группы, имя которой он носит.
Нас окружили лодки островитян. Мы прокричали им «Айдара!», и вскоре на борт «Рюрика» поднялись вождь и вместе с ними чужаки с Улле [Волеаи]: Каду и спутник в его странствиях Эдок. Мой друг Каду! Я перечитываю то, что написал о нем в статье «О познаниях, какие имеем относительно первой области Великого океана»{182}, к которой вас отсылаю, и воспоминания согревают сердце и увлажняют глаза.
Радакцы пришли в ужас от решения Каду остаться с белыми людьми на их огромном корабле. Они делали все, чтобы удержать его, особенно Эдок, пытавшийся силой увлечь его в лодку. Но Каду, растроганный до слез, оттолкнул его и простился.
Здешняя якорная стоянка весьма неудобна, поэтому капитану пришлось искать более подходящую под прикрытием острова Табуаль, находящегося в 8 милях от Аура, у северо-восточной оконечности группы. Об этом он сообщил вождям, и они последовали за нами на пяти больших лодках утром 24 февраля. Население здесь многочисленнее, чем на самом Кавене, и крупных лодок намного больше.
Капитан Коцебу пишет, что высокие вожди, с которыми мы здесь общались, отнеслись к нему с доверием и пригласили на свой совет, где осаждали просьбами использовать мощь нашего оружия и вмешаться в шедшую тогда войну, о чем они сообщили впервые. Здесь находились Тигедиен, согбенный годами, со снежно-белой головой, вождь группы Аур, покровитель Каду и в отсутствие короля Ламари первый правитель; Лебелие, также старик, повелитель группы Кавен, живущий обычно на острове Айрик, супруг правительницы и отец детей, с которыми мы там познакомились; наконец, Тиураур — самый молодой и сильный, властитель группы Отдиа, отец Рарика.
Ламари был королем северной части Радака, начиная с Аура. Королем трех южных групп — Медиуро [Маджуро], Арно и Милле [Мили] — был Латете. Короли враждовали друг с другом. Теперь Ламари объезжал подвластные острова, чтобы собрать людей и организовать военную эскадру, а затем выступить против врага.
Сравните это с тем, что написано в моей статье о Радаке. Хочу повторить здесь: во время войн на островах, подвергшихся нападению, забирали все фрукты, но деревья не уничтожали. Коцебу пишет об этом неверно.
Капитан дал Тигедиену оружие — копья и серпы. В ответ Тигедиен преподнес ему несколько рулонов могана. Предстоящая война и другие обстоятельства подняли цены на моган, и нам стало намного труднее его доставать. Очень вкусное лакомство — единственный вид продовольствия, который можно взять на корабль в долгое плавание, — это сухари здешних моряков.
Наши шлюпки вернулись на корабль, до краев нагруженные кокосовыми орехами.
У Табуаи Каду попросил капитана отпустить его на берег, с тем чтобы он вновь возвратился на корабль. Мы бродили по острову, где более мощный слой почвы, чем на самых плодородных островах группы Кавен, и видели прекрасные плантации таро и бананов. На обратном пути мы встретили Каду, окруженного большой группой радакцев. Он с жаром им о чем-то рассказывал, а они, затаив дыхание, внимали его речам, многие были растроганы до слез. Каду любили на Радаке, как полюбили его и у нас на корабле.
С островов группы Кавен прибыли лодки, одна с Айрика, две или три — вместе с Лабелоа с острова Кавен, хотя был сильный ветер. С верхушки мачты «Рюрика» можно было разглядеть группу Кавен.
На Табуаи я в последний раз попытался сделать татуировку. Мне очень хотелось приобрести этот красивый «наряд», несмотря на страдания, с которыми это, как известно, связано. Ночь я провел в доме вождя, который обещал мне все устроить. Но процедура так и не состоялась, и лишь позже из высказываний Каду я понял, в чем было дело.
Не обращая внимания на. войну, развернувшуюся между Севером и Югом, и ненависть, часто сопутствовавшую упоминаниям об этом бедствии, вождь Арно жил на Табуаи спокойно, без тревог и в почете.
2 февраля мы в последний раз отправились на берег и попрощались с друзьями. Всю ночь под пальмами на берегу лагуны были слышны рокот радакских барабанов и звуки песен.
Ранним утром 27-го мы отплыли из гавани Аура тем же проходом, каким вошли в нее. Мы весь день держали курс на север, идя с подветренной стороны Кавена и 29-го с наветренной стороны Отдиа, и еще до наступления ночи увидели группу Эйлу, находившуюся с наветренной стороны. Каду узнал эти острова. Он бывал уже там и на Удирике [Утирике]. Хорошо зная географию Радака, он указывал нам направления, где находились Темо и Лигиеп |Ликиеп].
Утром 1 марта мы были у южной оконечности Айлу, образованной одноименным островом. Мы следовали южной и восточной стороной окружности, где риф лишен почвенного покрова, и искали проход. Три лодки вышли нам навстречу в открытое море, и Каду завязал оживленный разговор со своими старыми знакомыми, удивлению которых не было конца. Они указали дальше к северу более широкий проход в рифовой гряде. Из трех проходов лишь один оказался подходящим для «Рюрика». Тем временем стемнело.
2-го мы вернулись к этому проходу, ибо течение успело отнести нас к западу. Проход был узким, и оттуда дул встречный ветер, поэтому войти в него было очень трудно. Лейтенант Шишмарев обследовал фарватер. Ширина между двумя отвесными стенами составляла 50 сажен; достаточной была и глубина. Корабль следовало повернуть носом к проходу и не мешкая ввести его туда, используя сильное течение. Если бы он плохо слушался штурвала, его раздавило бы о коралловую стену. Но маневрирование прошло быстро и удачно — мы пережили поистине прекрасные мгновения. Все паруса наполнились ветром; на «Рюрике» воцарилась тишина, слышались только слова команды да шум прибоя с обеих сторон. Команда — и мы уже в лагуне! В проходе поймали на крючок бониту — так была взята входная пошлина.
Группа Айлу протянулась в длину с севера на юг на 15 миль, а в ширину всего на 5 миль. Она расположена с наветренной стороны; растительность скудная, лишь на Айлу на юге и на Капениуре на севере над зелеными зарослями возвышаются кокосовые пальмы. Лагуны мелки и изобилуют опасными коралловыми банками. К полудню мы бросили якорь близ Айлу.
Тут же к нам подошли три лодки, и Каду пришлось объясняться с островитянами и от своего, и от нашего имени. Ламари, которого мы надеялись здесь застать, был уже на Удирике, а вождь Айлу Лангемуи жил на Капениуре. Каду съехал с радакцами на берег, вскоре и мы последовали за ним. Нас угостили еще совсем зеленым панданусом, а плодов хлебного дерева здесь не было. Мы увидели несколько растений одного из трех видов Arum (таро), возделываемых на Кавене, что свидетельствовало о трудолюбии жителей. Эти бедняки были так добры, что подарили нам множество кокосовых орехов, хотя у нас их было больше, чем у них. Они не рассчитывали на вознаграждение. Мы раздали железо; как и на других островах, я посеял семена арбуза.
Ранним утром 4 марта мы продолжили плавание и, совершив утомительный переход, уже довольно поздно подошли к Капениуру, где и бросили якорь. Вблизи берега, защищавшего нас от ветра, было безопасно и тихо. Капитан решил стоять тут несколько дней, чтобы подготовить паруса и снасти к предстоящему путешествию на Север.
Первым на борту «Рюрика» нас посетил Лангемуи, преподнесший капитану несколько кокосовых орехов. Это был худощавый старик с ясным, живым умом; вообще на этих островах старики сохраняют юношеский дух. На вид ему было не более 80 лет. На теле виднелось несколько шрамов. Когда его спросили о них, это дало ему повод впервые сообщить нам о Ралике — лежащей к западу группе островов, которую на Радаке знает каждая женщина и каждый ребенок. У людей так же, как у природы: то, что известно, можно всегда легко повторить, а чтобы узнать то, что неизвестно, необходимы везение и мастерство.
Со слов Лангемуи, получившего свои раны на Ралике, капитан Коцебу начертил карту этих островов, которая помещена в его «Путешествии»; Удирик был еще одним пунктом, откуда он определил направление северных групп, а поздней осенью на Отдиа у него появилась возможность проверить это и уточнить. В моих «Наблюдениях и замечаниях» приведены некоторые высказывания Каду о Ралике. Он говорил, что Заураур, известный нам по Ауру, побывал на Ралике позже, чем Лангемуи, выменял там себе имя, которое носит и теперь, завязав дружбу с местными жителями. Ралик относился к тому же миру, что и Радак, и складывалось впечатление, что, подобно Радаку, там были две враждующие между собой группы племен.
На Айлу прибыл молодой вождь с Месида, пробившись сюда сквозь бурю на маленькой рыбачьей лодке. На обратном пути он намеревался присоединиться к Ламари, собиравшемуся отправиться на Месид за подкреплением. Наши моряки не отважились бы на столь рискованное предприятие. В конце года мы узнали, что Ламари на этот раз так и не побывал на Месиде и, отказавшись от помощи, которую рассчитывал там найти, обратился к другим островам Радака.
На Капениуре был еще один вождь, на вид много старше Лангемуи, но столь же живого нрава и острого ума.
7 февраля ветер переменил направление с северного на восточное, и продолжительный дождь прервал работы на «Рюрике». 9-го и 10-го дождь не прекращался. 11-го удалось завершить начатые работы. Мы были готовы к отплытию.
Многие из посаженных мной в Капениуре семян арбузов, несмотря на учиненные крысами опустошения, очень хорошо пошли в рост, можно было не опасаться за них.
Я уже говорил, что в различных пунктах островов Радак я либо посеял семена арбузов, съеденных в Калифорнии и на Сандвичевых островах, либо раздал их трудолюбивым островитянам. Будучи на Радаке вторично, я вновь посеял семена на Отдиа и большой запас семян поручил заботам Каду. Если судить по описанию последнего путешествия Коцебу и его пребывания на Отдиа в 1824 году, то это весьма неприхотливое растение, которое следует за европейцами повсюду, где нет недостатка в ласковом солнце, на Радаке не сохранилось. Воистину, легче творить зло, чем добро!
В лагунах Айлу в разные дни удалось поймать с корабля на крючок двух акул. Мне рассказали, что в брюхе одной из них обнаружили трех живых детенышей: двух в одном яйце, а третьего — отдельно; каждый был по три пяди длиной. Вообще во внутренних бассейнах, окруженных коралловыми рифами, акулы неопасны.
Вода в этих внутренних акваториях отличается слабым свечением.
Когда добрый Лангемуи узнал, что мы завтра хотим покинуть Айлу, он очень огорчился. Ночью мы видели, как вдоль рифов двигались огни, а едва наступило утро, наш друг появился на «Рюрике» и принес прощальный подарок: летучих рыб, пойманных ночью, и кокосовые орехи.
Мы покинули Айлу 12 марта 1817 года. Благоприятный ветер позволил нам выйти через более северный, узкий пролив, в котором мы поймали акулу. В 3 часа пополудни показались Удирик и Тегу, которые, как мы теперь точно определили, были островами, встречавшимися нам в прошлом году. Наступила ночь, и мы не смогли приблизиться к берегу. Утром 13 марта мы вдруг увидели, что судно отнесло на 8 миль к западу. Вскоре, достигнув пролива, разделявшего обе группы, мы вошли в него и к полудню оказались в спокойной воде с подветренной стороны Удирика. Ни один пролив в этих рифах не годился для прохода «Рюрика» во внутренние воды группы. Ламари должен был находиться здесь, и нам очень хотелось познакомиться с могучим властителем этого нептунического царства, который, выйдя из своей колыбели — группы Арно, объединил, основываясь на праве сильного, под единоличной властью весь север Радака.
Здесь встречалось много парусных лодок, выходивших, пересекая риф, в открытое море. Две лодки подошли к «Рюрику»; сидевшие в ней сразу же узнали нашего друга и стали громко звать его по имени, которое по-радакски звучало как Лакаду[17].
Робость была отброшена, лодки подошли вплотную к судну, люди поднялись на палубу. Среди них был человек, чья судьба тесно переплелась с судьбой Каду. О нем я упоминал в «Наблюдениях и замечаниях». Это — старый вождь с Эапа, и он тотчас же решил остаться на корабле. Чуть ли не силой пришлось заставить его отказаться от этого намерения. Каду очень жалел этого человека, который собирался заменить его на «Рюрике». Впоследствии он часто вспоминал его и думал о том, как ему живется на Эапе.
Вместе с Каду я сел в одну из лодок, чтобы отправиться на остров. Как только мы отошли от «Рюрика», к нему подплыл на лодке Ламари и поднялся на борт. Это был крупный, толстый человек с длинной черной бородой; один глаз у него казался больше другого. Его спутники не выказывали ему никаких внешних признаков почтения.
Тем временем мы лавировали у рифа; даже во время прилива лодки островитян не рискуют перебраться через него. Наконец мы приблизились к острову; двое добрались до него вплавь через полосу прибоя. Сюда приехал Ламари, мы с ним побеседовали. Я заметил, что за все это время лишь одной лодке удалось пройти из открытого моря во внутренний бассейн, хотя прежде все они легко выходили в открытое море. Лодка, в которой я сидел, вмещала 14 человек, хотя ее и нельзя было отнести к самым большим. Мы вернулись на корабль с кокосовыми орехами. Было послеобеденное время. Каду еще раз объяснили, что мы навсегда покидаем Радак, но он твердо решил остаться на корабле. Он раздал последнее, что у него было, друзьям. Не дожидаясь обещанных островитянами плодов, мы снялись с якоря и взяли курс на Бигар [Бикар].
Нам не удалось достичь необитаемого рифа Бигар, расположенного, по сообщениям радакцев, к северо-востоку от Удирика. Его посещают мореходы этой группы для ловли птиц и черепах. В течение двух дней пришлось бороться с ветром; весьма сильное западное морское течение к северу от Радака отнесло нас 14 марта на 26 миль, а 15-го — на 20 миль назад к западу от намеченного курса; вместо того чтобы двигаться против ветра, приходилось пятиться назад. Уступая в искусстве мореходам, называемым нами «дикарями», мы вынуждены были отказаться от дальнейших попыток достичь Бигара.
По-видимому, радакцы указали нам то направление, которого они сами придерживаются, плывя на Бигар. В действительности он находился к западу от нас, в то время как мы пытались искать его на востоке. Поэтому с Бигара они должны были бы указать группу Удирик в более восточном направлении. Во всяком случае, плавание туда и обратно предполагает основательное знакомство с течениями и надежную оценку их воздействия.
Мы взяли курс к островам, которые видел в 1807 году капитан Джонстон на фрегате «Корнуолис». Казалось, что именно туда указывают нам путь многочисленные морские птицы, чей полет Каду наблюдал вечером. Мы увидели эти острова 19 марта 1817 года. Серповидная пустынная группа тянется с севера на юг на 13,5 мили. Ее центр капитан Коцебу определил на карте координатами: 14°40' сев. широты, 190°57' зап. долготы. Лейтенанту Шишмареву, посланному вперед на шлюпке, не удалось найти проходов через валообразный риф, окаймлявший эти острова с подветренной стороны.
Тем временем на крючок попалась огромная акула. Желая помочь нам не упустить столь ценную добычу, Каду быстро разделся и приготовился прыгнуть за борт. Но чудовище сорвалось с крюка и скрылось.
«Рюрик» продолжал свой путь на Север.
С Радака на Уналашку
13 марта 1817 года мы видели Удирик [Утирик], входящий в цепь Радак [Ратак], а 19 марта — последний риф этого региона Полинезии; мы покидали веселый, светлый мир и повернули в сторону мрачного Севера. Дни стали длиннее, холод ощутимее. Небо над головой было затянуто серыми тучами, и море сменило свой яркий, лазурный цвет на грязно-зеленый. 18 апреля 1817 года показались Алеутские острова. Впереди была главная цель нашего путешествия: через Уналашку наши мысли устремлялись к Северному Ледовитому океану. Исполненные жажды деятельности, сознавая свой долг, все мы — офицеры и матросы,—находившиеся на корабле, решили, что если раньше мы радовались только природе, то теперь, на этом ответственном этапе нашего путешествия, мы будем искать радость во взаимном общении и совместной работе.
Настоящее было для меня не менее привлекательным, чем будущее. Читатель может познакомиться в моих «Наблюдениях и замечаниях» с высказываниями Каду об известном ему мире между островами Пелау [Палау] и Радаком. Заставить Каду рассказать обо всем было мучительным, хотя и благородным, даже радостным для меня делом. Прежде всего нужно было испытать на практике средство взаимного общения. Язык складывался из полинезийских диалектов, на которых говорил Каду, и немногих европейских слов и оборотов. Каду должен был привыкнуть к этой речи, понимать ее, но что еще важнее — научиться говорить. Скоро уже можно было беседовать об истории и о конкретных вещах без особых затруднений. Но многое еще скрывалось за занавесом непонимания. Нам приходилось долго спрашивать Каду, так как его ответ был кратким, ограниченным рамками вопроса. Иллюстрированные книги по естественной истории помогли устранить немало сомнений. На основе отчета патера Кантовы{183} о Каролинских островах, опубликованного в «Lettres édifiantes», я составил перечень вопросов для Каду. Велико было его удивление, когда он услышал от нас так много о родных островах. Он подтверждал, уточнял; появились новые зацепки, и каждый новый шаг тщательно проверялся. Но и наш друг, в свою очередь, часто повергал нас в изумление. Однажды мы беседовали с Эшшольцем, а Каду как будто дремал, сидя на стуле. Обычно наша корабельная речь была пересыпана чужеземными оборотами и словами — так вот, беседуя с Эшшольцем, мы стали считать по-испански. И вдруг Каду начал вместе с нами считать от одного до десяти и при этом абсолютно правильно произносил названия чисел. Разговор зашел о Могемуге и о еще сохранившихся там следах миссии Кантовы. Земля Вагал, о которой упоминалось в песнях Каду, земля железа, с реками и высокими горами, большая земля, населенная европейцами, где бывают и жители Каролинских островов, долго оставалась для нас загадкой. Разгадку мы нашли лишь на самом Вагале, то есть на Гуахаме [Гуаме], где мы приветствовали дона Луиса де Торреса той самой песней, в которой на Улле [Валеаи] восхваляется его имя. Ей нас обучил Каду; он часто пел эту песню в горах Уналашки.
Прошу прощения у всех, кто думает иначе, но мой Каду совсем не был антропофагом, как ни красиво звучит это слово, и он вовсе не считал нас людоедами, взявшими его на корабль в качестве провианта. Он был неглупым малым, и если бы он нам не доверял, что вполне, впрочем, было бы понятно, то не настаивал бы с таким упорством на путешествии с нами. Он никогда не принимал всадников за кентавров. Если бы ему сказали об этом, он счел бы, что над ним подшучивают, и сам бы стал подтрунивать вместе с нами.
Видя, что нам не удалось обнаружить лежащий где-то поблизости Бигар, он в конце концов засомневался, найдем ли мы обетованную землю Уналашку. «Эмо Бигар!» («Нет Бигара!») — это восклицание вошло на «Рюрике» в поговорку. Каду внимательно следил за изменениями звездного неба, за тем, как поднимались на севере одни звезды и опускались в море на юге другие; он видел, что мы ежедневно в полдень вели наблюдения за солнцем и следили по компасу за маршрутом; он не раз замечал, что земля появлялась именно тогда и там, когда и где мы предсказывали. Все это укрепляло в нем уверенность в совершенстве наших наук и искусства, естественно выходящих за рамки его понимания. Мог ли он оценить или сравнить их достижения, мог ли он судить о том, насколько они эффективны? Мои рассказы о воздушных шарах и о воздухоплавании представлялись ему невероятными и сказочными — не больше, чем рассказы о лошадях, везущих повозки и кареты. Какими мерками пользуемся мы сами при оценке обычного или необычного? Разве порой привычные явления не кажутся нам не заслуживающими внимания, а еще не постигнутое не представляется вообще недостижимым? Например, мы находим вполне естественным, когда мальчик гонит гусей на луг, и фантастическим — возможность приручения китов.
Каду видел, как на Уналашке и в других местах, высаживаясь на берег, мы исследовали и собирали прежде всего то, что характерно для природы данной местности, и понимал лучше, чем многие наши невежды, связь между этой неограниченной любознательностью и знаниями, на которых основывается наше превосходство. Однажды во время плавания я ненароком достал из своего ящика человеческий череп. Каду вопросительно посмотрел на меня. Эшшольц и Хорис также взяли черепа и шутки ради двинулись с ними на Каду. «Что это значит?» — спросил Каду просто. Я объяснил, что интересно сравнить черепа представителей различных рас и народов, и тогда он пообещал достать мне череп своего соплеменника, когда мы будем на Радаке. Но при последнем кратковременном посещении Отдиа у нас были другие заботы, и обещание Каду забылось.
Расскажу теперь вкратце о нашем плавании на Уналашку.
Мы держали курс на Север с небольшим отклонением к западу, стремясь туда, где в прошлом году заметили признаки суши. 21 марта на северо-востоке должен был показаться остров Уэйкерс [Уэйк], однако подойти к нему мешал встречный ветер. Вечером мы видели множество морских птиц. Они летели против ветра, пересекая наш курс, отклонившийся несколько к востоку. «Спать вы будете на берегу»,— сказал Каду. Я заметил, однако, что направление полета не у всех птиц одинаковое, отчего наши наблюдения были ненадежны. Птицы сопровождали нас и на следующий день.
23 марта прекратилось действие пассата у 20°15' сев. широты, 195°5' зап. долготы. В следующие дни выяснилось, что мы уже пересекли тропик; порывистый ветер скоро перешел в шторм, а затем столь же быстро сменился полным штилем. Стало довольно холодно (15° по Реомюру).
29-го мы находились в той части моря (координаты: 31°39' сев. широты и 198°52' зап. долготы), где, по наблюдениям прошлого года, предполагали наличие суши. Но теперь не встречалось никаких ее признаков. Мы взяли курс на Уналашку и до 5 апреля (35°36' сев. широты, 191°49' зап. долготы) находились в зоне очень сильного встречного течения, ежедневно относившего нас на 20–35 миль в юго-западном направлении.
30 марта с корабля поймали пеликана. С 31 марта по 2 апреля мы лавировали между 34° и 35° сев. широты и 194° и 195° зап. долготы против северного ветра и течения в темно-зеленом море. Морских птиц нам встречалось мало, зато было множество китов. Хотя Каду и знал о них (нам самим довелось видеть кашалота у рифов Радака), тем не менее он наблюдал за ними с огромным интересом.
3 апреля высланная с корабля шлюпка загарпунила луна-рыбу (Tetrada mola){184}, неподвижно лежащую на поверхности моря. Она на много дней обеспечила всю команду ценной свежей пищей. Мясо у нее жестковатое на вкус и напоминает рачье. Помня о подозрительном сходстве этой рыбы со считающимися ядовитыми видами иглобрюхих рыб, мы бросили печень и внутренности свинье. Вокруг судна резвились киты. На поверхности, в местах, где они выпускали воду, появлялись гладкие, зеркальные пятна ворвани.
4-го при северном ветре мы взяли курс на восток. Над «Рюриком» кружила цапля, сопровождавшая нас некоторое время. Пролетало много морских птиц. Мимо нас проплыли плавник и связанный веревками бамбуковый крест. Видели трех луна-рыб.
5-го утром загарпунили еще одну такую рыбу. Ее тело сильно светилось; даже несколько дней спустя кость, которую я сохранил, так светилась, что темной ночью около нее можно было разглядеть время на часах. Почти весь день был штиль. На море появлялись красные пятна, подобные тем, какие мы наблюдали 6 июня 1816 года в этом же море, но несколько западнее, что объяснялось скоплениями красных рачков. Вечером свежий ветер с юга стал крепчать; мы шли на всех парусах.
9 апреля, после того как в течение четырех дней мы плыли при переменном ветре, не производя полуденных: наблюдений, выяснилось, что южное течение сместило нас примерно на 1° севернее нашего курса.
Капитан Коцебу пишет: «13 апреля было тем ужасным днем, когда рухнули все лучшие мои надежды. Мы находились под 44°30' сев. широты и 181°8' зап. долготы. Уже 11-го и 12-го дул жестокий ветер и шел снег и град; а в ночь с 12-го на 13-е поднялся страшнейший шторм; сильные волны вздымались на такую высоту, которую мне прежде не приходилось видеть. «Рюрик» качало неимоверно. С наступлением ночи шторм усилился настолько, что отрывал гребни вздымавшихся волн и гнал их в виде густого дождя по поверхности моря. Я только что сменил лейтенанта Шишмарева на вахте; кроме меня на палубе находились еще четыре матроса, из которых двое держали руль; остальную команду я послал для большей безопасности в трюм. В 4 часа, только успел я удивиться высоте одной ревущей волны, как она внезапно ударила в «Рюрик», сшибла меня с ног и лишила чувств. Очнувшись, я ощутил жесточайшую боль, но ее заглушила горесть, которая охватила меня при взгляде на корабль, казавшийся близким к гибели, которая была бы неминуемой, продлись шторм хотя бы еще час. На корабле не было местечка, которому эта страшная волна не причинила бы вреда. Сперва мне бросился в глаза сломанный бугшприт; можно себе представить, какова была сила волны, одним ударом переломившей дерево в 2 фута в диаметре; потеря эта была тем ощутимее, что обе оставшиеся мачты не могли больше сопротивляться сильному метанию корабля во все стороны, а после утраты их нельзя было бы помышлять о спасении. Эта исполинская волна сломала ногу матросу; одного унтер-офицера сбросила в воду, но он спасся, проявив большое присутствие духа, сумев ухватиться за свесившуюся с корабля веревку; штурвал был сломан; оба матроса, державшие его, сильно пострадали; сам я ударился грудью об угол, и жестокая боль вынудила меня оставаться несколько дней в постели. В этот ужасный шторм меня радовало неустрашимое мужество наших матросов; ничто не могло бы спасти нас, но, к счастью мореплавателей, такие страшные штормы никогда не длятся долго»{185}.
Хорис, описывая эту часть путешествия, отстает на один день. 15 апреля я сделал следующую запись в дневнике: «В пятницу 11 апреля начался самый сильный шторм из всех, которые были доселе, огромные волны поднимались ввысь. В ночь на субботу (с 11-го на 12-е) одна из них сломала бугшприт. Шторм продолжался и в воскресенье. Лишь в понедельник в каюте посветлело. Вечером ветер опять перешел в шторм. 15-го штормило с прежней силой, однако в каюте было по-прежнему светло. Оказывается, выпал первый снег. В эти дни удалось многое узнать от Каду и т. д.».
Когда волнение стихло, капитан приказал измерить Уровень воды в трюме, чтобы узнать, нет ли течи. Для этого в одно из отверстий для откачки воды надо было опустить лот, и это поручили сделать молодому унтер-офицеру, который не отличался особой смелостью. Он испугался, побледнел, ибо ему показалось, что в трюме полно воды, о чем он и доложил капитану. Стали тщательно выяснять: намокла ли только веревка, или вода просочилась в отверстие? Оказалось, что внутрь судна вода все же не проникла.
Среди своих бумаг я не нашел нескольких стансов, сложенных в часы вынужденного безделья. Могу вспомнить лишь один из них, который и приведу здесь ради курьеза. Ведь не так уж много стихов пишется по-немецки на Уналашке или близ нее.
Жизнь нашего Каду, этого нового Одиссея в тропиках, в обширной акватории, равной Атлантическому океану, была весьма кипучей, деятельной. Каду никогда не видел, чтобы вечно текущие лазурные волны останавливали свой бег, чтобы пышная зелень лесов увядала, и теперь, в эти дни, он впервые наблюдал, как затвердевает вода, как падает снег. Я не хотел заранее ничего ему рассказывать о нашей ужасной зиме, чтобы он не счел меня лжецом прежде, чем сам все увидит, и мои слова окажутся печальной правдой.
17 апреля мы пообещали нашему другу, что завтра его взору предстанет земля с высокими, зубчатыми, сверкающими белизной вершинами. Ветер улегся, и вечером 18-го показались Алеутские острова.
Мы находились к западу от Уналашки. На южных низменностях снег уже растаял. Китов, обычно проводящих лето в этом районе, еще не было. Возможно, те самые киты встретились нам между 45° и 47° сев. широты. В это время года на севере Великого океана не было таких продолжительных, устойчивых туманов, как в прошлом году, когда мы находились здесь в мае — июне.
Удивительно красиво 21 апреля выглядели покрытые снегом горы Умнака в кроваво-красных лучах восходящего солнца на фоне темных облаков. В этот день мы попытались пройти между Умнаком и Уналашкой. Вдруг ветер изменился, все кругом потемнело от налетевших снежных вихрей. Положение стало небезопасным. «Близился час нашей гибели, когда ветер неожиданно спасительно переменил направление»,— писал капитан Коцебу. Ночью мы вышли в открытое море к югу от Уналашки.
22 и 23 апреля при ясной погоде и слабом ветре, который часто прекращался, мы искали проход к востоку от Уналашки. 24-го, держась прямо против ветра, мы прошли пролив между Уналашкой и Уналгой. «Рюрик» шел, с трудом преодолевая весьма сильное течение, которое можно было сравнить с прибоем. Пушечным выстрелом мы просигналили показавшейся вдали четырнадцативесельной байдаре, чтобы та приблизилась; она подошла, когда мы при полном штиле стали у скалистого выступа. Ветер перешел в шторм, сопровождавшийся бесчисленными снежными вихрями. Сначала мы стали на якорь в открытой бухте, а 25-го нас отбуксировали во внутреннюю бухту, где неподалеку от селения Иллюлюк было брошено четыре якоря.
В тот год зима отличалась необычным обилием снега, толстым слоем покрывавшего склоны. Природа еще не проснулась, растения не цвели, кроме вороники (Empetrum nigrum) с ее темными, почти пурпурными листьями. К середине месяца снег постепенно отступил на вершины. 24-го под солнцем зацвели первые цветы — анемоны и орхидеи. К концу мая выпал свежий снег, некоторое время державшийся на склонах; ночью подмораживало. Только в июне начали распускаться все цветы.
Корабль, чей бугшприт был сломан у основания, остальные мачты повреждены, такелаж пришел в негодность, медная обшивка содрана и лишь замедляла ход, необходимо было разгрузить и килевать, предстояло также заменить оснастку, укоротить и отремонтировать старый бугшприт. Дел было много, и работы начались незамедлительно.
Все, что капитан в свое время потребовал для оснащения нашей второй экспедиции на Север, было частично готово, частично еще находилось в работе и вскоре было завершено. 27 мая из Кодьяка прибыли два переводчика, говорившие на языках народов северного побережья Америки, среди которых жили. Они производили впечатление знающих людей.
Капитан переехал на берег к Крюкову, агенту Компании{186}, у которого мы только питались, но жить продолжали на корабле. К нашей радости, каждую субботу топилась баня.
Пища наша состояла в основном из рыбы (лосось и крупная камбала). Воистину, воистину — самая скверная пища, какую только можно найти. Зато большой рак (Maja vulgaris) (лучшее из того, что попадало к нам когда-либо на стол) действительно хорош. Очень хотелось растительной пищи. Из овощей имелась в достатке крупная репа; ее варили, и нам нравилось. Мы собирали и дикорастущие коренья, зонтичные, щавель и молодые побеги Uvullaria amplexifolia, по вкусу напоминающие огурцы. Позже пошла в ход ягода, особенно много было красивой на вид, но не очень вкусной малины (Rubus spectabilis). Русские и алеуты повсюду едят стебли борщевика (Heracleum), в изобилии растущего в горных долинах. Крюков приказал зарезать для нас корову из своего небольшого стада. Несколько раз мы пробовали китовый жир. Он был невкусен, но съедобен. Теперь надо упомянуть и о том, что действительно нельзя было есть и что пришлось изъять из нашего питания.
Из животных, взятых на Оваи, мы сохранили в качестве подарка для жителей Уналашки супоросую свинью (на Уналашке уже были свиньи — в другой части острова — в Макушкине (Макушине]). Свинью, опоросившуюся в первые дни нашего пребывания, кормили рыбой; один поросенок попал к нам на стол; пища матери сообщила его мясу нестерпимый привкус рыбьего жира, который не был так противен даже у морских птиц и млекопитающих.
Выше уже отмечалось, что в отношении питания и запасов продовольствия положение на «Рюрике» было не из лучших; кладовые и погреба нуждались в наведении там порядка, для чего была учреждена должность ключника; ее доверили Хорису, обладавшему склонностью и талантом в такого рода делах. Он действительно наладил питание, и мы чувствовали себя прекрасно. Когда в августе мы покидали Уналашку, Хорис позаботился о том, чтобы запастись яйцами морских птиц и засолить щавель, и мы лакомились всем этим еще в поясе тропиков. В Хана-руру и Маниле у сочувствовавших нам капитанов судов он достал разные приправы и пряности, которых у нас не было. Время от времени он организовывал на «Рюрике» выпечку хлеба и т. п. На море все эти вещи гораздо приятнее, чем на суше. Хорис ко всему прочему знал толк в экономии. Но наш друг Логин Андреевич, претворяя свои замыслы в жизнь, действовал с чрезмерным рвением и в соответствии с тем, как он понимал значение своей новой должности, что мне лично не всегда нравилось. Например, вечерами, когда я возвращался с гор, где, выполняя служебный долг, занимался сбором растений и потому пропускал время трапез на корабле, все шкафы были уже заперты, и я не мог получить ни стакана вина, ни сухаря — единственного, на что скромно рассчитывал. И надежды на лучшие времена не было, ибо гостиниц и ресторанов на Уналашке не найти. Итак, новый порядок складывался не в мою пользу. Однако вмешался честный Зыков, также пользовавшийся авторитетом на судне, и сломил упорство реформатора. Положение изменилось к лучшему, и мне больше не приходилось голодать.
Крюков в отношениях с капитаном как в служебных, так и в других делах был почтительно-услужлив, порой даже слишком. Более влиятельному, чем он сам, капитану он оказывал услугу хотя бы тем, что удовлетворял все запросы Хориса, охотно использовавшего эту возможность в своих интересах. Мои воспоминания об Уналашке столь же печальны, сколь приятны воспоминания о Радаке. На многое из того, что было для меня там тягостным, я хотел бы опустить завесу забвения.
Подарок, который обычно преподносят здесь капитану корабля (более знатных особ на острове не бывает),— тонко и со вкусом выполненная камлейка; она действительно превосходно украшена. Начальнику такой подарок обходится дешево. За свой труд бедные алеутские девушки получают лишь несколько иголок и — что ценится так же высоко, как золото и драгоценные камни,— кусочки красного бобрика длиной с руку. Половина этого куска идет на камлейку. Швы изящно украшаются тончайшей бахромой.
Крюков решил преподнести капитану, лейтенанту и каждому из пассажиров по камлейке. Однако позже он сообразил, что незачем тратиться на мою персону. Другие получили подарки, а меня обошли. Тогда Логин Андреевич заявил Крюкову авторитетным тоном, какой он умел придавать своему голосу, что не следует забывать Адельберта Логиновича. Я получил свою камлейку, а Логин Андреевич — мою благодарность.
Крюков сказал капитану Коцебу, что на острове живет столетний алеут, и капитан пожелал, чтобы старца из отдаленного места, где тот жил, доставили к не-му. Прямо-таки мифическая фигура, сохранившаяся со времен свободы, этот человек переживший судьбы своего народа, теперь был слеп и сломлен старостью. Капитан, могущественный повелитель на этом русском острове, заверил старца в своей благосклонности: он сделает для него все, что в его власти. Пусть старик соберется с духом и скажет о самом заветном желании. Старец попросил... рубашку: никогда еще не было у него рубашки.
Во время нашего пребывания на Уналашке алеуты стреляли птиц и делали для нас чучела. Капитану Коцебу и его рвению в области наук Берлинский музей обязан значительной коллекцией северных морских и хищных птиц, которую я ему подарил. Без помощи капитана и его приказаний мне мало что удалось бы сделать и собрать для орнитологии, поскольку свою английскую двустволку я уступил губернатору Камчатки (получить за нее условленную плату мне помешало изменение маршрута). Пара больших ящиков с чучелами птиц - была запакована на Уналашке. Вообще, надо сказать, во время плавания, когда мой сундук до отказа наполнялся собранными материалами, капитан приказывал сколачивать ящики для коллекций и хранить их в запакованном виде.
Я попросил наиболее опытных алеутов сделать чучело небольшого кита. Позже я передал его Берлинскому музею с тем описанием, которое я сделал в журнале «Verhandlungen der Akademie der Naturforscher» (1824, т. XII, tab. 1). Для этого раздела зоологии весьма ценно каждое сообщение. На Уналашке мы наблюдали, как алеуты разделывали тушу кита. Эту неприятную работу с большим старанием выполняло множество алеутов — одному натуралисту здесь делать было нечего. Череп животного мы привезли в Петербург.
На Уналашке нет топлива; деревья там не растут, а плавника море выбрасывает слишком мало. Эту нехватку мог бы восполнить торф, но здешние жители не знают, где его искать и как добывать. Тут недостает скорее технических средств, чем природных запасов. В то время я еще не обследовал ни одного торфяного болота и ничего не написал о торфе[19]. Теперь я лучше знаю, как его находить под слоем почвы, и поэтому могу более уверенно бороться с предрассудком, который яе позволяет людям делать то, чего они ранее не делали.
От этой естественноисторической хроники перейду к юмору. Сын Крюкова, весьма храбрый мальчуган, съездил на Унимак — так велик стал теперь его мир! Там он видел деревья, даже влез на одно из них и покачался на ветвях. Он с гордостью рассказал всем об этом, правда с опаской, что все это покажется нам сущим вымыслом и его сочтут лжецом. Мальчик не жалел красок, чтобы как можно нагляднее описать то дерево.
На Алеутских островах нет земноводных, и животному миру Уналашки неизвестны лягушки. Тем не менее однажды в китайском сахарном сиропе, который здесь употребляют, обнаружили крупную, хорошо сохранившуюся лягушку. С тех пор прошло много лет, но об этом судачат и поныне, спорят о том, что же было в сиропе: маленький человечек, дикарь, лесной чертик или что-то еще.
Я проводил целые дни в горах. Каду, перестав уже принимать водоросли этих морей (Fucus esculentus) за листья бананов, весьма неохотно согласился с тем, что не имеет смысла сажать кокосы на этом неприветливом берегу. В гавани он собирал для своих друзей-радакцев гвозди и бросовое железо, тщательно выбирал среди окатанных морем камней такие, которые можно было бы использовать для шлифовки; он часто уходил на далекие пастбища или садился на ближайший холм и распевал песни Улле и Радака.
Однажды Каду пожелал научиться стрелять из ружья, и Эшшольц вызвался помочь ему в этом деле. На корабле нашли старенькое ружье. После первого выстрела, произведенного нашим другом, порох медленно выгорел в запальном отверстии, а он все лежал, сжимая в руках ружье и не зная, что же делать, чтобы у него получился такой же выстрел, как у капитана. Мне неизвестно, были ли еще уроки с другим, хорошим, ружьем, но так или иначе наш мирный Каду стрелком не стал.
Мы взяли на борт сына Крюкова, пятнадцать алеутов, большие и малые байдары, соленую и вяленую рыбу. «Рюрик» был готов к плаванию. Мы тщетно надеялись на то, что придет судно с Ситхи и удастся запастись тем, чего нам недоставало. Неблагоприятные ветры еще пару дней удерживали нас в гавани. Мы стояли у входа в эту гавань на якоре близ линии, разделявшей ветры, дующие в противоположных направлениях. Впереди ветер дул с моря, а сзади, из внутренней гавани, между маленьким островом и берегом,— в сторону моря. Мы отплыли в воскресенье 29 июня 1817 года по нашему судовому счислению (днем позже — по островному).
Во время плавания на Север агенты Компании по приказу Крюкова должны были на островах Св. Георгия и Св. Павла [о-ва Прибылова] снабдить нас многим из того, в чем мы нуждались. На обоих островах, находящихся к северу от Алеутской островной цепи и в обычное время необитаемых, несколько русских и поселившиеся там алеуты промышляют сивучей{188} и котиков, собирающихся стадами на берегах. Компания получает от этого постоянный немалый доход. Оба острова лишены гаваней и якорных стоянок.
30 июня после полудня при ясной погоде и попутном ветре мы приблизились к острову Св. Георгия, известили пушечным выстрелом о своем прибытии и всю ночь курсировали около него. 1 июля присланная из поселения байдара доставила нас на берег. Поистине удивительное зрелище представляют собой бесчисленные стада сивучей (Leo marinus Stelleri); эти необозримые стада продвигаются к самому поселению, сплошь покрывая широкую, скалистую, лишенную растительности, черную от жира полосу побережья. Огромные, бесформенные массы жира и мяса, неловкие и тяжеловесные на суше. Самцы охраняют своих самок и время от времени вступают в яростную схватку за обладание ими; самки следуют за победителем. Рев сивучей слышен в море за 6 миль от берега. Можно приблизиться к ним на расстояние в несколько шагов, они лишь поворачиваются к человеку мордой и ревут. За то время, которое Каду провел с нами, ничто его так не занимало и не действовало на него так сильно, как вид этих животных. Он присоединялся ко мне, когда я шел понаблюдать за стадом, но всегда держался в отдалении. Старых самцов убивают ради шкур, которые используют для обтягивания байдар и т. п.; кишки перерабатывают для камлеек. Молодых сивучей убивают ради мяса, которое, впрочем, было невкусным. Несколько людей, вооружившись палками, отпугивают старых животных, а молодых, отрезав от моря, гонят к месту, предназначенному для убоя. Ребенок иногда гонит стадо от двенадцати до двадцати животных. Старых убивают из ружья; у них на голове есть лишь одно место, куда целятся, чтобы сразить животное. Острова Св. Георгия и Св. Павла русские называют «островами котиков», и промысел этих животных приносит им наибольший доход. Но остров Св. Георгия — это и пристанище сивучей. Только немногие семьи котиков занимают здесь обособленные участки на побережье. Для нас забили нескольких молодых сивучей; наши запасы пополнились не одним ведром яиц, которые долгое время могут сохраняться свежими в жиру. Места гнездования морских птиц регулярно опустошаются; люди распоряжаются животными и птицами так, словно они их собственность.
В тот же вечер мы увидели сначала Бобровый остров — отмель близ острова Св. Павла, а потом и сам этот остров. Острова Св. Георгия и Св. Павла расположены так близко, что с одного можно видеть другой. 2 июля мы стояли близ Бобрового острова в полный штиль, в туман и в дождь. Море выглядело грустным и грязным; жировые пятна на поверхности отливали всеми цветами радуги. Байдары с острова Св. Павла ходили от берега к кораблю и обратно; с «Рюрика» же не было спущено на воду ни байдары, ни шлюпки.
После обеда подул слабый ветер; мы миновали отмель и подошли к главному острову; 3-го пушечный выстрел возвестил, что мы поблизости. Навстречу тотчас вышла байдара, и в ней мы направились к берегу. Хорис и Каду на этот раз остались на «Рюрике».
Своей известностью остров Св. Павла обязан морским котикам (Ursus marini Stelleri){189}, бесчисленными стадами которых в периоды, когда самки приносят потомство, усеяно побережье. Шкуры молодых животных высоко ценятся и имеют прочный рынок сбыта в Кантоне [Гуанчжоу], где их реализуют по твердым ценам. Самцы вдвое больше самок и, кроме того, отличаются строением и окраской. Самцы и молодняк более темные, самки — светлее. Я привез черепа и тех и других. Их различия весьма значительны по форме, но по размерам сравнительно невелики. У самца череп более выпуклый, а у самки уплощенный, причем сильнее выступают надглазничные отростки и закраины, которые окаймляют глазные впадины. Котик подвижнее сивуча и передвигается по земле быстрее и легче. Самец с возвышенного места следит за своей семьей и ревниво охраняет самок. У некоторых самцов одна или несколько самок, у других — да полусотни. Самка приносит двух детенышей, которые появляются на свет с зубами на обеих челюстях. Мать не перекусывает им пуповину, и можно видеть, как молодые животные еще долго ходят с последом. Я наблюдал за таким новорожденным и погладил его: он раскрыл глаза и, завидя меня, поднялся на задние конечности, показав отличные зубы, как бы приготовившись к обороне. Одновременно на меня уставился отец семейства. «Et qui vous a chargé du soin de ma famille?» («И кто это вам поручил заботиться о моей семье?»). Я заверил его, что у меня и в мыслях нет ничего дурного, откланялся и ушел.
Морские птицы (Uria) [кайры] располагаются на побережье среди семей котиков; они бесстрашно летают между стадами, не обращая внимания на рев стоящих на вахте самцов. Бесчисленное множество птиц гнездится в пещерах омываемых морем скал и среди больших камней, образующих вал вдоль побережья. Обращенная к берегу сторона этого вала побелела от их помета.
Однажды у острова Св. Павла появилось американское судно. Капитан с большой группой моряков сошел на берег и привез с собой вдоволь водки. Русские и алеуты выпили изрядно, но, пока они спали, щедрые пришельцы забили много котиков, погрузили их на корабль и удалились восвояси.
В тех случаях, когда на просушивание шкур нет времени, их засаливают, причем качество от этого нисколько не страдает.
Наш капитан принес на берег компас, чтобы точно определить направление, в котором отсюда и с острова Св. Георгия можно наблюдать как вулканические явления в открытом море, так и сушу. Магнитная стрелка вела себя здесь, на вулканических железистых шлаках, весьма беспокойно. Но в одном пункте она оставалась спокойной, и оттуда удалось определить направление, где происходили эти явления: юго-запад с отклонением 1,5° к западу. Именно, там, на расстоянии 60 миль от острова Св. Павла, находился 4 июля «Рюрик», но даже в хорошую погоду и при ясном горизонте мы не видели этого острова. До 5 часов вечера мы плыли в этом же направлении, но земля так и не появилась. Тогда мы взяли курс на север, к восточной оконечности острова Св. Лаврентия.
Погода большей частью стояла пасмурная; чередовались ветры и штили; 9 июля мы пересекли широту острова Св. Матвея, но не видели сам остров; на другой день, поскольку подул более благоприятный ветер, нам предстояло увидеть остров Св. Лаврентия. Об этом сообщили нашему другу Каду.
На пути нам то и дело встречались кашалоты, но чаще тюлени; вечером за кораблем плыло несколько сивучей. В этом неглубоком море, куда мы часто опускали лот, удалось поймать на крючок много трески (Gadus) и обеспечить себя свежей пищей.
Утром 10 июля мы увидели землю и направились к южному гористому берегу острова Св. Лаврентия. Нашим взорам предстала цепь невысоких гор с довольно плавными очертаниями, но крутыми подножиями. Прибрежные низменности объединяют все эти горы, и в некоторых местах они выступают далеко в сторону моря. На низменностях расположены поселения людей. Жители здесь пьют талую воду, скопившуюся в лужах и озерах. «Рюрик» стал на якорь, и после обеда мы отправились на берег в одно из таких поселений. Было решено взять с собой ружья. Каду был возмущен этим, он спрашивал, зачем они нам. Но, узнав о наших мирных намерениях и о том, что ружья нужны только для обеспечения безопасности, Каду захотел, чтобы ему дали саблю, и присоединился к капитану.
Навстречу нам вышли мужчины. Они были вооружены и держались весьма уверенно. Детей и женщин среди них не было. Наши переводчики заверили жителей в мирных целях визита, а табак и стеклянные бусы быстро помогли наладить дружественные отношения. У мужчин на лицах видны были линии татуировки, а также какие-то знаки на лбу и на щеках. Украшения на губах встречались не у всех, у многих их заменяла татуировка в виде круглых пятен. Мужчины носили длинные волосы с пробором посередине (алеуты обычно не стригутся). Оленей у них нет. Собак для поездок на побережье запрягают в байдары. Товары алеуты получают от чукчей, с которыми поддерживают торговые связи.
Мы не заходили в их жилища. Глинобитные юрты, стоявшие вдоль берега, окружены обычными помостами, под которыми находятся собачьи конуры. Летнее жилище — это покрытый шкурами шатер.
Нам сказали, что припай начал таять всего три дня назад (по моим пометкам — пять) и течение относит лед к северу.
Мы вернулись на корабль и отправились в путь, чтобы обогнуть остров с восточной стороны.
Утром 11 июля «Рюрик» лавировал при ясной погоде и южном ветре. Мне передали, что ночью у восточной оконечности острова встретился лед, что у капитана боли в груди и он слег в постель.
12-го капитан письменно сообщил нам и экипажу «Рюрика», что из-за расстроенного здоровья он отказывается от достижения главной цели путешествия и остаток сил посвятит тому, чтобы вернуть нас на родину. Вот что пишет об этом сам капитан Коцебу («Reise». Teil II, с. 105){190}.
«В 12 часов ночи, собираясь стать на якорь у северного предгорья, мы заметили, к нашему ужасу,, сплошной торосистый Лед, который, насколько мог видеть глаз, простирался на северо-восток и на севере покрывал всю поверхность моря. Печальному моему состоянию, которое после Уналашки ежедневно ухудшалось, здесь был нанесен последний удар. Холодный воздух так воздействовал на мою больную грудь, что у меня перехватывало дыхание, и, наконец, начались судороги в груди, обмороки и кровохарканье. Лишь теперь мне стало' понятно, что мое здоровье находится в более опасном состоянии, чем мне казалось вначале, и врач настоятельно рекомендовал мне не оставаться вблизи льдов. Это стоило мне длительной, мучительной борьбы. Не раз я решал вопреки грозившей смерти довести до конца начатое предприятие; но когда я снова думал о том, что предстоит еще тяжелое обратное плавание на родину и что, возможно, судьба «Рюрика» и жизни моих спутников зависят от моей собственной жизни, я почувствовал, что должен смирить честолюбие. Единственное, что поддерживало меня в этой борьбе, была убежденность в том, что я честно исполнил свой долг, и это меня успокаивало. Я в письменной форме сообщил экипажу, что болезнь вынуждает меня вернуться на Уналашку. Минута, в которую я подписал эту бумагу, была одной из самых мучительных в моей жизни; росчерком пера я отказался от долго вынашиваемого пламенного желания моего сердца».
В свою очередь, я с не менее мучительным чувством касаюсь этого злополучного, горестного события. События? Да! Это больше, чем поступок. Капитан Коцебу был действительно болен, что полностью объясняет подписанный им приказ. Однако один английский автор писал по этому поводу в журнале «Quarterly Review». Vol. XXIV, с. 363 (January 1829): «Нам мало что остается добавить об этом безуспешном путешествии; однако, на наш взгляд, вряд ли можно оправдать то, что в данных обстоятельствах было принято внезапное решение прекратить его. В Англии не смирились бы с тем, что плохим здоровьем капитана аргументировался отказ от завершения важного предприятия, когда на борту находился офицер, который мог взять на себя командование кораблем».
Последнее соображение можно принять во внимание. Однако тот же автор несправедливо упрекает офицеров и матросов за подчинение приказу. Я же с тяжелым чувством воспринял приказ капитана Коцебу, но молчал, помня предписание: «Пассажир на борту военного корабля, где их не принято иметь, не может предъявлять никаких претензий».
На мрачных лицах окружавших меня людей под маской, выражавшей привычное подчинение, я прочитал то же, что было и в моей душе. Что же касается медицинского заключения доктора Эшшольца, то он сам за него в ответе; к этому больше нечего добавить.
Мне остается лишь глубоко сожалеть, что на русском морском флоте не применяется правило, которое, как я полагаю, при аналогичных обстоятельствах действует на кораблях других стран: на военном совете, куда приглашаются все, имеющие право голоса, принятое капитаном решение обсуждается и признается необходимым и оправданным. Некоторое время я продолжал еще надеяться на то, что капитан Коцебу, преодолев приступ болезни, еще раз продумает, а затем и отменит свой приказ. Этим он продемонстрировал бы твердость характера, и я почтительно бы склонился перед ним.
Не надо, впрочем, забывать, что, хотя на «Рюрике» развевался флаг императорского военного флота, корабль, капитан и экипаж признавали своим патроном только графа Румянцева; именно он снарядил экспедицию, и лишь перед ним надлежало отчитаться в ее успехе. Капитан Коцебу и отчитался перед графом Румянцевым, давшим ему инструкции, и этого было вполне достаточно. То, что одобрил граф Румянцев, признано правильным, а вопрос о том, что могло бы или не могло произойти, имеет чисто теоретическое значение.
Но после всего сказанного вы вправе требовать от меня, чтобы я высказал собственное мнение относительно того, что могло бы произойти. Думаю, ничего особенного. На корабле был только один офицер, способный нести службу, и два помощника штурмана (на третьего по причинам, о которых здесь нет необходимости упоминать, рассчитывать в то время не приходилось),— в этом была наша слабость. К тому же лето тогда было менее благоприятным по сравнению с предшествующим еще и потому, что в ночь с 10 на 11 июля мы обнаружили сплошной лед между островом Св. Лаврентия и побережьем Америки.
Последующие дни мы смогли бы провести у острова Св. Матвея. Лед, относимый течением на север, был для нас неопасен. Мы могли бы идти, используя только течение, вдоль обращенного к Азии берега острова Св. Лаврентия и уже там приобрести кое-какой опыт и знания, в накоплении которых и заключалась наша главная задача на Севере. Бухта Св. Лаврентия стала бы для нас надежной гаванью и обеспечила бы необходимыми съестными припасами, в том числе оленьим мясом. Потом мы дождались бы момента, когда залив Коцебу очистится ото льда и «Рюрик» сможет пройти по нему. Здесь, поблизости от своего корабля, больной капитан мог бы отдохнуть так же хорошо, как и на Уналашке, передав лейтенанту Шишмареву командование походом на байдарах на Север. Я твердо убежден, что даже в худшем случае помощник штурмана вполне справился бы и привел судно в город Св. Петра и Павла. Думаю, меня избавят от дальнейших рассуждений на эту тему, которая к тому же не связана с моими обязанностями на «Рюрике».
При переменных ветрах, окутанные большую часть пути полярным туманом, мы двигались на Уналашку. Прошли мимо островов Св. Матвея, Св. Павла и Св. Георгия, так и не увидев их. 20 июля близ Уналашки мы столкнулись с двумя разными по величине гладкими китами; кожа у них гладкая, только светлое пятно в передней части головы и внешний край очень больших и близко расположенных друг к другу ноздревых отверстий губчатые. Наши алеуты метнули в китов три копья, но они не обратили на это особого внимания. Выбрасываемые ими струи воды были небольшими, и я, как ни принюхивался, не уловил никакого запаха, исходящего от них. Сотрясение от толчка, которое почувствовали во внутренних помещениях корабля, на палубе не было замечено.
Утром 21-го около судна появилось несколько сивучей. В полдень на небольшом удалении под покровом тумана показалась Уналашка. Был штиль. «Рюрик» отбуксировали наши ялики. Ночью корабль вошел в бухту Уналашки и утром 22 июля 1817 года стал там на якорь.
В этот раз корабль был далеко от берега. Капитан вновь поехал к Крюкову. Мы обедали на «Рюрике», а чай пили на берегу.
Капитан сообщил нам маршрут путешествия: Сандвичевы острова, Радак, Ралик и Каролинские острова, пролив Сунда, мыс Доброй Надежды и Европа. «Нехватка свежих продуктов и скверное состояние „Рюрика“, нуждавшегося в срочном ремонте, не позволили мне в соответствии с инструкциями идти обратно через Торресов пролив»,— пишет О. Коцебу («Reise». II, с. 106). На Сандвичевых островах команду в избытке снабдили свежим провиантом.
В городе Св. Петра и Павла нас должны были ждать письма с родины, да и мы смогли бы написать оттуда. Но мы скрылись от всего мира на Уналашке, выгрузили там все снаряжение, взятое на борт для экспедиции на Север. Насушили сухарей, запас которых подходил к концу, из муки, полученной в Сан-Франциско, — в таких приятных заботах проходило время.
Расскажу о небольшой экскурсии, которую мне удалось совершить в глубь острова. Заколотая для экипажа «Рюрика» в Макушкине свинья играла в этой экспедиции главную роль и была основным действующим лицом в компании, к которой я присоединился. Весь горный массив Уналашки с вулканом Макушкинская сопка [гора Макушина] находится между Иллюлюком и Макушкином. Два морских залива, или фьорда, окружают этот массив, образуя полуостров. Чтобы пересечь участок суши от одного залива до другого через перевалы и горные долины, требуется не меньше восьми часов. В 6 утра 1 августа я тронулся в путь вместе с Двумя алеутами и русским парнем. На маленьких байдарах к 8 часам утра мы добрались до той части бухты Коцебу, где находится Иллюлюк, и начали поход. Здесь нет дорог; горный поток, к истоку которого нужно подниматься, указывает путь через эту дикую местность. Его часто приходилось пересекать, принимая холодную ванну в стремительных, доходящих порой до пояса снеговых водах. Торбаса, распространенная в этих местах обувь, хотя и постоянно влажны, не пропускают воду, в них можно переходить неглубокие места. В нижних частях долин буйно разросшаяся трава мешает путнику идти. У снеговой линии мое внимание привлекли некоторые растения, и, не зная о протяженности оставшегося пути, я не ускорил шага, что следовало бы сделать. Противоположная долина через глубокие болота выводит к морю. Уже наступила ночь, когда мы выбрались на побережье. Мне показалось, что мы достигли Макушкина; однако дорога тянулась дальше вдоль берега мимо цепи полуостровов, и за каждым выступом суши, подходя к которому надеешься, что именно здесь Макушкин, видишь новый выступ, рождающий столь же несбыточные надежды. Когда мы наконец пришли, было 11 часов ночи. Я слыву хорошим ходоком, и вряд ли кто-нибудь может сравниться со мной в этом отношении, но ни разу в жизни мне еще не приходилось проделывать такой утомительный переход. Все спали. Русский староста, у которого я остановился, принял меня радушно, но было уже слишком поздно, чтобы топить баню, и ему нечего было мне предложить, кроме чая, без спиртного, без сахара и молока; он добродушно настаивал на том, чтобы я выпил этот напиток, словно это была мальвазия. Добрый Санин (так звали моего хозяина) уступил мне свою постель, и это было лучшее из всего, что он мог предложить.
2-го августа я побывал в горячей бане, отдохнул и тщательно обследовал холмы вокруг поселения, а также горячие источники, которые бьют из прибрежных скал ниже уровня прилива. Между поселением и подножием снежной горы, где высится пик Макушкина, раскинулась долина. Эта зимняя дикая местность являет взору устрашающую картину. Соседняя вершина непрерывно курится; но дым ощущается, только когда ветер несет его в вашу сторону.
Сам Санин собирался вместе с караваном носильщиков нести разделанную свиную тушу в гавань. Плохая погода задержала выход на один день, и я использовал его для осмотра местности. Мы отправились ранним утром 4-го. Большая байдара доставила нас в отдаленную часть фьорда, откуда путь по суше короче того, каким я добрался сюда. Кажется, я уже писал, что эти большие байдары называют «женскими»; нашими гребцами были алеутские девушки. Бедные создания! Нужда, болезни, грязь, насекомые и непривлекательный внешний вид не исключали, однако, некоторой доли утонченности; девушки доказали мне это, и полученный от них подарок, который я бережно храню и поныне, тронул меня больше, чем знаки благосклонности королей. На место мы прибыли еще засветло и тотчас разбили лагерь. Лежа под байдарой, я разглядывал свою порванную шапку, и мне пришла в голову мысль использовать представившуюся возможность: я воткнул в шапку три иголки и, передав ее лежавшей поблизости девушке, разъяснил ей, что мне нужно. Три иголки! Такое сокровище, и ни за что! Ее глаза заблестели невыразимым, счастьем. Подошли остальные девушки, чтобы полюбоваться иголками, поздравить с удачей подругу, получившую такой подарок; многие из них, как мне показалось, ей позавидовали. Тогда я осчастливил всех и подарил каждой по три иголки. На другой день ранним утром мы продолжили путь и в 3 часа дня были в Иллюлюке. Здесь Санин передал мне ответный дар от благодарных девушек: изготовленный ими клубок ниток из звериных жил.
Тем временем алеутские девушки, внимательно разглядев красивую пуговицу на рубашке и посоветовавшись друг с другом, через некоторое время сделали такую же, да так удачно и с таким изяществом, что это их изделие было признано достойным украсить рубашку капитана. Мне довелось однажды наблюдать, как радакские женщины изучали нашу фабричную соломенную шляпу, долго щупали материал, оценивали работу, прикидывая, могут ли они сами сделать что-либо подобное.
Тогда я вспомнил, как моя жена со своими приятельницами старалась разгадать «секрет» застежек английских подтяжек. Женщины везде стремятся к изяществу. Не жалея времени и труда, они весьма искусно украшают свою одежду, а также заботятся и о том, чтобы мужья выглядели красиво. Но когда мне приходилось видеть нечто подобное на далекой чужбине, это меня всегда очень радовало.
Чтобы пополнить экипаж «Рюрика», капитан Коцебу оставил на корабле нескольких, кажется четырех, алеутов из числа тех, кого мы брали с собой в путешествие на Север. Среди них был один молодой, энергичный, неглупый и весьма способный парень. Эшшольц легко с ним объяснялся и с его помощью изучал язык алеутов, определив его как диалект эскимосской языковой группы. Меня радовали эти исследования, с результатами которых он меня познакомил. Чтобы завершить начатую работу, что отвечало бы насущной потребности лингвистики, и извлечь пользу из уже сделанного, нужно было лишь одно: в Европе, где предстояло сравнить грамматику и лексику, доктору Эшшольцу надо было продолжать пользоваться помощью своего наставника-алеута.
Меня часто огорчало то обстоятельство, что люди, не жалевшие никаких средств на приобретение чего-либо, совершенно не заботились о том, чтобы извлечь пользу из приобретенного, и даже проявляли явную скупость, отказываясь затратить еще немного средств, чтобы сохранить это. Богатство может позволить себе многое: стимулирует собирателей, снаряжает в дальние странствия путешественников, однако все добытое столь дорогой ценой, собранное с такими трудами, потом легкомысленно обрекается на уничтожение. Богатство, дающее возможность организовывать путешествия, иногда позволяет даже выпустить книгу. Каждый может предъявлять требования в соответствии с потраченными на него средствами, но не обращать никакого внимания на то, что предлагается задаром. Однажды мне довелось слышать, как одна молодая берлинка сказала, что искусственные розы гораздо красивее натуральных, поскольку они стоят намного дороже. Видно, такой подход немало значил в истории человечества.
Но я начал говорить об алеутском языке. Сразу же после нашего прибытия в Петербург того парня вместе с другими алеутами передали Российско-Американской торговой компании, и о славном труде Эшшольца, который благодаря экспедиции Румянцева мог бы прославить науку, речь больше ни разу не заходила.
Может быть, во многих отношениях показательно, что я выучил и запомнил только одно слово из алеутского языка: китунг (pediculus — ножка). И теперь на прощание, в последний раз окидывая взором мрачный Север, замечу для полноты картины, что во время наших плаваний туда в 1816 и 1817 годах это слово можно было часто слышать на «Рюрике», когда Иван Иванович тайком наливал спиртное в рюмочку, что неизменно оказывало благотворное действие.
18 августа мы в третий и последний раз покинули Уналашку.
От Уналашки к Сандвичевым островам
Выйдя 18 августа 1817 года из гавани Уналашки, мы опять хотели пройти по проливу между Унимаком и Акуном [Акутаном], этому самому удобному проходу, ведущему из Камчатского [Берингова] моря к югу через цепь Алеутских островов в Великий [Тихий] океан. Штили и встречные ветры задержали нас, и пройти удалось только 20-го. Два кита появились совсем рядом с кораблем. 21-го утром был штиль, и мы в последний раз смотрели на север, на вулканическую горную цепь, образующую Алеутские острова. Высоко в чистом небе взметнулись два пика полуострова Аляска, которые казались нам намного выше, чем пик Унимак, находившийся гораздо ближе. К вечеру подул свежий ветер и понес нас к югу; печальное дождливое небо сомкнулось над нами.
Мы очень устали. Надежды нашей экспедиции отошли в область воспоминаний. Нас уже ничто не ждало впереди, и оставалось лишь вновь перелистывать страницы прочитанного. Теперь родина была целью нашего затянувшегося странствия. Болезнь капитана и раздражительность, в которой он пребывал, часто лишали радостей жизни наш маленький мирок.
С 23 августа по 10 сентября было пасмурно, мы боролись с господствующими, нередко штормовыми южными ветрами. Температура постепенно повышалась — теперь уже не надо было топить, чем приходилось постоянно заниматься на Уналашке. На 44° сев. широты загарпунили дельфина особого вида, не встречавшегося до сих пор, но хорошо известного нашим алеутам, по еловым которых он широко распространен в здешних морях. Его череп, как и черепа других пойманных нами дельфинов, передан Зоологическому музею в Берлине; рисунок сохранил у себя Хорис, а мои заметки так и остались неиспользованными. Немного южнее при сильном ветре и неспокойном море на воде были заметны зеркально-гладкие места, находившиеся как бы под воздействием штиля. По мнению нашего многоопытного алеута, это связано с проникновением жира от гниющей на морском дне туши кита, что совпадало и с моим предположением.
10 сентября ветер принял северное направление, и погода прояснилась. Мы находились в полдень на 40°10' сев. широты и 147° зап. долготы, за восемнадцать дней течение отнесло нас на 5° восточнее от нашего курса. До 23-го, когда начался пассат (широта 26°41' и долгота 152°32'), сменялись и часто возвращались штили. За два дня до этого, примерно на 1° севернее, судно несколько раз облетали бекасовидные веретенники.
25 сентября мы рассчитывали увидеть Оваи [Гавайи], но мешала густая дымка. Утром 26-го сначала сквозь облака, а потом и над ними показался Мауна-Кеа. Лишь ночью мы подошли к острову. Толстый слой облаков покоился на вершинах гор и на самом Мауна-Пуо-раи. На всем протяжении от Пуораи до Мауна-Кеа горели сигнальные огни. Ночью мы обогнули северо-западную оконечность острова. Облака исчезли, утром 27-го нас встретила чудесная погода со штилями и слабыми ветрами. Навстречу нам поплыли только две лодки. В первой сидела женщина, с которой мы не стали вступать в переговоры, во второй — несколько мужчин-островитян. От них мы узнали, что Тамеамеа находится на Оваи. Капитан несколько раз определял высоту гор.
Утром 28-го мы проплыли вдоль подножия горы Ворораи, а в 10 часов в лодке к нам подъехал Эллиот де Кастро. Мы уже миновали Поваруа, где король в то время занимался ловлей бонит. Г-н Эллиот взял капитана и нас, пассажиров «Рюрика», в том числе и Каду, в свою лодку, и мы направились к берегу.
Каду, чье любопытство было доведено до крайности всем виденным и слышанным, впервые здесь и вообще за все время пребывания у нас увидел, как мы выказываем почтение лицу более могущественному, и им оказался его соплеменник, человек одного с ним цвета кожи. Каду был представлен королю, оказавшему ему внимание и пожелавшему выслушать его рассказ об островах, откуда началось его путешествие с нами. При этом наш друг держался скромно, демонстрируя достоинство и хорошие манеры. Жители Оваи были настроены к нему дружелюбно, и Каду охотно общался с ними.
Поваруа находится у подножия Ворораи посреди застывшего потока извергнутой вулканом лавы. Стекловидный мерцающий грунт гол и лишен растительности. Лишь на побережье растет несколько кроваво-красных кустов кордии (Cordia sebestena). Все необходимое для поддержания жизни доставляется издалека. Странное место выбрал король для лова бонит. Он сам, его жены, могущественные вожди, которых он охотно собирает вокруг себя, живут здесь очень скромно, под низкими соломенными навесами.
Когда мы высадились на берег, король еще не вернулся с ловли бонит. Ловля этой рыбы, как и охота у наших знатных особ, является королевским развлечением. Оно уже неоднократно описано в литературе. Гребцы разгоняют лодку на полную скорость. На корме сидит рыбак и держит перламутровый крючок, рыба выскакивает из воды, хватая крючок, кажущийся ей какой-то живностью.
Мы посетили королев, сидевших под полотняным навесом; они разделили с нами несколько арбузов. Табу, относящиеся к еде, не распространяют на фрукты, которые приравниваются к питью.
Прибыл король, облаченный лишь в набедренную повязку — маро. Он сердечно приветствовал нас, как старых знакомых. Недавние события на Отуаи [Кауаи] и Ваху [Оаху], о которых нам много рассказывали на последнем острове, изменили положение дел в нашу пользу.
Вслед за королем появились его приближенные с двумя бонитами. Он весьма учтиво преподнес капитану этих собственноручно пойманных рыб совсем так же, как у нас охотник дарит гостю подстреленную им дичь. Он надел красный жилет, как и в прошлом году, а потом сел завтракать с нашим капитаном. При беседе в роли переводчика выступил Эллиот. (Кук к этому времени уже не пользовался расположением короля.) Как и в прошлом году, Тамеамеа выделил нам в сопровождающие одного из своих приближенных по имени Каремоку. Не следует смешивать его с могущественным Каремоку, наместником короля на Ваху. В этой стране, правда, учитывалось родство, и вполне можно говорить о семьях, но фамилий как таковых еще не существовало. Ведь и у нас тоже имена появились позднее на гербах, и полные имена более позднего происхождения, чем сами семьи. Каремоку передавал королевские приказы; нас подобало, как и в прошлом году, принимать и снабжать продуктами. Для себя король попросил лишь железо, необходимое для постройки судов.
Вечером 28 сентября мы вернулись на корабль и, как и в прошлый раз, взяли курс на Ваху, южнее цепи живописных островов. У Ранаи нас застал штиль. С наступлением дня, 1 октября мы увидели Ваху. С севера между Воротаи и Ваху прибыл американский бриг и вместе с нами направился к гавани. Навстречу устремились лодки островитян. В 5 часов пополудни мы бросили якорь, и капитан поехал на берег, куда еще раньше отправился наш спутник.
В гавани находилось семь судов, восьмое прибыло вместе с нами; все — американские. На берегу стоял «Кадьяк», вытащенный из воды старый корабль Российско-Американской компании. Ожидалось прибытие судна от Каремоку — красивой шхуны, которая по приказу начальника здешней крепости Бекли доставляла из Отуаи сандаловое дерево, ожидаемое большинством судов. Чтобы вести эту торговлю, вожди обрекли своих подчиненных на подневольный труд, а это шло во вред земледелию и ремеслам. В Хана-руру царило оживление.
Шеффер покинул Отуаи и снова присягнул в верности правителю Тамари. Я слышал несколько разных объяснений этого события. То, что приводится здесь, заимствовано мною у капитана Коцебу. Каремоку рассказал ему, что король и народ Отуаи изгнали Шеффера, прибывшего в Хана-руру на «Кадьяке» с отрядом. Судно дало течь, и беглецы стали бы свидетелями его гибели, если бы не удалось с трудом довести корабль до гавани. Король не помнил зла. Попавшим в беду алеутам и русским был оказан дружеский прием, а самому Шефферу разрешено беспрепятственно покинуть Хана-руру на американском корабле, который несколько дней назад отбыл в Кантон. «Тараканов, агент Российско-Американской компании,— добавляет капитан Коцебу,— прибыл вместе с несколькими чиновниками на борт. Тараканов, который в соответствии с приказами Баранова полностью подчинялся Шефферу, выразил свое неудовольствие ходом событий на Отуаи, из-за чего жизни всех угрожала величайшая опасность. Он считает настоящим чудом, что при бегстве из Отуаи было убито только три алеута, поскольку Тамари, считающий их всех своими злейшими врагами, легко мог многих из них лишить жизни. Он упомянул об опасном путешествии, которое проделал сюда, и теперь вместе с командой очутился в самом плачевном положении, поскольку, естественно, никто не хочет безвозмездно давать им продукты. К счастью, я запасся на Уналашке таким количеством сушеной рыбы, что мог теперь снабдить этих несчастных людей провизией на целый месяц. Тараканов, показавшийся мне весьма благоразумным человеком, заключил с Хебетом, владельцем находящихся здесь двух судов, контракт, по которому тот обязался целый год кормить и одевать алеутов при условии, что получит право отвезти их в Калифорнию, где они будут заниматься ловлей каланов у тамошних островов. По истечении года Хебет доставит их обратно в Ситху и отдаст компании половину добытых мехов. Этот контракт был выгоден компании, которая часто подобным образом отдает алеутов внаймы» («Reise». II, с. 173).
Я уже сказал, что 1 октября 1817 года, едва мы бросили якорь, капитан отправился на берег. Мы оставили в Хана-руру о себе хорошую память. Каремоку принял его самым дружественным образом и приказал, чтобы из форта был дан троекратный салют. Американские торговые суда тоже приветствовали командира русской императорской экспедиции и салютовали ему залпами своих орудий. Когда речь зашла о том, что «Рюрик» надо отбуксировать в гавань, они предложили свои баркасы и действительно утром следующего дня помогли это сделать. Войдя в гавань, мы обменялись с фортом залпами салюта, троекратными залпами приветствовали Каремоку, прибывшего на наш корабль и доставившего нам фрукты, овощи и свинью. Вчерашняя вежливость была таким образом вознаграждена. Американцы готовы были нам помочь и были весьма дружелюбны и вежливы. Они безвозмездно поделились с нами кое-чем из собственных припасов: английское пиво, сухари с корабля, прибывшего в Ситху [Ситку] 6-го, и другое. Все же не обошлось и без осложнений. В тех случаях, когда в чужом порту собирается много торговых судов разных стран, главенство берет на себя старший по возрасту капитан, который и производит там, где это принято, традиционный выстрел после захода солнца. Однако, когда в гавани находится и военный корабль, этой чести удостаивается его капитан. На сей раз из-за невнимательности первый выстрел дал американский капитан, а капитан Коцебу, разгневавшись, направил жалобу местным властям. Вообще-то это было не мое дело, я услышал обо всем лишь случайно.
Капитаны иностранных торговых судов собирались на обед у Марини. Как-то вечером мне довелось разделить с ними трапезу. К горячему мясному блюду подавался чай, а не вино. Собравшиеся были исключительно внимательны ко мне. Один немолодой капитан спросил меня, который раз я путешествую. Скромно ответив, что первый, я, естественно, в свою очередь задал ему тот же вопрос. Он, оказалось, десятый раз совершает торговые плавания в Южное море и вокруг света; но теперь, по его словам, он устал, это его последнее плавание, и по возвращении домой уйдет на отдых. Хорис, знавший его лучше, беседовал с ним еще в Маниле и потом в Портсмуте, куда этот капитан прибыл раньше нас. Он нашел там письма из дома: на родине его ждет готовый к отплытию корабль, на котором он в одиннадцатый раз отправится в путешествие; но этот одиннадцатый будет и последним.
Обычно мы вознаграждали жителей за мелкие услуги, которые они нам постоянно и весьма охотно оказывали, — перевоз с корабля на берег и обратно и другие — ниткой стеклянных бус. Такие блестящие изделия, хотя и ничего не стоившие, островитяне принимали всегда с радостью. У Хориса в запасе были бусы какой-то особой формы и необычного цвета, которые он раздавал без разбору вместе с прочими. Но, как выяснилось позже, именно этот своеобразный темно-красный цвет, именно такие бусы считались особенно модными. Они были впервые завезены сюда Ванкувером и с тех пор как большая редкость украшали лишь королев. Теперь еще несколько ниток были в обращении. Начали искать источник и скоро добрались до Хориса. Богатые вожди предлагали ему множество свиней за одну нитку; американские торговцы также делали ему заманчивые предложения, но было поздно. Логин Андреевич, обычно весьма предусмотрительный и деловой, не упускавший прибыль из рук, на сей раз растратил свои сокровища впустую.
Присутствие в гавани столь многих судов требовало от Марини всего внимания, забот и времени, поэтому побеседовать нам почти не удалось. В прошлом году он обещал кое-что для меня записать, но из-за отсутствия свободного времени этого не сделал, и теперь по той же причине я не мог наверстать упущенное.
Большую часть своего времени я проводил в ботанических экскурсиях по горам, в то время как Эшшольц, которого, по крайней мере в первые дни, удерживала больная нога, оставался на корабле и присматривал за оставленными там растениями. Караулить разложенные на солнце лучки растений приходилось подолгу и было очень утомительно. Однако без этого обойтись нельзя. Как-то раз с палубы пропал пучок, и, когда мы обсуждали это, к нам подошел капитан и спросил, о чем мы говорим. Я обо всем спокойно рассказал, не подозревая, что надо мной разразится гроза. Но капитан сделал мне гневный выговор, что, впрочем, было излишне, ибо он повторил то, что мне было хорошо известно: все это мое личное дело и вовсе не касается его матросов, которых он не собирается наказывать палками из-за моих травок. Я же был виноват лишь в том, что выслушал жалобу Эшшольца.
Хорис много общался с американскими купцами. Каду пропадал у островитян, которые очень его полюбили и которых он легко научился понимать На то, что у него было и что мы ему дали, он выменял у них много изделий и щедро одаривал ими каждого из нас по своему усмотрению.
В Хана-руру нашлись не очень старые русские и английские газеты. В мире царило спокойствие, по крайней мере кажущееся. Вычитывать из газет все, что может представлять мало-мальский интерес,— это занятие, на которое дома не хватает досуга. Из того, что касалось моих друзей и знакомых, я узнал лишь о поездке Жермены Сталь в Италию. Во время прогулок по острову местные жители несколько раз предлагали мне газеты, вероятно старые.
Торговля притягивает на Сандвичевы острова представителей самых разных народов. Среди слуг знатных женщин мне довелось видеть молодого негра и выходцев с северо-западного побережья Америки. Впервые встретились мне здесь китайцы — под чудесным небом эти своеобразные люди в своих национальных одеждах расхаживали среди красивых овайцев. Замечу, что зачастую китайцев в этих морях используют в качестве матросов, поскольку они легко подчиняются команде и неприхотливы в еде.
Однажды во время дальней экскурсии, после того как я разговаривал на корабле по-немецки и по-русски, общался с Каду на языке жителей Каролинских островов и мимоходом приветствовал нашего повара на датском; после того как объяснялся в Хана-руру с англичанами и американцами, испанцами, французами, итальянцами и овайцами на их родных языках; после того как видел на этом острове китайцев, с которыми, однако, не разговаривал, здесь, в уединенной долине, я встретил человека, который представился как мой соотечественник, но поговорить я с ним не смог. Он оказался жителем Кадьяка — русским подданным. Я признал соотечественника, пожал ему руку и продолжил свой путь, что для меня было вполне естественным. Лишь много позже я вспоминал об этой встрече как о курьезе.
Я решил посетить западную горную часть острова. Марини дал мне добрые советы, а Каремоку обещал помочь делом. Намеченная экскурсия состоялась с 7 по 10 октября 1817 года. В лодке Каремоку мы вместе с проводником и сопровождавшим его мальчиком поплыли вдоль кораллового рифа, окаймлявшего побережье в зоне прибоя, к Жемчужной реке и по ней в глубь острова к подножию горы, на которую мне хотелось попасть. Когда я выезжал из Хана-руру, в гавань только что вошло еще одно судно. Во время этой экскурсии мне представилась желанная возможность изучить особенности рифа. Однажды, когда мы шли в сторону открытого моря, на пути нам довелось пересечь коралловую отмель, через которую мы перетащили лодку на руках. По ту сторону прибоя, где глубина составляла примерно 10–15 футов, рыбаки длинными сетями ловили с лодок самых разнообразных рыб, особенно много полосатых зубаток (Chaetodon), переливавшихся всеми цветами. Мои люди, сославшись на распоряжение Каремоку, пополнили свои запасы. Они ели эту рыбу сырой — даже спустя три дня, когда она начала портиться и в ней кишели личинки насекомых. Мы вновь пересекли полосу прибоя, чтобы потом отправиться в глубь острова. Лодку из-за неумелого управления захлестнуло волной. Только что взятая рыба плавала у ног, а все мои спутники плавали вокруг лодки; но скоро был наведен порядок, и мы продолжали плыть — теперь уже между прибоем и берегом но неглубокой воде, принимавшей все более темную окраску. Мы достигли Жемчужной реки. Некоторое время я испытывал на своей руке жар от стоящего прямо над головой солнца. В результате кожа сначала воспалилась, затем стала слезать.
Однажды я очень рассердился на своего проводника, так как он отказался сопровождать меня в горы. Причиной было его любовное приключение. Я исчерпал весь свой запас овайских слов, произнося гневную речь, говоря ему о его долге и угрожая рассказать все Каремоку, приказавшему ему мне подчиняться. Как и подобало жителю Оваи, провожатый смеялся до упаду над моей неграмотной речью, которую, между прочим, отлично понял, ибо в дальнейшем не подавал мне больше повода для упражнений в красноречии.
На вершине горы нас встретил сильный ливень, хляби небесные словно разверзлись над нами. Лубяные одежды островитян впитывают влагу, как промокательная бумага. Мои люди, чтобы сберечь одежду, использовали стволы драцены (Dracaena terminalis). Маро и капа — набедренные повязки и накидки — они туго наматывали на тонкий ствол, обертывали со всех сторон широкими листьями и перевязывали веревкой — все это напоминало тюрбан. Так они несли свою одежду. Я тоже снял насквозь промокшую легкую одежду, и мы спустились с гор в «костюме дикарей». О том, что овайцы гораздо более чувствительны к холоду и дождю, чем мы, писали немало, и это настолько неинтересно, что вряд ли стоит вновь повторять. Хочу лишь сказать, что в тот раз мне не повезло в сборе растений. Во время второго перехода через перевал нас застал дождь, и я не смог даже обозреть окрестности. Намереваясь спуститься на равнину, дабы найти деревню, где можно было бы переночевать, из двух носовых платков я смастерил себе подобие одежды. Еще меньшим довольствовался мой проводник. Весь его костюм состоял из куска веревки длиной 6 дюймов.
Во время путешествия я не пользовался для сбора растений жестяными коробочками, а вместо них употреблял носовые платки. Надо разложить платок, положить поперек него растения, сжать их одной рукой, а другой рукой и зубами связать противоположные концы платка узлом, затем соединить с ним третий конец, а за четвертый держаться во время переноски. В более дальние экскурсии, где есть проводник и носильщик, можно брать сшитую в виде тетради промокательную бумагу и в нее класть особенно нежные цветы. Собранные мною в этом маршруте растения намочил дождь, и могла образоваться плесень. Когда мы подошли к жилищу, где собирались ночевать, одна его половина была объявлена табу, и там мы разложили на ночь растения. Такого рода табу обычно священно. Однако на корабле не спасает никакое табу, и все, что собрано за четыре дня,— все сухое или мокрое — в кратчайший срок было «обречено на исчезновение». Эта фраза стала У нас крылатой.
В нашем замкнутом плавучем мирке из всех языков, на которых говорили на корабле или на берегу, из анекдотов, которые здесь рассказывали и которые сочинялись по поводу случавшихся с кемлибо курьезов, сформировался особый жаргон, который трудно было понять непосвященному. Поскольку мой рассказ вновь переносит меня на «Рюрик», в моей голове теснятся бытовавшие там обороты речи, и вряд ли мне удастся не пропустить их на эти страницы.
10 октября я вернулся из своего путешествия, а 12-го в последний раз пошел в горы, причем впервые меня сопровождал Эшшольц. Все было готово к отплытию, намеченному на 13-е. Однако Каремоку, который с верхушкой знати отмечал на берегу окончание одного из табу, попросил нас задержаться еще на день, чтобы он мог попрощаться с нами, и в этой дружеской просьбе трудно было ему отказать.
Читателей, наверное, удивит, что я говорю о знати у полинезийцев. Во всяком случае, здесь еще можно найти своего рода дворянство, наподобие того, которое прежде существовало и у нас, но теперь уже исчезло и живет только в угасающих воспоминаниях. В наших государствах под понятием «дворянство» подразумевают лишь привилегию, и именно в борьбе против привилегий сказывается веяние духа времени. Дворянство, которое можно давать и отбирать, а также продавать,— это не дворянство. Сущность его лежит глубже — в убеждениях, в вере. Во французском языке времен моего детства я нахожу слово, которого нет в немецком, и пользуюсь им. Le gentilhomme — это настоящее дворянство, которое можно еще встретить на островах Полинезии; оно даровано королями, не придумано Наполеоном. Le noble{191} — последняя стрела, победоносно направленная королями в дворянство, из чьей среды они сами вышли, и которое теперь они стремятся принизить. Теперь происходят удивительные перемены! Теперь говорят: «Король и его дворянство!» — после того как приобрело могущество «третье сословие», превращенное королями в союзника в борьбе с дворянством. Теперь говорят: «Трон и алтарь!», тогда как в прежние времена девизом было: «Трон или алтарь!»
Не буду тщеславно взывать к нашему историческому прошлому, когда существовало дворянство, к которому принадлежали и мои предки. Я верю во всевышнего, а следовательно, и в его присутствие в истории, верю в исторический прогресс. Я человек будущего, как определил предназначение поэта в беседе со мной Беранже{192}. Учитесь безбоязненно смотреть в будущее, которое готовит нам вседержитель, и пусть прошлое уходит, раз оно уже прошло. И что же представляют собой те лучшие времена, по которым тоскуют ваши сердца? Эпоха религиозных войн с ее разрушениями, варфоломеевскими ночами и аутодафе? Эпоха казни Дамьена{193}? Воистину, воистину, это история ужасов! Читайте документы! В кровавые времена последовавшего затем государственного переворота прославлялась кротость. Там, где велась, ведется или будет вестись гражданская война, будут убивать, рвать на части, будут громоздить трупы. Но казнь Дамьена — хвала тебе, господи! — никогда, никогда больше не повторится; это время ушло навсегда.
Но я отвлекся от своей темы. Здесь мне хотелось лишь в дополнение к написанному в «Наблюдениях и замечаниях» об общественном строе, о кастовом делении, о дворянстве, существующем на островах, о которых идет речь, еще раз обратить внимание на все это. Я считал само собой разумеющимся, что переход из одной касты в другую невозможен, что эти касты, как и виды животных, несомненно отделены друг от друга в силу природной необходимости и что подобно тому, как лишь в сказках осел хочет стать собакой, а лягушка — коровой, так и совершенно неправдоподобно, чтобы простой человек мог даже мечтать стать дворянином. Поэтому и в таких условиях нет места для зависти и высокомерия. Но надо ли выяснять само собой разумеющееся?
Я с возмущением прочитал в «Путешествии» Коцебу («Reise». II, с. 132) следующие строки о лоцманах Каролинских островов: «Тех, кто принадлежит к низкому сословию, за их заслуги часто переводят в дворянское сословие... и лоцман в награду за свои заслуги становится благородным человеком — тамоном».
Если с такими утверждениями выступает человек, обладающий безупречной репутацией, призванный быть объективным свидетелем, то чего же можно ожидать от людей, которые, ничего не видев собственными глазами, переписывают вкривь и вкось, компилируют высказывания очевидцев? Мальтебрун{194} в краткой заметке о «Живописном путешествии» Хориса именует моего дорогого друга Каду «антропофагом Южного моря» и пишет о том, что на Эапе, где на самом деле пьют только воду, люди каждую ночь пьянствуют. Однажды где-то напечатали очевидный вздор, и он кочует, не меняясь, из книги в книгу, он — первое, за что хватаются те, кто «пекут» книги. До тех пор, пока их пишут, в каждой, где бы они ни появлялись, будет теперь повторяться нелепое утверждение, будто жители Марианских, или Ладронских, островов впервые научились использованию огня от европейцев.
Могу ли я во второй и в последний раз проститься с Сандвичевыми островами без того, чтобы мое перо не написало тех слов, которые ищешь ты, читатель, с любопытством просматривая страницы этой книги? Вопрос о миссиях, которые на этих островах обосновались уже после моего отъезда, стал теперь предметом споров между разными группировками, а я не принадлежу ни к одной из них. Пусть тебе, читатель, предоставят факты, и не слушай тех, кто, ничего сам не видев, вмешивается в спор и только вносит путаницу. Я не читал никаких документов. Народность, народные традиции, которые погибли в результате распространения христианства! Я видел это собственными глазами,— скажу откровенно, сожалею о них. О том, что я за прогресс и высоко чту дух христианства с его благами, наглядно свидетельствует, думаю, мое стихотворение «Судный день на Хуахине». Даже благочестивый Эллис{195} («Роlynesian researches»), как мне кажется, упустил из виду две вещи: ему следовало, полагаю, самому стать таитянином, прежде чем начать перевоспитывать таитян; он должен был лучше понимать свою святую миссию и умнее претворять ее в жизнь. Моряки, ищущие на Сандвичевых островах женщин и удовольствий, могут неодобрительно относиться к деятельности миссий; но и я думаю, и все свидетельствует о том, что миссионерская деятельность на Оваи [Гавайях] ведется неразумно, не говоря уж о том, что ей можно предъявить более серьезные обвинения. Отсутствие прогресса в общественном устройстве на этих островах показывает, что там нет и речи о торжестве разума. Праздник субботы и вынужденное посещение церкви и школы — это еще не христианство.
Так или иначе, раньше или позже, но в итоге исторического прогресса главные острова Великого океана приобщатся к миру нашей цивилизации. На Отаити [Таити] уже выходит газета на местном языке, авторы которой — в основном местные жители! Послушайте, послушайте! Газета на Отаити! Вы, кто ратует за развитие прессы, периодической печати на островах, перестаньте же у себя дома бороться против нее и ужасаться! Не сокрушайте ветряные мельницы! Ваши удары бьют мимо цели. В Европе — свобода прессы. Тори Вальтер Скотт пишет в своей «Жизни Наполеона», что «Германия с давних пор обязана политической раздробленности своей территории тем, что она пользуется таким благодеянием, как свобода прессы»{196}. То, что он говорит о Германии, может быть отнесено ко всему миру. Хотя пресса — это только эхо, она бессильна там, где не выполняет своей роли. Общественное мнение стало большой силой. Будьте же благодарны прессе и учитесь у нее.
Однако все эти отступления ни к чему. Готовясь к отплытию, я вспомнил, что, находясь на Оваи вторично и часто общаясь с островитянами, ни разу не отведал собачьего мяса; европейцев на Оваи принимают и обслуживают в соответствии с их нравами и обычаями и для чужеземца запекают в печной яме свинину, которую он любит, а не собачье мясо, которого он терпеть не может. Слишком поздно я узнал, что упустил эту возможность у себя на корабле, ибо наш назначенный королем проводник ежедневно питался жареным собачьим мясом. Так часто мы упускаем удовольствия, которые могли бы и не упустить.
Едва забрезжило утро 14 октября 1817 года, как якорь был поднят, и баркасы с американских кораблей вывели нас из гавани. Каремоку прибыл к нам прямо из мараи и передал рыбу и фрукты. Мы обменялись с фортом традиционными залпами и сердечно распростились с друзьями. Ветер наполнил паруса «Рюрика».
От Сандвичевых островов к Радаку
14 октября 1817 года мы покинули острова Оваи, и наши мысли и сердца, как и развевающиеся флаги «Рюрика», устремились к островам Радак. Мы весьма тщательно отобрали полезные и нужные вещи для подарков своим дорогим друзьям. Последнее прощание с ними означало и прощание с чужой землей, хотя и такой далекой, но всегда имеющей для нас огромную притягательную силу. За Радаком начинались известные уже колонии европейских держав. Они лишь задерживали нас на пути к дому, да и вообще наше обратное путешествие напоминало возвращение усталого путника, идущего вечером в родной город мимо бесконечных предместий.
Мне хотелось бы несколько продлить расставание с полинезийцами, побыть с ними еще немного, чтобы рассказать о них побольше. Я охотно коснулся бы и других сюжетов, которых еще не касался, если вы согласитесь слушать меня и дальше. Например, я хотел бы дать автору «Сартор резеартус»{197} материал к разделу «Философия одежды».
Мы не упускаем случая с позиции эстетов судить о внешности и брюзжать по поводу того, что теперь забыты кринолины, высокие каблуки, греческие прически, пудра, косы, прически под «голубиное крыло» — все, что во времена моего детства казалось красивым. Мы не стыдимся покроя наших фраков и всего, что так искажает человеческий облик, чем мы усердно занимаемся, призвав на помощь моду.
Мне довелось видеть, как признанная красавица мадмуазель Зонтаг{198}, чье имя могло бы стать символом того периода истории, который предшествовал обнародованию законов Полиньяка{199} на загородной прогулке до такой степени исказила свою внешность, хотя ее ничто к этому не понуждало, что возмущенный художник вынужден был отвернуться от этого идола времени.
Вы, улыбаясь, спросите меня, имею ли я в виду и полинезийцев? Я нахожу красоту в естественной, ничем не искаженной природе и не вижу иного способа воздать хвалу полинезийцам, чем противопоставить им тех,, кто разительно искажает ее.
Я полагаю, что красота обычно сочетается с целесообразностью. Самое прекрасное в человеке — это его облик человека; иначе и быть не может. Только здоровое, гармоническое развитие всех частей тела обусловливает его красоту. Человек отличается от животного тем, что он мыслит, а больший лицевой угол определяет его отличие.
Одежда служит как для удовлетворения чувства стыдливости, требующего того, чтобы какие-то части тела были прикрыты, так и для защиты его от внешних воздействий. Только варвар прибегает к излишним украшениям, которые ему так нравятся. Одежда полинезийцев в общем отвечает присущему им чувству стыдливости, не скрывая вместе с тем благородного телосложения сильных, здоровых, красивых людей. Плащи простых жителей, которые они в зависимости от потребности или от настроения то надевают, то сбрасывают и которые из почтения надлежит снимать в присутствии знатных и могущественных особ, и прежде всего широкие, в складках плащи знати, так же красивы, как и удобны.
А татуировка? Татуировка — это весьма распространенный обычай; в той или иной степени она встречается у калифорнийцев и эскимосов, а запрет Моисея на это украшение свидетельствует, что оно не распространяется на детей Израиля. На островах Великого океана можно увидеть самые разнообразные виды татуировки. На Радаке она представляет собой художественное целое. Она не покрывает всего тела и не искажает его форм, а как бы сливается с тем и другим, делая тело более привлекательным. Трудно сказать что-либо хорошее о прическах жительниц Оваи, ибо они портят их естественную красоту. У радакцев, наоборот, оба пола проявляют величайшую заботу о волосах; изящные цепочки из ракушек, которыми они себя украшают, весьма удачно оттеняют блеск черных локонов и коричневый цвет нежной кожи. Несколько странными могут показаться украшения в ушах, держащиеся на удлиненных мочках; однако признаюсь, что на меня и они производят приятное впечатление.
В наших ужасных платьях тело, руки лишены выразительности; мимике у нас, североевропейцев, не придается никакого значения; мы почти не смотрим в лицо говорящему. У подвижного, словоохотливого полинезийца в разговоре участвует все лицо и даже руки, при этом он крайне скуп на слова. Выбирается краткое и точное, наиболее целесообразное для каждого данного случая выражение, а вместо слова используется кивок. Для подтверждения чего-либо оваец лишь сдвинет брови, а заставить его произнести слово (инга) может только чужестранец, который с присущими ему тяжеловесными манерами способен по нескольку раз повторять свои вопросы.
Из-за нашей обуви ноги служат нам исключительно для ходьбы. Полинезиец четверорук, он использует ноги не только для ходьбы. Он держит ногами предмет, руками в это время работает с ним, например плетет циновку, вьет веревку, добывает из куска дерева огонь. Как неловко, медленно и неуклюже мы наклоняемся, чтобы поднять что-то с земли. Полинезиец берет это пальцами ноги, передает в руку, но при этом даже не качнется и не перестает говорить. Если надо украсть с палубы корабля какую-нибудь вещь, один берет ее ногой и передает другому; так с ноги на ногу похищенное переправляется за борт, в то время как охрана следит только за руками и поэтому ничего не замечает.
На ум мне приходит изречение Мастера и еще дальше отвлекает от моей цели: «...Только в развитии сил прелесть бывает видна»{200}. Эти силы не ищут, а точно определяют правильное, а правильное — это прекрасное. Каждое нарочитое, произвольное украшательство искажает, уродует. Не знаю более привлекательного зрелища, чем выступление индийского жонглера, играющего с удивительно послушным ему пушечным ядром. Взгляд художника с упоением наблюдает за тем, как во всей своей красоте проявляется облик человека. В то же время он как дитя веселится, глядя на этого похожего на ребенка артиста, который также веселится и целиком поглощен своей игрой. Я видел европейского жонглера, выполнявшего несомненно более замысловатые трюки, но этот неприятный человек лишь портил художественное восприятие, всерьез полагая, что его манерная, нарочитая игра вызывает такое же удивление, какое может вызвать лишь героический поступок. В той же мере отличаются от веселых и дарящих веселье другим фокусников, которых я видел в детские годы, нынешние скучные professeurs de physique amusante — «профессора занимательной физики». Их погубила спесь. А теперь, возвращаясь к моим полинезийцам, хочу сравнить их с индийским жонглером, принадлежавшим к одной с ними семье народов.
...Дул пассат и подгонял наш корабль. Утром 20 октября встретили много бекасовидных веретенников и морских птиц. В 2 часа дня показались опасные для мореплавателей голые рифы, впервые увиденные в 1807 году капитаном фрегата «Корнуоллис» Джонстоном; мы тщетно искали их в прошлом году. Наиболее высокий и хорошо видимый пункт, по определению капитана Коцебу, имеет кординаты 16°45'36'' сев. широты и 169°39'21'' зап. долготы. Скрытые под водой рифы простираются далеко вокруг. Бекасовидные веретенники и морские птицы замечают их во время своих перелетов. 21-го стая уток пролетела на юго-восток. 24-го на палубу сел бекасовидный веретенник. К северу от Радака встретили уже известное нам мощное западное течение.
30-го показался Отдиа [Вотье], и, когда мы с юго-востока хотели войти в пролив Шишмарева, на нас обрушился шторм, грозивший опасностью вблизи этих рифов. Дождь лил как из ведра; вокруг «Рюрика» плавал небольшой кашалот.
Ночью дул все тот же довольно сильный восточный ветер, и мы лавировали недалеко от берега.
В 10 часов утра 31 октября 1817 года корабль вошел в гавань Отдиа. С запада подошла парусная лодка. Мы узнали нашего друга Лагедиака, который радостно нас приветствовал. В 5 часов вечера «Рюрик» был уже на нашей старой якорной стоянке у Отдиа. Лагедиак тотчас же прибыл на борт и привез кокосовые орехи. Радость его была неописуема, он едва мог ее сдержать, чтобы рассказать нам о своих друзьях и о положении на острове.
Каду, это дитя природы, не радовало пребывание на чужбине, на роскошном Ваху [Оаху]; лишь в нашем тесном деревянном доме он снова собирался с мыслями, обращая их к своим милым друзьям, к которым мы его вновь привезли. Увидев и узнав рифы Отдиа, Каду весь устремился навстречу этому миру, становясь радакцем среди радакцев. Он принес им подарки, занимательные истории, сказки и свою радость — ликовал и веселился вместе с ними. Однако Каду очень скоро понял, что пора переходить от слов к делу, и начал весьма активно действовать, в то время как другие еще медлили, и делал он это от всего сердца, но в том духе, который усвоил на корабле. Каду был как бы нашей рукой среди радакцев и до последнего дня всегда был заодно с нами.
Мне же, когда я после стольких трудов заставил Каду рассказывать о Радаке и собрал воедино его отдельные высказывания, сравнив и изучив их, осталось лишь исследовать более абстрактные вопросы верований, языка и т. д. Познакомившись ближе с обычаями и нравами, условиями жизни этого народа, я составил о нем более ясное представление и теперь мог уже бегло читать там, где раньше с трудом разбирал лишь отдельные буквы.
На этот раз и сами радакцы стали нам много ближе. Товарищеские отношения Каду как с островитянами, так и с нами объединяли нас. Благодаря Каду радакцам легче было нас понять, наш мир стал более доступным. Теперь мы были как одна семья.
Однако мы собирались пробыть на Радаке всего три дня, и поэтому надо было созидать, действовать, а не заниматься бесполезными исследованиями.
Большая часть населения островной группы покинула Отдиа вместе с военной эскадрой Ламари. Из наших друзей остались только Лагедиак и старец с Ормеда Лаергас, единственный вождь и в то время правитель Отдиа.
Вообще здесь остались только двенадцать мужчин, но много женщин и детей. Вскоре после нашего отплытия с Аура прибыл вождь Лаболеа и приказал жителям отдать ему часть подаренного нами железа. Он прихватил с собой и трех коз, остававшихся после нашего первого приезда. Позже появился Ламари и потребовал остаток железа и другие подарки. Подождав некоторое время, пока готовили моган, он покинул остров, оставив немного фруктов, дабы поддержать жалкое существование жителей. Повелев выкопать несколько корней ямса, еще зеленевшего в нашем саду, Ламари взял их с собой, чтобы посадить на Ауре.
1 ноября 1817 года мы впервые сошли на берег. Горькое зрелище являл собой возделанный нами, теперь пустынный клочок земли. Не осталось и сорняков, даже звездчатки{201}, которые свидетельствовали бы о наших благих намерениях. Мы не пали духом при виде того, что неизвестные обстоятельства свели на нет результаты наших первых усилий, и энергично взялись за работу. Сад был засажен еще гуще. Оставив немного саженцев и семян для Ормеда, тех, что было больше, мы раздали друзьям. Каду с лопатой в руках что-то втолковывал, учил, советовал. Мы ели и ночевали на берегу. У нас оставалось еще несколько арбузов; вместе с другими растениями, которые дал капитан, мы распределили их между радакцами, и они поступили с ними так, как сказал Каду. Вечером друзья спели нам много песен, в которых мы услышали наши имена и слова, свидетельствующие о том, что здесь помнят о нашем пребывании.
2-го на берег доставили собак и кошек; первые убежали в лес, а вторые — к людям и тотчас же набросились на крыс, сожрав нескольких; я был спокоен за них: их будущее обеспечено за счет докучливых, подлежащих уничтожению тварей.
Коз и свиней следовало бы увести подальше от наших посадок, переправив на другой остров, но радакцы не решались иметь дело с незнакомыми животными. Вмешался Каду и сделал все, как надо. С этого острова он отправился на Ормед, чтобы позаботиться о тамошнем саде, однако по пути встретил направлявшегося к нам Лаергаса и вместе с ним вернулся на «Рюрик». Старый, добрый друг привез нам плоды хлебного дерева и кокосовые орехи. Он посетовал на то, что мы не остановились у его острова. Вскоре обе шлюпки отправились на Ормед. Я также решил поехать с ними и сел в шлюпку старика. Каду сперва собирался на Отдиа, но последовал за нами. Вечером я посадил сахарный тростник (прежний пострадал от засухи) и приступил к садовым работам. Каду присоединился ко мне. День, проведенный на Ормеде среди этих очаровательных детей природы, в привычной для них обстановке, без принуждения и вмешательства посторонних,— самое яркое и светлое впечатление за все время моих странствий. Жители острова — трое мужчин, женщины и дети — собрались на берегу около уютного костра. Каду рассказывал о своих приключениях, вплетая в них занимательные, хитрые сказки; девушки пели веселые песни о нас, которые сами сочиняли. Старшие, сидя в стороне, отдыхали. Уже было далеко за полночь, а песни и разговоры не умолкали.
Я говорил выше о чистоте нравов и простоте отношений, о трогательной стыдливости и высокой морали островитян. Не об этом ли мечтали последователи Сен-Симона — о таких же омываемых морем садах? Они потерпели крах, пытаясь совершить невозможное, надеясь, что смогут заставить время двигаться по кругу, пока оно не достигнет той точки, у которой их мечты были бы уже осуществлены. Вот один из примеров, иллюстрирующих нравы радакцев. Вечером я сидел в кругу островитян рядом с юной девушкой и разглядывал изящную татуировку на ее руке; я видел узор темно-синего цвета и, казалось, мог ощутить его, прикоснувшись к слегка вздувшейся нежной коже. И, поддавшись искушению, я легко провел рукой по татуировке. Этого не следовало делать! Но как могла девушка выразить свое недовольство промашкой дорогого гостя, незнакомого с местными обычаями и слабо знающего язык? Как могла она пресечь его действия и защитить себя? Сначала я не понял, что же было непозволительного в моем поступке. Но как только песня, которую в это время пели, закончилась, девушка встала, под каким-то предлогом ушла и, вернувшись, села не на прежнее место, рядом со мной, а на другое — возле своих подруг. При этом она держалась так же весело и дружелюбно, как и прежде.
Утром мы посадили растения и посеяли семена, и нам очень старательно помогал Каду. На этот раз я встретил на Ормеде таро и ризофору (Rhizophora gymnorrhiza), причем отдельные экземпляры попадались даже на пустынном рифе Айлук [Крузенштерна]. До сих пор на островах группы Отдиа они мне не встречались. Как только работа была завершена, Каду крикнул: «На корабль!» Мы распрощались с друзьями и подмяли паруса.
О том, что последовало дальше, я рассказал в другом месте (см. «Наблюдения и замечания»: «Познание, какое имеем мы о первой провинции Великого океана», раздел «Радак»{202}). К тому, что там написано, мне нечего добавить.
Друг мой Каду, ты выбрал лучшую долю; ты расстался с нами, любя нас, а мы заслужили твою любовь, ибо нашей целью было — и мы старались ее достичь — сделать побольше добрых дел для твоей родины. Ты решил и дальше поступать в том же добром духе. Да будет благословен твой труд и да хранит тебя в твоем благом деле тот, кто правит судьбами людей! Пусть он еще некоторое время удержит европейцев вдали от ваших бедных рифов, где для них нет ничего привлекательного. Они принесли бы вам лишь грязь, Оваи. А что бы стал делать ты в нашей старой Европе? Мы поиграли бы с тобой в глупую игру; мы показали бы тебе своих правителей и господ; они навешали бы на тебя медалей и других побрякушек, а потом забыли бы о тебе. Рядом с тобой не было бы любящего учителя, в котором ты, добрая душа, так нуждаешься. Нам не удалось бы остаться вместе, и ты затерялся бы в холодном мире. Ты не нашел бы себе подходящего места, и даже если бы в конце концов мы вернули тебя на родину, во что бы ты успел превратиться?
Вторым путешествием капитана Коцебу и его посещением Отдиа в апреле и мае 1824 года для нас завершается история Радака.
Прибытие капитана на Отдиа повергло всех в ужас. Когда же его узнали, появились старые друзья — Лагедиак, Рарик, Лаергас, Лангиен, Лабигар. Каду среди них не было. В поведении друзей сквозили страх и робость. Дело в том, что исчезла медная плита, которую в 1817 году мы укрепили на кокосовой пальме у дома Рарика. Из всего, что мы оставили на Радаке, капитан Коцебу увидел лишь одичавших кошек и корни ямса. Виноградная лоза, добравшаяся до верхушек самых высоких деревьев, высохла.
Каду будто бы находился на Ауре у Ламари, с которым подружился и благодаря заботам которого животные и растения, завезенные туда, сильно размножились. Не привилась якобы лишь виноградная лоза. Капитан Коцебу сообщает, что, к сожалению, из-за больших размеров корабля он не смог приблизиться к Ауру, чтобы навестить Каду.
С большим сомнением мы вынуждены были принять эти маловразумительные разъяснения.
Каду участвовал в военном походе, предпринятом Ламари в 1817 году. Он сражался в европейском платье в красной шапке с саблей в руке. Железо, много железа обеспечило Ламари перевес. Он вернулся домой победителем.
Люди острова Одна [Аилинглапалаи] в группе Ралик недавно под командованием своего вождя Левадока напали на Кавен, и, желая отомстить за разбойничий набег, Ламари готовился теперь перенести военные действия на территорию Одиа. Так рассказывали друзья.
Лагедиак тайно предлагал капитану Коцебу взять власть на Радаке и обещал ему поддержку. Когда капитан отверг этот план и стал готовиться к отъезду, Лагедиак обратился к нему с просьбой взять с собой в Россию его сына, но, узнав, что капитан посещает Радак в последний раз, не захотел расстаться с ребенком. Когда на «Рюрике» уже поднимали паруса, Лагедиак вручил своему другу прощальный подарок — молодые кокосовые пальмы, чтобы посадить их в России, ибо, как он слышал, там таких деревьев нет.
4 ноября 1817 года, покинув риф Отдиа, мы вошли в пролив Шишмарева. Стояла хорошая погода, дул слабый ветер. Мы прошли мимо Эрегуба [Эрикуба] и по указанию Лагедиака и других друзей взяли курс на Лигиеп [Ликиеп]. 5-го в первой половине дня мы увидели эту группу, близ которой ветер совсем прекратился. Слабый ветер с севера положил конец этому становившемуся уже мучительным положению. Навстречу вышла лодка, с которой за нами наблюдали издали. Мы назвались, после чего там осмелели, подплыли, привязали лодку к кораблю и доверчиво поднялись на палубу. Во время своего похода Ламари хорошо о нас отзывался, поэтому сейчас нам вручили подарки — кокосовые орехи и изящные ожерелья из ракушек. Островитяне свободно и непринужденно общались с нами, как со старыми, добрыми друзьями. Они настаивали на том, чтобы мы посетили их острова, расхваливая при этом красоту дочерей Лигиепа. Такие речи на Радаке мы слышали впервые. Подарки не остались без ответа. Островитян удивила наша щедрость, особенно обилие железа. Мы сообщили им все, что знали об их друзьях с Отдиа.
Без Каду на Радаке стало еще труднее объясняться, поэтому нам мало что удалось почерпнуть от островитян Лигиепа. Радакцы, как и англичане, я бы сказал, не горят желанием понять то, что им пытаются объяснить. Они не понимали слов собственного языка, которые мы старательно произносили, и взяли себе за манеру по нескольку раз повторять услышанное и, поскольку мы не могли им возразить, давали нам понять, будто это повторение означает утвердительный ответ.
Мы видели лишь скудную часть островной цепи. Более богатые острова, на которых высоко в небо вздымают свой кроны кокосовые пальмы, капитан Коцебу увидел в 1824 году. Проходы между рифами удобны даже для крупных судов; при господствующем пассате они могут входить и выходить из них; здешние люди нам показались здоровее и благополучнее, чем на других островах группы Радак; впрочем, мы заранее были подготовлены именно к такому впечатлению.
На Отдиа капитан Коцебу несколько раз беседовал с Лагедиаком, который, как оказалось, часто бывал на Ралике, о географии этой островной цепи. Здесь, на исходном рубеже маршрутов радакских мореплавателей, он еще раз попросил указать ему направление на относящуюся к этой цепи группу Кваделен [Кваджелейн]. В соответствии с более ранними данными она должна была находиться к западу от Отдиа.
К вечеру ветер усилился, и, простившись с друзьями, мы взяли курс на запад. Но нам не было суждено открыть эту или иную группу островной цепи Ралик. В 1825 году капитан Коцебу открыл на западе и на широте Удирика, там, где, по имевшимся у него данным, должны были находиться самые северные рифы Ралика, три различные группы островов, поросшие высокими кокосовыми пальмами, но необитаемые.
От Радака к Гуахаму
5 ноября 1817 года Лигиеп [Ликиеп], последние острова цепи Радак, скрылись из виду. Капитан решил взять курс на остров Гуахам [Гуам] и Марианские острова. Мы увидели сперва Сарпан [Рота], а затем 23 ноября Гуахам (мне нравится испанское название Гайан, хотя встречаются также Гуахам, Гуам и др.). Этот этап путешествия, хотя мы и не нашли группу Ралик и район, где на некоторых картах обозначены Каролинские острова, все же немаловажен в гидрографическом отношении. Мореплаватель, желающий предпринять исследования в этих водах, должен обратиться к таблице «Аэрометрические наблюдения» («Reise». III, с. 226), чтобы не повторять наш курс.
Капитан Коцебу отмечает, что к западу от Радака и в том районе, где следует искать Каролинские острова,— между 9° и 10° сев. широты, а в последние три дня — до 11°, море приобрело менее выраженную голубую окраску, большую соленость и было более холодным, чем обычно на тех же широтах в Великом океане. Отсюда он делает вывод, что, возможно, глубина здесь меньше. Когда мы, чтобы подойти к Гуахаму, взяли, курс чуть к северу, море опять приняло темно-синюю окраску, обычными стали соленость и температура в нижних слоях.
В это время часто нам досаждали штили, а однажды ночью разразилась гроза, сопровождавшаяся порывистым ветром. Мы загарпунили дельфина. Смешное происшествие, случившееся в эти же дни, очень позабавило всю команду. У одного из наших матросов была шапка из тюленьего меха, вернее, это было подобие шапки, настолько она обветшала от долгого употребления; лоснившаяся от смолы и рыбьего жира, шапка эта была предметом постоянных насмешек. С досады матрос как-то утром выбросил ее за борт. И в тот же день злополучная шапка была обнаружена в желудке пойманной акулы.
23 ноября во второй половине дня мы приблизились к северной оконечности Гуахама. У нас не было карты, чтобы ориентироваться, да и город Агадну [Аганья] был известен лишь по очень неполным описаниям. Мы отошли от берега, а 24-го вновь приблизились к острову и двинулись вдоль его западного побережья в поисках города и якорной стоянки.
Дул сильный пассат. Обогнув северную оконечность острова с подветренной его стороны, мы оказались в спокойном море. Легкий ветер, еще наполнявший паруса, приносил с поросшего лесом берега такие приятные ароматы, каких не было ни на одном побережье за все время путешествия. Казалось, что этот зеленый, благоухающий остров должен быть райским садом, но он был пустыней. На берегу мы не увидели радостно приветствующих нас людей. Ни одна лодка не двинулась нам навстречу с Isla de las velas latinas{203}. Католические миссионеры водрузили здесь свой крест, и в жертву ему было принесено 44 тысячи человеческих жизней{204}. Остальные жители, смешавшиеся с тагалами, переселенными сюда с Лусона, — это тихий, покорный народец, который с трудом кормится за счет матери-земли. В «Наблюдениях и замечаниях» я писал о нем со слов самих испанцев.
Нас наконец заметили. Пока мы осматривали живописную, окаймленную зеленью бухту в поисках удобной якорной стоянки, прибыла лодка европейского типа с лоцманом Робертом Вильсоном, чтобы показать путь в гавань. Близ города нас встретил лейтенант артиллерии дон Игнасио Мартинес. Он сидел в проа — лодке, напоминавшей суда радакцев. Южные каролинцы строят такие лодки для испанцев с Гуахама и доставляют сюда на продажу.
Гавань Кальдера-де-Апра [бухта Порт-Апра] (La caldera de Apra), образованная коралловым рифом, весьма надежна, но подойти к ней трудно. Не успели мы стать на якорь, как получили послание от губернатора с приглашением посетить Агадну, находящуюся примерно в 4 милях отсюда. За нами выслали лошадей и мулов. Командование «Рюриком» принял лейтенант Шишмарев, а мы с Вильсоном отправились на берег. В гавани стоял лишь небольшой бриг губернатора, предоставленный в распоряжение Вильсона. Нам предстояло проплыть около 2 миль до деревни Массу, где ожидали лошади. Уже наступила ночь, когда мы высадились на берег. Тагалы перенесли сюда типы построек, распространенных на Филиппинах. Жилищами служат бамбуковые клетки, подпираемые шестами; крыши из пальмовых листьев.
Освещенная луной дорога проходила по восхитительной местности; с правой стороны — пальмы, леса, холмы, слева — море. В Агадне мы остановились у Вильсона, а затем представились капитан-генералу Марианских островов. Дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда, в полном параде, при всех регалиях, принял нас весьма дружелюбно. Я и капитан Коцебу жили у него, остальные — у других испанцев. К столу у капитан-генерала в изобилии подавались мясные блюда; фруктов, этих плодов земли, которые особенно желанны для моряка, ступившего на берег, не было, и лишь апельсиновый напиток, предлагавшийся в перерывах между едой, напоминал о наполненной ароматами зеленой стране. Хлеб предназначался только для хозяина и иностранных гостей; испанцы довольствовались кукурузными лепешками.
В Агадне я ощущал недостаток фруктов, а на «Рюрике» они были в избытке. Губернатор распорядился щедро снабдить корабль всеми дарами земли — овощами и фруктами. Кроме того, матросы, которых зачем-либо посылали на берег, привозили из леса на корабль столько лимонов и апельсинов, сколько могли сорвать и донести. Эта земля, эти фруктовые деревья вскормили сильных, полнокровных людей; странно, однако, что число их здесь было незначительным.
Возникает вопрос: нравилась ли такая еда нашим северным ихтиофагам? Апельсины показались им вкуснее, чем китовый жир. Приятно было видеть, с каким удовольствием алеуты лакомятся ими, и на пути в Манилу мы отдали им последние остававшиеся у нас плоды. Эшшольц по крайней мере все свои апельсины подарил алеуту, обучавшему его языку.
В «Наблюдениях и замечаниях» я писал о доне Луисе де Торресе, с которым нас быстро и прочно связал общий образ мыслей. Вспоминаю о нем с любовью и искренней благодарностью. Дон Луис де Торрес изучил на Улле [Волеаи] нравы и обычаи, историю и сказания этих милых людей; он попросил наиболее опытных мореплавателей, с которыми поддерживал тесные связи, составить для него карту их нептунического мира. Используя торговые суда, ежегодно приходящие на Гуахам из Ламурека, он сохранил постоянные связи с тамошними друзьями. Дон Луис де Торрес раскрыл передо мною сокровищницу своих знаний, показал карту, охотно и с нежностью говорил мне о своих друзьях и о народе, к которому благодаря Каду я уже испытывал огромную симпатию. Дни в Агадне я посвятил полезному и сердечному общению с достойным доном Луисом де Торресом, с чьих слов записал сведения, изложенные позднее в «Наблюдениях и замечаниях». Капитан Коцебу, которого я осведомил о результатах исследований, пошел навстречу моему желанию и к намеченным двум дням пребывания на Гуахаме добавил еще один — жертва, за которую я ему весьма признателен. Он проводил время в поездках между гаванью и городом, а я оставался в Агадне, выполняя поставленную перед собой задачу.
Я уже упоминал о здоровой супружеской чете, живущей на Гуахаме,— родоначальнице шести поколений. Дон Луис де Торрес, сам дедушка, приходился им внуком; к шестому поколению вела другая линия.
В Перу, откуда дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда прибыл на эти острова, он встречался с Александром Гумбольдтом и с гордостью рассказывал, как однажды, когда тому надо было появиться при дворе вице-короля, одолжил ему свою шляпу. Позже в Маниле, столице Филиппин, с давних пор поддерживавшей оживленные связи с Новым Светом, мы часто встречали произносимое с уважением имя нашего всемирно известного земляка и встречали немало людей, особенно из среды священников, гордившихся тем, что знали или видели Гумбольдта.
Я уже упоминал о том, что, идя навстречу пожеланию нашего капитана познакомиться с народными танцами и праздниками островитян, дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда приказал устроить оперно-балетное представление при свете факелов. Я сам слышал, как однажды, желая показать нечто необыкновенное, он советовался со своими приближенными и на их возражения ответил: «Но он хочет посмотреть танцы!» Итак, нам показали танцы.
Хорис, наделенный талантом быстро и легко писать акварельными красками портреты, весьма сходные с оригиналом, как-то утром попросил разрешения нарисовать портрет губернатора. Последний тут же пошел переодеться в парадный костюм и вернулся обутый в башмаки с пряжками, кроме того, на нем были шелковые чулки. Хорис же изобразил его только до пояса, запечатлелись лишь эполеты. Это обстоятельство дало злым языкам повод утверждать, что дон Хосе не сможет послать портрет своим родным, для которых он, собственно, и предназначался, поскольку право носить эполеты даровал себе сам.
Наступило 28 ноября — день, когда мы вновь должны были взойти на борт корабля. На прощание я решил подарить несколько пиастров испанцу, прислуживавшему мне в доме губернатора. Но этот человек, незнакомый с нашими нравами, казалось, совсем не понимал, что я хочу. Боясь его обидеть, я сказал, что эти деньги предназначаются para los muchachos (для низших слуг), и лишь тогда он взял их. Ни капитан, ни кто-либо другой из нас не смог вручить чаевые. Однако какая-нибудь вещь, например пестрый платок, какие обычно повязывают на голову, или другое в том же духе, была бы принята с большой благодарностью. На пиастры же здесь они получат только то, что предложит им единственный здешний купец — губернатор.
Мне довелось быть свидетелем трагикомического конфликта между губернатором и нашим капитаном. Первый сделал широкий жест, по законам гостеприимства отказавшись от какой бы то ни было платы за предоставленный «Рюрику» провиант. У капитана были с собой для подарков русские медали, и вручал он их всегда с таким видом, словно они отчеканены в честь нынешней экспедиции. В Агадне, да и во многих других местах, не умеют хорошо читать по-русски. Одну медаль он хотел вручить и нашему благородному хозяину с обычными словами, что «она должна служить напоминанием и т. д.». Но дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда совершенно не понял его намерения. Что он вбил себе в голову, не знаю. Короче говоря, он оттолкнул предложенную медаль и упорно отказывался ее принять от возмущенного капитана. С большим трудом мне удалось наконец убедить его взять казавшуюся опасной вещь, и, таким образом, мы выиграли спор.
На Гуахаме я впервые увидел трепанга{205}. Губернатор, по приказанию которого этот ценный продукт моря собирают и отправляют на рынок в Кантоне [Гуанчжоу], сообщил мне много сведений о различных видах голотурий, поступающих на рынок, об их происхождении, о том, как их готовят, и, наконец, о торговле ими. Эти сведения я изложил частично в «Наблюдениях», частично в «Verhandlungen der Akademie der Naturforscher» (т. X, p. II, 1821, с. 353). Он достал мне несколько трепангов — одни были еще живые, другие копченые, в том виде, в каком они поступают на рынок. В берлинском Зоологическом музее есть несколько экземпляров трепангов. Губернатор был так любезен, что откликнулся на мою просьбу дать нам возможность попробовать приготовленное из них блюдо, до которого так охочи китайские гурманы. Но со мной случилось то же, что с одним немецким профессором, который однажды, будучи в картинной галерее, внимательно слушал и старательно записывал ученые объяснения чичероне, а когда вернулся домой и перечитал записи, то ничего в них не понял и был вынужден просить своего спутника объяснить, что же, собственно, было изображено на картинах.
Голотурий следует медленно варить на небольшом огне два раза по 24 часа, поэтому отведать их мы могли лишь на прощальном обеде, который устраивал дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда перед нашим отъездом с Гуахама. Я ни разу не был в лесах близ Гуахама, видел их только мельком, издали, и мне хотелось бросить на них прощальный взгляд. Я отказался от обеда и использовал это время для того, чтобы пешком пройтись к гавани и собрать нужные растения. Меня сопровождал дон Луис. (В деле сбора растений Эшшольц вполне мог на меня положиться, а вот я на него никогда.)
Вечером 28 ноября вместе с членами нашего экипажа на борт «Рюрика» прибыло много испанских офицеров. Мы весело провели время, и они остались ночевать. Все, что у меня еще было из мелких скобяных изделий, стеклянных бус и т. п., я передал дон Луису де Торресу и просил его как друга индейцев быть моим душеприказчиком. У Хориса я приобрел большие ножи, которые ему не удалось сбыть, и просил раздать их в качестве подарков от Каду его друзьям и близким на Улле.
Утром 29 ноября 1817 года на «Рюрик» прибыл дон Хосе де Мединилла-и-Пинеда и передал капитану послания для губернатора Манилы. Мы попрощались с друзьями, салютовали капитан-генералу, когда он покидал борт судна, пятью пушечными залпами и троекратным «ура!», и ветер наполнил наши паруса.
От Гуахама до Манилы
Выйдя 29 ноября 1817 года из гавани Гуахама [Гуама], мы взяли курс на север Лусона, чтобы пройти в Китайском море [Южно-Китайское море] между находящимися там вулканическими островами.
1 декабря (координаты: 16°З1' сев. широты, 219°6' зап. долготы) морские птицы принесли нам весть о рифах, которые, согласно карте Эрроусмита{206}, должны были находиться к западу от нас с подветренной стороны. 6-го на «Рюрике» поймали хищную птицу.
«Несколько дней назад,— писал капитан Коцебу,— на судне была обнаружена сильная течь; вероятно, оторвался один из медных листов, и черви, которые во множестве водятся в коралловых рифах, прогрызли дерево». 12 декабря он сделал следующую запись: «Вода в судне прибыла». Заимствую упоминание об этом обстоятельстве из его описания путешествия («Reise», т. II, с. 136). Сам я тогда либо не знал об этом, либо забыл записать.
10-го мы обогнули северную оконечность Лусона между островами Баши на севере, скалами Ричмонд и Бабуянскими островами на юге. 11-го мы увидели главный остров и направились вдоль его западного берега к югу. Мешало встречное течение, но сильный ветер нес судно к намеченной цели. В этот день поймали бониту. Часто встречались летучие рыбы.
Ветер стих. 15-го днем мы оказались у входа в Манильский залив. Телеграф острова Коррехидор сообщил о нашем прибытии. Остров, защищающий вход в красивую бухту, как мне показалось, представляет собой верх частично затопленного кратера. Когда мы плыли вдоль побережья Лусона, нам встретились два парусных судна; здесь их было уже немало.
Наступала ночь, и мы лавировали против восточного ветра, чтобы войти в бухту; к нам подплыла двадцативесельная лодка с офицером пограничной стражи. Он доставил лоцмана, который должен был провести нас в Манилу.
Мы продвигались вперед крайне медленно; оживленное движение судов в бухте свидетельствовало о близости крупного торгового города. Ветер прекратился, и днем 17-го мы стали на якорь. Генерал-губернатор Филиппин дон Фернандо Мариана де Фульгерас прислал двух офицеров приветствовать капитана. Капитан воспользовался случаем п в их лодке отправился на берег, взяв и меня с собой. На рейде стояло восемь английских и американских торговых судов. Губернатор принял нас весьма любезно и обещал предоставить помощь. Та же лодка доставила нас обратно. В этот вечер мы снялись с якоря, чтобы направиться в Кавите, гавань и арсенал Манилы, где нам надлежало ожидать распоряжении губернатора. Однако штиль задержал нас и вынудил снова бросить якорь. Рыбацкие лодки привезли нам на продажу свой улов. Лишь 18-го днем мы прибыли в Кавите. 19-го дон Тобиас, комендант арсенала, получил относящиеся к нам указания. «Рюрик» сразу же ввели в арсенал. Его груз и команду разместили на пустом галеоне{207}; нам был отведен приличный дом. 20-го мы поселились в нем. Капитан пожелал, чтобы у его дверей стояли часовые, но, не имея права претендовать на почетный караул, согласился на простую охрану. Мы были уже не в Чили, а здесь разбирались в том, что согласуется с европейскими обычаями, а что нет. Вместо желаемого часового появился вестовой, присланный в распоряжение русского капитана, который отослал его, с трудом скрывая недовольство.
Тем временем дон Тобиас вместе с корабельных дел мастером осмотрел «Рюрик», и сотня рабочих сразу же принялась его ремонтировать. Трудясь споро и со знанием дела, они закончили все необходимые работы еще до истечения двухмесячного срока — такова продолжительность северо-восточного муссона в этой гавани. Все повреждения были устранены, выполнен необходимый ремонт, заменена оснастка; судно заново обшили медными листами, поскольку с самого начала обшивка не была сделана как полагается, из-за чего мы постоянно испытывали трудности; усовершенствовали и рулевое управление, что заметно ускорило ход корабля. «Рюрик» вышел из арсенала Кавите помолодевшим. Теперь он мог бы опять совершить кругосветное путешествие, успешно справляться с северными бурями. Однако нам предстояло плыть на родину.
После ремонта корабля у нас была еще одна забота: сделать алеутам прививки, что доктор Эшшольц незамедлительно и исполнил.
На рейде Кавите мы встретили «Эглантину» из Бордо (капитан Герин, суперкарго дю Сюмье). Г-н Герин, офицер королевского флота, посетил нас на борту «Рюрика», прежде чем судно стало в арсенал. С этими моряками, как и с испанскими властями, у нас были самые дружеские контакты, но все же с сожалением приходится повторить, что два начальника на одном корабле — явление нежелательное.
Во всех странах меня считали русским: флаг прикрывает происхождение товара. Но все же немцы и французы признали меня своим земляком. Кроме моряков с «Эглантины» я встретил здесь очень милого земляка, о котором хочу упомянуть с сердечной благодарностью. Дон Сан Яго де Эчапарре после эмиграции французского дворянства попал в Испанию, где продолжил на морской службе свою карьеру, начатую на родине. Уже много лет он жил в Лусоне, здесь состарился, но все еще продолжал оставаться французским дворянином, не слился органически с местным населением и не чувствовал себя здесь дома. Его сердце все еще оставалось на старой родине. Дон Сан Яго жил в своем деревенском домике в Тьерра-Альта. Кавите, расположенный на оконечности песчаной косы длиной три мили,— не особенно подходящее место для странствующего натуралиста. Я перебрался в Тьерра-Альту, деревню, расположенную на высоком берегу Манильского залива, где к нему примыкает песчаная коса Кавите, и провел здесь почти все время, пока «Рюрик» находился в гавани. Я был гостем своего земляка, хотя и не жил в его доме, а проводил с этим достойным, добродушным, шумливым человеком те часы, когда не бродил по окрестным полям и оврагам. Как и в наших домах, у него ежедневно случалось что-либо выводившее его из себя. Слуга Пепе забыл купить на рынке редьку, которую любил дон Сан Яго, и он поднял шум, но вскоре успокоился, добродушно заявив, что не хочет гневаться из-за редьки. Затем мы сели за стол, но оказалось, что Пепе поставил ему поломанный стул, на котором Дон Сан Яго не желал сидеть; он вскочил и в сердцах отшвырнул стул в сторону, но потом, уже смеясь, взял другой. Во время обеда мы беседовали о Филиппинских островах и о Франции.
По двору и саду дона Сан Яго де Эчапарре разгуливала большая черепаха, на ветвях дерева, почти у самых окон его комнаты, сидели медососы (Nectarinia), и всякий раз, Когда мы пили кофе, на стол взбиралась маленькая ящерица — геккон, чтобы полакомиться сахаром. Он предложил мне этих животных. Но могла ли у меня подняться рука, чтобы лишить этого осиротевшего человека его друзей! Может быть, кто-нибудь другой и сделал бы это, но только не я.
Территорию, на которой располагались дома, охраняли собаки, свободно бегавшие вокруг и успешно справлявшиеся со своими обязанностями. Это я понял в первый же день, когда без предупреждения вернулся домой. Собаки подняли лай, на что я не обратил внимания; однако на моем пути молча встал готовый к схватке мощный пес. Стоя друг против друга, каждый мерил противника взглядом. Поняв, что отступать поздно, я счел самым разумным продолжать свой путь и двинулся на собаку, которая должна была бы испугаться и убежать, но она не тронулась с места. Как нельзя более кстати в доме послышались голоса, и собаку отозвали, прежде чем дело дошло до схватки, из которой я вряд ли вышел бы победителем.
Эта собака напомнила мне о другой, с которой однажды пришлось встретиться на родине. Та сидела на цепи и, когда я проходил мимо, кинулась на меня с такой яростью, что я подумал: «Что же будет, если она сорвется?» И представьте себе, цепь оборвалась, и случилось вот что: собака подкатилась к моим ногам, встала, глянула на меня, завиляла хвостом и кротко, как ягненок, вернулась в конуру. Читая газеты, я нередко вспоминал о ней. Когда, например, с помощью билля о реформах консерваторы сокрушили министерство Грея{208}, а затем кротко заявили, что хотят восстановить порванную цепь.
В Тьерра-Альте я испытал единственное недомогание за все время путешествия. У меня поднялась температура,, и я опасался, что начнется кишечное воспаление. Моя постель — по местным обычаям деревянная скамья, покрытая тонкой соломенной циновкой,— была очень неудобной, особенно при моем тяжелом состоянии. Дон Сан Яго позаботился о «хорошем мягком ложе» и прислал мне тростниковый топчан. Меня навестил Эшшольц; мне стало лучше, хотя окончательно я не поправился; и в таком состоянии вынужден был совершить экскурсию во внутренние районы острова и к вулкану Тааль, о которой я просил власти, поскольку время нашего пребывания на Лусоне подходило к концу.
Мне надо было позаботиться о получении необходимых в поездке паспортов, но к этому я еще не был готов, поскольку для посещения района, куда я собирался ехать, требовались другие бумаги и подписи, получение которых отняло много времени. По ходу дела я столкнулся с испанским тщеславием и стремлением к излишествам: там, где достаточно было одного проводника, мне предлагали военный эскорт из трех десятков всадников. Я покрывал издержки всех своих научных экскурсий и мероприятий за собственный счет, не желая оставлять без вознаграждения предоставлявшиеся мне услуги. 12 января 1818 года я покинул Тьерра-Альту в сопровождении личной охраны — шести тагалов из конной полиции, командир которой сержант дон Пепе совмещал обязанности проводника и переводчика.
Дон Сан Яго де Эчапарре был крестным отцом ребенка дона Пепе. Узы кумовства, утратившие всякое значение и силу в протестантской Германии, в католических странах вообще, а здесь особенно ценились весьма высоко. Дон Сан Яго, поручивший своему куму быть проводником, пригласил его накануне вечером и отдал приказ примерно в следующих выражениях: «Ваша милость будет служить охраной и проводником этому благородному господину во время его поездки на Тааль. Я укажу Вашей милости, в каких местах Вы должны останавливаться и у кого из наших кумовьев размещаться. Прежде всего Ваша милость должна заботиться о том, чтобы ехать только днем, потому что этот благородный человек хочет все видеть. Ваша милость будет часто ехать шагом и часто останавливаться по желанию этого господина, который будет осматривать каждую травинку и каждый камень на дороге и каждого червячка, короче говоря, каждое свинство, о котором я ничего не знаю и о котором Вашей милости тоже не обязательно знать» и т. п.
Дон Пепе оказался весьма полезным, неглупым и деловым человеком, и у меня не было причин быть им недовольным. Но, отвечая за мою безопасность, он старался вести меня так, как ведут маленького ребенка по дороге — не спуская с него глаз, стращая крокодилами и змеями. Однако скоро я понял его. В жизни мне не доводилось слышать более громкого вопля, чем тот, который он однажды издал, глядя мне под ноги: тропинку переползала змейка. Я убил ее — она оказалась совершенно безвредной. Подобным же образом он предупредил меня об одном растении. Я тотчас же с жадным любопытством обследовал его — обыкновенная крапива, не более опасная, чем наша.
Повсюду, где мы бывали, ко мне, русскому доктору, обращались люди, к чему я успел привыкнуть. Они жаловались на свои недуги в надежде на помощь. Приходилось разъяснять разницу между Doctor naturalista (доктором-натуралистом) и facultative (лечащим врачом). Тем, кого обуревает страсть к путешествиям, следует сказать: повсюду, где живут люди, звание и авторитет врача служат самым надежным паспортом и рекомендательным письмом, а также средством обеспечить (если в этом есть нужда) самый верный и высокий доход. Везде больной человек, если он не в состоянии сам справиться со своей хворью, надеется на помощь и на того, кто более всего способен оказать ее, и охотно обращается к совсем незнакомому лицу, чужестранцу, который, как это ни странно, вызывает в нем доверие, утраченное им к близким. В семье ученого врача совет старой прачки ценится выше, чем его собственный опыт.
Медицина для тех, кто в ней нуждается,— это тайное, почти колдовское искусство. Большая часть ее силы основывается на вере. Волшебство и магия, распространенные под тысячью именами и в тысяче различных форм, столь же древних, как и сам род человеческий, были первыми средствами исцеления и, наверное, будут последними. Они непрестанно омолаживаются под новыми названиями, именами, приобретая современные формы — у нас научные, например так называемый месмерианизм{209} и... Не хочу никого обидеть, но кто будет оспаривать, что и сегодня в таком просвещенном городе, как Берлин, предпочитают лечить болезни заговорами или знахарскими чудесными средствами, нежели обращаться к помощи квалифицированных врачей.
Хотелось бы лишь посоветовать тем, кто стремится увидеть мир, запастись вместо удобной туристской шапочки докторским колпаком (мои молодые друзья уже последовали этому совету), и все будет как нельзя лучше. Наряду с врачом неплохие шансы в путешествиях по далеким странам имеет художник-портретист. Ведь у каждого человека есть любимая им своя физиономия, а также близкие, которых он хотел бы порадовать, вручив ее изображение. Но это все еще редкое искусство проникло не во все уголки земли.
В то время как я был вынужден оказывать помощь многим, обращавшимся ко мне, у меня самого было немало хлопот с собственным здоровьем. Я лечил себя кокосовым молоком и апельсинами и тщетно пытался отучить дона Пепе от местного обычая сильно сдабривать куриный суп имбирем и другими специями. К этому, очевидно, сводилось его врачевание, и он упорствовал из самых добрых побуждений. Облегчение мне приносила только баня.
Вечером лошадей выгоняли на пастбище, а рано утром, перед тем как отправиться в путь, ловили — таков местный обычай. Но при этом терялось не только время, но и нередко лошадь.
Известно, что табак в испанских колониях — главная доходная статья короны, которая взимает подушный налог вместо прямых поземельного и имущественного налогов: ведь в табаке в равной степени нуждаются и бедные, и богатые. На Гуахаме этот ненавистный налог не давит на население. Но здесь бедный тагал лишен возможности платить королю за то, что земля дает бесплатно. На улицах и дорогах бедняки выпрашивают окурки у тех, кто держит их во рту и не докуривает до конца. Дон Пепе просил меня отдавать ему окурки и распределял их поровну между членами всей группы.
На третий день мы достигли края кратера, откуда можно было обозреть лагуну Бонгбонг и лишенный растительности, мрачный вулкан Тааль. Оттуда через лес мы спустились на запад к нынешнему селению Тааль на берегу Китайского моря. Здесь у нас пропала лошадь. Часть утра 15-го я провел в бане, а после обеда вместе с доном Пепе и одним из тагалов поднялся в легкой лодке вверх по течению реки, берущей начало в лагуне. Мы отдохнули в бедной рыбацкой хижине и ночью вновь подплыли к переправе, чтобы оттуда отправиться на вулкан. Здесь дон Пепе заклинал меня соблюдать осторожность, осматривая все без лишнего шума. Вулкан, относящийся миролюбиво к местным жителям, всякий раз, когда приходит испанец, грозит новым извержением. Я ответил доброму тагалу, что я не испанец, а русский— уловка, которая, кажется, не ослабила его опасений. Я решил не перечить ему, а выполнять все его указания. Впрочем, он забыл о них скорее, чем я.
Мы высадились на острове с наветренной стороны. Первые лучи солнца застали нас на краю адского котла. Когда мы шли по этому краю в поисках места, откуда Удобнее было бы спуститься вниз, дон Пепе забыл о всякой осторожности. Его привело в восторг то, что мы идем на такой риск, на какой, как он полагал, никто до нас идти не решился, да и вряд ли сможет отважиться и после нас. Из всех людей только мы ступили на эту тропу. Я скромно обратил его внимание на то, что до нас уже здесь побывал скот: по берегам острова кое-где растет трава и, чтобы она не пропадала, сюда завезли коров. Не могу понять, что могло побудить их карабкаться на крутой голый конус, состоящий из лавы, и потом прокладывать тропинку через край обрыва.
Вулкан Тааль уже описан в моих «Наблюдениях» и вторично — в «Живописном путешествии» Хориса, который нарисовал его по моим наброскам. Вечером мы возвратились в селение Тааль и 19 января 1818 года вернулись в Тьерра-Альту.
Я еще ничего не сказал о самой Маниле, куда не раз совершал маленькие экскурсии по суше и по воде вдоль хорошо возделанного берега бухты и где мне неизменно оказывали самый сердечный, дружеский прием. В Маниле нет гостиниц, и там нашим хозяином был доктор дон Хосе Амадор, которому нас рекомендовал губернатор Марианских островов. Опекуном его милой жены был дон Сан Яго де Эчапарре. Ее умерший здесь отец был его земляком и коллегой по службе. Очаровательная сеньора говорила только по-испански. Во время нашей первой поездки в Манилу дон Хосе Амадор отсутствовал, и нас принял адъютант губернатора дон Хуан де ла Куэста, который был весьма предупредителен к капитану и ко всем остальным. В его доме царила непринужденная, приятная атмосфера. Мы скинули свои одежды, в которых представлялись генерал-губернатору Филиппин, и хозяин дал нам легкие куртки, соответствующие местному климату. Когда мы снимались с якоря, он прислал мне французские и английские газеты за последние несколько месяцев. О лучшем занятии в Китайском море, чем чтение газет, я не мог и мечтать. Из них я получил первую со времени отъезда из Плимута весть о своих близких и был обязан этим дону Антонио Мариана де Фульгерасу. Мой брат стал префектом департамента Ло... Только в Китайском море или при других подобных обстоятельствах начинаешь понимать, какую массу сведений можно почерпнуть из европейской газеты.
Моим главным занятием в Маниле были поиски в библиотеках и в монастырях людей и книг, у которых и откуда можно было бы почерпнуть сведения о народах и языках Филиппин и Марианских островов. Я уже сообщал о том, что мне удалось и чего не удалось добиться в этом отношении. В короткое время я составил себе хорошую библиотеку из трудов тагаловедов и историков Манилы. Некоторые из книг я купил, но большинство было мне подарено; в ответ я также вынужден был дарить книги. Повсюду я встречался с высокогуманным образом мыслей, с величайшей готовностью прийти на помощь и весьма вежливыми манерами. Лишь в том монастыре, где находился «Словарь тагальского языка» (Vocabulario de la lengua tagala), монах, вручивший оплаченный мною экземпляр, составил исключение из правила: приказав мне удалиться, он закрыл за мной дверь. Его поведение больше огорчило узнавших про это испанцев, чем меня самого, ибо я помнил, что монах и женщина no hacen agravio (не могут оскорбить честь).
Когда в ночь с 3 на 4 июля 1822 года сгорел дотла дом, в котором я жил, то главное, что кроме жизни моих близких я стремился спасти, было мое тагальское собрание, и я позаботился о том, чтобы передать его в Королевскую библиотеку в Берлине, где ученые — специалисты по малайским языкам смогут найти многое, что не так-то легко обнаружить в других книгохранилищах.
Мы были на Лусоне в то время, когда манго еще не созрело. Этот широко известный и высоко ценимый фрукт, который произрастает здесь в избытке, составляет, по-видимому, существенную часть пищевого рациона населения. Нам удалось раздобыть плоды единственного созревающего в этот сезон сорта манго и после обеда распределить их среди экипажа. Порция была слишком мала, поэтому не могу сказать о нем ничего определенного. Вообще мы пробовали лишь те фрукты жаркой зоны, которые можно достать в любое время года. Никаких манго! Никаких ананасов! Никакой евгении{210}! И тому подобного!
Китайское предместье — притягательное место для тех, кто не бывал в Срединном царстве. Non cuivis homini contigit adiré Corinthum{211}. Пусть во многих отношениях мы стоим выше китайцев, но Китай — это обычное государство, проводящее консервативную политику, и те у нас, кто придерживается такого курса, наверняка смогут многому научиться на его примере. При этом я не имею в виду попытки передвинуть стрелки часов истории назад в тех сферах, где мы действительно далеко обогнали китайцев. Такие попытки всегда обречены на неудачу. Речь идет о том, чтобы определить, что надлежит сохранять и как осуществить подобную консервацию. Но это находится уже за пределами моей компетенции. Более подробный материал по таким вопросам можно почерпнуть в «Записках по истории Китая» («Mémoires pour servir à l’histoire de la Chine»), Что же касается меня, то я ограничился тем, что просто разглядывал лица китайцев.
19 января 1818 года я вновь прибыл в Тьерра-Альту. 21-го меня навестил Эшшольц. В тот же день приехал капитан и отправился в Манилу. 22-го я возвратился в Кавите. 25-го из Манилы прибыл капитан. «Рюрик» был готов к отплытию; хронометры находились уже на корабле. Ранним утром 26-го в легкой лодке я поплыл в Манилу, позавтракал на «Эглантине», ожидавшей нас у полосы прибоя, сделал последний обход в поисках тагальских книг, рассчитывая, не без оснований, на гостеприимство дона Хосе Амадора. 27-го «Рюрик» подошел к полосе прибоя. 28-го я сел на корабль; этот день был последним днем в Маниле. Губернатор поднялся на борт «Рюрика», где в его честь прозвучали 15 пушечных залпов. Прибыли и друзья. Последние, прощальные часы, особое очарование которым придало присутствие сеньоры Амадор, были веселыми, сердечными и праздничными.
Я не назвал здесь имени одного нашего друга, который в беседе часто упоминал о масонстве{212}. Все же он не ответил на пароль посвященных, который в связи с этим мне пришлось извлечь из сокровищницы полузабытых юношеских воспоминаний. В этот вечер, подойдя ко мне, он пожал мою руку. Я удивился. «Как же вы отрицали?..» — «Вы уезжаете, а я остаюсь». Этот ответ я не забыл до сих пор.
Хор наших матросов, сопровождаемый музыкальными инструментами, исполнил русские национальные песни, а сеньора Амадор, которая в самом радостном настроении порхала среди нас, как очаровательная фея, бросила им по испанскому обычаю пригоршню пиастров. Капитан Коцебу счел этот поступок оскорбительным. Когда гости уехали, он приказал собрать эти деньги и отослал их добросердечной дарительнице с запиской, которая, будучи направленной красивой женщине, вряд ли создала у нее более благоприятное впечатление об утонченности русских нравов, чем у капитана — испанская щедрость, которую он отклонил.
29 января 1818 года «Рюрик» и «Эглантина» покинули бухту Манилы.
От Манилы к мысу Доброй Надежды
Выйдя 29 января 1818 года из бухты Манилы вместе с «Эглантиной», при попутном северо-восточном ветре по оживленной трассе мы пересекли Китайское море в западно-юго-западном направлении и 3 февраля миновали Пуло-Сопата. Следуя затем юго-западным и скорее южным курсом, мы 6-го увидели Пуло-Теоман, Пуло-Памбеелау и Пуло-Арое (по Эрроусмиту, которого придерживаюсь, учитывая неустойчивое правописание малайских названий; по другим источникам: Пуло-Тимон, Писанг и Аора). Идущая медленно «Эглантина» задерживала нас.
От этого самого западного пункта нашего плавания в Китайском море мы повернули с небольшим отклонением на восток, чтобы подойти к проливу Гаспар между одноименным островом и островом Банка.
Ранним утром 8 февраля 1818 года мы в третий раз пересекли экватор. Для русских и алеутов, которых мы взяли в городе Св. Петра и Павла, Сан-Франциско и на Уналашке, это было впервые. Наши бывалые матросы запугали их — особенно алеутов — фантастическими россказнями об этой странной линии, об опасностях и ужасах, связанных с ее пересечением. На том дело и кончилось; не было ни «крещения», ни других праздничных церемоний.
В этот день капитан послал меня на «Эглантину», чтобы сообщить капитану Герину ночные сигналы, относительно которых еще не договорились. Там я пообедал. Подобный визит в открытом море имеет особую прелесть. Когда в новой обстановке видишь свой плывущий под парусами корабль, испытываешь такое чувство, словно стоишь у окна и смотришь на себя самого, идущего по улице. После обеда я вернулся на «Рюрик».
С обоих судов днем на западе был замечен малайский парусник. У горизонта виднелись лишь верхушки его мачт, и он следовал тем же курсом, что и мы. Вечером, в 9 часов, вблизи «Рюрика» показался свет: судно, возможно тот же парусник. Капитан тотчас приказал выстрелить из пушки — свет исчез; было сделано еще несколько залпов картечью в ночную тьму, не причинивших, надеюсь, вреда. Наверное, капитан поступил весьма благоразумно: в море, где действовали малайские пираты, при первом же подозрении он дал знать, что у нас есть пушки и что мы не дремлем. «Эглантина», идущая на полмили позади нас, приняла наши выстрелы за сигнал бедствия. Капитан Герин решил, что мы сели на мель, и из лучших побуждений изменил курс своего корабля, чтобы самому не попасть в беду. Сигналом мы подозвали «Эглантину» к себе, рассказали через рупор, что с нами произошло, и продолжили плавание, не теряя ее из виду. Более пространное описание этого происшествия можно найти в книге Коцебу («Reise». Bd. 2, с. 132), где говорится: «Твердо решив победить или умереть, я приказал...» и т. д. Отсылаю интересующихся к этому произведению{213}.
Днем 9 февраля с верхушки мачты был замечен остров Гаспар. Вечером мы поплыли в южном направлении вдоль его западного побережья и в полночь, когда он находился к северу от нас, стали на якорь. С рассветом «Рюрик» продолжал путь и уже в первой половине дня миновал пролив Гаспара. Побережье Банки и Суматры, вдоль которого мы шли в последующие дни, представляет собой низменность. Лес, обильно ее покрывающий, спускается к морю. Пальм в этом древостое мало.
В полночь 11-го мы стали на якорь, а утром, в половине пятого, вновь двинулись в путь. Утром 12-го мы плыли через зеленые луга — скопления свободно плавающих растений, предположительно древовидных; растеньица уже сбросили семенные коробочки. Ветер и течение собирали эти плавучие пастбища в длинные, извивающиеся реки. Вскоре показались Два Брата{214}. Эти островки, находящиеся недалеко от пологого берега Суматры, походят на коралловые острова Южного моря, но море возле них не пенится. Сперва нам показалось, что заросли ризофоры поднимаются прямо из воды. Мы проплыли между обоими островками и побережьем Суматры и в 7 часов вечера бросили якорь.
13-го с суши дул слабый, часто прекращавшийся ветер. Мы неоднократно бросали якорь, в последний раз очень близко от побережья Суматры. К северу за нами были видны три небольших, покрытых лесом островка, не обозначенных на карте. Хорошо просматривались Ява и стоящий у ее побережья большой корабль. Неподалеку от нас два рыбака в челноке удили рыбу. Приблизившись, мы подарили им несколько мелочей; они дружелюбно помахали нам и поплыли к берегу, откуда вскоре привезли огромную черепаху. Другая лодка доставила нам несколько черепах, а также кур, обезьян и попугаев. Островитяне хотели получить взамен пистолеты, порох или пиастры. Вся команда долго питалась черепашьим мясом, некоторые приобрели обезьян разных видов.
Среди этих обезьян (все они болели, и ни одной не удалось добраться в живых до мыса Доброй Надежды) была одна молодая, уродливая, шелудивая и очень маленькая. За это последнее качество матросы прозвали ее Эллиотом. Бедную сиротку очень жалели взрослые обезьяны; все они — самцы и самки — пытались ухаживать за ней, хотя сами принадлежали к другим породам. Помощника штурмана Петрова, хозяина Эллиота, владельцы других обезьян осаждали просьбами дать ее им поиграть. Петров охотно уступал и каждый день кого-нибудь осчастливливал. Эшшольц в своем описании путешествия отнес эту обезьянку к новому виду.
Мы везли из Манилы парочку обезьян распространенной на Лусоне породы. Они прекрасно себя чувствовали; резвились в снастях, как в родном лесу, и были нашими веселыми товарищами до самого Санкт-Петербурга, куда добрались счастливо и в полном здравии.
Я нахожу общение с обезьянами поучительным, ибо, как сказал Кальдерон (правда, об ослах), «они—почти люди». Обезьяны ведут себя очень естественно, а ведь это лежит и в основе поведения людей. Об этом хорошо знал Мазурье{215}, который играл Джоко, как Кин — Отелло. У обезьян, принадлежащих к одному виду, подобно людям, проявляется различие характеров. Как и в большинстве наших семей, хитрая самка правит домом, а самец подчиняется ей.
Относительно черепахи должен сообщить, что у последней, после того как ее убили и почти разделали, я обнаружил фосфорическое свечение; оно было особенно заметно на суставе передней лапы. На отрезанной шее тоже светились некоторые места — может быть, нервы? То, что светилось, можно было растереть пальцами — и в этом случае свечение сохранялось.
Когда мы собирались покинуть Китайское море, на «Рюрике» поймали крачку, а также пеликана, который уже побывал пленником на «Эглантине»; близ берега на борту появились бабочки и насекомые. Во время штиля в Зондском проливе наловили много морских червей; и здесь мы не нашли открытых Эшшольцем насекомых северных морей.
Возвращаюсь к нашей стоянке 13 февраля 1818 года. Вечером нас посетили моряки с «Эглантины». Мы распрощались друг с другом. «Рюрик» должен был быть в Европе раньше «Эглантины», но все же я передал капитану Герину несколько писем для родных.
Течение со скоростью два узла в час попеременно направлялось то в Китайское море при приливе, то в Индийский океан при отливе.
14-го ранним утром мы подняли якорь и при сильном течении прошли довольно близко от берега по проливу между островами Цупфтен [Зутфен] (их мы насчитали восемь) и скалами в Индийский океан. В 12 часов дня мы потеряли «Эглантину» из виду. Поскольку ветер заставил нас лавировать, мы увидели ее снова в 4 часа дня стоящей на якоре у острова Крокотоа [Кракатау]. 15-го вечером прошли пролив и острова. 16-го начал дуть постоянный восточный ветер. До сих пор нам ежедневно встречались три-четыре судна поодиночке или группами. 18-го уже не попалось ни одного корабля.
21 февраля солнце стояло в зените. Вечером этого дня в северной части неба был виден очень яркий огненный шар. В Атлантическом океане и других морях мне довелось наблюдать множество таких метеоров. Наука требует, однако, чтобы производились совпадающие, одновременные наблюдения одного и того же явления.
Что же касается моих наблюдений, то они не были подкреплены другими.
Поимка бониты обрадовала нас 3 марта. 4-го мы пересекли Южный тропик. Утром того же дня какой-то большой корабль пересек наш курс в северо-северо-восточном направлении. Вечером нам попалась крачка.
12 марта (29°19' южн. широты, 313°26' зап. долготы) к югу от Мадагаскара постоянный ветер прекратился. Грозы, сопровождавшиеся громом и молниями, штили и штормы сменяли друг друга. В очень темную ночь на 13-е мы едва не столкнулись с огромным кораблем. На этой широте нам еще встречались тропические птицы.
Равноденствие (20 марта) принесло штормы. С 14-го (первая лунная четверть) по.21-е (полнолуние) море постоянно было бурным, а порывы ветра — как никогда сильными (31° южн. широты между 318° и 325° зап. долготы). 22-го, в день пасхи, стояла прекрасная погода. Утром загарпунили превосходного дельфина неизвестного нам вида.
23-го при очень слабом ветре с верхушки мачты заметили на севере парусник. Вечером мы достигли меридиана Санкт-Петербурга. 27-го были уже у отмели, окаймляющей южную оконечность Африки, и течение быстро понесло нас на запад к намеченной цели. 29-го мы увидели сушу к западу от мыса Агулхао [Игольного]. В ночь с 30-го на 31-е вошли в Столовую бухту.
Тут старый Адамастор[20] обманул нас и навлек на нас, возможно, самую большую опасность за все время путешествия. Капитан Коцебу не знал Столового залива, и у него не было карты. Он пишет: «Будучи введен в заблуждение различными огнями на берегу, я попал не в то место, где обычно стоят корабли. Лишь с наступлением дня стало ясно, что мы бросили якорь не у Капштадта [Кейптаун], а в восточной части бухты, в трех милях от города». Перед нами на побережье, к которому мы направлялись ночью, но куда плыть нам воспрепятствовал ветер, как грозное предупреждение лежали обломки разбитых судов.
С юга дул штормовой ветер. Лоцман вывел «Рюрик» из опасного места и указал надежную якорную стоянку перед городом, где либо был штиль, либо слабый ветер с севера. Капитан поехал в город, а мне пришлось дожидаться его возвращения на «Рюрике». Я был как на иголках. Капштадт — это уже почти родина. Среди живущих здесь немцев мне предстояло найти следы дорогих моему сердцу людей; тут меня, возможно, ждут письма от близких; я рассчитывал встретить друга, Карла Генриха Бергиуса из Берлина, кавалера Железного креста, естествоиспытателя, который еще до начала моего путешествия отправился в Капштадт в качестве фармацевта. И когда я смотрел на город, который в это прекрасное утро постепенно выступал из окутывавшего его тумана и, полностью открытый взору, раскинулся передо мной вместе с высившейся над ним знаменитой красивой горной грядой, из-за леса мачт прямо к «Рюрику» направился маленький бот. Леопольд Мундт, еще один мой друг, ботаник из Берлина, бросился мне на шею.
Первое, что он сообщил мне, была весть о том, что любимый и чтимый всеми славный Бергиус скончался 4 января 1818 года. Прусское правительство направило сюда Мундта как естествоиспытателя и собирателя коллекций.
Как только вернулся капитан, я поехал с Мундтом; сперва мы направились на борт «Урании», которой командовал капитан Фрейсинэ. «Рюрик» возвращался из своего исследовательского плавания усталым и разочарованным, а «Урания» отправлялась в такое же путешествие полная надежд и готовилась покинуть гавань Капштадта. Капитана Фрейсинэ в это время на судне не было. Его офицеры, бывшие в то же время и учеными, пригласили нас к столу. Меня обрадовала возможность завязать с ними хотя бы мимолетное знакомство. Они предполагали посетить Гуахам [Гуам], а я мог немного рассказать им о том, что там еще предстоит сделать, и передать привет моему другу дону Луису де Торресу. Один из этих моряков служил вместе с одним из Шамиссо, который просил его, если он где-нибудь встретится со мной, передать мне привет от него и его семьи. Здесь я впервые встретил своего славного соперника и друга ботаника Годишо.
Затем мы вернулись на «Рюрик»; я собрал свои вещи и на все время нашего пребывания в Капштадте перебрался на берег к Мундту.
Приходится поневоле удивляться той активной деятельности, которую развертываешь, едва лишь твоя нога ступает на берег и ты наконец пробуждаешься от праздного сна, в котором пребываешь во время плавания. Исписать маленький листочек, прочесть десять строк — на корабле для этого с трудом находишь время, а когда ты его все же нашел, то оказывается, что тяжелые дневные часы прошли. А на суше все часы наполнены, на все находится время и на все хватает сил; не ведаешь ни сна, ни усталости. «Тело подчиняется разуму, забывая о своих потребностях»[21].
В Капштадте мы провели лишь восемь дней. Из них три дня бушевал сильнейший северо-восточный ветер, прервавший всякую связь между берегом и кораблем. Но меня он не смущал. Целые дни я проводил на природе, а ночью обрабатывал собранное и читал книги. Моими наставниками и спутниками были Мундт, местный фармацевт и естествоиспытатель Кребс и другие, в большинстве своем друзья незабвенного Бергиуса.
Мы совершили большую экскурсию на Столовую гору; поднялись на нее перед рассветом со стороны Львиной горы и темной ночью спустились по торной тропе в ущелье позади города. Мои усталые спутники тотчас же погрузились в сон и проснулись поздним утром. А я, перебрав собранные растения, всю ночь штудировал голландско-малайскую грамматику, первое руководство по малайскому языку, попавшее мне в руки, и получил начальное представление об этом языке, знать который мне хотелось затем, чтобы сравнить говоры Филиппин и островов Южного моря. Рано утром я уже собирал на берегу морские водоросли.
Из привезенных мною из Капштадта морских растений одно или, как мне представляется, два сыграли большую роль в науке, свидетельствуя о превращении одних родов и видов в другие роды и виды. Мне довелось написать за свою жизнь немало сказок, но в науке я остерегаюсь давать волю фантазии и выходить за пределы увиденного. В природе я разумом не могу найти никакого покоя, как это делают сторонники метаморфоз. Родам и видам должны быть присущи постоянство и устойчивость, или они вообще не существуют. Что же отличает меня, Homo sapiens (разумного человека), от животного, совершенного или несовершенного, если каждый индивид может, прогрессируя или регрессируя, переходить из одного состояния в другое? Я вижу в моих водорослях только Sphaerococcus, который вырос на Conferva не так, как растет на дереве омела, а как мох или лишайник[22].
Чтобы получить представление о мысе Доброй Надежды, Капштадте и его окрестностях, можно воспользоваться многими описаниями путешествий. Мне не хотелось бы умножать их число, и потому не буду пытаться заново воспроизводить этот в высшей степени своеобразный пейзаж. Ограничуcь лишь некоторыми дополнительными штрихами к известной картине. Нигде, кроме как на Капе, ботаник не встретит столь привлекательный и вместе с тем удобный для изучения растительный покров. Природа предлагает свои дары и глазу и руке ботаника в неисчислимом количестве и разнообразии; все для него достижимо. Луга и заросли Капштадта сулят ему удовольствие, чего нельзя сказать о лесах Бразилии с их расположенными на вершинах садами, созданными лишь для того, чтобы привести его в отчаяние.
В городе и на участке дороги, следующем вдоль подошвы горы, можно, как это ни досадно, встретить европейские пинии, серебристые тополя и дубы — повсюду человеку хочется принести с собой возможно бо́льшую часть родины. Но если сойти с дороги и подняться в горы, то трудно подобрать соответствующее выражение, чтобы охарактеризовать все многообразие и пеструю мозаику растительного мира. Вместе с Мундтом мы нашли на Столовой горе много до сих пор не встречавшихся растений. Мне, путешественнику, прибывшему сюда лишь на несколько дней, удалось обнаружить в этом одном из самых посещаемых в мире ботанических садов не описанные еще никем виды растений, причем для каждого времени года здесь характерна своя флора.
Массив Столовой горы широкими равнинами отделен от гор внутренних районов. Его можно рассматривать как самое северное предгорье, которое сохранилось от находившейся к югу страны, погрузившейся вместе со своими горами в море. Этот горный массив отличается от соседних горных цепей своей флорой, в которой различные роды и виды растений находятся в ином соотношении, сочетаются особым, характерным только для этого района образом; многие растения вообще, по-видимому, встречаются только здесь; например, широко представленную в наших ботанических садах протею (Protea argentea) можно найти только на Столовой горе, и легко представить себе, что по прихоти случая или по воле людей она перестанет расти здесь, на столь ограниченной родной почве, и сохранится лишь в наших оранжереях.
Когда я был в Капштадте, туда приехали растениеводы из внутренних районов, прослышав о том, что здесь находится новый «охотник за цветами». Они предлагали мне посетить их плантации. Каждый путешествуюший естествоиспытатель может быть уверен, что его весьма гостеприимно встретят во внутренних районах колонии{218}.
Ислам и христианство проповедуются на Ост-Индских островах одновременно, и миссионеры обоих вероучений состязаются на одном поприще. Казались странными разговоры о мусульманских миссиях на Капе. Мне рассказывали, что те, кто занимается этим, проникают сюда под видом торговцев и стремятся попасть в отдаленные районы колонии. Они адресуются преимущественно к рабам, обращая многих из них в свою веру. Бывают случаи, когда к ним примыкают свободные и белые. Повторяю здесь лишь то, что слышал, и не могу поручиться за истинность этих сообщений.
Вечером 6 апреля мне было приказано прибыть на судно. Но когда я поднялся на борт, оказалось, что нам дан еще один день, и я вновь отправился на берег. 7-го я совершил долгую экскурсию с Мундтом и Кребсом. Вечером они проводили меня на корабль. Мундт заночевал на «Рюрике». Когда утром 8 апреля мы проснулись, «Рюрик» уже шел под парусами, а стоявшие на рейде корабли остались позади. Капитан хотел отправить огорченного пассажира обратно со следующим судном, но в это время показался бот, и мы попросили его подойти. Владелец пожелал, чтобы ему заплатили сразу же наличными. Оказалось, что у Мундта не было ни денег, ни даже шляпы, и я выручил друга. Мы обнялись, Мундт прыгнул в бот. «Рюрик» на всех парусах вышел в открытое море.
От мыса Доброй Надежды на родину. Лондон. Санкт-Петербург
8 апреля 1818 года (по корабельному счислению) мы покинули Столовую бухту, 16-го на обычной трассе возвращающихся в Европу судов встретили пассат, 18-го— Южный тропик и 21-го достигли Гринвичского меридиана. Здесь мы скорректировали наше время и, перейдя на гринвичское, вместо «вторник, 21-го» написали «среда, 22-го».
24 апреля 1818 года мы увидели остров Св. Елены. Понятным было желание нашего капитана сделать остановку у скалы прикованного Прометея{219}. Великие державы имели на острове своих комиссаров. Поэтому было весьма естественно, что русское военное судно обратилось к русскому комиссару (графу Баллеману) с предложением доставить его депеши. Нас посетил английский бриг, курсировавший с наветренной стороны острова. Офицер, поднявшись на борт, взвел курок пистолета и прошел в каюту капитана. Просмотрев бумаги, он дал нам указание ночью (она уже приближалась) находиться вблизи острова, а утром направиться в Джеймстаун. Бриг дал сигнал. На берегу заработал телеграф; спустилась ночь.
Наутро мы поплыли к городу и к якорной стоянке. Послав пушечное ядро, просвистевшее перед носом корабля, береговая батарея дала нам понять, что дальше двигаться нельзя. Телеграф работал. От адмиральского судна отошел и направился к нам баркас. Мы хотели поплыть ему навстречу и легли на прежний курс, но батарея сразу же послала второе ядро. Поднявшийся на борт офицер сообщил, что отведет нас на рейд. Батарея, по его мнению, не имела полномочий стрелять в нас и больше этого не сделает. Мы поплыли с нашим провожатым к гавани, и тотчас же прогремел третий выстрел. После этого офицер сел в баркас и направился на свой корабль, чтобы положить конец недоразумению, которое могло объясняться лишь отсутствием губернатора, находившегося не в городе, а в своем загородном доме. Тем временем все стоявшие на рейде военные суда снялись с якорей и отплыли. Мы прождали до 12 часов; поскольку никаких известий так и не поступило, мы под пушечный выстрел спустили флаг и, потеряв около 18 часов, вновь взяли курс на Север.
Замечу попутно, что при такого рода беседе, которую с нами вела батарея, по морскому обычаю первое ядро посылают над кораблем, второе — через снасти, а третье — в каюту капитана. Батарея фактически трижды произвела «первый» выстрел, так и не сделав «второго». Впрочем, совершенно ясно, что в действиях сторожевого брига, адмиральского корабля и береговой батареи не было никакой согласованности, и ответственность за всю эту путаницу мы могли возложить только на губернатора.
В эти дни меня вызвал к себе капитан в связи с возникшим между нами недопониманием. Во время наших бесед похвальное чувство справедливости, присущее этому болезненно ранимому человеку, раскрылось в наилучшем виде. Он признал, что ошибался относительно меня, протянул мне руку и был готов взять половину вины на себя, с тем чтобы я признал другую половину. И действительно, я не вовремя противопоставил его чувствительности гордость и упорство. Все, что мне пришлось претерпеть, было забыто, и все недовольство утоплено в море.
30 апреля мы видели остров Вознесения и оставили его с запада. Даже черепахи, которых можно было найти на побережье, не заставили нас остановиться. На горах лежали облака. Встретилось множество птиц.
6 мая перед рассветом мы в четвертый и последний раз пересекли экватор. Этот день был торжественно отмечен. Не припомню, какую комедию представляли матросы. Наверное, тогда мои мысли были о другом.
Пассат прекратился, и на смену ему пришли легкие ветерки и штили. 5-го мы видели судно, а 8-го встретилось другое. Вечером этого дня лил проливной дождь, небеса словно разверзлись, гремел сильный гром.
12 мая подул северный пассат, не прекращавшийся вплоть до 26-го, когда ветер принял юго-восточное направление. Приблизительно с 22 до 30 мая мы пересекли Саргассово море (между 20° и 36° сев. широты и 35° и 37° зап. долготы). Такое название носит обширный плавучий луг, состоящий из водорослей, скопившихся неизвестно у какого скалистого берега, оторванных и унесенных сильными морскими течениями, которые образовали сбивший их в одну массу водоворот. Большинство водорослей принадлежало к одному и тому же виду. Этими короткими фразами хочу пояснить непосвященным смысл весьма распространенного названия. Сама же проблема требует больших раздумий и исследований.
После того как мы пересекли экватор, число встречавшихся нам ежедневно кораблей возросло. Мы часто поднимали свой флаг в знак приветствия, отвечая другим судам. 29 мая нам попалась плывущая по волнам бутылка, но мы ее не вытащили. Что было в записке, которая, возможно, была в нее вложена? 1 июня с американской шхуны у нас попросили сухари; эта просьба была удовлетворена.
3 июня 1818 года на пути нам встретился остров Флорес, самый западный из Азорских островов, и оттуда взяли курс на Канал [Ла-Манш].
5-го мы видели следы кораблекрушения, но не стали заниматься расследованием. Число судов еще больше возросло; многие следовали тем же курсом, что и мы; с некоторыми мы переговаривались.
15-го мы подошли к входу в Канал, но суши все еще не было видно. Показались суда английского флота. На «Рюрик» поднялся лоцман. Первым полученным мною известием было сообщение о смерти; в принесенной лоцманом газете печаталась заметка о предстоящем издании произведений покойной писательницы Сталь.
Вечер 16 июня застал нас на рейде Портсмута, где мы стали рядом с американским судном, уже встречавшимся нам в Хана-руру [Гонолулу] и Маниле. 17-го вечером мы были в гавани.
Первым делом я поспешил отправить в разные концы письма, предусмотрительно написанные в море. Я был на европейской земле, но не мог так быстро, как бы мне хотелось, получить вести от тех, благодаря которым лишь одно место на нашей планете желал назвать своей родиной. Хочу пригласить вас, друзья, на интермедию — сопровождать меня в короткой вылазке в Лондон. Но пока моя душа жаждала только одного — весточек от друзей, и покой я мог обрести лишь в родном Берлине.
В одном из отправленных мною с Канала писем я писал{220}: «Возвращаюсь к тебе немного усталый, но совсем не насытившийся этой поездкой и готовый при подходящих обстоятельствах вновь отправиться в дальние края и „сменить плащ“».
18-го утром я зашел в первую же попавшуюся мастерскую в Портсмуте, чтобы осведомиться относительно портного, сапожника и т. п. Меня спросили: «Что вам нужно?» — «Все — и я хочу поехать в Лондон дилижансом, отходящим завтра в четыре часа дня». Мне тотчас предложили на выбор материю, приклад, полотно, ситец. Мастера сняли мерки, примерили шляпы и сапоги, подобрали чулки, договорились о доставке. Меня обслужили в течение десяти минут. 19-го в половине четвертого мне доставили на «Рюрик» упакованный чемодан — все было сделано точно по мерке и образцам; белье сшито, помечено, выстирано и отутюжено. Раздражала только боязнь выпустить чемодан из рук, прежде чем товар будет оплачен.
В Англии рабочий день начинается, как правило, в 10 часов утра и заканчивается в 4 часа дня. Дилижанс, курсировавший между Портсмутом и Лондоном, отправлялся в 4 часа дня и прибывал в Лондон на другое утро в 10часов — деловой человек не должен терять даром ни минуты. Другой дилижанс, который ходит только днем, — для других пассажиров.
В 4 часа я уже сидел в дилижансе и смотрел на проносящиеся мимо с невероятной скоростью дорожные столбы, на ходу узнавая некоторые растения родной флоры, и мне казалось, что пурпуровая наперстянка кивает мне своими длинными кисточками.
На крыше (чуть не написал — на палубе) экипажа заняли места воспитанники морской школы, отправлявшиеся на каникулы. Юноши забавно демонстрировали свое искусство лазания по стремительно мчавшемуся дилижансу.
Я представился как титулярный ученый русской исследовательской экспедиции. Дорожные спутники оказали мне, иностранцу, такие знаки внимания, которых я не ожидал.
Ночью я спал крепчайшим, здоровым сном, но меня разбудили завтракать. Понимая мою сонливую беспомощность, люди были готовы всячески мне услужить. Полуоткрыв глаза, я как в вавилонском столпотворении перебрал все известные и неизвестные мне языки, прежде чем напал на тот, который понадобился в старой, доброй Англии.
Среди ехавших с нами учеников был один урожденный русский. Мне его представили, и с ним надо было говорить по-русски. Но этого я не мог сделать при всем моем желании.
Какая счастливая находка, какая жемчужина для хорошо вымуштрованной полиции! Человек без паспорта и без всяких бумаг направляется в столицу и, чтобы замаскироваться, выдает себя за русского, однако благодаря счастливой случайности обнаруживается, что он не понимает по-русски. Выдававшего меня смущения никто не замечал; мне верили на слово, и я чувствовал себя в безопасности, как чувствует себя у нас мошенник с фальшивым паспортом.
По незнанию в Лондоне я сошел в районе Сити, Флит-стрит, Бель-Совэдж-Инн, а мне нужно было попасть в район Вестминстера, Пикадилли. За семь дней, проведенных в Лондоне, я пережил и увидел больше, чем за три года пребывания на борту корабля в открытом море и у чужих берегов. Ведь Лондон наряду и попеременно с Парижем делает и определяет историю всего остального мира. Не буду описывать каждую птицу, которую я здесь видел.
В Лондоне я общался исключительно с учеными, а время проводил в музеях, библиотеках, садах и зверинцах. Даже если я привел бы простой перечень людей, которым обязан благодарностью, это завело бы меня слишком далеко. Библиотека Джозефа Бэнкса{221} была как бы моей штаб-квартирой. Роберт Браун{222}, ее директор, был исключительно внимателен ко мне. Мне выпала честь быть представленным Джозефу Бэнксу. Среди других я встретил у него капитана Джеймса Бэрни, спутника Кука в его третьем путешествии и автора «Хронологической истории открытий в Южном море»{223}, образцового произведения по своей научной основательности и редкому чувству здравой критики. Отважившись вступить в спор с таким человеком, как Джеймс Бэрни, по проблеме, «связаны ли Азия и Америка друг с другом или разделены морем», и доказав свою правоту, я возвысил себя в собственных глазах.
Однажды я ходил по музею с записной книжкой в руках, делая пометки о том, что меня особенно заинтересовало. Тем же весьма усердно занимался быстрый, подвижный человек; случай свел нас, и он заговорил со мной. По моим ответам он скоро понял, что я не англичанин, и спросил по-французски, владею ли я этим языком. Обрадовавшись, я от всего сердца воскликнул по-немецки: «Ведь это же мой родной язык!» — «Так давайте говорить по-немецки»,— продолжал по-немецки Гамильтон Смит{224}, и с этого часа он стал моим приятелем и ученым руководителем в тех музеях, которые мы договорились посетить совместно.
В Лондоне я познакомился с Кювье{225} и встретился там с профессором Отто{226}, который сообщил мне много новостей о родине.
Известный г-н Гуннеман{227} оказывал мне услуги и помогал во всех делах; он был моим советчиком, руководителем и переводчиком, уделяя мне большую часть своего драгоценного времени. Он помог достать все, чего недоставало в путешествии из приборов, книг, карт, и снарядил меня для возвращения на родину так, как полагалось быть оснащенным при отправлении в плавание. Разве тот, кому это покажется смешным, смог бы сделать лучше? Со мной всегда так: только в конце каждого нового этапа жизни, плохо ли, хорошо ли я его прожил, убеждаюсь в том, что обрел ту мудрость, которую следовало бы иметь в начале этого этапа, и что только на смертном одре я, вероятно, обрету наконец утраченную мудрость всей жизни. Но я нисколько не сожалею об этом, ибо мне всегда хватало и знаний, и воли, да, кроме того, и думаю, что со многими происходит то же самое.
Однако возвращусь к своим покупкам, на которые ассигновал примерно 100 фунтов стерлингов. В лице Эрроусмита я встретил достойного либерального ученого. Он сказал, что мы много сделали для него, и подарил мне карту, которую я хотел у него купить.
Поскольку последние годы я провел среди природы, то теперь чувствовал невыразимую, непреодолимую тягу к искусству, которое одухотворяет ее в соответствии с потребностями духовно развитых людей. Многие из считанных часов, проведенных в Лондоне, я посвятил умиротворяющему созерцанию картин Рафаэля и античных скульптур.
Французская реставрация, стремившаяся отречься от предшествовавшей ей недавней истории, свергала с пьедесталов памятники, стирала надписи и имена. Но общественное мнение Европы запретило ей уничтожать произведения искусства, беря их под защиту. Тогда она решила по крайней мере лишить родных корней этих носителей ненавистных воспоминаний и подбросить их в виде подарков иностранцам. Мне стало известно, что изваянный Кановой{228} «Наполеон» был передан лорду Веллингтону{229} и должен находиться в Лондоне. Я уже давно обратил внимание на статью, где говорилось об этом, и очень хотел бы увидеть, как Канова идеализирует императора, убедиться в том, сможет ли vieux sergeant de la garde (старый сержант гвардии), которому, как я знал, адресовано это произведение искусства, узнать в нагом греческом полубоге своего обожествленного petit caporal (маленького капрала).
— Здесь,— сказал мне Роберт Браун по дороге в Кью, куда он любезно меня сопровождал,— в этом доме, за этой дверью, находится статуя, о которой мы говорим.
Я ответил ему:
— Давайте же пойдем туда, постучим или позвоним; дверь откроют, и мы заглянем внутрь.
— Если вы хотите увидеть статую,— сказал хорошо знающий местные нравы и обычаи Браун,— то я напишу Джозефу Бэнксу; по его просьбе вы несомненно получите разрешение. Или же я напишу русскому и прусскому послам.
У меня не было привычки прибегать к серьезным средствам ради достижения весьма незначительных целей и применять систему блоков, чтобы поднять перо. Я отрицательно покачал головой, и мы пошли дальше.
Капитан Коцебу был в Лондоне одновременно со мной, но я видел его лишь мельком. Он установил контакт с русским послом, был представлен принцу-регенту и великому князю Николаю Павловичу. Он жаловался на то, что его время заполнено не тем, чем хотелось бы ему, и что он немногое увидел из того, что его интересовало.
Однако я — в Лондоне, а до сих пор ничего не сказал о нем. Можно ведь и в других местах найти коллекции по естественной истории и встретить ученых, готовых прийти на помощь иностранцу. Да и произведениями искусства многие города богаче Лондона.
Итак, я со знанием дела ходил по этому удивительному городу, который, находясь в состоянии возбуждения в связи с парламентскими выборами, раскрывал передо мной свою сущность. В Англии общественная жизнь развертывается публично со всем ей присущим: выборами, народными собраниями, демонстрациями и процессиями, всевозможными речами. То, о чем говорится за стенами, находит отзвук на улицах, которые в любое время дня переполнены зазывалами, людьми, выкрикивающими лозунги, распространяющими листовки, продающими газеты, а ночью светятся транспарантными изображениями и надписями. Стены лондонских домов с их политическими плакатами для иностранца, несклонного верить глазам своим,— это самая сказочная, удивительная, невероятная книга, которую он когда-либо видел. Здания берутся под охрану, а священные свободы предоставляют возможность любой силе, пусть даже разрушительной, действовать на открытом воздухе. Эти священные свободы, вероятно, позволят превратить столь необходимую, но слишком часто откладывавшуюся, перезрелую революцию, которую хотят осуществить в Англии, в спокойную эволюцию. На любой другой почве революция залила бы все отвратительной смесью из грязи и крови.
Герцог Веллингтон начал эту революцию не отвечавшим духу времени лозунгом: «No reform» («Никаких реформ»){230}. Он пустил корабль по воле ветра и течения, которые повлекли его неудержимо; тот же герцог взял теперь кормило государственной власти и собирается с зарифленными парусами провести корабль мимо скал, но в обратную, все время в обратную сторону от цели.
Будучи склонным к сравнениям, брошу взгляд сперва на Париж. Там las harizes del volcan (кратеры вулканов), предохранительные клапаны парового котла прикрыты. Общественная жизнь насильственно загнана в закрытые помещения и может вырваться наружу лишь в виде восстания или мятежа. На стенах Парижа рядом с театральными афишами можно видеть лишь объявления книготорговцев и другие, посвященные скорее частным делам. Тут купец расхваливает преимущества своего товара перед товарами соседа, там сеет мелкие раздоры, зависть и т. п.
За Рейном же еще не пробудились к общественной жизни, но то, что, несмотря на это, в Германии существуют деятельные, здоровые настроения, доказал 1813 год и будет доказывать каждый аналогичный этому звездный год. В Берлине на перекрестках можно еще прочитать афиши комедий и концертов, объявления о большом слоне, о силаче, вообще о зрелищах и, наконец, извещения о торгах и аукционах.
В Санкт-Петербурге никакой вид прессы не может демонстрироваться перед глазами народа. Стены содержатся в чистоте, а афиши комедий под полами шуб доставляются в те дома, где на них есть спрос.
Возвращаюсь к тому, с чего начал. На лондонских стенах я прочел плакат, в котором лорд Томас Кокрэн [Кокрейн]{231} прощался со своими избирателями из Вестминстера. Обрушив на головы министров поток ругани, он повел речь о герое, которого министры противозаконно держат в заточении на острове Св. Елены. Их самих, а не Наполеона следует держать в этой тюрьме. Надо его освободить, а их посадить за решетку. Если не найдется никого, кто решился бы это сделать, то это совершит он, лорд Томас Кокрэн.
В Лондоне сей воинственный манифест произвел не большую сенсацию, чем афиша оперы «Алсидор» в Берлине{232}. Таковы здесь нравы и обычаи.
Опоздав на полчаса, я не видел, как у избирательного помоста Вестминстера у Ковент-Гардена премьер-министра, выполнявшего свой долг избирателя, забросали грязью в знак протеста против его непопулярной политики; чисто народная забава, присутствовать при которой любознательный путешественник может считать для себя особой милостью судьбы.
Нам знакомы академические свободы молодежи, обучающейся в немецких высших школах, к числу которых принадлежит и метание в окно нелюбимому преподавателю различных предметов, что, правда, карается несколькими днями карцера, но отнюдь не рассматривается как заговор против церкви и государства. Однажды при таких обстоятельствах на письменный стол старого Иоганна Рейнгольда Форстера{233} брякнулся камень величиной с кулак; в гневе он схватил этот камень и, распахнув окно, швырнул его обратно с возгласом: «Его бросила лиса!»
Нечто похожее произошло в Лондоне, хотя и на английский манер, во время упоминавшихся выборов. Народ воспользовался своими бесспорными правами и неугодного ему кандидата на министерский пост забросал грязью. И тут не обошлось без камня, по крайней мере пострадавший утверждал, что в него попали камнем, отчего он и слег. По этому случаю были выпущены бюллетени, и сдается, что роковой камень был уравновешен голосами, полученными раненым. Когда я подходил к помосту, его соперник произносил речь, в которой касался этого происшествия. Он заявил, что тот, кто бросил камень, не мог быть англичанином — шумные аплодисменты собравшихся заглушили голос оратора.
26 июня 1818 года в 4 часа дня Гуннеман проводил меня к дилижансу, отправлявшемуся в Портсмут. Мои покупки, заботливо им упакованные, заполнили объемистый ящик, который я предусмотрительно с собой взял. Я обнял отныне незабвенного земляка и попрощался с мировым центром — Лондоном.
27 июня я был в Портсмуте. Писем для меня там не было; ни привета, ни весточки о дорогих мне людях в Англии я не получил.
29-го «Рюрик» вышел на рейд, а 30-го отплыл. 1 июля мы прошли Дуврский пролив; 2-го потеряли из виду землю; 10-го увидели Ютландию; 11-го прошли Зондский пролив и 12-го были у Копенгагена. Нам предстояло без остановок следовать дальше, но прекратившийся ветер решил иначе. Мне удалось на часок выбраться на берег. Здесь я получил первый привет с родины и обнял старых друзей.
13-го «Рюрик» поднял якоря, а 23-го вошел в гавань Ревеля, где капитан Коцебу намеревался встретиться с Крузенштерном. Но тогда его не было в городе, а прибыл он лишь на третий день. 27-го мы отплыли и 31 июля были в Кронштадте; 3 августа 1818 года «Рюрик» бросил якорь в Санкт-Петербурге на Неве у дома графа Румянцева.
Граф находился в своих поместьях в Малороссии, и пришлось ждать его возвращения, чтобы ликвидировать тот маленький мирок, который так долго сплачивало его имя. Крузенштерн прибыл примерно спустя две недели после нас. Несколько комнат верхнего этажа особняка графа Румянцева были отведены для капитана Коцебу, его офицеров и пассажиров. Меня гостеприимно приютил один здешний немец, товарищ по университету{234}. Я покинул «Рюрик».
Однако у меня не было паспорта, а здешняя полиция о том, что касается иностранцев, проинструктирована значительно лучше, чем английская. Временно я находился под защитой посольства Пруссии, и — чего нельзя уладить, когда есть друзья!
Тогда мне хотелось как можно скорее покинуть Санкт-Петербург. Меня влекла к себе другая страна, ставшая моей родиной, я мечтал вернуться в Берлин.
В Санкт-Петербурге я много общался с немцами и мало разобрался в русской жизни. Поэтому ограничусь лишь беглыми замечаниями о внешнем облике города, к чему побуждает меня желание сравнить его с Лондоном.
Лондон соответствует понятию «большой город», представляя собой гигантский человеческий муравейник или гигантский человеческий пчелиный улей, при сооружении которого неравные силы заняли неравные ячейки сот. Нужда соединила людей в одном месте; сообразуясь с ней, они и строили; закономерность, проявлявшаяся как случайность, определила планировку, не позволив взять верх стихии. Если город кое-где и украшен, то это свидетельствует о том лишь, что украшать вообще свойственно людям.
Санкт-Петербург — это задуманная в широких масштабах и великолепно выполненная картина. Судоходство, оживляющее море между Кронштадтом и устьем Невы, определяет место, где живет множество людей и ведется оживленная торговля. Но когда попадаешь непосредственно в город, видишь, что народ теряется в широких, бесконечно длинных улицах, а на мостовых меж камней растет трава. Картина — в узком и широком смысле; видимость была сущностью всего. Украшения города выполняются из самых благородных материалов — чугуна и гранита. Однако местами обнаруживаешь, что для сохранения непрерывности гранит закрашивают черным под чугун, а чугун — в цвета гранита, и каждые три года город окрашивается заново.
С монументами, которые народ должен почитать как святыни, обращаются не всегда почтительно. Румянцевская колонна{235}, например, была перенесена с одного берега Невы на другой, поскольку там она смотрится лучше; из тех же соображений было внесено предложение передвинуть статую царя Петра Великого с того места, на котором она сейчас стоит, на другое. Как мне ни больно, но должен резко осудить подобное неуважение к святыням, которое допускается и на моей родине. Ибо что такое памятник? Клочок земли посвящается памяти какого-либо человека или события; потом там устанавливают камень и секут детей около этого камня, приговаривая: «Помните о том-то и о том-то». У людей сага, устное предание связаны с определенным событием — это, по существу, и есть монумент. То, что научились высекать на камне и самому камню придавать черты того или иного человека,— уже дополнения, лежащие за пределами сути. Сдвиньте камень с его места, и он будет только камнем, как и другие лежащие на земле камни. Передвиньте памятник с его места — и вы лишите его художественной ценности, у вас будет просто еще одно изображение, каких и без того много в ваших музеях и какие раньше были божествами в храмах. Не прикасайтесь к народным памятникам, не прикасайтесь к статуям ваших героев! Место, где они стоят, принадлежит им, вы больше не имеете на него права. Воздвигайте монументы в тех местах, где их удобно обозреть, а не для пустого украшательства. Тщательно выбирайте место, ибо его нельзя менять как заблагорассудится!
Граф Румянцев прибыл в Санкт-Петербург в первых числах сентября. Мне, как и каждому из нас, было предложено сдать книги и инструменты, полученные из фондов экспедиции. Но все собранное мной принадлежало мне. Я имел возможность завершить все необходимые отчеты и письменные материалы в Берлине. «Рюрик» был продан.
А теперь позвольте мне, уже собравшемуся в путь, еще раз обратить свой взор к людям, в обществе которых я так много пережил и узнал. Записки капитана Коцебу «Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 годах» (второе путешествие, которым он командовал, и третье, в котором участвовал) не раз упоминались на этих страницах. Они привлекли особое внимание из-за содержавшихся там нелестных оценок деятельности миссионеров на островах Южного моря. Хромченко командовал судном в северной части Южного моря и в 1830 году прислал мне дружеский привет из Бразилии. Остальных моряков я уже не могу разглядеть в море человеческих судеб. Из тех членов нашего экипажа, которые находились в одинаковом со мной положении, я, самый старший, остался в одиночестве. Эшшольц, профессор Дерптского университета, сопровождал капитана Коцебу в его новом путешествии. Он посетил меня в Берлине в 1829 году, где издал свой важный труд «Систематика медуз» («System der Akalephen»), Через несколько месяцев его не стало{236}. Хориса я встречал в 1825 году в Париже, где он занимался своим искусством. Вскоре после этого он отправился в Мексику: по дороге между Санта-Крусом и Мехико на него напали разбойники и убили. Лейтенант Вормскьёлль в Копенгагене ушел от мира, погрузившись в глубокую меланхолию.
23 сентября 1818 года мои ящики были погружены на борт судна «Астреа» под командованием капитана Бреслака. Различные обстоятельства задерживали отплытие. В Кронштадте пришлось еще несколько дней дожидаться попутного ветра.
Метаморфозы, которые происходят с насекомыми, можно проследить и на человеке, только в обратном порядке. В юности у него крылья, потом он их сбрасывает, чтобы, как личинка, питаться листом, к которому прикреплен. Я находился на переломном рубеже. До моего сорокалетия оставалось два с лишним года, я хотел сложить крылья, пустить корни, основать семью; или же вновь расправить крылья и отправиться в новое путешествие за пределы Европы, более основательно подготовленное, и сделать для науки то, что не сделал в первом. Эта демократическая эпоха, когда в истории, равно как в науке и в искусстве, вместо отдельных властителей на сцену выходят массы, эта эпоха дает каждому, кто к этому стремится, надежду действовать среди народа и с народом, там, где раньше чтили лишь выдающихся вождей, ниспосланных богом.
17 октября «Астреа» прибыла на родину.
На этом завершается целый этап моей жизни. В качестве продолжения дарю вам, друзья, книгу своих стихов. В ней я собрал и сохранил ради собственного удовольствия все цветы моей жизни, хотя стебли их засохли.
Пусть же эти строки, написанные по возвращении на родину, завершат книгу и, может быть, послужат введением к новой.
Приложение
Каду
В начале 1817 г. в самой восточной части этой провинции на группах Отдиа и Кавен [Малоэлап] островной цепи Радак мы познакомились и подружились с живущим там очень милым народом. Когда мы подошли к группе островов Аур, навстречу нам отправились в своих лодках островитяне и, после того как мы бросили якорь, поднялись на борт «Рюрика». Вперед выступил человек, во многом непохожий на остальных. У него не было такой равномерной татуировки, как у радакцев, а лишь неясные изображения рыб и птиц, порознь или рядами, около колен, на руках и на плечах. Он более коренаст, чем они, кожа светлее, а волосы курчавее. Он заговорил с нами на языке, отличном от радакского и на слух для нас совершенно чужом. Мы тщетно пытались беседовать с ним на языке жителей Сандвичевых [Гавайских] островов. Он дал нам понять, что намерен остаться на корабле и сопровождать нас в дальнейшем путешествии. Его просьба была охотно удовлетворена. С этого часа он все время был на борту «Рюрика». Лишь один раз он отправился на Аур. Он находился на равных правах с офицерами, был нашим верным и всеми любимым спутником до того, как мы вернулись на Радак, когда он быстро изменил свое намерение и решил поселиться там, чтобы хранить и распределять наши дары среди бедных островитян. Не было никого, кто бы больше, чем он, проникся гуманным духом нашего дела.
Каду был уроженцем островной группы Улле [Волеаи], расположенной к югу от Гуахама [Гуама]. Хотя и не знатного происхождения, он был доверенным лицом своего короля Тоуа и исполнял его поручения на других островах. Во время своих поездок он ознакомился с островными группами, с которыми поддерживает отношения Улле: на западе — до островов Пелеу [Палау], на востоке — до Сетоана. Во время последней поездки от Улле до Фейса буря сбила с намеченного курса лодку, в которой находились Каду, два его земляка и вождь с Эапа, намеревавшийся вернуться на родину. Если верить их ненадежному календарю, попавшие в беду островитяне блуждали в открытом море восемь лун. На три луны им хватило скудного запаса продовольствия, расходуемого ими очень строго, а в течение пяти лун они питались только пресной водой и выловленной рыбой. Чтобы удовлетворить жажду, Каду нырял глубоко в море и зачерпывал скорлупой кокосового ореха более холодную и менее соленую, как им казалось, воду. Северо-восточный пассат занес их наконец к группе Аур островной цепи Радак, причем они полагали, что все еще находятся к западу от Улле. От одного старика с Эапа Каду слышал о Радаке и Ралике: однажды мореплавателей с Эапа занесло на Радак, на группу Аур, откуда они через Нугор и Улле вернулись обратно на Эап. Названия Радак и Ралик были известны и одному уроженцу острова Ламурек, которого мы встретили на Гуахаме. Лодки с Улле и окружающих островов часто заносило на восточные островные цепи, и на южной группе Арно, относящейся к цепи Радак, еще живут пять человек из Ламурека, испытавшие ту же участь и попавшие туда тем же путем.
Радакские вожди защищали пришельцев от тех своих дурно настроенных сородичей, чью алчность привлекало железо чужаков. У вождей часто можно заметить благородные побуждения.
Жители Улле, уровень благосостояния которых выше, да и связи более обширные, чем у радакцев, во многих отношениях их превосходят. Каду пользовался на Радаке некоторым уважением. К тому времени, когда мы посетили эти острова, он жил там около четырех лет. На Ауре у него было две жены; дочь от одной из них уже начала говорить.
Наше прибытие на Аур, где о нас прежде ничего не знали, вызвало ужас и изумление жителей. Много повидавший Каду тогда находился на одном из отдаленных островов группы. Его сразу же привезли: нужен был совет, как встретить могущественных чужеземцев, которых склонны были рассматривать как людоедов.
Каду многое знал о европейцах, хотя и ни разу не видел их кораблей. Он ободрил своих друзей, предостерег их от воровства и проводил на «Рюрик», твердо решив остаться у нас и надеясь с нашей помощью вернуться на родину, поскольку однажды, пока он отсутствовал, на Улле побывал европейский корабль.
Бывший с ним земляк и товарищ по судьбе тщетно пытался уговорить Каду изменить свое решение, а друзья напрасно старались запугать; ничто не могло его поколебать. Такое же решение принял и такие же надежды питал другой спутник Каду — вождь с Эапа, которого мы встретили в свите короля Ламари на Удири-ке [Утирике]. Он был уже немощным старцем, и его просьбу отвергли, однако долго не удавалось заставить его покинуть корабль. Весь в слезах, он убеждал нас оставить его. Мы ссылались на его возраст и на трудности, с которыми связано наше путешествие; он настаивал на своем. Мы говорили, что наши запасы строго рассчитаны на определенное число людей. Тогда он предложил высадить нашего друга Каду, а взять его самого.
Заслуживает похвалы та легкость и искусство, с которыми Каду приспособился к нашей среде. Новые условия для него были необыкновенно трудными. Будучи простолюдином, он внезапно был перенесен в круг столь превосходящих по могуществу и богатству чужеземцев, которые, однако, относились к нему как к почетному лицу, и простые матросы обслуживали его как высокого начальника. Не будем умалчивать о некоторых промахах, допущенных им вначале. Он сам исправлял их быстро и легко, не вызывая серьезных нареканий. Когда, вскоре после того как он обосновался у нас, на «Рюрик» прибыли радакские вожди, он выступил против них, причем жестикулировал и вел себя так, как подобало только вождям. В ответ он заслуженно получил безобидную издевку. Больше это не повторилось. Вначале Каду старался подражать походке и манерам капитана, но вскоре перестал это делать. Неудивительно, что на первых порах он смотрел на матросов как на рабов. Однажды он приказал вестовому принести ему стакан воды; тот спокойно взял его за руку, привел к бачку с водой и дал ему ковш, которым все пользовались, Он пришел в себя, понял, что за отношения существуют у нас, проникся духом наших нравов, быстро приспособился к ним, усвоил внешние правила поведения в повседневном общении.
Мало-помалу Каду познакомился с нашими горячительными напитками. Следует заметить, что поначалу матросы угощали его водкой. Когда же один из матросов был за это наказан, Каду разъяснили, что матрос виновен в том, что тайно пил огонь (так Каду называл водку). Больше он ни разу не пил водку, да и вино употреблял умеренно. Вид пьяных на Уналашке побудил его следить за собой. Вначале он по обычаю Эапа вызывал для нас попутный ветер; мы смеялись, и скоро он сам стал смеяться над этими заклинаниями и потом повторял их только в шутку, желая нас позабавить.
У Каду были хороший характер, смекалка, чувство юмора; чем ближе мы узнавали друг друга, тем больше он нам нравился. При его милом характере нам все же приходилось бороться с присущей ему леностью, которая не отвечала нашим требованиям. Больше всего он любил петь или спать. Когда мы расспрашивали его об островах, на которых он бывал или о которых знал, Каду отвечал на вопросы, если же его переспрашивали, он больше не отвечал, заявляя, что уже сказал все, что нужно. Если в ходе разговора мы обращали внимание Каду на то новое, о чем он умолчал ранее, он невозмутимо говорил: «А ты меня раньше об этом не спрашивал». Память у него была нетвердая. Воспоминания оживали постепенно, в зависимости от вызвавших их событий, но мы заметили вместе с тем, что обилие и многообразие объектов, привлекавших его внимание, сглаживали у него прежние впечатления. Песни, подхваченные им у народностей, среди которых он жил, и исполнявшиеся им на разных языках, служили ему одновременно книгой, откуда он черпал сюжеты для своих рассказов.
На корабле Каду вел своеобразный дневник по лунам, для чего завязывал узлы на веревке. Мы заметили, что он делал это очень неаккуратно, и поэтому не могли полагаться на его счет.
Нельзя сказать, что Каду был неспособен к учению или нелюбознателен. Казалось, он хорошо понимал то, что мы ему рассказывали о форме и строении Земли, о нашем мореходном искусстве. Но у него не было настойчивости, напряжение утомляло его, и он стремился ускользнуть к своим песням. Поняв тайну письма, Каду постарался постичь его, однако эти попытки были для него трудны и не дали особых результатов. Все, что ему рассказывали с целью пробудить его энергию, часто совершенно отнимало у него охоту. Он прерывал, а потом вновь возобновлял учение и наконец совершенно от него отказался.
Складывалось впечатление, что он хорошо схватывал то, что мы ему рассказывали об общественном порядке в Европе, о наших нравах, обычаях, искусстве. Лучше всего Каду воспринимал мирный, сулящий приключения замысел нашего путешествия, с коим он связывал намерение передавать народам, с которыми мы вступили в контакт, то, что идет им на пользу и служит их благу, понимая под этим прежде всего пищу. Он хорошо усвоил, что наше превосходство основывается на более обширных знаниях, и поэтому относился с уважением к нашим исследованиям и по возможности содействовал нам, даже если наиболее образованным из нас они казались не заслуживающими внимания.
Когда мы прибыли на Уналашку и Каду увидел эту голую, безлесную землю, он тотчас же обратился к нам с предложением посадить там в подходящих местах кокосовые орехи, имеющиеся на «Рюрике» (к ним он хотел добавить и свои собственные). Он даже требовал, чтобы мы это сделали, ссылаясь на то, что в этом нуждаются здешние жители, и весьма неохотно согласился с нашими доводами о том, что сие совершенно напрасно.
Его внимание привлекала прежде всего природа. На Уналашке он с любопытством наблюдал за рогатым скотом, припомнив, что еще раньше видел коров на островах Пелеу. Многие часы он проводил на пастбище. Но ничто его так не веселило, как стада морских львов и котиков на острове Св. Георгия.
Когда, вернувшись с острова Св. Георгия на корабль, мы беседовали о морских львах, причем Каду сам потешался и потешал нас, искусно подражая их движениям и голосу, его с серьезным видом спросили, видел ли он на прибрежных скалах их гнезда и яйца. Сколь неискушенным ни был Каду в вопросах зоологии млекопитающих, он сразу понял скрытую в этом вопросе шутку и весело рассмеялся вместе со всеми.
Подобно тому как во время плавания Каду тщательно собирал и заботливо хранил ненужные нам куски железа, осколки стекла и все, что казалось нам ненужным, но могло представлять ценность для его земляков, так и на Уналашке он отыскивал на берегу камни, которые можно было бы шлифовать.
Только один раз мы видели этого добродушного, кроткого человека в состоянии сдержанного гнева, даже ярости. Это случилось, когда он напрасно искал свои камни в укромном месте на «Рюрике», где он хранил их, а на его жалобы относительно пропажи никто не обратил особого внимания. Естественно, он счел себя оскорбленным.
Несмотря на свою бедность, Каду был весьма щедр и умел быть признательным. Он оказывал услуги тем из нас, от кого получал подарки, и, когда мы были на Ваху, воспользовался возможностью разумно продать разные мелочи, которые ему дарили, и преподнести всем, кто делал для него приятное, подарки, причем каждому такой, какой, по его мнению, ему понравится. Себе он оставлял лишь то, что могло обогатить или порадовать его земляков. Так, он раздал своим друзьям на Радаке все, что имел, оставив себе только одну драгоценность— ожерелье, которое долго носил, будучи на корабле. Однажды со слезами на глазах он поведал нам тайну этого ожерелья. На Табуаи (остров группы Аур цепи Радак) он бок о бок со своими новыми друзьями сражался против врагов, напавших с островов Медуро [Маджуро] и Арно. Он победил врага, готовясь пронзить его копьем. Однако в последний момент его руку схватила прибежавшая откуда-то дочь побежденного. Каду подарил ей жизнь отца, а она обещала ему свою любовь; он, мужчина, взял с собой драгоценный дар и теперь в память о девушке носил этот залог любви, полученный от нее на поле битвы.
Хочется отметить в характере Каду два превосходных качества: отвращение к войне, человекоубийству и застенчивость, даже стыдливость, которая так его украшала и которой он, живя среди нас, ни разу не изменил.
Каду ненавидел кровопролитие, но трусом не был. Грудь его была в шрамах от ран, полученных в оборонительной войне на Радаке. Когда, готовясь к высадке на остров Св. Лаврентия, мы вооружились, сказав Каду, что сделали это не потому, что хотим напасть на островитян, а в целях самообороны, поскольку будем иметь дело с людьми, настроение и образ мыслей которых нам неизвестны, хотя мы и стремимся установить с ними выгодные для обоих сторон отношения, Каду попросил дать ему оружие — саблю, поскольку на Уналашке он еще не научился хорошо стрелять. Если потребуется, он будет сражаться рядом с нами. Он придерживался мнения, которое составил себе еще на Эапе: седина появляется лишь у людей, переживших ужасы войны.
В отношении к другому полу Каду проявлял щадящую мягкость. Он никогда не приближался к женщине, принадлежавшей другому мужчине. У него всегда было правильное представление о приличиях. То, что Каду узнал на Ваху, было ему противно, и он открыто осуждал это, находя безнравственным. Даже в свободном мужском разговоре он никогда не выходил за рамки приличий.
Самое большое понимание и способность к шуткам мы встречаем у тех народов, которые теснее других связаны с природой, там, где мягкий, теплый климат позволяет вести легкую жизнь, полную удовольствий. Каду особенно любил шутку, но даже в шутке не переходил границы. С помощью небольших услуг или подарков он умел быстро успокаивать тех, над кем весьма удачно подшучивал.
Во время путешествия наш друг неоднократно напоминал нам, что намерен оставаться у нас до тех пор, пока не достигнет цели, и что не покинет «Рюрик», даже когда мы попадем на его любимую родину Улле. Он решил сопровождать нас в Европу, где мы должны будем помочь ему вернуться домой на одном из русских торговых судов, регулярно совершающих рейсы на острова Пелеу, где часто бывают лодки с Улле. Мы в это время сами еще не знали другого пути через Гуахам. Но Каду лелеял надежду (и она сбылась на Гуахаме) получить на одном из известных ему островов — Эапе — сведения о теперешнем местопребывании властителя этого острова, его товарища по несчастью на Радаке. Тогда его люди построят судно и заберут Каду. Эта мысль занимала его все время.
Мы старались собрать на Ваху полезных животных, саженцы и семена нужных растений и затем попытаться распространить их и на Радаке. Каду знал, что мы намереваемся направиться туда, но настаивал на своем. Мы потребовали, чтобы он учился здесь всему, что может оказаться полезным на Радаке. Тогда он сможет обо всем рассказывать нашим друзьям и научить их извлекать пользу из наших даров. Каду как будто понимал наши намерения, но цель их была ему еще неясна. Присущие ему легкомыслие и беззаботность привели к тому, что он очень нерадиво использовал свой досуг, о чем сам впоследствии сожалел[24].
Мы направились на Радак и высадились на Отдиа, к большой радости тех немногих мужчин, которые не ушли на войну. С этого момента Каду был самым неутомимым нашим помощником. Он помогал сеять, сажать, ухаживать за животными, рассказывать и показывать островитянам все, что им необходимо знать и уметь. Но он еще не менял своего намерения остаться с нами.
Когда на Отдиа было сделано все необходимое, Каду отправился на Ормед, остров старого вождя Лаергаса, чтобы возделать там участок. В этой поездке на радакских лодках его сопровождал только автор этих строк. Дневные часы на Ормеде мы отводили работе, а вечерние— приятному общению. Женщины пели много песен, посвященных нам и сложенных во время нашего отсутствия. Так наши имена сохранялись в их памяти. Каду рассказывал им о своих странствиях, вплетая в повествование забавные небылицы; он раздавал подарки, приготовленные во время путешествия. На другой день— последний день нашего пребывания на Радаке,— когда на лодке, которая должна была доставить нас на «Рюрик», уже был поднят парус, Каду, чье веселое настроение сменилось спокойной серьезностью, заявил, что остается на Отдиа и дальше с нами не поплывет. Каду уполномочил своего друга сообщить капитану об этом новом решении и, предупреждая возможные возражения, изложил свои доводы. Он остается на Отдиа, чтобы заботиться о животных и растениях, которые без него погибнут и не принесут пользы невежественным людям. Он хочет, чтобы наши дары обеспечили бедных радакцев пищей, чтобы этим людям не приходилось из-за нужды убивать своих детей. Он хочет способствовать восстановлению мира между южными и северными группами Радака, чтобы люди больше не убивали друг друга. Когда животные и растения размножатся в достаточном количестве, он хотел бы построить корабль, отправиться на Ралик и там распространить наши дары. Он хочет, чтобы капитан, которому он вернет все полученное от него, дал бы ему лопату и кое-что из необходимых инструментов. Принадлежащее ему железо он хочет спрятать и, если удастся, спасти от могущественного Ламари. Он рассчитывает, что все эти замыслы ему поможет осуществить его земляк с Аура. Этот земляк должен привезти ему его дитя, дочь, которая после отъезда Каду, как ему стало известно, очень грустила, не могла спать. У его жены теперь другие мужья, и он должен был заботиться о своем ребенке.
Каду сожалел о том, что на Ваху он упустил время и не научился многим полезным вещам, например плетению. В последние минуты Каду старался получить от нас как можно больше советов.
Лодка, на которой мы, борясь со встречным ветром, плыли к своему кораблю, была ненадежной, и солнце уже клонилось к горизонту, когда мы поднялись на «Рюрик», где, к счастью, находился и капитан. Когда стало известно о новом решении Каду, он вскоре неожиданно для себя стал обладателем бесчисленных богатств, таких, которые в этой части света служат «объектом вожделения властителей и народов»[25]. Наша любовь к нему теперь проявилась открыто; каждый стремился пополнить из собственных запасов собранные для него железо, инструменты и другие полезные предметы.
Каду увязал свою постель, одежду, белье, отныне ему принадлежавшие, заботливо отложил зимнюю одежду и преподнес ее в подарок матросу, который его обслуживал; правда, тот отказался ее взять.
Солнце уже зашло, когда Каду с его богатством был доставлен на берег. Нехватка времени не позволила составить и передать ему какое-нибудь письменное свидетельство. Была только выбита надпись на медной дощечке, которую прибили к кокосовой пальме на Отдиа. Там указаны название корабля и дата нашего пребывания. Собравшимся жителям Отдиа мы представили Каду как нашего человека, которому приказано наблюдать за животными и растениями и, кроме того, распоряжаться нашими подарками Ламари. Мы обещали также, что через некоторое время вернемся на Радак повидать его и потребовать отчета. Чтобы подкрепить это обещание и в знак нашего могущества, вернувшись ночью на корабль, мы дали два пушечных залпа и выпустили ракету. Когда утром мы подняли якорь, наш друг и спутник был на берегу и занимался животными, часто обращая к нам свои взоры.
Адельберт Шамиссо и его кругосветное путешествие
Русская кругосветная экспедиция 1815–1818 гг. под руководством О. Е. Коцебу занимает видное место в мировой летописи великих географических исследований и открытий. Трехлетнее плавание вдали от родных мест увенчалось многими важными находками. Был выявлен ряд принципиальных особенностей географии Тихого океана, его островов и материкового обрамления. Наиболее ценные сведения были получены по северным районам океана — Берингии, Аляске, Алеутским островам, Чукотке, Камчатке. Экспедиция впервые обследовала и нанесла на карту обширную центральную территорию Тихого океана между экватором и 12° с. ш., 170° и 150° з. д. Итоги этого кругосветного плавания были опубликованы в трех томах под названием «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода в 1815— 1818 годах». Первые два тома, принадлежащие перу О. Е. Коцебу, вышли в свет в 1821 г. и с некоторыми сокращениями переизданы в 1948 г. в однотомнике под названием «Путешествия вокруг света».
Помимо навигационных, общегеографических и картографических задач, с которыми успешно справлялся сам О. Е. Коцебу и его ближайшие помощники из состава экипажа, экспедиция занималась и более глубокими, естественнонаучными проблемами, связанными прежде всего с детальной характеристикой органического мира океана, его островов и побережий, а также с проведением специальных наблюдений (погода, рельеф и грунты морского дна и берегов и т. д.). Эти работы подготовили благодатную почву для классических исследований Ч. Дарвина, выполненных во время плавания на «Бигле» в 1831–1835 гг.
Для выполнения научных работ в состав экспедиции О. Е. Коцебу были приглашены естествоиспытатели. И среди них известный немецкий писатель и ученый Адельберт Шамиссо (1781–1838), родом француз, прославившийся романтической повестью о Петере Шлемиле, человеке, потерявшем свою тень. В творческом наследии этого писателя заметное место занимает его «Путешествие вокруг света», воссоздающее картину деятельности русской экспедиции на широком историческом фоне. Эта книга никогда раньше не переводилась на русский язык и впервые предлагается вниманию читателей нашей страны. Естественно, необходимо при этом представить автора книги и рассказать об истории ее создания.
Жизненный путь Адельберта Шамиссо был отнюдь не прост и не легок. Выходец из среды французского дворянства, он вместе с родителями был вынужден покинуть отчий кров в начале революции в 1792 г. После долгих скитаний за рубежом семья Шамиссо осела в Пруссии. Паж королевы, гимназист, лейтенант пехотного полка — таковы этапы раннего периода жизни, на первый взгляд довольно обычной для юноши из дворянской семьи. Однако живой ум молодого человека, его ищущая душа изогнули прямую линию его судьбы. Шамиссо рано проявил глубокий интерес к литературе и гуманитарным наукам. Его кумирами становятся Кант, Вольтер, Дидро, Шиллер и, конечно, Руссо. В Берлине Шамиссо посещает кружки, в которых обсуждаются литературные, философские и социальные проблемы. Он завязывает знакомства с интересными людьми, среди которых писатели Эдуард Хитциг и Карл Август Варнхаген Энзе, географ Юлиус Клапрот, врач Фердинанд Кореф и др.
В этом окружении Шамиссо делает первые шаги на литературном поприще, пишет драму «Фауст» и вместе с Варнхагеном Энзе выпускает ежегодник «Альманах муз», который просуществовал всего три года (1804–1806).
Между тем политическая атмосфера в Пруссии накалялась. Жестокое поражение в войне с Францией и оккупация Берлина наполеоновскими войсками в 1806 г. были остро восприняты молодым Шамиссо. Он оставляет службу в армии и решает навестить родственников во Франции, а вернувшись через несколько месяцев в Германию, не застает в живых отца и мать — они умерли за несколько недель до его приезда. К этому времени в изменившейся обстановке рассеялся и круг друзей юности.
Оставшись в полном одиночестве, Шамиссо некоторое время пребывает в растерянности, но вскоре получает приглашение занять должность преподавателя лицея во французском городке Наполеонвиле. Он вновь уезжает во Францию (в 1810 г.), но по роковому стечению обстоятельств места там так и не получает. Шамиссо вынужден зарабатывать на жизнь преподаванием языков и переводами в Париже. Здесь он встречает некоторых старых берлинских друзей, а также знакомится со знаменитым естествоиспытателем Александром Гумбольдтом.
Случай ввел Шамиссо в кружок французской писательницы Жермены Сталь, находившейся в открытой оппозиции к Наполеону. Знакомство со Сталь и ее друзьями значительно обогатило внутренний мир Шамиссо и расширило его кругозор. Однако и это общество вскоре распалось. За публикацию книги очерков «О Германии» в 1811 г. Наполеон изгнал Сталь из Франции, и она обосновалась в живописном швейцарском городке Коппе на берегу Женевского озера. Шамиссо тоже последовал туда, и именно в Швейцарии у него пробудились живой интерес и тяга к естественным наукам.
В 1812 г., когда ему исполнился 31 год, Шамиссо поступает на медицинский факультет Берлинского университета. Он с увлечением занимается ботаникой, участвует в многочисленных загородных экскурсиях и довольно быстро приобретает навыки неутомимого полевого исследователя, каким он предстает перед нами в своем «Путешествии вокруг света». У Шамиссо появляется заветная цель: стать квалифицированным естествоиспытателем.
Жизнь и на этот раз неумолимо вносит коррективы в его планы. После поражения Наполеона в России Берлинский университет закрывается. В сложной политической обстановке того времени Шамиссо не находит своего места. Раздираемый противоречивыми чувствами по отношению к старой и новой родине, он остается в стороне от антинаполеоновского освободительного движения. Поселившись в бранденбургской деревне Кунерсдорф, Шамиссо изучает флору окрестных лугов и лесов и между этими занятиями сочиняет «Удивительную историю Петера Шлемиля» — яркое, талантливое произведение, вошедшее в сокровищницу немецкой и мировой литературы. В образе Шлемиля можно отыскать некоторые черты сходства с самим Шамиссо, и, во всяком случае, в высказываниях героя повести улавливаются настроения, обуревавшие писателя в ту трудную для него пору жизни. В увлечении Петера Шлемиля естествознанием «в самом широком понимании» отразилось сокровенное желание Шамиссо испытать силы в серьезной научной экспедиции.
Таким образом, к тому времени, когда Шамиссо впервые ступил на палубу корабля российского флота «Рюрик» в 1815 г., он был внутренне вполне подготовлен к кругосветному плаванию. Именно поэтому легко понять, что Шамиссо смог не только стойко перенести все тяготы и бытовые неудобства дальних странствий по морям и океанам, но и выполнить большую научную работу, обнаружив при этом незаурядную наблюдательность и глубокую пытливость, свойственные настоящему ученому-естествоиспытателю.
Экспедиция под руководством О. Е. Коцебу преследовала конкретную цель: поиск Северо-Западного морского прохода вдоль берегов Северной Америки. Напомним, что в ту пору все северное побережье Американского материка представляло собой сплошное «белое пятно», а о существовании Канадского Арктического архипелага никто не догадывался. Даже контуры берегов Аляски и Чукотки были малоизвестны. Между тем в этом регионе разворачивала деятельность Российско-Американская торговая компания, которая была явно заинтересована в проведении географических исследований. Поэтому и экспедицию на «Рюрике» нельзя рассматривать как сугубо частную инициативу, осуществленную на средства графа Н. П. Румянцева. Ее цель была тесно связана с интересами Российско-Американской компании, которая контролировалась правительством.
Хотя экспедиции не удалось полностью обследовать Северо-Западный проход из-за внезапно вспыхнувшей болезни О. Е. Коцебу, научное значение работ, выполненных в этом регионе, было огромно. В орбиту географии были включены обширные, ранее мало изученные или вообще неизвестные острова, архипелаги и материковые побережья Тихого океана. Наблюдения погоды, морских течений, глубин океана, температуры, солености и прозрачности воды, земного магнетизма и различных живых организмов составили ценное научное наследие экспедиции.
А. Шамиссо представил научный отчет, который был опубликован на русском и немецком языках под названием «Наблюдения и замечания естествоиспытателя экспедиции А. Шамиссо». Он вместе с рядом других научных материалов составил третий том трудов экспедиции. Публикацию этой книги Шамиссо не одобрил и высказал упреки в намеренном искажении текста своего отчета. Соответственно возник стимул для подготовки новой книги об экспедиции 1815–1818 гг., которую сам Шамиссо считал наиболее значительным событием в своей жизни. Замысел книги вынашивался в течение многих лет и был реализован зимой 1834–1835 гг. «Путешествия вокруг света» до сих пор считаются одним из образцов немецкой прозы и родоначальником научно-художественной литературы о путешествиях. Композиционно книга построена в форме выборки из регулярных записей в дневнике — прием, нередко используемый в литературе.
Вероятно, первоначально Шамиссо видел свою задачу в том, чтобы пополнить и уточнить «Наблюдения и замечания», ранее появившиеся в трудах экспедиции. Это намерение стало осуществляться: появился новый материал о пребывании в Англии, на островах Атлантического океана и особенно в Бразилии, где читателю преподносятся яркие и разнообразные картины тропической природы. Затем писатель явно отходит от этого замысла и сосредоточивает внимание на характеристиках людей и событий, часто отсылая тех, кто особенно интересуется природоведческой тематикой, к соответствующим разделам «Наблюдений и замечаний». Таким образом, мы видим, что отношение Шамиссо к своей предыдущей работе существенно менялось. Если в предисловии к «Путешествию» это отношение носит негативную окраску, то впоследствии в этой же книге ссылки на «Наблюдения и замечания» приобретают налет умиротворенности и не сопровождаются какой-либо критикой.
Не менее сложную эволюцию претерпели взаимоотношения Шамиссо с капитаном Коцебу. После наметившегося первоначально сближения наступил длительный период, когда взаимопонимание между этими людьми было в значительной мере утрачено и даже сменилось отчуждением, которое тяжело переживал не только Шамиссо, но и сам Коцебу. К сожалению, сложившаяся ситуация в какой-то мере повлияла и на проведение научной работы Шамиссо. Только в самом конце путешествия между ними произошло долгожданное объяснение и примирение. «Все, что мне пришлось претерпеть, было забыто, и все недовольство утоплено в море» — к такому итогу пришел Шамиссо незадолго до возвращения в Европу.
Кругосветное путешествие насытило мироощущение Шамиссо разносторонними впечатлениями, что не могло не отразиться на его творчестве. Со страниц «Путешествия» перед нами предстает целая галерея человеческих личностей, характеров, судеб, за которыми проступают живо воспринимаемые контуры той далекой эпохи. При этом, в отличие от многих писателей, не выходивших за рамки географических и природоведческих описаний, Шамиссо набрасывает яркие штрихи к портретам не только своих друзей, членов экипажа «Рюрика» и европейских поселенцев в других частях света, но и многих коренных жителей. Особенно ему удался образ полинезийца Каду, который довольно долго пробыл на борту «Рюрика». Шамиссо наделяет Каду множеством достоинств, показывает его смелость, выдержку, душевное благородство, способность к самопожертвованию. Тем самым полностью развенчиваются представления о «несовершенстве», злобности и коварстве островитян Южных морей. Эти представления мутной волной стали проникать в европейскую литературу в период расширения колониальной экспансии.
Многие разделы «Путешествия» звучат как страстный призыв против, бесчеловечного отношения европейцев к коренному населению, против работорговли, жестокости, насилия. Достаточно хотя бы вспомнить, с каким нескрываемым сарказмом обличает Шамиссо торговлю черными невольниками в Бразилии. При этом надо, конечно, не забывать, что Шамиссо вовсе не был революционером. Тем не менее он смог возвыситься над своим дворянским окружением и подняться до осознания необходимости устранения социального неравенства. Недаром Шамиссо мужественно приветствовал июльскую революцию 1830 г., а его любимцем был французский поэт-демократ Беранже.
Шамиссо создал цикл «Ссыльные» (1831 г.), состоящий из поэмы «Войнаровский», переложения известной «Думы» К. Ф. Рылеева, и поэмы «Бестужев», воплотившей пафос русского освободительного движения.
Помимо увлечения идеями и деяниями декабристов Шамиссо живо интересовался и другими событиями русской истории. Он хорошо ориентировался в произведениях русской литературы и опубликовал несколько удачных переводов. В частности, ему принадлежат переводы сатирической сказки XVII в. «Шемякин суд» и стихотворения А. С. Пушкина «Два ворона». Уместно вспомнить также, с какой симпатией обрисованы на страницах «Путешествия» русские моряки — офицеры и матросы, участники экспедиции на «Рюрике».
Особо следует прокомментировать страницы книги, посвященные деятельности Российско-Американской компании, которая была создана в 1797 г. купцами Шелеховым, Голиковым и Мыльниковым и с самого начала находилась под правительственным контролем. Тем не менее компания имела свой флаг, деньги, суда, хозяйственные постройки, различные виды собственности и даже монопольное право на ведение внешней торговли. Владения компании охватывали значительную часть Аляски, Алеутские, Командорские и другие острова в северной части Тихого океана. В основе деятельности компании лежала торговля пушниной, которая скупалась у местного населения и сбывалась на русском и зарубежных рынках.
Между немногочисленным русским персоналом компании и местным населением — индейцами и алеутами — установились дружеские контакты. Инструкции обязывали сотрудников компании не обижать местное население, прививать им практические навыки (в том числе в сельском хозяйстве) и обучать детей в школах. Конечно, нельзя отрицать, что в ту эпоху в Русской Америке сохранялись социальное неравенство, тяжелый труд и скудное снабжение продовольствием. В то же время необходимо признать прогрессивное влияние русских на американские колонии.
Среди руководителей Российско-Американской компании видное место занимал упоминаемый в «Путешествии» Александр Андреевич Баранов. Это был опытный и энергичный администратор, хорошо разбиравшийся в хозяйственных проблемах. Он построил город и порт Ново-Архангельск, впоследствии ставший административным центром Русской Америки, а также несколько факторий в Калифорнии и даже на Гавайских островах (любопытные штрихи из истории калифорнийской колонии приводятся в настоящей книге). При Баранове в Русской Америке кипела деловая жизнь. В 40-х годах прошлого столетия в Ново-Архангельске было налажено строительство не только судов, но и судовых машин.
Вполне естественно, что к этой прогрессивной деятельности могли примазываться и политические проходимцы вроде упоминаемого в книге Шеффера, пытавшегося, прикрываясь именем Российско-Американской компании, произвести смену государственной власти на Гавайях. Авантюра Шеффера завершилась полным крахом. Показательно, что О. Е. Коцебу как представитель российского правительства с самого начала отмежевался от всех деяний этого проходимца. С большим осуждением отнесся и Шамиссо к его темным делам и неблаговидным поступкам.
Необходимо хотя бы вкратце рассказать, как сложилась жизнь Шамиссо по окончании кругосветного плавания. Многие годы он трудился в Ботаническом саду в Берлине, занимаясь обработкой собранных материалов, особенно ботанических, и публикацией научных трудов. Как участник кругосветной научной экспедиции Шамиссо был удостоен различных почестей. Берлинский университет присвоил ему степень доктора наук, его приняли в различные научные общества. В 1835 г. Шамиссо был избран членом Берлинской Академии наук, а спустя три года, после продолжительной, тяжелой болезни его не стало.
Надо отметить, что помимо общегеографических проблем Шамиссо углубленно занимался некоторыми специальными вопросами биологии, геологии, мерзлотоведения. Он один из первых описал обнажение многолетнемерзлых пород на западном побережье Аляски и правильно объяснил их генезис. На материалах, собранных во время плавания, Шамиссо сделал важное биологическое открытие, получившее высокую оценку Ч. Дарвина,— обнаружил чередование поколений у морских животных сальп. Наблюдения Шамиссо использовались Дарвином при разработке его классической концепции образования коралловых рифов и островов.
Вместе с О. Е. Коцебу А. Шамиссо заложил основы полинезийской этнографии. Материалы этих исследователей о хозяйственном укладе, обычаях, языках, верованиях и общественном строе у жителей Маршалловых островов не утратили своего значения и теперь. На основании сравнительного анализа языков народов Маршалловых, Каролинских, Марианских и других островов Шамиссо сделал принципиально важное заключение о тесном родстве всех народов Океании и подкрепил гипотезы Бугенвиля и Кука об азиатском происхождении этих народов.
Литературное творчество А. Шамиссо было необычайно многогранным. Он оставил стихи и песни по мотивам немецких народных преданий, рассказы, повести, политические памфлеты. В его произведениях отчетливо проявляется романтический настрой. Генрих Гейне в характеристиках немецкого романтизма всегда подчеркивал роль Шамиссо как одного из самых одаренных представителей этого течения. Вместе с тем его произведениям присущи подлинный демократизм и гуманизм, что и определило их популярность в широких слоях народа. В знак признания заслуг Шамиссо в развитии немецкой литературы ему был поставлен памятник в Берлине в 1888 г.
В стихотворениях и поэмах Шамиссо лирика становится средством раскрытия духовного мира людей, их реальных жизненных интересов. Даже в ранних стихотворных произведениях («Весна», «Вечер», «Мельничиха» и др.) вполне определенно звучат социально-политические мотивы. Они усугубляются в циклах баллад («Замок Бонкур»), где обличается политическая реакция эпохи Реставрации, наступившей после поражения Наполеона. Шамиссо один из первых смело вводит в художественную литературу представителей социальных низов, людей труда («Старая прачка» и др.).
Несомненным достоинством работ Шамиссо является их выразительный литературный стиль, живой и образный язык. Это чувствуется и при чтении «Путешествия вокруг света». Удивляют емкость восприятия действительности, неподдельная душевная теплота, мягкий, искристый юмор писателя. Читая страницу за страницей, мы словно погружаемся в мир той эпохи с ее бурными событиями политической и культурной жизни. Нас окружает целый калейдоскоп лиц — политических деятелей, ученых, путешественников, писателей, художников, артистов. За картинами и характеристиками, созданными Шамиссо, ощущаются живое биение пульса истории, тонкий психологизм, глубокое проникновение в пережитое. Книгу Шамиссо можно рассматривать как реалистическое произведение, дающее объективное отражение окружающего мира. Она резко отличается от слащаво-сентиментальных путевых записок, которые нередко содержали весьма ограниченный познавательный материал и превратно истолковывали виденное. «Путешествие вокруг света» способствовало становлению жанра литературы о путешествиях.
Л. Р. Серебрянный
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Адельберт Шамиссо
Путешествие вокруг света
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1980
ББКл8
Ш19
Adalbert Chamisso
REISE UM DIE WELT
Berlin 1980
Редакционная коллегия
K. В. МАЛАХОВСКИЙ (председатель), Л. Б. АЛАЕВ, А. Б. ДАВИДСОН, И. Б. ЗУБКОВ, Г. Г. КОТОВСКИЙ, Р. Г. ЛАНДА, Н. А. СИМОНИЯ
Перевод с немецкого А. М. МОДЕЛЯ
Ответственный редактор, автор комментариев и послесловия Л. Р. СЕРЕБРЯННЫЙ
Шамиссо A.
Ш 19 Путешествие вокруг света. Пер. с нем. А. М. Модели. Коммент. и послесл. Л. Р. Серебрянного. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986.
280 с. с ил. («Рассказы о странах Востока»),
Автор — выдающийся немецкий писатель и естествоиспытатель — рассказывает о кругосветном плавании на борту русского брига «Рюрик» (1815–1818) под командованием капитана О. Коцебу. В своих путевых заметках он подробно описывает нравы и обычаи коренных жителей островов Тихого океана, рассказывает о встречах на Камчатке, Аляске, Алеутских, Сандвичевых и других островах. В яркой художественной форме он рисует картины повседневной жизни экспедиции, героическую борьбу с трудностями ее участников.
Ш 1905020000-045 76-86
013(02)-86
ББКл8
© Verlag Rütten und Loening, 1980.
© Перевод, комментарии и послесловие: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986.
Адельберт Шамиссо
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
Утверждено к печати редколлегией серии «Рассказы о странах Востока»
Редактор В. Г. Стороженко. Младший редактор Г. А. Аристова. Художник Л. С. Эрман. Художественный редактор Э. J1. Эрман. Технический редактор В. П. Стуковнина. Корректор Н. Б. Осягина ИБ № 15545
Сдано в набор 25.09.86. Подписано к печати 14.01.86. Формат 84x1081/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 14,7+0,84 вкл. на мелованной бумаге. Усл. кр.-отт. 16,07. Уч.-изд. л. 17,24. Тираж 30 000 экз. Изд. N° 5132. Зак. 806. Цена 1 р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы. 103031, Москва К-31, ул. Жданова, 12/1 3-я типография издательства «Наука». 107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
1
«Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода в 1815–1818 годах [Этот том был опубликован на немецком языке в Веймаре в 1821 г. и на русском — в Санкт-Петербурге в 1823 г. (в переводе И. Шульгина). См.: О. Коцебу. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода в 1815–1818 годах. СПб., 1823.
2
Имеется в виду очерк «О коралловых островах» в т. 3 трудов экспедиции. См.: О. Коцебу. Путешествие в Южный океан. Т. 3, с. 381–385. Вопреки утверждению Шамиссо, автор очерка в тексте не указан.
3
23 марта 1819 г. студентом Карлом Людвигом Зандом был убит писатель Август Коцебу, отец мореплавателя О. Коцебу.
4
Quarterly Review — основанный в 1809 г. английский консервативный ежеквартальный журнал искусства и политики.
5
Кук, Джемс (1728–1779) — известный английский мореплаватель, руководитель трех крупных экспедиций в Тихий океан. Способствовал развитию картографии и гидрографии.
6
L. Сhoris. Voyage pittoresque autour du monde. 1 éd. P., 1820, 2 éd. P., 1822.
7
Наполеон Бонапарт стал первым консулом 18 брюмера (9 июля) 1799 г.
8
«Фауст» — драматическое произведение Шамиссо.
9
Варнхаген Энзе, Карл Август (1785–1858) — немецкий литературный критик, писатель и публицист.
10
Ранние романтические произведения Шамиссо носят отпечаток влияния двух литературных школ: йенской, к которой принадлежали Фихте, братья Шлегель и Новалис, и берлинской, в которую входили Тик, Шлейермахер и Шеллинг.
11
Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ, с 1810 г. профессор и первый ректор Берлинского университета.
12
14 октября 1806 г. в сражениях под Иеной и Аустерлицем войска Наполеона разгромили прусскую армию. Пруссия капитулировала и была оккупирована французами.
13
19 октября 1806 г. по распоряжению Наполеона был закрыт университет в г. Галле.
14
Полагают, что этим человеком был Фридрих Эрнст Даниэль Шлейермахер (1768–1834), немецкий философ и богослов.
15
Сталь, Анна Луиза Жермена (1766–1817)—известная французская писательница, обосновавшая принципы романтизма. Дочь французского министра финансов Жана Неккера. Сторонница либеральных идей, она выступала против Наполеона. В 1802 г. была выслана из Парижа. В замке Блуа написала книгу «О Германии», проникнутую антинаполеоновскими настроениями. После издания этой книги в 1810 г. писательнице предложили в 48 часов выехать за пределы Франции. Она поселилась в швейцарском городке Коппе на берегу Женевского озера.
16
Барант, Пьер Эмабль Проспер Брюжьер (1782–1866) — французский писатель и государственный деятель. Наполеонвиль (ныне Ла-Рош-сюр-Йон) — главный город департамента Вандея.
17
После того как Наполеон установил политический контроль над Швейцарией, Сталь в мае 1812 г. уехала из этой страны в Вену, а оттуда в Англию и Россию.
18
Сталь, Огюст Луи (1790–1827) — французский писатель, сын Жермены Сталь.
19
См.: А. Шамиссо. Необычайные приключения Петера Шлемиля. М., 1955.
20
Имеется в виду попытка Наполеона вновь захватить власть во Франции (так называемые «сто дней»).
21
Вид-Нойвид, Максимилиан (1782–1867) — немецкий естествоиспытатель; предпринял в 1815–1817 гг. экспедицию во внутренние районы Бразилии.
22
Хитциг, Юлиус Эдуард (1780–1849) — немецкий писатель, друг и первый биограф Шамиссо.
23
Коцебу, Август Фридрих Фердинанд (1761–1819) — драматург и публицист, отец мореплавателя О. Коцебу. С 1781 г. жил преимущественно в России, где занимал ряд государственных постов. См. примеч. 3.
24
Крузенштерн, Иван Федорович (1770–1846) — известный русский мореплаватель, руководитель кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803–1806 гг. (вместе с Ю. Ф. Лисянским).
25
Ледебур, Карл Фридрих (1785–1851) — ботаник, профессор университета в Дерпте (Тарту).
26
Тилезиус, Вильгельм Готлиб (1769–?) — естествоиспытатель; участвовал в кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна.
27
Нибур, Вильгельм Георг (1776–1831) — немецкий историк и государственный деятель.
28
Роберт, Людвиг (настоящее имя Маркус Левин, 1778–1832) — немецкий писатель, деверь К. А. Варнхагена Энзе. См. примеч. 9.
29
Шпурцгейм, Каспар (1776–1832) — немецкий анатом, сторонник псевдонаучного направления; полагал, что умственные способности человека зависят от формы черепа.
30
Лихтенберг, Георг Кристоф (1742–1799) — немецкий писатель и естествоиспытатель.
31
Регулус, Марк Аттилий — римский полководец, во время 1-й Пунической войны приказал сбросить на осажденных карфагенян утыканные гвоздями бочки.
32
Эти строки взяты из письма Хитцигу от 11 августа 1815 г.
33
В одной немецкой миле примерно 7,5 км.
34
Пертес, Фридрих Кристоф (1772–1843)—гамбургский книготорговец, активный участник антинаполеоновского движения.
35
Парк, Мунго (1771–1806)—шотландский врач и путешественник по Африке. Утонул, когда исследовал бассейн р. Нигер.
36
Неттельбек, Иоахим (1738–1824) — капитан, житель города Кольберга, прославился участием в его обороне от французов в 1806–1807 гг.
37
Хорнеман, Ханс Вилкен (1771–1841) — датский ботаник.
38
Пфафф, Кристоф Генрих (1173–1852) — врач и физик, профессор Кильского университета.
39
Эленшлегер, Адам Готлоб (1779–1850) — датский поэт и драматург, представитель романтизма.
40
Фуке, Фридрих де ла Мотт (1777–1843) — немецкий писатель, автор романтической повести «Ундина» (1811 г.).
41
Имеется в виду поражение Дании в войне со Швецией и Кильский мир 1814 г., по которому Дания уступила Норвегию шведскому королю «в полную собственность».
42
Давид, Жак Луи (1748–1825) — французский художник.
43
В то время в состав Дании входил весь Шлезвиг, а также Гольштейн и Лауэнбург, расположенные на юге Ютландского полуострова и населенные преимущественно немцами.
44
См.: О. Е. Коцебу. Путешествие в Южный океан. Т. 1–2. СПб., 1821. (Эти тома были переизданы в 1948 г. См.: О. Е. Коцебу. Путешествия вокруг света. М., 1948.)
45
Биберштейн, Фридрих Август (1768–1826)—немецкий ботаник, предпринял ряд экспедиций по Кавказу и опубликовал описание его флоры в трех томах. См.: A. Biberstein. Flora taurocaucasica. В., 1808–1819.
46
Имеется в виду Английский канал (пролив Ла-Манш).
47
Вечнозеленый дуб Средиземноморского региона разводился в Англии как декоративная порода для озеленения.
48
Магнолия крупноцветковая — наиболее широко культивируемый вид магнолий. Разводится для декоративных целей.
49
На самом деле наибольшая амплитуда приливов — 16,2 м — наблюдается в заливе Фанди (между п-вом Новая Шотландия и материком Северной Америки).
50
Здесь допущена неточность: Наполеон I после отречения (22 июня 1815 г.) был доставлен на английском судне «Беллерофонт» в порт Плимут, а оттуда на судне «Нортумберленд» отправлен на о-в Св. Елены.
51
В 1810 г. была провозглашена независимость Чили. Однако в 1814 г. испанцам вновь удалось покорить эту страну, и до начала 1817 г. она находилась под испанским господством.
52
Подразумевается басня Эзопа «О льве, свинье, воле и осле».
53
О’Нил, Элиза (1791–1872) — известная английская драматическая актриса.
54
«Людская вражда и раскаяние» — пьеса А. Коцебу. См. примеч. 23.
55
Кин, Эдмунд (1787–1833) — английский актер, прославившийся исполнением ролей в пьесах Шекспира.
56
Героиня пьесы А. Коцебу. См. примеч. 54.
57
«Аларкос» — драма Фридриха Шлегеля (1772–1829); «Иона» — драма Августа Вильгельма Шлегеля (1767–1845).
58
Намек на образ Роланда-всадника из одноименного стихотворения А. Шамиссо (1832 г.).
59
«Векфильдский священник» — роман английского писателя Оливера Гольдсмита (1728–1774).
60
Маяк Эддистон высотой 30 м был сооружен в 1756–1759 гг., а в 1882 г. разобран, так как его фундамент был сильно размыт.
61
Намек на реальное событие: в ночь с 3 на 4 июля 1822 г. дом в Нойшёнеберге под Берлином, где жил Шамиссо, сгорел.
62
Широко распространенный юмористический образ англичанина, заимствованный из сатирического произведения Джона Арбутнота (1667–1735).
63
«Хакон Ярл» и «Корреджо» — драмы А. Эленшлегера. См. примеч. 39.
64
Здесь и далее указаны расстояния в английских морских милях, которых приходится 60 на 1° экватора. Одна такая миля соответствует 1852 м.
65
Сальпы — морские низшие животные, представители типа оболочниковых (группа хордовых).
66
Имеется в виду произведение Жана Поля (1763–1825) «Комическое дополнение к титану».
67
Сарычев, Гавриил Андреевич (1763–1831) — русский мореплаватель, основоположник научной гидрографии. В тексте скорее всего имеется в виду книга Г. А. Сарычева «Путешествия флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение осьми лет при Географической и Астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 год». Ч. 1–2. СПб., 1802.
68
Гумбольдт, Александр (1769–1859)—знаменитый немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Особенно известны его экспедиции в Центральную и Южную Америку. В книге упоминается итоговая публикация об этих экспедициях. См.: А. Гумбольдт. Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799–1804 годах. М., 1963–1969.
69
Геолог Леопольд Бух (1774–1853) вместе с ботаником Кристианом Смитом в 1815 г. изучал Канарские острова. В 1825 г. был опубликован их совместный труд: «Физическое описание Канарских островов» («Physikalische Beschreibung der Kanarischen Inseln»).
70
Лагуна — городок на о-ве Тенерифе, известный своими монастырями.
71
Гуанчи — коренные жители Канарских островов.
72
Летучие рыбы, долгоперы (Exocoetus sp.) — распространены во всех тропических частях океанов. Это характерные представители теплолюбивой океанической фауны.
73
См. примеч. 35.
74
Популярная во всей Европе народная песня о герцоге Марльборо (рус. Мальбрук), который был главнокомандующим английской армией во время войны за испанское наследство (1701–1714).
75
Имеется в виду песня из пьесы «Ленора» немецкого поэта и драматурга Карла Хольтея (1798–1880).
76
Бониты — крупные рыбы семейства макрелей. Имеют внешнее сходство с тунцами, хотя и уступают им по размерам.
77
Дынное дерево, или папайя (Carica papaya L.).
78
Геликонии (Heliconiaceae) — крупные многолетние травянистые растения, по внешнему облику напоминающие бананы.
79
Бромелиевые (Bromeliaceae) — одно из самых больших семейств однодольных растений. Встречаются в самых разных местах обитания — от влажных тропических лесов до пустынь и от морских побережий до высокогорий. В тексте имеется в виду скорее всего ананас крупнохохолковый (Ananas comosus), дикорастущий в Центральной Бразилии.
80
Тилландсия уснеевидная (Tillandsia usneoides), или так называемый испанский мох,— похожее на лишайник эпифитное растение из семейства бромелиевых с одиночными соцветиями на верхушках побегов.
81
Аронники (Aroideae)—небольшие прямостоячие наземные травы с клубнями и корневищами, корневищные водные и болотные растения. Имеют своеобразные сложные соцветия, а также ряд приспособлении для привлечения насекомых-опылителей и достижения эффекта опыления.
82
Ризофора — обычно входит в состав мангровых зарослей (мангров), развитых по берегам тропических морей в приливоотливных зонах, в бухтах, в эстуариях рек, где происходит отложение ила и песка. Это деревья-амфибии, регулярно затопляемые солеными морскими водами.
83
Щелкуны (Elater sp.) — род жуков из одноименного семейства (Elateridae). Перевернутые на спину или зажатые в пальцах, они производят движениями переднеспинки характерный щелкающий звук. Обычно часто встречаются на растениях, но иногда ведут скрытый образ жизни близ поверхности земли, под камнями, во мху.
84
Светляки (Lampyrus sp.) — род небольших жуков из семейства мягкотелок (Cantharidae). Органы свечения у них расположены на брюшке. Часто встречаются на растениях, иногда под корой и в древесине гниющих деревьев.
85
Насекомые из рода Saltatoria (отряд Ortoptera).
86
Сент-Илер, Огюст Франсуа Сезар Прувансаль (1779–1853) — французский естествоиспытатель, совершивший путешествие в Бразилию в 1816–1822 гг.
87
Мартиус, Карл Фридрих Филипп (1794–1868) — немецкий естествоиспытатель, профессор ботаники Мюнхенского университета. Совершил путешествие в Бразилию в 1817–1820 гг.
88
Эзенбек, Кристиан Готфрид Нез (1776–1858) — немецкий ботаник, автор сводной работы о травянистых растениях Бразилии. См.: K. Esenbeck. Agrostologia brasiliensis. В., 1829.
89
Поль, Иоганн Баптист Эмануэль (1782–1834) — немецкий врач и ботаник, автор иллюстрированной флоры Бразилии. См.: Paul. Plantarum Brasiliae hucusque in editarum icones et descriptiones. P., 1827–1831.
90
Шлехтендаль, Дитрих Франц Леонард (1794–1866) — немецкий ботаник, предпринявший экспедицию в Бразилию, автор многих работ о растениях этой страны.
91
Кандоль, Огюстен Пирамус (1778–1841) — швейцарский ботаник.
92
Жюсьё, Адриан Лоран (1797–1853) — французский ботаник.
93
Вероятно, это скорее всего зерно, а не рис, о чем упоминает в соответствующем месте О. Е. Коцебу (О. Е. Коцебу. Путешествия вокруг света. М., 1948, с. 44).
94
Вид Physeter cotodon L.
95
Туканы, или перцеяды (Rhamphastidae).
96
Капуцин, род обезьян.
97
Фукусы — относятся к классу бурых водорослей, обитатели умеренных и холодных морей.
98
Осаги, ботокуды — племена индейцев Америки.
99
См.: А. Шамиссо. Наблюдения и замечания. СПб., 1823, с. 20–39.
100
Во время французской революции 1789–1794 гг. немецкий город Кобленц был сборным пунктом бежавших из Франции контрреволюционно настроенных дворян, которые поддержали начавшуюся в 1792–1793 гг. войну европейских монархий против их родины.
101
Фраза взята из «Истории Рима» Тита Ливия (ч. 5, 48, 9).
102
Имеется в виду поражение Наполеона в битве под Ватерлоо и его ссылка на о-в Св. Елены.
103
Молина, Джованни Игнасио (1740–1829)—итальянский писатель и естествоиспытатель, уроженец Чили. Написал «Очерк истории Чили». См.: I. Molina. Saggio dellia storia del Chili, 1787.
104
Имеется в виду Александр I — русский император (1777–1825); Фердинанд VII — испанский король (1784–1833); Био-Био — самая большая река в центральной части Чили; Алонсо Эрчилла-и-Сунига (1533–1594) — испанский поэт, автор эпоса «Араукания».
105
В декабре 1815 г., во время национально-освободительной войны латиноамериканских стран, испанцы захватили колумбийский город Картахену. Освобожден был в 1821 г.
106
Новая Калифорния, или Верхняя Калифорния, — до 1823 г. испанская колония, затем провинция Мексики. С 1848 г. штат США (Калифорния).
107
Автор приводит письмо Г. Хитцигу от 25 февраля 1816 г.
108
Организатором экспедиции на «Рюрике» был граф Н. П. Румянцев.
109
Ле-Мер, Якоб (1585–1616), Схоутен Корнелиус (1580–1625) —голландские мореплаватели, впервые пересекли Тихий океан по маршруту от о-ва Ява до мыса Горн.
110
Вероятно, один из видов отряда трубконосых (Procellariiformes).
111
Имеется в виду, по-видимому, рыжий таракан, или прусак (Blatella germanica L.).
112
Не исключено, что это был американский бекасовидный веретенник.
113
Отрывок дан по кн.: О. Е. Коцебу. Путешествия вокруг света. М., 1948, с. 56–57.
114
Панданусы (Pandanus sp.)—вечнозеленые древовидные растения, образующие густые, подчас труднопроходимые заросли на берегах морей, а также в горных и равнинных лесах тропического пояса. Плоды распространяются океаническими течениями.
115
Скорее всего это зяблик (Fringilla coelebs L.).
116
Головнин, Василий Михайлович (1776–1831) — русский мореплаватель, совершивший кругосветные путешествия на шлюпах «Диана» в 1807–1811 гг. и «Камчатка» в 1817–1819 гг. Во время первого путешествия был захвачен японцами и провел три года в плену, собрал обширную географическую информацию о Японии.
117
Рекамье, Жанна Франсуаза Жюли Аделаида (1777–1849) — член кружка Жермены Сталь. См. примеч. 15.
118
Российско-Американская акционерная торговая компания была создана главным образом для скупки пушнины на Аляске и Алеутских островах, входивших в состав Российской империи (до 1867 г.).
119
Беринг, Витус (1680–1741) — известный русский мореплаватель, датчанин по происхождению, организатор и руководитель Камчатской и Великой Северной экспедиций. Описал берега северной части Тихого океана, обнаружил пролив между Азией и Америкой, впоследствии. названный Беринговым.
120
Боcк, Луи Огюстен Гильом (1759–1828) — французский естествоиспытатель, автор сводных трудов по моллюскам, кишечнополостным и ракообразным.
121
Паллас, Петр Симон (1741–1811 ) — русский естествоиспытатель, совершил путешествия по Сибири, Уралу и Поволжью. Автор монографий «Путешествие по разным провинциям Российской империи» (1771–1776) и «Краткое физическое и топографическое описание Таврической области» (1795).
122
Гмелин, Иоганн Георг (1709–1755) —русский ботаник, путешественник по Сибири, автор «Флоры Сибири» (1749–1769).
123
Клапрот, Генрих Юлиус (1783–1856)—немецкий ориенталист, участник русской экспедиции 1805 г .в Сибирь и Китай.
124
См.: О. Коцебу. Путешествие в Южный океан и Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного морского прохода. СПб., 1821.
125
Бичи, Фредерик Вильям (1796–1856) — английский мореплаватель, руководитель экспедиции в Берингово море в 1826–1827 гг.
126
См.: А. Шамиссо. Наблюдения и замечания. Имеется в виду очерк «Камчатка, Алеутские острова и Берингов пролив».
127
Нукухиверы — жители о-ва Нукухива в Тихом океане, стоявшие на весьма низком уровне развития.
128
Гаусс, Карл Фридрих (1777–1855) — немецкий математик, физик и астроном. С 1807 г. директор астрономической обсерватории Гёттингенского университета.
129
Линум — деревня в окрестностях Берлина, между Потсдамом и Нойруппином, где летом 1823 г. Шамиссо занимался изучением торфяных болот.
130
Флиндерс, Мэтью (1774–1814)—английский мореплаватель, исследовавший в 1801–1802 гг. южное и восточное побережья Австралии. Первый описал явление девиации магнитной стрелки; Росс, Джон (1777–1856) — английский мореплаватель; руководил экспедицией 1818 г. по поиску Северо-Западного прохода; Скорсби, Вильям (1789–1857) — английский мореплаватель; исследовал Шпицберген в 1817–1818 гг. и восточное побережье Гренландии в 1822 г.
131
См.: О. Коцебу. Путешествия вокруг света, с. 79–80.
132
Это было чуть ли не первое открытие ископаемого льда. На данном участке побережья Аляски, вероятно, обнажаются толщи повторножильных льдов.
133
См. кн.: F. W. Beechey. Narrative of a voyage to the Pacific and Bering’s Strait. L., 1831. См. также примеч. 125.
134
В принципе точка зрения А. Шамиссо близка к трактовкам и современных специалистов-мерзлотоведов.
135
А. Шамиссо полагал, что массивно-кристаллические породы вообще не подвергаются промерзанию в отличие от рыхлых, с которыми сопряжены мерзлотные явления.
136
Кювье, Жорж (1769–1832) — известный французский зоолог и анатом. Упоминается его работа об ископаемых костях. См.: G. Cuvier. Recherches sur les ossements fossiles. P., 1812, 4 éd., 1835.
137
Участники экспедиции, включая и Шамиссо, ошибочно считали, что залив Коцебу связан узким проливом с заливом Нортона.
138
Шпанская мушка — жук семейства нарывников. В крови и органах размножения содержится кантаридин. Издавна этих жуков собирают, сушат и растирают в порошок, используя его для изготовления пластырей.
139
Маринер, Вильям — английский путешественник, опубликовавший книгу об островах Тонга. См.: W. Mariner. Account of the Tonga Islands. L., 1815.
140
См.: О. Коцебу. Путешествия вокруг света, с. 107.
141
Имеется в виду высказывание прусского короля Фридриха II (1712–1786).
142
Намек на греческий миф о Прометее, который похитил огонь у богов Олимпа и дал его людям.
143
Эрман, Адольф (1806–1877) — немецкий физик, сын друга юности Шамиссо Пауля Эрмана. В 1828–1830 гг. предпринял путешествие в Северную Азию. См.: A. Erman. Reise um die Erde durch Nordasien. Bd. 1–3. B., 1833–1848.
144
Парри, Вильям Эдвард (1790–1855) — английский полярный исследователь, организовавший четыре экспедиции к Северному полюсу. См.: W. Parry. Four voyages to the North Pole. Vol. 1–5. L., 1833.
145
См. примеч. 130.
146
См. примеч. 106.
147
См. примеч. 12.
148
Президио — крепость и резиденция правительственного чиновника, существовавшие на месте современного города Сан-Франциско. Рост этого города начался в связи с открытием месторождений золота в Калифорнии в 1848 г.
149
См. примеч. 6.
150
См.: О. Е. Коцебу. Путешествие в Южный океан. 1821, т. 2, с. 9.
151
Калан, или морская выдра,— крупное млекопитающее семейства куньих. Распространен в северной части Тихого океана.
152
Энгельгардт, Мориц (1779–1842) — немецкий геолог, определял коллекции горных пород и минералов, собранные Эшшольцем во время экспедиции на «Рюрике». См.: О. Коцебу. Путешествие в Южный океан. 1823.
153
Лангсдорф, Георг Генрих (1773–1852) — немецкий естествоиспытатель, участник экспедиции И. Ф. Крузенштерна в 1803—-1806 гг. Оставил путевые заметки. См.: G. Langsdorf. Bemerkungen auf eine Reise um die Welt. Bd. 1–2. B., 1812.
154
Выжигание старой травы имеет ряд отрицательных последствий: в пламени сгорают семена растений, уничтожаются узлы кущения злаков, гибнут насекомые и мелкие животные, а также микрофлора верхнего слоя почвы. Такая почва плохо плодоносит, на ней долго не растет трава.
155
См.: О. Коцебу. Новое путешествие вокруг света в 1823— 1826 гг. М., 1981.
156
Имеется в виду аптекарь Хенох Элиас Маргграф из неоконченного романа Жана Поля «Комета».
157
Тамеамеа, или Камеамеа I (1731–1819), — король Сандвичевых (Гавайских) островов (с 1781 г.), впервые осуществивший объединение страны в 1795–1810 гг. Способствовал приобщению гавайцев к европейской культуре.
158
Юнг, Джон — американец, прибывший в 1789 г. на Гавайи и ставший советником короля.
159
Бэнкс, Джозеф (1743–1820) — английский естествоиспытатель, участник первого кругосветного плавания Кука (1768–1771 ). А. Шамиссо встречался с Бэнксом в Лондоне в 1818 г. по возвращении из кругосветной экспедиции.
160
Лафайет, Мария Жозеф Мотье (1757–1834) — французский генерал и государственный деятель. Шамиссо посетил его во время поездки во Францию в 1825 г.
161
Лазарев, Михаил Петрович (1788–1851) — русский мореплаватель и географ, совершивший три кругосветных морских путешествия. В тексте упоминается первое из них, предпринятое на «Суворове» в 1813–1815 гг. Участник первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 гг. (командовал «Мирным»). За отвагу, проявленную в морском сражении под Наварином (1827 г.), произведен в контр-адмиралы.
162
Авантюру политического проходимца Шеффера, действовавшего по собственной инициативе, не следует связывать с политикой России и деятельностью Российско-Американской компании, которые не шли дальше организации плантаций на Гавайях для обеспечения продовольствием населения Аляски. Прикрываясь именем правительства России, Шеффер пытался сыграть на сепаратистских тенденциях вождя о-ва Кауаи Тамари, но это кончилось полным провалом. Во время пребывания на Гавайях О. Е. Коцебу отмежевался от какого-либо участия в авантюре Шеффера.
163
Циперацеа (Cyperaceae) — латинское название семейства осоковых. Речь, видимо, идет о находке нового вида осоки.
164
Ванкувер, Джордж (1757–1798) — английский мореплаватель, исследователь Тихого океана. Участвовал в двух кругосветных экспедициях Кука. В 1793 г. провел детальные исследования на Гавайских островах.
165
А. Шамиссо в «Наблюдениях и замечаниях» предсказывал, что после смерти Тамеамеа его королевство подвергнется разделу (см.: А. Шамиссо. Наблюдения и замечания, с. 300). Такую же точку зрения разделял и О. Коцебу. Действительно, после смерти этого короля на Гавайских островах усилилось влияние американских миссионеров-конгрегационистов, тесно связанных с экспортными фирмами и китобойными компаниями Новой Англии. Миссионеры открыто вмешивались во внутреннюю жизнь страны, что отмечалось О. Коцебу еще в 1825 г. (см.: О. Коцебу. Новое путешествие, с. 264 и сл.). Миссионеры, по существу, явились «пятой колонной», которая подготовила захват Гавайских островов США в 1898 г.
166
Мараи (хепаи) — святилище, храм, в котором находились деревянные изображения богов и алтарь для жертвоприношений.
167
Oryza sativa — латинское название риса посевного. Этот полиморфный культурный вид насчитывает свыше 200 разновидностей. Возделывается в тропическом, субтропическом и отчасти умеренном поясах Земли.
168
Кукуи — местное название молуккского тунга, или свечного дерева (Aleurites moluccana). Ореховидный плод этого растения дает хорошее освежительное масло.
169
См.: L. Choris. Voyage pittoresque... Tab. V—VIII; VII, 3–4; VIII, 1–3.
170
Джонстон — английский мореплаватель, в 1807 г. открывший между Гавайскими и Маршалловыми островами впоследствии названные в его честь острова.
171
О. Е. Коцебу. Путешествие в Южный океан. Т. 3. СПб., 1823.
172
Панцирь тритона использовался в качестве рожка.
173
А. Шамиссо здесь цитирует заключительную строфу из драмы И -В. Гёте «Торквато Тассо».
174
См.: L. Choris. Voyage pittoresque... Tab. XI, XII, XVII.
175
Райя — немусульманский подданный.
176
См.: О. Коцебу. Новое путешествие..., с. 167.
177
И.-В. Гёте. Годы странствий Вильгельма Мейстера.— Собрание сочинений, кн. 1, гл. 10. (Приведенная цитата содержится только в первом немецком издании романа 1821 г.)
178
Эренберг, Христиан Готфрид (1795–1876) — немецкий естествоиспытатель, профессор Берлинского университета, автор труда о кораллах Красного моря, в котором упоминаются наблюдения Шамиссо. См.: Ch. Ehrenberg. Die Korallentiere des Roten Meeres, B., 1834.
179
Сцевола (Scaevola sp.) — лекарственные и декоративные растения семейства гудиниевых.
180
И.-В. Гёте. Горячая исповедь.— Собрание сочинений. Т. 1. М., 1975, с. 271. Пер. А. Глобы
181
«Сага об Эйгидле» — стихотворное эпическое произведение XIII в. рассказывает о жизни исландского поэта и певца Эйгидля Скадлгримссона (910–990).
182
См.: О. Коцебу. Путешествие в Южный океан... Т. 3. СПб., 1823, с. 161–279.
183
Имеется в виду отчет миссионера Жана Антуана Кантовы об этнографических и географических наблюдениях в 1722 г. на о-ве Гуам и других Каролинских островах. Кантова был похоронен в Могемуге (на о-вах Палау) в 1731 г.
184
Луна-рыба (Mola mola), тело которой с боков сильно сжато и сзади как бы выпукло срезано, поэтому имеет форму шара.
185
См.: О. Е. Коцебу. Путешествия вокруг света... М., 1948.
186
Имеется в виду Российско-Американская торговая компания. См. примеч. 118.
187
«Archiv für Bergbau und Hüttenkunde» — научный журнал, основанный немецким минералогом Карлом Иоганном Бернхардом Карстеном (1782–1853). Выходил с 1818 по 1831 г.
188
Сивуч, или морской лев (Eumetopias jubatus Schreb.),— самый крупный представитель семейства ушастых тюленей. Вес крупных, «матерых» самцов иногда превышает тонну.
189
Современное название — северный морской котик (Callorhi-nus ursinus L.). Это самый малый представитель семейства ушастых тюленей. Имеет наибольшее хозяйственное значение из всех ластоногих.
190
Под упоминаемым автором «Reise» имеется в виду первое издание «Путешествия в Южный океан...». См.: О. Kotzebuе. Entdeckungsreise in die Südsee und nach der Berings-Strasse zur Entdeckung einer nordöstlichen Durchfahrt, unternommen in Jahren 1815–18... Weimar, 1821.
191
Le gentilhomme — дворянин от рождения, потомственный дворянин; le noble — получивший дворянский титул от короля.
192
Беранже, Пьер Жан (1780–1857) —известный французский поэт, мастер политической сатиры, обогативший подлинно народный жанр песни.
193
Дамьен, Робер Франсуа (1714–1757) — после неудавшегося покушения на жизнь короля Людовика XV подвергся публичной казни, сопровождавшейся необычайной жестокостью.
194
Мальтебрун, Конрад (1775–1826) — французский географ и литератор, уроженец Дании.
195
Эллис, Вильям (1794–1872)—английский миссионер, посетивший в 1816–1824 гг. Таити и другие острова Полинезии. Упоминается его книга об исследованиях в Полинезии. См.: W. Ellis. Polinesian researches. L., 1829.
196
Скотт, Вальтер (1771–1832)—известный английский писатель. Упоминается его исторический труд «Жизнь Наполеона». См.: W. Scott. The life of Napoleon. L., 1829.
197
«Сартор резеартус, или Жизнь и мнения господина Тойфельдрекха» (1833–1834) — роман шотландского философа, историка и публициста Томаса Карлейля (1795–1881). Сартор резеартус — в буквальном смысле «холодный сапожник».
198
Зонтаг, Анриетта (1806–1854) — популярная оперная певица, гастролировавшая в Берлине в 1824 г.
199
Полиньяк, Огюст Жюль Арман (1780–1847) — французский премьер-министр, который учредил законы об ограничении избирательных прав и свободы печати, отмененные после июльской революции 1830 г.
200
И.-В. Гёте. Четыре времени года («Зима»). — Собрание сочинений. Т. 1, с. 240.
201
Звездчатка средняя, или мокрица (Stellaria media Cyr.),— сорняк из семейства гвоздичных.
202
Название главы приведено по русскому изданию. См.: А. Шамиссо. Наблюдения и замечания. СПб., 1823.
203
Остров латинских парусов — испанское образное название о-ва Гуам.
204
Намек на почти полное истребление коренных жителей испанцами в конце XVII в.
205
Трепанг — голотурии родов Stichopus и Cucumaria, употребляемые в пищу в вареном и сушеном виде.
206
Эрроусмит, Арон (1750–1823) — английский географ и картограф, автор многих карт Тихого океана.
207
Галеон — старинное парусное военное судно.
208
Грей, Чарлз (1764–1845) — премьер-министр Англии в 1830— 1834 гг. Пытался провести через парламент реформу об изменении избирательной системы в пользу буржуазии, но в верхней палате консерваторы добились отклонения этого проекта.
209
Месмерианизм — основанное немецким врачом и богословом Францем Месмером (1734–1815) псевдонаучное учение о якобы целебном воздействии «животного магнетизма».
210
Евгения (Eugenia) — тропическое сочноплодное растение из семейства миртовых, культивируемое ради съедобных плодов.
211
«Никому не удается достичь Коринфа». — Цитата взята из Горация (Epistola. T. I. 12, 36).
212
Во время пребывания во Франции в сентябре 1807 г. Шамиссо был принят в масонскую ложу г. Шалон-сюр-Марн.
213
См. также: О. Коцебу. Путешествия вокруг света. М., 1948, с. 238, 239.
214
Имеются в виду острова перед северным входом в Зондский пролив (между Суматрой и Явой).
215
Мазурье — французский комик, которого Шамиссо видел в Париже в 1825 г. в роли обезьяны.
216
Адамастор — мифический персонаж из поэмы Луиса Камоэнса «Луизиада» (1572 г.), которую считают португальским национальным эпосом. Каменный великан Адамастор у мыса Доброй Надежды пытался воспрепятствовать португальскому путешественнику Васко-да-Гаме плыть в Индию.
217
«Диа-на-соре, или Бродяга» — сенсационный политический роман австрийского писателя Вильгельма Фридриха Майерна (1762–1829).
218
Капская колония (ныне часть Южно-Африканской Республики) была основана во второй половине XVII в. бурами, выходцами из Голландии, Германии и Франции. В 1795–1806 гг. была захвачена Англией. Венский конгресс 1814–1815 гг. официально закрепил этот захват.
219
На о-ве Св. Елены Наполеон провел в ссылке последние шесть лет.
220
Очевидно, это строки из письма к Хитцигу.
221
См. примеч. 159
222
Браун, Роберт (1773–1858) — английский ботаник, участник экспедиции Флиндерса 1801–1802 гг. (см. примеч. 130), затем хранитель Британского музея в Лондоне.
223
См.: J. Burney. Chronological history of the discoveries in the South Sea. Vol. 1–5. L., 1803–1817.
224
Смит, Гамильтон — майор английской армии.
225
См. примеч. 136.
226
Отто, Адольф Вильгельм (1786–1845) — немецкий естествоиспытатель, профессор медицины, совершивший в 1818–1819 гг. путешествие по Англии, Голландии, Франции и Италии.
227
Гуннеман — немецкий ботаник, занимавшийся систематикой растений.
228
Канова, Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор, приверженец классицизма. Упоминается изваянная им статуя Наполеона.
229
Веллингтон, Артур Веллсли (1769–1852) — военачальник и государственный деятель Великобритании. Руководил английской армией в битве при Ватерлоо.
230
Веллингтон выступал против реформы Грея (см. примеч. 208). Был министром иностранных дел в консервативном правительстве Г. Пиля.
231
Кокрейн, Томас (1775–1860) — английский адмирал и политический деятель. В 1814 г. ради биржевой спекуляции распустил ложный слух о смерти Наполеона, был лишен своих постов во флоте и парламенте и заключен в тюрьму, где пробыл год. В 1818 г. эмигрировал из Англии.
232
Опера «Алсидор» была создана в 1825 г. итальянским композитором Гаспаром Спонтини (1774–1851).
233
Форстер, Иоганн Рейнгольд (1729–1798) — немецкий естествоиспытатель, профессор естественной истории в университете г. Галле.
234
Это был Рудольф Лихтенштедт, немецкий врач, работавший тогда в Санкт-Петербурге.
235
Имеется в виду изваянная Кановой в 1817 г. статуя «Мир», которую царь Александр I посвятил графу Н. П. Румянцеву, организатору экспедиции на «Рюрике».
236
Здесь очевидная ошибка: книга А. Шамиссо вышла в свет в 1829 г., а Эшшольц скончался в 1831 г.