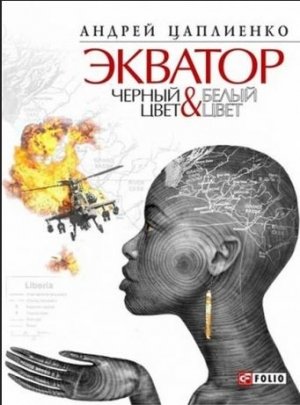
ОТ АВТОРА
Люди и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Возможное совпадение имен героев с именами действительно существующих людей случайно. Реальными прошу считать только Западную Африку, Амазонию и Ближний Восток. Они действительно такие, какими их увидел главный герой. И какими однажды увидел их я. Мой друг, журналист Сергей Потимков, прочитал мне как-то свое стихотворение, из которого мог бы получиться отличный эпиграф:
Но эпиграф к чему? У этого романа свои эпиграфы, и я не вправе их менять. Знаете, почему? Потому что придуманные тобой герои начинают жить своей жизнью. Не ты пишешь диалоги. Они сами ведут свой разговор посредством твоей руки. Тебе кажется, что ты придумываешь сюжетную линию, а она, вопреки твоему желанию, сама складывается в причудливый запутанный вензель. Потому что это не линия сюжета, а линия судьбы. Героев.
Герои. В этой книге они совершают героические поступки. А потом, — сразу же после того, как! — с легкостью превращаются в подонков. «Так не бывает,» — возможно, скажете вы. Бывает. Черный цвет, встречаясь с белым, всегда рождает серый. Зеркало, в которое вы смотрите, некому протереть до идеальной чистоты.
После первой своей командировки в «настоящую» горячую точку мне показалось, что я понял все о войне. Как журналист. Психолог. И стратег. Стратегия оказалась доморощенной. Психология — надуманной. Десять лет спустя я внезапно почувствовал, что о войне ничего не знаю. Потому что истинное благородство чувств и поступков — там! — я встречал у людей, которые в мирной, спокойной, обстановке были подонками и негодяями. А общепризнанный пример для подражания как-то быстро терял в зоне боевых действий все свои положительные качества. Грязь и гниль никогда не бывает черной. Только серой.
Я писал эту книгу от случая к случаю. Иногда терял к ней интерес. А иной раз стучал по клавишам изо дня в день. Я же говорю: герои начали жить самостоятельно и сами вели свою историю туда, куда им заблагорассудится. У меня на глазах они жестоко сражались друг с другом, торговали оружием и алмазами, бросались миллионами и тряслись над грошами. И любили друг друга — так откровенно, что от неловкости хотелось отвернуться. Но мне пришлось досмотреть их историю до конца. До последней строчки. Впрочем, военные люди, а также путешественники и авантюристы всех мастей, никогда не говорят «последней», но только «крайней». Я не предал своих героев. И хочу, чтобы до крайней — крайней! — строчки вы тоже оставались с ними.
С уважением к своим читателям и своим героям,
Андрей Цаплиенко
ГЛАВА 1 — С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Департамент криминальной юстиции,
Отдел исправительных учреждений,
Исправительное учреждение «Полонски» с максимальным уровнем безопасности,
Южный Ливингстон, Техас, США
Список личных вещей заключенного №000981:
1) Перстень мужской желтого металла с прозрачным камнем, грубой обработки, ориентировочная стоимость н/о;
2) Медальон нагрудный круглый, желтого металла, диаметр 3 (три) см, ориентировочная стоимость н/о;
3) Книга иллюстрированная, название «Полная энциклопедия современной авиации», автор Дональд Дэвид, язык английский, ориентировочная стоимость $34,73;
N.B. Закладка на главе «Локхид Си-130 Геркулес» в виде обрывка дермантина прямоугольной формы, цвет красный, с надписью на испанском языке;
4) Коробка из под сигар «Hoyo de Monterrey», производство Куба, ориентировочная стоимость н/о;
5) Рукопись, 325 (триста двадцать пять) стр., формат А4, ориентировочная стоимость $3,57, определена по стоимости канцелярской бумаги, использованной заключенным.
Старший надзиратель: Тим Саммерс Региональный директор: Роберт Тревор
- “Theirs not to make reply,
- Theirs not to reason why,
- Theirs but to do and die”
Альфред Тэннисон, «Атака легкой кавалерийской бригады», 1854
- «Без лишних желаний,
- И самокопаний,
- Солдаты за дело идут умирать.»
- “Tu cries ‘peace’, tu cries ‘love’
- En brandissant ta Kalachnikov”
Альфа Блонди, «Любовь по-калашниковски», 1990
- «Ты кричишь „мир“, ты кричишь „любовь“,
- Ну, а в руке твоей „калашников“»
Я никогда не задумывался над этим вопросом, потому что на это просто не было времени. И только сейчас, когда я оказался лишен возможности действовать, я принялся вспоминать. И вспомнил ту ключевую фразу, и даже ту интонацию, с которой произнес ее Леша Ломако:
— Целься в яйца! Стреляй в пах!
Неужели это и было началом всего?
«В голову попасть трудно,» — пояснял Алексей, только-только вернувшийся из какой-то секретной дальней арабской страны. — «В сердце бессмысленно. Получив пулю в сердце, человек может еще некоторое время бежать и стрелять. Тебе ведь главное не убить врага, а обезвредить его. Поэтому целься в яйца.»
Предельно простое объяснение, изложенное ровным тоном. Ну, может быть, не совсем ровным, ведь я был в наушниках, а под ними, в ушах, еще гудел грохот пистолетных выстрелов, минуту назад многократно отраженный бетонными стенами стрелкового тира.
Это был самый обычный тир, стоявший посреди парка на окраине рабочей слободки. Зимой в тире было слишком холодно, летом — жарко. С первым снегом на огневом рубеже зажигались газовые обогреватели, которые недовольно шипели всякий раз, когда завхоз подносил к ним спичку — только так их можно было зажечь. Но мощности газовых горелок явно не хватало. Рубеж бойницами выходил на огневую зону. Она находилась под открытым небом, и холодный ветер заносил обрывки холода и снегопада в окошки бойниц, срывая фанерные заслонки. Благословенные и спокойные семидесятые были в самом разгаре. Молчаливый и ленивый апогей застоя уже разметил будущее всех и каждого, наполнив воздух недоговоренностью военных тайн. И одной из этих тайн — для меня, во всяком случае — был Леша Ломако, тренер по стрельбе.
Однажды нам, бесцельно шатавшимся по городу семиклассникам, захотелось подержать в руках настоящее оружие. По этому поводу мы забрели в стрелковый клуб на окраине. «Дадите пострелять?» — спросили мы на входе. «Дадим, чего ж не дать,» — ответили нам. — «Но только сначала надо записаться.»
Очень скоро мне стало понятно, что стрелковый спорт ничего общего с романтикой не имеет. Тяжелый пистолет нужно научиться держать как влитой, затаив дыхание и выжидая момент, когда указательный палец может начать свое плавное движение, вопреки сопротивлению курка. Сейчас будет выстрел, говорит тебе внутренний голос, и сердце начинает учащенно биться. Но вот этого как раз и не нужно делать, в смысле, обращать внимание на провокации своего испуганного естества. А внутри металлического зверя весом всего девятьсот десять граммов в этот момент происходят удивительные вещи. Начинает работать самая простая и совершенная механика в мире. Спусковой крючок с усилием тянет за собой шептало, и вот-вот, сорвавшись, стальной спуск нанесет внезапный мощный удар по капсюлю. И патрон расколется надвое. Свинцовая пуля помчится по черному круглому тоннелю, четко следуя нарезке, как вагонетка в шахте бесконечным рельсам. Только, в отличие от вагонетки, для пули тоннель ствола очень быстро кончается, за тысячные доли секунды. Она, вращаясь, вылетает на свободу и следует к своей цели, а затвор вместе с рамой движется в обратную сторону, выбрасывая отстрелянную гильзу и тут же устанавливая на ее место новенький хорошо смазанный патрон.
Большинству моих сотоварищей очень скоро наскучил тир и рутина строго регламентированного обращения с оружием, которое можно направлять исключительно в сторону круглой мишени на расстоянии двадцати пяти метров от стрелка. Лучше уж погонять мяч по зеленому футбольному полю. Или подраться в парке с ровесниками из поселка Артема, они часто с риском для здоровья забредали на нашу территорию. Ну, а у меня не складывалось, ни с футболом, ни с драками. Я был круглым, — почти как футбольный мяч — толстеньким маменьким сынком, да еще и с дурацкой фамилией Шут. Надо мной смеялись, и, что самое обидное, смеялись девчонки. Несложно догадаться, какое именно прозвище я мог получить с такой фамилией.
За глаза меня называли Клоуном, и это прозвище очень прочно приросло ко мне в школе, отчасти еще и потому, что я был стеснителен, рассеян, часто говорил невпопад и, соответственно, как коверный в цирке, попадал в разные забавные ситуации. Забавными они, впрочем, были для сторонних наблюдателей. А для меня они были полны страданий, моральных и физических. Мой бутерброд всегда падал маслом вниз, никогда не нарушая закон Мэрфи. И сам я, поскальзываясь зимой на замерзших лужах, — их у нас метко называли «скользанки» — летел носом вниз. В отличие от своих более удачливых «корешей», набивавших о жесткий лед только мягкие части тела.
Сдавленный возглас, мокрый хлопок, и на льду оставалась красноватая липкая клякса. Я падал. Они смеялись. Но на них я никогда не обижался, потому что в их смехе не было злорадства. Моей безобидной неловкостью по-настоящему наслаждались те, кто был старше меня. И, соответственно, имел гораздо больше прав.
Учителя, вызывая меня к доске, как мне казалось, всегда ехидно улыбались, произнося мою фамилию. Обычно это происходило так. Наш учитель истории Игорь Арнольдович Бевза, человек с безволосым лицом, очень похожим на маску Фантомаса, поднимал меня с места окриком «Шут, к доске!». Юля Семенова, наша первая красавица и отличница, тут же откликалась своим нежным голоском «Клоун, на арену!» Класс дружно смеялся. Всем было очень весело. Кроме меня. Игорь Арнольдович и не думал останавливать внезапный приступ веселья, и даже сам ухмылялся безгубым ртом. Именно он был моим обидчиком, а не красивая малолетняя дурочка. Он уничтожал мое достоинство с помощью моих одноклассников, сам умывая при этом руки. Тогда я это еще не мог понять разумом, и только в глубине души чувствовал, беспричинную, как мне казалось, ненависть к учителю. Мне его очень хотелось ударить. Я ведь не трус и драки не боялся даже тогда, в шестом классе, когда я совсем не умел драться. Но вот с особями противоположного пола я не мог воевать никогда. Никогда не мог поднять руку на женщину, даже в столь юном и вредном возрасте. Я бы набросился с кулаками на историка, потому что в глубине души понимал: это именно он провокатор и это он хочет унизить меня. Но он так и оставался безнаказанным, пользуясь привилегией своего возраста и положения. В общем, расстроенный, растерянный и нервно раскрасневшийся, шел я к доске и произносил вслух явные исторические глупости, невольно подтверждавшие правоту Семеновой.
Как выяснилось, она их даже записывала в свой блокнотик, и на выпускном вечере, выпив бокал портвейна, прилюдно озвучила. Все их не помню, одна только врезалась в память: «Войска Степана Разина успешно шли на Москву, пока не встретились с регулярными частями Красной Армии.» Да, весело. Думаю, что сейчас я вполне смог бы в кратчайший срок обеспечить все войско Степана Разина наилучшим вооружением по самым низким ценам, и тогда хрен бы кто его остановил. Даже Красная Армия.
Очень жалею, что тогда я не умел драться. С детства занимался музыкой, которую безумно не любил. Почти все свободное время, которое оставалось после пытки черно-белыми клавишами, моя мама распределяла поровну между английским, французским и немецким языками. Эти занятия я с детства считал бесполезными и, даже более, вредными. Особое отвращение вызывал у меня немецкий. Потом уже, повидав многое в этом мире, я понял, что это было сродни отвращению на генетическом уровне. Видимо, очень не любил немцев мой дед, отсидевший в немецком лагере для военнопленных где-то под Львовом, бежавший к своим, и потом, в конце войны, въехавший на своей «тридцатьчетверке» в Берлин.
Впрочем, много лет спустя я вынужденно признал, что моя мама все делала правильно. Пускай она ошиблась насчет музыки, и второго Рахманинова из меня не вышло, зато я первый и единственный в своем роде. Андрей Шут стал тем, кем он есть, во многом благодаря тому, что в моей голове нашлось место и функциональному конструктивизму английского, и грассирующей изысканности французских фраз, и даже длинным и неуклюжим, похожим на сороконожек, немецким словам.
Ну, а по поводу драк дело обстояло так. Чтобы обрести мужское достоинство, я начал постоянно ввязываться в какие-то стычки и постоянно бывал крепко битым. Меня сбивали одним ударом под дых. В первые же минуты конфликта. Били кулаком по голове. Ставили подножку и потом наваливались всем гуртом на мое толстое беззащитное тело. Но эффектнее всего меня сбивал с ног прямой короткий удар в переносицу. Нос мой всегда был слабым местом, он предательски не держал удар, и получив его, я стремительно падал наземь, даже раньше, чем, собственно, вязкие красные капли из моего носа.
Всем тем, кто выходил победителем из драк, стрелковый клуб скоро наскучил. И я у молодого тренера Леши Ломако остался один. Он первый из всех моих знакомых взрослых не стал смеяться над моей фамилией.
«Шут — это хорошо,» — сказал он, записав ее в журнал стрелкового клуба. — «„Шут“ это по-английски означает „стрелять“. Значит, на роду тебе, Андрюша, написано быть стрелком.»
Он ошибся. Стрелком я по-настоящему так и не стал. Я любил оружие так, как любят зверей в зоопарке. Восхищаясь грацией хищника с безопасного расстояния. Для того, чтобы стать настоящим стрелком, этого недостаточно. Но зато моих знаний об оружии вполне хватило для того, чтобы освоить профессию Мальчиша-Плохиша, который подносит буржуинам патроны. Могу похвастаться лишь только тем, что я лучший Плохиш на этой планете.
Я очень быстро полюбил этот ни с чем не сравнимый запах сгоревшего пороха и разогретого масла. Мне так нравилось после каждой тренировки разбирать черный небольшой пистолет и любоваться его совершенным строением. А потом смазывать вороненые детали ружейным маслом из небольшой масленки с дутыми жестяными боками. Масло текло по всем черным пазам и выступам разобранного оружия, а потом в эти пазы входили совершенно безобидные по отдельности детали, которые потом, в сборе, становились очень опасным инструментом, способным отнять жизнь. Но об этом нам даже и думать запрещалось. "Вы должны лишь только класть пули в цель. Это спорт, а не война", — говорил нам всем директор спортшколы, фотография которого с бесконечной красной дорожкой спортивных наград на груди помещалась в коридоре при входе в клуб. Леша Ломако это тоже часто слышал. В такие моменты лицо его становилось словно каменным. А однажды после очередного начальственного инструктажа он попросил меня остаться. Когда спортклуб опустел, Леша повесил на огневой рубеж совсем не спортивную мишень. Я такой еще не видел. Мишень была в полный рост, но на ней был изображен не схематичный силуэт, а вполне конкретный человек с сердитым выражением лица и пистолетом в правой руке. Судя по маркировке, мишень была импортной. Бумага в два раза плотнее нашей.
— Это полицейская мишень. Американская. Подарок. А вот и самое главное.
Было девять вечера. В тире, кроме нас, остался только сторож. Леша из спортивной сумки вытащил нечто необычное. Пистолет. Но не спортивный. Спортивный по сравнению с ним выглядел, как «Запорожец» рядом с «Роллс-Ройсом». Его ствол был в два раза длиннее наших стандартных стволов, он напоминал револьверы из ковбойских фильмов, и, к тому же, это чудо инженерного гения оружейников было покрыто слоем сияющего хрома. «Калибр нестандартный, миллиметров десять, не меньше,» — прикинул я.
— Попробуй, — сказал Леша. — Удержишь?
Я взял его в правую руку. Она тотчас же ушла вниз — в пистолете было не меньше полутора килограммов металла. Желтые капсюли патронов глядели на меня из стального барабана. Револьвер был заряжен.
— Подключай левую. Это не спортивное оружие, тут нужно все делать немножко по-другому.
Леша взял револьвер у меня из рук.
— Смотри внимательно. Берешь в две руки. Правой за рукоятку, левой поддерживаешь снизу. Руки расслабленные, оружие в них себя чувствует, как автомобиль на новых амортизаторах. Стойка свободная, ноги чуть полусогнутые.
Ломако встал к рубежу и показал мне все это наглядно.
— Понял?
Я кивнул.
— Дальше все как на обычной тренировке. Жесткий спуск, поэтому сначала нажимаешь с импульсом, а дальше плавно дожимаешь курок. Выстрела не ждешь. Он будет громкий, но тебе понравится.
Словно иллюстрируя свои слова, Леша плавно давил на спуск. Я смотрел, как его указательный палец медленно, но очень уверенно заставлял двигаться спусковой крючок. И тут раздался выстрел, не выстрел даже, а какой-то взрыв. Мне показалось, что легкая артиллерия начала обстрел укрепленных позиций противника. Уши заложило, но вскоре отпустило, и я почувствовал знакомый уютный запах, который меня и до сих пор успокаивает — порох и масло.
— Ага? — улыбнулся Алексей, кажется, в первый раз за все то время, что я его знал. Он мягко вернул курок на место, чтобы револьвер не выстрелил еще раз, поставил оружие на предохранитель и положил его на деревянную полочку перед бойницей.
— А давай-ка повесим этого мужика.
И мы пошли на рубеж и стали кнопками укреплять сердитого американского черно-белого мужика, врага полицейских. Леша надел на меня наушники:
— Обнови-ка ты мишень, Андрей. Наудачу.
И я начал стрелять. Вернее, извлекать грохот из этой компактной артиллерийской установки. Из первых шести пуль в мишени оказались только три, но Леша, после каждого выстрела заглядывая в трубу, говорил: «Неплохо. Так. Хорошо.» Калибр этого оружия был настолько большим, что, казалось, ты невооруженным глазом видишь, как одиннадцатимиллиметровые пули выбивают в бумажном американце дырки. И когда барабан стал пустым, Леша сказал:
— Целься в яйца. Не нужно убивать, нужно обезвредить.
Я вздрогнул. Тогда эти слова меня испугали своей практичной откровенностью. «Не нужно убивать, нужно обезвредить,» — так обычно говорит себе любой профессиональный солдат, для которого война это просто работа. Вынужденное занятие, за неимением другого. Я это понял много лет спустя. Ну, а сейчас я думаю о том, сколько же исправного, неисправного и не очень исправного оружия я продал, перевез и всучил разным маньякам, которые только и думают о том, чтобы убивать себе подобных. Для таких убийство не просто работа, а любимая работа. Лешу Ломако, моего первого тренера, после этой тренировки, кстати, выгнали с работы. Сторож рассказал о нашей вечерней канонаде директору спортшколы, и тот в присутствии всех ее учеников объявил Лешу преступником, по которому тюрьма плачет. Он и без того ненавидел Алексея и, видимо, в глубине души надеялся, что Лешу посадят. Но его не посадили. Только забрали пистолет. Кажется, сделал это следователь КГБ. А, может быть, Леша сам его добровольно сдал. На большее наша городская власть не осмелилась. Ломако, оказывается, был секретным указом награжден очень важной медалью или даже орденом, о чем, кстати, во время перестройки писала какая-то местная газета.
ГЛАВА 2 — УКРАИНА. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Военным летчиком я стал тоже случайно, хотя, и не совсем. Все, что происходит с нами, предопределено цепью предыдущих событий, причем, и тех, которые не имеют к нам прямого отношения. В моей семье было такое количество военных, что, кажется, не надеть на себя военную форму было бы просто предательством славных предков.
Но так бывает только в учебниках истории и патриотических романах. В действительности, никаких традиций не существует. Семейная традиция это оправдание нежелания что-либо менять в жизни. Я мог бы стать и врачом, и переводчиком, и юристом, благо, с детства был сообразительным, любознательным и усидчивым. Но вы, наверное, забыли, как все было у нас устроено в то время. Чудесное советское время! Далеко не все институты были доступны для простого парня из небогатой, но очень гордой семьи. Медицинский, юридический или инъяз какой-нибудь охотнее всего открывали свои двери тем, кто знал, в какую начальственную дверь нужно стучаться. Отношения между преподавателями и студентами регулировали Его Величество Блат и Ее Величество Коррупция. Они успешно отсекали неперспективных с финансовой точки зрения мальчиков и девочек. Нам говорили о бесплатном образовании, но даже самый наивный пионер или комсомолец, знал, что вступительный взнос в престижный ВУЗ измеряется в тысячах рублей — по одной тысяче за каждый год обучения. У моей матери, оставшейся без мужа, когда я был совсем еще мальчишкой, больших денег отродясь не водилось. Мы жили на стандартный мамин инженерский прожиточный минимум в сто двадцать рублей плюс бабушкина пенсия плюс гроши, которые выплачивали партия и правительство после гибели отца. До сих пор не знаю, как она выкручивалась, чтобы наскрести деньги на мои занятия языками.
Мама очень не хотела, чтобы я оказался в армии, и, как это ни парадоксально, самый лучший способ избавить меня от воинской обязанности она нашла довольно странный. А именно собралась отправить меня, толстяка и увальня, в военное училище. Якобы, все основные армейские невзгоды и трудности падают на плечи солдат срочной службы, а вот офицерская жизнь полна благородства и взаимовыручки. Они, конечно, защищают Родину и рискуют жизнью, но при этом имеют устойчивое материальное положение, здоровые взаимоотношения в коллективе — без мордобоя — и гарантированный карьерный рост. Почему она так думала, ума не приложу. Неужели она настолько идеализировала своего мужа и моего отца, что никогда не расспрашивала о работе? Или насмотрелась сверх меры фильмов «про людей в форме»? Она же не могла не знать, что из всех вышеуказанных стереотипов военной жизни действительности соответствует только один. Военная карьера давала широкие возможности тем, кто готов был умереть за Родину. Способы были разные, от цирроза печени во время суровой многочасовой офицерской пьянки до подрыва на противотанковой мине во время оказания интернациональной помощи какому-нибудь многострадальному азиатскому, африканскому или латиноамериканскому народу. Все остальное — карьерный или материальный рост, душевные благородные отношения — обычно оказывалось иллюзией. Великой советской иллюзией. Но мать в нее верила.
Отец у меня летал штурманом на бомбардировщике Ту-16. Мы тогда жили в Полтаве. Аэродром, на котором служил мой отец, был построен еще во время войны специально для американских самолетов. Они летали бомбить Берлин. Но до Берлина дотянуть, в силу несовершенства конструкции, не могли. Советское правительство предоставило им «аэродром подскока». Место, где можно передохнуть и подзаправиться. Со временем он превратился в полноценную авиабазу. Американскую, в сущности. Американцы жили в военном городке, от которого ничего сейчас не осталось. А вот металлические плиты от американской взлетно-посадочной полосы я еще застал. Я помню, они лежали сбоку новой взлетки, такие мощные, хорошо подогнанные друг к другу шестигранники. Отполированные до блеска тысячами касаний американских шасси, они так нагревались летом на солнце, что, казалось, брось на них яйцо, и через пять минут получишь глазунью.
Как-то в сентябре, помню, мы с приятелями, совсем еще мальчишки, пролезли на аэродром и провалялись на этих плитах полдня. Мы разделись по пояс, и мои рыхловатые телеса стал обдавать прохладой осторожный ветер ранней осени. В его дыхании чувствовался холод, который неприятными змейками струился у меня по спине и сбегал вниз по моим жировым отложениям. Я лег на эти стальные плиты. Они были горячими. Над нами светило белое солнце сентября, под нами была история. Горячая, и потому немного ожившая. Тогда я не очень хорошо разбирался в том, откуда взялись эти плиты под Полтавой, но инстинктивно прижимался к ним, к железному теплу прошедшей войны. Удивительно, что никто нас тогда не застукал — ни солдаты-охранники, ни всевидящий руководитель полетов в диспетчерской башне. Удивительно вообще, как мы остались живы и здоровы. Видимо, в тот день не было полетов.
А вообще-то «шестнадцатые» здесь взлетали и садились по нескольку раз в день. Аэродром накрывал все Средиземное море и даже немного Индийский океан. Помню, отец уходил утром на работу и говорил весело матери: «Смотри не загуляй, я сегодня до Турции и обратно, к обеду вернусь.» И возвращался, веселый, с легким хмельным запахом. Мать ему: «Где пил?» А он убедительно врал: «Да ты что! Это я квас, в нашей столовой.» Квасу в офицерской столовке на аэродроме и впрямь было хоть отбавляй. Это у них, у «стратегов», такая традиция была: квас пить. В любой точке, где садились бомбардировщики, даже там, где не было ни вкусной жратвы, ни нормальных столовок, всегда был свежий квас. По легенде, эта традиция пошла именно отсюда, из Полтавы. Квасом американское начальство дурило своих пилотов, чтобы те по привычке пиво перед полетом не хлестали. И после полета тоже. Квас был забористый, с изюмом, но, конечно, по эффективности уступал пиву и вставлять летчикам не мог. Нашим тоже пришлось пить квас с американцами. Пили. Давились, но пили. Деваться было некуда — приказ. Советское командование решило последовать американскому примеру и нашло повод, чтобы победить беспросветное пьянство, спутник любой войны. «Мы должны создать максимально благоприятную и привычную обстановку для наших гостей,» — вот что говорили военачальники. — «Они пьют квас, и мы тоже будем.» Но однажды братья по оружию улетели навсегда. А привычка пить квас осталась. Наследие капитализма и американского образа жизни. Стандартов, так сказать. Правда, как только офицеры выходили за КПП, то ноги сами несли их в ближайший магазин, чуть левее от входа на авиабазу. А потом на лавочку в скверике. Там и столики были оборудованы.
Отец погиб трагически и нелепо, — автобус, который по декабрьскому гололеду вез экипаж на аэродром, перевернулся, — и мать уехала к родителям в Харьков. Она так ни разу после этого не вышла замуж, и поначалу старалась оградить меня от всего, что связано с армией. Но до конца это ей не удалось. Стрелковый спорт начал пробуждать во мне древние воинские инстинкты, и запах ружейной смазки возбуждал меня, как запах дичи молодую легавую на первой охоте. Я, впрочем, говорил уже об этом. Когда я услышал от матери о плане действий относительно службы в армии, меня, честно говоря, даже обрадовала перспектива «косить» вот таким радикальным, необычным способом. Одна у нас с мамой вышла заминка. Не заминка даже, а настоящий скандал. Она не хотела и близко подпускать меня к военным самолетам. Отец погиб на земле, по вине или неосторожности шофера, который, кажется, был вольнонаемным, но, несмотря ни на что, мать в случившемся винила военную авиацию. Помню, я был совсем еще подростком, а она уже с нескрываемым раздражением смотрела на то, как иногда от нечего делать я клеил из пластмассы модели самолетов. Они висели на толстых нитках под потолком нашей невысокой квартиры в «хрущевке» на окраине города, и мама всякий раз тихо ругалась, когда цеплялась за них, перемещаясь из комнаты в кухню и обратно. Впрочем, несмотря на раздражение, она очень осторожно, чтобы не сломать, вытаскивала пластмассовый пропеллер от Ан-24 из лакированной прически, если тот назойливым насекомым цеплялся за ее волосы. Когда я сказал ей, что буду поступать в летное училище, мама долго молчала, потом взорвалась грозной тирадой о том, что план «кошения» отменяется, и что она лучше отдаст меня в солдаты. Я тогда был в десятом классе, и как всякий подросток, лучше знал свою маму, чем она меня. Я понимал, что у нее обычная истерика, и спокойно пытался найти убедительные аргументы — что самолеты падают редко, а солдаты бьют друг другу морду часто. А еще иногда и стреляют в обидчиков. А еще от невыносимой жизни в казарме интеллигентные люди накладывают на себя руки. А если и выживают среди таких ужасов, то отправляются в дисбат, из которого возвращаются законченными преступниками. Все это я рассказывал маме, пытаясь использовать понятную ей терминологию, и мама, теряя в споре свои нестойкие аргументы, верила в эту чушь, которую я, словно расчетливый паук, плел из правды, полуправды и откровенной лжи. В общем, дорога к поступлению в летное была открыта. Но на первом же медосмотре в славном Черниговском училище, территория которого уставлена бюстами знаменитых и героических выпускников, я был сражен наповал. Срезан подчистую. Доктор сказал мне, что к экзаменам меня не допустит, потому что с таким брюхом я не смогу набрать высоту. Почему это, переспросил его я. Да потому что штурвал на себя не возьмешь — живот мешает. Так ответил язвительный эскулап. Я не сказал об этом матери, и пошел искать другие самолеты, где места в кабине больше, чем у истребителя. Где можно взять на себя штурвал. Так я оказался в высшем авиационном училище военно-транспортной авиации. Мне тогда казалось, что это какая-то полугражданская структура, едва ли отличающаяся от цивильного ВУЗа больше, чем кабина грузового «ана» отличается от кабины пассажирского. Я сильно заблуждался на этот счет. Мои иллюзии развеялись в первый месяц пребывания в казарме, в течение которого я не то что не увидел ни одного самолета — я вообще, кроме швабры, щетки и надраенных мною же до блеска унитазов в туалете общего пользования, не видел больше ничего. К щетке и унитазам я привык быстро. Гораздо быстрее, чем к казенной еде. Я не мог есть то, что давали в столовой. Запах здешней еды мне казался тошнотворным. Поэтому первые две недели за обедом я пил только компот из оловянных кружек и воду из-под крана в казарме. К тому времени, когда я, наконец, научился сдерживать рвотный рефлекс, я сбросил килограммов десять. А еще через две недели курсантская форма висела на мне, как кожа на итальянском мастифе. Форму мне выдали новую, и жизнь засверкала свежими красками и оттенками, как оловянная пуговица, начищенная пастой гои.
ГЛАВА 3 — АФГАНИСТАН. ПРЕМИЯ ЗА РЕЙС
Я закончил училище в восемьдесят третьем. Между прочим, почти что с отличием, только немного подкачало знание истории. Совершенно бесполезный предмет, особенно в его коммунистической ипостаси. «История КПСС», и ее отросток, политическая экономия, мне не были нужны. История и экономия уже вплотную занимались нами. В самом разгаре была война в Афганистане. Меня отправили в Душанбе в качестве штурмана, и я заранее знал, каков будет мой дальнейший маршрут. Наш «борт» курсировал над территорией южного соседа, из Кандагара в Герат, из Герата в Баграм, и снова в Кандагар. Между собой мы называли наш полетный план «К.Г.Б.», по заглавным буквам наиболее часто посещаемых населенных пунктов. Ничего особенно героического в моей практике не было. Возили все подряд и всех подряд — от туалетной бумаги до генеральских инспекций. При взлете и посадке мы следовали инструкциям, исправно отстреливали сигнальные ракеты, служившие тепловыми ловушками для «стингеров». Я убежден, что живы и здоровы мы остались именно поэтому. Хотя ни разу не заметил, чтобы в нас стреляли. Так бы я летал, может быть, и по сегодняшний день, если бы однажды к нам не приехал вместе с командиром полка никому не известный человек в синем штатском костюме и не приказал загрузить в самолет несколько тяжелых ящиков. Я уже научился разбираться в маркировке и с первого взгляда понял, что внутри этих ящиков гранатометы. Мы стояли тогда в Баграме, а лететь нужно было в Кандагар и обратно. Командир экипажа был не похож на себя. Он явно угождал этому синепиджачнику, и я впервые подумал о том, что на войне от героизма до лизоблюдства один шаг. Бывало, что в Афгане мы гоняли «левак» для солдатских и офицерских магазинов, и тогда нашими верными друзьями и партнерами становились контрактницы-продавщицы. Несомненно, этот рейс тоже был «леваком», но каким-то необычным, даже подозрительным. В Кандагар нас отправили внезапно и безо всяких полетных документов. Люди, разгружавшие наш «борт», тоже были загадочными. Это были вовсе не наши солдатики в «эксперименталке». И даже не афганские союзники в грубого сукна серо-зеленой форме . Это были люди в штатском. То бишь, местные бородачи. В грязных потертых шарвар-камизах и в серых пакулях, которые мы называли «шапками-душманками». Бородачи были без оружия, но я ни минуты не сомневался, что свои автоматы они оставили под присмотром афганского часового в караулке за пакгаузом. Дабы не смущать глупых шурави. Шурави не задавали вопросов ни командиру, ни человеку в синем костюме. А когда возвращались из Кандагара, «синепиджачник» снял свой пиджак, остался в белой пропотевшей рубашке и, ослабив галстук, зашел в кабину. «Вот вам, товарищи, премия от благодарного афганского народа. Потом, товарищи, на Родине поменяете на советские деньги.» И он сунул каждому из нас по толстой, несколько раз перевязанной резинкой, зеленой пачке. Шел январь восемьдесят девятого. Я повертел пачку в руке. Американские потрепанные пятерки и двадцатки не внушали никакого уважения. «Зачем мне эти бумажки?»— спросил я тогда этого мужика с седым гебешным ежиком на голове. Улыбка сошла с его лица. Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Запомни, капитан, через десять лет такой вопрос не возникнет даже у последнего курсанта в учебке.»
Через десять лет зеленых бумажек у меня было очень много. Я был на хорошем счету у этой публики с Лубянки, и мои доходы от левых рейсов росли. А потом Советского Союза не стало, и я начал работать сам. Расстояния для меня потеряли значение, а поездки утратили романтический привкус новизны. Многое из того, что раньше было невозможным, стало доступным и даже обыденным. И все же я часто задаю себе тот идиотский вопрос, на который мне так и не ответил седой гебешник в небе над Афганистаном.
Через десять лет я стал другом одного африканского президента. Хотя «дружеским» его отношение ко мне можно назвать весьма условно. Слово «друг» в данном случае характеризует относительную степень свободы и безопасности, которую я имел на подконтрольных ему территориях. Да чего там скрывать? Ну, вы не можете его не знать, он очень часто появляется в теленовостях. Теперь он уже сидит не в президентском кресле, а на нарах. Зовут его Чарльз Тайлер. Говорят, во времена своего пребывания в Соединенных Штатах, он попал в исправительное заведение где-то в Новой Англии и там получил прозвище Слесарь Чарли. Будущий национальный лидер подрабатывал починкой старых автомобилей. Ему, кажется, это прозвище не очень нравилось, поэтому он избавлялся от всех своих соратников, которые позволяли себе фамильярно называть его Слесарем. Собственно, так поступают все правители, и демократы, и диктаторы. Разница только в том, что демократы старых друзей увольняют, а диктаторы расстреливают. Что касается меня, я даже за глаза звал его иначе. Чарли-бой. Я услышал однажды это прозвище от самой красивой женщины на свете. Вряд ли Тайлер прочтет мои записи, а, значит, они не нарушат его внутреннего спокойствия в комфортабельной спецтюрьме для военных преступников. Я ему должен быть благодарен. Он отдал мне трехэтажный дом в десяти минутах езды от президентского дворца, правда, не совсем безвозмездно. За это он получил от меня среднемагистральный самолет, одна половина которого служила президентским салоном, а другая легко трансформировалась в грузовой отсек. Это было очень удобно. Самолет часто совершал спецполеты по Африке, и никто не мог догадаться, что вместо официальных лиц он перевозит кое-что другое. А в условиях эмбарго это было особенно актуально. Самолет формально не являлся собственностью Тайлера, он числился за одной английской компанией, до истинных владельцев которой докопаться было невозможно. Официально я к этой компании не имел отношения, но в качестве деловых партнеров у меня тогда состояли такие люди, что разглашение их имен могло бы принести мне много-много проблем на рубеже тысячелетия. А теперь мне уже все равно, и эти могущественные люди вместе со своими могущественными именами потеряли для меня всякую ценность. Если говорить начистоту, Тайлер по документам тоже оставался владельцем своего дома. Делая подарок, он говорил мне: «Андрей, так будет лучше для всех. У тебя могут отобрать этот дом. У президента не отберут.» В этой стране все было странным и неправильным, но жизнь среди этой неправильности была пряной и острой, как никогда; она заставляла ценить на вес золота каждый прожитый день, и, вместе с тем, прожигать впустую целые годы. Над воротами дома надпись — «Собственность Эндрю Шута», над иллюминаторами самолета — «President of Liberia», но тем не менее, все было наоборот, и смысл произнесенных слов в этой стране всегда был обратным. Поэтому данное обещание легко забывалось, а о потерянном имуществе принято было не жалеть. Дом не жалко. И самолет не жалко. Ведь там, в Либерии, я нашел то, что стоило для меня больше, чем жизнь, и за это я заплатил очень высокую цену. Возможно, буду платить и впредь.
ГЛАВА 4 — ЛИБЕРИЯ, АЭРОДРОМ СПРИГГС, МАЙ 2003. МАРГАРЕТ.
В тот день, когда я увидел ее впервые, меня впечатлили лишь два ее явных достоинства. Грудь шестого размера и весьма доходный пивной бизнес в Монровии. Черную бизнес-леди звали Маргарет, сокращенно Мики. Откровенно говоря, меня с самого начала заинтересовала, в основном, первая строка перечисленного выше списка ее достоинств. Но были и другие. Например, живот, не мягкий и не слишком плоский, без складок, но и без рельефных мышц пресса, собственно, такой, каким обладают звезды индийских фильмов. Я очень любил ее целовать в середину этого индийского живота, сначала шутки ради, фыркая, как морской котик, в самый ее пупок. Но потом все чаще и чаще я делал это с нежностью, почти с любовью. Она была не совсем либерийкой, так что появление такого индийского животика в этой стране выпирающих ребер было генетически оправдано. Об этом я узнал на другой день нашего с ней знакомства. Ее папа, бизнесмен из Калькутты, в свое время открывший в Монровии первый пивной ресторан, бежал из страны, после того, как боевики прямо перед камерами западных и собственных журналистов кастрировали и убили бедного сержанта Сэмюэла Доу, которому в тот момент случилось быть президентом Либерии. Примерно так я понял историю чернокожей красавицы, сложив ее из обрывков наших с ней разговоров. Если верить Мики, это произошло в августе девяностого года. Доу, который доверял только своей охране, попал в ловушку в руки к боевикам племени Гио, а те передали президента людям Тайлера. Раджив Лимани, отец Мики, был другом этого самого сержанта Доу. Ну, что тут скажешь? Друзей следует выбирать более осмотрительно.
«Он уехал в Канаду или в Штаты, точно не знаю. Я его больше не видела и видеть не хочу,» — сказала Мики, когда после первого же сексуального эксперимента с ее роскошным черным телом я, вдохнув дым своей любимой «Ойо де Монтеррэй», начал ее подробно расспрашивать об отце. Ее реакция мне тогда показалась странной, ведь за несколько часов до этого она сама просила меня разыскать предка. Но об этом позже.
Второй день нашего знакомства был первым днем нашей близости. Мики набрасывалась на меня, как тигрица на говяжью тушу. Она засыпала меня тоннами вопросов в перерывах между бурными сексуальными атаками, а я пытался выведать у нее, каким образом эта черная красавица ухитрилась всю войну прожить в Монровии, да еще и приумножить свое немалое состояние. Она и сама атаковала меня не хуже банды рэбелов. Ее атаки были долгими, а передышки короткими, поэтому много узнать мне не удалось. Я понял из ее отрывистых ответов, что за спокойную жизнь в этом единственном охраняемом районе Монровии она заплатила любовными связями с президентом Тайлером и его сыном, а также предательством их обоих. Но в чем оно состояло, и почему мстительный Тайлер оставил ее в живых, Мики тогда не сказала.
— Послушай, мы тут с тобой это делаем без презерватива. Ну, как бы это сказать..., — полушутя, я сжевал свой вопрос, памятуя о том, что третья часть жителей этой страны носит в себе вирус СПИДа, и еще целый букет не менее опасных вирусов, бактерий и прочей флоры с фауной.
— Не бойся, — и Мики демонстративно поцеловала меня туда, куда, пожалуй, в тот момент я меньше всего ожидал получить поцелуй.
— Чарли-бой проверялся чуть ли не каждый день у своего придворного доктора. До и после моей постели. А младший вообще боялся меня. Только оральный секс, и ничего более. Причем, в презервативе, как в каком-нибудь европейском публичном доме. И вообще, если хочешь знать, за последние пять лет твой белый член это первый, который вошел в меня голым.
Я в тот момент вспомнил анекдот про бояр, услышавших от царя Петра Первого слово «голосование» и заявивших самодержцу о том, что голосование это истинно русская процедура. «Голым совали, голым и дальше будем совать», — пояснили свою позицию царю бояре. Но не стал рассказывать его Мики. «Жалко, что по-английски так не скаламбуришь,» — подумал я про себя, усмехнувшись. — «„Ту пут инсайд ит нэйкт“ звучит громоздко, формально и неэмоционально. В общем, скучно. У этих носителей языка скучно все, что связано с сексом. А к нам даже черные бабы липнут, как мухи к меду.»
Правды ради, следует признать, что это я прилип к Мики. Первый день нашего знакомства не сулил ничего необычного. Было это так.
Война еще не окончилась, и я решил съездить на аэродром Сприггс, чтобы договориться о приеме моего «борта» с «калашниковыми». Платить там нужно было очень многим людям, поэтому я взял с собой кожаный портфель, набитый местной валютой, либерийскими долларами красного и синего цвета. А чтобы по дороге со мной что-нибудь неожиданное не приключилось, попросил своего клиента в лице министра обороны выделить мне охрану. Думал, что приедут худощавые головорезы в джинсах и с растами в волосах, свисающими прямо на глаза, в рубашках, пропитанных едким африканским потом и запахом гашиша. Эти самые опасные. Так, в общем-то, и выглядела почти вся правительственная армия. Повстанцы, их здесь называют «рэбелами», впрочем, от правительственных солдат внешне ничем не отличались. Но ко мне приехали совсем другие ребята. Четверо высоких здоровяков с невозмутимыми бронзовыми лицами. На них был вполне сносный зеленый камуфляж и одинаковые бронежилеты. Я сразу узнал эти «броники». Они были из той партии подержанной французской амуниции, которую я привез сюда из Москвы, а в Москву они попали, как спецодежда для уборщиков и прочих сотрудников муниципалитета. Помнится, разрешение на ввоз мне тогда сделал один из этих, «прочих сотрудников», который, пользуясь своим знакомством с Лужковым, создал очень прибыльный кооператив вкупе с визовым отделом американского посольства и брал за организацию одной визы США от двух до пяти тысяч долларов. В конечном итоге, он и сам чуть было не получил от двух до пяти, но полезное знакомство спасло его от вынужденного отпуска.
Ну, вот, узнаю я эти «броники». И ловлю себя на мысли, что это первый раз, когда я вижу на военнослужащих местной армии бронежилеты из той партии. А я было думал, что Тайлер, — или кто там еще? — перепродал амуницию куда-нибудь в соседнюю Ивуарийскую Республику. Хотя, нет, там ведь французы заправляют, ивуарийцы от них получали товар напрямую и по более низким ценам.
У меня в прихожей топтался Сергей Журавлев. Журналист, очень дотошный парень. Он не побоялся прилететь в Монровию, чтобы взять у меня интервью. Я уже и ответы заготовил, мол, честный бизнесмен я, ничего не видел, ничего не знаю, только и слышу обвинения во всех смертных грехах. Бывший летчик, участник войны в Афганистане. Продвигаю российско-английское сотрудничество на африканском континенте. И прочая, и прочая, и прочая. Я просчитал этого Журавлева еще в Москве и понял, что этот парень слишком увлечен романтикой «горячих точек», несмотря на вполне зрелый возраст. И я рассчитывал, что Сергей, которого перебросил своим «бортом» в Монровию мой друг и конкурент Леня Манюк, купится на африканскую действительность с элементами гражданской войны. Я, в общем-то, и сам купился, хотя скрывал это от всех. Даже от самого себя. Мы уже выпили по рюмке неразбавленного джина, когда приехали солдаты. Внизу ждал вполне приличный для Монровии «дефендер». За рулем был водитель в гражданском.
— Можно с Вами? — спросил Сергей.
— Валяй, — говорю я ему, — камеру можешь оставить здесь.
— Да нет, — сказал Сергей. — Я возьму ее с собой. Мало ли что.
Сергей всегда работал без оператора, и все свои интервью записывал на маленькую камеру. Такую можно было купить за сущие копейки в любом супермаркете электроники. Ну, это был его стиль. А, заодно, и экономия денег. В то время не каждый российский журналист мог выехать на съемки в загранкомандировку. Даже в такую веселую и неказистую страну, какой на изломе тысячелетия была Либерия. И если в этой стране с ним случится любая из возможных неприятностей, — обворуют, возьмут в заложники, съедят, — финансовые потери телеканала не будут большими в силу дешевизны видеотехники.
В общем, в машине семеро. Тесно. Жарко. Черные тела в бронежилетах издают кисловатый запах. Мы, видимо, тоже пахнем не лучше. Едем в Сприггс мимо мусорных куч, мимо разбитых домов и сломанных столбов электропередач. Колеса утопают в желтой пыли дороги. Она долгим шлейфом тянется за нами. Проезжаем мимо рекламы «нескафе», пробитой сотнями выстрелов. Зачем стрелять в рекламу? Что плохого сделали эти веселые ребята с красными кружками в руках своим черным обкуренным худощавым сверстникам с «калашниковыми» в руках? Моими «калашниковыми», между прочим. Где-то в глубине квартала, за рекламным щитом, поднимается дым. Явно горит многоэтажное здание. Никто его не тушит. А вот полулежит возле желтой дороги человек. То ли спит, а то ли... Впрочем, нет, пошевелил своей обрубленной по локоть правой рукой. Видимо, бывший боевик, наказанный правительством за участие в мятеже.
И вот навстречу нам, среди всего этого монровийского великолепия, едет совершенно белый кабриолет БМВ. Верх откинут, и я вижу за рулем девушку. Черную, конечно, но цвет кожи это единственное, что привязывало ее к действительности. Все остальное было словно не отсюда. Не из Монровии сегодняшнего дня. Это было видение с Лазурного Берега. Или с другой планеты. В общем, по пыльной дороге ехала Девушка Моей Мечты, Девушка с большой буквы. Черная девица в белом автомобиле на фоне серожелтозеленой монровийской гнили. Что может быть удивительнее. Я вздохнул, и моя голова начала вращаться, как антенна станции слежения за ракетами вероятного противника. Самое удивительное было то, что ни моя охрана, ни мой навязчивый соотечественник никак, ну никак не отреагировали на это чудесное зрелище.
Кабриолет проехал мимо нашего дефендера.
— Стой, — крикнул я водителю. Он затормозил. Я попросил развернуться и догнать белую машину. Водитель не дрогнул ни единым мускулом своего лица, а Сергей удивленно на меня взглянул.
— Хочешь получить от меня интервью? — спросил я его, внезапно перейдя на «ты». Он кивнул в ответ.
— Тогда сначала возьми интервью у той девицы в белом бимере, — и я указал на дорогу. «Дефендер» стал прижимать кабриолет к обочине, водитель несколько раз нажал на клаксон, а один из парней в форме высунулся из окна и лениво махнул рукой девушке — мол, припаркуйся. Так умеют махать только либерийцы. Сначала рука, словно безжизненная плеть, выпадает из окна машины, потом секунду висит. Затем начинается вот это самое волнообразное ленивое движение от кончика указательного пальца до кисти, запястья и локтя. А потом рука снова вяло расслабляется на секунду, чтобы повторить жест. В нем — и презрение к другому водителю, и уверенность в себе, и, если хотите, даже скрытая угроза. Если человек не подчинится такому вот жесту, то может поплатиться за это жизнью. Я не раз видел, как вслед за вялой черной рукой из окна появлялся ствол «калашникова» или пистолет. Но сейчас в этом не было необходимости: девушка послушно остановилась.
— А может, и телефон у нее взять? — усмехнулся Журавлев.
— Взять, — ответил я серьезно.
— Ну, тогда — посерьезнел журналист. — Вы будете моим ассистентом.
— Что нужно делать?
— Держите пока вот это, — и Сергей, выпрыгивая вместе со своей камерой в монровийскую пыль, сунул мне ворох каких-то проводов. Я тоже вылез из машины. Всякий раз, когда выходишь из автомобиля, словно делаешь первый шаг на поверхность чужой планеты. Твоя нога по самую лодыжку погружается в желто-серую невесомую пыль. И она, принимая тебя, превращается из неподвижной холмистой субстанции в мириады невесомых брызг. Вытаскиваешь ногу, и в пыли остается довольно четкий отпечаток подошвы твоей обуви. В общем, очень похоже на сюжет «Армстронг делает шаг на лунный грунт» Правда, в моем собственном сюжете первый шаг сделал не я, а Журавлев. Первый шаг к сердцу черной красавицы.
— Я впервые вижу столь красивую девушку в столь ужасном городе, — заговорил Сергей на своем неплохом английском, уперевшись обеими руками о дверцу белого кабриолета. — Я русский журналист и хотел бы записать с Вами интервью.
— Ну почему же город ужасный? — и девица улыбнулась. Ах, какие ровные белые зубы. Вот бы пролезть своим языком в этот тоненький зазорчик между верхними и нижними, раздвигая их все шире и шире. — А с интервью нет проблем. Мне выйти из машины?
— Нет-нет, — замахал Журавлев. — Сидите. Вот мой помощник, он Вам сейчас поможет нацепить микрофон.
— Разматывай, — бросил мне Сергей. Вот как, и он перешел на «ты», заметил я про себя и стал суетливо разматывать провода, которые у меня были в руках. Вернее, единственный проводок, на одном конце которого был разъем, а на другом — я только сейчас заметил — небольшая, размером примерно с копеечную монету, круглая сетчатая головка микрофона.
Сергей ворковал с черной красавицей по-английски и периодически переходил на русский.
— Цепляй вот это к ней, — указал он на зажим, на котором крепился микрофон. Зажим был похож на крокодилью пасть, и, как я узнал позже, журналисты так и называют его «крокодильчиком».
— А куда цеплять-то? — спрашиваю.
— Куда хочешь, только поближе ко рту. И спрячь провод куда-нибудь, а то в кадре она по-идиотски будет выглядеть.
Легко сказать «спрячь». Прекрасную черную грудь обтягивала только красная футболка из какой-то блестящей ткани. Под футболкой угадывался сладкий барельеф сосков. Сергей увидел, что я замешкался.
— Вот-вот, под футболку и засовывай!
Два раза предлагать мне не стоило. Я пододвинулся к девушке и сказал на английском:
— Просуньте это под футболкой.
— Я, пожалуй, не смогу. Сделайте сами, — и она, улыбнувшись, расправила плечи. Мощная конструкция ее бюста слегка поднялась вверх. Я принялся суетливо просовывать микрофон под футболкой и чуть было не потерял сознание от ее французских парфумов. Ах, как заманчиво они пахли! И от желания обладать этой девушкой у меня просто свело... Ну, не буду говорить, что там у меня свело! В общем, захотел ее, и точка. Когда моя рука под футболкой коснулась ее груди, она усмехнулась. Я попытался резко убрать руку, но в итоге из-под блузки вывалился проводок с микрофоном, с таким трудом туда помещенный. Тут девица просто расхохоталась.
— Ваш ассистент, видимо, давно не общался с женщинами, он весь вибрирует! А ведь здесь женщины не проблема, — сказала она Сергею, подмигнув.
— Он расист, — выдал вдруг Журавлев. — Трахает только русских.
Идиот, тупой, самовлюбленный идиот! Моя правая рука, та самая, которая шарила на груди у африканки, сама по себе взлетела и понесла внезапно сформировавшийся кулак в лицо журналиста. К своему четвертому десятку я уже научился бить морду.
— Сережа, — сказал я спокойно падающему в монровийскую пыль телу. — Не надо хамить человеку, который может тебя убить.
Пока Журавлев отряхивался от пыли (ему в этом активно помогала красавица — «шоколадка»), я был уже в машине и ехал в Сприггс. Стало попросторнее и, кажется, попрохладнее. Во время всей этой сцены ни у одного из моих спутников не дрогнул ни один мускул на лице. Лоснящиеся от пота лица, черные и влажные, как у джазовых музыкантов, невозмутимо глядят в лобовое стекло. Рука одного из них вернулась в прежнее положение, повисла плетью из окна. В боковом зеркале дрожала Монровия и две фигуры на фоне белого кабриолета, мужская и женская.
Разгрузка шла медленно. Я слишком хорошо знал этот крымский экипаж, который на своем «ане» вот уже пять лет таскался по Африке из одной горячей точки в другую. По документам грузовой «Ан-26» принадлежал какому-то заводу, но, видимо, его давно уже списали со счетов. Он был известен тем, что однажды над Замбией у него отказал левый двигатель, и машина чуть не рухнула в сельву. Командир экипажа постоянно треплется об этом случае, делая рекламу своему сверхнадежному самолету, мол, посмотрите, какая замечательная у нас техника — летает даже на одном двигателе. Я никогда бы не взял этот «борт» себе, да он и не был моим, просто в тот момент в Душанбе, откуда везли груз, крутились ЦРУшники под видом дипломатов, и все тот же Манюк меня об этом заранее предупредил. И тут же сказал, что может подсуетить вполне нормальный «двадцать шестой». Груз обычный — пятьсот единиц АК-74 со складов, перешедших под юрисдикцию Таджикистана, остальное — боеприпасы к ним да около тонны смазки для БТР-80, которые, как говорили, Тайлер купил у ливийцев. Я-то «бэтэров» не видел, но ради любопытства заглянул в блокнот министра обороны, а потом лично уточнил номенклатуру моего заказа. Интересно все-таки узнать, кто собирается мне перейти дорогу. Чарли-то мне клялся в том, что любит меня всем сердцем и надеется только на меня, если завтра война. А если нет, помнится, спросил я его полушутя во время очередного приступа президентских клятв. И он мне ответил вполне серьезно: «А если нет, то будем диверсифицировать источники поставок. От тебя автоматы, от кого-нибудь другого патроны.» И вот он настал, тот самый момент диверсификации. Я этого боялся больше всего. Причем, боялся не потому, что темпераментные и изменчивые, как ветер в мае, либерийцы, могли меня просто подрезать среди ночи по одному только мановению левого мизинца Чарли-боя. Я знал, да-да, знал — стоит мне потерять Либерию, как рассыплется с таким трудом собранная моя коллекция этих «горячих точек», моих нестабильных рынков. Потеряй я Либерию, как я расплачусь алмазами с иорданцами? А их не интересуют деньги, у них вся финансовая система под контролем Штатов, им алмазы подавай. Не будет иорданцев, завалится контракт с кубинцами. Флоридскими, конечно, а не теми, что на Острове Свободы. Кубинцы — это кокаин. Нет автоматов — нет и порошка. А не будет кокаина, то нечем будет расплатиться с Европой. И вот тогда меня разберут на запчасти, продадут на органы в уплату неустойки или съедят. Причем, в прямом смысле. Я не хотел, чтобы меня съели.
— А-а-а, торговец смертью! Ну, здорово, Андрей Иванович, — это выскочил из самолета рыжий командир Арам Левочкин. Его отец, как и мой, тоже был военным. Он служил в Ереване и по уши влюбился в местную красавицу, армянку чистых кровей. Вот она и убедила мужа в том, что если фамилия парню досталась по отцовской линии, то имя должно быть в наследство от родителей матери. И в результате типично советской межнациональной любовной истории появилось такое странное сочетание имени и фамилии.
В отличие от своих родителей, Арам Левочкин был отвратительным, но потрясающе везучим типом. Он любил деньги, любил зарабатывать, но не любил работать. В Мелитопольском полку наибольшее количество летных происшествий было на его счету. Все это, конечно, были мелкие провинности, но как-то, в начале девяностых, по-моему, в ноябре, он смешал зимнее и летнее топливо. Его самолет заглох всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы машина рухнула на небольшой поселок. Тогда погиб весь экипаж, а Левочкин отделался легким испугом и вывихом большого пальца правой руки — он зацепился за штурвал. Арама, конечно, попросили уволиться, даже отдали под суд, но он, видимо, пригрозил своим работодателям, что расскажет о том, какие грузы доставлялись его самолетом и куда, и его признали невиновным. Отправили куда-то в Крым, в частную компанию «Пятый океан», и он с «Ила» пересел на «Ан». Бог ты мой, какой грязный это был самолет! В грузовом отсеке, сколько помню я этот «борт», постоянно каталась перевернутая консервная банка с окурками. В начале полета в нее наливали воду, чтобы тушить окурки, а к концу, набитая бычками доверху, она падала на пол, бычки высыпались, усеяв весь рифленый пол, а вода, потемневшая и загустевшая, как смазка, растекалась коричневыми лужами и издавала страшно зловонный запах. Удивительно, что это повторялось из рейса в рейс, и окурки зачастую так и оставались на несколько месяцев лежать на грязном полу. Но это еще ничего. Арам Левочкин верил в свою планиду и соглашался летать на самолете, даже если ресурс двигателя был давно уже просрочен. Правду следует сказать, планида его не подводила.
— Здорово, Арам, как долетел? — формально спросил я пилота.
— Неплохо. Летели через Болгарию, запросили нас о грузе. Так я им ответил, что везем товары сельхозназначения для народного хозяйства, — и рыжий пилот рассмеялся.
— Да, неплохо выкрутился, — говорю.
— Мне бы за смекалку премию. — Арам перестал улыбаться.
— Шутишь, — говорю спокойно, а сам понимаю, что он не шутит. — У меня в чемодане только аэропортовый сбор, в местной валюте, а ваша зарплата уже в Симферополе.
— Андрей Иваныч, мы пока летели, то подумали-подумали и решили, что мало ваш брат нам платит. Если бы посадили нас болгары, ты бы, небось, передачки нам не носил, а?
— Арам, ты знаешь, что я хозяин своего слова. Сколько обещал, столько и дал. Все деньги перечислены сполна. Спрашивай со своего бухгалтера. Будь и ты хозяином своего слова.
— Я давно хозяин. Сам слово дал, сам и забрал, ха-ха, — заржал рыжий нахал прямо мне в лицо. И снова стал серьезным. — Мы тут решили, что часть груза останется на борту, пока ты не набросишь нам немного.
Да, на борту находились переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела», их еще называют «русскими стингерами». Такие трубы, в которых упакованы небольшие ракетки, и если такую трубу направить на самолет и, умеючи, привести ее в действие, то в пяти случаях из десяти самолет вдребезги. Тайлер очень рассчитывал на «стрелы», он боялся, что его будут бомбить американцы, и решил приготовить запас этих недорогих, но достаточно эффективных средств ПВО. А для меня это был шанс вернуть себе расположение и монопольное право быть поставщиком двора его африканского величества. Какой же вождь без стрел? В общем, дал я Тайлеру слово, что будут у него «стрелы».
— Сколько, — говорю рыжему, — надо доплатить?
— Немного. По штуке каждому.
В экипаже было трое. Значит, всего три тысячи долларов. И, правда, немного. Небольшая цена вопроса для того, чтобы снова твердо стоять на земле. Либерийской, конечно. Я раскрыл чемодан и стал отсчитывать местные доллары, красные и синие купюры.
— Я дам сто пятьдесят тысяч на экипаж. Это больше, чем три тысячи зелеными.
— Ты что, Иваныч, сдурел?! — возмутился Арам. — Куда я с этими бумажками потом пойду? В туалет?
— Но у меня нет с собой баксов, — я не обманывал его.
И тут Левочкин увидел на моей руке перстень. Неплохой такой, с розоватым камнем. Не «Гора света», конечно, но весь этот «Ан-26» вместе с Левочкиным за него купить было можно.
— А вот это? — и рыжий указал на перстень.
— Это не продается. Это подарок.
— От благодарных властей Республики Либерия? — издевательски сказал Арам. К Либерии этот перстень не имел ни малейшего отношения. Я молча смотрел в его подлые красивые глаза. — Ну, нет так нет. Я пошел греть моторы.
Решение нужно было принимать моментально.
— Постой. На, вот, задавись, падла, — и я принялся стягивать перстень с пальца. От жары рука отекла, и перстень туго поддавался. Я скривился от боли, а более всего от злости к этой жадной рыжей скотине, и, миллиметр за миллиметром, наконец, стянул это украшение.
— Ну, вот, и заебись, — довольно сказал Арам. — Сдачу я тебе отдам в Симферополе! — он прекрасно понимал, что камень стоит гораздо больше трех тысяч.
— Парни, разгружайте «трубы», хозяину срочно нужно сантехнику менять, — бросил он своему экипажу, и два грузных незнакомых мне дядьки, штурман и второй пилот, принялись вдвоем выносить продолговатые ящики. Их было десять. Когда первый из них положили на бетонку, мои невозмутимые охранники в бронежилетах немного оживились. Один из них сказал что-то остальным на незнакомом мне языке, видимо, каком-то местном наречии, и они поспешили к ящикам. Внимательно осмотрели маркировку, старший — я думаю, что он был старший, во всяком случае, чувствовалось, что остальные слушаются его беспрекословно, — сверил надписи на ящиках с какими-то своими записями в небольшом, почти микроскопическом блокнотике, который он достал из бокового кармана своих камуфлированных штанов. Мне это не понравилось. Получается, что эти черные ребята имели больше полномочий, нежели они мне об этом сказали.
В это время на аэродроме появилась — что бы вы думали, — белая БМВ с черной красавицей за рулем. А рядом с ней Сергей Журавлев, который, встав в полный рост, орал на весь Сприггс:
— Андрей Иваныч! Вы забыли у нее взять номер телефона!
Эх, Сергей, Сергей... Зачем ты привез ее сюда? Знал бы я, какие события произойдут после этого в моей — и твоей — жизни, то дал бы тебе в морду еще один раз, не раздумывая. Но я не знал тогда ничего, да и не мог знать.
— Ее зовут Маргарет, Маргарет Лимани, — кричал Журавлев, вылезая из лихо затормозившего кабриолета. Его лицо, вернее, добрую половину этого круглого веселого лица, украшал красноватый фингал, который синел просто на глазах. Сергей увидел мой растерянный взгляд:
— А за то, что морду набили, я не обижаюсь. Мы ведь, сами знаете, ради работы на всякое готовы.
Он подумал секунду и добавил: «Набить морду — для этого много ума не надо. Я и сам набить могу. Даже вам. Но не буду.»
Он сунул мне какую-то визитку. На ней было написано «Маргарет Лимани. Сеть ресторанов. Председатель». И снизу телефон почему-то с кодом Монако.
— Ну, как, будет обещанное интервью?
— Маргарет, — протянула мне руку девушка. — Но Вы можете называть меня Мики.
Я чуть сжал ее длинную ладонь. Она высвободила ее и засмеялась:
— А Вы прямо рэбел какой-то! Никогда не видела, чтобы белые били друг друга.
— Ну, я-то его не бил. Пощадил! — хохотнул Журавлев. Их веселье меня, признаться, удивило. «Уж не покурили ли они травки?» — подумал я.
— Спасибо Вам, — и смех Маргарет превратился в обычную добрую улыбку. — Сергей сказал, что Вы таким образом защищали мою честь. Он, я так понимаю, плохо пошутил на мой счет, а Вы ему это не простили.
— Да простил он, простил! Правда, простили, Андрей Иваныч? — перебил Маргарет журналист. — Она ведь тоже заехала мне по физиономии. Потом, когда Вы уехали. Так что, может быть, снова перейдем на ты?
— Перейдем, перейдем, только дай мне закончить с ними, — и я кивнул на «Ан-26», вокруг которого все еще суетились черные коммандос. Окошко кабины приоткрылось, из него высунул голову Левочкин.
— Иваныч, подпиши манифест! — заорал Арам.
— Да я ж не имею права!
Сбрендил он, что ли? Манифест должны подписать местные чиновники. Ну, или хотя бы вот они, мои сопровождающие. Я подошел к ним и объяснил ситуацию. Я, мол, здесь неофициально, и моя подпись не должна фигурировать ни в одном документе. Старший кивнул, что-то сказал остальным на гортанном языке племени Гио. Те почему-то засмеялись.
— Иваныч, давай быстрее, мне гвинейцы закроют коридор, — торопил Арам. Он уже запустил двигатели, и лопасти начали вращаться, сначала справа по борту, а потом слева.
Начальник черных коммандос повернул ко мне голову.
— Подписывайте, Эндрю, это совершенно не имеет значения.
— Как не имеет? Из-за этой бумажки меня арестуют в любой стране, кроме вашей.
— Поверьте, для Вас это совершенно безопасно, — настаивал чернокожий. — Эту бумажку никто, кроме Вас не увидит.
— Тогда почему Вы не хотите подписать? — язвительно переспросил я этого парня. Он продолжал улыбаться, кажется, что-то издевательское появилось в его улыбке.
— Я? Ну, что ж, могу и я.
Он поднялся на борт через открытую рампу и вскоре вернулся своей расслабленной, чуть подпрыгивающей походкой. Как только он поравнялся со мной, он махнул командиру экипажа. «Взлетай.» Рампа закрылась. Левочкин задвинул свою форточку, и трудяга «Ан», заурчав еще сильнее, двинулся в сторону взлетно-посадочной полосы. «Борт» не стал дожидаться разрешения диспетчера, да в этом и не было нужды, во время войны здесь летали все, кто хочет и как хочет. Я стоял на бетонке и смотрел вслед самолету. Что-то мне не давало уйти отсюда, заняться симпатичной Маргарет или же хотя бы постоять под вентилятором в прохладной диспетчерской. Я стоял и смотрел, и мои охранники-коммандос тоже смотрели. Потом старший вернулся к ящикам со «стрелами» и стал его распаковывать. Чего тут особенного? Заказчик осматривает товар, да и все. Африканец развернул упаковку и стал шарить в контейнере в поисках рукоятки.
На той стороне полосы Левочкин разворачивал свой самолет в нашу сторону. «Будет взлетать против ветра,» — подумалось мне.
Черный коммандо пристегнул рукоятку и откинул пластиковый прицел. «Ан» постоял немного, а затем принялся набирать скорость.
Молчаливый африканец перевел устройство в боевое положение.
Колеса самолета тяжело оторвались от бетона, и воздушный грузовик стал набирать высоту.
Предводитель моих охранников широко расставил ноги и вскинул «стрелу» на плечо.
Самолет лег на левое крыло и стал делать круг над Сприггсом.
И тут я услышал характерный писк, он означал, что головка ракеты произвела захват. Ну, не мог я поверить, что он это сделает! Да, в боевых условиях именно так и проверяют русский стингер — если ракета сделала захват, значит, агрегат исправен. Но на спуск же во время проверки не нажимают. «С короткой дистанции, ведь так?» — ухмыльнулся коммандо и черный палец нажал на спусковой крючок. С каким-то сухим шипением ракета вылетела из пластиковой трубы и, оставляя за собой белый след отработанных химикатов, помчалась в сторону Левочкина.
Полет смертоносной сигары длился всего несколько секунд. За это время произошло многое. Сергей схватил свою камеру и принялся снимать эту сцену. Маргарет что-то заорала — то ли мне, то ли черному уроду в бронежилете. Я успел подумать, что ракета летит как-то некрасиво, занося зад, как заднеприводная машина на льду. Левочкин тоже успел заметить ракету. Он стал отстреливать тепловые ловушки, но они у него тоже были неисправны и лишь шипели, как мокрые бенгальские огни. Ракета попала в правый двигатель, причем, казалось, что она просто вошла в него мягко, как нож входит в масло, а потом куда-то в сторону развернулся винт и отделился от крыла, двигатель разлетелся вдребезги, и самолет закувыркался вокруг своей оси.
Взрыв я услышал после. Но нет, не должно быть так, до самолета чуть больше километра. Просто мое сознание дофантазировало, дорисовало за секунду до взрыва то, что произойдет после, и эти две реальности — одна у меня в голове, другая в небе над Сприггсом — наложились одна на другую.
«Ан», казалось, падает, как бадминтонный воланчик — резко вниз и почему-то вращаясь. В этом вращении от него отделялись какие-то неразличимые отсюда предметы. Я успел заметить сорванную рампу и с ужасом подумал, что увижу, как оттуда посыплются люди. Но этого не произошло, самолет упал в заросли невысоких, но очень густых деревьев, и оттуда над ними поднялся черный столб дыма. И снова с запозданием звук взрыва, теперь более гулкий. Конечно же, если бы на борту был мой груз, то рвануло куда бы сильнее, но Левочкин шел назад пустой, без боеприпасов. Там не могло ничего взорваться, кроме топлива. Все это длилось целую африканскую вечность, а закончилось за считанные секунды.
— Хороший товар, — сказал убийца трех пилотов. Президент будет Вам благодарен.
И он протянул мне свою широкую ладонь. Ничего особенного, обычная либерийская лапа, черная с внешней и желтоватая с внутренней стороны. Я хотел было отказаться от рукопожатия (хотел, честное слово!), но моя рука сама пошла навстречу его руке. А негодяй Левочкин догорал где-то в километре от меня.
Арам и его двое людей, конечно, были подонками, и по образу мысли, и по образу жизни. Но это еще не повод для того, чтобы забирать эту жизнь. Их ждали дома люди, которые любили их, ни за что, а просто так, потому что они были родными и желанными. От их добычи, вырванной из горла конкурентов, заказчиков и работодателей, кормились десятки людей в Крыму или где-нибудь еще. И теперь волей этого черного отморозка у них не будет хлеба. А там, на Родине, скажут по телевидению, что в Африке исчез экипаж очередного русского «ана». Произойдет это через несколько дней, в лучшем случае. Расследования никто проводить не будет, кроме формального, которое будет закончено усилиями местных чиновников. Вывод будет однозначным — человеческий фактор. На самом деле, «человеческий фактор» стоял рядом со мной и даже и не морщился, глядя на дым над местом падения самолета. Он будет продолжать вкусно есть, сладко пить, долго любить и зверски убивать. В общем, жить. В отличие от Арама и его людей.
А Сергей в этот момент уже выезжал из аэродрома на машине Маргарет. Он запрыгнул на водительское сидение и рванул с места так, что ему позавидовал бы и Шумахер. Он, видимо, знал то место, куда должен был упасть самолет Левочкина. Маргарет даже и не повернула голову вслед уезжающей машине. Ее полуоткрытые губы словно остановились, так и не позволив сорваться с них очередному ругательству в адрес земляка, но она вдруг замерла, глядя в сторону упавшего. Тут из диспетчерской выбежали люди и стали спрашивать, что случилось над Сприггсом. Девушка, не отвечая на их вопросы, повернулась ко мне и сказала:
— В этом Вы виноваты.
У меня не хватало сил и слов на возражения. Я хотел побыстрее уехать отсюда, мысли в моей голове крутились так же хаотично, как в синем небе сбитый только что «ан».
Так вот, Сергей прыгнул в кабриолет Маргарет и умчался в неизвестном направлении. Девушка оставила ключи в замке зажигания. Она была уверена, что на аэродроме с ее машиной ничего не случится. Глупая уверенность, однако, и это стало еще одним подтверждением того, что в Монровии надо постоянно ждать каких-нибудь неприятностей. Но Маргарет даже не обернулась в сторону своей уезжающей машины. Она стояла, глядя в ту сторону, откуда поднимался черный дым. Черный, маслянистый, неторопливый, с тяжелыми клубами. «Ан» был пустой. Когда горят боеприпасы или взрывчатка, самолет взрывается как-то весело, с осколками, летящими во все стороны, а дым над местом падения вырастает грибом особенно быстро, причем, он, скорее серый и прозрачный. И какой-то суетливый, если можно так сказать, словно торопится без остатка спалить поверженное творение гения авиаконструирования. Чаще всего бывает так, что фамилия этого гения Антонов.
Маргарет явно была в шоке. Я подошел и обнял ее за плечи, а она выскользнула и тихо опустилась на корточки. Так она просидела несколько секунд молча, а потом тихо завыла, совсем, как бездомная собака. Она подняла на меня свои влажные черные глаза, не переставая выть, и от этого сходство с собакой еще больше усилилось. Большая побитая бездомная африканская собака. Такую животинку лечить надо домашним теплом. Надо отвести ее домой, вот что решил я, и она перестанет скулить.
— Отвезешь? — спросил я у охранника-убийцы как можно спокойнее.
Но тот уже сидел вместе с остальными в своей машине. Он захлопнул дверцу «дефендера».
— Извините, сэр, у нас появилось срочное дело.
Джип резко газонул, и машина помчалась в сторону ворот, туда, куда только что уехал белый кабриолет. Я вдруг заметил, что возле моих ящиков уже суетятся люди в грязном камуфляже, человек двенадцать. Они резво уносили контейнеры, один за другим, в сторону пакгауза. Мой груз. Разве он мой? Он давно уже превратился в деньги, которые — вот уж действительно! — я с удовольствием положу себе в карман. В виде кредитной карточки. А, может быть, упакованный аккуратными зелеными брусочками в портфель или спортивную сумку, денежный эквивалент моего груза уже ждет меня в аэропорту чудесного города Дубай. В прекрасном аэропорту, так не похожем на либерийскую клоаку. С золотыми пальмами посреди огромного прохладного белого зала, а не с этими чахлыми вениками возле пакгауза, из-под которых к тому же всегда несет мочой.
Я поднял Маргарет и, продолжая поддерживать, повел ее в сторону ворот аэродрома. Она ступала так медленно, словно шла по тонкому льду и боялась поскользнуться. А видела ли она когда-нибудь лед? У нее были красивые ступни с высоким подъемом, который подчеркивали очень сексуальные красные босоножки на невысоком каблучке. Я, глядя на ее ноги, обратил внимание, что у черных женщин кожа становится желтой там, где начинается подошва и пятки. У черных мужчин, наверное, точно так, но мужчины меня всегда интересовали как деловые, а не сексуальные, партнеры, поэтому на их ноги я не глядел.
Мы вышли из желтых ворот с нарисованными от руки синими буквами «Spriggs Air Field. Military base. ID is necessary while demanded by military personnel.» Сюда мы проехали безо всяких документов, и никакого военного персонала, спрашивающего Ай-Ди, я почему-то не заметил. Зато я помнил, что где-то рядом стоянка оранжевых такси, и, в крайнем случае, хотя бы один таксист, но должен дежурить. Так и было. Возле киоска с пивом стоял видавший виды «рено-комби» неопределенного года выпуска.
— Куда, маста? — спросил пожилой водитель, коверкая до неузнаваемости слово «мистер».
Ох, уж эти лингвистические чудеса черного континента. К тому моменту я провел в Либерии не один месяц, в общей сложности, конечно, но так и не смог привыкнуть к местному произношению. Я отдавал себе отчет, что все вокруг поголовно говорят по-английски, но вот о чем говорят, понять не мог до тех пор, пока собеседник или собеседники не снижали темп своей специфической речи. Видимо, они тоже не понимали мой английский, который мой лондонский партнер Питер Дойл называл «далеким от совершенства, но приятным на слух». А здесь пришлось привыкать к другому английскому. Как-то нужно было мне из Монровии съездить километров за сто, в город Тубманбург. Отъезжаю от гостиницы, водитель спрашивает: «Where to go?» Я говорю: «Tubmanburg», стараюсь произнести как можно правильнее. Едем. Минут через пять водитель снова спрашивает:«Where to go?» Ну, думаю, суровый таксист забыл, куда мы едем. Напоминаю:«Tubmanburg». Водитель кивнул головой и снова замолчал. Проехали, ну, может быть, еще пять минут. Чувствую, старик снова хочет что-то спросить. «Что не так?»— спрашиваю. Он мне, видимо, начиная злиться: «Where to go?» Я тоже злюсь и, растягивая гласные, грассирую всеми согласными: «Tubmanburg». Шофер кивает головой, останавливается возле каких-то черных таксистов, выходит, интересуется направлением, те ему, видимо, показывают, куда ехать, он возвращается и садится в машину. Едем. Молчим. И тут парень издал знакомый звук. «Where to go?» — говорит. Меня прорвало. Я ему рассказал, что он глухой, тупой и слепой водитель, что сначала нужно научиться водить, а потом работать таксистом, и, конечно, сказал, что мы едем в Тубманбург. А для убедительности показал на указатель направления, на котором белым по синему было написано «Tubmanburg 96 km», нам повезло, он рядом оказался. И тут водитель вздохнул радостно, кивнул головой и сказал: «А, Тубманбург» Ну как он это произнес!!! «Tubmanburg» звучало примерно так «Pum-bum-buh» И тут до меня дошло — он меня не понимал. А я его понял только благодаря помощи дорожных знаков. Но потом и я научился. «Gofreh» это не гофрэ, это «Good friend», «tank» это не танк, а «thanx», «afi» означает аэродром «air field», и так далее. Удивительно, но со временем и сам начинаешь говорить примерно с таким же акцентом, ну, чтобы тебя понимали.
— Так куда, маста? — повторил свой вопрос старик. Я усадил Маргарет в машину и сел с ней рядом на заднее сидение.
— Домой, — говорю.
Но я же не знал, где она живет. Я повернулся в сторону Маргарет, чтобы спросить, куда ехать, но она упредила мой вопрос.
— Не надо домой, — сказала Маргарет. — Ресторан «Бунгало» знаете?
— Кто не знает ресторан «Бунгало» в Монровии! — улыбнулся своим редкозубым ртом водитель. — Морис знает все и всех в этой стране. А все знают Мориса.
Так, видимо, звали нашего водителя. Морис, причем с ударением на последний слог. Странно, думаю.
— Морис, — говорю, — а Вы из какого племени?
В Либерии такой вопрос не считается неприличным. Раньше, когда в каждом племени в момент совершеннолетия наносили юношам особые насечки и татуировки на лицо и тело, всегда по рисунку можно было определить, с кем ты имеешь дело. Но после того, как Западная Африка стала независимой, и межплеменные войны превратились в межгосударственные, такая необходимость отпала, ведь представители одного и того же племени могли оказаться по разные стороны баррикад.
— Я Мэнде, из Гвинеи. Но здесь уже лет двадцать, — и водитель замолчал на несколько минут, потом переспросил:
— А что, меня выдает французское произношение?
— Нет, веселое настроение, — отвечаю, — в Либерии люди разучились улыбаться по-доброму.
— Это правда, — хохотнул Морис. — Вы видите, у меня нет зуба. Так это не от старости, а от веселости. Получил по зубам от солдата на чек-пойнте. Подвез его из пригорода. Всю дорогу развлекал его веселыми историями, а он так и не расплатился. Вышел, заехал в морду прикладом, говорит, слишком много смеешься, когда Родина в опасности. Да я не в обиде. Они же все под дурью, по-другому как можно воевать. Да и ехать было недалеко.
— Не волнуйтесь, — перебиваю я нашего гвинейского говоруна. — Мы заплатим и в зубы бить не будем.
— Только не надо никаких историй, — подала голос Маргарет, забившись куда-то в дальний угол салона.
Морису, видимо, стало неловко. Он начал искать сигареты, и я дал ему целую пачку. Я, как уже вы знаете, курю только «Ойо де Монтеррей», такие маленькие коричневые сигарки, которые на Кубе стоят меньше доллара за пачку, а в любом европейском аэропорту такая же пачка обходится по пятнадцать баксов. Но в Африке стоит держать в карманах всякую дребедень на подарки. Я, например, носил с собой курево. Либерийцы любят, когда их чем-нибудь угощают. Большие чиновники предпочитают взятки, люди попроще и калибром поменьше соглашаются даже на сигареты.
— Американские? — посмотрел Морис на распечатанную пачку «честерфилда».
— Украинские, — говорю. Не так давно транзитный «борт» из Мелитополя забросил мне целый ящик этой гадости.
— М-м-м, — одобрительно замычал таксист после первой же затяжки. Остальную дорогу мы ехали молча.
ГЛАВА 5 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. «БУНГАЛО»
Через десять минут мы остановились возле невысокого каменного забора, за которым располагался дворик ресторана, весь уставленный столиками. Над некоторыми возвышались бамбуковые конструкции, оправдывающие название ресторана — «Бунгало». Заведение было довольно приличным, пожалуй даже, достаточно приличным для Монровии. Мебель деревянная, лакированная. Под ней отполированная разноцветная брусчатка, ничуть не хуже новомодной, которой так любят выкладывать тротуары в Москве. Черно-лиловые официанты в белых накрахмаленных костюмах сновали туда-сюда, разнося еду и напитки. В основном, напитки, а именно пиво «Стар» из соседней Сьерра-Леоне. То ли контрабанда, то ли гуманитарная помощь.
Как только мы прошли сквозь деревянные ворота, служившие входом в ресторанчик, к нам тут же подбежал молодой парень, белизна спецодежды которого конкурировала с белизной его зубов. Официант улыбался на все тридцать два.
— Ваш столик, как всегда, ждет Вас, — обращался он, в основном, к Маргарет. Она тут завсегдатай, догадался я. И ошибся. Маргарет в этом ресторане бывала редко, но ее персональный стол всегда ждал ее. И не только стол, но и небольшой кабинет с компьютером, деревянными счетами и дорогущей чернильной ручкой на подставке. Мисс Лимани была хозяйкой ресторана.
— Две бутылки «Стар», четыре рюмки текилы, — бросила она, не глядя на официанта. Зато посмотрела на меня. Лицо мое было изможденным, но я не производил впечатления голодного человека. И все же Маргарет продолжила заказ.
— И жареную рыбу. Много рыбы.
Мы сели за дальний от входа столик под навесом. Солнце клонилось к линии горизонта. Здесь, в Западной Африке, светило как-то быстро прячется на ночь, сначала медленно подбираясь к горизонту, а потом резко сваливаясь за кромку неба. «Как подбитый самолет,» — невесело подумал я, глядя на Запад. Роскошный красный оттенок заката еще не успел превратиться в черный, а здесь, в ресторане «Бунгало», уже заработал генератор, застучал своими поршнями, и над столиками зажглись самые обычные желтоватые лампы-шестидесятиватки. В Монровии не было электростанций, поэтому те, кто побогаче и поактивнее, устанавливали в своих домах генераторы. Ну, и в офисах с ресторанами, как водится, тоже. А большинство населения этой страны погружалось в темноту. Наверное, вот эта двенадцатичасовая ночь, с шести вечера до шести утра, способствовала увеличению населения Либерии. А что же делать крестьянам в темноте, чем тешить душу и тело, когда половина их жизни проходит наощупь? Вот и работают они над продолжением рода, нащупав в темноте своих жен.
Маргарет выпила первую рюмку текилы и запила ее широким глотком пива. Официант, встретивший нас у входа, глаз с нее не спускал. Правда, стоял он теперь возле барной стойки, почти вполоборота в нашу сторону.
— Друзья меня называют Мики, — сказала девушка. Забыла, что ли, как мы знакомились на аэродроме? Она посмотрела на дно пустой рюмки и пододвинула к себе поближе полную.
— А я Андрей, Эндрю. Друзей у меня нет. Одни партнеры.
— Тогда будем дружить? — полувопросительно-полуутвердительно, но вполне серьезно, произнесла Мики и приподняла вторую текилу.
— Давай для начала станем партнерами, — попытался я улыбнуться, и Маргарет правильно поняла, о каком партнерстве речь. Но улыбкой не ответила, продолжала серьезно смотреть своими черными глазами в мои. Кажется, зеленые, или серые, не помню, цвет собственных глаз меня никогда не интересовал.
Принесли рыбу. Какое-то странное блюдо — рыба была словно раздавлена и залита приторным соусом красного цвета. Блюдо напоминало переваренную уху высокой концентрации. Выглядело кушанье неаппетитно, но пахло, в целом, пристойно.
— Хочешь быть моим партнером? Тогда съешь кусочек из моей тарелки. Бери-бери своей вилкой, не стесняйся. А теперь я съем из твоей. Да не так. Ты мужчина, значит, ты должен взять тарелку с рыбой в одну руку, а другой кормить женщину.
Я поддел кусочек рыбы и поднес его ко рту Мики. Девушка чуть приоткрыла губы и осторожно, нежно, как лама в зоопарке, взяла кушанье. Она не делала ничего нарочитого. Ну, знаете, иногда, когда кормишь женщину с руки, она словно принимается играть эротическую сцену из старого кино, «Девять с половиной недель», например. Посасывает кончик вилки или ложки; проглатывая еду, долго не отпускает столовый прибор, а отпустив, вздыхает так, словно у нее не вилку изо рта вытащили, а крепкий член убрали из влагалища. Я не люблю такую псевдоблизость, она полна фальши. Она даже антисексуальна, если хотите, и убивает всякое желание обладать женщиной, как по мне. Но Мики ничего подобного и не собиралась делать. Она просто ела, аккуратно и медленно, и ее черные пухлые губы, немного влажные (она ведь все-таки подбирала язычком следы соуса) и, конечно же, большие, заставляли думать меня вовсе не о еде.
— Я научу тебя, как правильно сказать на языке Мандинго слова «Я люблю тебя», я покажу тебе, как любят женщины народа Мандинго без лишних слов, — сказала Маргарет, прожевав рыбу. — Быть может, я полюблю тебя, не знаю. Но ты меня полюбишь наверняка.
— Это что, стихи?
— Нет, это проза жизни, я тебя захватываю в плен, как рыбак однажды захватил эту рыбу. Потому что я хочу у тебя выведать тайну.
— Какую тайну? Я весь на ладони.
И я положил вилку на стол, раскрыл свою руку. Маргарет взяла ее в свою.
— Почему ты ничего не сделал с этим убийцей? — спросила она. — Ты ведь не испугался его, я видела это по твоим глазам. Но ты не остановил его, когда он убивал твоих друзей.
— Это не мои друзья. Они жадные жлобы, то есть, они были жадными людьми, которые не жалели ни себя и ни других ради денег. Особенно других. И у них остался мой перстень.
— Я помню. Я видела его у тебя на руке, когда мы остановились на дороге. Я сразу поняла, что ты не ассистент этого журналиста, Сергея. Ассистенты не носят бриллианты такого размера.
ГЛАВА 6 — АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ КАНДАГАР, ЯНВАРЬ 1989. ПЕРСТЕНЬ
Мне было жаль этот перстень. Я привез его из Кандагара. Вместе с раненым афганцем, которого наши пассажиры едва не завалили на взлетке перед моим самолетом. Если честно, то было, за что. Мы ждали вылет на Баграм. Только что разгрузили муку и коротали время на завалинке под глинобитной будкой коменданта аэропорта. Должна была подъехать десантура, человек пять, вместе с каким-то медицинским грузом. В Кандагаре сворачивали госпиталь, и часть оборудования нужно было перебросить в Баграм, а потом в Союз. Десантники явно опаздывали, наш командир начал нервничать, рванулся в комендантскую будку с явным намерением обложить по телефону коллег из ВДВ, как вдруг на территорию аэродрома влетает «ГАЗ-66», и мы видим следующую картину. Из машины со страшным матом выпрыгивают солдаты в пожелтевшей форме и вытягивают носилки, на которых лежит человек. Голова прикрыта белой тряпкой с пятнами крови. Густая красная жижа капает на серый песок. Тяжело ранен, но еще жив. Рука и кусок выцветшей до желтизны формы, она безвольно болтается из стороны в сторону, цепляя спутанные трубки капельницы. Снова руки, грязные и уверенные, держат бутыль с раствором. Мелькает распахнутый халат незнакомого мне военврача. «Быстро заводите самолет!» — кричит лейтенант в тельняшке. Мы бежим к машине. Командир ни о чем не спрашивает. Не помню как, — возможно, из несвязных обрывков нервного разговора десантников, — но мы поняли, что десантники нарушили приказ останавливаться в городе. Скоро домой. Из Баграма их должны были перебросить в Ташкент. И десантура решила устроить шоппинг. В Кандагаре в дуканах можно найти было все, что угодно. Пока прапорщик рассматривал какое-то тряпье своей жене, дембель выторговывал у дуканщика магнитофон. Лейтенант сидел в кабине «газона», ему предстояло еще несколько месяцев трубить в Афгане, а посему выходить из кабины лейтенанту было лень. Никто не видел, как человек в черном с мелкими полосками тюрбане подошел к военным. Как достал тесак. Как легким коротким движением ударил солдата. Первым среагировал прапорщик. Он моментально выхватил нож и вогнал его в печень афганцу. Зачем-то, инстинктивно, возможно, чтобы не привлекать внимания, десантники затянули оба кровоточащих тела в кузов машины и помчались на аэродром. Они знали, что шанс спасти солдата был только в Баграме, в лучшем госпитале на территории Афганистана. Солдата так и не спасли. Врачи потом говорили, что голова его развалилась прямо на операционном столе, в таком случае они используют странный термин «убит, но не умер», к слову, к этой терминологии привыкнуть невозможно. А убийцу выбросили из кузова прямо на бетонку. Он был жив. Тот самый прапорщик, который нарушил приказ и который ударил афганца ножом, уже передернул затвор «калаша». Он хотел расстрелять человека прямо здесь, возле нашего борта.
Не знаю, что тогда на меня нашло, но я встал между прапором и моджахедом. А, может, он и не был никаким душманом. Просто сумасшедший афганец, который ненавидит чужаков. Мне его стало жалко. Я сказал десантнику: «Сначала вали меня, потом его!» Для того это не было проблемой. Я заметил, как ствол автомата пошел вверх. У этих, из ДШБ, была отработана и отложилась в подсознании та самая манера стрельбы, которой научил меня Леша Ломако — нажимать курок еще до того, как ствол сровняется с целью. «Ты что, охуел?!» — услышал я голос нашего командира. Он мне, что ли, кричит? — «Опусти ствол! Этого тоже грузите в самолет.» У прапорщика плечо было в крови. Видно, афганец зацепил и его. Десантник опустил автомат. Его лицо изуродовала гримаса ненависти. Он рыкнул на меня, оскалив свои желтые крупные зубы, и потянулся раскрытой лапой к моему лицу. Я услышал запах крови и перегара. «В самолет его, Пащенко, или не слышишь?» — подал голос лейтенант. «А ты отдохни,» — бросил мне наш командир мимоходом, когда я садился в свое кресло. — «лучше придержи носилки с черножопым, чтоб не болтало по отсеку.»
Рядом с афганцем возник вакуум. Воображаемая санитарная зона. Ну, и вокруг меня тоже. Чумазые солдатские лица смотрели на меня, как на вошь. Я не был им врагом, просто они не понимали мотивов моего поступка, а значит, я для них был чужим. «Душман» на фарси означает «враг». Душманами наши называли всех бородатых немытых людей в пакулях и длинных одинаковых камизах. То есть, чужих. Незнакомый, диковато одетый человек с непонятно какими мыслями в душе автоматически становился душманом. Врагом. Чужим. Так было легче выжить на войне. Я понимал это и я понимал, о чем сейчас думают дембеля в нашем самолете, глядя на меня и этого афганца. А он еще и заговорил по-английски. Причем, хорошо так, почти без восточного раскатистого акцента. Двигатели ревели. Афганец жестом поманил меня поближе к себе. Лейтенант напрягся.
«Ты меня спас, но я уже мертвый,» — сказал раненый громко.
Я кивнул головой. Краем глаза заметил, что губы лейтенанта скривились в коротком ругательстве.
«Зачем ты сделал это?» — сказал душман.
Я выпрямился и пожал плечами. Он снова поманил меня к себе.
«Я Дуррани.»
«Кто?» — переспросил я.
«Я Дуррани, потомок шаха.»
Он явно бредил.
«Я Дуррани!» — вытолкнул из себя вместе с кровью эти слова афганец. «Это мы сделали эту страну.»
«We made this country,» — есть некая двусмысленность в этом устойчивом фразеологизме. Мы сделали, мы совершили, мы построили. И вместе с тем — мы добились, мы победили, мы побили. Я уже тогда все чаще и чаще приходил к мысли, что никто не способен эту страну победить. Nobody's able to make this country. Но и сделать ее тоже невозможно. Так и уготовано ей всемирной судьбой быть вечной территорией вне времени, улыбающейся нам в лицо выщербленной улыбкой желтых гор.
Я думал, стоит ли мне вообще вступать с раненым в диалог, и только кивал головой. Афганец схватил меня за руку. Потом сорвал с головы полосатый тюрбан и сунул мне его на колени. Я брезгливо раздвинул ноги, и ворох тряпок упал на бугристую поверхность пола. Афганец затих, лейтенант сплюнул и повернул голову к своим дембелям. Они принялись резво шарить по карманам в поисках сигареты. Мы не разрешали курить в самолете, но сейчас был не тот случай. Я взглянул на упавший тюрбан. Из тряпок выкатился какой-то предмет. Я посмотрел на десантников. Кажется, они ничего не заметили. Я поднял эту вещь. Перстень. Тяжелый. Рассматривать его я не стал. Просто сунул в карман летной куртки. Когда самолет сел в Баграме, человек, говоривший со мной, был мертв. А раненый солдат еще не умер, но ведь он уже был убит. В Баграме на земле не было суеты.
Может быть, этот человек и в самом деле был потомком шаха Дуррана, могила которого до сих пор сохранилась в районе старого политехнического института в Кабуле. Здесь, в Афганистане, и не такое бывает. Это можно доказать или опровергнуть. Нужно только провести экспертизу перстня. Но что это даст, спрашивал я себя, пускай даже этому украшению двести лет. Афганец мог оказаться обычным вором, укравшим его в любом местном музее. Бывшим охранником состоятельного человека, сбежавшим вместе с таким ценным трофеем. Стукнул хозяина кистенем по голове, как это сделал в дукане, вот и вся история. Кем бы он ни был, нас он ненавидел гораздо больше, чем любил свою кандагарскую жизнь.
Я не доставал этот перстень из кармана куртки до самого Ташкента. Я знал, что в нашей родной военно-транспортной авиации даже обшивка самолета имеет глаза и уши. Я заставил себя забыть о перстне, и уже дома узнал — это настоящий бриллиант. А если афганец говорил правду, если он был потомком шаха, то камень, вполне возможно, является не чем иным, как осколком самого знаменитого алмаза в мире. «Кох-и-Нур»! Камень, победивший время, империи и жажду власти десятков правителей.
Ему по легенде было не меньше пятидесяти веков. За эти пять тысяч лет с ним произошло пять тысяч историй, конечно, кровавых, но большей частью, полулегендарных. Одна же была наверняка невыдуманная.
ГЛАВА 7 — ГОРА СВЕТА
В тысяча семьсот тридцать девятом году в Северо-Западную Индию вторглись персы. Их вел непобедимый Надир-шах. Он начисто разгромил армию императора Мухаммеда, самодержца империи Великих Моголов и захватил все его сокровища. В том числе, и знаменитый трон, украшенный этим алмазом. Удача! Но не полная. Гордый перс взошел на трон, за который воевали поколения его предков. Он предвкушал, как будет, сидя на нем, принимать почести от посланцев той половины мира, которая отныне безраздельно ему принадлежит. И глаза их ослепнут от блеска самого большого в мире бриллианта, который искусно вмонтирован в изголовье трона Моголов. Но впервые войдя в императорский тронный зал, Надир-шах чуть не расплакался от досады. На том месте, где трон украшал огромный бриллиант, была скучная дыра, угнетавшая венценосного перса своей нелепостью. На золоченой поверхности были хорошо заметны царапины от ножа. Камень, который служил символом власти, оказывается, можно было выковырять из трона, как занозу из грязной ноги любого простолюдина. Несомненно, великий Надир-шах знал о существовании этого камня, как знал он и легенду, согласно которой власть в самой могучей империи того времени мог удержать только тот, кто обладал этим алмазом. Победитель, как и побежденный, тоже был мусульманином. И мудрым человеком. Он велел найти самую старую и некрасивую женщину в гареме разбитого императора и провел с ней ночь. Игра стоила свеч. К утру шах знал, что бриллиант спрятан в тюрбане у Мухаммеда.
Поверженного монарха пригласили на пир. Тогда люди еще чтили правила и обычаи ведения войны и могли разделить трапезу с противником. Перс обратился к моголу, который уже никак не мог считаться великим, с предложением: «Давай, мол, дружище, в знак примирения обменяемся тюрбанами!» Отказаться было нельзя. Этот обычай, обмен тюрбанами, тоже был частью правил ведения войны и заключения мира. И вот Мухаммед снимает свой скромный походный тюрбан. Терпения победителю не хватает, и он разворачивает головной убор еще до окончания пира. И вот, из бесконечных складок материи падает на белый пол розоватый камешек весом в триста карат. Его бесчисленные грани отражают огонь факелов на стенах трапезной, и тем, кто пировал вместе с обоими монархами, кажется, что свет тысячи солнц внезапно выпустили на свободу. «Гора света!» — закричали тогда персы. «Кох-и-Нур», так это звучит на фарси. В этот момент камень и получил своё имя.
Удивительно, но камень в самолете в мои руки попал из тюрбана.
Раскопав эту древнюю историю некоторое время спустя, я все же своим умом понимал, что параллели искать не стоит. Это лишь мои домыслы плюс красивая легенда. Даже если этот человек говорил правду, древний бриллиант не могли распилить в Афганистане. В восемнадцатом веке, когда «Кох-и-Нур» от персов перешел к шаху Дуррану, афганцы не владели технологией столь сложной обработки драгоценных камней. Хотя, как говорят знатоки бриллиантов, именно в это время «Кох-и-Нур» стал легче на сто карат.
Мой алмаз был довольно грубо обработан. Скорее всего, некогда он был частью более крупного камня, который подровняли для красоты. На сто карат он не тянул, куда там, но ведь когда алмаз обтачивают, от него откалывают обломки разной величины. Блестел мой бриллиант не хуже «Горы света». Я, как и древний шах, получил его из рук врага. За то, что проявил благородство. Не знаю, правду ли говорил о своем королевском происхождении тот афганец, но я точно не «голубой крови». И все же, на этой унылой взлетке и потом, в самолете, мы с ним повели себя, как настоящие короли. Может быть, в первый и последний раз в жизни.
Вернувшись на родину, я очистил грубо отделанный металл перстня и уже не снимал его. До того самого дня, когда я встретил в Сприггсе Арама Левочкина и его людей. И вот я ем рыбу и рассказываю о своем бриллианте чернокожей девушке из народа Мандинго, которую зовут Маргарет.
ГЛАВА 8 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. БУТЫЛКА «КОНЯГИ»
Маргарет задумалась. Куда больше, чем мой алмаз, девушку волновал Журавлев, который угнал ее машину в неизвестном направлении.
— Послушай, — спросила девушка. — Как мы найдем этого журналиста, Сергея?
— Он сам найдется, поверь. Он замечательный журналист, а они, как ты знаешь, всегда уходят невпопад и появляются не вовремя.
— Я знаю. Он умчался туда, куда упал самолет.
— Я это тоже знаю. Ну не в миссию же ООН ему гнать твой БМВ, чтобы пожаловаться на убийц, которых покрывает президент.
— А почему ты решил, что они люди президента? — переспросила Маргарет.
— Ну, вероятно, потому, что они охраняли меня и груз, предназначенный для армии Его Величества Тайлера Первого Великолепного.
В этот момент в ресторане появился очень эффектный чернокожий, в гавайской рубахе, расстегнутой практически до пупа, из-за ворота выглядывала толстенная золотая цепь.
— Похож на того убийцу, правда? — спросила девушка.
— Похож, — вынужден был согласиться я. Парень и в самом деле почти как брат-близнец был похож на того самого коммандо, который сбил самолет Левочкина. Высокий, худощавый, широкоплечий настолько, что, казалось, он мог бы укутаться в собственные плечи, как летучая мышь кутается в свои крылья.
— Только в военной форме он более сексуален.
— Ты хочешь сказать, что тот парень на аэродроме выглядел более эффектно?
— Нет, я говорю, на аэродроме был этот человек, и там он был более сексуален!
Я удивленно посмотрел на Маргарет. Она была взволнована, нет, даже не взволнована, а возбуждена. Ее и без того широковатые ноздри раздулись, как у породистой кобылы на скачках, необъятная грудь заходила вверх и вниз. Я слышал, что у некоторых людей бывает такая реакция на опасность, у одних проявляется непомерный аппетит, другие наоборот впадают в полукому и голод, у третьих вот просыпаются сексуальные инстинкты, и человек прячет свой страх в совершенно животное удовольствие, как иные прячут украденные деньги в хозяйственную сумку. Я был прав тогда на аэродроме — ее надо было вести домой.
— Поехали, — говорю — к тебе.
— Нет. Теперь нет. Или... вот что. Поедем!
Она посмотрела на меня как-то испытывающе, словно оценивая.
— Мы возьмем его с собой.
— Кого его?
— Вот этого, с аэродрома.
— Да какой же он «этот», Мики? — попробовал я возразить. — Он просто похож. Тот же типаж, вот и все.
Похоже, Маргарет слегка опьянела. Черный парень с аэродрома вряд ли успел бы так быстро переодеться в штатское и приехать в ресторан.
— Это он, он, я вижу! — настаивала девушка.
— Да как же ты можешь видеть, если сейчас он повернулся спиной?
— Мне все равно теперь, — тряхнула плотными и упругими, как пружинки, кудрями девушка. — Он будет третьим!
Она произнесла это тоном, исключающим любые возражения. Я вполне правильно ее понял. Но ведь она совершенно не поинтересовалась, хочу ли я быть вторым в сложившихся обстоятельствах!
Маргарет встала со своего стула, чуть не перевернув его, а затем решительно направилась к противоположному концу площадки, где сидела развеселая мужская компания, к которой присоединился наш чернокожий мачо. Она двинулась так целеустремленно, что публика за тем столом не могла не обратить на это внимание. Красавец сначала улыбнулся приветливо, а затем, растерянный, напряженный и готовый к любому развитию событий, начал приподнимать свою задницу над деревянным сиденьем. Конечно же, это был совсем не тот, чернокожий рейнджер на аэродроме. Но парень и впрямь был очень похож на человека, сбившего русский самолет. Кто знает, чем бы закончился этот вечер, если бы на пути у Мики не возник еще один мужчина. Причем белый. Сергей Журавлев, журналист, собственной персоной.
Они столкнулись, как два стритрейсера на перекрестке. Сергей вбежал в «Бунгало», и, увидев меня одного, помчался к моему столику. Он поднял руку в приветственном жесте, и Маргарет ударилась головой о его локоть. Оба вскрикнули о боли. Сергей схватился за руку, а Мики стала оседать на пол, как сегодня днем на аэродроме. Журавлев, забыв о своей руке, успел схватить девушку подмышки. Маргарет овладела собой. Она тряхнула головой, словно отгоняя дурман, осознала, наконец, что перед ней угонщик ее роскошного кабриолета и сурово так сказала: «Ключи!»
— Отдам, конечно, отдам, только у меня руки заняты, — ответил Журавлев. Маргарет все еще была в его щедро раскрытых объятьях.
Я поднялся и, улыбаясь официантам, которые за считанные секунды начали подтягиваться к месту столкновения, перехватил девушку из рук журналиста. К выходу мы направились втроем.
По Монровии невозможно ездить слишком быстро. Асфальтом покрыты лишь улицы в центральной части города, да и то настолько фрагментарно, что попав в какую-нибудь яму можно оторвать оба моста, и передний, и задний. Главная же опасность ночной езды в том, что освещение отсутствует даже на центральных улицах, не говоря уже об окраинах. Тусклый свет пробивается через полуоткрытые двери домов и едва угадывается за стеклами небольших будочек-киосков, возле которых толпятся полупьяные монровийские мужики. В таких киосках круглые сутки можно купить пиво, сигареты, и если надо, гашиш, которым торгуют почти в открытую. Пиво пьют тут же, стеклянную бутылку нельзя уносить с собой, ведь она не входит в стоимость напитка. Кстати, очень скоро я узнал, что часть этих пивных ларьков контролирует эта девушка, которая везла к себе домой двоих русских, журналиста и торговца оружием.
Впрочем, если уж быть точным, то везла не Маргарет, а Сергей. Он сразу, без разговоров, сел за руль БМВ и посадил девушку рядом с собой. Я расположился сзади.
— Ну, показывай дорогу, — он повернул голову к Мики.
— Прямо, — сказала она, махнув рукой почти так же красиво, как военные, из-за которых сегодняшний вечер пошел у меня совершенно не по плану.
Откуда и когда Мики достала бутылку «коняги», я так и не заметил. Да и вообще, почему этот восточноафриканский напиток оказался в Западной Африке?
Я хорошо знал «коняги». Когда-то в Дар-эс-Саламе меня угостил этой бодягой Пьер Бахагазе, командир отрядов народа хуту, чье восстание разнесло в щепки небольшую страну Бурунди. Боевики героически воевали в бурундийских горах, а Пьер сидел рядом со мной в номере «Интерконтиненталя» в соседней вполне безопасной стране и угощал своего поставщика, то бишь, меня по традициям своего народа. Видимо, традиции были скудными, и не отличались щедростью. На столе моего люкса расположилась на одноразовой тарелке жареная курица за два доллара и вот такая точно бутылка танзанийской водки «коняги» с желтой этикеткой и запахом одеколона. Пьеру нужны были боеприпасы, патроны для устаревших «калашниковых» — ну, это не было проблемой, в России и в Украине такого добра хоть экскаватором черпай, но он хотел еще и выстрелы для подствольных гранатометов. А я никак не мог взять в толк, зачем он хочет эти выстрелы. Спросить в лоб об этом я не мог, этот Пьер был довольно резким парнем, которого даже свои прозвали Бешеным. К тому же, на входе в номер стоял его охранник, про которого говорили, что он однажды убил офицера ООН и чуть ли не съел его. Я слегка, словно между делом, заметил, что, мол, ни разу не слышал, чтобы подствольник монтировался на старый «калаш»; а Бахагазе, вместо того, чтобы тут же застрелить меня за излишнюю проницательность, принялся причитать, как восточный торговец на Измайловском рынке, и вешать мне на уши длинную лапшу о том, что его гениальные оружейники в лесах над Бужумбурой смогли сделать чудо боевой техники — соединить старый автомат с новым с подствольным гранатометом. Я, конечно же, и глазом не моргнул и никоим образом не дал понять, что заподозрил что-то неладное, но ведь у этих черных парней из джунглей просто какая-то звериная интуиция. Пьер ныл и ныл, но в какой-то момент в его глазах появился недобрый огонек. Пришлось тушить его вот этим самым «коняги». А боеприпасы для гранатометов? да, пустое все. Я совершенно правильно догадался тогда, что Пьер был и сам не прочь подзаработать. Потом выяснилось, что президент соседней Уганды решился купить для своих солдат оружие поновее, и Пьер, надеясь на шапочное знакомство со мной, обещал ему помощь. Ну и пусть, я не обеднею. За тебя, Пьер! За нашу большую интернациональную черно-белую дружбу! Всегда нужно пить местные напитки, если ты гость в чужой стране. В Дар-эс-Саламе желтый одеколон для внутреннего употребления шел прекрасно.
До сих пор не знаю, как эта бутылка «коняги» оказалась здесь на западном побережье Африки, в белой машине, принадлежащей черной красавице. Какое-то напоминание о прошлом. Впрочем, мы все живем воспоминаниями, всплывающими, как бутылки с посланиями посреди океана сознания.
Да, бутылка... Маргарет открыла «коняги» и сделала довольно большой глоток, почти на четверть бутылки. Эффект этого напитка был мне хорошо известен. Он дает долгое и устойчивое опьянение, которое наступает обычно после второй рюмки. Мики же, я заметил, отхлебнула на две рюмки сразу.
Она сунула «коняги» Сергею, тот, оставив на руле левую руку, взял бутылку в правую и поднес ее сначала к глазам, а потом к носу. Потом снова к глазам. Напиток явно вызывал у него подозрение.
— Пей, не отвлекайся, следи за дорогой, — говорю ему. И для убедительности повторяю — Пей, раз дают.
— Давай ты, Андрей Иваныч, первый, — и Сергей протянул сосуд мне на заднее сидение. Я не глядя отпил грамм пятьдесят, потом, спустя минуту, еще. Между первой и второй перерывчик небольшой, так ведь, кажется, у нас говорят. Лимонно-одеколонный напиток обжег горло, и оно приятно занемело. Но потом в нос ударил этот странный запах, и захотелось его чем-то забить. Я сразу зафыркал, пытаясь выдохнуть химический аромат напитка и вдохнуть свежий воздух. Получилось. И, что особенно хорошо, сразу пришло какое-то чувство расслабленности и внутреннего спокойствия. А его-то, как раз, мне и не хватало.
Дальше ехали молча. Мимо распахнутых дверей, мимо, хозяек, готовивших ужин в котлах, на кострах, прямо перед своими домами, мимо детей с большими от голода и рахита животами, мимо стариков и старух, сидящих на порогах своих домов, с ногами, неподвижно лежащими в пыли, с лицами, на лоснящейся поверхности которых играли отблески сигаретных огоньков. Мимо смешанного запаха гниющих джунглей и гниющего города, мимо пьяных гортанных криков и звона бьющегося стекла и фарфора. Бутылка ходила по рукам, пока, наконец, не опустела, я бросил ее на резиновый коврик рядом с собой, она упала с глухим стуком, укатившись куда-то под водительское сидение, и я сразу забыл о ней. Я смотрел на Монровию. Дома, дома, дома, невысокие, закопченные, однообразные. Копоть на их стенах чернее той ночи, сквозь которую мы едем. А вот какой-то пустырь между домами. Нет, не пустырь, это улица, а в конце ее открывается порт, а дальше Атлантический океан с лунной дорожкой на его мутной поверхности. И дорожка какая-то неясная, мутная. И всюду блок-посты, а на этих постах люди с автоматами. Нет, не люди, а дети. Им едва ли больше пятнадцати лет, они и одеты, в основном, как пятнадцатилетние. Они в джинсах, свисающих с худосочных задниц до середины бедра и даже еще ниже. Потертые, старые футболки, некоторые в дырах. В руках у каждого автомат Калашникова. Это называется «Войска Правительства Либерии». Их набирали из беднейших домов, не обещая взамен ничего, кроме свободы и обладания оружием. Никакой зарплаты, никаких возможностей. Дали автомат, и крутись как хочешь. Они стоят на своих постах, слушая записанный в плохом качестве рэп, кивая в такт музыке, одни — косматыми немытыми растами, другие — лысыми, словно черные бильярдные шары, головами. Они смотрели вслед нашей машине, и мы им определенно не нравились. Я вспомнил, что в городе действует комендантский час.
«Споем, Андрей Иваныч?» — спросил Сергей и затянул, перекрикивая динамики магнитофонов этой ненадежной братвы. Белый человек с вызовом запел самую знаменитую песню в Африке.
«Well Johanna she runs a country,
She runs in Durban and in Transvaal,
She makes a few of her people happy,
She don't care about the rest at all» — заорал Сергей во все горло слова и музыку Эдди Гранта, написанные в восемьдесят восьмом году в Южной Африке и за считанные месяцы ставшие чуть ли не гимном всех черных на этом континенте. Джоанной Эдди называл белый богатый город Йоханнесбург, но я почему-то явственно представлял себе эту Джоанну так, словно она была реально существующим человеком из плоти и крови. Полноватая дама с крепкими икрами и бедрами, в дорогих очках с платиновой оправой, отсиживающая свои дни в офисе под защитой зеркальных окон и молчаливой секретарши, а вечерами гуляющая вместе с рыжим бульдогом или, пожалуй, бультерьером, по лужайке перед своим загородным домом. А лицо у Джоанны наверняка должно быть такое же умное и злое, как морда ее собственной собаки. Или швейцарской прокурорши Карлы дель Понте.
Машина проезжала мимо будки очередного блок-поста, замотанного в колючую проволоку. Парни с оружием с нездоровым любопытством посмотрели на наш белый кабриолет.
«Gimme hope Johanna, hope Johanna,
Gimme hope Johanna, till the morning comes,» — пел Сергей припев, покачивая головой в такт музыке, то вперед-назад, то из стороны в сторону.
«Gimme hope Johanna, gimme hope Johanna
Gimme hope before the morning comes» — послышался нестройный хор со стороны блок-поста. А к нему подключилось и хриплое сопрано Маргарет.
«I hear she making the golden money
To buy new weapons, any shape of guns
While every mother in a black Soweto
Fears the killing of another son.»
Эта часть песни была почти про меня. Ну, конечно, про меня, про кого же еще. Это для меня Джоанна собирает свои деньги по всей вашей Африке. Эй, вы, на посту, боевики или солдаты, как там вас! Неважно, кто вы сегодня и кем будете завтра! Послушайте. Я буду при деле до тех пор, пока у Джоанны есть деньги на оружие. То, что у вас в руках, дал вам не ваш президент, а я. Потому что Джоанна сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. Я пою эту песню по-своему. Дай мне надежду, Джоанна, дай мне работу, Джоанна, дай мне мое пространство свободы, Джоанна. Дай. Дай мне. Мне, и никому другому в этом мире. Вот так нужно петь эту песню.
«Gimme hope Johanna, hope Johanna»
Уже и мой голос помогает нашему странному передвижному хору. Теперь я весел и спокоен. Да, именно так. Вот, наконец, когда я стал весел и спокоен.
«Gimme hope Johanna, till the morning comes»
Дай мне надежду, Джоанна, скорее дай, пока не наступило утро. Ночь это время надежды, которая обязательно приходит не одна. И даже если в ее жестких ладонях нет сейчас ничего для меня, она споет свою колыбельную, которую нужно повторять, как мантру, и раскачиваться, раскачиваться, раскачиваться... Вот так, как это делают Сергей и Маргарет, сладкая черная девица на переднем сидении. По два раза вперед-назад и а потом еще по два, влево-вправо.
«Gimme hope Johanna, gimme hope Johanna
Gimme hope before the morning comes»
Вперед-назад, вперед-назад... Влево-вправо, влево-вправо... Вместе. До самого утра.
Да, я совершенно забыл, что утром от «коняги» безумно болит голова.
ГЛАВА 9 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. УТРО В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ
Утром я нашел себя в розоватой, цвета колумбийского кокаина, постели размером с небольшой теннисный корт. Я словно потерялся в неровностях рельефа толстенного одеяла, которое тем не менее оказалось легким, словно взбитые сливки, брошенные на верхушку мороженого. Мой взгляд медленно прошелся по окрестностям кровати. В своих ногах, вернее, далеко за тем местом, где они кончаются, но все же в том направлении, я обнаружил плоский телевизор огромных размеров, который беззвучно и безучастно показывал группу людей в черно-белых тюрбанах с неизменными автоматами в руках. В углу экрана гордо помещался логотип Си-Эн-Эн. Мой взгляд скользнул левее. Я увидел изящное деревянное полукресло, на котором лежали чьи-то вещи. Джинсы, рубашка оливкового цвета, явно несвежая. И трусы. Мои любимые свободные трусы, которые еще со времен незабвенного мультфильма «Ну, погоди» почему-то называют семейными. У меня есть своя версия, почему к ним приклеилось это название. Конечно, появляться в таких трусах даже на пляже считалось неприличным, но дома, в семьях, мужчины вполне легально ходили в таких вот трусах в цветочек. И в носках. И когда в дверь среднестатистического советского семейства стучали или звонили гости, советская жена кричала, бывало, из кухни своему советскому мужу: «Открой, только оденься поприличнее!» Оба понимали, о чем идет речь. Мужчина прятал свое круглое брюхо под полосатой рубашкой. Теперь он считался одетым и мог встречать гостей. И гостей, надо сказать, совсем не шокировал вид главы семейства в рубашке сверху и сатиновых трусах снизу. Потому что он находился на своей территории, а трусы в цветочек были тем самым флагом, который символизировал право этого самца на свой пятидесятиметровый, с балконом и совмещенным санузлом, ареал проживания. Флаг трепыхался от внезапно образовавшегося сквозняка, едва ли не оголяя гениталии. Входите в дом, добро пожаловать!
Я давно уже не был советским человеком внешне. Но оставался таковым внутри. Моя советскость пряталась в моих штанах вместе с цветастым флагом семейных трусов. И хотя я давно расстался со своей семьей, к трусам такого типа я сохранил слабость и привязанность навсегда. Помню, моя бабушка, выбрасывая купленные мамой новомодные плавки и укладывая на их место в мой шкаф вот такие, семейные, трусы, приговаривала: «Все там должно дышать! У мужика все там должно дышать!» Я слушался бабушку, и поэтому «все» у меня ниже пояса дышало. Но я очень не любил, когда что-либо у меня дышало сверх меры. Спал я всегда в трусах, даже после секса не забывая натянуть их на себя. А тут что-то невероятное. Я поднял легкое одеяло и — так и есть! — увидел, что трусов на мне не было. Почему? И где, собственно, я нахожусь?
Тут я ощутил головную боль. Как ни странно, именно боль помогла мне вспомнить вчерашний вечер. Довольно подробно, включая поездку в белом автомобиле. Но вот что было после, я вспомнить не мог никак. А что, собственно, я делаю в чужой постели? Если я голый, значит, спал с какой-то женщиной. Очевидно, что с Маргарет. Но тогда почему ее нет рядом и, самое главное, нет никаких следов ее пребывания? Ну, там, деталей туалета, или окурков в пепельнице, или полупустого бокала?
А-а-а, так ведь она хотела не только меня одного. Был еще этот парень из Москвы, с которым мы перешли на «ты», Сергей Журавлев. Он, к тому же, еще и журналист, значит, напишет в своей газете о моральном разложении продавцов оружия. Ах да, он же на телевидении работает, а им не рассказывать, а показывать надо! Когда им, телевизионщикам, показывать нечего, им не верят. Да я и сам могу рассказать про него такое! А, собственно, что я могу про него рассказать, если я ничего не помню? Только то, что он оказался на аэродроме тогда, когда находиться ему там было совсем необязательно. Хотелось выругаться. Но я не стал. Я сбросил с себя невесомое одеяло и попробовал подняться. Огого! Моя голова, казалось, весила тонны. То ли от нее отлила кровь, то ли наоборот, весь мой кровяной запас сосредоточился в мозге, но я не выдержал внезапной головной боли. Рухнул на кровать, а с нее сполз на пол, свалив стоявший рядом стул. Очевидно, я стонал достаточно громко, потому что секунду спустя в спальню влетел Сергей Журавлев, в джинсах и голый по пояс.
— Иваныч, что случилось? Ты жив? — взволнованно спросил он, наклоняясь ко мне.
— Наполовину, — только и смог я произнести вслух.
— Понимаю, — сказал журналист и скрылся за дверью. Через минуту Журавлев вернулся, держа в руках бутылку с пивом «Стар». На тонком горлышке бутылки соблазнительно блестела испарина.
— Сейчас, сейчас, — суетился Журавлев в поисках открывалки. Он сначала окинул взглядом комнату. Открывалки не было. Сергей пошарил по карманам. Затем махнул рукой и сорвал зубчатую крышку о спинку стула. Дерево скрипнуло. На спинке остались глубокие царапины, но крышка все же слетела с шипением, из горлышка поползла пена, а по всей комнате растекся аромат столь необходимого сейчас утреннего хмеля.
— На вот, одень трусы, — подкинул мне Сергей валявшийся рядом с ним флаг моей независимости.
Я ни слова не говоря, одной рукой начал одевать трусы, а другой схватился за бутылку и опрокинул ее в свое нутро. Она влилась за несколько секунд, почти вся. После этого я снова обрел дар речи. Начал с волновавшего меня вопроса.
— Где мы?
— В гостях. Хозяйку зовут Мики. Маргарет Лимани. Сначала ты привез ее в «Бунгало», потом приехал я, и мы вместе поехали к ней.
Я подумал и продолжил допрос.
— Секс был?
— Какой секс, Иваныч? Ты так быстро «отъехал» по дороге, что только песни мог петь. Да и то, вполсилы.
— А почему я голый?
— Да ты же не хотел ложиться, и все норовил убежать, а Мики предложила тебя раздеть догола. Сказала, что голым он все равно никуда не убежит. Кстати, она сама хотела убедиться, что у тебя... ну, что, в общем, ты не можешь.
— А у тебя?
— Что значит «у тебя»?
— У тебя с ней что-то было?
— А тебе-то какая разница? Завидуешь?
Я бы с удовольствием заехал бы ему в рыло, как на аэродроме. Если б смог. Но Сергей не всегда был язвительным подонком, сочувствие в нем нет-нет, да и просыпалось. Вот, к примеру, сейчас пива принес.
— Извини, Андрей Иваныч, она, конечно, хороша. И она, извини меня за правду, хотела меня. Хотела мужика вообще. Но я... — он запнулся и продолжил все в той же обычной своей язвительной манере. — Но я решил свалять дурака. Прикинулся таким же пьяным, как и ты.
— Зачем?
— Во-первых, она твоя добыча. Ты ее первый заметил. А во-вторых, — нотки потешного пафоса зазвучали в его голосе. — С учетом местной статистики распространения СПИДа предпочитаю как минимум вдвое уменьшить риск заражения чумой двадцатого века всех — подчеркиваю! — всех бывших советских граждан, пребывающих в этом доме.
— А что это за дом? Твоя гостиница или что-то другое?
— Другое, Иваныч, совсем другое, — и Сергей, демонстративно прокашлявшись, продолжал юморить. — Наши корреспонденты находятся в гуще событий. Сейчас они знакомятся с личной жизнью и бытом обычной представительницы либерийского народа Маргарет Лимани, которая живет в скромном двухэтажном особняке.
— Слушай, — говорю. — тебе бы в советское время в газете «Правда» работать.
— Для «Правды», Иваныч, я слишком молод. Не поверишь, я начинал карьеру в «Мурзилке».
Я сразу и не понял, что это он там говорит.
— Где начинал? В «Мурзилке»?
— В «Мурзилке», в «Мурзилке», именно так, — закивал Журавлев. — И был в ранней юности похож на самого Мурзилку. Был глупым, нестриженым, зимой и летом носил на голове беретку.
— Хорошо хоть беретку снял. И постригся, — говорю.
Сергей рассмеялся:
— Ай, молодца, Иваныч, у торговцев смертью тоже есть чувство юмора!
И он так фамильярно взъерошил своей пятерней шевелюру у меня на голове. Ну, гад, на кого руку поднял! подумал я было и решил теперь уж точно ударить его. Но моя рука вместо этого схватила бутылку с остатками пива и... что бы вы подумали? Вылил их Журавлеву на голову. Пивные струи стекали с него водопадами, легко прокладывая себе дорогу в журавлевских волосах. Один из ручейков задержался на лбу, зацепившись за выпирающие, как у питекантропа, надбровные дуги, и сорвался в направлении носа. Но, достигнув его кончика, иссяк и завис грустной каплей на этой части тела, которую журналист совал куда не следует. Журавлев не остался в долгу. Он взвыл, как раненый зверь, вскочил и снова выбежал из спальни. А когда вернулся, в руках его была, конечно же, полная бутылка пива. Но меня он не нашел. Я стоял за дверью с подушкой в руке, и как только мне предоставился удобный момент, огрел его сзади. Пиво выплеснулось и оросило его волосатое голое брюхо. Но Журавлев тоже оказался не промах. Дважды облитый пивом, он кинулся на меня, чуть пригнувшись. Мне не хватило ловкости уйти от нападения, и поддетый Журавлевым снизу, словно тореадор быком, я взлетел над кроватью и рухнул на нее.
— Зиндабад! — крикнул Сергей на фарси. — Победа! Да здравствует свобода слова и демократическая пресса! Нет войне!
Он сидел сверху, в одной руке подушка, в другой пивная бутылка.
— Дурачок, — говорю ему, переводя дыхание. — Ты же без работы останешься, если нет войне.
Он задумался.
— И правда, — согласился он. — Тогда выпьем за любимую работу!
И остатки пива отправились в его разговорчивый рот.
Но тут в спальню вошла Мики. Как она была прекрасна! Черное тело под полупрозрачным халатом, а халатик-то чуть распахнут, не слишком, ровно настолько, чтобы можно было видеть ложбинку между ее эбеновых грудей, а над ними возвышалась шея удивительной правильности линий. Именно такая должна быть у настоящей женщины, чтобы держать голову высоко и гордо. Теперь Мики уже не напоминала бродячую собаку, как это было вчера, на аэродроме. Она убрала волосы со своего высокого лба, глаза ее блестели веселыми огоньками. Маргарет сложила руки на груди и уставилась на нас. Картина, которую она увидела, могла поразить воображение. На розовом сексодроме лежали два упитанных мужика, вернее, один, голый, лежал на спине, а второй, полуголый, сидел на нем верхом. Тот, второй, был весь в чем-то липком и держал подушку в руке. Оба тяжело дышали. Маргарет расхохоталась.
— Теперь я понимаю, почему у нас ночью ничего не было, — сказала она, на английском, конечно. — Я вам, мальчики, не нравлюсь? У вас другие предпочтения?
— Нет-нет, нравишься, — хором заговорили мы оба, перейдя на английский.
— Это не то, что ты думаешь.
— А что, вы думаете, я думаю? — ехидно переспросила Мики.
— Ну, наверное, то что я его поимел, — предположил Сергей, слезая с меня.
— Да нет же, это не он меня, а я его... Тьфу ты, совсем ум потерял, — перебил я Сергея, натягивая на себя валявшиеся на полу джинсы.
— Это, знаешь, все из-за Мурзилки.
— Кто это Murzilka? Ваш друг?
— Ну, как же тебе объяснить? Murzilka это не человек. Это образ. Это состояние души. Это как в пионерском отряде. Пионеры на тихом часе лупят друг друга подушками. Знаешь, что такое тихий час и пионеры? — продолжал я, как мог, объяснять ситуацию. — Не знаешь. Ну, в общем, это, это...
— Это ностальгия, Мики, — пришел на помощь Сергей. — Это когда твоей молодости не дают закончиться сполна, и тогда она берет свое в старости. Так понятнее?
Хорошо сказал, в общем.
Мики вполне поняла его, но по-своему.
— Это когда дети-рэбелы наклеивают на автоматы этикетки от жвачек с картинками «феррари», а потом играют в футбол со школьниками из сожженной ими же деревни. Правильно?
Я уже оделся. Она все понимала. Она вообще была очень проницательна, эта женщина из народа Мандинго. Она постоянно думала над тем, что ей нужно сказать, и над тем, что сказано другими.
— Ладно, приводите себя в порядок, я жду вас на завтраке.
— А где у нас завтрак? — потер руки Сергей.
— У нас, — именно так она и сказала, сделав акцент на первых двух словах «у нас». — У нас завтрак на лужайке перед домом. Очень удобно. Слышно, как поют птицы, и как стреляют люди.
Она развернулась (ах, какая потрясающая осанка!) и поплыла к двери. Но вдруг приостановилась, чтобы сказать: «Кстати, мальчики, спасибо, что увезли меня из „Бунгало“, с вами даже без секса веселее, чем с тем уродом в цветастой рубашке.»
«Да уж, с нами обхохочешься,» — пробормотал я под нос, чтобы Маргарет не услышала. Она и так ничего не услышала. Дверь за ней плавно закрылась.
Завтрак был великолепен, так же, как и сама хозяйка. Апельсиновый сок в холодном графине, кофе в фарфоровых чайничках (именно так почему-то и пьют его в Западной Африке), и тонкие ломти мяса, сыра, колбасы и красной рыбы. Красная плоть арбузов блестела сахарными прожилками в тех местах, где ее разрезали, или разломали. А вокруг огромных арбузных ломтей, как шлюпки вокруг больших кораблей, громоздились маленькие ломтики яблок.
— Если хотите, я попрошу, чтобы принесли каких-нибудь овощей, — сказала Маргарет.
Мы, уже с набитыми ртами, отрицательно замычали и замотали головами из стороны в сторону. Все было и так хорошо.
Дом у Мики действительно был двухэтажный, но в этом районе Монровии дома строились на сваях, поэтому, казалось, что в доме три этажа. Так оно, в сущности, и было. В жару под домом можно было поставить столик, лежанку и, ни о чем не думая, глядеть на зеленую холмистую лужайку, размером с половину футбольного поля. Такая усадьба в этом районе была почти что у каждого. Здесь жили высшие правительственные чиновники, иностранные дипломаты, торговцы алмазами и бриллиантами, и прочий богатый люд. Маргарет, видимо, входила в клан местных богатеев. Я же, несмотря на свои финансовые возможности, все-таки жил в районе попроще. Футбольного поля у меня не было, а вместо щебета птиц я каждое утро слышал пьяную ругань за столиками круглосуточного кафе, которое пристроилось под бетонным забором моих владений. Маргарет заметила мой оценивающий взгляд.
— Единственное неудобство здесь, — сказала она, наливая кофе в мою чашку. — это близость к гостинице «Африка». Когда ее штурмуют, случайные пули долетают и сюда.
— А когда ее штурмовали в последний раз? — поинтересовался Сергей.
— В этом году, но Чарли удержал свою территорию. А в девяносто пятом он сам заходил с этой стороны. Его солдаты стреляли по городу с крыши гостиницы.
— Так ты что, всю войну была здесь? — удивился Журавлев.
— Три.
— Что «три»?
— Я была здесь все три войны. С девяностого года.
Маргарет помолчала и отхлебнула кофе из своей чашки.
— Мой папа оставил меня здесь, чтобы я присматривала за рестораном. У нас тогда было всего два заведения, одно за Сприггсом, а другое там, где сейчас «Бунгало», я его построила после первой войны. Помню, как отец однажды сказал мне: «Кто бы ни победил, бить все равно будут или индийцев, или ливанцев».
— За что?
— Да ни за что. Просто потому, что богатые. Рэбелам только скажи, что во всем виноваты иностранцы, и тут же начинаются погромы. Папа знал, что говорил.
— Да, но почему он тебя в таком случае не забрал? Официально ты же индуска, — удивился Журавлев. Вот как, о Маргарет он с самого начала знал больше, чем я.
— Да, индуска, но только наполовину. Если этого не знать, то что ты во мне найдешь индийского?
— Не знаю, я еще не искал, — попробовал я опасно пошутить.
Но Мики не обратила на это внимание. Она рассказывала свою историю:
— В общем, рэбелы казнили президента Доу. Вы же знаете, как это было. Все это показывали в новостях. Сначала его раздели догола, потом связали и в таком виде водили по улицам. Принс Джонс, друг Тайлера, отрезал ему член, и Доу просто истек кровью. Он плакал и молил о пощаде, он выл, как раненый зверь, но Принс только насмехался над ним, а потом ходил по Монровии, держа отрезанный член двумя пальцами, как сигару. Он подносил его ко рту, делая вид, что курит, а его боевики подносили ему огонь и кричали «Мы разделали Доу на сигары». Говорят, что Джонс пообещал Чарли, что нарежет этого Доу на тоненькие кусочки, чтобы из них можно было свернуть сигары. Вот и выполнил свое обещание. А меня он не тронул.
Она снова отпила чуть остывший кофе.
— Хотя, я знаю, собирался. Речь шла, правда, не обо мне, вернее, не только обо мне. Они пустили под нож тогда десятки богатых индийцев и ливанцев, говорили, что на них либерийская кровь. И на проданных ими алмазах. Но мы к алмазному бизнесу не имели никакого отношения. Участок для этого дома был куплен моим отцом на деньги, заработанные в Индии, так что мы были ни при чем.
— А почему вас должны были в чем-то винить? — попробовал было возмутиться Сергей. Но Маргарет продолжала, никак не отреагировав на его реплику.
— В девяностом они перебили половину нашего района. Из иностранцев не трогали только янки. Тогда я сама предложила Тайлеру стать его любовницей.
— А почему не Джонсу, ведь это он захватил Монровию? — похоже, Журавлев превращался в журналиста.
— Наверное, тогда это было более разумным, но я просто не могла себе представить, что буду целовать губы, в которых до этого побывал отрезанный мужской член. История показала, что я права.
Снова глоток кофе. И улыбка. «Сколько же ей лет?» — подумал я. Я всегда ошибаюсь с возрастом этих африканок.
— Мики, а сколько лет тебе было в девяностом? — не удержался я от вопроса.
— Восемнадцать, — сказала она без тени кокетства. Значит, сейчас ей около тридцати, и она явно знает, что выглядит моложе своих лет. Я бы сказал, гораздо моложе.
— И отец оставил весь свой бизнес на восемнадцатилетнюю девчонку?
— А как бы вы, ребята, поступили, если бы у вас не было выбора?
Она посмотрела мне в глаза. Девушке с таким взглядом я бы и сам доверил любое дело. И любые деньги.
— Выбор у него был небольшой. — жестко сказала она. — Отдать все мне. Или отдать все бандитам.
— А мать? Где твоя мама? — поинтересовался Журавлев.
— Мама? Мама погибла вот на этой лужайке. Американцы сказали, что здесь никогда ни за что не будет войны. «Эти либерийцы могут резать друг друга сколько угодно, но в частные владения американцев они не зайдут,» — так сказал посол Штатов, и ему все поверили. Вон его дом, в низине, недалеко от нашего. Они и не зашли к американцам. Они четко знали, кто где живет. Когда они вошли к нам, я увидела, что их четверо. Грязные длинноволосые парни, голые по пояс, в руках автоматы. Папу они не нашли, его уже не было в Монровии, зато схватили маму и потащили в свою машину, она стояла за воротами. Мама нужна им была в качестве заложницы, они рассчитывали вернуть отца назад или получить от него большой выкуп. Меня оставили на закуску. Но тут началась стрельба. Я не знала, откуда стреляли. Сначала над нами свистели пули, потом раздался глухой взрыв. Что-то упало посреди двора, как раз там, где рэбелы волокли мою маму. Я помню вспышку света и такой неясный удар, словно кто-то бьет тебя по ушам. Я потеряла сознание. Когда я очнулась, я увидела, что лежу возле дома, а невдалеке от меня мама и все эти молодые парни, рэбелы. Они были убиты. Но я этого не понимала и тащила маму назад в дом. У нее весь затылок и спина были в крови и таких мелких ранках, из которых сочилась кровь. Мне казалось, что у нее еще есть пульс, хотя глаза остановились, но это было не так, в общем... с тех пор это мой дом и мой бизнес.
Над лужайкой летали какие-то диковинные синевато-желтые птицы. Они наперебой щебетали и выхватывали что-то друг у друга прямо из клюва. Природа здесь была агрессивна даже в минуты полного спокойствия.
— А папы и след простыл. Вы оба много путешествуете по свету, так?
Мы утвердительно кивнули.
— Если где-то в этом мире вам встретится человек по имени Раджив Лимани, передайте ему вот это. Это мамино.
И Маргарет сняла с шеи золотой кулон. Веселая индийская дивина на тонкой цепочке стояла на одной босой ноге. Другая была приподнята над каким-то растением. Она танцевала. А рук у нее было так много, что издалека она могла бы сойти за насекомое. Тарантула, например, или скорпиона. Мы оба, я и Сергей, потянулись к кулону, но Сергей, подумав, убрал свою руку, и золотая фигурка упала в мою ладонь.
— Если когда-нибудь ты найдешь моего отца, отдай ему это. И скажи ему вот что... а, впрочем, ничего не говори. Я рада, что он уехал. С ним я бы не смогла здесь жить. Без него научилась не трусить. Теперь я могу все. — Голос Мики стал очень жестким. — Я могу жить везде, и даже если опять начну с нуля, я все равно всегда и везде буду богатой.
— Даже в России? — не удержался от ехидства Журавлев.
— Даже в России. Но, — и тут Маргарет показала самый что ни на есть высокий класс. — Но я так не люблю эти восточноевропейские страны с их низким уровнем жизни!
Шутка удалась. Сказано было в нужное время и в нужном месте. Да, кстати, у Маргарет был лучший кофе во всей Западной Африке.
Вот после этого кофе я и оказался в ее постели. Конечно, дождавшись, когда же уедет Сергей. Он, негодяй такой, тянул время, и уехал только после того, как получил от меня твердое слово, что я дам ему интервью сегодня вечером. Слово пришлось скрепить купеческим рукопожатием.
ГЛАВА 10 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. САНКАРА И КАЛИБАЛИ
Я чуть было не забыл о данном слове. Первая половина нашего с Мики дня прошла на розовой постели в спальне. Потом я отправился в «Эйр Лайбериа» на встречу с моими возможными субподрядчиками из Буркина-Фасо, они почему-то считали, что в Монровии говорить о делах безопаснее, чем в Уагадугу. Встреча проходила в арендованном «Либерийскими авиалиниями» офисе на втором этаже здания с громким названием «Сезар Билдинг». Закопченные стены и темные марши деревянной лестницы вряд ли могли вызвать ассоциацию с Цезарем. Перед дверями офисов горели тусклые лампочки, свет которых едва пробивался сквозь налипшую на них паутину и пыль. Спартанский стиль преобладал и в дизайне самих офисов. Когда мои глаза привыкли к сумраку, в комнате, где меня уже ждали, я рассмотрел коричневый канцелярский стол. Возле него три стула, которые к моему приходу были заняты. На столе ворох бумаги, из-за которого выглядывал серый корпус компьютера Ай-Би-Эм древней второй модели. Свет в комнату пробивался через полуоткрытые створки жалюзи. Кондиционера в офисе не было. Воздух по комнате разгонял старый вентилятор, помните, такие в семидесятые годы были почти в каждой советской семье. Тяжеленные, с тремя резиновыми лопастями и серым железным корпусом. Раньше я думал, что это чуть ли не единственное самостоятельное изобретение в области отечественной бытовой техники. Но, увидев такие в Либерии, я полюбопытствовал и выяснил, что вентиляторы американские. И в этом мы отставали от америкосов на полшага! Я зашел в комнату. Лица находившихся в ней людей были едва различимы, и я стал шарить по стене в поисках выключателя.
— Не работает, — сказал хозяин офиса. Он хорошо видел меня. Его глаза адаптировались к полумраку кабинета, и ему не было нужды посылать за электриком. Один из гостей вскочил со своего стула, но я махнул ему рукой, мол, сиди-сиди, и уселся на край стола. Стол неуверенно пошатнулся, заскрипел, но все же выдержал мой немалый вес.
— Эндрю, позволь представить тебе моих давних друзей. Жан-Батист Санкара, — при этих словах со своего стула привстал грузный чернокожий лет пятидесяти. — И Томас Калибали. — хозяин кабинета указал на суетливого человека неопределенного возраста, который только что хотел было уступить мне свое место.
— Господин Калибали известный в Буркина-Фасо бизнесмен и наш давний друг. Он владелец нескольких золотых приисков у себя в стране, а теперь он пытается расширить свой бизнес и приобрести алмазные копи в Либерии. Конечно же, не все. — И хозяин кабинета рассмеялся.
Странно, очень странно, подумал я. Когда мы договаривались о встрече, речь шла о транзите моих грузов через Буркина-Фасо, а вовсе не об алмазных копальнях в Либерии.
— В таком случае, я не совсем понимаю, что я делаю в этом кабинете. — сказал я резко. — Алмазы это не моя сфера.
Мой партнер хотел было что-то сказать. Но его мягко остановил пятидесятилетний толстяк, Санкара, кажется.
— Не торопитесь уходить. Выслушайте нас.
— Господин Санкара юрист и консультант господина Калибали, — вставил, наконец, свое слово хозяин кабинета.
— Вы знаете, Эндрю, что в Либерии идет война. Война, собственно, и есть ваш основной источник доходов. Либерия на долгие годы обеспечила ваше благосостояние. Но у любой войны бывает конец.
Толстый гость из Буркина замолчал. Повисшую в комнате тишину разгонял своими лопастями тяжеловесный вентилятор. Санкара вздохнул и продолжил:
— Положение нынешних властей Либерии непрочно. Отряды боевиков превратились в хорошо управляемые армии. Ну, пусть не настолько хорошо, как им хотелось бы, но тем не менее, их численность растет. А, главное, их поддерживают из-за рубежа. Тайлера бомбят гвинейские самолеты. Ему осталось недолго.
Я и сам давно уже думал об этом. Судя по тем «стрелам», которые он у меня купил, Чарли готовится к серьезной войне. За гвинейцами стоят американцы. Пока они не афишируют это. Но я точно знал, что русский товар повстанцы давно уже перестали покупать. Значит, кто-то помогает им. Кто-то из-за океана, из тех, кто никогда ничего не делает за бесплатно. Может, и этих мне подставляют американцы?
— Что вы от меня хотите? — спросил я напрямую худощавого Томаса Калибали. Ведь это его представили мне как главного делового партнера.
Но со мной снова заговорил пожилой Санкара.
— Вы, можно сказать, друг Тайлера. И вы имеете на него влияние. Поговорите с ним о том, чтобы отдать нам в концессию рудники за Какатой.
А-а-а, вот оно в чем дело. Перспективные алмазные месторождения на территории, которую пока что контролирует правительство. Лакомый кусок, что и говорить. Да только никто их не разрабатывает. Эти рудники находятся в собственности государства, у которого нет денег на разработку. Тайлеру вполне хватало старых месторождений, где можно было найти достаточное количество камушков, чтобы расплатиться со своими поставщиками. Со мной, например.
— Мы готовы заплатить за помощь. Но это далеко не все.
Гости из Буркина переглянулись, и старший снова взял на себя инициативу.
— Мы готовы обеспечить всем вашим «бортам» с военными грузами сертификаты конечного пользователя, подписанные начальником президентской охраны нашего государства. Кроме того, мы готовы перебрасывать эти грузы с наших аэродромов в Монровию своими самолетами. Так что ваши самолеты не будут появляться в воздушном пространстве Либерии, и вы останетесь вне подозрений.
— Если будет международное расследование, — добавил Калибали.
— Да, если будет международное расследование, — отозвался эхом Санкара. — А оно непременно будет, когда уберут Тайлера. И, наконец, самое главное. Вам, вашему персоналу, вашим доверенным лицам вместе с вашими ценностями мы обеспечим эвакуацию из Либерии в любую страну мира. Разумеется, через Буркина-Фасо.
Думай, Андрей, думай. Предложение, конечно, заманчивое. Война скоро закончится, к этому прилагают руку все, кто хочет отрезать свой кусок от алмазного либерийского пирога. И эти двое лишь инструменты, которыми кто-то более могущественный пытается ухватить свой кусок. Хорошо, если это президент Буркина. А если нет? Если это провокация американцев, которые спят и видят, чтобы посадить меня в кутузку? Или игры французов, которых давным-давно отогнали от алмазного рынка, и вот они совершают еще один заход на цель? Возможно и то, и другое. Думай, Андрей, думай.
— У меня здесь нет персонала, у меня здесь нет доверенных лиц. И более того, у меня здесь нет никаких ценностей, — сказал я медленно.
Все же хорошо, что я отдал свой перстень Левочкину. Будь он у меня на руке, этот толстый Санкара тотчас обратил бы внимание на камень.
— Я здесь всего лишь частное лицо. Я живу в любезно предоставленном помещении и помогаю своим друзьям добрыми советами.
— Вот-вот, об этом речь. Это от Вас и нужно. В смысле, дать добрый совет Тайлеру, — засуетился Калибали.
Его глаза забегали по комнате, но внезапно наткнулись на внимательный взгляд своего партнера. И Калибали конец своей тирады произнес едва слышно. В общем-то, понятно, кто из этих двоих подставное лицо, а кто настоящий хозяин положения. И все же, главный игрок по-прежнему неизвестен, он стоит за этими двумя, и я его не вижу в полумраке. Ясно, что его имя или хотя бы национальность мои визави не раскроют. Потому что это будет для них смертный приговор. Если я пойму, кто командует парадом, то могу догадаться, кто финансирует войну против Тайлера, и тогда эта война накроется интересным местом. Я же все-таки советник Президента. Или, скорее, советчик, добрый незаангажированный советчик. Рой мыслей пронесся у меня в голове. Подумал я о многом, в том числе и о смерти. Мне показалось, что я могу не выйти отсюда на своих ногах, но я не испугался, а вспомнил о своем хорошо законспирированном счете в Арабских Эмиратах. Если меня не станет, то никто не сможет им воспользоваться, и в конце концов деньги достанутся хозяевам арабского банка. Ну, а если я дую на холодную воду? Если эти двое преследуют собственные интересы? Это вряд ли. Деньжат у них маловато. И вряд ли они найдутся у этой замечательной страны, африканской республики Буркина-Фасо.
Я достал пачку «Монтеррей», вытащил оттуда коричневую сигарку и закурил. Мои собеседники молча смотрели на меня. В сумраке комнаты особенно хорошо видны были белки их напряженно уставившихся на меня глаз. В кабинете повисла такая тишина, что, казалось, можно услышать, как тлеет тонкий табачный лист, из которого скручена моя сигарка.
— Так что Вы скажете? — опять не смог выдержать паузу Калибали. Очень уж суетливым и неопытным для подобных миссий был этот Томас, или как там его.
— Idite v zhopu, — выдохнув дым, сказал я по-русски.
— Что? Что Вы сказали?
— Сразу и не переведешь. — пояснил я, улыбаясь в лицо Калибали. — На языке моей страны это означает приблизительно «Поцелуйте меня в задницу», ну, или что-то в этом роде.
Я медленно затушил сигару о столешницу, демонстративно не замечая пепельницу, затем оторвал только что упомянутую часть своего тела от краешка стола и двинулся к выходу. Я слышал, как за моей спиной кричал мой деловой партнер из «Эйр Лайбериа». Кричал по-французски, обращаясь к двум визитерам: «Почему вы его отпустили? Завтра мне конец, он все доложит Президенту!» Как все же правильно я поступил, наняв репетитора по французскому. Что ответили ему те двое из Буркина, я не услышал. Я уже спускался вниз по опасной деревянной лестнице офисного центра на улицу. Мне показалось, что я сразу переоценил степень опасности, которая исходила от Санкары и Калибали. Никакие они не игроки и даже не порученцы могущественных сил. Это самые обычные внештатные агенты бюро по контролю за алкогольными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием, АТФ. Есть такая страшная организация в Америке, известная своими дотошными попытками упрятать за решетку всех, кто угрожает миру на земле. Они всегда считали, что главная угроза миру исходит от табака и алкоголя. Ну, и от стрелкового оружия. Ведь оно валит с ног не хуже водки. Брр!!! От воспоминания об алкоголе меня передернуло. Желудок свело внезапными спазмами. Да, и впрямь от встреч с агентами АТФ никому еще лучше не становилось. Ну, ничего! Когда я расскажу о них Чарли-бою, он живо вправит мозги им и этому предателю из «Либерийских авиалиний».
Но сначала я должен был вправить мозги самому себе. Кофе и секс в доме Маргарет подействовали на меня недостаточно отрезвляюще. Я знал, как помочь себе. Есть здесь одно местечко, которое славилось народными методами лечения любых недугов, особенно, тех, причиной которых бывал запой.
Местечко это не имело какого бы то ни было названия. Оно находилось неподалеку, на территории морского порта. Принадлежало оно бывшему русскому моряку Григорию Волкову, родом, кажется, из Калининграда. Гриша еще совсем недавно был хозяином небольшого парохода «Мезень», который возил гуманитарную помощь из соседних стран в либерийский порт Харпер, чуть южнее Монровии. Однажды Волкову предложили перекинуть оружие в соседнюю Сьерра-Леоне, но он даже и слышать об этом не хотел. Гриша был честным человеком, в отличие от меня, и с трепетом относился к понятию «русский моряк». Значительно трепетнее, чем я к термину «советский летчик». В общем, человеку, предложившему это, Волков разбил лицо в кровь, а человеком этим был не кто иной, как министр внутренних дел Либерии.
ГЛАВА 11 — ЛИБЕРИЯ, ДАВНЫМ-ДАВНО В ОКРЕСТНОСТЯХ МОНРОВИИ. ГРИССО
Вообще-то, Григорий поступил правильно. Большего взяточника, чем главный полицейский Либерии, во всей Африке было не сыскать. К тому же, если бы «Мезень», работавшая по фрахту ООН, довезла оружие, то мой канал доставки стал бы ненужным. А так мой бизнес уцелел. Так что, как ни крути, я Грише был обязан своим устойчивым положением при дворе Тайлера.
Африканец оказался мстительным парнем. Однажды ночью, когда «Мезень» стояла в Харпере, на корабль напали люди в масках и перебили всю команду, включая троих русских. Волков в это время находился в Монровии. Он ни минуты не сомневался, что нападение организовал этот могущественный урод-чиновник. Григорий срочно выехал в Харпер, но когда приехал на место, то даже не смог подняться на борт судна. «Мезень» стояла под арестом. Следователи почему-то объявили ее вещественным доказательством, хотя что именно и зачем нужно было доказывать с помощью парохода, было не совсем понятно. Либерийское законодательство позволяет делать такие финты. Впрочем, не только либерийское. Ну, да ладно.
Пароход, кажется, и по сей день остается под арестом. Уже тогда, когда происходили события, о которых я рассказываю, с него сняли генератор и отвезли в дом к — кому бы вы подумали! — тому самому министру внутренних дел, с которым у Гриши вышла стычка. Не помню, говорил ли я, что в Либерии нет электростанций, поэтому зажиточные граждане, дабы в доме был свет, покупают генераторы. Или достают другими способами.
Когда Гриша узнал об этом, он собрался окончательно разобраться с министром. Сначала купил автомат. Потом ему сказали, что чиновник ездит в бронированном автомобиле. Тогда Гриша нашел где-то гранатомет, чтобы наверняка. Долго выяснял обычные маршруты своего визави и, похоже, уже назначил день икс. Но неожиданно Григорий заболел. У него несколько дней подряд была высокая температура, его лихорадило, изо всех дыр его похудевшего тела выходила вода и фекалии. Симптомы напоминали лихорадку лассо, но потом уже, после выздоровления, Волков клялся, что ни разу не пил местную некипяченую воду, а ел только то, что готовил сам. Ему было настолько худо, что он не различал уже тех, кто приходил проведать больного в его палату. А ходили к нему многие, несмотря на запрет и строгий карантин. Лечил Григория врач-иорданец. Он только разводил руками и говорил, что не может определить болезнь, и на вопрос, выздоровеет ли моряк, уклончиво отвечал «Иншаалла, иншаалла» и, не глядя в глаза, уходил куда-то вглубь служебных помещений госпиталя. На пятый день иорданец признал, что в этом случае в его лице медицина бессильна, и посоветовал привезти шамана. Я сначала удивленно посмотрел на доктора, словно он сам заразился диковинной лихорадкой от Гриши. Но потом подумал и понял, что надо искать знахаря, ведь хуже ему уже точно не будет. Пока сознание Григория пребывало в астрале, я поехал в деревню Баба, где, говорили, жил великий шаман Гриссо. Слово «шаман», как известно, имеет восточносибирское происхождение. Здесь их называют по-другому. Они используют тайные имена, и стараются, чтобы никто, кроме посвященных, их не узнал.
Деревня Баба представляла собой несколько хижин, сложенных из пальмовых стволов. Хижины стояли посреди банановой рощицы, которая одной стороной спускалась почти что к самому океану. Как здесь, на песке, росли бананы, я не переставал удивляться. Машиной подъехать к Баба было невозможно. Асфальтовая дорога очень скоро переходила в грунтовую, а затем и вовсе терялась среди африканской чащи. Нужно было идти пешком, и я бросил свою машину под каким-то растением с мощным стволом и узловатыми корнями. Дальше к деревне нужно было топать по тропинке, она протоптанной лентой извивалась под сенью скрывавшей от путника свет листвы. Я шел, спотыкаясь о корни деревьев, хватаясь за стволы, чтобы не упасть на землю. Я очень быстро покрылся испариной — то ли от волнения, то ли от жары и влажности. Через полчаса такого не совсем комфортного моциона я дошел до поселка Баба.
Домов в поселке было немного. Возле каждого небольшая скамейка, сколоченная из обломков каких-то ящиков или контейнеров. На скамейках восседали чинные старики или старухи, увешанные множеством бус и прочей бижутерии. Одежды на аксакалах было немного. Что-то узорчато-красное обмотано вокруг талии, что-то наброшено на плечи. По деревне носилась толпа полуголых ребятишек. Увидев меня первыми, они приостановились, а затем с криком побежали в сторону самого большого дома. Самый большой дом был не выше курятника, от других низеньких строений его отличала только металлическая жестяная крыша. Остальные домики были покрыты плотно утрамбованными банановыми листьями.
Дети забежали в избушку под жестяной крышей, потом тут же выбежали оттуда, и, обступив меня со всех сторон, стали тянуть внутрь. Черные цепкие руки крепко ухватили меня за штаны и рубашку, и я поначалу пробовал их отцепить от себя, но быстро понял, что мои усилия тщетны. Я лишь старался придерживать карман, где лежали деньги и документы, на всякий случай. Дети вокруг меня кричали, смеялись и галдели. «Гив ми доллар, янки,» — дернул меня за карман мальчишка лет десяти или одиннадцати, толпа подхватила эту фразу, как речевку. «Гив ми доллар, янки, гив ми доллар, янки» — закричали дети в один голос. «Ноу янки,» — замотал я головой возмущенно, — «Раша, русский» И детишки быстро перестроили свою ритмичную присказку. «Гив ми доллар, раша, гив ми доллар, раша!» — разносилось во все стороны по этому прибрежному лесу.
Тем временем мы дошли до дверного проема хижины. Откуда дети знали, что мне нужно именно сюда, я и понятия не имел. Во всяком случае, я пришел по адресу. В дверях показался высокий старик с лицом, настолько испещренным морщинами, что, казалось, на нем лежит паучья сеть, сквозь которую на собеседника внимательно смотрят большие глаза, чуть на выкате. На его непокрытой и почти что лысой голове виднелись островки седых волос. Старик, в отличие от остальных сельчан был одет не в красные традиционные тряпки, а в костюм цвета необработанной холстины. Свободная рубаха-балахон навыпуск и штаны, свисавшие на заднице почти до самой земли, как у американских хипхоперов.
Старик что-то крикнул ребячьей толпе, и дети замолчали. Их руки, как по команде, ослабили свою хватку, и я оказался на свободе. Я протянул свою ладонь старику для рукопожатия. «Я Андрей. Эндрю. А вы Гриссо?» Старик ничего не ответил и лишь кивком головы дал понять, мол, следуй за мной. На мою руку Гриссо — а это был именно он — внимания даже не обратил.
Мы вошли в его дом. Внутри было темно (хочется сказать, как у негра в желудке, но я не скажу), как в пустом трюме Гришиного парохода. Сделав пару шагов, я тут же наткнулся на какую-то мебель, скорее всего, стул или скамейку. Я чуть было не упал, но старик тут же схватил меня за руку и повел за собой. С другой стороны его хижины, оказывается, тоже была дверь. Она вела в небольшой дворик, с оградой наподобие ивовой, этот дворик был не виден со стороны деревенской площади. За домом Гриссо росли бананы. А под ними на грядках зеленели странные растения, похожие на укроп, но только в несколько раз выше. Кроме этого либерийского укропа я заметил самую обычную коноплю, обступившую — кто бы мог подумать! — диковато смотревшийся здесь розовый куст.
Старик уселся на низенькую скамеечку под банановым деревом.
— Садись — заговорил он на английском, похоже, вполне разборчивом, — Что надо?
— У меня друг умирает, — сказал я и сел на какой-то пень, на котором, очевидно, этот дед рубил дрова.
— И что? — переспросил старик.
— То есть, как «что»?
— И что ты хочешь? Помочь ему умереть без боли или спасти ему жизнь?
— Если бы я хотел сделать первое, то не приехал бы к Вам.
Гриссо задумался. Потом сказал:
— Ты знаешь, нас, настоящих докторов сейчас не любят. Тем более, такие, как ты. Чужаки. Если уж ты пришел ко мне, значит, другу твоему совсем плохо. А хочешь, я скажу, что с ним?
Я кивнул. Старик меня раздражал.
— Сейчас его трясет, он перестал различать и день и ночь, и вкус, и цвет, и боль, и радость, из него уходит влага, и он похож на тень от самого себя. И эту тень надо ухватить.
На меня не произвел впечатление этот диагноз. Такое можно сказать по поводу любого больного в этой стране. И потом, если белый от отчаянья приходит к черному целителю, можно догадаться, что дело с больным обстоит серьезно, поэтому говорить можно все, что угодно. Я засомневался, а стоит ли мне здесь вообще оставаться. Старик уловил мое раздражение и сомнение.
— Ладно, где твой друг?
— Он в Монровии, в иорданском госпитале.
— Тогда вези его сюда.
Мои глаза стали круглыми и выпуклыми от удивления, почти такими же круглыми, как у этого шарлатана.
— А чего это ты на меня так смотришь? Мне нужна моя трава, свежая трава, а в госпитале ее не будет.
Я подумал. Шансов на благополучный исход для русского моряка было мало. А ему самому уже было все равно, где лежать — то ли на койке в госпитале, то ли в этой хижине.
Волков уже ничего не соображал. Когда я привез его на следующий день в эту деревню, старик выглядел совершенно по-другому. Он замотался в красную тунику, оставлявшую голыми его руки, которые были украшены многочисленными браслетами из белого металла. Григория мы вместе с санитаром из госпиталя принесли на носилках. Дети на этот раз нас не встречали, да и вообще деревня производила вид брошенной. Только из-за дома Гриссо доносился ритмичный бой нескольких тамтамов и гортанный голос выкрикивал какие-то фразы на незнакомом мне языке. Мы подошли к дому Гриссо и попытались внести внутрь носилки. С первого раза это не получилось, носилки пришлось немного повернуть, да так, что Гриша чуть не оказался на полу. Придерживая его, мы затащили носилки в дом. Гриссо услышал возню у себя в доме, и зашел внутрь со стороны двора. В руках его была то ли свечка, то ли зажженная лучина. Я впервые увидел его жилище изнутри. Ничего особенного. Из мебели три табуретки, да комод, сбитый из досок так неаккуратно, что он, скорее, напоминал, ящик для хранения картошки, чем деталь интерьера. Но этот комод все же имел отношение к мебели. Старик подошел к нему и, открыв грубоватую дверцу, достал из него тыквенный калабаш со сложным орнаментом. Калабаш был довольно большой, и было отчетливо слышно, как внутри его плещется какая-то жидкость. «Кровь для Водуна,» — сказал старик по-английски едва слышно. Санитар неодобрительно покачал головой. «Несите сюда,» — приказал нам Гриссо и вышел на задворки своего дома. Мы повторили ту же процедуру с протаскиванием носилок через узкую дверь.
Во дворе все уже было готово для церемонии. Трое юношей с закатившимися глазами яростно отбивали ритм на своих тамтамах. «Тук-тук, тук, тук-тук!» — глухо и грозно отзывалась кожа барабанов на движения черных рук. Там, где во время предыдущего моего визита стояла скамеечка, на которой сидел Гриссо, теперь лежала охапка банановых листьев, покрытая какой-то дерюгой серого цвета. Рядом с охапкой стояли несколько тыквенных калабашей, размером поменьше того, который держал в руках Гриссо. Неподалеку был устроен очаг из камней, на котором в закопченном котелке что-то булькало и кипело, скорее всего, вода.
— Кладите его туда, — указал Гриссо на листья. Мы выполнили приказание.
— Носилки унесите с собой, — попросил знахарь, когда мы переложили бредившего Волкова на стог этого бананового сена. Он что-то невнятно бормотал, это бормотанье было похоже на речитатив, отдельные слова которого разобрать было невозможно.
— А теперь идите! — крикнул мне Гриссо, после того, как Григорий оказался на этой копне.
— Я хочу остаться, — попытался я возразить.
— Нет, ты не должен видеть, как я разговариваю с Водуном, это мое табу.
— А этим, значит, можно, — я кивнул на подростков с барабанами.
— Завтра они ничего не вспомнят. Это их работа.
Я еще раз посмотрел на юношей. Они явно находились в состоянии транса, но, не замечая друг друга, тем не менее ухитрялись держать один ритм.
— Чего смотришь, ступай скорее отсюда, — выталкивал меня в спину этот странный дед. Санитара выталкивать не было необходимости — он вышел из дома по первой же просьбе хозяина.
— А когда...? — хотел задать я вопрос лекарю.
— Когда приезжать? — выдохнул Гриссо. — Через три дня. И не надо брать с собой никого. Если что, справишься сам.
Но справляться самому не пришлось. Через три дня Гриша Волков уже встречал меня возле входа в хижину Гриссо. Он был худ и слаб, но он ходил, разговаривал и на полную катушку радовался жизни. Он то и дело обнимал старика, приговаривая «Ах, ты вредный докторишка!» по-русски. Старику это не нравилось, он сердился и ругался на своем непонятном языке.
— У меня для вас есть деньги, — сказал я ему почти с порога.
— Положи здесь. — старик указал на все ту же неизменную скамеечку, что стояла у него во дворе. — Деньги не берут из рук в руки.
— У нас берут, — говорю ему.
— Поэтому вы их так быстро теряете.
— А у вас, черных, их вообще не бывает, — огрызнулся я. — Поэтому вы их постоянно выпрашиваете.
— Значит, нам нечего терять. — сказал Гриссо и подмигнул своему белому пациенту. — Правда, Грег?
С Гришей что-то случилось. Он изменился, причем, не внешне, а как-то неуловимо внутренне. Та же одежда, тот же взгляд. Но вот какое-то несвойственное ему движение головой, словно внутри себя он слышит ритм тамтамов, под грохот которых старик лечил его от лихорадки. И эти вялые африканские жесты руками. А, может быть, и запах. Мне показалось, что от Гриши пахнет немытым африканским телом. Так же, как и от старого знахаря.
Я сполна расплатился со стариком. Волков говорил мне потом, что он мой должник и что отдаст мне долг сполна. Он еще не знал, что пока его лечил Гриссо, либерийский суд признал его частично виновным в том, что произошло на борту его судна, мол, не обеспечил охрану. Исполнители еще раз арестовали «Мезень», якобы в пользу выплат семьям пострадавшим. Но я-то знал, что никто ничего платить не будет. В историю с пароходом я не вмешивался. Все же министр внутренних дел бывал у Чарли-боя куда чаще, чем я.
Волков вернулся в Монровию и затеял судебный процесс с правительством Либерии. Он апеллировал к местному суду, к международным организациям, вплоть до Объединенных Наций. ООН подтверждала его право на судно и заявляла решительный протест властям, но те не обращали внимание. Либерийская фемида была непреклонна. А между тем старший сын министра внутренних дел начал потихоньку ремонтировать пароходик. Вернул на борт генератор, который забрал его папаша, и запустил на «Мезень» целую бригаду судоремонтников. Он хотел сделать из парохода что-то вроде плавучего борделя. И, кстати, для этой цели предполагалось выписать сюда даже девушек из Европы. Восточной, конечно. От Гриши эти планы никто не утаивал. И чем активнее Волков боролся за свой пароход, тем более непробиваемой казалась стена местного закона. Или же беззакония.
В конце концов, в борьбе с ветряными мельницами он потерял почти все, что имел. Его выставили из гостиницы, забрав в качестве оплаты за долг все его вещи, кроме трусов с носками да вороха документов, в которых сухим юридическим языком была изложена вся история его борьбы. Он перебрался в мусульманский район Монровии, где отрабатывал ночлег у местного портного. Оказывается, Волков умел еще и строчить что-то на швейной машинке. Это его спасло от голодной смерти.
А потом ему надоело прозябать. Он опять исчез на пару месяцев. А когда вернулся, то занял у меня весьма небольшую по тем временам сумму. И открыл собственный припортовый бар. Но странное это было заведение. Без названия и даже без вывески, оно размещалось на первом этаже бывшего здания администрации порта Монровия. Алкоголь здесь всегда имелся в избытке, но не в этом была изюминка нового бизнеса, который затеял Волков. Гриша стал лечить людей. Он предлагал необыкновенно широкий спектр знахарских услуг по лечению любых заболеваний. В первый раз он отличился, когда с помощью травяных настоек поднял на ноги своего бывшего хозяина-портного, который чуть было не скопытнулся, отравившись какой-то неизвестной мне пищей. Затем пошла целая вереница рожениц, и у Гриши тут не было ни одной осечки. Во всех случаях исход был благополучный. Ну, и в довершение всего, за целительными препаратами Волкова приходили местные алкоголики. Этот контингент был неиссякаемым, потому что африканцы пили все, что имело запах спирта, и результат чаще всего бывал плачевный. Кстати, с явлением, называемым в русском народе бодуном, напитки Волкова справлялись идеально, лучше всякого пива. Конечно же, в Гришиных снадобьях не обошлось без наркотиков. Но это было нечто не подлежавшее определению. Не марихуана, не гашиш и не кокаин. Что-то совершенно неизвестное официальной науке. Хорошо человеку, и ладно. Пусть так и будет. Кстати, за наркотики при Тайлере могли и расстрелять без суда и следствия.
Понятное дело, Гриша поставил на коммерческую основу опыт и знания своего доктора. Потому-то и ездил он, всякий раз получив очередного сложного пациента, в деревню Баба за консультациями. Говорили, что Гриссо, который не любил покидать свой дом родной, все же тайно приезжает к Волкову, чтобы руководить врачебной практикой своего способного белого ученика.
Как-то я пошутил, вспомнив разбитое лицо министра внутренних дел, в том духе, что, мол, Гриша прошел весь эволюционный путь белого африканца — поначалу не захотел возить оружие, потом всерьез задумался об убийстве черного, и в конце концов стал обычным мирным шарлатаном. Гриша взглянул мне в глаза и сказал очень серьезно:
— А тебе повезло. Ты не изменился.
— В отличие от тебя? — переспросил я его, вглядываясь в его лицо. Оно, конечно, не было африканским, но и на русское оно теперь не было похоже. Григория, однако, теперь можно было принять, скорее, за арабского торговца, нежели за русского моряка.
— Я? Я, Андрюша, совсем другой. И, знаешь, почему?
Я промолчал.
— Потому что, в отличие от тебя, я никогда не вернусь домой.
Перед Григорием стоял стакан коричневатого чая с запахом высушенных водорослей. Коричневатые, в тон напитку, заскорузлые пальцы время от времени отрывали стакан от стола и подносили к губам.
— А у тебя все еще есть шанс. И не отказывай себе в этом маленьком пространстве для счастья.
— Что ты имеешь в виду, Гриша?
Но он так и не пояснил. Видно, наркотик, составленный по рецепту старого Гриссо, уже начинал действовать. А я тогда не стал пить этот бусурманский чай.
ГЛАВА 12 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. ЙАГГЕ И СОМА
Это было давненько. А теперь я шел в заведение Волкова с больной головой, потерянной ориентацией и свежими воспоминаниями о том, каким чудесным было начало сегодняшнего дня.
Заведение находилось в цокольном этаже закопченного дома. За домом была авторемонтная мастерская, и ритмичный монотонный стук молотка об какую-то автомобильную железку доносился даже сюда, в полуподвальное помещение с подслеповатыми лампочками, основательно обсиженными мухами. Бар Волкова был обшит изнутри распиленными бамбуковыми планками сверху и донизу. Невысокие перегородки отделяли столики один от другого. В общем, все соответствовало африканским стандартам уюта. Но вот меню удачно отличало это заведение от других. Собственно, меню никогда и не приносили. Столики обычно обслуживал сам Гриша, а кто же лучше хозяина знает свою кухню? Когда Гриши не было, с посетителями разбиралась девчонка лет шестнадцати, которую он привез из деревни Баба. Она была какой-то дальней родственницей водуна Гриссо. По городу ходили слухи, что напитки готовит сам водун, который тайно живет на кухне у Гриши. Долгое время Волков хранил об этом молчание, а удовлетворить любопытство с помощью силы не решались ни монровийские бандиты, ни полиция. Полицейские пытались было выведать это у девчонки, но она, надувшись, замолчала, и заставить ее говорить не смогли даже побои сержанта Зеу, человека нереальных размеров и пропорций. Гриша забирал ее из участка сам и сказал этому Зеу, что он привезет Гриссо хотя бы только для того, чтобы избавить этого огромного ублюдка от излишков здоровья. Угроза возымела действие, и девушку отпустили.
В конце концов, чтобы избежать погромов в будущем, Григорий признался в том, что старик помогает ему управляться с кухней, а сам новоиспеченный бармен лишь присматривает за Гриссо, ведь чем дальше, тем немощнее становился старик. «Ну, так бы сразу и сказал,» — вздохнул сержант Зеу и пошел в бар к Волкову за снадобьем против бессонницы. С тех пор дела Григория пошли в гору. Он, конечно, сверхбогатства не заработал, но уверенно держался на плаву. И все же, он по-прежнему больше всего на свете мечтал вернуть себе свою «Мезень».
— Что будешь пить? — спросил Гриша, как только я подошел к стойке.
Я осмотрел бар. В зале не было шумных компаний, все больше одинокие бездельники. Свободных столиков оставалось немного, по-моему, два. Я указал на тот, что был подальше от барной стойки, и сказал:
— Я сяду туда.
— Что тебе принести? — повторил свой вопрос Гриша.
— Дай мне какое-нибудь зелье от похмелья. И от всяких тяжелых мыслей.
— От похмелья одно, — улыбнулся Волков. — от грустных мыслей совсем другое. Нести оба?
— Да, пожалуй.
Он принес два стакана в подстаканниках. В одном была коричневая жидкость, в которой плавали то ли стебельки травы, то ли лапки неведомых мне насекомых. В другом плескалась прозрачная зеленоватая субстанция. Над обоими стаканами поднимался пар. Такое же прозрачно-изумрудное зелье черная официантка поднесла и Григорию.
— У тебя тоже болит голова с похмелья? — спросил я его.
— Нет, тоже одолевают грустные мысли, — улыбнулся Гриша. — А ты начинай с йагге.
Очевидно, он имел в виду коричневую жидкость. Я сделал глоток и нашел ее довольно приятной на вкус, с учетом того, что вид коричневого раствора травы или насекомых не внушал доверия. Алкоголя в йагге не было ни грамма, но при этом весь мой организм с первого же глотка, как говорят бывалые похмельщики, начало «попускать». Мышцы расслабились, а боль, сковавшая мои виски, растворялась, как аспирин в стакане, и, наконец, исчезла без остатка. Мне показалось даже, что лампы под потолком начали светить ярче, невзирая на черные точки грязи и паутину. А еще исчезло болезненное ощущение тяжести разговора с собеседником, когда каждое услышанное слово бьет молотом своих ударений куда-то в самый центр центральной нервной системы.
— Сработало? — спросил Волков, как только я прикончил стакан.
— Так точно.
— Добавки не желаешь?
Я замотал головой:
— Мне бы настроение теперь поднять, да боюсь попасть в штопор запоя.
— Это безалкогольное, — и Гриша пододвинул ко мне второй стакан. — Но все же чокнемся, — он приподнял свой.
— Мы и так с тобой чокнутые, — пошутил я довольно банально.
Стаканы глуховато звякнули. И словно эхом, грохнул вдалеке молоток автослесаря.
— Что это такое, — спросил я Григория, уже переполовинив стакан.
— Ну, это рецепт нашего сомелье. Чтобы ты понимал до конца, я зову нашего старикана Гриссо «сомелье». Хороший каламбур. От слова «сома», именно так он называет это пойло. Думаю, это лучший из его рецептов.
— Так ведь «сома» это какая-то индийская водка.
— Может быть. Он говорит, что сам придумал это слово. Не знаю. Какое мне дело, откуда он взял это название? Что Гриссо туда бодяжит, не знаю ни я, ни эта черная телка, его племянница. Да и тебе лучше не знать. Пей, да и все.
Я пил. Мне показалось, что напиток, попадая ко мне в организм, становится тягучим и обволакивает все мои внутренности, словно сладкий мед. А почему, собственно, я должен расстраиваться из-за этих провокаторов из Буркина-Фасо. Ну, поджарит их Тейлор вместе с моим партнером из Эйр Лайберия. Мне-то чего расстраиваться?
— Гриша, знаешь, что меня беспокоит? Я понял одну простую вещь. Когда дела идут слишком хорошо, их надо сворачивать.
— А у тебя они и впрямь идут хорошо? — усмехнулся Волков.
— Думаю, да. Неуклонно хорошо. Я друг президента. Ну, не друг, а, скажем, не враг. И он это ценит. Он летает на моем самолете, и знает, что сбивать его не будут. Он покупает мои... ну, как сказать, ... изделия. И, судя по всему, собирается покупать их еще очень долго.
— Так от чего же тебя колбасит?
— А колбасит меня от того, что если рухнет он, то рухну и я. Мне надо уйти в сторону.
— Так уйди, в чем проблема?
Проблема была в том, чтобы уйти незаметно и сохранить свой капитал. Вернее, это была только половина проблемы. Вторая обнаружилась лишь сегодня утром. Она состоит в том, что я влюбился.
— Я влюбился, Гриша, — вздохнув, я сделал свое резюме по описанной выше проблематике.
— Да ты что? — на коричневом лице Григория проступило нескрываемое удивление. — Влюбился? Переспал с бабой?
— Ну, и переспал тоже. Но не это главное. Я не хочу уезжать один. А там, куда я хочу уехать, возможно, не захочет жить она.
Гриша глотнул зеленоватую жидкость, которую он называл сома.
— Знаешь, есть такая легенда об Банановом Острове?
Я покачал головой, мол, нет, не знаю. Автослесарь на заднем дворе, не переставая, стучал своим молотком.
— Ее рассказал мне Гриссо. Помнишь, тогда, в деревне, когда я уже начал выздоравливать.
И русский моряк Гриша рассказал мне одну из самых красивых легенд, которых я немало наслушался в Африке.
ГЛАВА 13 — ЛЕГЕНДА О БАНАНОВОМ ОСТРОВЕ
Ты знаешь деревню Баба, она стоит на берегу океана. Место там неспокойное, все время дуют ветра, а над горизонтом постоянная облачность. Местные рыбаки далеко не заходят. Они ловят рыбу только там, где еще можно достать до дна длинными бамбуковыми палками, которыми они закрепляют свои сети. На выдолбленных лодках они и не могут уйти далеко в море. Лодки тяжеловаты, тихоходны и вряд ли спасут от надвигающегося шторма. Но вот особо рискованные рыбаки, бывало, гнали свои пироги на Запад, в эту сероватую дымку на краю обозримого пространства. Возвращались оттуда единицы. И они говорили, что выдели там какой-то чудесный остров, весь поросший зелеными зарослями. Побережье острова это сплошь пляжи с золотым песком. Со стороны острова доноситься пение чудных птиц, а надо всем океаном разносится запах сладкого бананового пива. Но как только рыбаки начинали грести к этому острову, тут же поднималась буря, которая щадила немногих. Рассказы о Банановом Острове передавали от отца к сыну в течение столетий, и еще говорили, что на этом острове нет времени, и всякий, кто туда попадет, получит в качестве награды вечную молодость. Однажды рыбак по имени Веа решил проверить правдивость этой легенды. Его отговаривали, но у него не было ничего, что могло бы удержать Веа от опасного путешествия. Однажды он вышел в море и принялся отталкиваться от дна своей бамбуковой палкой. Когда палка перестала доставать до дна, он взял в руки весло и принялся грести. Через некоторое время поднялся шторм, с неба полился сильнейший дождь, и Веа стал вычерпывать из лодки воду, которая начала быстро заполнять его суденышко. Но вода была проворнее рыбака, и скоро Веа совсем отчаялся. Он решил, что пришел его час, и лег на дно лодки. Он смотрел на грозное серое небо, его лодку из стороны в сторону болтал ветер и волны, но, тем не менее, она не перевернулась. Веа заснул, а когда открыл глаза, то увидел, что его лодку выбросило на пустынный берег, покрытый золотым песком. Невдалеке была банановые заросли, из которых доносилось пение птиц. Заросли пахли не привычным гнилостным запахом джунглей, а сладким банановым пивом. «Нашел,» — воскликнул Веа изо всех сил и выпрыгнул на берег. Он бросился в чащу, сорвал несколько бананов и, съев буквально всего лишь один, утолил свой голод. У него прибавилось сил, и он зашагал вглубь острова по тропинке, которую заметил в джунглях.
Посреди острова Веа обнаружил хижину. Она была огромных размеров. Двухэтажная, как у вождя их племени. Вокруг хижины паслись козы, коровы, кабаны. Рядом с этой травоядной живностью лежали львы и гиены. Они не бросались на домашних животных, а мирно глядели на то, как те, не торопясь, жуют сочную траву. Веа поднялся по лестнице в дом и увидел, как посреди него девушка необыкновенной красоты разливает что-то в два тыквенных калабаса. Один она берет сама, а другой протягивает ему. Он взял калабас и отхлебнул из него. Это было банановое пиво, но у него был необыкновенно насыщенный и такой неповторимый вкус, что Веа даже хмыкнул от удовольствия. И, самое главное, аромат этого напитка едва ли не свел рыбака с ума. А, может, и не аромат вовсе. Рыбак посмотрел на девушку и решил здесь остаться на некоторое время.
Сколько времени он провел на острове, неизвестно. Во всяком случае, сам он этого не знал, да и не хотел знать. Утром они вместе с островитянкой бродили по берегу, погружая ноги в океан, днем кормили коз и гладили львов, вечером пили банановое пиво, отхлебывая его из калабасов друг у друга. Потом целовались, и выпитое ими пиво смешивалось на губах. А потом наступала ночь, и отдыхая после любви, они слушали песни, которые им пели птицы острова.
Но однажды, гуляя по берегу вместе с подругой, Веа увидел свою лодку, которую из стороны в сторону качала волна. И тогда он сказал девушке, что им нужно отправиться к нему на родину, в деревню Баба. Девушка ничего не сказала, лишь молча кивнула головой. Она смотрела, как Веа собирал в лодку все необходимое для этого путешествия — еду, рыболовные крючки, веревку, бамбуковые палки, которые можно было в случае чего связать и превратить в некое подобие плота, и, главное, запас бананового пива. Когда все было собрано, он взял свою подругу, усадил ее на корму и оттолкнулся от берега.
Он греб, не переставая, целый день, пока над океаном висело солнце. Погода выдалась на редкость хорошей, и небольшая волна только подталкивала лодку вперед. Солнце стало приближаться к горизонту, и Веа хотел было радостно сообщить своей подруге, что скоро будет земля. Он обернулся к ней, но та закрыла руками лицо и зарыдала.
Сначала рыбак не придал этому значения. Но чем ближе родные берега, тем сильнее плакала девушка. Вот уже и пальмы виднеются вдали. Вот уже можно различить и круглые хижины под ними. Веа схватил бамбуковую палку и попытался достать ею до песчаного дна. Есть! Мы уже совсем близко от моего дома, воскликнул он, перебравшись на корму. Он схватил свою подругу за руки и отнял их от ее лица. И — о ужас! На него смотрела морщинистая древняя старуха.
Веа закричал и хотел было прыгнуть за борт. Но старуха остановила его и сказала: «Только на Банановом Острове я остаюсь молодой. Там я не считаю времени и даже сама не знаю, сколько лет мне на самом деле. А на твоей родине у меня не будет времени вообще. Чем ближе твой берег, тем меньше мне его остается. Но знаешь ли ты, сколько времени провел ты на острове?» И Веа ответил, что точно не знает. Ну, может, две недели, может, два месяца. «Двадцать лет,» — проговорила старуха. Веа не поверил. «Тогда взгляни на свои руки,» — вскрикнула она внезапно. И тут рыбак увидел, что руки его, сжимавшие бамбуковую палку, покрылись морщинами, кожа на них отвисла, пальцы скрючились, суставы вздулись и проступили на руках жилы. Веа посмотрел на старуху, взглянул на берег и развернул свою лодку в обратном направлении. Больше его никогда не видели.
— Красивая история. А что дальше? — спросил я Григория.
— А дальше, — улыбнулся он неуловимо, — приплыли белые люди и доказали, что нет никакого Бананового Острова, а есть только стеклянные бусы, огненная вода и деловые отношения.
Как будто в подтверждение его слов, механик на заднем дворе все колотил по своей железке. Упорный, подумалось. Почти как я.
— Знаешь, как говорят о нас тут черные? — сказал Григорий, дождавшись момента, когда автослесарь сделал, наконец, паузу и прекратил свой стук на несколько минут. — Они говорят нам: «Вы, белые, пришли сюда и научили нас, что главное в жизни — деньги. А раз так, вы нам должны их давать до скончания века.»
— Это они так оправдывают свою лень, — говорю.
— Не совсем. Они и впрямь не понимают, что деньги сами по себе ничего не значат. Я не знаю, как это бывает с твоими большими людьми, — и Волков, приподняв подбородок, чуть закатил глаза. — а вот с моим контингентом именно так и происходит. Вот, например, чиновник в банке, куда я приношу выручку. Он может красиво рассказать о том, что такое дебет и кредит, основные и вспомогательные фонды, но на самом деле он считает, что его личная экономика зависит от того, принесет ли Григорий Волков деньги сегодня или завтра. И он не понимает, что доллары это лишь символ невидимых рычагов, которые двигают настоящую экономику. И сами по себе это просто цветные бумажки, сила которых создается людьми.
Я почувствовал, что его слова меня убаюкивают.
— А еще они не понимают, что русские думают примерно так же, как и они. — сказал я, чтобы поддержать разговор. Что я такое несу, да и вообще, зачем я сюда пришел? Не помню. — Мы же в душе такие же черные. Мы. Русские... Украинцы... Белорусы...
На слове «белорусы» мои глаза плавно захлопнулись.
— Я мордвин, — слышу я голос Григория.
Веки налились мягкой тяжестью. Пришлось ее преодолеть, чтобы немного приоткрыть их.
— Нет, Гриша, ты не мордвин, — говорю я, улыбаясь. И моя рука ложится Волкову на плечо. — Ты не мордвин и ты даже не русский. Ты африканец. Африка твой дом, вся эта Африка и есть твоя личная Мордовия.
Я повернулся и показал на пространство за своей спиной. И увидел, что с ним происходит нечто невероятное. Оно внезапно покосилось, как во время землетрясения. Хотя столы и стулья остались на месте, и на стойке, вопреки всем законам физики, продолжали неподвижно стоять стаканы с пойлом. Стаканы продолжали стоять и на нашем столе. А, между тем, я чувствовал, что начинается настоящее землетрясение. Стены и пол тряслись, словно в лихорадке, и я чувствовал эту дрожь, и я видел дрожь на лице Волкова. Его трясло так же, как и меня. «Землетрясение,» — хотел я крикнуть — «спасайся, кто может». Но вместо слов из моего рта вырвался клекот птицы. Он сразу же стал жить своей жизнью, за несколько секунд оброс перьями, у него появились клюв и крылья, и этот звук стал смотреть на меня недобрым хищным глазом. Он подскочил к потолку и, ударившись об него, снова подлетел ко мне. Он закрывал своим оперением Гришино лицо, и я стал отгонять эту птицу. Птица принялась прятаться от меня, ныряя полностью в один стакан и выпрыгивая из другого. «Вот ведь какая дрянь,» — хотел я усмехнуться Волкову, но мой смех превратился в гиену с коротенькими задними ногами, и теперь она сама смеялась надо мной. И вместе с дивной птицей напряглась в ожидании того момента, когда я расслаблюсь и сделаю ошибку. Я не хотел расслабляться. Я начал сбрасывать со стола стаканы. Они медленно падали на пол, рассыпаясь стеклянными брызгами, похожими на стеклянные бусы белых первопроходцев, и звуки бьющейся посуды превращались в разных, очень опасных существ. Я успел заметить леопарда, дикобраза и косулю. Леопард рычал на меня, дикобраз обстреливал своими колючками. Косуля тоже была опасной, потому что норовила боднуть меня рогами. И когда ей это удалось, мне стало нестерпимо больно. Как будто ее рога были отточены напильником. А где же он, этот напильник? Конечно, в руках Григория. Я видел, что он сидит, как каменное изваяние, и у него в руках этот напильник, покрытый ржавчиной. Точно, это был он, этот опасный инструмент, и каменный человек водил напильником, оттачивая рога косули. Я на секунду забыл, что мне нужно быть бдительным, и упустил тот момент, когда рогатое животное боднуло меня во второй раз. От боли я закричал, хотя как раз этого мне делать было нельзя. Из тех звуков, которые я издаю, образуются новые хищники. И вот они ворвались в полутемное помещение. Кажется, здесь собрались все обитатели либерийских джунглей. Теперь уже невозможно было различить, кто есть кто, и вся присутствующая фауна превратилась в разноцветную массу, которая кричала, шипела, квакала, шуршала, рычала и повизгивала. А еще издавала зловонные запахи и норовила дотянуться до меня. Звери влезли даже на стол, за лесом рогов, хвостов, зубов я потерял из виду лицо Григория. Впрочем, он мне был не помощник. Григорий окаменел окончательно и лишь изредка водил напильником по сторонам. А что у меня в руке? Еще один пустой стакан. Я сжал его как можно крепче, размахнулся и, что было силы ударил об угол столешницы. В руках у меня появилось очень опасное оружие, в некоторых кругах известное под названием «розочка». Вполне удобное оружие. Звери увидели, что теперь я вооружен. Они явно перепугались и отступили. «Ага!» — воскликнул я. — «Ну, теперь вам кранты!» Я воодушевился и совсем упустил из внимания, что птица, первой слетевшая с моих губ, спикировала куда-то за мою спину. Она коварно села мне на плечо и ткнула своим клювом куда-то мне в темячко, в самую что ни на есть болевую точку. Боль была дичайшей, но у меня хватило бы сил, чтобы удержаться на ногах. Если бы не землетрясение. Все время, пока длился мой бой с нахлынувшими в бар джунглями, землю продолжало трясти. И я свалился под ноги каменному Григорию. Дикая стая разлетелась в стороны, и я успел заметить, что вовсе не такой уж он и каменный, этот Григорий. Из-под коротких бетонных брюк выглядывали вполне человеческие волосатые щиколотки, а под ними большие загорелые ступни в истертых вьетнамках. Потом все вокруг начало проваливаться в темноту, и я еще долго видел перед собой эти вьетнамки. И слышал незнакомый голос, говоривший не мне: «Он сможет выдержать?» Что это, вопрос или утверждение? И как называется язык, на котором говорит невидимый мне человек. Русский? Английский? Нет, я узнал его, я точно знаю, что это мордвинский. Не мордовский, мордовский это другой. Этот же был точно мордвинский. Ведь Гриша сам мне сказал, что он мордвин. Каменный мордвин в старых вьетнамках произнес: «Прости, старик, так было надо.»
ГЛАВА 14 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. В ГОСТЯХ У ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Гулкое, гулкое эхо. Голова сдавлена повязкой. Больно. Она закрывает мои глаза. Поэтому я ничего не вижу. Но зато хорошо слышу. Я слышу как меня несут по лестнице, шаркая ногами по мраморным ступенькам. Я очень хорошо помню, что я в Либерии. Здесь есть только одно место, где ступеньки сделаны из мрамора. И я знаю это место.
Повязка очень плотно сидела на моих глазах, ее, видимо, несколько раз обмотали вокруг моей головы. Но, если честно, то в этом не было особой необходимости, потому что я чувствовал какую-то нестерпимую резь в глазах. Как будто бы кто-то плеснул одеколон мне в лицо. Я старался держать веки плотно зажмуренными даже под повязкой, и это несколько смягчало мои болезненные ощущения. Зато слышал я прекрасно. Я давно уже пришел в сознание, но про себя решил, что не стоит об этом сообщать моим носильщикам. Тем более, что я не знаю, кто они. А это место? Поскольку я не всегда был уверен в своих партнерах, я завел себе полезную привычку — внимательно запоминать обстановку, в которой я бываю. Считать ступеньки в подъездах, в которые я захожу впервые. Запоминать количество лестничных пролетов и поворотов. Определять характер эха, которое слышу. Потому что эхо звучит по-разному в больших залах и маленьких помещениях, подворотнях и тоннелях. И даже в одинаковых по размеру комнатах характер эха зависит от отделки. Вот так, как сейчас, может отражать звук только мрамор, я это знал наверняка. Ну, если я не ошибаюсь, сейчас будет поворот направо, сказал я себе. И верно, мой эскорт повернул в правую сторону. Теперь нужно сделать полтора десятка шагов, и снова будет поворот направо, за ним лестничный пролет. Двадцать пять ступенек. Потом коридор в двадцать шагов. Тяжелая дубовая дверь с охраной. Ну, а дальше, учитывая мое нынешнее положение и внешний вид, меня постараются как можно быстрее, минуя большую приемную, внести в кабинет хозяина этого отделанного мрамором особняка. Носильщики прошли семнадцать шагов. Им было тяжело. Я про себя ухмыльнулся, подумав, что поторопился с похудением. Не начни я бегать, и этим вертухаям пришлось бы еще труднее. Но пускай поработают и физически.
Дальше все было так, как я себе предполагал. У двери мы даже и не остановились, видимо, она была заранее открыта, и, судя по звуку, закрылась сразу же, как только наша странна группа миновала ее. Меня внесли в кабинет и усадили в кресло. Я слышал усталое пыхтение своих сопровождающих и отчетливый кисловатый запах пота. Они молча стояли возле меня, словно не знали, как им быть дальше. Под ними скрипели половицы паркета. Или, может быть, это скрипели на их натруженных ногах солдатские башмаки.
— Развяжите его, — услышал я голос. Тот самый, который я и ожидал услышать. — И снимите эту дурацкую повязку.
Несколько рук сразу одновременно принялись приводить меня в порядок. Делали они это очень поспешно, но все же с повязкой им пришлось повозиться. Я насчитал пять оборотов вокруг своей головы. Я, должно быть, походил на магараджу в чалме, когда меня несли. Пьяного в стельку махараджу. С меня сняли повязку. Боль в висках никуда не делась. Боль в глазах тоже. Я увидел, что сижу, конечно же, перед ним. Только он мог организовать этот спектакль с моим похищением. Чарльз Тайлер, местный президент.
Надо сказать, что в прессу обычно попадают те изображения Тайлера, на которых он выглядит похожим на вождя людоедов. Седоватая небрежная щетина на лице, глаза, вываливающиеся из орбит, искривленные во время очередного ораторского выступления губы. Но, поверьте, этот человек не имеет ничего общего ни с центральноафриканским императором Бокассой, пожиравшим белых девушек, ни с угандийским монстром Иди Амином. Тайлер, на мой взгляд, был одним из самых приятных африканских лидеров своего времени. Он был довольно интеллигентен и образован, видимо, в Штатах он успевал не только ремонтировать подержанные машины, но и ходить на лекции. Он мог говорить на любые темы. Любил удивить собеседника знанием английской классики, Шекспира цитировал к месту и не к месту. А о европейской моде от кутюр вел споры ну просто бесконечно. Что касается сферы моих интересов, то он довольно неплохо разбирался в стрелковом оружии. А вот, что касается тяжелой техники, то здесь его знания были ограничены. Вряд ли он понимал, чем газотурбинный танковый двигатель отличается от обычного дизеля. Но это ему и не было нужно. Денег на танки с газотурбинными двигателями у него не было. А если бы и были, то все равно никакие танки не могли спасти его режим от краха. Потому что по духу своему он был обычным интеллектуалом средней руки, приятным в общении, но недалеким и непоследовательным. За это его любили, когда он воевал против власти. За это его стали ненавидеть, когда он сам стал властью. В отличие от остальных африканских вождей, он никогда не подводил с платежами и был весьма надежным партнером. В общем, он походил на какого-нибудь стареющего доброго негра из американских фильмов. Главное, что мне в нем нравилось, это то, что в отличие от своего друга Принса Джонса, он ни за что не смог бы отрезать член своему политическому противнику. Это внушало оптимизм в те минуты, когда он становился агрессивным. Но — «скажи мне только, кто твой друг, и»... В распоряжении Тайлера всегда были люди, готовые ради своего сюзерена и член отрезать, и страну в крови утопить. Я об этом помнил всегда.
— Ну, здравствуй, Эндрю-Андрей, — сказал президент своим хрипловатым голосом, как только с моих глаз сняли повязку. В приветствии звучал нескрываемый сарказм. Особенно, в этом русско-английском имени.
Освободив меня, мои носильщики сразу же испарились, но я краем глаза все же успел заметить их камуфлированные штаны и армейские ботинки.
Я молчал. Честно говоря, я просто не знал, как к нему обращаться. То ли возмутиться неслыханной дикостью моего похищения, то ли высказать недоумение по этому поводу? Пока я думал, президент взял со своего полированного стола сигару, отрезал специальными ножницами ее кончик и закурил. Он повернулся ко мне спиной и уставился на огромный гобелен, висевший за его креслом. Гобелен изображал вышитый вручную либерийский герб. Корабль, швартующийся на закате к берегу, на котором растет пальма, а под пальмой стоит деревянная тачка с кайлом. Мотив рисунка был почерпнут из реальной истории этой страны. Где-то сто пятьдесят лет назад сюда приплыли освободившиеся от рабства американские негры, чтобы создать страну свободы на своей исторической родине. Над гербом девиз «Любовь к свободе привела нас сюда». По-моему, в контексте этого девиза тачка выглядела довольно двусмысленно. Мол, вкалывали в Америке и не ожидали, что вкалывать придется и в Африке.
— Спасибо за «Стрелы», Эндрю. Ты сдержал свое слово, я свое. У меня на столе — чек на предъявителя в Арабском Банке. Хочешь, в него впишут твое имя. Хочешь, чье-то другое.
— Не стоит торопиться, Ваше Превосходительство. — Я решил выбрать именно такое обращение к президенту. Начнем разговор в официальных тонах, а там посмотрим.
— Как знаешь. Выпьешь?
— Нет, спасибо. Я уже достаточно выпил сегодня.
Тайлер рассмеялся. Он явно был в курсе того, что меня напоили какой-то дрянью у Григория.
— Да, сома действует великолепно. Однако, я бы рекомендовал ее в комбинации с йагге.
— Так и было, — вздохнул я.
— Я слышал, этот старик Гриссо знает куда более мощные средства.
«Сволочь, этот твой Гриссо. И Гриша тоже сволочь,» — подумал я, но вслух так ничего и не сказал.
— Послушай, я сожалею, что пришлось тебя таким образом приводить в мой кабинет. Но у меня есть все основания поступить именно так.
Тайлер делал большие паузы между предложениями. В этих паузах моя голова работала, как калькулятор. Я пытался вычислить, к чему он клонит.
— Что за основания, господин Президент?
— Имена.
— Какие имена?
— Которые ты мне сейчас назовешь.
Ну, конечно, догадался я. Эти двое из Буркина-Фасо. Но как, все-таки, быстро сработали люди Президента. Скорее всего, они все время следили за мной. Или за этими двумя.
— Жан-Батист Санкара и Томас Калибали, — говорю я Тайлеру. — Кажется, так. Я ведь увидел их в первый раз.
— Санкара, Жан-Батист, — проговорил Тайлер, усаживаясь в свое кресло. Он принялся перебирать бумаги, ворохом лежавшие у него на столе. Наконец, он нашел что-то, и дабы лучше рассмотреть, водрузил на переносицу очки в золотой оправе. Я почему-то вспомнил басню «Мартышка и очки» и усмехнулся. Тайлер строго посмотрел на меня поверх стекол. Как школьный учитель на непослушного ученика.
— Что смешного?
— Да ничего. Удивляюсь, как быстро Вам стало об этом известно. Здорово.
И снова Тайлер посмотрел на меня исподлобья. Внимательно так посмотрел.
— Мне об этом, — он сделал ударение на слове «мне», — мне об этом стало известно гораздо раньше, чем тебе. Соображаешь, почему?
Конечно, я соображал. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что чуть ли не половина Монровии «стучит» полиции Тайлера на иностранцев. Учитывая, что туристов в Либерии почти что не бывает, — ну, скажите, какой сумасшедший приедет отдыхать в страну, где люди привыкли к тому, что войны сменяются эпидемиями, как солнечная погода дождем, — белые в этой стране, как навозные мухи, кормятся от войн и эпидемий. Так или иначе они связаны с разведками своих богатых стран. И готовы щедро платить за интересующую их информацию. Что, собственно, они и делают, нисколько не заботясь о том, что платят они тем же «стукачам» Тайлера. Официальным доносчикам президента. Один знакомый цэрэушник мне как-то сказал полушутя: «Если либериец работает только на одну иностранную разведку, это не говорит о его верности. Это говорит о его неосведомленности. Он просто не знает о существовании других контор.» Я тоже пользовался услугами информаторов и делал это в открытую. Мне, как и всякому другому коммерсанту, нужно было знать все самое главное о своих клиентах. Вот, например, я знал, что сын Тайлера хочет быть следующим президентом. Было бы логично завести с ним дружбу. Но я этого не сделал. Потому что из других источников мне было известно, что папа собирается отправить сына в бессрочную ссылку в Европу. Речь шла о Восточной Европе, судя по тому, что в паспорте Тайлера-младшего уже стояла украинская виза.
— Что он тебе предлагал? — спросил Тайлер напрямую.
— Они, Вы хотели сказать?
— Нет, он, именно он. Санкара.
— Спросите его самого. Если я сижу перед Вами, то что Вам мешает точно так же пригласить сюда и Санкару. — Я сделал ударение на слове «пригласить».
Это почему-то разозлило Тайлера. Его и без того широкие ноздри внезапно расширились, а взгляд уставился в одну точку. И эта точка, как я успел заметить, находилась в районе моей шеи. Я почему-то с волнением поглядел на большущий костяной нож для разрезания бумаги, который лежал на столе у Тайлера.
— Эндрю, я считаю тебя своим другом. Но дружба не бывает вечной. Интересы дела всегда выше дружбы. Ты должен прямо отвечать на вопросы, а не дразнить меня своими замечаниями.
Он перевел дыхание и внезапно по-простецки хохотнул.
— А представляешь, что с тобой могло произойти, если бы в заведении твоего русского друга тебя бы нашли с камнем в руке? Маленьким, блестящим и очень холодным? Ага, Эндрю? У нас ведь законопослушная страна и законопослушные люди.
Знаете, как это делается в Африке? Вы идете по улице, и к вам внезапно пристает какой-то оборванец, который предлагает купить необработанный алмаз. Вы не верите первому встречному. Ну, конечно, конечно, не верите, вы же умный человек, и не собираетесь купиться на жалкий трюк торговца воздухом. А, собственно, зачем он вам это предлагает? Вы же опытный «африканец», сотрудник миссии ООН или просто флибустьер, искатель легких заработков. Вы не можете стать жертвой столь жалкой провокации. Ведь дома вас неоднократно предупреждали — вывоз драгоценных камней карается сроком от двух до пяти лет рудников, где эти алмазы добываются. Нет ужаснее места на Земле, чем алмазный прииск. Я часто пролетал над ними на вертолете, и всякий раз, когда мы приближались к месту добычи алмазов, я просил пилота снизиться и сделать круг. Увиденное впечатляло. Десятки, а может быть, сотни людей, стоят по колено в воде, в желтой густой жиже, и что-то извлекают из мутных луж. Поначалу кажется, что они черпают грязь, коричневые комья грязи. Но где-то в середине этой субстанции прячутся алмазы. Мне казалось, даже сюда, в пилотскую кабину, дотягивается жуткое зловоние кошмарной жижи, из которой рождаются украшения. Дорогая обертка для самых привлекательных и притязательных женщин этого мира. Если б знали они, сколько грязи и крови налипло на их бриллиантах! Ну, а даже, если б и знали, что тогда? Отказались бы носить украшения? Они же носят на себе шкуры безвинно уничтоженных животных, и ничего — угрызения совести их, в большинстве случаев, не мучают. Исключение — только борец за права животных Бриджит Бардо, но это у нее реакция на затянувшийся климакс. Я, глядя с высоты птичьего полета на алмазные копи, не знал, да и не хотел знать, подробностей той мясорубки, в которую превратило рудники либерийское правительство. Из тех, кто готов был добровольно работать на рудниках, в стране не осталось никого. Поэтому для добычи алмазов стали привлекать каторжников. Он жили в сараях, по сравнению с которыми бараки Освенцима казались чем-то вроде уютной гостиницы. Кормили каторжников исправно, но только один раз в день в обед. Давали полкило кукурузного хлеба и миску похлебки, полупрозрачного варева из несвежей фасоли. Двенадцать часов в день каторжанин проводил по колено в желтой зловонной жиже, которую я, впрочем, уже живописал. Три года на рудниках это был предельный срок для любого человека. Пять лет не выдерживал никто. Рудники постоянно испытывают недостаток в рабочей силе, поэтому людей сюда загоняли обманным путем, например, случайный прохожий здоровался с тобой за руку на улице, и у тебя в ладони оказывался вдруг маленький кусочек алмаза. Провокатор обычно зажимал его между пальцами и во время рукопожатия оставлял в твоей руке. Едва успев обнаружить камень, ты удивлялся дважды — внезапной находке и наручникам, что в следующий момент смыкались на твоих запястьях. Соглядатаи Тайлера контролировали эту операцию для того, чтобы потом обвинить любого неугодного в попытке контрабанды алмазов. А это, как раз, и карается либерийскими законами на срок до пяти лет в местах непосредственной добычи алмазов. Вот об этом-то и хотел напомнить улыбающийся Тайлер. Вот только странно, что ведет он разговор явно не по ранжиру. Так говорить под стать какому-нибудь полисмену-вымогателю, а не президенту страны. Мелко, Чарли, мелко. Или ты, как всегда, говоришь не о том, о чем думаешь?
— Жан-Батист Санкара, так мне его представили, — говорю я Тайлеру. — По версии... по версии Вашего чиновника, в кабинете которого мы встретились, это чуть ли не официальный представитель Вашего коллеги из Буркина-Фасо.
— А в чем заключался смысл ваших с ним переговоров?
— Ваше Превосходительство, — я почти искренне возмутился, потому что разговор в кабинете президента действительно походил на какой-то полицейский допрос. — Зачем Вы меня проверяете? Пусть Ваши люди все узнают у него самого. И у Томаса Калибали, его, по-моему, не стоит большого труда разговорить.
Тайлер пожал плечами, хмыкнул и снова взял со стола бумагу.
— Калибали, как следует из полицейского отчета, — вот он, лежит у меня на столе, — обвинялся в нелегальном пересечении границы Республики Либерия, временно укрывался в помещении авиакомпании Эйр Лайберия. В момент задержания так испугался ответственности, что скончался на месте от сердечного приступа. Его сообщник, представитель либерийской авиакомпании, был задержан, но покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна Сезар Билдинг. С ними, предположительно, находился еще один нелегальный иммигрант, но ему удалось скрыться до прибытия сотрудников полиции и иммиграционной службы. Вот так, мой дорогой Виктор.
И Чарльз Тайлер бросил на стол бумагу, на которой и была написана вся эта чушь.
— Ваше Превосходительство, Вы же прекрасно понимаете, что все было абсолютно по-другому. Вашего человека идиоты-полицейские просто выбросили из окна, а этот Калибали был избит до полусмерти, или же ему перерезали горло. — И я мельком взглянул на костяной ножичек на президентском столе.
— Ты прав лишь наполовину, Эндрю. Относительно Калибали. А этот... который наш, он действительно выпрыгнул из окна. Причем, сам. Что его напугало, больше смерти? Что заставило сделать его шаг в пустоту? Я не тешу себя иллюзией относительно моего народа. Я реалист. Ни один человек в этой стране не станет ради меня жертвовать жизнью, а тем более выпрыгивать из окна из-за угрозы ареста. Вот что меня волнует и вот что делает эту историю делом государственной важности и национальной безопасности. И вот почему ты здесь. Ты единственный, кто видел их втроем. И ты знал, кто был третьим.
— И Вы знали?
— Нет, почему? — искренне удивился Тайлер.
— Ну, как же, Вы же назвали его имя.
— Это ты его назвал. А я лишь повторил вслух. Итак, Жан-Батист Санкара.
— Послушайте, Ваше Превосходительство, я все понимаю. Но не понимаю лишь одного. От Цезарь Билдинг до русского кабака полчаса ходу. Неужели все, что Вы описали, вот эти прыжки из окна и сердечные приступы, все это произошло за полчаса? И, главное, как Вы,... — и тут я закашлялся, потому что неправильное, ненужное слово произнес, — как они успели уговорить Григория напоить меня?
Президент сложил губы уточкой, мол, «ничего тут не поделаешь». У него и впрямь была обезьянья мимика.
— Да, все это случилось за полчаса. А что касается Григория, то ты ведь знаешь об этом чудесном изобретении. — И Тайлер приподнял трубку черного телефона, который стоял у него на столе.
— Времени на уговоры было потрачено ровно столько, сколько нужно, чтобы произнести одно лишь слово. «Мезень».
Он меня по-настоящему удивил. Его полиция, оказывается, может работать оперативно. Если захочет, конечно. Но самое удивительное открытие заключалось в другом. Я думал, что ему ничего не известно о Гришином деле. Президенты не занимаются ворованными кораблями. Впрочем, это у нас. А у них, судя по всему, президент может «тереть терки» на уровне участкового, который в жизни больше ста долларов одновременно и не видел. «Болван, не удивляйся и не ври себе,» — услышал я свой внутренний голос. — «Ты знал это с самого начала, когда затеял в этой стране свой бизнес.» Этот странный президент, несомненно, знал о деле Григория. Поэтому мое участие в истории с его пароходом теряло всякий смысл. Как только Волков услышал в трубке название своего корабля, он, скорее всего, сразу понял, что я ему не помощник. Сволочь! Он и впрямь стал настоящим африканцем, ругался я про себя. Его дырявый пароход ему дороже, чем человек, который спас его от смерти. И я еще выслушивал эти его дурацкие сказки про Банановый Остров и про вечную молодость. А вот хрен он получит назад свой корабль! Я сам спалю его лохань, своими руками, даже если этот Тайлер сожрет меня на обед. Но не сейчас спалю, а чуть позже. Я парень добрый, но хитрый, и память у меня хорошая. Поэтому вычеркнем пока Григория Волкова из числа моих верных друзей.
— Так вот, что касается Жан-Батиста, — сказал президент. — Как выглядело его предложение?
— Ваше Превосходительство, это не было предложение. Это нельзя назвать предложением. Это просто мысли вслух.
— И о чем же он думал?
— Об обмене.
— Что на что менять?
Я выдержал паузу, которой мог бы позавидовать премьер Большого Драматического в Питере.
— Билет в Гбарполу на билет в Уагадугу.
Гбарполу — это название местности, над которой кружил мой аэроплан. Ничего хорошего там не было, кроме желтых ям с гнилой водой. И алмазов среди комьев вонючей глины. Конечно же, Тайлер понял, о чем идет речь. И понял даже гораздо больше, чем было сказано. Он задумался, но лишь на мгновение.
— Я так понимаю, что речь идет о послевоенном времени.
Молодец, что и говорить! Все-таки, президент, а не дворник какой-нибудь или кухарка. Может быть, он и не понял, в чем конкретно состояло предложение этих двоих представителей соседней страны, один из которых исчез в неизвестном направлении, а другой вообще закончил свое существование. В моем коротком пояснении он ухватил самое главное, суть сказанного в полутемном офисе его неверного раба: где-то там, далеко, за морями-океанами, его, хозяина страны, уже приговорили и списали со счетов. Его тюремный срок уже определен и математически просчитан. Его заслуги перед мировой демократией дифференцированы, а ответственность интегрирована в общий план развития региона. Даже если он с ним не согласен, его всегда можно вычеркнуть простым движением руки. И я это понял. Но я пока что на его территории. И пока что на президентском столе лежит костяной нож для разрезания бумаги.
— Знаешь, откуда на земле взялись алмазы, Эндрю? — загадочно спросил президент.
— Ну, — говорю, вспоминая свои скромные познания в геологии, — ученые считают, что на Землю их занесло из космоса. Взорвался алмазный метеорит, рассыпался в атмосфере, и поэтому местами бриллианты лежат так близко к поверхности.
— Это вы так говорите. А мы знаем, что все было по-другому.
По выражению лица президента, я понял, что сейчас мне придется выслушать еще одну бесконечную легенду. Вторую за эти долгие сутки. К счастью, притча оказалась короткой.
— За много веков до сегодняшнего дня мать-прародительница глядела на людей и плакала, предвидя их будущее. Ее слезы падали на землю и застывали, превращаясь в алмазы. Она знала все наперед, и там, где жизнь людей будет особенно тяжелой, она плакала слишком долго. Вот почему у нас в Либерии так много алмазов.
— Ваше превосходительство, если следовать логике этой легенды, жизнь в Либерии должна быть просто невыносимой.
— Так и есть, — президент посмотрел мне в глаза, сверкнув белизной белков. Очень серьезно посмотрел.
— Так что ты ответил на предложение этого Санкары? — переспросил он после короткой паузы.
Если я повторю свой ответ, подумал я, это будет выглядеть, как попытка казаться лучше, чем я есть на самом деле. Он все равно не поверит.
— Ответил отказом. Не сошлись в цене.
И мы оба громко расхохотались, как старые партнеры, хорошо понимающие друг друга. Тайлер умел смеяться ярко и захватывающе. Я завидовал африканцам только в одном. Завидовал цвету их зубов, остававшихся белыми даже в условиях отсутствия стоматологии как таковой. Зубы Тайлера были особенно выдающимися. Ровные, хорошо подогнанные, они напоминали крепостной частокол из слоновой кости, если бы, конечно, кто-нибудь задумал построить такую роскошную крепость. Эти зубы, в крайнем случае, слепки с них, с удовольствием купила бы любая стоматологическая академия, чтобы выдавать в качестве наглядного пособия особо талантливым студентам. Когда Тайлер смеялся, его белозубый рот открывался на всю ширину, и за белоснежной стеной резцов, клыков и коренных краснела плоть языка. В такие моменты Тайлер становился похожим на доброго африканского дядюшку. Или трубача Луи Армстронга. Но, как только приступ веселья заканчивался, сходство терялось. Он снова превращался в небритого африканского лидера, чья фамилия заставляла дрожать всю Западную Африку.
— Ну, что, Андрюша, извини за то, что отвлек тебя от твоих дел. Мне тоже пора вернуться к своим. И чек возьми. Бизнес прежде всего.
Теперь он назвал меня «Андрюша». Почти по русски, без американского грассирования.
Я взял со стола бумажку. Сумма, указанная там, вполне меня устраивала.
— Мои люди, вне всякого сомнения, отвезут тебя домой, — произнес Тайлер. — Или не домой? Или тебя надо подбросить к одной нашей общей знакомой?
Вот это был удар так удар! Моя не совсем здоровая голова не выдерживала таких перегрузок. Я встал как вкопанный. Он знал про меня и про Мики. Так что же, выходит, его люди следили за мной, а не за двумя буркинийцами? А на них просто наткнулись случайно? Да нет, какое там! Следили за всеми. Неужели это правда, что полстраны работает на полицию? Вот о чем я подумал. И еще подумал о том, что мне кранты. Не стоило трогать президентских женщин. Даже бывших.
— Ладно, Эндрю, не бери в голову. Я всегда помню о том, что третий лишний, так, кажется, у вас говорят. — И Тайлер снова превратился в смеющегося Армстронга-трубача. Ну, просто милейший добряк! И все же, что-то в его интонации мне очень не понравилось. Как будто бы и эта фраза, и этот смех имели другой смысл. А, может быть, и третий.
ГЛАВА 15 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Я ехал к себе домой с одной-единственной мыслью — поскорее лечь в собственную постель. Меня опять везли люди Тайлера, но на этот раз это были не военные, а вполне гражданские лица — молодой бритый наголо водитель и чиновник службы протокола, пожилой человек в измятом синем костюме. Очень вежливый и предупредительный человек. Мы с ним сидели на заднем сидении черного «мерседеса», переднее отделение которого было отгорожено от пассажирского толстым стеклом. Увидев этот транспорт, я сразу сообразил, что именно здесь мне сделают предложение, от которого я не смогу отказаться. Или же убьют. Но я очень хотел жить и, выслушивая неровную речь своего сопровождающего, думал над тем, что ему ответить.
Я знал этого человека, правда, не слишком хорошо. Тайлер привез его с собой из Америки, говорят, они вместе учились. Однокашник президента был всегда при нем, но вверх по карьерной лестнице не продвигался. Он не стал ни министром, ни даже советником Чарли-старшего. Его руки, насколько мне было известно, не были запачканы в крови своих соплеменников. Он не был замечен в жестоких карательных акциях, которые нынешние власти страны, еще будучи в оппозиции и прячась в лесах, проводили против своих политических оппонентов. И тем не менее, Тайлер этому парню в мятом костюме очень доверял. Видимо, понимал, что этот не всадит ему нож в спину.
За окном автомобиля начинало темнеть. Или мне так кажется из-за тонированных стекол? Мы быстро выехали из центра города и повернули в сторону рынка. Водитель, видимо, собирался объехать пробку, которая с завидной регулярностью возникала к вечеру на центральной улице. Но быстро проехать рынок не удалось. Вокруг нас сновали торговцы с тюками на головах, уложенными в целые многоэтажные пирамиды. Женщины отгоняли пальмовыми листьями мух, норовивших приземлиться на куски говядины, которые продавались прямо с земли. Повсюду сновали дети в грязных рваных футболках и джинсах. Машины останавливались там, где им было удобно, водители совершенно не заботились о правилах и, тем более, о других машинах. Впереди нас, то и дело останавливаясь, плелся пикап, в кузове которого покорно стояли козы, две или три. В общем, мы попали в затор, «мерседес» двигался со скоростью пешехода, и пробегавшие мимо чернокожие оборванцы с любопытством заглядывали в зеркальные окна нашей машины. Таких тут было немного. «Мерседес», несомненно, стоил того, чтобы потратить на него время, тем более, что у местной рыночной шпаны его было предостаточно. Пять или шесть лиц прилипли к окнам. Мне было неловко вести беседу, глядя на приплюснутые к стеклу носы и глаза навыкате. Казалось, главное, что заботит их в жизни, это происходившее внутри нашего «мерседеса». Мой сопровождающий не обращал на них внимания.
— Я знаю, что Вы вышли от президента с финансовым документом.
— Документом? — переспросил я.
— Ну, назовем его документом на получение определенной суммы. Но я думаю, что в ближайшее время мы не сможем рассчитываться с вами. Я имею в виду, деньгами.
— Вы и раньше не рассчитывались наличными.
— Вы меня не совсем поняли. Деньгами мы рассчитываться не сможем вообще. Ни наличными, ни безналичными. У нас блокированы все официальные счета за рубежом. Сами понимаете, санкции.
— А как же тот счет в Дубаи, с которого я...
— Не волнуйтесь, с ним ничего не случится. С нами он не связан напрямую. Вот только, кроме указанной там суммы, больше на нем не появится ни цента. Финальная транзакция. Хотите, закройте его сразу, получив свои деньги. А хотите, пользуйтесь им сами. Но уже без нас.
Видимо, моих друзей действительно прижали не на шутку. В этом не было ничего удивительного. Тайлер мешал всем — и американцам, и англичанам, и русским. И теперь балансировать между великими державами становилось невозможным. Или все же есть шанс? А какая выгода мне ото всей этой истории? Мятый пиджак, видимо, знает, чем меня заинтересовать.
— Мы не собираемся прерывать наши отношения. Мы просто предлагаем другую форму оплаты.
Я повернул голову к окну. В нескольких сантиметрах от меня белозубый парнишка в майке болотного цвета приклеился к стеклу желтыми ладонями, как геккон. Другой, видимо, его товарищ, тоже одолеваемый любопытством, пытался оттащить парня за подол майки, но она не выдержала, треснула по швам. Наверняка единственная в его распоряжении верхняя часть туалета. В руках у наглеца остался лишь кусок зеленой замасленной материи. Парень, который глядел в окно, развернулся, и закричав что-то яростное своему обидчику, накинулся на него с кулаками. К нему присоединились еще несколько праздношатавшихся бездельников или рыночных торговцев, — не знаю, как для меня, они выглядели примерно одинаково, — и за несколько секунд драка превратилась в настоящее избиение. Вот это было приятное зрелище для местной толпы. Конечно, уровень внимания к нашей машине моментально упал. Она тут же перестала представлять интерес для рыночных зевак. Знай они, какого рода разговор происходит в «мерседесе», наверное, разобрали бы его на запчасти.
— Мы предлагаем, — как это называлось в университетском курсе истории? — вернуться к натуральному обмену. Форма оплаты будет более чем удобной. И, более того, я бы сказал — более компактной, если сравнивать ее с формой оплаты наличными.
Понятно, подумал я. Все вполне предсказуемо. Если я правильно понял, то в следующую секунду я услышу слово...
— Вот, — помятый пиджак раскрыл ладонь. В желтой ложбинке между средним и указательным пальцем лежали три маленьких прозрачных камешка. — Алмазы.
Наша машина тронулась вперед. Пробка впереди начала рассасываться и через некоторое время совсем исчезла. Мы свернули направо и набрали скорость. Улица, по которой мы ехали, была извилистой, но довольно пустынной. В этом районе жили, в основном, гвинейцы. Они бежали сюда в большом количестве в те времена, когда в Европе шла холодная война, а здесь, в Западной Африке, Либерия считалась оплотом американского империализма и была довольно благополучной, как по африканским меркам, страной.
Было темно. Сквозь приоткрытые двери домов на улицу пробивался скудный свет. На ступеньках сидели молчаливые люди, сливаясь с темнотой. Я видел только их светлые рубашки и слышал, как они пели песни. Такие же грустные, как и их судьба. Некоторые поднимались с насиженных ступенек и двигались в сторону ближайшего киоска. Такие обычно в этом районе стоят на пересечении двух улиц. Небольшие темные ларьки, в которых продавцы считают выручку то ли наощупь, то ли угадывая значение цифр на купюрах под коптящим пламенем свечи. Пиво, сигареты, марихуана, если знаешь продавца. Но только, если знаешь. Если нет, то больше, чем на пиво, можно не рассчитывать. Грустная гортанная мелодия была слышна даже сквозь толстые стекла роскошного немецкого автомобиля.
Мой спутник постучал в стеклянную перегородку костяшкой согнутого указательного пальца. Водитель чуть обернулся, почти вполоборота. Чиновник, слегка осклабившись, сделал жест, словно врубал погромче воображаемую магнитолу. Водитель понятливо закивал, взмахнул правой рукой, мол, понимаю, босс, и включил музыку в нашем отсеке. Из динамиков на нас полился сладковатый женский голос вперемежку с электронными звуками. Кажется, такая музыка называется «нью эйдж», она считается медитативной, нервоуспокаивающей, поэтому ее так любят крутить в женских парикмахерских салонах. Но меня сейчас она не могла ни расслабить, ни успокоить. Уж лучше бы марихуана из ближайшего киоска.
Кто, в конце концов, хозяин положения — я или этот черный президент? Кто продает товар, тот диктует условия, таково правило рынка. Здесь же все было по-другому. Я мог сколь угодно долго возить сюда свой металлолом, думая при этом, что от меня зависит судьба этой страны. Глупости. Судьба этой страны зависела от всякой ерунды, например, от интенсивности тропического ливня или от того, насколько был удачен вчерашний секс у Тайлера. И моя судьба, кстати, тоже.
Я мог бы отказаться от коммерческого предложения, которое лежало на раскрытой ладони моего собеседника. Такое яркое, даже в свете экономных лампочек внутренней иллюминации «мерседеса», такое привлекательное. Такое жесткое. Даже глядя на эти прозрачные гранулы, начинаешь понимать, что отказаться невозможно. Это они, а не Тайлер, не терпят возражений. Ну, нельзя им отказать, и все тут. А если попробовать? Если набрать полные легкие воздуха, задержать его на секунду и спокойно выдохнуть «нет»? Что-то не выходит. А, может, язык не тот, может попробовать по-русски, украински или на языке краан? Он ведь, кажется, из племени краан, этот человек в помятом костюме. Язык туго ворочается во рту, алмазы рассыпают свой тусклый блеск, и он струится по желтоватой ладони, на которой лежат камни, медленно растекается и застывает между пальцами. Мне кажется, что с каждым мгновением эти алмазы становятся все тяжелее, руке нужно прилагать некоторые усилия, чтобы держать камни, а, может, этот желтый тусклый свет придает им вес, которого на самом деле они не имеют. Сколько в них карат, интересно? У меня в глазах появляется влага. Ого, я почти расплакался. Видимо, это условный рефлекс. Алмазы, как сказал Тайлер, это слезы матери-прародительницы, я сейчас плачу, потому что вижу эти материнские слезы, и мне хочется поскорее забрать их с чужой ладони и надежно спрятать куда-нибудь в карман поглубже. Кошелек для этого тоже подойдет. А, может, он и впрямь говорил правду, и это действительно остекленевшая печаль, и тогда понятно, почему они не приносят счастья. И, опять-таки, тогда понятно, почему, зная об этом, тысячи людей гоняются за этими прозрачными камнями по всему миру. Это они только говорят, что их судьба будет совсем иной, более счастливой, чем участь тех, из-за кого эти слезы превратились в камни. А на самом деле охотника за алмазами просто собиратели каменных слез. Так надо. Это против их воли. Это инстинкт. Собирать печаль предков — вот в чем состоит их жизненная функция. Ну, что ж, отныне это будет и моя задача. Великая цель большого белого человека. Если не удастся обвести вокруг пальца черных.
— Я не могу ответить «да» прямо сейчас, потому что я не Де Бирс и не знаю, что и почем в этом бизнесе. Говорю Вам это вполне откровенно. Но мой ответ не будет содержать и слова «нет», что означает лишь продолжение переговоров.
«Гениально», — наверняка подумал помятый костюм. Я это угадал по его глазам, по легкому блеску и уголкам губ, которые едва поднялись вверх. «Улыбнулся, падла,» — оценил я про себя — «Значит, умею я завернуть нужный текст.» И пошел заворачивать дальше.
— Я готов лишь оговорить технологию оплаты, а детали ценовой политики должны быть изложены Вами таким образом, чтобы я понимал, куда идут финансовые потоки.
— Ваши финансовые потоки Вы будете исследовать сами. — мягко отрезал костюм. — Сейчас мне главное услышать от Вас принципиальный ответ. «Да» или «нет».
Как же мне хочется отстрелить тебе яйца, маленький черный негодяй. Вот отмотать бы двадцать пять лет и вернуться туда, в зимний тир, и прибить бы тебя вместо мишени. И вернуть бы еще туда Лешу Ломако с его никелированным штуцером и патронами десятого калибра.
— Так «да» или же «нет»? — улыбнулся помятый.
— Да. Так. Si. Yes. Oui. Ja. Ehe. — я, как хороший пианист, сыграл музыкальную фразу, построенную на разноязыких словах, означавших согласие. Это была гамма, в темпе аллегро, в характере от спокойного диминуэндо до мощного крещендо, и когда я произносил «да» на албанском, я уже почти кричал. — На каком долбаном языке Вам нужно отвечать?
— Ну, охладитесь, водитель может услышать, будет неловко. — примирительно заворковал чиновник. — Достаточно и одного «да», например, на русском.
— Ни хрена Ваш водитель не услышал, — я снизил обороты.
— Вы не можете видеть себя со стороны, Вы очень громко кричите.
Машина подъехала к моему дому. Знакомое кафе. Все те же лица, потягивающие пиво за пластиковыми столиками. Зонтики над их головами. На кой они сдались, если на улице ночь, не понимаю. Думаю о том, что, наконец-то добрался до дома и высплюсь. Высплюсь нормально, впервые за двое суток.
— Любопытно, — сказал пиджак, высунувшись из машины. — а если бы вместо меня с Вами ехал президент, Вы бы тоже стали так орать?
Надо полагать, это он сказал вместо «до свидания». Езжай, езжай, подумал я сурово, как и положено вновь назначенному охотнику за бриллиантами. Вслух же охотник ничего не ответил. Он, то есть я, искал в кармане ключ. Сейчас открою дверь, поднимусь по ступенькам и как завалюсь на кровать. Мягонькая, она давно меня заждалась. И никто не отберет у меня мое право на сон. Конечно же, все было иначе.
ГЛАВА 16 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. НЕУГОМОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ
«Это колумбийские паспорта, Иваныч. Это FARC! А FARC это кокаин, тут просто без вариантов!» Сергей орал, как бешеный. Я сидел и слушал его бессвязные крики, наблюдал, словно сонный зритель в театре, его ужимки, жесты и прыжки и не понимал — не понимал! — почему я его не могу выставить из дома. Сергей ворвался ко мне ровно через пять минут после того, как я положил голову на розовую подушку. Сначала он набирал мой мобильный номер. Я увидел, что звонит Журавлев, и отключил телефон. Тогда он стал орать под окном. Я включил телефон, перезвонил ему и сказал, что спущу собак вместе с охранниками. Я их давно уволил, да и собака у меня была одна, к тому же она видела в людях только хорошее, поэтому никого не кусала. Но Сергей об этом не мог знать. Он заплатил пять сотен местных долларов, и за эти деньги посетители кафе стали выстраивать пирамиду из столов и стульев под моим забором. Ну и хрен с вами, думаю, у меня там сверху все утыкано битым стеклом. Потом вдруг меня осенило: на первый раз стекло их, может, и остановит, но, попробовав разок, они могут попробовать и другой, уже без Журавлева. И наверняка добьются своего, в смысле, нарушат мою прайвэси, границы которой и так здесь довольно условны. Иного выхода просто не было.
— Заходи, — говорю я ему по телефону и нажимаю кнопку замка. Я был пойман врасплох между сном и явью. Мои глаза были закрыты, но сознание с усердием бортового самописца фиксировало все звуки, которые снаружи доходили до моего слуха. Вот щелкнула механическая защелка, скрипнула железная калитка, и через секунду мощная пружина захлопнула ее с оглушающим звоном. Сергеевы кроссовки бодро прошуршали по мелкому гравию, которым были обозначены дорожки на моем скромном приусадебном участке. Дверь бунгало была открыта. Шуршащий звук шагов сменился звонким. Это он идет по каменным плитам пола. Значит, на счет три надо открыть глаза. Я открыл и обалдел. Этот человек ни капли не был похож на того Сергея. с которым я распрощался в доме Мики. Только голос был его, остальное... Остальное это то, что было на нем надето. Порванная черная жилетка с огромным количеством карманов. Их было явно меньше, чем позавчера утром, когда я впервые его увидел. Некоторые, кажется, были оторваны. Под жилеткой была волосатая грудь, безо всяких намеков на рубашку или футболку. Джинсы по колено в какой-то желтой субстанции, которая осыпалась с них, словно старая штукатурка. Видимо, это была засохшая глина. На ногах вместо приличной обуви резиновые тапки, явно скроенные из старой автомобильной покрышки. Лицо. Вот это было нечто. Знаете, как клоуны изображали в дореволюционном цирке негров? Щедро мазали лицо сапожной ваксой и наводили губы женской губной помадой. За исключением губ лицо Сергея выглядело именно так. Только вместо ваксы на нем был равномерный слой сажи. Черное, в обрамлении слипшихся волос, тоже черных. Белки бешено вращаются, чуть ли не выпадают из орбит. Когда Сергей хлопал ресницами, то, казалось, вокруг глаз поднимается пыль. На всю комнату пахло костром и немытым телом.
— Может, сначала в ванную? — предложил я брезгливо.
— ФАРК, это ФАРК! — кричал Сергей.
— Я не понимаю, о чем ты, — сказал я поднимаясь с постели.
— Вот, — выдохнул он и бросил мне на кровать кусок обгоревшего дермантина красного цвета. В первоначальном виде он, похоже, имел прямоугольную форму. С одной стороны я прочитал золотое тиснение «Republica de Colombia». Если бы прямоугольник не побывал в огне, то, очевидно, снизу можно было бы увидеть надпись «Pasaporte», и герб с огромным количеством барабанов, флагов и прочей героической атрибутики. Эта титульная страница — все, что осталось от паспорта неизвестного мне человека. Но причем тут я? И причем тут Сергей?
— Что это...? — задал я еще один дурацкий вопрос. Что это, мне понятно и без Сергея. Вопрос в том, почему он ко мне с этим ломился в дом среди ночи. Значит, он как-то связывает этот паспорт со мной. Конечно, у меня было несколько знакомых колумбийцев. И среди них, почти наверняка, кое-кто был связан с ФАРК. Но меньше всего я ожидал бы их встретить в Африке. Тем более, с колумбийским паспортом. Тут что-то другое. — ...и почему ты с этим приходишь ко мне? Может, все же помоешься, а?
— Позже, потом, всему свое время. Это было в самолете.
— В каком самолете?
— В том. «Двадцать шестом». Который сбили твоей ракетой.
Становилось интересно. Вот сейчас нужно было придумать внятное объяснение тому, откуда на борту самолета взялся колумбийский паспорт. Даже два объяснения. Одно для себя самого, другое для Журавлева. Так сказать, официальную версию событий. Для того, чтобы ее придумать, надо получить все исходные данные и потянуть время. Значит, так. выслушать рассказ Сергея, постараться не перебивать, а потом отправить его в ванную. Мыться он будет долго, а значит, у меня будет достаточно времени, чтобы обдумать все это. Я явно попал в какую-то историю и не знаю, закончится ли она хорошо, если вообще закончится. Мне никогда еще не приходилось так интенсивно и бессмысленно думать, как в течение этих долгих сорока восьми часов.
— Значит, так, — говорю. — Ты будешь рассказывать, я постараюсь молчать. Если что-то мне будет непонятно, я переспрошу. Как только ты закончишь свою повесть, ты пойдешь и смоешь весь этот макияж. Ладно?
— Я нашел этот самолет. Помнишь, он развалился на две части и упал между Робертсом и Сприггсом. Там сельва, а за ней такое мангровое болотце. Немалых размеров. Вот туда как раз упал нос самолета. А хвост ближе к городу, в сельве. Я туда рванул сразу с аэродрома, но эти гориллы, которые завалили борт, меня догнали. На трассе, конечно, с Микиным бимером им нечего было тягаться, но как только я съехал на грунтовку, тут они меня и придавили. Вот, значит, отогнали они меня от самолета, но я там покрутился и успел засечь, что в сельве лежит только хвост и рампа. Там вокруг все было в какой-то авиационной ерунде. Провода, железки, тряпки. Ну, а что там еще может быть? Все это лежит в радиусе километра и спокойно так себе горит. Трава дымится, деревья трещат, уроды в черных очках тычут мне в брюхо автоматами. Один даже передернул затвор, и я понял, что нечего мне там делать. В общем, убрался я оттуда, доехал, не торопясь, до трассы. Еду себе, радуюсь.
— Чему радуешься? Ненормальный, что ли?! Людей убили, а он радуется.
— Да нет, все в порядке. Не кипятись. Как тебе объяснить, чтобы ты понял? По-журналистски радуюсь. Я же камеру с собой захватил и, пока я там ползал по сельве, она у меня все время включена была. И как только я этих монстров увидел, я тут же ее спрятал. А камерка-то у меня маленькая, как раз во внутренний карман жилетки входит. Я ее туда. Ну, и тру с ними терки до того самого момента, пока мне ствол не показали. Камера в кармане, а звук пишется. И, таким образом, я стал первым журналистом, который снял сбитый самолет торговцев оружием. И тех, кто его сбил. Тянет на международную премию. «Эмми», например, или Пулитцеровскую. У тебя выпить есть?
— Вискарь в баре, справа от тебя. Там шкафчик есть, такой незаметный. Он не заперт. Что дальше?
Сергей быстро справился с задачей. Нашел виски. Налил себе на три пальца. Хлопнул одним залпом. И поставил его на ночной столик. На полированной поверхности остался липкий круг. А на кромке стакана след от сажи. Такой, только красный, остается после дешевой губной помады.
— Еду. Радуюсь. Вспоминаю, что Пулитцеровская, конечно, не «нобелевка», но почет и уважение от нее не меньше. И материальное положение, кстати, тоже. Ведь Нобелевскую обычно всю без остатка отдают на благотворительность, а эту можно и заныкать...
— Давай дальше, Сергей, не грузи.
— Да, и тут я понимаю, что отработал впустую. Такой материал надо срочно перегонять и давать в эфир. А как я его отсюда перегоню в Москву? Нет здесь ни одной нужной мне станции. И до тех пор, пока я отсюда не выберусь, этот материал не попадет в эфир. Ну, а к тому времени, когда я выберусь, он вообще никому не будет нужен. Новости, знаешь, работают по принципу «сегодня на сегодня».
— Так чего же ты сюда приехал?
— Чего приехал? Ну, во-первых, я не знал, что все тут настолько безнадежно. Наших партнеров выгнали отсюда как раз, когда я летел в Монровию. А, во-вторых, я хотел сделать фильм.
— Про кого?
— Про тебя.
— Про меня? — я искренне удивился.
— Ну, а чего же я хочу с тобой интервью записать? Да нет, не волнуйся, не только про тебя, а вообще про тех, кто продает оружие. И про тех, кто его покупает.
Странный он парень. Дурак, что ли? Да вроде не похож. Может, пьяный? Так рано ему, после полстакана виски.
— Слушай, ты глупости говоришь. Официально я обычный мирный бизнесмен. И ничего другого я бы тебе в интервью не сказал. Где твоя камера? Давай ее сюда!
— Да ты что? — Сергей испугался.
— Давай, давай. Вот сюда положи, на стол. Чтобы я ее видел.
Сергей достал из внутреннего кармана камеру. Действительно, маленькая, даже какая-то несолидная.
— Да не снимаю я.
— Без разговоров на стол ее! А то получишь по морде, как на дороге.
Сергей поставил камеру. «На!» — открыл он крышку и достал из нее кассету. — «Теперь веришь?»
— Теперь верю, — отвечаю. — но не до конца. Про фильм потом поговорим, а теперь давай про другое кино.
— В общем, еду я по трассе, — продолжает Журавлев. — Но что-то не дает мне покоя. И тут, когда я понимаю, что не смогу отправить материал, я прозрел. Никуда мне спешить не надо. Могу снимать, не торопясь, все равно материал от меня не уйдет. Нажимаю на педаль, торможу, разворачиваюсь и снова еду к самолету.
— Почему к самолету? Там же коммандос, во второй раз они бы тебя точно пристрелили.
— Правильно, Иваныч. Поэтому решил я поехать ко второй половине этого самолета. Я же тебе говорил, что сразу приметил — хвост есть, а носа нет. Проехал я поворот на грунтовку, а сам вспоминаю, через какие деревни к самолету можно подъехать с другой стороны. Ага, думаю, есть тут один поселочек, километра полтора до него осталось. Приезжаю и вижу картину — поселок стоит пустой. Ну, никого в округе. Только слышно, как собаки лают, да из какого-то дома детский плача доносится. Я туда. Бросил «бэху» возле входа. Забегаю в дом. А там женщина неопределенного возраста одной рукой качает малыша и помешивает суп другой. Дым валит во все стороны, разъедает глаза. Ребенок плачет из-за этого, а мамаша даже не щурится. Где, говорю, люди ваши, где все мужики. На мою удачу, она по-английски сносно говорила. Я так понял, что они пошли железо разбирать. Какое железо, я ей говорю, тут самолет упал! Вот-вот, она мне, с неба железо упало, а мужики пошли его разбирать. Вот это да! Где, говорю, они его разбирают? Да там, говорит. Вышла из дома и машет рукой в сторону леса. Там тропинка есть. А далеко отсюда, спрашиваю? Нет, недалеко, но так сразу не дойдешь, туманно объясняет эта женщина. Что значит «сразу не дойдешь», переспрашиваю, а она вместо ответа какое-то волнистое движение руками показывает. Я тоже махнул на нее рукой и вышел на свежий воздух. Поглядел вокруг, понял, что не проеду, и пошел пешком. Закрыл только машину, поднял верх и поставил на сигнализацию. Думаю, чем дольше я буду бродить по лесу, тем меньше от этой машины останется. Потом остановился, повернулся. Хотел сказать «Присмотри», а вместо этого произношу: «Самолет?» И хлопаю воображаемыми крыльями на манер индюка. «Самолет, самолет,» — кивает мне она. Я двинулся по дорожке. Быстро миновал деревню. Сразу за ней начинается роща из каких-то незнакомых мне деревьев. Стволы кривые, растут густо. Да еще корни у них узловатые, я когда бежал, постоянно о них спотыкался. Тут дорожка начала петлять между этими диковинными растениями, раздваиваться, и каждый новый рукав тоже разделялся. Ну, куда идти? Я и решил, что наверняка все они ведут к одной и той же цели. Пошел прямо. Через пять минут моего путешествия я увидел, что тропинка, по которой я пошел после очередной развилки, берет резко вниз. Делать нечего, отступать мне не хотелось, и я ступил на неровную поверхность. А она, к тому же, оказалась скользкой. Я не удержался на ногах и покатился кубарем туда, куда меня увлекал закон всемирного тяготения. Через секунд десять я ударился о ствол и поэтому остановился. Был грязен, как угольщик, и зол, как собака. Первая мысль была понятно какая: «И чего меня сюда понесло». А вторую мысль я даже не успел додумать, потому что ее перебила третья, «Ура», я увидел обрывки алюминиевого листа. Они, правда, не лежали на земле, как я рассчитывал увидеть, а двигались прямо на меня. Их несли крепкие чернокожие мужики. Давай еще раз по глоточку?
Я его не поддержал. А он, видно, свой вопрос задал исключительно из соображений вежливости, потому что последние звуки слова «глоточек» забулькали у него в горле вместе с огненной водой. Пил он довольно странно. Казалось, он выплевывал свои слова в стакан и мешал их с крепким напитком. Так, с собственными матерными словами этот напиток ему казался крепче. Пиво в доме Мики он пил по-другому. Большими жадными глотками, как носорог на водопое. А «коняги» за рулем белого БМВ он сначала лишь понюхал, а выпил только после меня. Не выпил даже, а пригубил. Человек, который все время пьет по-разному, не имеет собственного мнения, или не умеет его отстаивать, я это давно заметил. Такой человек никогда не станет боссом. Но это не значит, что все, кто пьет одинаково, делают головокружительную карьеру. Все эти мысли потоком пронеслись в моей голове и тут же развеялись, когда Сергей начал фыркать янтарными брызгами моего вискаря и своими словами.
— Я как увидел этих мужиков с листами алюминия, тут же подумал, что машина, которую я кинул в деревне, накрылась интересным местом. Ну все, думаю, разберут ее по винтику, так как разобрали этот самолет. «Стойте», — кричу им. — «Я сотрудник миссии ООН!» Соврал, признаться. Они остановились. Я говорю, что разыскиваю разбившийся самолет. Они делают вид, что не понимают. Но железки-то никуда не спрячешь. Глупо, в общем, они смотрелись. Они и сами поняли, что выглядят глупо. И, похоже, решили меня завалить. Они двинулись ко мне с такими лицами, что мне стало не по себе. А что, правильное по-либерийски решение. А не лезь ты, бел человек, в наши черные делишки. Единственный белый против толпы черных, да еще в сельве. Проще завалить, чем договариваться. Я в панике. Что делать, думаю? И надумал. Достаю ключи от Микиной машины. А на ключах у нее навороченный пульт висит и мигает красными и зелеными огоньками. Я такой даже в Москве ни у кого не видел. А тут, в Африке, и подавно. Показываю его африканцам и громко говорю, почти ору на весь лес: «В вашей деревне машина. В машине бомба. Бомба. Я нажму на кнопку, и машина взорвется вместе с вашими домами. Бум-бум.» Парни остановились. Тот, который, шел первым, замер с поднятой над землей ногой. Шансов у меня было немного, но, судя по их реакции, они были. Я всегда говорил — мы их недооцениваем, они нас умеют перехитрить и обыграть в любой ситуации. А в этой я их переиграл. Первый тихо поставил ногу на землю и сказал на хорошем английском: «Хорошо, чего ты хочешь?» «Пройти к самолету» «Там нет уже ничего,» — говорит мне этот человек. «А документы?» — спрашиваю и трясу этим пультом от машины. «Документы вот», — говорит он и тихо кладет на землю кусок авиационной обшивки. Потом засовывает свою грязнючую руку прямо в трусы и откуда-то из недр нижнего белья достает вот этот обгоревший паспорт.
Еще один глоток виски. Пауза.
— Я взял паспорт. Пульт продолжал демонстративно сжимать у них перед глазами. Затем приказал им идти вперед, в деревню. Я подумал, что до места катастрофы я никак сейчас не доберусь. Решил сделать это потом. Наш караван дошел до деревни. Когда я увидел «бимер», то облегченно вздохнул. А мои спутники наоборот напряглись. Они поняли, что я не вру. Хотя я, на самом деле, врал этим наивным людям. Они словно оцепенели. Я достал камеру и снял каждый обломочек на видео. Потом подозвал серьезного парня, того самого, у которого нога зависла над землей и попросил его рассказать все, что он видел на месте катастрофы. Он наговорил мне минут двадцать пять, я тебе потом покажу запись. Интересные, кстати, впечатления оказались у этого человека. Сажусь в БМВ, спокойно выезжаю на трассу и еду к вам. Как я вас нашел, хочешь меня спросить? Это очень просто, стоит подключить образное мышление. Я все это время думал над обгоревшим паспортом и, наконец, решил еще раз съездить в эту деревню и добраться до места падения.
— И что?
— И ничего. Там ничего нет.
— Где?
— Да в этой деревне. И деревни самой нет. Просто выжженный кусок леса. Ни домов, ни людей, ни алюминия. Ничего. Только запах гари висит в воздухе. На месте деревни два гектара черной земли вперемежку с золой. Людей нет. Вернее, не было, пока я не начал искать хотя бы что-то на месте домов, по памяти. Только я стал перетряхивать золу в руках, откуда ни возьмись появились автоматчики. Причем, не красавцы в форме, а рэбелы. Голые по пояс, худые, со старыми калашниковыми в руках. Обкуренные. Их было человек десять, точно я посчитать их не успел, потому что они стали валить по мне изо всех своих автоматов, без предупреждения.
— Это могли быть и не рэбелы вовсе. Солдаты тоже форму не носят.
— Знаю, знаю, у твоего друга Тайлера есть деньги, чтобы тратить их в Лас-Вегасе, но нет денег, чтобы купить форму своим солдатам. Ничего, ничего, когда-нибудь ему придется поделиться.
— С тобой, что ли?
— А хотя бы и так!
— Не поделится, у него все счета заблокированы, — сказал я, и тут же хотел добавить то, что узнал во время сегодняшней встречи с помятым советником президента. Но, подумав, на всякий случай промолчал и не добавил.
Из того, что рассказал Журавлев в промежутках между глотками виски, я смог нарисовать себе следующую картину. Какие-то люди с оружием в руках прочесывали сельву там, где еще недавно была деревня. От деревни не осталось и следа. Если ее сожгли, то должно же на месте пожарища остаться хоть что-то. Бревна, утварь, объедки, наконец, мусорные кучи или выгребные ямы. Но, по словам Сергея, не осталось ничего, кроме почерневшей земли. Напрашивается вывод, что деревню сожгли, а затем вывезли все следы пожарища. И рекультивировали территорию. Вопрос в том, кто это сделал? Обстрелявшие Сергея черные? Вряд ли. Те, кто сжигал деревню, свое дело сделали и для них возвращаться на место преступления было абсолютно бессмысленно. Коммандос, которые сбили самолет? Тоже нет. Их было слишком мало для того, чтобы столь быстро вычистить немалый, насколько я понимаю, участок джунглей. И тут мне пришла идея. Это могли сделать сами жители. Возможно, увидев белого человека, готового взорвать машину посреди населенного пункта (а ведь именно так повел себя Журавлев с африканцами), они поняли, что за этим опасным человеком придут еще более опасные ребята, и решили срочно перебраться в другое место. А, может быть, все гораздо сложнее. Когда на деревню свалились дополнительные стройматериалы в виде авиационной обшивки, африканцы решили поискать, нет ли на месте падения грузового самолета чего-нибудь еще. Сказано-сделано. Деревенские поискали и нашли нечто такое, что навело их на умную мысль: «Скоро за этой вещью придут и покрошат нас в мелкий винегрет». И вот тогда они сбежали. Всей деревней. А Журавлев как раз и нарвался на тех, кто пришел за своим. Одно только меня неприятно удивило. Не такой уж простак этот Сергей, каким хочет казаться. Почему он не сказал мне сразу, куда ездил? Почему не показал этот колумбийский паспорт? Смолчал, когда мы ехали в машине Маргарет. Кстати, попытался отказаться от выпивки, и это тоже выглядит подозрительно. Молчал он и на следующий день. Пивом меня обливал, голым по спальне скакал. И молчал. Значит, этот парень весьма опасен. Говорит одно, думает о другом, а делает третье. Впрочем, таковы все журналисты. Говорят, что журналиста, как и волка, ноги кормят. На самом деле, ноги это только средство передвижения. А кормит журналиста вот это умение застать своего визави врасплох. В данном случае визави Журавлева не Тайлер, который с ним и разговаривать-то не будет, и не Маргарет, которая наверняка ему не даст, а я, Андрей Шут, гражданин Украины, России, Панамы, Израиля и Либерии, что следует из тех документов, которыми я пользуюсь, перемещаясь по миру.
Но, как бы там ни было, я не знал, откуда в самолете Левочкина мог оказаться колумбийский паспорт. Думай, Андрей, думай. Мог ли паспорт принадлежать кому-нибудь из членов экипажа? Мог, почему бы и нет. Может быть, он лежал в кармане у самого Арама. Он, насколько мне не изменяет память, всегда носил документы в небольшой кожаной сумке. Такие, под названием «барсетка», были в моде лет десять назад в среде «новых русских». Все, что было внутри этой барсетки и что уцелело при падении, наверняка перекочевало к африканцам. Скорее всего, у них же оказался и перстень с камнем, который Левочкин выторговал у меня в Сприггсе. Я до тошноты ясно себе представил, как черные пальцы африканцев снимают с черной обгоревшей руки Арама мой перстень. Но с паспортом все могло быть иначе. В кабине у Левочкина находился колумбиец. В таком случае, почему я его не заметил? Да и не только я, а эти черные «качки» на «дефендере» тоже ничего не сказали? Стоп. Они же подписывали манифест. И командир этих рейнджеров передал бумажку Левочкину. А ну-ка вспоминай, Иваныч, как было дело. Кажется, Левочкин взял бумажку через форточку. Нет, это невозможно, даже со своим ростом мой черный спутник не стал бы тянуться к окну кабины «Антонова». Нет, он поднимался туда через открытую рампу. Точно. Так и было. Он зашел внутрь со стороны хвоста «антонова». Причем, «коммандо» до этого поднимался на борт как минимум еще один раз. Я тогда подумал, для того, чтобы проверить, не остались ли в отсеке еще какие-нибудь грузы. Значит, девяносто девять процентов вероятности, что он видел лишнего человека внутри самолета. Если такой человек там находился. И «коммандо» завалил Левочкина именно потому, что в кабине был этот гипотетический колумбиец. Ну, что ж. Такая версия многое объясняет. Впрочем, нельзя исключать, что о пребывании некоего колумбийца на борту грузового самолета этим парням было известно заранее. Вспомнил ту улыбку, с которой коммандо предложил подписать манифест, добавив при этом, что моя подпись в данном случае ничего не решает.
И тут я понял, что теперь мне точно небо с овчинку покажется. Потому что если Журавлев прав, и на борту «Антонова» погиб человек ФАРК, то это означает для меня только одно — смертный приговор, который обжалованию уже не подлежит.
ГЛАВА 17 — КОЛУМБИЯ. FARC
Что такое ФАРК, вам, наверное, и без меня известно. ФАРК это заклинание. Это возглас досады или восторга, в зависимости от ситуации, в которой вы оказались. Или вляпались. Это звучит почти, как «fuck!», но лучше это слово проглотить, если оно произнесено не к месту где-нибудь в джунглях, южнее Боготы. В общем, это испанская аббревиатура Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Революционных Вооруженных Сил Колумбии, самого большого и самого успешного партизанского движения в мире. Пятнадцать тысяч бойцов в тропической сельве, тысячи квадратных километров под постоянным контролем, сотни лояльных к партизанам населенных пунктов, десятки тайных баз и аэродромов, и, самое главное, бюджет, сравнимый с бюджетом небольшого государства. И все это во многом благодаря белому порошку, который в джунглях стоит сущую ерунду. Тысячу долларов за килограмм. Вне зависимости от того, как он расфасован. То ли в целлофановых пакетах, плотно перемотанных серым скотчем. То ли в пластмассовых трубках-пальчиках, на которые заботливо и аккуратно натянуты презервативы, смазанные оливковым маслом. Чтобы легче глотать. И легче вымывать из желудка после прохождения таможенного контроля. На этом бизнесе и впрямь поднимаются целые состояния. Как только порошок попадает в Америку или в Европу, его цена тут же увеличивается в сотню раз. Вы его тоже пробовали? Нюхали, втягивая в себя тоненькую белую дорожку? Ну, значит, тогда вам известно, что это такое. Кокаин.
Сначала революционеры были против кокаина. Революцию нужно делать с чистыми руками и ясной головой. Со временем оказалось, что революционным крестьянам, так же, как и реакционным, нужно кушать самим, желательно, не реже одного раза в день, кормить и поить своих детей, где-то жить, что-то на себя одевать. И все это надо покупать за деньги. За деньги же нужно было покупать оружие для революционной войны. Стоит оно, как вы уже знаете, немало. У ФАРК не было нефти, чтобы получать сверхприбыли. Не было газа. Не было металлургических заводов и золотых приисков. Зато была кока, чудесное растение с небольшими листиками, которые напоминают листики нашей ивы. Из этих листиков можно сделать отличный стимулятор, известный людям с середины девятнадцатого века. Это же американцы придумали, как делать кокаин из коки. Они же и являются главными потребителями порошка. Сытая Америка хочет умирать в чаду наркотического угара? Мы им поможем. За их же деньги. Мы отправим на Север целые эскадрильи одномоторных самолетов с грузом белого зелья на борту. Самолеты так и снуют туда-сюда. Трава на грунтовых взлетках всегда аккуратно пострижена.
На одну из таких взлеток я приземлился лет пять назад для того, чтобы переговорить с человеком, которого представили мне, как Рокко. Яркий парень этот Рокко. И прозвище соответствующее — «Rocco Sovski». Настоящее имя Себастьян Рокко Эстевес. Он отвечал за идеологическую политику ФАРК и c некоторых пор в боях с колумбийской армией не участвовал. Хотя прозвище, которым он, не скрывая, гордился, говорило о том, что в прошлом у него наверняка имелся боевой опыт. И довольно успешный. Рокко вырос на гражданской войне, которая длилась в Колумбии без малого сорок лет. Из сорока своих лет он больше половины провел в джунглях, хотя невероятным образом ухитрился закончить литературный факультет университета в Боготе. Любитель Хемингуэя. Любимец революционных солдат, особенно девушек, их в этой партизанщине участвовало немало. Женщинам такой тип должен нравиться. Густые черные джунгли курчавой бороды, а над ними огромные глаза, пронзительно сверкавшие, запутавшись в сетке мелких морщин на коричневой коже лица. Он, как правило, носил не камуфлированную панаму или берет, а обычную гражданскую кепку, и это делало его похожим не на боевика, а на модного американского кинорежиссера. Американцев он, впрочем, не любил. Лично застрелил троих американских туристов по одному лишь подозрению, что они были агентами ЦРУ. Когда их захватили где-то на западе страны, у всех нашли армейские жетоны. Бедняги утверждали, что недавно уволились из армии и приехали в Латинскую Америку, чтобы попутешествовать на досуге, но Рокко им не поверил. Ну, что еще я знал о нем? Что он собственноручно сбил сельхозсамолет, который поливал дефолиантами плантации коки. Местные крестьяне его за это хотели отблагодарить, но не успели. Рокко поймал их на горячем. Выяснил, что те одинаково успешно продавали «пасту баса» не только посредникам из ФАРК, но и врагам социалистической революции. Для непосвященных хочу пояснить, что «паста баса» это промежуточное сырье, из которого производят кокаин. Вот эту пасту Рокко, опять таки самолично, заталкивал в рот бедным индейским крестьянам, поля которых он спасал от дефолиантов. Индейцы умирали долго и мучительно. Это бизнес и ничего личного.
«Почему вас называют Рокоссовский?» — спросил я его во время первой встречи. И он, усмехнувшись, сказал с вызовом: «Учите собственную историю. Там все написано.» Мне учить ее не было необходимости, в летном училище в нас вбивали не только базовые знания о том, почему же самолет умеет летать. Я знал, что Константин Рокоссовский, маршал Советского Союза, не проиграл ни одного сражения во время Великой Отечественной войны. Но я не думал, что об этом знают и здесь, в этих гнилостных лесах. Мы сидели в палатке на берегу реки Путумайо. Сюда меня на огромной моторке, выдолбленной из цельного ствола какого-то дерева, привезли индейцы аймара. За всю многочасовую дорогу они не произнесли ни единого слова. Рокко пил мате из листьев коки. Я наблюдал за тем, как в лодку, на которой я сюда прибыл, грузят тяжеленные пластиковые мешки с какой-то субстанцией. Вряд ли это был кокаин. Возможно, в мешках была коричневая паста де кока, грязная вонючая смесь бензина и листьев коки, из которой будут выпаривать столь любимый в артистической среде белый порошок. Видели бы эти изысканные представители и представительницы богемы, из чего делают их неземное удовольствие, наверное, тут же прекратили бы нюхать. Хотя, нет, это вряд ли. Даже самый продвинутый алкоголик, зная, из каких химикатов делают водку, никогда не откажется от глотка спиртного. Знаю по себе.
Рокоссовский спокойно глядел на индейцев. Их никто ни о чем не спрашивал, видимо, в этом лагере их знали. Они тоже не особенно обращали внимание на охранников Рокко и на простых боевиков, лениво бродивших по берегу. Среди них, кстати, как я успел заметить, было немало девушек. По уровню феминизации это, наверное, самая передовая армия в мире, даром, что партизанская. Я, вылезая из моторки на берег, словно невзначай обменялся улыбками с черноглазой красавицей в пятнистой кепке, из-под которой выбивались жесткие проволочки черных волос. Красавица спустя пять минут поднесла мне чашку горячего «мате де кока». Теперь с Рокко Совски мы были на равных.
Рокко перешел к главному. Детали я уже обсудил до этого с его помощниками.
— Что нам нужно, Вы знаете. В каком объеме, Вам тоже известно. Скажу только одно, мы бы хотели получить всю партию сразу. Это наше главное условие. Я понимаю, что ваши самолеты не смогут приземлиться на наших аэродромах. Значит, нужно подумать о том, каким способом доставить сюда всю партию. За оружие мы уже заплатили. Мы вам скажем, откуда его забирать. За доставку еще нет.
— Вы знаете, сколько это будет стоить? — спрашиваю я Рокко.
Он говорит, что не знает мировых расценок. И тут же называет сумму. «Миллион». Потом его охранник бросает передо мной на стол спортивную сумку. Я, конечно, понимаю, что внутри нее деньги. Сумку не открываю, лишь киваю головой. Знаю, что ФАРК не обманет. А сам про себя произношу не «ФАРК», а «фак», вспоминая уровень своих бизнесовых затрат. Хорошо, что Рокоссовский не умеет читать чужие мысли. Впрочем, кто этого партизана знает? Жизнь дорожает, говорю я себе, надо соглашаться. К тому же, резонно подсказывает мне мой внутренний голос, приехав сюда, ты уже дал положительный ответ.
Вечер разжигал костры и горелки по всему лагерю. Палатки одна за одной превращались в большие фонарики с зелеными и оранжевыми абажурами. Я посмотрел на сумку еще раз, отклеился от теплой металлической трубки, через которую потягивал мате, и сказал: «Это все?»
«Это только за один контейнер,» — сказал Рокко. — «За остальные мы платим столько же. Скидок не просим. Просим лишь четко выполнять условия договора. Доставить все сюда точно в срок, ни днем позже, ни днем раньше.»
«А если форс-мажор?» — спрашиваю я его лениво.
Рокко посмотрел на меня. Потом достал пистолет, передернул затвор, и, не целясь, выстрелил в сторону индейцев, загружавших лодку. Один из них, вскрикнув, завалился на бок.
«Не волнуйтесь, Андреас, он был стукачом, полицейским информатором, мы его давно приговорили», — сказал Рокоссовский очень спокойно, таким ровным, ничуть не изменившимся, голосом. «Ему все равно был бы конец. Но вы должны понять. У нас форс-мажоров не бывает. Мы отвечаем за свои слова деньгами, а вы своей жизнью.»
Индейцы, не суетясь, перекладывали тело застреленного товарища в моторку, и я подумал, что еще совсем недавно этот незнакомый человек вез меня в лагерь своих убийц, и моя собственная жизнь прямо сейчас начала моментально терять в цене, так же, как и сотня плотных зеленых пачек в спортивной сумке передо мной. Рокко улыбнулся. Охранники поставили на стол бутылку неплохого, судя по запаху, вина, мне кажется, чилийского.
«Я согласен», — говорю я Рокко. А что я еще мог сказать?
«Ну, тогда Ваше здоровье. И давайте обсудим время и место доставки.»
Место, где Рокко собирался встретить оружие, было где-то в широкой полосе сельвы посередине между Боготой и городком Мокоа. Я выяснил у Рокко, что там нет ни одной площадки, и маловероятно, чтобы за короткий срок его люди успели сделать что-либо похожее на взлетку. Задача была очень сложной, эта сложность заводила меня в тупик. Но так уж я устроен. Чем сложнее задача, тем азартнее я становлюсь. Дело было уже не в миллионе, вернее, не только в нем. Теперь мне было интересно решить задачу технически. Доставить оружие туда, куда по воздуху его доставить невозможно. Но я сижу и разговариваю с Рокко именно потому, что я в своем деле лучший. И, значит, это мне придется доказывать. Сначала нужна определиться со сроками. Потом с характером того груза, который нужно привезти в джунгли. И хотя бы в общих чертах сейчас же придумать нестандартное решение.
«Итак, место,» — говорил Рокоссовский. — «Мы выбирать не можем. Не сегодня, завтра, аэродром, на который Вы садились, придется оставить. Армия пытается замкнуть вокруг нас кольцо, и единственный путь для нас на Север. Там они нас не возьмут. Ваше оружие нам нужно как раз для того, чтобы нанести им контрудар. Доставить оружие это Ваша проблема. Мы же обещаем, что отвлечем на себя внимание армии.»
«Команданте Рокко, — говорю я. — А внимание радара Вы тоже сможете отвлечь от нас?»
Команданте удивленно посмотрел на меня. Он явно не понял сарказма, который так и сквозил в моих словах. Ладно, поясню ему, в чем дело.
«Дайте сюда карту. Вот видите, здесь Богота. Точка, куда мне нужно доставить ваше оружие, примерно на четыреста километров южнее. Это значит, что мы в любом случае попадаем в зону обнаружения радара.»
Он все равно не понял. Тогда я попросил его принести лист бумаги и карандаш. И привлек весь свой художественный талант, чтобы обрисовать а, главное, нарисовать, ситуацию. В Боготе был чуть ли не единственный на всю Латинскую Америку радар сопровождения. Все самолеты, пролетавшие над Колумбией, так или иначе были видны на его экране. Чтобы остаться невидимыми, пилоты, перевозившие наркотики от одного партизанского аэродрома к другому, старались летать максимально низко. И то их часто сбивали. А что говорить о воздушном грузовике немалых размеров, да еще и появившемся на расстоянии прямого поражения американской ракетой ПВО. Такие как раз и стояли у колумбийцев.
«Я не отказываюсь, — говорю я команданте. — Но надо думать.»
Вдвоем мы думали до утра следующего дня. Но, видимо, Рокко, который здорово разбирался в деньгах и войне, ничего не понимал в авиации. Одно он твердил, уперев свои жилистые руки в пояс, когда наблюдал за восходом. «Должно же быть какое-то решение». Солнце поднималось на коричневыми водами Путумайо, и река, казалось, начинала быстрее катить воды в сторону Амазонки, притоком которой, собственно, и являлась. Проблемы Рокоссовского ее не волновали. Зато волновали меня.
Потом мы сели в старый «лендровер» и около часа тряслись по проселочной дороге. Местами она была завалена крупными экземплярами местной флоры. То ли сломанными ураганом, то ли спиленными, чтобы перегородить дорогу незваным гостям. Мы же были зваными гостями. Как только наш «лендровер» останавливался возле баррикад, из лесу выходили хмурые парни с мачете в руках и после короткого разговора с водителем растаскивали стволы деревьев в сторону и сваливали их куда-то по обочинам дороги. Рокко в разговоры с этими странными людьми не вступал. Всю дорогу он молча просидел рядом со мной на заднем сиденье автомобиля. С водителем он, впрочем, тоже ни разу не заговорил. Только периодически ловил его взгляд в зеркале заднего вида. Водитель же, судя по всему, думал только о дороге. Но всякий раз, когда он, через зеркало сталкивался взглядом с Рокко, тут же отворачивал голову куда-то вбок. «Боится», — решил я про себя. Памятуя о скорой расправе с индейцем в лодке, я понимал, что страх и любовь были единственными чувствами, которые испытывали партизаны по отношению к своему командиру. И с помощью любви и страха Рокко сумел выстроить нехитрую, но весьма эффективную систему управления людьми.
Но не он был главным в системе иерархии ФАРК. Вскоре после того, как мы проехали через очередной, пятый или шестой, завал на дороге, нас остановили уже совсем другие люди. Были они в пятнистой форме с трехцветными повязками на левом рукаве. Форма чистенькая, новая, не то, что у боевиков Рокоссовского на берегу реки. Ботинки, правда, были грязноватые, но тоже не сильно ношеные. Американские. Парней было четверо. «Калашниковы» висели на плече у каждого. «Калибр 7,62 миллиметра, деревянный приклад и ствольная накладка, оранжевый магазин, значит, наши,» — механически оценил я про себя их вооружение. Они внезапно появились на дороге, но их появление нисколько не удивило ни Рокко, ни водителя.
«Нужно выйти,» — проговорил команданте и вылез сам первым, как бы подавая пример и нам с водителем. Водитель не нуждался в особом приглашении и уже спрыгнул в рыжеватую грязь, которую называл дорогой. Это была самая что ни на есть натуральная колумбийская сельва, и здесь всегда было влажно.
Снаружи действительно было влажно и жарко. Я сразу покрылся испариной и только успевал стирать ее с лица тыльной стороной руки. А, может быть, это мне только показалось. В машине тоже было жарко и душно, но пока мы ехали, даже незначительное движение воздуха в салоне создавало иллюзию прохлады.
Люди на дороге поздоровались с моими спутниками. Один из незнакомцев, видимо, старший этого дорожного патруля, что-то крикнул по-испански в сторону леса. Оттуда вышли еще четверо боевиков. У одного в руках была снайперская винтовка, кажется, СВД. Она была заботливо замотана в зеленую ткань, с которой свисали такие же зеленые нитки. Из этого длинного кокона выглядывал ствол и оптический прицел. Такое ружье не сразу заметишь в лесу. Ее владельца, лицо которого было разрисовано зелеными полосами, видимо, тоже. Снайпер явно имел за плечами профессиональную подготовку. Или опыт. Или и то, и другое.
Командир патруля о чем-то говорил с водителем. Остальные осматривали машину. Вроде бы как небрежно, но достаточно внимательно. У одного из них невесть откуда в руке появилось зеркальце. Отработанным движением боевик насадил его на длинную палку и засунул это нехитрое приспособление под машину. С помощью зеркала он проверял, нет ли на днище каких-либо подозрительных предметов. Взрывчатки, например. Еще один из боевиков достал сканер и прошелся вокруг нашего «джипа». Убедившись, что в машине нет никаких дополнительных источников излучения, он кивнул командиру. Начальник сделал шаг в сторону и отрывисто приложил руку ко лбу, словно отдавал честь. Снайпер снова исчез в зарослях. Дорога была свободна.
Вскоре наша машина подъехала к глиняному забору, который можно было и не заметить в джунглях. Я понял, в чем дело — стена была измазана коричневыми и зелеными полосами, расцветка была подобрана точно в тон колумбийской сельве. «Лендровер» с достоинством, не торопясь, перевалил через некое подобие «лежачего полицейского», невысокий бугорок поперек грунтовки, и перед машиной открылись ворота такой же точно зелено-коричневой расцветки.
За воротами оказался самый что ни на есть обычный военный городок. Аккуратно расставленные по всей его территории длинные казармы, между которыми открывался квадратный плац. Все как в армейской части. С одним только исключением. Казармы были деревянными и открытыми, как бунгало, а с угловатых крыш свисали плотно уложенные один к одному широкие пальмовые листья. Над небольшим плацем была натянута маскировочная сетка, один конец которой был прикреплен к козырьку над единственным каменным строением на этой базе.
На крыльце появился бородатый человек в очках. У него было замечательное лицо. Оно казалось неопрятным, даже несмотря на идеально сидевшую форму. Его ботинки сверкали на солнце, как батареи телескопа Хаббл. Светлозеленые рукава его френча были закатаны по локоть так идеально симметрично, что, казалось, ширина манжетов выверена до единого миллиметра. Его круглые очки, отбрасывая на меня лучи сияния рыжей оправы, намекали, как минимум, на цену в пятьсот долларов, которую владелец заплатил за диоптрии. Нарукавник с цветами колумбийского флага красовался на его левом плече без единой складки. Но, если отбросить все эти детали, лицо человека на крыльце было помятым и небритым, как у московского дворника. Такая перманентная небритость, которую многие безуспешно пытаются выдать за интеллигентность. Знаете, среди демократических политиков на постсоветском пространстве одно время была целая мода на такую небритость, за состоянием которой, кстати, они тщательно следили. Особенно много таких людей было в Украине, и я на них достаточно насмотрелся. Трехдневная щетина, по мысли ее носителей, должна была вызывать симпатию и доверие у молодых избирателей. Но происходило как раз совсем наоборот. Из-за черных, с проседью и даже совсем седых зарослей на лицах подобных персонажей, обещавших дать людям вдоволь свободы, предательски выглядывало недавнее бурное прошлое. Караваны товара, двигавшиеся туда-обратно через бывшую границу СССР, жесткие ненормативные диалоги с противниками, и деньги, которые, несмотря ни на что, пахли хуже, чем колумбийские джунгли. В некоторых случаях это было не прошлое, а настоящее. Интеллигентная щетина и собственно лицо такого политического персонажа существовали отдельно друг от друга, как параллельные миры, которые ни за что не могут пересекаться. Как будто небритость это результат работы начинающего театрального гримера. Вот такое точно лицо пряталось за щетиной незнакомого мне команданте. А еще оно напоминало мне какую-то умную и опасную собаку с приплюснутым носом. В общем, очень скоро, буквально через несколько минут я узнал его имя. Это был Рауль де Сильва. Главный специалист повстанческой армии по финансам.
Мы вышли из машины и поднялись на крыльцо. «Рауль», — скромно улыбнувшись, команданте протянул мне руку. Со своими колумбийскими коллегами он обошелся лишь коротким бессловесным кивком головы, хотя у тех сработал рефлекс, их правые руки взметнулись было в направлении команданте, но потом безвольно обвисли. В общем, мне сразу стало ясно, кто же настоящий хозяин в этих джунглях.
«Проходите,» — сказал Рауль. Но проход в дом не уступил, как это сделал бы на его месте любой вежливый человек, а просто двинулся вперед, как бы предлагая следовать за ним. Охраны рядом с команданте я не заметил. Но наверняка она была где-то недалеко. Человек, владевший всеми финансовыми нитями ФАРК, просто не мог никогда и нигде чувствовать себя безопасно, даже среди своих.
В помещении было довольно пусто. На белой штукатурке стен то тут, то там, красноватыми агитационными пятнами пестрели плакаты с Мануэлем Маруландой. На одних главный идол ФАРК вдохновлял коммунистически настроенную молодежь. На других гордо наблюдал за колоннами повстанцев, которые с автоматами на сильных плечах вышагивали перед трибуной. Седая небритость Рауля де Сильвы на этих плакатах местами выглядывала из-за плеча Маруланды. Вообще-то Маруланда был легендой. А Сильва ее эхом, отголоском. Маруланда начал свою войну против капитализма в Колумбии где-то в шестидесятых годах. Он не был столь идеалистичен, как Че Гевара, но в личной смелости ему не отказать. До начала девяностых этот человек лично участвовал во всех крупных операциях, которые планировал главный штаб ФАРК. Количество побед в его рейтинге настолько превышало количество поражений, что от своих соратников он получил прозвище Тиро Фихо, Снайпер. Маруланда, вне всякого сомнения, был мощным лидером, самой харизматичной личностью континента, сердцем партизанского движения. Но мозгом ФАРК был Рауль. Де Сильва умел находить деньги на революцию даже там, где денег в принципе искать не стоило. Рауль понимал, насколько коррумпирован весь наш мир, и активно использовал взяточничество для достижения любых целей. Он раздавал деньги политикам и фабрикантам, зачастую не задумываясь об их количестве, и политики с фабрикантами, возможно, сами того не желая, начинали работать на колумбийскую революцию. На самоуничтожение. Рауль был холодным и бесстрастным, как вычислительная машина. Он почти никогда не совершал ошибок. Почти, потому что все же, как и всякий человек, он имел одну страсть. И она называлась Маруланда. Своему вождю де Сильва был бесконечно предан. Иногда в ущерб своим личным интересам. Поэтому умный финансист Рауль с акулами капитализма был хитрым, как лис, но в то же время оставался предельно честным перед всем своим партизанским движением. Он ворочал сотнями миллионов долларов, песо, евро, но при этом на себя тратил не больше, чем того требовал его скромный холостяцкий быт.
Лишь однажды он воспользовался служебным положением, чтобы приобрести на общественных началах предмет роскоши. Увидев в журнале «Тайм» фотографию Махатмы Ганди в круглых очках, де Сильва попросил своих агентов купить ему такие же. «Я хочу», — сказал он впервые за всю свою партизанскую биографию, и революция ему не отказала. Агенты перестарались, и привезли в джунгли чудесный экземпляр с золотой оправой и стеклами «хамелеон». Добрые простоватые гандиевские очки в роговой оправе этот оптический прибор напоминал лишь очертаниями и, в отличие от оригинала, наверняка стоил целое состояние. Рауль до этого обычно носил дешевые пластмассовые солнцезащитные очки. Получив обновку, он аккуратно снял дешевый пластик и, водрузив на его место золото новой оправы, сказал своим людям: «Вы потратили наши деньги на пустяки.» Гонцы вытянулись во фрунт и еще долго ждали жестких санкций со стороны финансового директора революции. Но никаких репрессий не последовало. Конечно, они не знали, что Маруланда лично похвалил выбор де Сильвы и сказал ему с мудростью повидавшего жизнь старого бухгалтера, что, мол, солидный человек должен выглядеть солидно.
«Пройдемте», — сказал мне де Сильва, и я, не дожидаясь повторного приглашения, двинулся за ним вдоль плакатов на стенах. «Чай будете?» — бросил мне через плечо команданте. Здесь все пьют чай. Мне слегка надоел терпковатый вкус «мате де кока», но я в знак согласия промычал «угу», и мы вошли в кабинет финансового гения.
Там был полный беспорядок. Казалось, в кабинете де Сильвы только что провели обыск с пристрастием. На полу лежали обрывки газет, пустые подсумки от магазинов к автомату Калашникова, какие-то истоптанные плакаты, кажется, такие же, как и на стенах в коридоре. Вот где истинная демократия, подумал я, увидев прямо на подбородке Маруланды рифленый след от пыльного армейского ботинка. В дальнем углу комнаты были свалены радиостанции «моторола» без батареек, штук десять, не меньше. Слева и справа от двери стояли стеллажи до потолка. Они были забиты книгами, журналами и видеокассетами. На нижней полке одного из стеллажей пылилась зеленая холщовая сумка, из которой, как два напряженных мужских члена, торчали зеленые головки выстрелов от РПГ. Самого гранатомета поблизости не было видно. Смысл присутствия этих зарядов в комнате мне был непонятен. Где-то на подоконнике пристроился никелированный чайник, единственный блестящий предмет в этой комнате. Впрочем, не единственный. На столе, который стоял в центре комнаты, со скромным достоинством возвышался ноутбук «маккинтош» в титановом корпусе цвета «металлик». Предмет явно дорогой и весьма активно используемый, судя по следам сигарного табака на его клавиатуре. Стол под компьютером, словно скатертью, был накрыт картой Колумбии. Все обозначения на карте были на английском, а в левом углу я рассмотрел эмблему с четырьмя скрещенными мечами и надписью «Joint Chiefs of Staff». В переводе на русский «Объединенный комитет начальников штабов». Карта американская. Меня так и подмывало спросить, откуда у де Сильвы этот документ. Но я воздержался от вопроса. Сейчас благоразумнее всего было молчать и слушать.
Де Сильва убрал компьютер со стола и поставил его на пыльный стеллаж, рядом с зелеными боеприпасами в состоянии эрекции. Рукой пригласил меня к столу. Точнее, к карте. Не успел я наклониться над ней, как на столе чудесным образом появился чай в серебряных подстаканниках. Рауль отхлебнул глоток горячей жидкости и тут же достал короткую сигару из верхнего кармана своего френча. Потянулся за перочинным ножом — он лежал на полочке с книгами — обрезал конец сигары и сунул ее в рот. Пламя бензиновой зажигалки блеснуло в стеклах дорогих очков.
«Будете?» — спросил он меня.
«Нет, я курю только листья Монтеррея,» — ответил я.
«Нет проблем, „Ойо де Монтеррей“ Вам сейчас принесут.»
Я услышал, как за моей спиной по цементному полу глухо и быстро застучали подошвы солдатских ботинок охранника. А через минуту, или что-то около того, сидя на складном стуле возле американской военной карты, я с наслаждением вдыхал терпкий и вкрадчивый дурман любимых тонких сигариллос. Разговор очень быстро перешел в деловое русло. Де Сильва свободно владел английским. Я тоже не нуждался в услугах переводчика.
«У нас есть несколько часов, чтобы обговорить детали операции. Через два-три дня мы сворачиваем наши позиции в Путумайо. Цена Вас, насколько я понимаю, устроила?» — де Сильва посмотрел на Рокоссовского, который оставался в комнате. Кстати, единственный из партизан, и это для меня было очень важно.
«Есть проблема,» — говорю я де Сильве. — «Технического порядка. Вы хотите, чтобы я доставил груз сюда» — и я ткнул пальцем в точку на карте, где-то между Боготой и Мокоа. — «Это так?»
Рауль и Рокко кивнули в знак согласия.
«Там негде сесть. Там сплошная сельва и у вас там нет ни одной площадки. Единственное, что я могу сделать, это посадить борт в Кали, но там, кажется, порядки устанавливают ваши конкуренты.»
Город Кали был основной базой Мигеля Родригеса, главы второго по обороту наркокартеля Колумбии. Родригес вооружал и финансировал отряды самообороны, «парамилитарос». Это были что ни на есть отпетые бандиты, главной задачей которых была защита наркобизнеса в Кали. «Парамилитарос» проводили самые настоящие карательные акции, убивая крестьян, которые продавали «пасту де кока» эмиссарам ФАРК. Правительство сквозь пальцы смотрело на деятельность Родригеса и его «парамилитарос», поскольку нуждалось в союзниках против коммунистической герильи. Скажу откровенно, мне не нравится коммунизм, с де Сильвой я имел дело только на почве бизнеса, и он это хорошо понимал. Но с местными антикоммунистами я вообще не хотел иметь никаких дел. Впрочем, Рауль вряд ли допустил бы подобный поворот событий.
«Нет-нет, Андреас, мы этого не хотим. Посадка в Кали это полный идиотизм. Давайте думать, есть ли другой выход.»
«Да что тут думать?» — вставил замечание Рокко. — «Груз надо сбросить.»
«Как сбросить?» — переспросили мы с де Сильвой в один голос.
«Очень просто. С парашютом. Вы, Андреас, военный летчик, так?»
«Так,» — я кивнул головой.
«У вас в стране с воздуха сбрасывали целые дивизии вместе с техникой. А тут деревянные контейнеры с железками. Три штуки. Подлетаете, сбрасываете, и летите дальше, никакой высадки.»
«Да, но меня собьют, как только я войду в воздушное пространство Колумбии. А вас накроют ракетами, когда вы будете забирать посылку.»
«Не накроют» — отрезал де Сильва. — «Идея неплохая. Скажите, Андреас, технически Вы можете это сделать?»
«В смысле, сбросить контейнер? Это я смогу. Но все остальное очень сложно.»
«За все остальное Вы получаете деньги.»
«Это еще вопрос,» — говорю я. — «Если я все-таки соглашаюсь лететь, то не пролетаю ли я с остальной суммой? Вы ведь собираетесь заплатить мне уже после доставки?»
«Как вы договаривались?» — Рауль повернулся к Рокоссовскому.
«Пятьдесят процентов сейчас и пятьдесят после доставки,» — Рокко чуть привстал с краешка стола, на котором он примостился с самого начала разговора.
«Пусть получит три четверти суммы сразу. Четвертую часть,» — тут де Сильва снова повернулся ко мне. — «положат на счет, номер и местонахождение которого Вам сообщат по телефону. Это на всякий случай, чтобы можно было продолжить знакомство и после нашей сделки.»
«Вы доставите три контейнера. За каждый мы платим миллион. Итого Вам подготовят два миллиона двести пятьдесят тысяч американских долларов. После выполнения работы вы получите остальное. Все форсмажорные ситуации становятся вашей, а не нашей, проблемой. Согласны?»
«А если нет, тогда что?» — говорю. И тут же про себя снова вспоминаю индейца, которого подстрелил Рокко. Нервные окончания у меня стали необычайно чувствительны, и по телу прошла волна тревожного зуда. Но никто из переговорщиков этого не заметил. Моя наглость собеседникам не понравилась.
«Ну, что ж. Тогда», — сказал Рауль, поправив свои дорогие очки, — «тогда Вы должны компенсировать те расходы, которые мы понесли для обеспечения Вашей доставки в наш лагерь.»
«Не так уж и много,» — улыбнулся я.
«Это еще не все. В силу изменившихся условий, мы будем вынуждены как можно раньше начать эвакуацию наших людей из зоны Путумайо. Мы же не можем быть уверены в том, что Вы не проговоритесь о месте нашей дислокации, если мы, конечно, Вас не ликвидируем.» — Де Сильва посмотрел на меня поверх очков. Хотел убедиться, что я испугался. Я и вправду испугался, но ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Молодец, Иваныч,» — похвалил я мысленно сам себя. — «Сумел, значит, сохранить свое лицо.»
«То есть, Вам проще меня убить, чем отпустить?» — спросил я де Сильву как можно более спокойно.
«Это так.» — Команданте стряхнул пепел прямо на пол. Его поистине свинское отношение к своему кабинету как-то не слишком увязывалось с нарочитой подтянутостью его внешнего вида. Новенькая, с иголочки, форма, дорогие очки, и вдруг — пепел на пол. — «Но мы считаем Вас партнером и поэтому хотим, чтобы в случае невыполнения договора Вы оплатили все мероприятия по нашей эвакуации.»
И тут я не сдержался.
«Вашу мать! Это же банальный шантаж. Вы же меня разводите, словно какого-нибудь лоха. Если я соглашусь, я весь ваш гонорар потрачу на то, чтобы организовать эту доставку. А если не соглашусь, то заплачу вам хренову кучу денег. Партизаны, твою мать! Когда вы заманили меня сюда, вы уже знали, что я не откажусь. Вы не партизаны, а самые обычные кидалы! И я, дурак, поверил вам.»
Слова «лох», «развод» и «кидалы» я произнес по-русски, но смысл сказанного и без того был понятен этим герильерос. Рокоссовский рванулся было с насиженного краешка стола в мою сторону. Де Сильва остановил его жестом.
«Послушайте, Андреас,» — обратился ко мне команданте. — «Не мы придумали этот бизнес. Мы вообще против денег и материальной выгоды. Но по таким правилам живет проклятый прогнивший режим в Боготе, и мы воюем против него его же методами.»
«Не надо читать мне лекции по марксизму-ленинизму! Я этого в училище наслушался больше вашего. Я-то тут при чем?»
«Скажите мне, Андреас,» — вздохнул команданте. — «Вы всерьез думаете, что Вы над схваткой? Вы часть системы. И даже больше. Вы часть обеих систем, их и нашей. Мы воюем с ними их же оружием. Вы разделяете их ценности, но помогаете нам. Потому что только мы и такие, как мы, можем обеспечить Вам достойный, по вашему мнению, уровень жизни. Примерно такой же, как у них. Сложно объясняю?»
Я кивнул головой.
«Слушайте. На самом деле, все очень просто. Линия фронта это не Путумайо или Богота. Или — что у Вас там в бизнес-планах? — африканские джунгли. Линия фронта это Вы, Андреас.»
Я молчал. «Ойо де Монтеррей», которые он мне предложил, были чуть влажные, но мне казалось, что влага придавала кубинскому табаку еще большую изысканность. Это было, пожалуй, единственное приятное открытие сегодняшнего дня.
ГЛАВА 18 — КОЛУМБИЯ. «КОРЯВЫЙ ДУБ»
В общем, я согласился. Оплатить эвакуацию целого партизанского соединения было мне не по силам. Проще потерять один самолет сбитым над Колумбией. Но решусь ли я отправить свой экипаж на верную смерть?
У меня было несколько дней, чтобы придумать способ доставки оружия. Назад, к аэродрому, меня снова везли в лодке. Она, как две капли воды, походила на ту, в которой меня привезли на встречу к Рокоссовскому. А, может быть, это и была та самая посудина. Я сидел верхом на огромной сумке, в которой лежали доллары. Рядом со мной, слева и справа, с дежурными отсутствующими лицами пристроились боевики ФАРК. Вернее, не боевики, а «боевички». Две низкорослые девицы в камуфляже и с автоматами. Та, которая слева, была похожа на европейку. Довольно приятное лицо с почти белой кожей. Из-под пятнистой кепки все время выбивался черный локон, и мне хотелось его поправить, слегка коснувшись кончиками пальцев ее щеки. Девушка заметила мой взгляд и строго зыркнула на меня глазами. Но от этого мое озорное желание не стало меньше, и я время от времени продолжал рассматривать ее профиль.
Вторая сидела справа от меня. Далеко не красавица, она, тем не менее, выглядела аппетитно. Плотная, но хорошая фигура обещала энергичный и замысловатый секс. У нее был плосковатый нос, размазанный, как мне казалось, на поллица, но зато крепкие белые зубы. Девица показывала их, посмеиваясь шуткам крестьянина-индейца, придерживавшего свою козу. Животное непрерывно блеяло и нестерпимо воняло. Партизанка смеялась, перекладывая автомат то на левое колено, то на правое. Крестьянин гримасничал, поглядывая на распахнутый ворот гимнастерки моей охранницы. Там, подразнивая воображение индейца, виднелась ложбинка между двумя упругими смуглыми грудями. Но предпринимать более решительные действия владелец козы не решался. Автомат в руках у партизанки заставлял козопаса держать дистанцию. Кроме этого крестьянина, в лодке было еще несколько человек, в основном, женщины и дети. Примерно через каждые полчаса лодка швартовалась к берегу, высаживая одних пассажиров и принимая на борт других. Вскоре на берег сошли и крестьянин с козой. Девица с плоским носом перестала смеяться. Она перегнулась через борт, округлив два полушария чуть ниже спины. Дотянулась до воды, зачерпнула горсть и с фырканьем умыла свое лицо.
Еще раз потянулась к воде. Лямка «калашникова» — он в этот момент болтался у нее на плече — начала сползать вниз. Когда девица заметила это, автомат был уже в реке. Я рванулся со своего насиженного места и успел схватить орудие за цевье, когда его приклад уже скрылся в воде. Моя вторая охранница, увидев автомат у меня в руках, с криком передернула затвор. «Се парен!» — закричала плосконосая. Ручейки воды текли по ее лицу, ниспадали каплями на смуглую грудь и заканчивались где-то под тесным камуфляжем. Она рукой остановила подругу. — «Се парен!» Не знаю испанского. Это прозвучало, как наше «Все в порядке!» Заклинание сработало. Та, которая с локоном, опустила ствол своего автомата. Плосконосая взяла у меня из рук автомат и погладила мое плечо. «Эль ниньо!» — улыбнулась она своими жемчужными зубами. Это слово я знал. Бейби, малыш. Если бы мне так сказала какая-нибудь дама из цивилизованной Европы, это могло означать лишь одно — приглашение в постель. Но в Латинской Америке обращение «эль ниньо» ни к чему не обязывает. Это просто форма вежливости. Здесь так много секса, что даже река Путумайо пахнет, как женщина. Здесь двенадцатилетние девочки танцуют самбу так, что начинаешь чувствовать, как откуда-то снизу на тебя накатывает липкая волна поллюции. Здесь плоский нос на женском лице не раздражает, а наоборот, вызывает интерес, причем, не только у владельцев мелкого рогатого скота. Звезды над головой, переплетающиеся ветки деревьев над рекой, равномерный рокот мотора, черные индейские глаза, цевье автомата, впитавшее тепло и пот женских рук. И что такое по сравнению со всем этим калейдоскопом одно слово? Просто звук. Но, видимо, мне хватило и этого звука. Мне захотелось продолжения. И девица поняла это также хорошо, как и я сам.
Через полчаса мы высадились на берег. У причала стояла старая «тойота лендкрузер». С белой крышей и треснувшим стеклом. Водителя рядом с ней я не заметил. Девицы уверенно направились к машине. Та, которая с локоном, открыла водительскую дверь и принялась ковыряться под приборной доской. Машина была такая старая, что даже здесь, в кокаиновых дебрях Колумбии, на нее никто бы и не позарился. Вторая охранница, улыбнувшись, кивнула мне на пассажирское место впереди. Я открыл дверь и уселся на протертое до дыр кожаное сиденье. Было жестко. Неудобная пружина упиралась мне в левую ягодицу. Я посмотрел на девушку-водителя. Она упорно и нервно соединяла два проводка под рулевой колонкой. Мотор недовольно чихнул, потом заглох. Охранница выругалась. Другая — она примостилась сзади меня, так, что я чувствовал ее дыхание у себя на затылке, — засмеялась и произнесла что-то успокаивающее, вроде того же «эль нинью» в лодке. Обладательница локона ничего не сказала. Контакты в ее руках заискрили, стартер выдавил из себя старческий треск и хрип, и «тойота», наконец, завелась. Лязгнул рычаг, нехотя включилась первая передача, и машина, подскакивая на ухабах, двинулась вперед по грунтовке, в сторону городка Мокоа. Мои грязные ботинки топтались по сумке, в которой лежали два с лишним миллиона долларов.
Грунтовка, по которой мы ехали, то и дело утопала в непросыхающих лужах. Она извивалась между деревьями, частоколом громоздившимися вдоль дороги и сплетавшимися своими ветками где-то наверху. Здесь стоял вечный сумрак. Солнце с трудом пробивалось через ветки деревьев и редкими золотыми монетами падало на дно грязных луж. Едва успевали мелькнуть на поверхности луж солнечные блики, как тут же их расплескивали колеса нашего джипа. Машина нервно рычала, выбираясь из ям, заполненных водой. Девица за рулем беззлобно ругалась. Меня то и дело кидало в сторону, и я время от времени ударялся головой о железную стойку двери.
Когда я сюда прилетел, от аэродрома к переправе меня везли этой же дорогой, но ухабов тогда я не заметил. Видно, машина была получше. Во всяком случае, поновее. И водитель вез меня поаккуратнее. Ну, конечно, ведь в тот раз за рулем был мужчина. А эта девица вдавливала педаль до упора в пол так, словно на своей колымаге собралась выиграть Гран-При Монако. Тойота, однако, скорость не набирала, ее лишь сильнее подбрасывало на ухабах.
Мы доехали до развилки. Я помнил, что к аэродрому нужно повернуть налево. Обладательница локона так и сделала — крутанула руль в левую сторону. Но плосконосая что-то крикнула ей, и водительница остановилась. Обе выскочили из машины и начали громко спорить. Плосконосая наседала на подругу, то умоляя ее, то повышая голос, то насмехаясь над ней. Барышня с локоном, не меняясь в лице, отрицательно мотала головой. Низкорослая девица тыкала в подругу пальцем, потом хлопала себя по бедрам, словно от отчаяния. Она время от времени указывала рукой на машину, в которой, словно клуша на насесте, сидел я на своей драгоценной сумке, и кричала «Lo quiero, lo quiero, comprendes!»
Та, которая с локоном, явно пыталась взывать к ее разуму. Она собрала пальцы правой руки в щепотку, словно поймав за хвост последний ускользающий разумный довод, и потрясала им перед лицом своей подруги. Она очень четко произносила непонятные мне слова, но даже меня они вполне могли бы убедить только самой интонацией, с которой они произносились. Меня, но не плосконосую. А дальше произошло нечто совершенно непонятное.
Плосконосая схватила автомат, передернула затвор и направила его прямо в живот напарницы. Та, которая с локоном, тоже сорвала с плеча оружие и стала в боевую стойку. Обе, чуть присев, ходили по кругу, как два бультерьера в загоне. Они кричали друг на друга так, что птицы срывались с деревьев и улетали прочь. Качественное лесное эхо многократно повторяло их боевые выкрики. Потом плосконосая выпрямилась, рванула на груди гимнастерку, бросила автомат прямо в грязную лужу. И тут же уселась рядом с ним. Она обхватила голову руками и горько-горько зарыдала. Это был плач отчаяния и досады. Она рвала на себе волосы и била смуглым кулачком по луже.
Напарница некоторое время смотрела на нее. Потом тоже бросила «калашников» в сторону. Она подошла к своей плачущей подруге, присела рядом с ней на корточки и, обняв плосконосую, залилась горькими слезами. Так они сидели довольно долго. Они размазывали слезы друг у друга по щекам. Их черные волосы спутались. Они то шептались, то причитали, то смеялись сквозь бесконечные потоки девичьих слез. Я не понимал, что происходит. Мне захотелось сесть за руль и бросить их здесь, на этой развилке. Наверное, я так бы и поступил, если бы этот странный плач не прекратился так же внезапно, как и начался.
Девицы поднялись с земли. Они по-прежнему обнимались, но теперь уже не плакали, а наоборот — заговорщицки смеялись. Они подошли к машине. «Турн!» — сказала мне та, которая с локоном. И сделала знак, чтобы я повернулся. Я рассматривал трещину на лобовом стекле и слушал, как у меня за спиной шуршит одежда вперемежку с девичьими смешками.
Когда мне разрешили повернуться, я увидел перед собой двух самых обычных латиноамериканок в красных цветастых платьях. Уму непостижимо, откуда они достали свои наряды. Носили под формой, что ли? Или заранее припрятали под задним сиденьем «тойоты»? Обе девушки почти неузнаваемо изменились. Одна, наконец, убрала соблазнительный локон, перевязав свои крепкие блестящие волосы лентой, а у другой вместо распахнутого ворота пятнистой куртки появилось декольте с белой оборочкой по периметру. Ее грудь, надо сказать, неплохо смотрелась и до этого, в расстегнутом камуфляже.
Плосконосая взъерошила мне волосы, а ее подруга открыла пассажирскую дверь и строго сказала по-английски «Драйв!» И легонько толкнула меня, чтобы я лучше понял, чего она от меня хочет. Я нехотя переместился на место водителя. Не скажу, что я был в шоке, но непонимание происходящего привело меня в состояние легкого ступора. Кажется, меня взяли в заложники. Но вряд ли целью моего захвата были деньги. Обладательница локона бесцеремонно топталась ногами по моим миллионам. Ноги, кстати, у нее были стройные, сильные и загорелые. «Драйв!» — повторила девушка приказание.
«Куда?» — спросил я по-английски.
«Мокоа» — ответила она и махнула рукой. — «Vamos. Поехали.»
Все время, пока длилась эта сцена, двигатель машины работал, вхолостую сжигая бензин. Я включил первую передачу и повернул руль вправо. Мы снова выехали на развилку и поехали в сторону города. Аэродром оставался где-то слева. Я не имел ни малейшего представления о том, что собираются делать мои охранницы. Но моя интуиция подсказывала мне, что бояться нечего.
Мой разум бунтовал. Мы едем в Мокоа, говорил он моей интуиции. Этот город контролирует правительство. Там полным полно военных. Если девиц хотя бы заподозрят в связях с партизанами, им крышка. И мне тоже. И моим миллионам. Не бойся, отвечала интуиция, все будет хорошо. Девицы знают, что делают. К тому же, у них оружие, значит, они сейчас диктуют условия.
«А где их автоматы?» — гневно спросил интуицию мой разум.
«А где „калашниковы“?» — осторожно спросил я вслух красавицу справа.
Они рассмеялись обе. «Форест,» — и моя соседка справа махнула рукой куда-то в сторону леса. — «Yo no soy loca!» Я, мол, не дура, вот что примерно она ответила. В смысле, спрятала автоматы в лесу, там, где мы стояли. Другая не-дура влажно дышала мне в затылок и принялась яростно разминать своими маленькими и крепкими ладонями мои плечи. Несомненно, обе они были locas.
Если бы мой разум восторжествовал, то я запросто мог бы скрутить их обоих. Тем более, что они были безоружны. Мог бы развернуть машину и как-нибудь довести ее до тайного аэродрома в сельве. Но я этого не сделал. Иногда предчувствие обладания даже самой обычной женщиной перевешивает жажду наживы. Ради случайной женщины ты готов поставить на кон даже миллион. Так бывает. А тут целых две красавицы. Но и миллионов в моей сумке тоже было два. С небольшим довеском. Маленький спортивный самолет, который доставил меня в эту страну, обязан дождаться своего пассажира. Я знал, что пилоту был дан именно такой приказ. Пути к отступлению еще не были отрезаны. Поэтому я позволил себе тоже стать немножечко loco, совсем ненадолго.
Через два часа мы уже были в гостинице на центральной площади Мокоа, в пятидесяти метрах от местного управления полиции. По улицам города бродили полицейские патрули, снаряженные почти по американским стандартам. Кевларовые синие шлемы, форма с наколенниками, массивные бронежилеты под разгрузкой, набитой боеприпасами. У каждого полицейского в руках было по новенькой винтовке М-4. Оружие они держали тоже по-американски. Почти на уровне груди, стволом вниз, указательный палец правой руки под курком. Мы у полицейских особого интереса не вызвали. Грязный крепыш-европеец и две хохочущие девицы, нырнувшие в первый попавшийся свободный номер. Что же тут может быть подозрительного?
Это был совершенно сумасшедший сексуальный эксперимент. Мы оказались в постели втроем. Я продолжал чувствовать себя заложником. Две колумбийки доминировали надо мной и делали все, что хотели. Перед моим лицом мелькали спутанные волосы над огромными глазами с расширенными зрачками, смуглые бедра, дрожащие соски. Белозубый частокол не хотел прятаться за полными губами, с которых слетал крик восторга. Не крик даже, а хищный клич. Причем, я уже не мог определить, кому из двоих подруг он принадлежит. Они набросились на меня, как две пираньи, пожирая мою плоть, высасывая мою кровь, терзая мое сознание. И они никак не могли насытиться.
Сейчас я понимаю, что с ними тогда случилось. Им бы не воевать, а любить своих латиноамериканский мужчин со всей силой южной страсти. Заниматься домом, а не делать революцию. Полуаскетичная жизнь в джунглях поломала их психику. Они, созданные для любви, превратились в оружие классовой борьбы, такое же жестокое и безотказное, как мои автоматы. Они стояли в строю, ползали в грязи, воевали и убивали. Они выкрикивали команды и приказы. Они стонали на операционных столах вместо того, чтобы стонать в постелях. А в это время любовь жила у них внутри. Она им мешала воевать, как гнойный нарыв. Давление растет, сознание давит на любовь, любовь разрывает изнутри. И вот прорвало. На моем месте мог быть кто угодно. Любой наркокурьер оказался бы в этой постели, будь он пассажиром старой «тойоты». Любой партизан, вырвавшийся случайно из леса, был бы уложен девицами на обе лопатки. Только не этот терминатор Рокоссовский. И не полусумасшедший банкир де Сильва. Эти живо бы отправили девушек в расход. А девицы балансировали на краю своей жизни, прорываясь сквозь меня, словно сквозь узкую дверь, в пространство своей внутренней свободы.
Два красных платья лежали на полу и казались мне пятнами разлитого вина. Или крови. Сладкий запах женской секреции смешался с запахом «Ойо де Монтеррей», раскрошившихся в моем кармане. Два миллиона двести двадцать пять тысяч долларов глуповато лежали в углу комнаты, загораживая дорогу в полуоткрытую дверь ванной комнаты. Оттуда, подчиняясь такту генератора, который молотил во дворе гостиницы, мигала лампочка. Наш ритм был совсем другим. Впервые в жизни я почувствовал себя полным дерьмом, извращенцем и подонком. Дело было не в сексе, а в моей работе. Чем больше сюда попадет моего товара, тем больше таких несчастных и жадных до любви девиц окажется в джунглях. И у них никогда не будет спортивного самолета, чтобы улететь отсюда.
Стоп, говорю я себе. Это просто секс втроем. Эти девушки просто обычные самки, истосковавшиеся по члену. Эти деньги я получаю только за доставку. Я не знаю, что будет в контейнерах, и мне до этого нет никакого дела. Поэтому нужно прекратить бессмысленные рефлексии. Я дал себе команду расслабиться и нырнул поглубже в пучину сексуальных наслаждений.
Мы расплескивали свою энергию несколько часов кряду и потом затихли. Плосконосая разметала во сне руки и счастливо улыбалась. Ее голое тело заняло полпостели, правая нога девушки лежала на моей левой. С другой стороны тихо посапывала ее подруга, удобно спрятав лицо у меня подмышкой. У нее были потрясающе красивые волосы. Гладкие и блестящие, как шелк, они отражали свет луны за окном. А, может, это был просто уличный фонарь. Настала ночь.
Я тихонько высвободился из-под пряной тяжести двух женских тел и пошел в ванную. Посмотрел в зеркало. На меня оттуда выглянуло глуповатое лицо с карими глазами чуть навыкате. Многодневная небритость делала человека в зеркале немного похожим на колумбийца. Тогда среди местных мачо была мода на щетинистые лица. Я ненавидел себя. Я понимал, что меня использовали, причем, использовали по назначению. Эти две девицы вполне могли завалить меня в лесу и взять себе мои миллионы. Но вместо этого они бросили деньги возле ванной и взяли меня самого, как хотели. Взяли мой член, словно купили его в дешевом колумбийском секс-шопе. Не купили даже, а украли.
Стало душно. Я не спеша оделся и вышел на улицу. У входа в гостиницу стояло несколько складных столиков под матерчатым навесом. Я сел за ближайший и стал ждать официанта. В гостиничном ресторанчике, кроме меня, был еще один посетитель, плотная спина которого нависала над столиком. Даже со спины что-то выдавало в нем иностранца.
Официант долго не подходил, но меня это не раздражало. Я смотрел, как ветер раскачивал светящуюся гирлянду над входом в отель. По пустынной улице невдалеке от гостиницы туда-сюда прохаживался полицейский. Он, то и дело прикрывая рот, шептал какие-то глупости в трубку мобильника. Явно тратил служебное время на личные разговоры. Гирлянда над входом в гостиницу внезапно потухла. И одновременно с темнотой наступила пронзительная тишина. Заглох генератор. Вот как, а я уже настолько привык к шуму двигателя, что перестал его замечать. Полицейский перед гостиницей включил фонарик.
«Fuck» — тихо выругался я по-английски.
Луч фонарика метнулся ко мне и перепрыгнул на единственного, кроме меня самого, посетителя этого заведения. Спина зашевелилась. Человек развернулся ко мне. Лица я не успел разглядеть, оно оказалось в темноте, как только полицейский фонарик потерял к нему интерес.
«Американец?» — спросил меня сосед. Судя по произношению, он увидел во мне соотечественника.
«Нет, но тоже гринго,» — ответил я уклончиво.
«Почему гринго?» — переспросил голос из темноты.
«В этой стране все иностранцы гринго».
«Да, это верно» — услышал я понимающий вздох за соседним столиком. — «Выпьешь?»
«Я бы выпил, да никто не наливает.»
«Погоди, сейчас они перебросят свет на другой генератор, и официант освободится.»
Здесь, как видно, в целях экономии официант выполнял еще и функции электрика. С генератором он управлялся, пожалуй, лучше, чем с посетителями. Вскоре двигатель затарахтел, набирая обороты, и лампочки снова ожили. На пороге гостиницы, вытирая руки о передник, появился курчавый парень.
«Cerveza?» — вопросительно кивнул он мне. — «Пиво?»
«Две сервезы,» — повелительно произнес мой сосед. — «Я плачу.»
Теперь я мог рассмотреть его лицо. Круглое, с большими отвислыми щеками, оно напоминало розовую грушу. Ее воображаемый хвостик прятался под джинсовой кепкой-бейсболкой, а широкая часть заканчивалась где-то на уровне груди, минуя стадию шеи. И все же, человека, который хотел угостить меня пивом, следовало, скорее, назвать крепышом, чем толстяком. Он был крупный и широкоплечий. За его плечами угадывались примерно пятьдесят лет простой, тяжелой и не всегда сытой жизни. Он явно любил поговорить за бокалом пива и сам располагал к общению. Люди моей профессии, как правило, стремятся ограничить общение с незнакомыми людьми. Но сейчас мне почему-то захотелось поговорить как раз вот с таким случайным собутыльником, погрузиться в чужую историю, и забыть на некоторое время о своей.
«Ричард. Ричард Крукоу,» — протянул он мне руку, как только переместился за мой столик вместе с двумя пинтами пива. Здесь его разливали в нестандартные по нашему представлению шестисотграммовые бутылки. Это соответствует, примерно, одной пинте. Почему в бывшей испанской колонии меряют пиво английскими мерками, для меня и до сих пор непонятно.
«Крукоу?» — повторил я за ним. — «Звучит, как русская фамилия. Крюков. Наверное, у тебя в роду были русские?»
«Ни одного!» — гордо заявил мой новый знакомец. Хлебнул пиво прямо из горлышка бутылки и хмыкнул.
«Мой отец родился в Германии, еще до Гитлера.»
Судя по началу, история обещала быть долгой и запутанной, как исландская сага. Как раз именно это и было мне сейчас нужно. В течение последующих тридцати минут или около того я узнал, что отец Ричарда родился в семье немецких коммунистов в самый разгар классовой борьбы за светлое будущее. Победа коммунистической версии светлого будущего была не за горами, когда со своим проектом всеобщей справедливости на историческом горизонте появился Адольф. Этот проект показался немцам более успешным, чем то, что предлагали соотечественникам дедушка и бабушка Ричарда вместе с главным немецким коммунистом Эрнстом Тельманом. Конечно, вскоре немцы об этом пожалели. За любой хорошей рекламной компанией обычно стоит большое надувательство, но это было уже неважно. Гитлер успел отправить обоих прародителей моего собеседника в концлагерь. Те, впрочем, тоже успели сделать кое-что, а именно — договориться об отправке сына в Америку вместе с семьей еврейских бизнесменов, покидавших Германию по подложным документам. На этом месте я запутался в сюжетных линиях. Они слишком замысловато переплетались и в конце концов привели к нацистскому чиновнику, который за огромную взятку выправил отцу Ричарда новые документы, указав в бумагах местом рождения Лондон. А фамилию просто перевел с немецкого на английский. Видимо, язык вероятного противника нацист знал плохо: перевод столь красивой фамилии был сделан явно со словарем и вышел каким-то корявым.
«Понимаешь, он был Крюмайщ. Не Крюмайх, как часто произносят, а именно Крюмайщ, по-берлински. Знаешь, что это слово означает?»
Я мотнул головой.
«Корявый дуб!» — и Ричард гордо откинулся на спинку стула. — «Самая, что ни на есть коренная берлинская фамилия.»
«Звучит и впрямь коряво», — усмехнулся я.
«Не смейся», — пафосно заявил Крукоу.
Сейчас последует рассказ о кривом, как этот дуб, генеалогическом древе собеседника, мысленно вздохнул я. Но он не стал так глубоко вдаваться в историю своей семьи. И вернулся к сравнительной филологии.
«А этот фашист так и написал написал в бумажке по-английски. Кривой дуб. Крукоук, понимаешь? Согласись, звучит по-идиотски.»
Я согласился.
«Ну, вот. Приехал мой папа в Америку, отправили его там в приют, и со временем окончание фамилии само собой отпало. Вот так он стал Крукоу. И я теперь тоже Крукоу. Так она звучит намного лучше.»
Я опять с ним согласился.
«А, знаешь, как она будет звучать по-русски?» — говорю. «Krivodub.»
«Krivodub.» — принялся он пробовать ее на вкус. — «Krivodub. Krivodub.»
«Знаешь, „Krivodub“ тоже неплохо звучит. Так ты русский?» — воскликнул он.
«Ну, что-то вроде этого.»
«Русский. Нефтяник. Я вас таких сюда много перевозил. Но можете не дергаться.» — он наклонился ко мне поближе. — «Они вам тут не дадут развернуться. И наши тоже.»
Я никогда не интересовался нефтью, но слышал, что в этих краях работают американские нефтяные компании. Нужно взять на заметку. Если когда-нибудь придется сменить профиль.
«А причем тут ваши?» — спрашиваю его.
«Да они тут, в Колумбии, всегда причем. Акулы. Конечно, ФАРК им тут дает под хвост. Но наши не сдаются. Они здесь, как собака на сене. Сами не копают и других не пускают. Здесь не они хозяева,» — Ричард кивнул в сторону полицейского. — «И ФАРК не хозяева. Они только думают, что эта страна им принадлежит. А вот я тебе могу сказать, кому она принадлежит.»
Крукоу принялся загибать пальцы.
«Тексако, Эксон и Оксипетрол. Ну, немного Шеврон. И самая главная фирма, знаешь, какая?»
Ричард заговорщицки наклонился ко мне.
«ЦРУ,» — гордо прошептал он. — «И я всех их вожу.»
«Возишь. Это как?»
«Я пилот, парень. Причем, классный пилот. У меня одиннадцать тысяч часов в воздухе.»
Ого, становилось очень интересно.
«А здесь что делаешь?» — спрашиваю я Крукоу. — «Путешествуешь?»
«Да ты что? Работаю. Здесь недалеко аэродром, и я гоняю сюда чартеры.»
«На чартерах одиннадцать тысяч часов? Как-то не верится,» — сказал я и осекся. Будет лучше, если Крукоу так и не распознает во мне коллегу. Во всяком случае, сразу. Но летчик ничего не заметил, видимо, он часто отвечает на этот вопрос.
«Не верится? Да я на пассажирских пролетал всю сою жизнь. Вот над этими самыми джунглями. Но когда в девяносто третьем тут сбили американский „боинг“, я сказал себе стоп, хватит.»
Да, это действительно была громкая история. Местные наркобароны «заказали» теракт на борту американского самолета, и лайнер завалили недалеко от Боготы. Подстрелили его самой обычной зенитной ракетой, когда он заходил на посадку.
«Испугался?»
«Нет, не то, чтобы... Просто после того я говорю диспетчерам „Меняйте курс, меняйте коридоры, лучше, если будете делать это ежедневно.“ А они...» — и Ричард махнул рукой.
«Что они?»
«Они говорят, коридор это святое, менять его нет причины. Но я-то знал, в чем дело.»
Пилот отхлебнул еще немного пива.
«У них в Боготе единственный радар. Но это не их радар, а наш. Я же говорил тебе, тут все наше. ЦРУ. И вот именно наши приказали колумбийцам оставить все, как было. Им так проще держать все под контролем. Кто куда летит и кто над кем пролетает. Высота девять тысяч, скорость восемьсот пятьдесят. Им наплевать на то, что все мы смертники. Свои, чужие, колумбийцы, американцы — все, кто в воздухе смертники. Потому что летают по пристрелянному коридору. До следующей ракеты.»
«А ты как летаешь?»
«А что я? Взял да и пересел на чартер. И сюда, в Путумайо. Здесь диспетчер нас по радару не водит. Здесь у них вообще нет радара. Диспетчер ведет меня по данным моих же приборов. Ну, как тебе это объяснить? Он запрашивает меня, я ему отвечаю. А сам маневрирую, как хочу. В разумных пределах, как ты понимаешь. Вот так мы здесь и летаем.»
«Послушай,» — говорю я ему. — «Ты хоть ври, да не завирайся. Местный диспетчер тебя не видит. А тот, кто сидит в Боготе, возле радара, значит, полный идиот?»
Крукоу с подозрением посмотрел на меня.
«А ты откуда все это знаешь, нефтяник?»
«Да уж насмотрелся,» — выкручиваюсь я. — «Нас-то тоже чартерами в Западную Сибирь гоняли. Нужно же знать, на чем, куда и как тебя везут.»
«Это правильно, мужик,» — Ричард хлопнул меня по плечу, продолжая смотреть на меня глазами, на дне которых продолжала мелькать тень подозрительности. — «Вот и мы тоже знаем, где летаем.»
Обе руки Крукоу отправились в недра задних карманов его брюк.
«Вот наш секрет номер раз!» — правая рука Ричарда извлекла и положила на стол измятый экземпляр расписания пассажирских рейсов в нее Колумбии.
«А вот номер два,» — левая хлопнула но столу вчетверо сложенным пластиковым файлом с помятой бумажкой внутри. Она была исписана синими каракулями.
«Это расписание полетов, а это все данные о воздушных коридорах,» — и Ричард гордо откинулся на спинку стула. — «Если я хочу оставаться невидимым, то как мне это сделать? С учетом вот этих знаний?»
Рука пилота эффектно пролетела над столом, описав указательным пальцем дугу над бумагами на столе.
«Думай, нефтяник, думай!»
«Ничего не могу придумать,» — выдавил я из себя. Это было неправдой. Я почти сразу понял смысл и значение того, о чем хотел сказать мой собеседник. Не хватало лишь нескольких незначительных деталей.
«Все просто, парень. Я ухожу под пассажирский самолет. И ЦРУшник в Боготе перестает меня видеть. Меня нет на экране. Но я есть в воздухе. Держу крейсерскую скорость „боинга“ и иду под пассажиром. Они меня не видят,» — и Крукоу взмахнул рукой в сторону Боготы. — «Они видят только одну точку.»
Они тут в Колумбии совсем с ума сошли. Ричард Крукоу, судя по его словам, проделывает такие трюки, с которыми по степени риска может сравниться прыжок с пятидесятиметровой высоты в прорубь. Возьмешь на миллиметр влево-вправо, и разобьешься о лед. Попадешь в лунку, и все равно никакой гарантии, что останешься жив. Под водой могут оказаться камни, которых ты не видишь и о которых не знаешь. Так же и с полетом в несанкционированном воздушном коридоре. У тебя на пути может оказаться самолет, о существовании которого ты не подозреваешь, и этот самолет несется прямо тебе в лоб со скоростью почти в тысячу километров в час. И даже еще больше, с учетом твоей собственной скорости. Но все же в его словах мне почудилось какое-то откровение. Нет, пожалуй, «откровение» слишком громкое название для того, чтобы описать, то, что я почувствовал. Я интуитивно понял, что из его безумного рассказа о воздушном ковбойстве можно извлечь некое рациональное зерно. Так, наверное, великим ученым в голову приходят гениальные открытия. Ньютону его третий закон, Лобачевскому другая, неэвклидова, геометрия. Яблоко, которое падает вниз, значит больше, чем просто яблоко, а параллельные прямые могут пересечься, если иначе взглянуть на пространство. Смотри, Андрей, и слушай, и спрашивай. И думай. Все, о чем говорит этот германоамериканец, может оказаться полезным.
«Что-то не пойму я тебя, Ричард,» — говорю я медленно, а сам пытаюсь представить в своем воображении непересекающиеся прямые авиационных трасс в небе над Путумайо. — «Когда ты идешь низко, тебя не видят радары, правильно?»
«Правильно, но не совсем. Они не видят меня, когда я иду точно под пассажирским самолетом. Держу его скорость и не отсвечиваю. В смысле, даю диспетчеру совсем не те координаты.»
«На каком самолете ты летаешь?»
«Эмбрайер. Еле выжимаю из него то, что мне надо по скорости. Но зато он хорош в маневре.»
«А пассажиров от твоих маневров не укачивает?» — спросил я его с сарказмом.
Крукоу расхохотался. Его смех был похож на гомерический хохот президента Тайлера. Разве что отвислые щеки пилота тряслись сильнее. Ну, и, конечно, они были белого цвета. Отсмеявшись, летчик очень внимательно посмотрел на меня. Над Колумбией было то же небо, что и над другими странами. И в этом небе, так же, как в любой другой точке на Земле, пока что работали законы Ньютона и правила Эвклида. Но для того, чтобы это понять на своей шкуре, нужно хотя бы раз посидеть за штурвалом самолета. Ричард догадался, что я соображаю в самолетах достаточно, чтобы поймать его на мелких недосказанностях, рождающихся от соития невнимательности и потери бдительности. Сейчас, в этот момент, может всплыть большая правда или большая ложь, в зависимости от ситуации, подумал я. Но мне было нужно нечто другое. То, чем владел этот воздушный ковбой, очень срочно понадобилось и мне самому. Полицейский все еще ходил туда-сюда перед гостиницей. Я его не видел, но слышал шуршание его рифленых ботинок по мелкому гравию дороги.
«Ричард, хочешь, я скажу, кто ты?» — я одним махом допил свой бокал и уставился ему в глаза. — «Может быть, иногда ты и возишь нефтяников. Но делаешь это для отвода глаз. Не на черное золото ты работаешь, а на белое.»
Его нижняя челюсть вопросительно отвисла.
«Ты возишь кокаин, дружище, ведь так?»
Ричард окаменел. Он соображал, что мне ответить, и по его замедленной реакции я понял, что попал в самую точку. Есть! Теперь нужно развивать успех и добивать этого бугая дальше.
«Ты возишь кокаин. Я не знаю, чей он — партизанский или бандитский. Это неважно. Разницы никакой. Но все твои кренделя в воздухе нужны лишь для того, чтобы незамеченным садиться на грунтовках в лесу. И взлетать с них. А нефтяники это лишь хорошее прикрытие. Правильно?»
Кажется, он прямо на глазах надувался гневом, как шарик. Весу в нем раза в полтора больше, чем во мне. Если он меня ударит, то наверняка покалечит. А у меня даже оружия с собой нет. Автоматы мы оставили в лесу.
«Я тебя порву,» — зашипел он сквозь зубы.
«Не порвешь. Я тебя сдам полицейскому, и тогда тебе крышка.»
«Ты... сволочь... У нас здесь все куплены.»
«Ну, тогда ударь меня. Врежь, как следует. Чего же ты шипишь, как ржавый чайник?»
Видимо, не все полицейские в Мокоа были куплены Ричардом. Вернее, не все были куплены хозяевами Крукоу.
«Сукин сын!» — тихо прошептал Крукоу, хватаясь руками за свою шевелюру. — «Я же его пивом угостил. Идиот!»
«За пиво спасибо,» — говорю, — «но меня интересует кое-что другое.»
«Что именно?»
«Те бумажки, которые лежат на столе. Это во-первых.»
«А если я тебе их не дам?»
«Тогда я подойду к полицейскому, произнесу слово „кокаин“ и покажу на тебя. Если ты вздумаешь удрать, колумбиец начнет стрелять и непременно попадет в тебя. Если останешься на месте, то тебя посадят до утра. А утром твои пассажиры, — вероятно, те самые, которых тошнит от твоих маневров, — уже все будут знать. И, поверь мне, именно они позаботятся, чтобы ты рассказал как можно меньше полицейским. Надеюсь, ты меня хорошо понимаешь?»
«Сволочь, сукин сын,» — продолжал шипеть летчик, но уже не так интенсивно.
«Ну, что, я иду?» — переспросил я как можно спокойнее.
Ричард пытался сообразить, какого еще подвоха можно от меня ожидать, после того, как он все же пойдет на мои условия. А в том, что пойдет, я уже не сомневался. Вполне возможно, что про нефтяников он не врал. Скорее всего, именно так и было. Кто же мешает развернуть в джунглях побочный бизнес? Если эту нефть так и не дают взять, в джунглях надо брать что-либо другое. Деньги не пахнут, но в этот момент я очень явственно почувствовал запах кокаина. В сущности, это и был запах денег.
Ричард Крукоу пододвинул ко мне две бумажки, которые лежали перед ним. Первая — расписание полетов. Вторая — схемы воздушных коридоров и позывные бортов. Первая мне была не нужна. Я мог бы ее купить в любом латиноамериканском аэропорту или же найти в интернете. Вторая была бесценна. Я взял обе и рассовал их по карманам. Крукоу раздобудет себе еще. Я — вряд ли.
Мне было немного жаль Крукоу. Этот пятидесятилетний ветеран авиации хотел расслабиться, а в итоге попал в нешуточную для него переделку. С риском потерять все. А не расслабляйся. В нашем бизнесе человек человеку волк, а волку пристало держать ухо востро в любых ситуациях.
Ни слова не говоря, я поднялся из-за стола и пошел по направлению к открытой двери гостиницы. Ричард, только что надувшийся, как воздушный шарик, внезапно, как мне показалось, выпустил весь воздух и обвис. Даже его крепкие плечи моментально округлились.
«А зовут-то тебя как?» — услышал я за спиной погрустневший голос пилота, в котором едва уловил скрытую интонацию особой заинтересованности. Он еще может попытаться устроить мне неприятности. Все-таки, он здесь почти свой, а я уж точно чужой.
«Я Никто, так меня зовут на Итаке.» Над пивным бокалом Ричарда повисла тишина. Крукоу был явно не знаком с классической античной литературой.
Я влетел в номер. Нужно бежать отсюда, и поскорее. Девицы еще спали. Я приготовился к тому, что их нужно будет тормошить, выслушивая невнятные причитания двух сонных самок. Но долго будить их не пришлось. Профессиональная привычка даже сквозь сон чувствовать опасность подняла их с кровати, как только на своей коже они почувствовали теплое прикосновение моих рук.
Никакой утренней нежности. Может быть, потому что за окном все еще было темно. Я давно заметил, что женщина тебя не замечает, если встает до рассвета. Она молча умывается, одевается, сосредоточенно собирая разбросанные накануне детали своего туалета. До того, как поднимется солнце, ты для нее не существуешь. Она, та, которая еще несколько часов назад улыбалась твоим глазам, сейчас сосредоточена только на себе. И она вспоминает о присутствии мужчины лишь тогда, когда почувствует, что на ее лице не осталось и следа от бурной ночи.
Таких женщин у меня в комнате было целых две. Они по-мужски быстро оделись. Мне даже стало немного неловко оттого, что до этого мне было хорошо с ними в постели. Но раздумывать некогда. Нужно было торопиться.
Партизанки даже не спрашивали меня, в чем причина столь внезапного бегства. Они провели на этой странной войне слишком много времени. Возможно, годы. Ведь обычно девушек ФАРК вербует совсем еще в юном, почти подростковом возрасте. Их чувство опасности, помноженное на женскую интуицию, было поистине фантастическим. Я подозреваю, что партизанское командование совершенно осознанно набирало в свои ряды именно девчонок. Сначала их брали на дело примерно с той же целью, с которой средневековые шахтеры брали в шахту клетки с мышами или канарейками. Те первыми чувствовали присутствие газа или любой другой опасности и начинали волноваться. Юные партизанки также неосознанно чувствовали присутствие угрозы. Впрочем, это лишь мои домыслы.
Девушки надели свои платья так же быстро, как и днем в лесу. Старшая деловито подтянула ленту в волосах. Вот так же четко, подумал я, она снаряжает патроны в магазин своего «калашникова». Плосконосая надевала туфли. «Vamos?» — спросила она, но не меня, а подругу. «Si, vamos,» — ответила та. Мы вышли на улицу через черный ход. Наша старая «тойота» стояла под навесом рядом с гораздо более представительными машинами. Интересно, на какой из них приехал Крукоу. И успел ли он найти своих нефтяников или наркоторговцев? Я по привычке подошел к водительской двери. «No,» — сказала девушка, которая которая когда-то была с локоном, а теперь прятала его под лентой. Я обошел машину и сел с пассажирской стороны. Девушка уже привычно копалась под рулевой колонкой, соединяя оборванные проводки. Ее подруга уже сидела сзади и нервно оглядывалась по сторонам. Контакты заискрили. Стартер нехотя скрипнул раз, скрипнул другой и, наконец, запустился. Двигатель, отплевывая несгоревшее топливо, застучал под серым капотом. Первая передача сразу вошла своими зубцами в нужное место, и машина резво тронулась вперед.
Мы выехали на улицу. Я успел заметить, что полицейский, который до этого бродил по улице, теперь сидит за столиком перед гостиницей. Он, кажется, дремал. Ему, наверное, давно хотелось сесть, но наше, мое и Крукоу, присутствие смущало его и не давало возможность расслабиться.
Мы повернули налево. Не торопясь, проехали по улице в сторону выезда из города. Слева и справа от нас виднелись одноэтажные бунгало с палисадниками, увитыми местным виноградом. Ни в одном окошке не горел свет. Люди в Мокоа рано ложились спать и, к тому же, экономили бензин, запуская генераторы лишь на пару часов в день. Общего электричества в городе не было. Партизаны регулярно выводили из строя электросеть. В конце концов, ее перестали запускать, переложив проблему отсутствия света на мирных жителей. И те справились с ней, как смогли.
Вечером, после шести, в городе стоял постоянный шум от моторов. К нему быстро привыкаешь. Я, вот, например, его не слышал уже через несколько часов после въезда в Мокоа. Зато сейчас я остро слышал тишину. И мои спутницы тоже были в напряжении. Нам нужно было проехать армейский блок-пост при выезде из города. Нам очень повезло, что нас не проверили, когда мы въезжали в Мокоа. Хотя мы почти ничем не рисковали. Один мужчина, причем, иностранец, и двое девушек в старой машине. Явно какой-то турист решил воспользоваться услугами местных легкодоступных и недорогих жриц любви.
Деревянная будка, в которой сидели солдаты, стояла на обочине. Через дорогу была протянута веревка, один конец которой был привязан к столбу на противоположной стороне, а другой находился в руках у солдата. После проверки документов он ослаблял веревку, препятствие исчезало, путь открывался, и машина трогалась вперед. Сейчас веревка лежала на земле. Можно было бы, чуть поддав газку, проскочить чек-пойнт, но девушка не стала рисковать. Она переключилась на холостые и притормозила перед веревкой. Правильно, подумал я, не стоит вызывать излишние подозрения. Не на нашей колымаге уходить сейчас от погони.
Машина впустую урчала на дороге, пожалуй, что и несколько минут, прежде, чем веревка подала какие-то признаки жизни, пару раз дернувшись в пыли. Дорога перед нами задымила клубами в тусклом свете фар. Над деревянным барьером появилось сонное лицо в камуфлированной каске. Солдат перегнулся через барьер и посветил в нашу сторону фонариком. Не знаю, что он смог разглядеть, но, видимо, то, что он увидел вполне его удовлетворило. Он выключил свет и лениво махнул рукой. В этом взмахе мне даже почудилось некоторое раздражение, мол, не стойте, проезжайте, разъездились тут, только спать мешаете.
Как только автомобиль тронулся с места, под потолком в полуразбитом плафоне зажглась полуслепая лампочка, видимо, контакт сработал от удара. Девушка за рулем выругалась и попыталась ее выключить. У нее ничего не вышло. Некоторое время нам пришлось ехать с подсветкой.
Мы миновали блок-пост. До нужного поворота было минут пятнадцать езды, не больше. Девушки молча следили за дорогой. Одна, вцепившись в руль, поджала губы и, не мигая, уставилась в лобовое стекло. Другая то и дело вертела головой по сторонам.
Когда доехали до поворота, машина резко остановилась. Подруги выскочили на обочину. Я думал, что они будут переодеваться. Но ошибся. Девушки исчезли в темноте и через несколько секунд я их увидел вновь. У них в руках были автоматы.
Оружие в их руках выглядело еще более странно. Я понял, в чем дело. Эти «калашниковы» как-то не вязались с красными платьями, которые все еще оставались на девушках. Времени на переодевания не было, и мои спутницы решили продолжить карнавал. «Кто поведет?» — спросил я главную. Та ткнула пальцем себе в грудь и сунула мне в руки автомат. Я замотал головой и быстро бросил его назад девушке, постаравшись придать своему лицу выражение оскорбленной невинности, словно она предложила мне подержать кобру. Она пожала плечами: «Нау драйв.»
Машину подбрасывало на ухабах. Я не гнал, но старался не сбрасывать скорость. Глянув в зеркало заднего вида, я заметил, что плосконосая покусывает губы, а потом облизывает их языком. Казалось, что от волнения она не контролирует силу этого покусывания. У нее на нижней губе появился даже кровавый след от зубов. Ее глаза встретились с моими, и она тут же отвернула голову в сторону.
Ее профиль вполне годился для революционных плакатов времен Гражданской войны в Испании, которые рисовали великие живописцы прошлого века, сидя в соседней безопасной Франции. Там их разрывало между любовью к революции и любовью к абсенту. Сейчас плосконосая выглядела одновременно наивной и жестокой, как сама революция. Ее лицо во время движения то и дело наполовину оказывалось в тени. Но глаза оставались освещенными тусклой лампочкой. Их влажная чернота блестела одержимостью и силой. Как у заядлого кокаиниста. А, может быть, это так причудливо падал свет лампочки под потолком «тойоты». Такие девушки, подумал я, как правило, потом становятся символами великого прошлого. Но их настоящее обычно взвешивается на исторических весах, на одной чаше которых написано «победа», а на другой «смерть». И когда вот таких революционных Марианн однажды начинают ваять в камне, то кажется, что именно так они выглядят лучше всего. Наиболее естественно. Хотя это наглое вранье пропагандистов. Те, кто говорит, что такие женщины созданы для подвига, просто врут. Я-то знаю наверняка, что у них очень здорово получается любить в свое удовольствие. Плосконосая революционерка с легкостью доказала это в гостинице.
Хотя, доказала кому? Она просто получила на время мужчину, которого пришлось разделить с подругой. Причем сделала она это не оттого, что была развратна, а, скорее даже, из альтруистических соображений. Она понимала, что для ее товарки, которая была явно рангом чуть повыше, секс это тоже редкое и почти недоступное удовольствие. Революция влезла в их мозги, но она захватила и все остальное. Тело, душу, желания. И вот она, анархия забытых чувств, прорвалась наружу через меня, как нефть через металлическую трубу. Ну, а теперь, когда пар спущен, можно вернуться и на войну. К основной работе.
Она не заставила долго себя ждать.
В черноте зеркала заднего вида мелькнули два огонька, словно глаза ночного животного. В глаза мне ударила вспышка света, отраженного стеклом. Я повернул руль, следуя колее, которая постоянно меняла свое направление. Огоньки исчезли. Но через минуту появились вновь. За нами ехала машина. Я не знал, случайный ли это попутчик или же погоня, и на всякий случай посильнее нажал на газ. «Тойоту» тряхнуло на ухабе. Огни фар в зеркале дрогнули, но не сдались. У машины у нас на хвосте скоростные показатели были явно выше.
Я отчетливо слышал звук мотора. Это был мощный движок литра на три, достаточно хороший и для бездорожья, и для города. В городе он бы нас настиг за считанные секунды. А в джунглях мощность не главное. У нашей старой «тойоты» все еще были шансы уйти от погони.
Мои спутницы, ни слова не говоря, почти одновременно передернули затворы автоматов. «Клинг!» — зазвенел «калашников» на соседнем сидении. Спросил своего железного товарища: «Готов?» «Клинг-клинг!» — спокойно ответил его собрат из-за моей спины. Плосконосая, как мне показалось, перестала нервничать. Чувство ожидания опасности она переносила гораздо тяжелее, чем саму опасность. Опасность глядела на нас двумя острыми огоньками, которые с каждой минутой приближались все ближе и ближе. Я понимал — вероятность того, что незнакомая машина случайно оказалась на одной дороге с нами, была настолько смехотворна, что следует приготовиться к драке. Вопрос только, с кем драться? Это могли быть военные. Часовой на чек-пойнте очнулся от своей привычной летаргии, вспомнив что-либо такое о нашей машине, что вызвало в нем подозрение. Но хуже всего, если на хвосте у нас парамилитарес. Эти ребята, которых обычно нанимали крупные наркоторговцы для охраны своего бизнеса, рассматривали ФАРК как естественных конкурентов и не знали жалости ни к партизанам, ни к тем, кто их поддерживал. Если в первом случае у нас был выбор — смерть в перестрелке или плен и пожизненное заключение, то во втором выбора не было. Или мы, или они. Но что могли сделать мы, две девчонки с «калашниковыми» и я с двумя миллионами в грязной спортивной сумке.
Теперь она находилась в ногах у старшей партизанки. Та топталась по ней своими стройными ногами, пытаясь найти удобную позицию для стрельбы. Я поглядел на сумку, и мне почему-то стало любопытно, а сколько она сейчас весит. «Мене, мене, текел, фарес» Царствие твое обмеряно, взвешено... И — что там дальше, согласно библейской классике? Разделено? Да, кажется, именно такая надпись появилась на стене дворца Валтасара. Мое царство тоже разделено. Меньшая часть его находится в джунглях. Цена оставшегося мне полцарства два миллиона двести двадцать пять тысяч американских долларов. Мои владения сейчас ограничены узким салоном старой «тойоты лендкрузер». Моя армия в количестве двух солдат женского пола готовится принять бой. Похоже, последний. И я, со всей глупостью обреченного государя, стал задавать себе вопрос, на который не могло быть ответа: «И зачем меня сюда принесло?»
Плосконосая разбила прикладом заднее стекло. Осколки зазвенели, исчезая в темноте. В салон, через мое открытое окно ворвался сквозняк. Девушка стала на колени, ловко высунув ствол наружу. Она повернулась ко мне спиной. Ветер игриво задирал подол ее платья почти на голову, обнажая крепкие загорелые бедра. Она не обращала на это никакого внимания. Только резко уперлась правой ногой в спинку моего сидения. Я почувствовал ее каблук на уровне своей поясницы. Ощущение было такое, словно обшивку старого дивана пробила пружина. Причем, в самый неподходящий момент.
Ее подруга выкрикнула «нет». Это «нет» вылетело из ее рта так неуклюже, словно она вытолкнула это слово языком, но испанское слово еще пыталось цепляться буквами за белые зубы. А потом, сорвавшись, перескочило на плечи к ее подруге и охватило ее стальными объятиями начальственного приказа, не давая сделать и единого выстрела. Лицо плосконосой превратилось в злобную гримасу, как-будто ей стали выкручивать руки. Начальница стала торопливо бормотать своей подруге, погоди, мол, давай подпустим их поближе, авось, мы ошибаемся. Чтобы понять это, не нужно знать испанский. Ситуация говорила сама за себя. Пока еще преследователи были далеко от нас. А, значит, существовал один процент вероятности, что мы уйдем от погони без стрельбы. Ну, пускай даже не процент, а полпроцента.
Я так и не разобрал, кто первый открыл огонь. Сначала мне показалось, что в двигателе появился посторонний сухой треск. Так обычно начинает тарахтеть мотор «японца», когда проворачивается вкладыш на коленвале. После этого двигатель клинит. Я приготовился сделать резкий поворот вправо или влево. Если бы двигатель заглох, это могло дать нам шанс бросить машину и сбежать в лес. Но в следующую минуту треск стал слышен отчетливее, и его ритм передался мне через спинку кресла. Отдача, сообразил я. Моя спина добросовестно принимала все точки и тире отстрелянных очередей через правую ногу плосконосой, для которой я теперь был не больше, чем удобная опора. Она поливала прорезанную огнями темноту за разбитым стеклом «тойоты», и темнота отвечала ей красными плевками свинца и стали.
Я не знал, кем были люди в автомобиле, который пытался нас догнать. Это могли быть кокальерос, но это мог быть и армейский спецназ. Зачем мы нужны были им? Они, кажется, совсем не собирались взять нас живьем. От понимания этого очевидного факта становилось тоскливо. В какой-то момент время для меня словно остановилось, и я, мысленно взлетев над нашей машиной, увидел все с высоты птичьего полета, или, скорее, полета молчаливого тропического кровососа-паразита. Впереди, в старом драндулете, трое обреченных людей очень хотят жить, но шансов у них мало, только потому, что драндулет у них старый. Им настолько хочется жить, что чем меньше дистанция между преследователями и преследуемыми, тем быстрее испаряются различия между полами. Что такой «мужской» и что такое «женский», теперь уже неясно. Вот плосконосая, например. Всего несколько часов назад она была женщиной, самкой. А теперь она — боец, воин. Еще несколько минут назад я, уже пытавшийся освободить свое нутро от спазмов страха, все еще обращал внимание на стройные ноги ее спутницы. Ее начальницы. А теперь вот эти ложбинки и тонкие загорелые щиколотки уже не имеют значения. Рядом со мной командир. А я? Я сам? Кто я сейчас? Водитель, просто водитель. И спасение каждого из нас зависит от слаженной работы всех. Теперь мы экипаж.
«Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой,» — запел я во всю глотку, снова превратившись из безразличного кровососа, парящего над дорогой, в человека за рулем. Мы погибнем, думал я, нам кранты. Вот досчитаю до тридцати, рвану руль влево и дам по тормозам. Пусть они в нас врежутся. Но рвать руль не пришлось. Сначала в темноте за нами звякнуло стекло. Затем исчез один огонек в зеркале заднего вида, а через несколько секунд и другой. Наша «тойота» весело взвизгнула и добавила скорости. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы восстановить веру в себя и свои силы. Сзади послышался неимоверный грохот, как-будто бы с восьмого этажа сбросили старый телевизор, и он разлетелся, обсыпая окрестности шрапнелью радиоламп, эбонита и толстого стекла. Большая и неуклюжая тень замелькала в зеркале заднего вида. Плосконосая завалила врага.
«Стоп!» — закричала начальница и, крепко ухватившись левой рукой за ручку переключения скоростей, рванула ее в нейтральное положение. Я резко нажал на тормоз. Машина остановилась, развернувшись вокруг своей оси и перегородив дорогу. Девушка с лентой в волосах выскочила наружу, одновременно нажав на спусковой крючок. Автомат выплюнул новую порцию свинца. Стреляла она по-мужски. Нажимала на курок, вскидывая автомат из нижнего в горизонтальное положение. Самый эффективный способ стрельбы в том случае, если ты находишься на открытой местности, а противник в укрытии. Главное не уничтожить его, а не дать высунуть голову. Если в груде металлолома, в которую превратилась преследовавшая нас машина, еще есть кто-нибудь живой, то нужно в первую очередь не оставить им ни малейшего шанса вести по нам ответный огонь.
Я метнулся прочь от машины и спрятался за деревом. У меня не было ничего — ни автомата, ни пистолета, ни даже приличной дубины, — чтобы отбиваться от врагов. Но в этом уже не было необходимости. Я слышал, как в темноте кричала девушка, видел, как короткими красными огоньками вспыхивает ствол автомата. Пули со звоном прошивали автомобильную жесть. Этот звон долго вибрировал эхом в ушах, сливаясь со звуком очередного выстрела. Я закричал и бросился на свет автоматных вспышек. Воздух вокруг меня засвистел пулями, на лицо посыпалась древесная труха. Это девушка-начальница инстинктивно развернулась на крик, продолжая поливать из автомата окрестности.
«Итс ми, се муа!» — выдохнул я с глуповатым повизгиванием. Идентифицировал себя на всех известных мне языках. Автомат снова развернулся в сторону разбитого автомобиля.
Я подбежал к ней. Амазонка, расстреляв почти весь рожок, деловито тыкала ногой в груду металла. Железо потрескивало и ворчало невыключенным двигателем. Ни одного человеческого звука.
Глаза привыкли к темноте. Но рассмотреть, что находится внутри расстрелянной машины было невозможно. Под ногами хрустело стекло, в нос пробирался запах оплавленных проводов и резины. Не было ни фонарика, ни даже завалящей зажигалки. Где-то в заднем кармане у меня был мобильный телефон. Если не разряжена батарея, то есть шанс подсветить экраном. Я сунул руку в карман. Мой роуминг в Колумбии не работал, звонков не было, индикатор показывал почти полную зарядку батареи. Я раскрыл флип-топ. Экран засветился голубоватым светом. Девушка выхватила телефон у меня из руки и развернула его экраном в сторону груды металлолома. Пятно голубого света заметалось по искореженной поверхности. Сначала скупой луч выхватил из темноты решетку радиатора, потом помятую переднюю стойку и часть рулевой колонки. Лобовое стекло превратилось в сплошную паутину трещин, местами пробитую пулями. Со стороны водителя оно было совсем вырвано, оставив по периметру редкие осколки. Из-за руля, вывалившись на капот, выглядывала окровавленная рука. Амазонка передала мне автомат и потянула эту руку на себя. Я направил ствол на водителя. Он не подавал признаков жизни. Его лица я так и не увидел. Девушку оно тоже не очень интересовало. С руки она сорвала повязку, на которой красными нитками были вышиты буквы «AUC». Заглавные литеры, обозначавшие «Autodefensas Unidas de Colombia». Объединенные отряды самообороны.
«Парамилитарес?» — спросил я. «Парамилитарес,» — сплюнула амазонка на обломки джипа. Так в народе называли группы самообороны. Вот кто уж действительно воевал в Колумбии по-бандитски, так это парамилитарес. Они беспощадно уничтожали партизан и, самое главное, тех, кто их поддерживает. Не гнушались убийством стариков и женщин за малейшее подозрение в сочувствии ФАРК. Известен случай, когда бойцы самообороны сожгли целую деревню за то, что один из ее жителей, молодой совсем парень, случайно, сам о том не догадываясь, подвез на мотоцикле партизана. Подбросил его до соседней деревни. Официально армия не имела ничего общего с парамилитарес, а неофициально использовала помощь самообороны в качестве карательных отрядов. Деньги на войну парамилитарес добывали разными средствами. Но главным источником финансирования оставался кокаин. А где здесь, в джунглях, еще можно раздобыть настоящие деньги? Так что ФАРК и «парас» были не просто идеологическими врагами, а, что гораздо серьезнее, прямыми конкурентами. Только что я стал свидетелем того, какие формы в джунглях Колумбии принимает конкурентная борьба. Просто бизнес. Ничего личного. «Вамос а ла камьонетта,» — кивнула мне девушка. Она ничего не знала о моем ночном разговоре с пилотом Крукоу. А я, как только увидел эту повязку с красными буквами, сразу догадался о том, откуда они получили информацию о нашем присутствии в Мокоа. О моем присутствии. Но и она теперь понимала, что сумасшедшая поездка в город была ошибкой. За которую ее строго накажут. И если нас не убьют этой ночью на дороге, то на следующий день де Сильва отдаст приказ расстрелять ее за нарушение приказа.
Я отдал ей автомат и пошел в сторону нашего автомобиля. На мгновенье за мной повисла напряженная тишина. Девушка очень хотела разрядить мне в спину всю обойму. Я не остановился. Ноги мои ритмично шуршали по глинистой дороге. Короткий бой длился минуты четыре, от силы, пять.
В машине стоял запах свежей крови. Плосконосая стонала в темноте. Лампочка под потолком погасла. Какого хрена! Она предательски светила всю дорогу, а тут вдруг погасла. Как раз тогда, когда ее свет понадобился больше всего! Я со злости стукнул по ней. Она мигнула пару раз и, наконец, решила заработать.
Плосконосая была на заднем сиденье, ко мне спиной. Ее левая нога была согнута в колене. Подол платья задрался почти до пояса. Одна рука лежала на цевье автомата, другая безвольно и неестественно согнулась на сидении. Настолько неестественно, что мне стало неудобно на нее смотреть. Я сразу понял, что ее крепко зацепило и что дело почти безнадежное. Насколько может быть безнадежным дело человека, у которого в спине выходное отверстие от пули калибра семь шестьдесят два. Из дырки, не переставая, сочилась кровь. Под девушкой уже собралась большая липкая лужа.
«Хей!» — крикнул я в темноту.
«Ке пасо, гринго?» — получил оттуда вопрос. Мне нечего было ей ответить.
«Лидия!!!» — закричала командирша, увидев подругу. Вот как! Плосконосую, оказывается, звали почти по-русски. Лидия.
Девушка едва повернула голову в нашу сторону. Она ничего уже не могла говорить. Ее тело было охвачено мелкой дрожью. Левый бок аритмично поднимался и опускался при каждом неровном вздохе. Начальница подсунула руку под голову Лидии и чуть повернула ее на себя. Раненая девушка тихо застонала, заскулила, и посмотрела на подругу грустными глазами преданной собаки. На губах у Лидии появилась красноватая пена, потом капля крови сорвалась вниз, потянув за собой по подбородку блестящую пурпурную дорожку.
Две пули попали ей в грудь и прошли через нее навылет. Если бы Лидию немедленно доставить в госпиталь, то, возможно, ее еще можно было спасти. Но здесь у нее не было шансов. До самолета еще ехать и ехать. Даже если жизненно важные органы не задеты, то она может погибнуть от потери крови. Судя по тому, как неровно она дышит, у Лидии пробито легкое.
Вторая девушка не хотела терять надежду. Она толкнула меня к рулю. Сама осталась с подругой на заднем сиденье. «Вамос!» — скомандовала она. Я рванул рычаг. Машина дернулась и двинулась вперед. Мне хотелось поскорее уехать с места этого непредвиденного боя. Девушка прижала к себе голову подруги и что-то шептала ей в волосы. Она покачивалась в ритм своим словам, и мне показалось, что она читает стихи. Я думал о выходных отверстиях в спине раненой партизанки. Если они вышли из ее спины, то куда-то потом обязательно должны были войти. Как раз за спиной плосконосой было водительское сиденье. Значит, в конечном итоге пули должны были оказаться в спине у водителя. Я, как водитель, облегченно осознавал тот факт, что ничего в мою спину не попало. Не могли же пули раствориться, исчезнуть. Надо повнимательнее осмотреть машину при первой же возможности.
Лидия затихла на руках у своей подруги. Та качала ее, уткнувшись носом в черные волосы Лидии. Я не видел ее губ, но мне показалось, она продолжала шептать какие-то стихи. Поворачивая назад голову, я время от времени встречался с ее взглядом. Она не видела меня. Она смотрела сквозь меня, вперед, на ночную дорогу и дальше, еще дальше. Я понял, что она повторяет одну и ту же молитву. Возможно, единственную, которую помнила с детства и не забыла в своих партизанских джунглях.
А потом она перестала шептать. Я остановил машину и вышел. Девушка молча держала свою подругу в объятиях. Смысла торопиться уже не было. Я отошел в сторону леса. Влажный и гнилой запах джунглей едва не разорвал мои легкие. Я вернулся к машине и открыл заднюю дверь. Мне нужно было осмотреть спинку моего сиденья. Я быстро нашел то, что искал. К алюминиевой раме водительского кресла словно приклеился твердый комок металла. Он напоминал незаметно оставленную использованную жвачку. У сплющенной массы был острый нос, он на несколько миллиметров вошел в раму. Я отодрал металлическую жвачку от рамы. В ней осталась небольшая дырка. Другую я нашел в гофрированной муфте на коробке передач. Пуля осталась где-то там внутри прорезиненной муфты. Удивительно, что я не почувствовал ни удара, ни даже малейшего толчка. Я подбросил пулю на ладони. Она точно была бы в моей спине, если бы на заднем сидении было пусто. Но во время боя там сидела плосконосая партизанка Лидия, которая прикрывала меня. В самом прямом смысле.
Я еще раз подбросил пулю вверх и, поймав, с силой запустил ее в темноту. Сначала хотел оставить ее себе в качестве сувенира, но потом решил выбросить. Не потому что боялся. У людей войны есть свои странные приметы и правила. Одно из правил гласит: «Никогда не таскай с собой пули, пролетевшие мимо тебя, они притягивают другие.» Я не боялся новых пуль, мне просто стало неприятно оттого, что этот кусок железа, столь неромантично похожий на изжеванную резинку, прошел через тело женщины, с которой мне было физически хорошо еще несколько часов назад. В которую кончал мой член. В которую я входил всеми возможными частями своего тела, и мне было хорошо, и ей было хорошо. А этот тупой ничего не стоящий металл легко вошел в нее, — легче, чем я, прошил ее навылет и даже не заметил этого, ну, разве что, немного снизил скорость и уперся в такое же тупое железо. Его некогда совершенная аэродинамическая форма тут же потерялась, размазалась и расплющилась о спинку водительского сиденья.
«Смерть за один доллар,» — вспомнил я конъюнктуру рынка. В то время цены на боеприпасы немного поднялись. Патрон семь шестьдесят два на латиноамериканском рынке стоил уже не меньше доллара.
Не глядя на девушку, я захлопнул заднюю дверь и сел на свое место. Куда ехать? Двигаться можно было только вперед. Я снова надавил педаль. Сколько же раз за сегодняшнюю ночь я нажимал на газ. Ехал вперед и снова останавливался. Выходил из машины и снова садился за руль. Это была очень длинная ночь. Но и она должна была когда-нибудь кончиться.
Через полчаса я увидел покосившиеся металлические ворота с распахнутыми настежь створками. За ними было открытое пространство, ограниченное с правой стороны рекой, а с левой ровной лесополосой. Что было в конце лесополосы, я не разглядел. Туда свет фар не добивал, он только выхватил из темноты некий агрегат с крыльями, стоявший невдалеке от деревьев. Это и был самолет, ожидавший меня. Джип въехал в ворота. Этот аэродром выглядел не так, как тот, на который я приземлился. Но я-то прилетел в Колумбию днем, а сейчас была ночь. И я списал несходство на ночное время.
Чем ближе я подъезжал к самолету, тем больше понимал — это не совсем тот аэроплан, который доставил меня сюда. Вернее, совсем не тот. Возле самолета суетился человек. Он показался мне очень знакомым. Когда мы въехали на аэродром, человек сидел возле шасси, к нам спиной. И я узнал эту спину. Человек, заметив нас, приподнялся. Развернувшись, он прикрыл глаза одной рукой от света фар, а другой приветливо помахал. Это был Крукоу.
«Это же надо так влипнуть!» — вполголоса сказал я, а про себя удивился, почему Крукоу оказался на нашей площадке.
Джип затормозил возле пилота. Первой из машины выскочила моя спутница. Она, ни слова не говоря, ткнула автоматом в живот пилоту. Упругое брюхо вогнулось внутрь, ткань рубашки натянулась так сильно, что, кажется, пуговицы на ней уже собирались оторваться. Крукоу поднял руки. Он изумленно хлопал глазами. Этот парень был явно не готов к тому, чтобы увидеть тут партизанку. Еще больше его глаза округлились, когда из машины вышел я, собственной персоной.
Но пилот решил пока не задавать вопросов. Я втащил в самолет тело Лидии. Потом закинул сумку с долларами. Крукоу был уже на командирском месте. Сначала он включил один двигатель, потом второй. Пропеллеры весело рассекали утренний воздух. Подруга Лидии сидела за спиной Крукоу, приставив автомат к его затылку, солидно украшенному тремя поперечными складками. Каждый раз, когда пилот откидывал голову назад, он больно цеплялся складками за компенсатор на стволе и недовольно покачивал головой. Но вслух недовольства не высказывал.
Я загнал нашу верную «тойоту» в просеку между деревьями. Залез в самолет и сел рядом с партизанкой. Крукоу чуть отдал штурвал от себя. Самолет двинулся вперед, навстречу багровому рассветному солнцу. «Куда летим», — задал летчик свой первый вопрос. «В сторону границы,» — ответил я, перекрикивая шум мотора. А девушка резко сказала ему что-то на испанском. Крукоу кивнул. Колеса шасси оторвались от грунтовки, потом на мгновенье снова коснулись земли, чтобы окончательно оттолкнуться вверх. Линия горизонта исчезла и появилась перед нами только тогда, когда самолет набрал высоту. Зеленая линия, уходящая в белый туман. Зеленое поле джунглей внизу тянулось на тысячи километров. Наша взлетка моментально потерялась среди деревьев. Зато хорошо заметна была Путумайо. Ее рукава тянулись вдаль, в направлении Амазонки, а тяжелая коричневая вода поблескивала волнами всякий раз, когда ловила в них отражение лучей красного утреннего солнца. Я смотрел на «зеленку» внизу. Река, выбирая самый легкий путь, прорезала в джунглях причудливую извилистую трассу. Стена леса вдоль русла была настолько высокой и плотной, что местами не пропускала солнечный свет, и листья деревьев казались такими же коричневыми, как и вода Путумайо.
«А ты наврал мне, Ричард,» — весело крикнул я в ухо пилоту.
«Что?» — удивленно переспросил меня Крукоу.
«Я говорю, наврал ты мне про Эмбрайер». Самолет у него и впрямь был попроще. Совсем непохожий на комфортный бразильский бизнес-джет стоимостью семь миллионов долларов. Крукоу отвел взгляд в сторону приборов. Ему сейчас было вовсе недосуг вспоминать о том, что еще он мне наговорил в Мокоа.
Ричард довольно уверенно вел машину, учитывая его состояние. На самом деле он прекрасно понимал, в каком переплете оказался. Когда самолет набрал высоту, я вкратце объяснил ему его положение. Мы летим в соседний Эквадор. Площадку, на которую будем садиться, не знаем. Вернее, знания о месте посадки у нас имеются, но весьма неполные. Я помню название ближайшего городка, откуда меня привезли на аэродром. Девушка, насколько я понял смысл ее лаконичного разговора с пилотом, пообещала ему на себя взять функции менеджера и уладить все возможные конфликты, если людям, которые будут нас встречать, присутствие Крукоу покажется подозрительным и даже не очень желательным. «Не бойся,» — хлопнула она его по плечу. Но он все-таки боялся. Понимал, что там, где нас будут встречать, чужие глаза не нужны. А он и был чужим.
Пока мы летели, Крукоу рассказал нам, что ждал совсем других людей. Ему приходилось дублировать свой рассказ на испанском. Я не говорю на испанском, но мне показалось, что перевод был раза в два короче оригинала. Впрочем, этого было достаточно, чтобы девушка поняла, в чем было дело. Почему нас обстреляли по дороге. А дело обстояло следующим образом. Сразу же после нашего разговора Крукоу получил от хозяев срочную команду отправиться на аэродром в джунглях и готовить самолет к вылету. Появился срочный заказ перебросить на север пару центнеров «паста баса», промежуточного сырья для производства кокаина. Груз должны были подвезти несколько парней из Колумбийской Самообороны. Они же, эти бойцы парамилитарес, и были владельцами груза. Вылет был назначен на предрассветное время. Крукоу уселся за руль с изрядно насыщенной алкогольными парами головой и поехал на аэродром. Из-за перегара его, конечно, прав бы не лишили, но могли изрядно попортить нервы и задержать. А время было дорого. Крукоу знал и другую дорогу к аэродрому. Она вела через топь, но зато была в два раза короче и на ней не было солдат. У Крукоу был такой же старый «лендкрузер», как и у нас. Только наш с белой крышей, а он свою машину покрасил в красный цвет. На глинистой колее он оставлял следы, которые были точь в точь, как наши. Когда девушки приказали мне поворачивать налево, они ориентировались именно по этим следам, которые привели нас на аэродром в джунглях. Правда, не наш, а чужой. Я бы даже сказал, вражеский. Мы просто ошиблись дорогой.
Хозяева груза были уверены, что по дороге неприятные сюрпризы исключены. Аэродром был заброшен. Армейские патрули сюда не заходили. Каково же было удивление парамилитарес, когда перед своим носом они увидели нашу «тойоту». Сначала они было подумали, что это колымага пилота. Но потом наверняка сообразили, что ошиблись. И поддали газку. Нужно же было проверить, кого это несет среди ночи на их аэродром. Мы, понятное дело, заподозрили погоню. Парамилитарес не понимали, почему это мы от них удираем. Когда боевики чего-то не понимают, они сначала стреляют, а потом начинают думать. Вот они и открыли огонь. Мы им ответили. Все остальное вы уже знаете. До моей спутницы дошло, наконец, что Лидия погибла из-за ее ошибки. Она уставилась в одну точку и добела сжала свои губы. Но ей не стоило мучить себя. По большому счету, все это произошло из-за внезапного сумасшедшего желания рвануть в Мокоа и заняться сексом с незнакомым мужиком. Это желание сначала возникло у Лидии, а вовсе не у ее старшей подруги.
ГЛАВА 19 — ЭКВАДОР. УТРО ПОСЛЕ МОКОА
Машина приземлилась через полтора часа. Нас уже встречали те самые люди в штатском, которые меня провожали перед отправкой в Колумбию. На грунтовой взлетке, похожей на ту, с которой мы совсем недавно поднялись, стояли три автомобиля. Меня вместе с моей драгоценной сумкой тут же усадили на заднее сидение большого бежевого «субурбана». Водитель неспешно тронулся с места. Я повернул голову и увидел, как из самолета выносят, поддерживая за ноги, Лидию. Левая рука девушки болталась, как плеть, почти что касаясь пальцами коротко стриженой травы. Ее подруга устало сидела возле шасси самолета, крепко обхватив колени. Рядом с ней стоял Крукоу, вытирая руки о тряпку. В его монотонных движениях была какая-то обреченность. Ну, что тут сделаешь, попал в гости к врагам. Я попросил водителя остановиться. Тот нажал на тормоз и выключил передачу.
Я вышел из машины вместе со своей сумкой. Широко шагая, двинулся к этим двоим. Подошел. Присел на корточки рядом с девушкой.
«Тебя как зовут?» — спросил я ее по-английски. Она посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Крукоу перевел мой вопрос на испанский.
«Долорес,» — произнесла она в ответ. Я расстегнул сумку, сунул туда правую руку и достал плотную зеленую пачку.
«Держи, Долорес,» — сунул я ей деньги. Потом подумал. Взял еще один брикет долларов в левую руку и протянул пилоту.
Девушка поднялась и посмотрела на пачку в своей руке. Я тоже встал. Долорес аккуратно положила доллары в мою раскрытую правую ладонь. Потом, стоя на месте, повернулась вполоборота и, распрямив свое тело, как мощную пружину, залепила мне звонкую пощечину. Я даже оглох на мгновение от боли и от удивления. А еще больше я удивился, когда Ричард Крукоу, грустно улыбаясь, отодвинул в сторону мою левую руку, в которой лежала пачка долларов, предназначенная ему. Я страшно разозлился. Я не понимал, почему они отказываются от моей щедрости. Ну, и хрен с вами! Плюнув в сердцах на грунтовку, — будь она неладна, — я повернулся к ним спиной и двинулся в сторону «субурбана». Доллары засунул в брюки. Пачки денег не влезли в тесноватые карманы и предательски торчали в разные стороны. Краем глаза я заметил, как тело в красном платье погрузили в багажное отделение такого же, как мой, огромного джипа и захлопнули заднюю дверь.
Я подумал, что Долорес обиделась из-за секса. Ей показалось, что я расплачиваюсь за любовь. Хотя я хотел отблагодарить ее за жизнь, которую она мне спасла. Ну, что ж, я был неправильно понят, такое бывает. Но для меня было полнейшим сюрпризом, что деньги не взял Крукоу. Почему? Я думал над этим всю дорогу, пока меня везли в нормальный международный аэропорт с бетонной взлетной полосой, паспортным контролем и прохладными магазинами системы «duty-free», в которых улыбающиеся продавщицы мягко и уважительно берут из рук карточку Виза.
До аэропорта было часов восемь езды. По дороге мы сделали остановку. Дорога упиралась в реку, через которую туда-сюда ходил медленный паром. Хочешь-не-хочешь, а остановиться пришлось. Перед нами была небольшая очередь. Всего две машины, два грузовых «доджа». Тот, который стоял первым, еще походил на автомобиль. Второй грузовик был почти дотла изъеден ржавчиной. Сквозь рваные дыры на теле железного трудяги виднелись черные, залитые смазкой внутренности. Этот «додж» напоминал заядлого курильщика-шахтера с черными от табака и угольной пыли легкими. Врачи ему советуют лечь в госпиталь. Но тот упорно продолжает спускаться в шахту, потому что надо вкалывать, кормить семью и тянуть свою шахтерскую лямку. Грузовик тоже тянул свою лямку, работая на семью индейца, сидевшего за рулем.
Паром подтянулся к нашему берегу. Он представлял собой обрезанный наполовину поплавок понтона, к которому несколько несуразно, как-то сбоку, был приварен трактор. Без колес и кабины, но с сидением и рычагами. Мотор трактора приводил в движение не колеса, за неимением таковых, а лебедку, на которую наматывался протянутый с берега на берег трос. По этому тросу, как по рельсам, и ходил туда-сюда железный понтон. Как только паром загружался, в седло трактора усаживался паромщик. Известив пассажиров протяжным криком об отправлении, он с треском заводил свой агрегат.
На поплавок заехал первый «додж». Он занял почти все свободное место. Но второй грузовик тоже попытался пристроиться. Водитель заехал на понтон передними колесами. Один конец поплавка ушел в воду и тут же вынырнул. Понтонщик закричал на водителя ржавого «доджа». Тот сдал назад, выскочил из машины, хлопнул, что было силы, дверью и плюнул на дорогу. Это был невысокий, голый по пояс индеец. В кузове у него было человек семь пассажиров, все больше средних лет мужчины, с коричневой кожей и каменными морщинистыми лицами. Один из них встал, вылез из кузова и подошел к водителю. Они заговорили, и водитель стал раздраженно размахивать руками, периодически показывая в сторону уходящего парома. Пассажир покачал головой и, улыбнувшись, произнес короткое слово, которое я не разобрал. Но даже если бы и разобрал, все равно бы не понял. Эти места были настолько дремучие, что далеко не все индейцы здесь знали испанский. А уж тем более английский.
Это слово успокоило молодого индейца, он перестал размахивать руками и улыбнулся. Я спросил свой эскорт, можно ли мне подышать воздухом. Смуглый брюнет, слева от меня, снял темные очки и вопросительно посмотрел на своего начальника на переднем сидении. Бритый затылок передо мной утвердительно качнулся. Можно, пожалуй. Я вышел и постарался незаметно решить две волновавшие меня проблемы. Отклеить липкую мошонку от ноги. И засунуть поглубже деньги. Обе проблемы я решил одним махом. Вернее, одним приседанием разминающего затекшие ноги пассажира. Это мне легко удалось. При движении вниз в моих джинсах появился простор для моих гениталий. При движении вверх мои руки все же запихали доллары прочь от чужих глаз. Правда, оба кармана по-жлобски вздулись. Ну и что, пусть ломают голову, что я в них держу. Но мои ухищрения не остались незамеченными. По крайней мере, для одного человека.
Старик с коричневым и неподвижным, как камень, лицом смотрел на меня из кузова «доджа». Он поднял правую руку и жестом подозвал к себе водителя. Тот мигом подскочил к заднему борту машины. Старый индеец что-то сказал своему молодому соплеменнику на незнакомом мне языке. Водитель обернулся. Его глаза нерешительно встретились с моими. Старик в «додже» повелительно повысил голос. Тогда молодой индеец вздохнул и двинулся ко мне.
— Абла еспаньоль? — спросил он, подойдя поближе. Роста он был небольшого и на меня смотрел чуть снизу.
— Ноу, онли инглиш, мэн, — грубовато ответил я.
— Хорошо, — перешел индеец на английский. Это меня немного удивило. — Мой дед просит Вас подойти к нему на минутку.
— А не соизволит ли твой дед подойти ко мне сам?
— Нет, — замотал головой водитель. — Он уже год как не ходит, что-то с ногами.
— Ну, ладно, — пожал я плечами и пошел к машине. Мои спутники никак не отреагировали на разговор с водителем. Значит, никакой опасности здесь не было. Ни для меня, ни для моих денег.
— Чего надо? — грубо спросил я старика.
Тот чуть наклонился и, положив руку на борт «доджа», выговорил длинную клокочущую фразу на индейском наречии. Даже по звучанию было понятно, что с испанским этот язык не имеет ничего общего. Водитель стал торопливо переводить:
— Мой дед просит своего младшего брата быть поосторожнее на том берегу реки. Не нужно дразнить своих старших братьев зеленым мусором, которым набиты его карманы.
Для меня тирада не имела никакого смысла. Она напоминала подстрочный перевод в интернете. Я все же решил задать наводящие вопросы.
— А кто такой «младший брат» твоего деда?
Водитель глупо и виновато хихикнул:
— Это Вы.
— Я?
Мое лицо, видимо, настолько вытянулось, что водитель тут же испугался. И затрещал скороговоркой:
— Что Вы, что Вы, дед не хотел вас оскорбить. Это у нас так называют белых людей. Буквально «младшие братья».
— Какого хрена? — я начинаю злиться на этого малоподвижного старца и его бойкого родственника.
Молодой индеец быстро перевел мой вопрос деду. Тот с укоризненной улыбкой посмотрел на своего внука, или кто его знает, кем он приходился пассажиру, потом едва взглянул на меня и, закрыв глаза, начал произносить ворчливые слова. Слова были длинными, нудными и незнакомыми, как автомобильная пробка в чужом городе.
— Вот что говорит мой дед, — сказал водитель. И тут же добавил перед переводом: — Только Вы не обижайтесь, у нас старики говорят то, что думают.
— Ну, ладно тебе. Чего там твой дед сказал?
— Сказал, что индейцы, — то есть, мы, — подстраиваются под природу, которая нас окружает. А белые, — то есть, вы, — наоборот, пытаются окружающую природу подстроить под себя. Это у вас не получается. А вы все равно упрямитесь. Как малые дети. И не слушаете старших братьев. То есть нас.
Звучало красиво. Хотя и оскорбительно. На этом можно построить новую расовую теорию и загнать всех бледнолицых в резервации. Что-то похожее я вскоре услышу в Африке, в деревне Баба, от старика Гриссо, который будет лечить моего друга Григория галлюциногенами и барабанным ритмом. «Великая мудрость в этих словах!» — сказал бы какой-нибудь бородатый пожилой сноб из «Гринписа» за жестяной банкой пива. Мудростью тут и не пахло. Единственное, что сквозило в словах индейского старика, это самоутверждение угнетаемого меньшинства, отрезанного от благ цивилизации. Надо же и аборигенам чем-то гордиться. Вот и гордятся. Например, тем, что живут без света, добывают огонь трением и считают грузовой «додж» родственником вьючного мула. Но что там старик промямлил про зеленый мусор и опасность на том берегу?
— А деньги Вы получше спрячьте. То, что увидел один, увидит и другой. — сказал водитель «доджа».
— Это дед сказал?
— Нет, это я говорю. Наши люди очень, очень мирные. Но иногда они словно сходят с ума. Особенно, когда видят доллары. Могут их отобрать. И даже зарезать за деньги.
Я внимательно посмотрел на парня. Чуть сутулый. Узловатые суставы, как шарниры, соединяли части его худых рук, плетками висевших вдоль смуглых ребристых боков. Ребра ровно поднимались и опускались под кожей при каждом вдохе и выдохе. Худоват для бандита, конечно. Но внешность бывает обманчива. Вон у него какие ладони здоровые. И мышцы, хоть и небольшие, но рельефные и явно твердые, как камень.
— Пугаешь? Бесполезно. У меня в машине двое с автоматами и один с пистолетом. Не надо с нами связываться.
— Нет-нет, я никого не пугаю. Люди у нас и впрямь очень хорошие. Накормят и напоят, если нужно. За бесплатно. Только не показывайте им доллары. Ваши деньги их очень, очень испортили. Они никак не могут понять, почему у белых денег много, а у индейцев мало.
Я хотел ему сказать, что знаю немало черных, желтых и коричневых людей, у которых денег больше, чем у белых. Но промолчал. Только смешок вырвался у меня, маленький и завистливый, как низложенный Наполеон. В спортивной сумке, где тряслись мои миллионы, было достаточно просторно. Вместе с деньгами там могли уместиться и зависть к богатым, и презрение к бедным, и планы, достойные самого Наполеона.
— Так что же делать с деньгами? Куда их засунуть? — спросил я, скорее, себя самого вслух. И сам себе мысленно предложил, в какое отверстие их лучше всего засунуть. Бабушка моя, верная сторонница Ленина, что не мешало ей быть склонной к язычеству, часто поучала свою дочь, мою маму: «Все можно делать с деньгами, швыряться и сорить, тратить на рэстораны», — она именно так и произносила это слово с уважительным и протяжным, широким «э». — «Но нельзя говорить плохо о деньгах, если хочешь, чтобы они у тебя были.»
Я не говорил плохо о деньгах, но я о них плохо подумал. Индеец тут был ни при чем. Он перешел на местное наречие и перевел мой вопрос старику. Тот кивнул и задумался. Стал неподвижным, как медитирующий брахман. Потом внезапно вышел из состояния нирваны и протянул ко мне свою морщинистую руку. Ладонью вверх. Он говорил долго и проникновенно, и его внук, или кем-он-ему-приходился, не поспевал за стариком со своим синхронным переводом.
— Мы готовы взять ваши деньги на хранение, пока вы будете ехать по территории племен. Мы будем сопровождать вас до самого города. Вы можете смело доверить нам свои доллары. Мы будем следить за ними очень внимательно. Мы гарантируем, что с индейцами по дороге не будет проблем.
Ну, вот, что и требовалось доказать! И здесь обычное мелкое мошенничество с легким оттенком местного колорита. «Дай деньги, белый», — именно в этом смысл всех туземных умствований и философствований. «Старшие братья», «младшие братья», «деньги это мусор», выбросьте его прочь, лучше, конечно, в нашу сторону. Я молчал и глядел в глаза старику. Аргументы у старого индейца закончились, но рука, повернутая ладонью вверх, все еще, мелко подрагивая, тянулась в моем направлении. Мне показалось, — хотя и не берусь утверждать, — что под моим взглядом он даже привстал и отодвинулся от меня. От него даже повеяло какой-то цыганщиной. Дальше вести разговор не было смысла.
Тем временем к нашему берегу уже возвращался плавучий трактор. Я ни слова не говоря развернулся и пошел к «субурбану». Водитель «доджа», быстро сообразив, что ничего из меня он не выжмет, уселся на свое потертое сиденье. Хрипло засвистел стартер «доджа», машина забилась в конвульсиях и нехотя завелась. Парень нажал на педаль. Машина дернулась по направлению к понтону, который уже начал швартоваться. Дед в кузове все еще тянул свою коричневую ладонь. Он, видимо, считал, что я пошел в свою машину за остальными деньгами. А я, захлопнув за собой тяжелую дверь, сказал своему эскорт-сервису: «Нужно объехать этот „додж“, мне не нравятся эти парни.» Мои спутники не умели много говорить. И, пожалуй, еще меньше умели думать. Их задача была проста и понятна. Обеспечить безопасность и доставку пассажира.
«Окэй!» — сказал водитель и рванул с места так, что меня вдавило в спинку моего сидения. «Субурбан» выехал на обочину и, сделав петлю, подрезал ржавый «додж». Тот едва не уткнулся в наш правый борт. Один из охранников приоткрыл окно и посмотрел на водителя «доджа». Взгляд его был короткий, но очень внимательный, и, главное, убедительный. Понятливый индеец тут же надавил на тормоз. Первыми на ребристую поверхность поплавка заехали колеса нашего «субурбана». После того, как длинное тело автомобиля устроилось поудобнее, на пароме уже не оставалось места не то, что для машин — для остальных пассажиров. Паромщик подошел к нам. Водитель кинул ему мятую купюру. Тот кивнул и, усевшись на сиденье трактора, грозно крикнул «Вамос» и махнул рукой. Агрегат затарахтел и, выпустив целое облако вонючего дизельного дыма, принялся наматывать трос на барабан лебедки. Я вышел из машины на ребристую поверхность понтона и увидел, как на берегу полуголый водитель, размахивая длинными руками, гневно кричит на старика в кузове грузовика. Слов я не слышал. Их заглушал рокот нашего парома. Зато до самого конца нашей речной прогулки я наблюдал, как нескладные руки рассекали воздух. Этакие руки-лопасти ветряной мельницы, перемалывающей тонны слов в бесполезный ветер.
До аэропорта оставалось всего пару часов пути, когда я вспомнил, что ничего не ел со времени секса в Мокоа. Я попросил моих охранников остановиться. Они переглянулись и вопросительно кивнули друг другу. «Есть. Я хочу есть, ребята,» — сказал я им, подкрепив сказанное выразительными жестами. Они оба снова кивнули, теперь утвердительно, и приказали водителю остановиться возле ближайшей харчевни. Наш «субурбан» как раз проезжал через небольшой безымянный поселок. Домики с плоскими крышами прятались в придорожной сельве. Людей нигде не было видно, но зато хорошо была слышна музыка, доносившаяся из динамика. Я узнал песню. Это был Карлос Пуэбла. Его знаменитая «Hasta Siempre, comandante». Песня про Эрнесто Че Гевару. Песню я любил. А ее герою завидовал. У него была конечная цель маршрута. Я же болтаюсь по этой жизни, как шлюпка по морю, сорвавшись с борта корабля. «Hasta Siempre» это что-то вроде прощания. Ближайший английский эквивалент «farewell», немного грустное слово, но вовсе без трагичного оттенка. Сказанное с любовью. Услышав пронзительный голос Пуэблы, я поглядел на своих спутников. Вот эти уж точно ни о ком не скажут «Hasta Siempre». Ни о Маруланде, ни обо мне. Даже если бы я навсегда остался на той стороне. Вместе с Крукоу, деньгами и партизанщиной. И девушкой по имени Долорес, которая на целую ночь отдала мне свою любовь. Послушай, а кто бы вообще в такой ситуации пожалел о тебе? Заплакал бы над твоей фотографией? Твои пилоты? Если вдруг ты исчезнешь, они будут первыми, кто отправится в суд воевать за недоимку и страховки. А потом, не получив ничего, рванутся к журналистам раскрывать обществу правду о торговле оружием. За гонорары. Да и чего мне от них другого ожидать? Пилоты знают, что мои самолеты летают на честном слове. И сами они почти что смертники, без права на выбор. Друзья? У меня давно нет друзей, одни партнеры. Разные люди есть среди них. Одни меня обманывают, другие ведут себя честно. Но и для первых, и для вторых важно только одно. Чтобы мой бизнес исправно функционировал, и я сполна рассчитывался. Остальное их почти не волнует. Мама? Вот кто мог бы по-настоящему заплакать. Но ее хватил удар много лет тому назад, и она даже не знает, что я каждый год отправляю солидное вознаграждение врачу за то, чтобы он следил за аппаратом искусственного дыхания, к которому она подключена. И санитарке, за то, что она содержит в чистоте незнакомую женщину в коматозном состоянии. А о Че Геваре плакал не только Пуэбла. Вместе с ним Farewell говорили миллионы. Мои же миллионы хоть и зеленого цвета, но это был цвет гнили, а не жизни.
Но желудок подсказывал мне, что я вполне живой человек. Музыка доносилась из открытого кафе. Тонкая жестяная крыша на четырех подпорках, деревянные столики и печка, на которой дымилось варево. Песня Пуэблы доносилась именно отсюда. Над печкой висел тот самый динамик, из которого кубинец клялся в любви к аргентинцу. Кстати, такое строение по-испански называется каламина, жестянка. Это слово я знал, потому что именно такое имя Че дал своей партизанской базе в Боливии. Странное совпадение. Мы сели за ближайший к дороге столик, чтобы видеть наш «джип». Водитель остался в машине. К нашему столику подошли две беспородные собаки и, развесив лохматые уши, стали внимательно смотреть на нас. Они не надоедали своим присутствием и выглядели довольно упитанно. Собаки, похоже, не собирались попрошайничать. Наша грядущая трапеза, скорее всего, была для них просто зрелищем. Если где-нибудь и откроют собачий театр, то успехом в нем будут пользоваться пьесы, в которых актеры все время едят, лучше, если подольше и без антракта. Словно из воздуха, появился официант и предложил нам меню. Оно, к моему счастью, было на двух языках. Испанском и английском. Пролистав засаленные листы картона, я заметил название «Жаркое из тапари». Что такое «тапари», я не знал. Но звучало название животного заманчиво и почти знакомо. Почти что как «тапир». Из школьного курса биологии я помнил, что тапир это дикая тропическая свинья. Вот и славно. От куска жареной свинины я бы не отказался. Я подсунул меню бодигарду и ткнул в наполовину знакомое слово пальцем. Тот довольно скривил губы и, подняв указательный палец, промычал «О-о-ооо!» Я понял, что «тапари» это о-о-очень хорошо, и вторично ткнул пальцем в название блюда, но уже под носом официанта. Пожилой кельнер в белой грязноватой майке одобрил мой выбор, но вместе с тем начал озабоченно тараторить на испанском. Охранник перевел мне, что, мол, целого тапари я не съем, зверь тянет на две порции. «Хорошо,» — сказал я охраннику, — «давай поделим пополам.» Здоровяк в темных очках кивнул. Официант явно не соблюдал правила субординации. Первую порцию тапари с гарниром из жареной картошки он принес моему конвоиру. Задняя половина неизвестной мне животины лежала сверху желтых крахмальных ломтей. Она была аппетитно подрумянена и очертаниями действительно напоминала зад откормленной свиньи, только уменьшенной до размеров кошки. Охранник ткнул вилкой в дикую свинину, — каковой мне казалась наша еда, — но начал трапезу не с нее, а с картошки. Через несколько секунд принесли и мою порцию. Она ароматно пахла острыми специями. Я подтянул к себе тарелку и развернул, ожидая увидеть пятачок и свиные уши. Но вместо миниатюрного рыла передо мной оказался острый нос и зубы грызуна, торчавшие из полуоткрытого рта. А с вершины картофельной горы свисали передние лапки с небольшими когтями. «Это крыса?» — забулькали у меня в горле слова вперемежку с желчью. «Ну, да, сеньор,» — сказал старший охранник, пережевывая хрустящую кожицу, которую он ловко поддел своей вилкой и отправил в рот. — «Водяная крыса, в этих местах ее много.» Он еще не успел закончить свою фразу, а меня уже скрутили спазмы. Мои внутренности стали сжиматься, и я был не в силах контролировать этот процесс. Конфуза удалось избежать лишь благодаря тому, что в моем желудке ничего не было. Со стороны я, должно быть, напоминал человека, которого внезапно охватил приступ икоты. «Пить, срочно,» — только и успел я произнести между двумя короткими, но сильными, сокращениями желудка. Официант меня правильно понял. Через мгновенье передо мной стоял стакан с янтарной жидкостью. Это был, конечно, столь нужный мне виски. Я хватил стакан до дна. Через край. Напиток подействовал на мои внутренности с интенсивностью средства для прочистки сантехники, а потом упал на дно желудка и тут же расслабил мои мышцы. Спазм прекратился. Я осторожно взял вилкой доставшуюся мне первую половину водяной крысы и, рассыпая на пол жирную картошку, бросил «мэйн курс» ближайшей к столику собаке. Зверюга, сидевшая в первом ряду собачьего театра, явно была не готова к столь авангардному режиссерскому ходу, когда главное действующее лицо, точнее, главная действующая еда, со сцены отправляется прямо в партер. Но зато второй зритель оказался более расторопным. Он кинулся вперед. Едва крысиная голова коснулась земли, пес ухватил добычу и стрелой вылетел из кафе на пыльную дорогу. Его товарищ, который остался в харчевне, не отчаялся и не помчался за конкурентом, чего следовало в этом случае ожидать. Он неторопливо подошел к моей ноге и с достоинством слизал с пола все упавшие вниз картофелины. Когда он закончил, я взял со стола тарелку и поставил ему под нос. Затем поднялся с места и, шатаясь, пошел к машине. Виски почти моментально одурманил меня. Окружающий мир начал с удивительной скоростью терять резкость и менять пропорции. За моей спиной охранники торопливо расплачивались с хозяином заведения.
ГЛАВА 20 — В НЕБЕ НАД ЭКВАДОРОМ. УЖИН С ВИСКИ
«Ну, хорошо,» — думал я, сидя в кожаном кресле «боинга». — «Долорес.» Я только что покончил с обильным ужином, который в первом классе подают сразу же после взлета. Стандартный ужин я съел полностью и даже, под удивленными взглядами соседей по салону, вымокал кусочком белого хлеба весь жир с тарелки. Не объяснять же им, что за сорок восемь часов я успел заправить в себя только пару бокалов пива и стакан виски. «Долорес. Она гордая. Она не хочет, чтобы ей платили за секс. Но почему деньги не взял этот толстый индюк, который из-за денег же и оказался в джунглях?» Это я так про себя назвал Крукоу. Потом я понял, в чем дело. Я глядел в иллюминатор и переводил на понятный мне язык то, что хотела сказать Долорес своей жесткой пощечиной. «Дурак,» — говорила мне она, поставив своей пятерней жирную точку в нашем диалоге. — «Лидия убита врагами. А меня убьют свои, через несколько часов. За нарушение приказа. Так что убери эти ненужные бумажки.» Примерно так же думал и Крукоу. Он был вполне рациональным человеком и очень быстро оценил ситуацию. Начиная с того момента, когда шасси его самолета коснулись чужого аэродрома, пилот перестал нуждаться в деньгах. Они ему были ни к чему. Жить ему оставалось еще меньше, чем Долорес. И Крукоу, как неплохой навигатор, все это высчитал в доли секунды, сразу же после того, как я получил свою пощечину. «Навигатор, говоришь?» — усмехнулся я мысленно сам себе.
— А, знаете, что? Принесите-ка мне виски, — сказал я стюардессе, участливо наклонившейся ко мне так низко, что я заметил, как в смуглой ложбинке за распахнутым верхом белой блузки колышется золотой медальон. Пока она ходила за напитком, я успел достать те бумажки, которые забрал у хвастливого летчика в Путумайо, и разложить их перед собой. Мне осталось только выпить и хорошенько подумать. Это неправда, что лучше всего думается на голодный желудок. В течение последних двух суток я, скорее, действовал интуитивно, ведомый инстинктом выживания, а не разумом. Мое счастье, что инстинкт не привел меня к стенке. Хотя мог. Ну, а теперь, когда желудок отклеился от внутренней поверхности моей спины и заурчал, как двигатель на холостых оборотах, в мой мозг вместе с реками питательных веществ ринулись сигналы «Думай!» И я начал делать то, что у меня получалось лучше, чем у многих моих конкурентов. Думать.
ГЛАВА 21 — ЭМИРАТЫ. МОИ ЛЮДИ
Этот процесс продолжался до самого города Дубай. Именно там, в районе Дейра, и находился мой главный офис. Возле «Дубайских курантов», знаменитой конструкции, похожей на марсианский агрегат из «Войны миров» Уэллса, на вершине которого, вместо лазера, пристроились самые известные в арабском мире часы. Я самым первым среди пассажиров своего рейса прошел паспортный контроль и покинул прохладный терминал. Багажа у меня не было. Ручная кладь — спортивная сумка — была оформлена, как дипломатический багаж, и не подлежала осмотру. Усатый таможенник в белом дишдаше, наблюдавший за дверью под надписью «Green line», лениво скользнул взглядом по моей сумке и быстро потерял к ней интерес. На его месте я бы уделил больше внимания подозрительному европейцу в пропотевшей рубашке и джинсах со следами окаменевшей желтоватой грязи. Но, впрочем, подозрительный европеец был надежно прикрыт диппаспортом страны третьего мира. Вместе с рубашкой и джинсами. На сумке еще были заметны следы от обуви, то ли моей, то ли Долорес, а тонкие матерчатые бока не могли скрыть того, что внутрь ее набиты некие прямоугольные бруски, соответствовавшие по размеру банковской расфасовке долларов. Я рисковал. Но не настолько сильно, чтобы дать почувствовать человеку в дишдаше свое волнение. Здесь, в стране миллионеров, привыкли к тому, что через пустынный рай на берегу Персидского Залива кочуют огромные деньги. Разными способами. В том числе, и в грязных спортивных сумках.
Такси несло меня по Мактум Роуд. Широкая и прямая трасса, помеченная на дорожной карте номером восемьдесят девять, упиралась прямо в авангардную конструкцию, с постройки которой в шестидесятые годы и начался современный Дубай. Дело было так. У хозяина прибрежного клочка Аравийской пустыни шейха Рашида был зять, шейх Ахмед. Однажды он поднес своему тестю в подарок часы, как это принято во многих семьях. Но так как оба, — и зять, и тесть, — были в этой части мира большими людьми, то и часы тоже нашлись подходящего размера. Башенные. Шейх Рашид, конечно, поначалу обрадовался подарку, но спустя некоторое время растерялся и даже расстроился. Часы были столь внушительных размеров, что никак не могли поместиться во дворце эмира Рашида. Дворец «Забиль-сарай» тогда только заканчивали строить. Сегодня это ординарная и наполовину забытая постройка. А тогда, в шестидесятые дворец считался чуть ли не символом новой сытой жизни, которая вместе с нефтью пришла на смену кочевым временам. Руководил строительством австриец Отто Буллард. Он взглянул на часы и шутки ради предложил — раз часы башенные, давайте построим для них башню. Но в Аравийской пустыне все воспринимают всерьез. И в шестьдесят пятом посреди песков водрузилась четырехлапая конструкция. Что привиделось австрийцу, когда он впервые нарисовал ее на бумаге, неизвестно. Какой смысл решил вложить в свое творение, непонятно. Одним башня напоминает вышку на нефтяном промысле. Для других, для меня, в частности, символизирует вторжение с Марса. Обе точки зрения вполне символичны. Нефтяным вышкам Дубай обязан своим процветанием. Новый, чужой, образ жизни захватил Аравийскую пустыню столь же быстро, как марсиане планету Земля в книжке Уэллса. Вокруг четвероногой конструкции очень скоро возник город, в котором не найдешь двух похожих зданий, и к каждому зеленому кустику подведен собственный шланг с водой.
Мое такси повернуло направо, на Умм Хурейр, и, попетляв между домами, через несколько минут остановилось возле бетонной многоэтажки, где и был мой офис. В прохладной приемной никого не было, но я учуял запах табака и кофе. В гостевой комнате, за столом сидели двое. Осетин Плиев, мой лучший пилот, и менеджер по личному составу Петрович. Полностью его звали Григорием Петровичем Кожухом. Коллеги, в том числе и я, старика называли панибратски «Петрович». Официально, по имени-отчеству, обращался я к нему только тогда, когда был зол. Но это случалось крайне редко.
Петрович был самым ценным моим сотрудником. Разруливал все проблемы внутри постоянно меняющейся команды и, в то же время, никогда не влезал в финансовые тонкости нашего деликатного бизнеса. Не человек, а просто клад. Плиев, честно говоря, влезал, и это меня порой очень беспокоило. Но летал этот осетин просто виртуозно, и, главное, умел молчать, как партизан на допросе. На допросе, кстати, он тоже бывал, причем не на одном. После каждого ухитрялся оставаться в дружеских отношениях с представителями правосудия тех стран, в которых его брали «за одно место.» У меня Плиев числился контрактником. Каждый месяц он пытался пересмотреть условия контракта, но это было почти нереально. Мы оба с ним все время летали по миру, но по разным маршрутам. Мне незачем часто встречаться со своими пилотами.
Сейчас был другой случай.
— Казбек, есть работа. — начал я с главного. С этими людьми нужно прямо, без всяких там восточных премудростей. — Плачу наличными по тройному тарифу.
— Ого! — довольно сказал осетин. — «По тройному» — это сколько?
— По десятке на пилота и еще приятное дополнение в виде премии.
Я хотел сказать «премии за молчание». Но передумал. Казбек и так все сообразил.
— Идем к карте. — Я подошел к двум полушариям на картонке, висевшей на стене, и пальцем провел линию предполагаемого маршрута. — Нужно сделать только один рейс. Загружаемся в Иордании, дозаправляемся в Африке и летим в Колумбию.
Мой план, с учетом информации Крукоу, был гениален и, как все гениальное, довольно изящен и прост. «Мы заявляем наш груз как стройматериалы из Иордании. Покупатель ждет их на Гавайях. Время вылета из Аммана мы выбираем не просто так.» — объяснял я своим людям. Те внимательно слушали и следили за моим указательным пальцем, который гулял по карте. — «Самолет подходит к воздушному пространству Колумбии. Подлетное время приводим в соответствие с графиком полетов гражданских судов. Нас ведут кубинцы, причем, по тем данным, которые им сообщаем мы. Мы отклоняемся от курса. Кубинцы нас не видят. Только слышат. ЦРУшники в Боготе нас тоже не видят. И даже не слышат. А почему? Да потому, что мы ложимся под пассажирский „Боинг“ колумбийской компании. Мы идем прямо под ним. Он на девяти. Мы на пяти. Он в режиме переговоров с диспетчером. Мы тоже. Кубинцы слышат нас и думают, что мы летим своим курсом. Американцы видят нас и рейсовый борт как одну зеленую точку. На экране радара два объекта, следующих в одном и том же направлении, с одинаково скоростью, но на разной высоте, сливаются в один. Мы доходим до точки сброса. Открываем рампу и спускаем груз на парашюте. Дальше на сверхмалой высоте покидаем воздушное пространство суверенной страны и, продолжая дезинформировать кубинцев, незаметно возвращаемся на свой курс. Прилетаем на Гавайи, садимся, сдаем фанеру, которую и в самом деле грузим на борт в Иордании. Да, самое главное. Стройматериалы мы получаем в Украине. Подлетая к Иордании, мы меняем позывные. Мы имеем на это право. Наши самолеты зарегистрированы на разные компании в разных странах. Соответственно, имеют разные позывные. Что думаете?»
Казбек почесал свой небритый подбородок.
— В плане два слабых места. Первое кубинцы. А вдруг у них уже появился радар?
— Не думаю. Но если план принимается в целом, мы уточним. И потом, мы можем лететь через Гваделупу. Это дороже, но надежнее.
— Есть кое-что посерьезнее. Смена позывных. Если нас засекут, то самолет заберут наверняка.
— Не заберут, Казбек. Посуди сам. Машины принадлежат украинскому министерству обороны. Значит, имеют украинскую регистрацию. Я их взял в аренду. Теперь у них есть и второй регистр. Эмиратский. Я сдал самолеты в аренду азербайджанцам. И в Баку им тоже присвоили свои позывные. Вот эти позывные мы и дадим в эфир. В смысле, ты дашь в эфир. Именно по ним, в случае чего, и станут искать наш самолет. Но даже если это будет именно так, машина к тому времени уже вернется в Эмираты.
— Есть и третья проблема, Андрей Иваныч. — заговорил Кожух. — Может быть, это меня не касается, но как мы будем сбрасывать груз? У нас нет таких систем в наличии.
— Петрович, — отвечаю я ему. — Это самая большая проблема. Но я ее тоже решил. Выпей кофе, присаживайся и слушай.
Был в Крыму в советское время завод, который производил уникальные парашютные системы. СССР почему-то упрямо хотел вести войну на чужой территории. Причем, воевать с Западом собирался с помощью десантников. Следующим образом. Забросить своих суперсолдат в тыл к противнику, захватить все жизненно важные объекты в самом начале боевых действий, а потом уже наступать пехотой и танками. Объектов у Запада было много, людей тоже. Для десантных операций требовались сотни самолетов и тысячи солдат. Ну, а поскольку вместе с солдатами нужно было сбрасывать оружие и прочую технику, парашютов нужно было немало, и самых разных. С парашютными системами экспериментировали повсеместно, но главные экспериментаторы традиционно находились в Крыму. Удобное место. Тут тебе и степь, и море, и горы. Условия приземления можно смоделировать любые. Здесь также было в изобилии хорошее вино и красивые девушки. Нужно же испытателям снимать стрессовые состояния. Сюда съезжались лучшие парашютисты со всего Союза. Знатные были люди. У каждого тысячи прыжков с разной высоты, в разных условиях. Их привозили в сверхсекретное конструкторское бюро, где ученые создавали в единственном экземпляре свои уникальные воздушные крылья. Парашюты для катапультирования с больших высот. Парапланы для полета на небольших. Многокупольные системы для сброса техники, причем, вместе с экипажами. Сначала испытатели внимательно изучали на земле то, что должно было спасти им жизнь в воздухе. А потом сигали в открытый люк с парашютами за спиной. По результатами прыжков принималось решение. Если оно было положительным, то изделие тут же становилось на поток. Цех по производству парашютных систем был тут же. И вместе с КБ тоже являлся секретным объектом. Но вот закончилась холодная война, не перейдя, слава Богу, в горячую фазу. Парашюты стали не нужны. За годы конфронтации их наклепали такое количество, что каждого крымчанина можно было обеспечить отдельным парашютом. А также жителей некоторых соседних областей. Воевать на чужой территории становилось немодным. Так, во всяком случае, казалось в начале девяностых. Секретный цех на берегу моря рассекретили. Лучшие мастера стали зарабатывать на жизнь ремонтом корабельных снастей и подбадривать друг друга рассказами о былом за стаканом вина. Вино стало кислым на вкус. Крымские красавицы, предел мечтаний испытателей парашютных систем, нарожали потомство и, значительно прибавив в весе, превратились в сварливых теток. Снимать стресс стало некому и нечем. Жизнь круто изменилась. И этот факт, конечно, вводил обладателей секретных технологий в полное уныние.
Но я знал, как его развеять. Еще не доехав до своего офиса возле Дубайских часов, я сделал несколько звонков. Один из них в Украину, знакомому парашютисту. Этот человек, у которого наград было больше, чем денег, согласился передать руководству забытого завода мою просьбу. Сделать на заказ парашютную систему, с помощью которой можно сбросить любую технику с любой высоты. Но так, чтобы парашют раскрывался возле самой земли. Сброс должен производиться автоматически, чтобы экипажу не пришлось вручную выталкивать контейнеры через люк. И главное условие. В грузовом отсеке после сброса не должно остаться следов парашютной системы — никаких направляющих, бугелей, тросов и прочей хрени, которая может вызвать подозрение при досмотре. Старый испытатель сказал, что на крымском заводе такую систему соорудить это не проблема. Мало того, они с охотой возьмутся за работу по своему основному профилю. Им порядком надоело чинить дырявые катера для браконьеров. Для чего мне это нужно, он не спрашивал. Хотя наверняка догадался.
— Иваныч, — поинтересовался Плиев. — А ты уверен, что крымчане не расколятся?
— Уверен. Им не в чем колоться. Заказ-то мой будет вполне законный. Они же теперь рассекречены и могут брать частные заказы. Хочешь — снасти штопай, хочешь — парашюты. А как мы ими пользуемся, никто не узнает, пока стукач не попадет на борт. А он ведь не попадет, так?
Я внимательно посмотрел на Плиева. Я знал, что этот человек не предатель, но тем не менее задержал взгляд на его зрачках. На всякий случай, чтобы пилот не расслаблялся.
— Ты что, Андрей Иваныч, — заволновался не Плиев, а Кожух. — Кто же из нас будет пилить сук, на которых сидит?
— Ты имел в виду «на котором»? — решил поправить я оговорку.
— Что «на котором»?
— Ну, «сук, на котором»?
Кожух напряг извилины и сморщил лоб. Его бортовой компьютер быстро проанализировал сказанное и нашел ошибку. Петрович рассмеялся.
— Хе-хе-хе, бывает, бывает.
— Знаешь, Петрович, — говорю ему. — Был такой ученый Зигмунд Фрейд. Так вот, он считал: именно тогда, когда человек оговаривается, он говорит правду. То самое сокровенное, о чем он думает.
— Так ведь о суках и думаю, Андрей Иваныч, не скрою. Здешние девки не по нашим карманам.
Я вынул две пачки долларов.
— Нате вам, коллеги. Это небольшой задаток. Отдохните пару дней, а потом за работу. И чтобы потом не вспоминали о том, кто на ком сидит. Договорились?
Пачки я приготовил заранее. Они были значительно тоньше тех, которые я предлагал Долорес и Крукоу. Но денег в них вполне хватало на несколько дней роскошной жизни на краю Персидского залива. Казбек открыл плоский портфель и кинул внутрь свой задаток. Петрович, бормоча цифры, пересчитал порцию долларов и поглубже засунул деньги в карман. Каждый из моих людей четко знал свой участок работы и ту линию красных флажков, за которую заходить было нельзя. Даже если очень хотелось. А я, в свою очередь, хорошо знал свои кадры.
Плиев не просто разбирался в грузовом «Иле». Он его чувствовал. Его собственные органы работали в унисон с начинкой крылатого красавца. Я очень люблю «семьдесят шестые». Это самый красивый в мире самолет, в котором, как в никаком другом, воплотились изящество и мощь авиации. Есть, конечно, самолеты помощнее. Но по сравнению с «Ил-76» они выглядят неуклюже. Когда стоишь перед его стеклянным носом и глядишь снизу вверх на линию крыла, то кажется, что для этого самолета нет ничего невозможного. Я без преувеличения был счастлив, что именно «семьдесят шестому» и суждено было провести самую виртуозную операцию в истории грузовой авиации. Которая, по понятным причинам, должна была остаться секретной. Казбек смог рассчитать подлетное время к северному побережью Колумбии, имея на руках лишь только минимальные исходные данные. Вылет из Аммана, дозаправка в Тунисе и дальше через океан. Следующая посадка поближе к Колумбии, в зависимости от того, где придумает дозаправку Петрович. И потом смело на Гавайи. А Петрович, будучи идеальным менеджером, смог договориться не с Кубой, а с маленьким островом Гваделупа, с которого мы можем взлететь в любое время и незаметно войти в колумбийское воздушное пространство.
На сброс у нас было часа полтора, не больше. По ходу сброса мы должны были решить массу прогнозируемых проблем. И, возможно, натолкнуться на непрогнозируемые. Мы были готовы к импровизации. В этом рейсе я решил лететь вторым пилотом. Но это было позже. После того, как мы смогли установить на борт новое оборудование.
Это было нечто совершенно необычное. На первый взгляд устройство походило на стандартную десантную платформу, с помощью которой можно доставить на землю груз весом в несколько тонн. Но на самом деле аппарат, который для меня сделали, мог не только падать вниз под голубым куполом из специального шелка. Теперь, с помощью этой системы, груз можно было сбрасывать хоть с десяти тысяч метров. На заданной высоте раскрывался парашют-крыло, который должен был помочь грузу добраться до земли целым и невредимым. Самым ценным в этой системе был блок автономного управления. Крымчане склепали его, похоже, из деталей разобранного радиоприемника вперемежку с запчастями от швейной машинки «Зингер», упаковав их в крашеный зеленой масляной краской металлический корпус. Дизайнерской фантазии отечественному ВПК и в этом случае не хватило. Но зато зеленый железный ящичек, делая поправки на ветер и периодически отдавая команды механизму управления стропами, мог доставить груз на землю с точностью до нескольких десятков метров. Собственно, блок управления и был главным ноу-хау в этой системе.
«Смотри, Иваныч, береги его,» — говорил мне в Симферополе человек, придумавший этот ящичек. Мы стояли на бетонке аэродрома и глядели, как в нутро самолета грузчики с красными лицами, в потертом камуфляже, заносят чудо-платформу в разобранном виде, о которой могут только мечтать контрабандисты. — «У наших заклятых друзей в Америке такое появится только лет через десять.»
«Так, может, заявить авторский патент, пока не поздно?» — хлопнул я говорившего по плечу.
«Что ты? Что ты?» — замахал на меня руками собеседник. — «Хватит того, что ты дал. А с патентом сидеть мне за решеткой, когда этот прибор найдут в джунглях. Кстати, в каких джунглях его могут найти?»
«Лучше тебе этого не знать. А зачем ты спрашиваешь? Есть какие-то технические сложности?»
«Да, в общем, нет. Спрашиваю просто так, чтобы потешить свое профессиональное тщеславие.»
«Как это?»
«Ну, буду говорить сам себе, что мой прибор успешно прошел полевые испытания. Хотелось бы знать, где. Например, в Африке или на другом континенте.»
«Не волнуйся, я тебе сообщу, если что.»
«Да нет, не надо. Ты и так нам всем неплохо заплатил. Еще год, я думаю, на этих деньжатах мы протянем.»
Да, думаю, у каждого действительно своя мера достатка. Тех денег, что я заплатил конструктору, мне бы и на две недели не хватило. Гениальное устройство улетело вместе со мной в Дубай. На нем не было ни клейма производителя, ни информации о технических характеристиках. Если прибор когда-нибудь найдут, то никогда и не догадаются, кто его автор.
А в это время в Дубае Плиев и Петрович, положив перед собой карту Колумбии и две бумажки с данными о рейсах, составляли точный план действий. Через день наш самолет вылетел в Иорданию, откуда ему предстояло доставить груз фанеры на Гавайские острова.
Что там, в огромных ящиках, я не знал. Это меня не касалось. Одно я понимал. ФАРК заплатил за доставку не просто много. Эта сумма в несколько раз была больше, чем стандартные расценки черного рынка. За три миллиона долларов можно купить три новеньких танка. Но партизанам не нужны танки. Оружие, которое я должен доставить, должно быть, убивает не хуже танка. Иначе мне ни за что не выдали бы столь значительную сумму.
ГЛАВА 22 — ИОРДАНИЯ-ИРАК-ГВАДЕЛУПА. РЕЙС НА ТРИ МИЛЛИОНА
У меня было прекрасное настроение до того самого момента, пока наш борт не приземлился в Аммане. Наш самолет загнали на площадку для грузовых самолетов. Диспетчер попросил подождать таможенного офицера. Ради экономии мы решили вырубить основное питание. Жужжание кондиционера тихо сошло на нет. Он издал несколько прощальных звуков, словно пробормотал «Ну, не хотите — как хотите», и смолк. Через двадцать минут в кабине стало жарко. Через тридцать минут невыносимо жарко. А через сорок на наш борт поднялся вовсе не пограничник и не таможенник. Мы услышали снаружи требовательный стук. Тогда Плиев открыл дверь, и мы спустили вниз трап. Металлическую стремянку оранжевого цвета. Через мгновение в самолет поднялся энергичный араб в цветастой рубашке с картой подмышкой. Араб не слишком хорошо говорил по-английски. Но из того, что он сказал, я понял главное. Здесь грузиться мы не будем.
«А где? Где?» — переспросил его Плиев.
«Коммэндер?» — посмотрел на него наш гость и, увидев, как тот кивнул в знак согласия, пригласил Казбека взглянуть на карту. — «Ком.»
Человек в цветастой рубашке указал на аэродром, где нас ждал наш груз. Я знал этот аэродром. Он находился в пустыне, к западу от Аммана. Его строили французы. Там были прекрасные условия для взлета и посадки, расторопный персонал и не особенно насыщенное воздушное движение. Все хорошо, кроме одного. Этот аэродром находился уже не в Иордании. В Ираке. А в Ирак мы лететь не договаривались.
«Мы туда не полетим,» — заявил я, убрав тыльной стороной ладони капли пота с лица. Они уже были готовы сорваться на карту.
«Ноу чойс,» — спокойно ответил на это араб. — «Нет выбора.»
«Как это?» — переспрашиваю.
И мой гость объяснил это, как смог. В кратком изложении то, что он сказал, выглядело так. Если я отказываюсь, нам не дают взлет. А потом арестовывают вместе с машиной. Если взлетаю и забираю груз из Ирака, то по итогу работы получаю премию. «От кого?» — уточнил я. Свою премию я уже получил, и на большее не рассчитывал. Араб в ответ томно прикрыл свои глаза и, приподняв подбородок, многозначительно цокнул языком. «От очень важных людей,» — так, наверное, я должен был понять гримасу своего собеседника. Я не знал, кто этот человек и как его зовут. Но у него в этой стране явно было больше прав и возможностей, чем у меня. Для того, чтобы понять это, не нужно было спрашивать его имя. И я ответил ему утвердительно. И, потом, до иракского аэродрома был час лету, не больше.
Но у меня был еще один аргумент. Аэродром, на который хотел меня отправить араб, находился в запретной зоне. После войны девяносто первого года американцы сумели добиться того, чтобы полеты военной авиации над Ираком были под запретом. Наш самолет однозначно классифицировался как военно-транспортный. Нарушение режима запретной зоны имело бы очень серьезные последствия. И для Саддама Хусейна, который тогда еще сидел в Багдаде, и для нас. Нас вообще могли сбить без лишних разговоров. Я не хотел быть сбитым. О чем, не выбирая выражения, и сказал нашему гостю. Тот недолго думал. Одним движением профессионального фокусника, словно ниоткуда, он извлек документ, на котором печатей было больше, чем орденов на груди у короля Иордании. В этом документе было черным по белому написано, что режим запрета полетов над Ираком приостановлен на шесть часов для приема гуманитарных грузов.
Я посмотрел на часы. Послабление режима начнется через полчаса.
«Аск зе тауэр энд чек,» — предложил человек в цветастой рубашке. — «Спроси у диспетчера и проверь.»
«Проверь,» — бросил я Плиеву.
Казбек уселся на свое место и, положив перед собой бумажку с печатями, вызвал башню. Разговор был коротким. Через полминуты он снял гарнитуру с наушниками и утвердительно кивнул мне.
«Что будем делать, шеф?» — спросил меня пилот. В небе он был командиром. Но тут, на земле, человеком, принимавшим решения, был хозяин, то есть, я. И я сказал, что мы летим в Ирак. А что мне было делать? Перезвонить на американский авианосец, который из Персидского залива простреливает весь Ближний Восток?
Араб еще на трапе достал свой мобильный и сделал звонок. Улыбаясь невидимому собеседнику, он быстро затараторил, то и дело приговаривая «Маши, маши!» «Маши» многофункциональное арабское слово. Сказанное в этих обстоятельствах, оно означало, что, мол, все в порядке.
Выбора у меня не было. Настроение испортилось. Обстоятельства говорили о том, что нас собираются подставить. Но слишком большая сумма, заплаченная мне в джунглях, была хорошей страховкой от всяких неприятных неожиданностей. А приятные? Ну, что ж, я всегда любил сюрпризы и приключения, которые заканчиваются «хэппиэндом».
Мы взлетели против ветра, который дул со стороны Средиземного моря, и сделали круг над аэродромом. Терминал имени королевы Алии медленно и печально проплыл под нами. Темный прямоугольник на однообразном желтом фоне. Меня всегда удивляло, почему на этой бесплодной пустынной поверхности люди живут лучше, чем у меня на родине, в Украине. Когда летом летишь вдоль Днепра, то кажется, что под тобой собралась вся зелень планеты. Бесконечный ковер жизни и молодости. Он не похож на Европу, где все расчерчено на параллели и перпендикуляры, и это так хорошо заметно сверху. Он не похож и на роскошную, но хаотичную Амазонию, настолько роскошную, что человек здесь кажется чем-то инородным, вредным и враждебным. Соответственно, джунгли воюют против человека. И уж, конечно, зеленая моя Украина не имеет ничего общего с желтыми песками Иордании. В песчаной Иордании нет ничегошеньки ценного. Ни природных ресурсов, ни нефти с газом. Ни удобного морского порта. И все же иорданцы, люди пустыни, научились жить лучше и правильнее, чем мои соотечественники.
«Почему так?» — спросил я об этом Плиева, когда самолет, развернувшись на восток, набрал восемь тысяч метров.
«Я вот что думаю,» — сказал осетин. — «Они же буферная зона между Израилем, Америкой и остальным арабским миром. А быть буферной зоной всегда выгодно. Это там у вас, на Украине, кажется говорят, что умный теленок двух маток сосет?»
Я пожал плечами, а про себя подумал, что дело не в буферной зоне. Украина всегда была таковой. От Богдана Хмельницкого и до нынешнего президента. А жизнь от этого лучше не стала. Нет, можно, конечно, сосать двух телок и, тем не менее, влачить жалкое существование, подчиняясь бессмысленным приказам. Воспринимая, как должное, тот факт, что тебя твои же соплеменники обкрадывают, обманывают и всячески унижают ради трехкопеечной выгоды. Есть в нас какой-то изъян. Нет в нас чего-то такого, что есть, кажется, в иорданцах, жителях желтой земли под моим самолетом.
Самолет, тем временем, покинул воздушное пространство Иордании и уже подлетал к иракской военной базе, на территории которой был аэродром. Нас вел уже местный диспетчер. Явно военный. Он передавал нам данные так, словно произносил приказ. Гражданские по-другому общаются с пилотами. Гражданские произносят команды мягко, так, словно дают старому другу полезные советы. Этому было все равно, кто ты, друг или враг. Диспетчер, голос которого мы слышали в наушниках, просто выполнял поставленную задачу — довести грузовой самолет до полосы. И эту задачу он выполнил идеально.
Ну, и мы тоже показали высокий класс. Наш «ил» снизился и на предельно малой высоте стал сбрасывать скорость. Но полосы под нами не было. Бетонка находилась чуть левее. Мы очень аккуратно шли вдоль нее. У тех, кто наблюдал за нами с земли, могло сложиться впечатления, что мы промахнулись и вот-вот упадем. В этот момент мне очень захотелось увидеть лицо иракского диспетчера. Он продолжал хладнокровно руководить нашей посадкой, отметив, впрочем, что мы совершаем неправильный маневр. Но в условиях войны это был самый правильный маневр. Между собой мы его называем «афганский разворот». Когда бетонная полоса слева закончилась и перешла в песок, Плиев повернул самолет влево. Машина оказалась как раз над бетоном. Двигатели уменьшили тягу, и шасси красиво, без подскока, коснулись полосы. Именно так мы садились в Афганистане, когда знали, что неподалеку есть позиции моджахедов, и за нами с гор внимательно наблюдают бородатые люди со «Стингерами» в руках. Здесь не было ни одной горы и вроде бы не было особой необходимости лихачить. Но мы, несмотря на официальную бумагу с печатями, все же решили перестраховаться. Стреляют ведь не по бумаге, а по самолету. И потом, все же очень хотелось показать «высший класс» хотя бы диспетчеру. Ты, мол, с нами по-военному, и мы с тобой, парень, по-военному. Нас оценили. Я это понял по той интонации, с которой арабское «маши-маши» прозвучало в моих наушниках.
Аэродром был почти пустой. Кроме нас, на земле был только один самолет, военно-транспортный «Геркулес». Несколько таких не новых машин, поистине ветеранов авиации, работали в Ираке. Они достались Саддаму еще в те времена, когда он дружил с Америкой. Дружба закончилась, а самолеты остались. Возле самолета стояли контейнеры и суетились люди в военной форме. Мы остановились метрах в двухстах от серого туловища «Геркулеса» и стали ждать. Вскоре к нашему борту подъехал «УАЗик» с брезентовой крышей. Из него выскочил полноватый офицер с огромными звездами на погонах.
«Я Ахмед, здравствуйте, ребята, добро пожаловать в Ирак,» — закричал он по-русски, но с жутким акцентом. — «Открывайте, пожалуйста.»
Мы спустили трап, и Ахмед поднялся на борт. Он был очень похож на Хусейна, каким я его видел в новостях. Такой же плотный и круглый, как вождь, с такими же мохнатыми усами под носом. Картину общего сходства довершали генеральского размера желтоватые звезды. Впрочем, размер еще ни о чем не говорил. С такими мог ходить и лейтенант. Все иракские военные мечтали быть генералами, и Саддам позволил им реализовать эту мечту хотя бы в виде знаков отличия. Со звездами такого размера каждый лейтенант мог иногда почувствовать себя генералом. На опытных военных они, конечно, никакого впечатления не производили, но перед несведущими гражданскими можно было запросто сойти за большую шишку, тем более, что спрашивать собеседника о его звании было неприлично. Но я спросил.
«Ахмед, а Вы какого звания будете?»
«Майор, называйте меня майор Ахмед,» — смутился усатый военный.
«Грузите наш „борт“ побыстрее, Ахмед, скоро американцы закроют коридор,» — стал торопить я араба.
«Хорошо, хорошо,» — затараторил майор. — «Открывайте рампу и скажите людям, куда ставить.»
Иракцы работали быстро. Пока мы разговаривали с майором, к «Геркулесу» подъехал грузовик и электроподъемник. Из кузова на бетонку спрыгнули люди в желтой спецодежде. Что они делали, я не разглядел. Похоже было, что все они помогали механическому погрузчику как можно аккуратнее загрузить контейнеры в кузов грузовика.
«Как там сейчас в Одессе?» — спросил меня Ахмед.
«Не знаю, я никогда не был в Одессе,» — отвечаю я ему. — «А Вы там учились?»
«Да, учился, в Сухопутном.»
Грузовик с контейнерами двинулся в нашу сторону, а вслед за ним и автопогрузчик. Люди в желтых комбинезонах, стоя в кузове, аккуратно поддерживали наш груз.
«Время было хорошее,» — улыбнулся усатый майор. — «Девушки были хорошие.»
«А теперь?» — спрашиваю я автоматически.
«А теперь жена,» — засмеялся Ахмед.
«Оттуда?»
«Нет, отсюда,» — сказал майор то ли с нежностью, то ли с сожалением, которое он не сумел спрятать в густых зарослях своих усов.
Погрузка началась. Майор прекратил ностальгировать и стал отдавать команды громким голосом, который вполне соответствовал размеру звезд на погонах. Грузчики в желтых комбинезонах слушались беспрекословно. Они выполняли распоряжения усача настолько четко, что мне сразу стало ясно — под спецодеждой у них была военная форма.
Эти желтые комбинезоны мне сразу не понравились. При ближайшем рассмотрении они оказались не матерчатыми, а из прорезиненной ткани. На ногах у грузчиков были просторные сапоги, голенища которых очень плотно крепились к штанинам комбинезонов. За спинами суетившихся людей болтались капюшоны. Добавить бы к этому наряду еще и противогазы, и грузчики могли сойти за батальон радиохимической защиты во время учений. По лицам людей струился пот. Под палящим ближневосточным солнцем в таких костюмах хорошо сгонять лишний вес, а не грузить тяжелые контейнеры.
Их было три. Высотой почти в человеческий рост, они были сделаны из свежеструганых досок, от которых приятно пахло лесом. Контейнеры почти впритык уместились на платформах.
«Помочь привязать ящики?» — спросил майор.
Я отказался. Будет гораздо надежнее, если креплением займемся мы сами.
«Тогда мы посмотрим,» — улыбаясь, сказал Ахмед. Я понял, что нам лучше с ним не спорить.
Грузчики поднимали на борт последний третий контейнер. Им приходилось нелегко. По искаженным лицам иракцев было понятно, что внутри находится нечто массивное. Стон и кряхтение прорывались сквозь стиснутые белые арабские зубы. Виски пульсировали. Пот застилал глаза. Я отвернулся в сторону, и в этот момент раздался грохот и крик десятков людей. Когда я снова посмотрел на контейнер, он, перекошенный, лежал на рампе. Рядом, скрючившись, корчился высокий араб в желтой спецовке. Майор Ахмед подбежал к нему и наотмашь ударил его ладонью по лицу. Грузчик виновато посмотрел на него снизу вверх, и превозмогая боль, поднялся. Но как только он встал на обе ноги, тут же скорчился и, охнув, присел на корточки. Я понял, в чем дело. Тяжелый контейнер, сорвавшись, придавил его ногу. Возможно, раздробил ступню, потому-то парень и не мог стоять. Ахмед кивнул головой. Двое других арабов подхватили высокого грузчика и отвели его в грузовик. Я не видел, как именно свалился контейнер, но, когда я повернулся, то заметил одну странность. Весь персонал в желтых спецовках находился на значительном расстоянии от груза. Так, словно все они резко отскочили в разные стороны, когда контейнер сорвался.
Мы сами монтировали ящики на платформах. Я совершенно не корчил из себя босса и не гнушался тяжелой физической работы. Хотя мои люди понимали, что я зарабатываю неизмеримо больше, чем они. Размахивая молотком и монтировкой, я не стремился быть на короткой ноге со своими подчиненными. Тот рейс был очень ответственный. Нам предстояло сделать то, что до этого никто из нас не делал. Я хотел быть уверен, что все идет по моему плану.
Третий контейнер упал не слишком удачно. Одна из досок, треснув, отошла в сторону, и в контейнере получилась небольшая щель. Доска мешала поставить контейнер на направляющие. Я пнул по боковине ногой. Доска встала на место. Ящик принял, наконец, удобное положение, и мы смогли его закрепить на платформе.
«Теперь подпиши вот это,» — улыбчатый Ахмед поднес мне бумагу на арабском. Я, конечно, из написанного совсем ничего не понял, и, шутя, поставил под документом крестик.
«Зачем это?» — удивленно поднял брови араб.
«Я неграмотный,» — говорю, — «не понимаю, что там написано.»
Ахмед разозлился. По лицу араба никогда не поймешь, что он в самом деле думает, но достаточно знать несколько ужимок, которые используют на Востоке, для того, чтобы понять внутреннее состояние собеседника. Ахмед принялся цокать языком и качать головой из стороны в сторону. Формально это выглядело, как легкая озабоченность. Фактически, как серьезная обида. Черные глаза внимательно смотрели на меня.
«Послушай, дружище,» — сказал я арабу, — «ради Одессы пойми меня. Я не подписываю документы, если не могу их прочитать. Это не мы такие, это бизнес такой.»
«Бизнес,» — негодующе произнес Ахмед, все еще покачивая головой. — «Ну, хорошо, если бизнес.»
«Приезжай ко мне в гости,» — пожал я руку майору. Адрес, впрочем, ему не назвал. Ахмед грустно улыбнулся в усы, махнул рукой и, развернувшись, что-то крикнул своим людям возле рампы. Те стремглав бросились в кузов грузовика. Майор пожал мне руку, бодрячком сбежал на бетонку через рампу и уселся рядом с водителем. Машина тронулась в сторону ангаров. В моей ладони остался прямоугольный кусок картонки с арабской вязью. На обороте было написано по-английски: «Ahmed Ziadha, MoD of Iraq, logistics and liason officer/inspector». И телефон.
Как только задняя рампа закрылась, я услышал в наушниках знакомый голос диспетчера. Он был по-прежнему суров, но мне показалось, что я уловил в нем теплые нотки уважения. Он говорил с командиром корабля все тем же четким военным языком, которым он отдавал команды при посадке. Безличностно-холодный обмен цифрами с пилотом, ничего больше. Включили двигатель — доложили, получили разрешение действовать дальше. Выехали на рулежку — доложили. Стали на взлетке и снова доложили. Нам разрешили взлет. И вот, когда самолет начал разгон, диспетчер произнес неуставное «Яллабай!»
Это модное словечко появилось на Ближнем Востоке совсем недавно, когда западный мир столкнулся с арабским, и оба эти мира начали скрещиваться, смешиваться, иногда с любовью, а чаще всего с ненавистью. Половина этого слова была арабской, а половина английской. «Ялла» означает «вперед». «Бай» это сокращенное «гудбай». Как перевести «яллабай» на русский? Наверное, как «пока», или, скорее, «ну, давай!» Так обычно говорят друзья при прощании, которое обещает скорую встречу, и хлопают руками, пятерня о пятерню, со звонким всплеском сильных ладоней. Этот иракский парень перед микрофоном явно желал нам удачи, и я словно почувствовал его рукопожатие. Мои глаза стали влажными, не то, чтобы сильно. Так, самую малость. Казбек посмотрел на меня. Он был достаточно проницательным человеком, чтобы прочитать мои мысли. «А ты сентиментальный, Иваныч,» — улыбнулся осетин.
«А ты много говоришь, командир,» — отрезал я, напомнив ему, в чем разница между командиром и хозяином.
Дальше все шло по графику. Вскоре мы почти наверстали потраченные на Ирак часы, и погрешность во времени была в допустимых пределах, которые мы сами для себя установили. На дозаправку тратили столько времени, сколько запланировали. Все формальности решали быстро. На каждом аэродроме подскока повторялась одна и та же картина. На борт поднимался усталый представитель авиационных властей, непременно усатый и в оранжевой жилетке, небрежно наброшенной на униформу. Он быстрым профессиональным взглядом оглядывал кабину. Такой взгляд обычно бывает у пожарного инспектора, пришедшего взять за горло бизнесмена средней руки. Или гаишника перед открытым капотом свежепойманного нарушителя.
Нас ловить на горячем не было смысла. Самолет в состоянии, близком к идеальному. Документы в порядке. Конечно же, в них ни слова правды о том, какой груз мы везем на самом деле. Но досмотр с пристрастием и последующим арестом самолета обычно устраивают тогда, когда есть утечка информации, как правило, неслучайная и прогнозируемая. В нашем случае о том, чтобы утечки не было, мы позаботились заранее. И, кажется, не только мы. Офицер долго на борту не задерживался. От нас он получал как бы случайно оказавшийся рядом пакет, в котором находился гостевой спецнабор. Отдельные предметы из этого набора менялись, но два наименования присутствовали в любом случае. Конверт с несколькими сотенными американскими банкнотами и бутылка виски. В исламе, как известно, алкоголь вне закона. Но в арабских странах при помощи алкоголя порой можно достичь большего, чем с пачкой денег. Особенно уважают виски люди в форме. Форма может оказаться любой. Виски тоже. Размер же финансового подношения должен быть умеренным. Не слишком маленьким, чтобы офицер не обиделся. Но и не слишком большим, чтобы не возникли подозрения относительно того, что находится в контейнерах. Многие мои коллеги теряли свои самолеты не из-за жадности, а из-за чрезмерной щедрости, когда количество купюр в конверте заставляло наземного представителя заподозрить, что на борту есть серьезная контрабанда. Это не мешало чиновнику оставить себе содержимое конверта после ареста самолета. Я же всегда старался быть в курсе конъюнктуры размеров взяток на рынке авиакарго.
Подарочные пакеты переходили в надежные руки. Дозаправка происходила быстро, даже до удивления быстро, если делать скидку на менталитет персонала на площадках подскока. Погода нам тоже благоприятствовала. Над Атлантикой облачность присутствовала, но в умеренных пределах. На море стоял штиль, на высоте девять тысяч над морем обошлось без зон турбулентности до самой Гваделупы. Мы шли красиво и уверенно. Иногда глаза слепили солнечные зайчики. Мне казалось, что я улавливаю отражение солнечного света на гребнях мелких волн, но это, конечно, вряд ли было возможно на высоте девять километров над водной гладью. Хорошее настроение почти полностью овладело моим расслабленным сознанием. Только почти. Под расслабленным океаном моих мыслей беспокойной хищной рыбой суетилось какое-то чувство опасности. А, может быть, предчувствие подвоха. Это чувство было несколько приглушенным, оно давало о себе знать точно так, как нерв под местным наркозом сообщает, что обнажен. Не болит, но слегка беспокоит. Это чувство совершенно не помешало мне долететь до аэродрома Пуант-о-Питр, откуда до точки сброса было, по авиационным меркам, совсем рукой подать.
Солнце шло на запад вслед за нашим «илом». Я увидел Гваделупу справа по борту, когда самолет делал свой первый разворот над островом. Он сверху выглядел, как на рекламной фотографии в туристическом агентстве. Чем ближе к побережью, тем светлее становились темные океанские воды. У самого берега океан был совсем прозрачным. Голубые оттенки постепенно переходили в золотые. Песок ровной полосой лежал между водой и буйными карибскими джунглями. Правда, я знал, что джунглями здешний лес кажется только с высоты птичьего, — и, конечно, нашего, — полета. Заросли были насквозь прорезаны автодорогами европейского класса. Прибрежная зона сплошь усеяна отелями и бунгало, которые вписаны в ландшафт так, чтобы не портить ощущение дикости и нетронутости островной природы. Сверху их было не видно.
Самолет мягко коснулся бетона и сбросил скорость. Появился синий «рено» с мигалками на крыше. Он не торопясь завел нас на дальнюю стоянку, поближе к грузовому терминалу. Когда «ил» занял свое место, из машины вышел чернокожий офицер и махнул нам рукой. Мы открыли дверь и выставили наружу наш металлический трап. Чернокожий поднялся на борт самолета.
В этом случае обошлось без подарочного набора. Гваделупа не просто остров в Карибском бассейне. Это территория Франции со всеми вытекающими последствиями. Взятки здесь не проходят. Черное население острова гордится своими паспортами и принадлежностью к визовому режиму Шенгена.
В Пуант-о-Питр нам нужно было провести несколько часов и вылететь так, чтобы точно в назначенное время войти в воздушное пространство Колумбии и подгадать к вылету пассажирского рейса из Боготы. По моему плану, любезно подсказанному мне Крукоу, наш «ил» должен проследовать точно по пассажирскому маршруту, но на полтора километра ниже воздушной трассы рейсового «боинга». Запас времени у нас был достаточно большой. Казбек принялся в очередной раз изучать расписание рейсов над Колумбией. Петрович организовал обслуживание самолета. Вокруг самолета забегали люди в униформе. На борт поднялись уборщики. В уборке, честно говоря, не было необходимости, но поскольку в оплату включена и эта услуга, мы решили от нее не отказываться. Потом я задавал себе вопрос, а что бы могло произойти со мной, если бы эти черные ребята не проявили любопытства к содержимому контейнеров. Но история, как это известно, не имеет сослагательного наклонения. И моя личная, в том числе.
Черные уборщики хорошо справлялись со своей работой. Меня раздражала только их излишняя суетливость. Синие форменные комбинезоны эти парни носили, надев их прямо на голое тело. Лямки болтались на худых мосластых плечах и постоянно спадали на узловатые жилистые руки. Уборщиков было трое. От них неимоверно разило потом. Парни отчаянно жестикулировали, разговаривая между собой. На Гваделупе говорят по-французски, конечно, постоянно сдабривая речь местными жаргонными словечками, но все же это язык, понятный любому парижанину. Уборщики, кажется, тоже говорили на языке Мольера и Гюго. Но сколько ни вслушивался я в их речь, не мог разобрать ну просто ничегошеньки. Это был какой-то квазиязык, похожий на звукоподражательные словечки, которыми обмениваются герои мультфильмов или клоуны на арене. Было в нем что-то и от арго, уголовного парижского сленга. Да, пожалуй, на арго этот язык походил больше всего. Со временем, даже не зная отдельных блатных слов, ты начинаешь понимать общий смысл сказанного. Но у меня на борту были подозрительные люди, и мне нужно было знать смысл сказанного ими сейчас, а не спустя какое-то время. Я был далек от филологии, чтобы вслушиваться в ту белиберду, которую грузчики говорили друг другу, и спросил их напрямую.
«Вы говорите по-французски?»
«Французский нет, крейоль,» — отвечает самый крепкий и наглый среди них.
«Крейоль?» — переспрашиваю. — «Что такое крейоль?»
«Гаитянский язык, месье,» — улыбается мне грузчик.
Теперь мне стало все понятно. Эти ребята не местные. Эмигранты с острова Гаити, в левой части которого находится одноименная республика. Самое отвратительное, как по мне, место на свете. Единственная страна в мире, где жаргон чернокожих рабов стал государственным языком. Да и вообще, жить там для белого человека очень опасно. Белых черные гаитяне не любили. Хотя при каждом удобном случае старались слинять из Гаити в страны, где хозяйничают белые. В Соединенные Штаты, Аргентину, во Францию. Для того, чтобы попасть во Францию, кстати, не нужно лететь в Европу. Достаточно только перебраться на соседний остров, и ты уже в пределах Пятой республики. Эти грузчики наверняка были нелегалами. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что любую работу они делали лучше, чем местные. В том числе, и чистили самолет. Но при этом нелегалы, как правило, любят заглядываться на то, что плохо лежит. Очень ловко у них получается вскрывать контейнеры на борту и тянуть оттуда все, что само просится в руки. У нас на борту все лежало хорошо. Но это лишь на первый взгляд. Когда троица покинула борт, и мы закрыли рампу, я решил на всякий случай проверить контейнер. И ужаснулся.
Я обошел один огромный ящик, затем второй. Все было в порядке. Третий контейнер, тот, у которого чуть треснула внешняя обшивка, был взломан. В самом прямом смысле. Кусок деревянной доски, который я своей ногой поставил на место, когда мы стояли на иракской базе, отсутствовал. Вернее, не совсем отсутствовал, а лежал рядом с контейнером. Там, где он должен был находиться, зияла продолговатая дырка сантиметров двадцать шириной и тридцать в длину.
«Твою мать,» — вырвалось у меня. — «Эти твари теперь знают, что мы везем!»
«А что мы, собственно, везем?» — услышал я резонный голос собственного разума. И я стал на колени, чтобы получше рассмотреть содержимое ящиков. То, что я там увидел, сначала шокировало меня. Через несколько секунд, когда оцепенение прошло, я стал думать над тем, что я увидел внутри контейнера.
ГЛАВА 23 — ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛУМБИИ. ГРУЗ
Внутри был кусок железа, выкрашенный в зеленый цвет. Сигарообразное тело в обхват толщиной, к которому крепился стабилизатор. В общем, это была бомба. Об иракских бомбах мы с ФАРК не договаривались. Из набора бортовых инструментов я взял металлический гвоздодер и до самого верха контейнера отодрал сломанную доску и посветил внутрь фонариком. Обычно бомбы транспортируют в горизонтальном положении, но продолговатый предмет высотой чуть больше полутора метров довольно уютно устроился в вертикальном контейнере. Он был аккуратно выкрашен зеленой краской. Но не так, как советские боеприпасы, даже под слоем зеленой косметики сохранявшие заметную шероховатость. Краска на бомбе лежала ровно и так гладко, что даже хотелось ее погладить рукой. Я не удержался и погладил. Бомба была холодной. После моего прикосновения на ней осталась полоса более светлого оттенка, а на ладони следы пыли. В верхней части бомбы имелись два красных ободка. Между ними красовались две латинские буквы. В, первая, сразу же попала в луч фонарика, а вторая, Z, повторяя изгиб бомбы, терялась в глубине контейнера. Была еще и надпись, сделанная арабской вязью, неаккуратно и явно наспех, с помощью трафарета. Но я по-арабски не читал. Да и не было нужды в арабском, чтобы понять: передо мной М-44, обычная кассетная бомба, каждая из трех кассет которой начиненная шариками с «Бизед», нервно-паралитическим газом. Мне стало ясно, что прорезиненные комбинезоны иракцев, в которых так тяжело передвигаться под палящим солнцем, были частью комплектов химической защиты. На тот случай, если произойдет утечка «Бизед». Иракцы знали, какой именно груз повезет мой самолет. А я нет. Судя по размеру контейнеров, у нас на борту таких бомб достаточно для того, чтобы остановить наступление развернутой дивизии. Что же случится, если применить их против мирного населения, даже трудно себе представить.
«Твою мать!» — снова вырвалось у меня.
«У тебя что-то случилось, Иваныч?» — громко спросил меня из кабины Плиев.
«Я говорю, мы не опаздываем?» — стараюсь сохранить свой голос твердым и спокойным.
«Да, все нормально. Через час нам дадут добро на вылет, и мы аккуратно пойдем на Боготу.»
«Ты проверь еще разок свои вычисления,» — отвечаю я Плиеву. — «А я здесь осмотрю платформы.»
Я поставил на место вырванную доску и вернулся в кабину.
«Порядок, Иваныч, у меня полный порядок. А у тебя?»
А у меня в голове был полный кавардак. Я понимал, что теперь, в случае форс-мажора, я автоматически становлюсь козлом отпущения. Если меня обвинят в транспортировке оружия массового поражения, это будет в лучшем случае означать пожизненный срок. Потому что наверняка истинные владельцы моего груза уйдут от ответственности, и тогда неподкупное международное правосудие назовет меня убийцей невинных людей и самым страшным человеком за всю историю человечества. Что мне делать, я не знал.
М-44 это обычная кассетная бомба. Всего-навсего средство доставки боевого вещества к цели. Я никогда не работал с подобным товаром. Удачно избегал всевозможных предложений такого рода. Не моя номенклатура. Хлопотно, невыгодно, опасно. Смертельно опасно, с учетом начинки бомбы. Этой бомбой вряд ли можно уничтожить полмира, но ее вполне хватило бы на то, чтобы стереть с лица земли одного человека. Меня.
Начало истории М-44 теряется, как исток Днепра в белорусских болотах. Кажется, работать над ней начали еще в пятидесятые. Американцы возлагали на газ «Бизед» большие надежды. Они не оправдались. Начинка оказалась самым неудачным боеприпасом за всю историю оружия массового поражения. Перед учеными поставили задачу — создать химвещество, способное нейтрализовать противника, причем, убивать его необязательно. Достаточно вселить панику в сердца солдат и обездвижить вражеские порядки. С первым условием ученые справились блестяще. Вдохнув газ «Бизед», человек впадал в панику, его сознание сковывал необъяснимый страх. С тем, чтобы обездвижить врагов, дело обстояло сложнее. При небольшой концентрации вещества противник сохранял способность к самостоятельному движению, а при значительной просто умирал, как и от любого другого химического оружия. Военные были не очень довольны. Облако газа довольно легко распознать на поле боя. Увидев его, солдату достаточно заранее надеть маску, чтобы спасти свою жизнь. Восемьдесят процентов пораженных выживали, правда, у них основательно сдвигалась крыша, и они надолго становились пациентами психлечебниц. А самое главное, газ оказался неимоверно дорогим в производстве. Химический компонент был настолько сложен, что к концу восьмидесятых американцы отчаялись и отказались от выпуска этих бомб. И снова стали тратить бюджетные деньги, теперь уже на уничтожение химбоеприпасов. Правда, я и раньше слышал о том, что какая-то часть этих бомб попала в Багдад как раз в самый разгар ирано-иракской войны. Теперь же я в этом убедился окончательно. Что же на самом деле происходило между Ираком и Америкой, неизвестно. То ли янки продали иракцам это оружие под видом инсектицидов, то ли разведка Хусейна где-то слямзила несколько образцов М-44 с газом, но теперь это уже не слишком важно. Важно лишь то, что у Саддама появилась собственная химическая бомба. Она удивительно точно повторяла американский прообраз. Все говорило о том, что именно этот опасный хлам оказался у меня на борту.
Я вдруг очень ясно представил себе, что мне конец. Что эти парни из джунглей просто послали меня на убой. Потому что, если бомбы с газом окажутся у них, то искать будут не партизан, а меня. Человека, который их привез. Меня назовут продавцом оружия массового поражения, и весь мир будет охотиться на меня, как на бешеного волка. Охотников не будет интересовать, что я с самого начала ничего не знал о грузе. Стоп! А кто истинный владелец груза? Неужели колумбийцы задумали газовую атаку против правительственных войск? Эти бомбы возможно применить только в одном случае — если сбросить их с самолета. Мне ничего не было известно о партизанской авиации, кроме, конечно, легких самолетов, на одном из которых и я посетил гостеприимные берега реки Путумайо. Эти летающие такси отлично справлялись с перевозкой кокаина, но в качестве бомбардировщиков были абсолютно непригодны. Конечно, бомбу можно взорвать с помощью дистанционного устройства. Можно разобрать и достать оттуда кассеты с ядовитым веществом, а потом использовать его в чистом виде, теоретически это возможно. Но для того, чтобы заложить фугас, М-44 слишком велика. Боеприпас ростом с человека сложно незамеченным доставить в расположение правительственных войск. Да и опасно. Разве что сунуть ее в кузов фургончика и посадить за руль идеологически стойкого смертника, но ФАРК не Аль-Кайеда, коммунистические партизаны по-другому воспитаны. Разобрать бомбу? Нет, на это они тоже не пойдут. Тут нужен не просто сапер, а уникум, сапер-универсал, хорошо знакомый с устройством авиабомб. Кроме того, такой сапер должен обладать неплохими знаниями в области боевой химии. Такого сложно найти даже в Боготе, не говоря уже о труднодоступных джунглях. Можно, конечно, выкрасть какого-нибудь студента химфака, желательно, отличника. Но на следующий день это станет известно колумбийским спецслужбам. А, значит, и американским. Выходит, ФАРК эти бомбы ни к чему. Но тогда зачем я везу их в джунгли?
«Иваныч, нам дают взлет,» — крикнул Плиев из кабины, и я сел в свое кресло. Машина побежала по взлетной полосе и резко взлетела, задрав стеклянный нос к потемневшему небу. Солнце садилось на Западе. Над морем до самого горизонта протянулась алая дорожка. Она грустно подмигивала мне золотыми вспышками, бегущими по гребням вечерних мелких волн. «Хорошо бы здесь задержаться подольше,» — подумалось мне. Я даже позавидовал этим черным грузчикам, которые, пытаясь ограбить меня от нужды и безнадеги, нехотя помогли мне открыть ящик Пандоры на борту моего собственного самолета.
Сверхумные управляемые платформы ждали своего часа. В память бортовых компьютеров уже были заложены данные о точке сброса и подробная карта местности вместе с розой ветров. Система могла сама управлять парашютом после того, как прервется связь с бортом. Как только сработает механизм мягкой посадки, на частоте, известной только мне и Rocco Sovsky, заработает радиомаяк. Он будет работать в течение трех суток, ежедневно включаясь в одно и то же время ровно на шестьсот секунд. Такие маяки установлены на каждой из трех платформ. Все продумано. Результат известен заранее, и он не может быть неудачным. Во всей операции ничего опасного не было. Кроме самого груза.
Мы приближались к точке сброса. Под нами была Колумбия. Над нами «Боинг-767» американских авиалиний. Пара сотен пассажиров на его борту, мирно расслабившись в мягких креслах, понятия не имели, что в данный момент они прикрывают собой транспортировку оружия массового поражения. Мне бы отказаться от этой операции. Еще на гостеприимной Гваделупе я хотел было набрать номер Рокоссовского или де Сильвы и отменить наш контракт. Но это было невозможно. Связь с ними была односторонней. Они сами выходили на меня, когда это им было нужно. Механизм обратной связи оговорен не был. Оставаться на острове я не мог. Если бы французским властям стало известно, что находится в моих контейнерах, я тут же оказался бы в центре самого крупного мирового скандала современности. И жить бы мне тогда оставалось недолго. Ровно до первого судебного заседания.
«Иваныч, внимание, выходим на заданную точку,» — прозвучал в наушниках голос Плиева.
«О-кей,» — кивнул я головой. Сейчас раскроется рампа, и три контейнера покинут, наконец, мой самолет. Пусть тогда по поводу отравляющих веществ болит голова у де Сильвы. И тут внезапно меня озарило. Я понял, что это ловушка. Бомбы из Ирака. Скорее всего, сделаны в Штатах. А им сейчас больше других нужно прижать Саддама. Химическое оружие в Ираке это прекрасный повод начать превентивную войну. А химическое оружие, доставленное из Ирака в Колумбию, это еще лучше. Одним махом решаются две проблемы. Первая — Саддам, человеконенавистник и тиран, собравшийся отравить полмира. Вторая — сумасшедшие коммунисты в колумбийских джунглях, окончательно потерявшие представление о реальности. Они купили у Саддама дюжину химических бомб, чтобы установить в демократической стране диктаторский режим. Именно так будет звучать речь американского представителя во время заседания Совета Безопасности, после которого Объединенные Нации дадут свою санкцию аж на две войны сразу.
За бортом, под нами, белым одеялом стелились плотные облака. В это время года здесь всегда бывает облачно. Что поделаешь, начинается сезон дождей. Тропическое море дышит густым туманом, который стелется до самой Боготы. И дальше, за горы, аж до Тихого океана. Когда поднимаюсь вверх и гляжу на облака, мне хочется нырнуть в них, как в бабушкину перину, а она у нее была толстая, пуховая, всегда с уютной башней подушек, мал мала меньше, построенной в голове кровати. Тогда мой слух перестает улавливать гул моторов, а тело уже не чувствует никакой вибрации. Так видит мир заядлый курильщик марихуаны после хорошего косяка. А мне хорошо и без наркотиков. Гляди только на белую бесконечность, теряясь во времени, и расслабляйся.
Для расслабления я выбрал не самое лучшее время. Эти никчемные бомбы могут принести много бед. Прежде всего, мне самому. Если я неправ насчет американцев, существует еще одно объяснение ситуации. Вполне вероятное. У Саддама сейчас много проблем с американцами. Они ищут повод, чтобы начать войну и сбросить Хусейна. Химическое оружие в арсеналах Саддама, даже такое несовершенное, как «Бизед», это прекрасное объяснение необходимости будущей войны в Ираке. Надо только найти всю эту бытовую химию, которую, кстати, американцы сами продали усатому диктатору. Теперь я в этом почти не сомневался. Сделанная в Америке М-44, набитая газированными кассетами, могла попасть в Ирак только легальным путем. А теперь, напуганный бесконечными инспекциями, Саддам решил спрятать химическое оружие. На время. Чтобы потом забрать его назад. Джунгли для этого вполне подходят. «Вы ищете у меня химическое оружие, потому что знаете о нем?» — думает могущественный араб, — «А вот ни за что не догадаетесь, что я свои бомбы спрятал у вас под носом! Если что, могу их даже привести в действие. И постараюсь, чтобы вы, треклятые американцы, об этом узнали.»
Гениальная идея, с точки зрения Саддама. На его месте я поступил бы так же. От химического оружия избавился. Имею возможность вернуть его назад. И обязательно сделаю это, как только опасность войны с Америкой сойдет на нет. Так думает Хусейн. Но я, Андрей Шут, знаю, что американцы всегда и все делают с гораздо более дальним расчетом. И если бомба М-44 появилась в Ираке, то однажды она сработает. Для этого ее необязательно взрывать. Достаточно только найти.
Я не хочу, чтобы ее нашли. Если это случится, то вместе с бомбой неминуемо найдут и меня. И тогда моя перспектива сузится до выбора между самоубийством и международным трибуналом. Стоит ли рисковать жизнью и свободой ради трех миллионов? Нет, не стоит. Лучше деньги отдать. А от товара избавиться. Перепрятать его так, чтобы его не нашел никто — ни американцы, ни колумбийцы, ни иракцы. Ни даже я сам.
— Шеф, подходим к точке сброса, — сказал Плиев. Кажется, я слышал от него то же самое минуту назад. Решение никак не созревало в моей голове, пока что. А времени оставалось в обрез.
— Подходим, — повторил я интонацию Плиева. — И что же дальше?
— Я жду Вашей команды, не знаю, что делать.
— Не знаешь, что делать, тогда жди команды.
— Я жду. Но Вы молчите.
Он прав, надо срочно принимать решение. Внизу была Колумбия. Землю, укрытую ковром их облаков, совсем не было видно. Лишь далеко, на горизонте, возвышались над белым ковром вершины гор. Я отдам де Сильве его миллионы. Так будет правильно.
— Примерно пять минут до точки сброса, — слышу я обратный отсчет, который ведет Плиев. Надо будет выписать ему премию. За классность и за верность.
— Четыре минуты. — Что бы я ни предпринял, отныне я не могу себя чувствовать в полной безопасности.
— Три. — Любое мое решение в этой ситуации не больше, чем лотерея. Рулетка, где на кону стоит моя жизнь.
Я еще раз посмотрел на облака. Ну, что же, Андрюша, ты выберешь? На черное или на красное? Миллионы долларов или спокойная жизнь?
Внизу была Колумбия. Дистанция между мной и получателями кассетных бомб сокращалась. Она сокращалась еще три минуты. До минимума. А потом начала возрастать. Плиев так и не дождался моей команды открыть рампу. Он посмотрел на меня непонимающими глазами горца. А горцы не умеют скрывать эмоции. Он явно был зол на меня. И одновременно растерян.
— Ладно, Казбек, не переживай. Свои деньги ты получишь.
— Да хрен с ними, с деньгами! Я ничего не понимаю, Иваныч!
— А тебе и не надо понимать. Я и сам не понимаю. Просто чувствую, что так надо.
Возможно, я спас целый мир. Как минимум, сохранил жизни двум-трем сотням крестьян в колумбийской сельве. Но судьба человечества заботила меня меньше всего. Кроме, пожалуй, единственного его представителя. Меня самого. Я взвесил шансы и принял решение. Могу ли я договориться с иракцами? Нет, не могу. Кроме усатого майора, я не знаю ни одного араба, причастного к отправке моего груза. Темная личность в иорданском аэропорту вообще не в счет. Да и что я, собственно, знаю о майоре? Только то, что зовут его Ахмед и учился он в Одессе. Теперь американцы. Вполне возможно, это спланированная ими хитроумная провокация. Но кто персонально стоит за ней, мне неизвестно. Более того, я этого никогда не узнаю, а, значит, и здесь шансов договориться у меня тоже не было. Я имел дело только с колумбийцами. Конечно, де Сильва очень опасный человек. Что там он говорил про деньги? Вернуть предоплату и оплатить эвакуацию партизанской базы? Деньги за доставку я, конечно, верну. А вот с остальным этим парням из тропического леса придется подождать. С расчетом буду тянуть настолько долго, насколько возможно. Если выйдет, то всю свою жизнь, о спасении которой я сейчас думал.
Но опасность для меня все еще не миновала. Мы вышли из воздушного пространства Колумбии и повернули в сторону Гавайских островов. Гавайи, пятьдесят первый штат самого могущественного государства планеты. Того самого, которое сделает меня козлом отпущения и поводом для начала новой войны где-нибудь на Ближнем Востоке. Это в том случае, если после посадки, кроме нескольких листов дорогостоящей фанеры, у меня на борту найдут контейнеры с грузом несколько иного характера.
— Где мы сейчас? — спрашиваю Плиева.
— Над Тихим океаном, — буркнул тот. — Нужны более точные данные?
— Я хочу знать, что под нами. Вода или какой-нибудь хренов остров.
Внизу, насколько видел глаз, были облака. Такие же, как над Колумбией. Иорданией. Или какой-нибудь другой землей. Я знал, что внизу океан. Мне подсказывали это приборы и карты. Я знал лучше Плиева, что внизу нет ни одного острова. Его слова мне нужны были для уверенности в том, что все я делаю правильно. И чтобы через минуту я смог принять решение, которое, возможно, доставит мне много больших неприятностей, но спасет от гораздо более серьезных. Эти его слова мне нужны были, как пятьдесят грамм водки для новобранца на поле боя. Или лучше сто. Что там, Казбек, все чисто?
— Чисто, босс, ни острова, ни корабля, ни шлюпки.
Я отстегнул ремни и вышел в грузовой отсек. У меня в руках был нож. Обычный штатный нож выживания, который находится в специальной сумке у каждого пилота, на случай непредвиденных ситуаций.
— Постой, командир, — сказал Плиев. — Ты хочешь обрезать стропы?
— Нет, пару проводков в компьютере этих умных парашютов.
— Но ведь до Колумбии они все равно не долетят, верно?
— Верно, — говорю, — и что?
— Сбросим их здесь, и пусть планируют, куда хотят. Чем дальше от нас, тем и нам проблем меньше.
Молодец, этот осетин. Голова у него варила, как, впрочем, у всякого другого первоклассного пилота. Он не просто продумывал ситуации в воздухе. Он предугадывал их. Он понимал меня без лишних слов.
— Ну, что? — переспросил Казбек.
— Сбрасывай, — кивнул я головой, усевшись на свое место. Когда моя рука искала под сиденьем аварийную сумку, чтобы вернуть нож на место, рампа в хвостовой части самолета открылась.
Спусковое устройство было компактным и все же довольно сложным. Целая система — тележки с электродвигателями, бортовые компьютеры, парашюты, — была продумана и смонтирована таким образом, чтобы сбросом возможно было управлять из кабины пилота. Важно, чтобы контейнеры, сваливаясь в свободное падение, не задели друг друга. Все было идеально просчитано самыми талантливыми в своей области конструкторами. И сделано, хоть и за небольшие деньги, но с любовью. Которая на сей раз оказалась безответной.
Я не слышал, как сошел первый контейнер. Он должен был некоторое время лететь вниз в режиме свободного падения. Но самолет шел вперед, не обращая внимания на сантименты своего экипажа. У нас не было желания сделать круг над точкой, в которую превратился деревянный контейнер, набитый химическим оружием. Он ушел в курчавую облачность, и я себе хорошо представил, как на небольшой высоте, в подбрюшье у облаков, раскрывается огромный купол главного парашюта системы доставки. Вслед за первым контейнером ушли футляры для бомб М-44 под номером два и номером три. Даже если кто-нибудь и заметит, как три странных контейнера дрейфуют по воздуху в сторону Колумбии, мы будем уже далеко. Когда бомбы прорвут гладь океана, мы будем еще ближе к главному из островов Гавайского архипелага.
Ковер облаков разорвало в трех местах. Три точки на монохромном белом фоне падали с небес. Если бы там, внизу, был досужий наблюдатель, скажем, одинокий мореплаватель, пересекающий великий океан на яхте, или заблудившийся во время шторма рыбак, он наверняка увидел бы, как три маленьких черных точки в течение считаных секунд разрастаются в три кубических объекта. А потом над ними внезапно и неожиданно, как лепестки цветка во время ускоренной съемки, раскрываются уникальные парашютные системы. Они, меняя направление вопреки ветру и прочим превратностям погоды, устремляются назад, к латиноамериканскому берегу, чтобы, никогда не достигнув его, уйти в толщу воды и сложить свои парашютные цветы моментально и бесповоротно.
Но никто этого не видел. Сумасшедший гений из Крыма никогда не узнает, что его уникальные приборы, опередившие время, доставили полезный груз в бездну и безвестие. Через десять лет его изобретение повторят другие люди в другой стране. Любое, даже самое маленькое, движение их мысли будет просчитано до единого доллара.
ГЛАВА 24 — ГАВАЙИ. КООРДИНАТЫ
Дальше все произошло просто и предсказуемо. На Гавайях, сгрузив дорогостоящую фанеру, стоявшую где-то в углу грузового салона, американцы принялись очень внимательно осматривать самолет. Конечно, листы выгружали одни люди, а обследовали борт совершенно другие. Но обе группы были так похожи друг на друга. И повадками, и стрижками, и широкоплечими фигурами. Ничего не смогли найти, даже со специальными приборами, с которыми прошлись по стенкам грузового отсека. Тогда привели собак. Одна из овчарок уныло побродила по пустому отсеку, без груза напоминавшему обычный сарай, и помочилась в том месте, где откидывающаяся рампа смыкается с фюзеляжем.
— Хорошая примета, — прокомментировал ситуацию Плиев.
Когда умная собака, подняв заднюю лапу, делала свое дело, она тоскливо глядела на своего хозяина. Тот, явно сконфузившись и потеряв обычную американскую наглость, пожал плечами и развел руки. «Ничего, ничего,» — сказал я и, как только животное покончило со своими естественными потребностями, дал псине кусок шоколадной конфеты, неизвестно каким образом оказавшийся в кармане моей летной куртки. Собака сожрала его и деловито выбежала на бетонную рулежку. «Гав-гав», — сказала овчарка. Что, очевидно, означало: «На борту искать нечего. У этих прекрасных ребят из Восточной Европы есть только хороший шоколад,» Я же про себя подумал: «Чем же они кормят здесь служебных псов, если те готовы брать шоколад из чужих рук?» Вопрос был риторический, ответа не требовал. Рампу решили не мыть. Только широко, от души, плеснули ведро воды на загаженное место. Вода стекла через щель между рампой и фюзеляжем и вылилась на бетонку. Словно кто-то несанкционировано спустил воду в железнодорожном туалете во время стоянки. Отчасти, так оно и было.
По моим расчетам, первый контейнер с бомбами М-44 соприкоснулся с поверхностью океана невдалеке от мыса Корриэнтес в точке с координатами 5°12'05'' северной широты и 79°28'15'' западной долготы. Второй и третий приводнились где-то рядом, в пределах квадратной мили. В этом месте нет ни одного острова. Конечно, мы немного рисковали. Рядом Панамский перешеек. Движение судов в этой части океана довольно интенсивное. Контейнеры могли свалиться морякам на голову. Или попасть в поле зрения вахтенных. Но нам все сошло с рук.
ГЛАВА 25 — ЭМИРАТЫ. МАЙОР АХМЕД
И дальше все было хорошо. Я собирался честно вернуть деньги своим заказчикам. Полностью. Некоторое время спустя, оказавшись в своем офисе на Умм Хурейр, я принялся искать серьезных людей, которые с самого начала помогали мне заключить сделку с колумбийцами. Но серьезные люди словно испарились. Все известные мне телефоны милым голосом арабской девственницы просили меня перезвонить позже в связи с тем, что абонент недосягаем. А мне так нужно было немедленно дотянуться до моих треклятых абонентов.
Сутками напролет я сидел в своем офисе и делал вид, что планирую новые поставки. На самом деле я наяривал по всем известным мне номерам посредников, связанных с ФАРК. Они молчали. Все. И это было невероятно. Казалось, весь мировой бизнес оружейных поставок просто заморозился. Превратился в стоп-кадр. За моим окном жизнь текла своим чередом. Ночь сменяла день. По Умм Хурейр то бежал поток машин, то, нервно попискивая клаксонами, стояли километровые пробки. Дни были жаркими. Кондиционеры плакали слезами конденсированной влаги о наступлении аравийского лета. По зеркальным стеклам, по крышам автомобилей, по миндалевидным глазам рекламных красавиц на бигбордах мелкой песчаной порошей молотил ветер из пустыни. Туристам говорят, что это «хамсин». Ураган, который дует не меньше пятидесяти дней. Отсюда и название. «Хамсин» по-арабски означает «пятьдесят». Туристов не смущает, что через три дня ветер стихает. Приезжая домой, они с гордостью сообщают своим родным о том, что пережили настоящее аравийское приключение. «Трехдневка», правда, почти ничем, кроме срока, от хамсина не отличается. Песок скрипит под ногами прохожих. Песок скрипит на зубах. Песок ровным слоем лежит на клавиатуре компьютера, неизвестно каким образом проникнув в почти герметичный офис. Песок лежит на приборной панели автомобиля. И весьма неприятно покалывает вам спину, когда вы ложитесь в постель после напряженного трудового дня.
Обычно после «трехдневки» снова наступает жаркая сухая погода без единого движения воздушных масс над полуостровом. Но на этот раз все было по-другому. С неба неожиданно сорвался дождь. Настоящий тропический ливень. Таких в Дубае я еще не видел. День заканчивался, и я уже собирался ехать к себе. Моя машина стояла на улице. Я вышел из здания. Идти до машины было всего ничего, секунд пятнадцать. Но за эту четверть минуты я вымок до нитки. Я сел в свою «хонду» и, включив кондишн, тут же поставил его в режим обогрева. Надо было обсохнуть. В этой стране я еще ни разу не поворачивал ручку вентилятора вправо, на красный сектор. Вот пригодилась и эта конструктивная особенность автомобиля.
На круглой площади, посреди которой стоял на четырех подпорках Дубай Клок Тауэр мне нужно было поворачивать направо. Но я проехал съезд на дорогу №89 и продолжал двигаться по кругу. Объехав вокруг башни, я снова миновал поворот направо. Ехал медленно, явно создавая помехи другим машинам. Они не сигналили. В арабских странах водители сигналят, подчиняясь странной логике, которую не понять приезжему иностранцу. Здесь могут спокойно, без нервов, на четырехполосной автостраде пропустить машину, совершающую на скорости сто пятьдесят километров в час поворот из крайнего левого ряда в крайний правый. Нужно человеку проехать, что поделаешь. И, в то же время, спокойный арабский водитель давит на клаксон, стоя на перекрестке. Ему горит красный свет. Его «бентли» второй, сразу за приемистым «ягуаром», которому посчастливилось подъехать к светофору первым. Но «бентли», не обращая внимания на красный свет, все равно сигналит. Зачем? А чтобы впереди стоящий не расслаблялся и стартовал еще на желтом.
Я принял влево. Теперь моя машина точно никому не мешала. Третий полный круг вокруг часов. Что тут такого? Иностранец любуется памятником истории, с которого начался город Дубай. Правда, через сплошной поток воды на лобовом стекле куранты только угадывались, несмотря на интенсивные движения «дворников». Красно-синими пятнами бродила по конструкции подсветка, которую даже в такую скверную погоду муниципалитет посчитал излишним выключить. Под кубическим блоком с часами, который словно висел в воздухе, плескался фонтан. Ему сегодня было бессмысленно конкурировать с ливнем. Я кружил вокруг башни, не делая ни малейшего движения рулем. Просто встал в левый ряд и тихонько давил на правую педаль. Четыре белых пятна, четыре циферблата, по одному на каждую внешнюю грань куба, вращались вокруг оси Дубайской башни, словно та превратилась в карусель. Эта карусель кружила пальмы, дома, фонтан, дорожные знаки, весь этот мир. Но только не меня. Надавив ногой на газ, я оставался на месте. И, остановившись, я медленно осматривал внутренним взором закрома своей зрительной памяти. Что-то важное там было, что-то спасительное для меня. Мир вращался. Мое сознание фонариком рыскало в тайниках моей памяти. Фонарик натыкался на углы воспоминаний. Я, осторожно вынимал их, и, сняв слой пыли, осматривал. Нет, не то, нужно искать дальше. Я не помнил, куда я сунул то, что мне было нужно. Но я точно знал — оно здесь. И я найду его. Тонны информации снова оказались под рукой. Я и не знал, что помню так много. Я открыл окно машины, чтобы выбросить хлам наружу, под ноги этой гигантской карусели, отсчитывающей мое время. Его оставалось все меньше. Если, конечно, я хотел продолжать наслаждаться всеми радостями моего безбедного существования. Только надо искать. И в тот момент, когда я, почти отчаявшись, готов был оставить эту утомительную ревизию прошлого, мое сознание ухватилось за небольшой кусок картона. На нем была надпись, на арабском. А если перевернуть картонку на другую сторону, то можно увидеть и латинский шрифт. Вот оно! То, что мне сейчас нужно.
Я надавил на газ и рванул вправо. Из крайнего левого ряда повернул на Умм Хурейр. За спиной я услышал, как нервно и протяжно засигналили десятки автомобильных голосов. Ну, что ж, никто никого не зацепил, и это уже неплохо. Мне сейчас недосуг думать о том, что происходит у меня за спиной. Мне нужно думать о том, что ждет меня впереди. А впереди снова был пятнадцатисекундный бросок к двери офисного центра и неторопливый — здесь никто никуда не торопится — подъем в лифте. Потом мне нужно открыть офис и наскоро осмотреть содержимое верхнего ящика моего стола, куда я обычно смахиваю ненужные визитки. Хорошо, что я их не выбрасываю. У меня появился шанс.
Этот шанс мне дает плотная дешевая бумага, которая лежит сейчас передо мной. На ней написано «Ahmed Ziadha, MoD of Iraq, logistics and liason officer/inspector». И начинавшийся с кода 964 номер телефона. Конечно же, это не был мобильный телефон, во времена Саддама сотовая связь была достоянием очень немногих людей. Скорее всего, этот телефон прослушивался. Но я умел задавать вопросы и получать на них правильные ответы. Я подтянул к себе поближе аппарат и набрал номер, указанный на визитке. Линия долго подключалась к международной связи. Я не меньше минуты слушал треск и пощелкивание в трубке, пока, наконец, до меня донеслись двойные длинные сигналы иракской телефонной станции. Абонент не занят, линия свободна. Ждать пришлось недолго.
— Алю, — услышал я бархатный голос на том конце провода. Арабы именно так и говорят по телефону. Не «алло», не «слушаю», а вот так мягко «алю». Я сразу узнал ту интонацию, с которой officer/inspector Ахмед ностальгировал по Одессе на бетоне авиабазы в пустыне. Мое решение позвонить этому иракцу, возможно, было не самым правильным. Но оно было единственным в сложившейся ситуации. Офицер на иракской базе должен был знать хоть что-нибудь. Должен был дать мне конец хотя бы одной тонкой ниточки, которая приведет меня к ФАРК.
— Ахмед, мархаба, — радостно поприветствовал я его по-арабски, но с русским акцентом. Он его тут же уловил.
— Мархаба, хабиби, а кто это?
— Это я, Андрей!
— Какой Андрей?
— Как какой? Летчик. Из Украины. Я у тебя недавно три ящика с подарками забрал. Большие такие. Помнишь, мы про Одессу вспоминали.
— Одессу помню, я там учился, — медленно лилась в мое ухо информация из трубки. Ахмед тянул время. — Андрея не помню.
— Да нет, не в Одессе, мы про Одессу просто говорили.
— Где говорили? — переспросил Ахмед. Он начинал меня раздражать.
— На аэродроме говорили.
— На каком?
— Да на твоем же. Пару недель назад.
— У меня нет аэродрома, хабиби, — засмеялась трубка. Чего это он дурака валяет?
— Послушай, дружище, мне от тебя ничего не надо. Не играй в шпионов, ладно? Мне нужен телефон. Всего один телефон в Латинской Америке.
— Послушайте, Вы! Я офицер. Из Ирака выезжал только один раз. В Советский Союз. Если это шутка, то глупая. Если это провокация, то я немедленно о ней доложу командиру.
— Ахмед, это не шутка и не провокация. Это вопрос... — я бесполезно кричал в трубку, которая отозвалась короткими гудками.
Но я был настырным и набрал номер, который начинался с кода 964, еще раз. «Это вопрос жизни,» — закричал я в трубку, едва услышав дыхание усатого араба.
— Послушай, хабиби, — жестко сказал он, и в голосе уже не было мягкости, а была твердая сталь и бесконечная жестокость офицера из воюющей восточной страны. — Говорю тебе в последний раз. Если будешь мне звонить, то тебя найдут. Где угодно. А если тебе нужна какая-нибудь информация, пользуйся интернетом. Яху, Гугль, Альтависта. Там есть все новости, все телефоны, какие хочешь. Ялла, бай!
И Ахмед повесил трубку. Я больше не звонил ему, не было смысла. В очередной раз я бреду по полутемному тоннелю и не вижу свет в его конце. И так боюсь, что где-то в темноте мне встретится ловушка. Волчья яма, выкопанная как раз для такого зверя, как Андрей Шут. А, впрочем, что там говорил араб про интернет? «Все новости, все телефоны»? Может, и впрямь, поискать в интернете?
Ай, Ахмед, ай да молодец! Я нашел почти сразу то, что искал. Yahoo!News выдал мне подборку мировых новостей, среди которых, в основном, были отчеты о визитах президентов и длинные умные статьи с прогнозами на будущее мировой экономики. Если Ахмед просто отшил меня, то я, конечно, ничего не найду. А если старый иракский лис пытался очень осторожно помочь мне и не навредить себе, то мне должна попасться нужная информация. Тоненькая ниточка. Сигнал об опасности. Или, наоборот, безопасности. Что, впрочем, маловероятно. Я слишком много задолжал — и деньгами, и невыполненными обязательствами.
Нужно ввести ключевое слово. FARC-EP, РВСК-АН. Последние две буквы аббревиатуры означают «Армия народа». Поисковик выдал мне массу ненужных справочных сведений об организации. Видимо, полное название движения не интересовало ни читателей, ни журналистов. Я упростил задачу, выделил «shiftом» ненужный участок и нажал «delete». На мониторе компьютера остались четыре буквы FARC. Я ударил пальцем по клавише «enter». И увидел то, что так хитроумно пытался донести до моего сознания усатый арабский офицер.
ГЛАВА 26 — АГЕНТСТВО «INFOSUR»
«Колумбийская армия ликвидировала сегодня лидера левой группировки Революционные Вооруженные Силы Колумбии, или FARC, имя которого Рауль Родриго Мануэль де Сильва. Ему было шестьдесят лет. Он входил в руководство Секретариатом этой организации и вел международные связи FARC, а также отвечал за финансовую деятельность экстремистов. Помимо него, в боестолкновении погибло не менее пятнадцати боевиков. Координаты местонахождения де Сильвы были получены от информаторов, а затем подтверждены разведкой. Лидер боевиков должен был прибыть в тренировочный лагерь на территории соседнего Эквадора. Именно туда, как предполагают колумбийские и американские спецслужбы, левые экстремисты планировали эвакуацию некоторых своих объектов после очередного успешного натиска правительственных войск в районе провинции Путумайо. ВВС Колумбии провели ночной бомбовый удар, после чего в районе базы высадился колумбийский спецназ. Смерть одного из лидеров террористов подтверждена. На месте атаки найдены важные улики. В частности, портативный компьютер, который, предположительно, принадлежал самому де Сильве. Если это так, то информация, которая находится на нем, позволит раскрыть подробности многих связей FARC со своими зарубежными партнерами. Президент Колумбии утверждает, что сообщил Президенту Эквадора о готовящемся ударе по территории соседнего государства. Лидер Эквадора это опровергает и выступает с осуждением подобных действий северного соседа. Президент Соединенных Штатов выражает надежду, что после этой операции волна насилия, связанного с FARC, пойдет на спад и гарантирует поддержку правительству Колумбии в деле борьбы с терроризмом. FARC одна из крупнейших леворадикальных организаций, ведет вооруженную борьбу против центрального правительства с середины шестидесятых годов.»
Я вчитывался в «информашку» латиноамериканского агентства и пытался хотя бы между строк прочесть как можно больше о компьютере, который нашли на месте атаки. Лучше бы им достались дорогие очки де Сильвы. Надо побольше узнать о нем. Что еще есть в интернете? Я начал к слову «FARC» добавлять и дополнительные данные. Строчка в поисковике удлинялась.
«Удар, FARC, компьютер» «Компьютер оказался очень поврежден во время удара. Но специалисты считают, что есть надежда...»
«Удар, FARC, компьютер, де Сильва» «Это был единственный компьютер на месте удара. Пока не удалось со стопроцентной вероятностью доказать, что он принадлежал де Сильве. Но известно, что финансовый лидер FARC никогда не расставался со своим компьютером.»
«Удар, FARC, компьютер, де Сильва, данные» «Компьютер де Сильвы почти сгорел. Удар пришелся как раз туда, где находился лидер повстанцев. Данные о деятельности FARC пока еще недоступны. Но, специалисты говорят, жесткий диск уцелел.»
«Удар, FARC, компьютер, де Сильва, данные, жесткий диск» «Жесткий диск с данными тоже оказался поврежден в результате попадания ракеты. Эпицентр ракетного удара был там, где Рауль де Сильва, „финдиректор“ FARC, проводил совещание со своими подчиненными, демонстрируя им информацию на своем компьютере.»
«Удар, FARC, компьютер, де Сильва, данные, жесткий диск, Маккинтош» «Жесткий диск поврежден в результате удара» И так далее. Набор найденных сообщений почти не изменился. Поисковик выбросил на первую страницу уже прочитанную мной информацию. Дальше шли совершенно другие сообщения, которые к партизанам не имели отношения: «Компания Маккинтош начинает выпуск ноутбука с самым большим объемом оперативной памяти.» Ничего, где шла бы речь о Колумбии. И это хорошо. Это означает, что все рассказы о том, что де Сильва использовал свой компьютер, как наглядное пособие, могут оказаться выдумками журналистов, от скудости информации приправивших свои статьи непроверенными фактами. А вот то, что нет названия найденного компьютера слегка утешает. Может, и не его ноутбук нашли колумбийские коммандос. И меня тоже не найдут.
Я ввел еще одно слово. Rocco Sovsky. Компьютер выдал мне следующее.
ГЛАВА 27 — АГЕНТСТВО «AFP»
«После гибели одного из членов Секретариата, Революционные Вооруженные Силы Колумбии произвели некоторые изменения в своей структуре и командном составе. Теперь за военные операции на всей территории Колумбии отвечает Рокко Совски, его настоящее имя Себастьян Рокко Эстевес. Этот человек, до недавнего времени занимавшийся идеологической пропагандой воинствующего коммунизма, известен тем, что половину своей жизни провел в джунглях, пройдя карьеру от рядового бойца до влиятельного члена Секретариата движения. Первое его заявление на новом посту содержит призыв к беспощадной мести за погибших товарищей. „Мы отомстим каждому, кого мы посчитаем виновным в этой подлой атаке,“ — так заявил он, по информации сайта террористической организации, находясь в горах Колумбии.»
«Горы Колумбии» это такой эвфемизм, означающий «где-то» и «нигде» одновременно. Мне мало понравилось то, что я прочитал. Мало понравилось назначение Рокко. И уж совсем не понравилось его заявление о том, что партизаны будут мстить всем без разбора. Мне показалось, от монитора повеяло холодком. Я вспомнил то выражение, с которым глаза Рокко смотрели на меня из-под козырька его «режиссерской» кепки, когда мы с ним сидели на берегу Путумайо и пили «мате де кока». И хорошо представил, что именно подумал про меня непобедимый партизан, когда три дня подряд слушал эфир в поисках сигнала радиомаяка. Но что сделано, то сделано. Интернет весьма быстро забыл и про де Сильву, и про Рокко Совски, и про компьютер с очень важными данными. Я почувствовал себя свободным. Мой бизнес двигался и процветал. Меня ждали великие и важные дела. Начинался очередной передел мира, и там, где большие хищники успевали ухватить свой лакомый кусок, для нас, небольших, но очень зубастых акул, тоже появлялось пространство для маневра. Например, на таком многообещающем рынке, каким в конце девяностых стала Африка.
О, этот черный континент, очертанием напоминающий человеческую ступню, только на первый взгляд выглядит страшным и бедным. Если бы вы знали, какой поистине королевской роскошью обставляют себя африканские лидеры. Причем, чем беднее страна, тем дороже президентские автомобили, наряды и апартаменты. А что касается моей игры, то здесь можно делать миллиардные ставки. Правда, все здесь связано с риском. Президентские сроки кончаются внезапно и, как правило, у расстрельной стенки. Играя на миллиарды, ты неизменно ставишь на кон собственную жизнь. Я не был очень жадным человеком. Мои ставки ограничивались отнюдь не миллиардами. Миллионами. И, потом, я очень любил радости жизни. Платил за них, не торгуясь.
ГЛАВА 28 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, МАЙ 2003. ИНТЕРВЬЮ ЗА ПАСПОРТ
Сергей трясет перед моим лицом обложкой колумбийского паспорта. Он говорит, что нашел его среди обломков сбитого самолета. В нашем деле случайностей не бывает. Кем бы ни был владелец паспорта, появление этого документа у меня на столе равносильно сигналу тревоги. Красная лампочка мигает. Звонит набат. Сирена надрывается. Никто, кроме меня, ее не слышит. Все происходит в глубине моего сознания. Спокойного и прозрачного, как воды Красного Моря. Журавлев может лишь заметить отблеск тревоги у меня в глазах. Раз — и нервно замельчит мой взгляд по куску красного дермантина. Я держу себя в руках и даже не смотрю на то, что некогда было паспортом неизвестного мне колумбийского гражданина. Или все-таки известного? Сумасшедшим напряжением воли сдерживаю нервные симптомы своих мышц от щиколоток до лица. Выдерживаю паузу и медленно поднимаю свой взгляд на журналиста. Задаю вопрос, не для того, чтобы получить ответ, а все больше для того, чтобы оттянуть время.
— Ну, и что?
— Как что? — удивился Сергей. — Как что?!
И принялся вслух выстраивать собственную версию появления колумбийского паспорта в либерийских джунглях. Меня она не интересовала. В таких случаях нужно, не задумываясь о причинах опасности, действовать быстро и без суеты. Сворачивать бизнес и уходить на другую часть континента. Или мира. Но я не мог этого сделать. Теперь у меня была Маргарет. Она об этом еще не знала. Не догадывалась даже, что теперь всякое свое решение я собирался принимать с оглядкой на ее существование. Жизнь моя поменялась очень давно и бесповоротно. Сорок восемь часов тому назад.
— Иваныч, я простой журналист, — говорит Журавлев. — я зарабатываю свою копейку тяжело и непросто. Но «бедный» еще не означает «глупый». В моем случае, так точно.
Я налил себе виски. Зря, конечно. Журавлев может подумать, что я хочу успокоить нервы. А мне просто захотелось почувствовать во рту вкус янтарного алкоголя.
— Это ведь был твой самолет, Иваныч?
— Сережа, самолет был не мой. — Я покосился на выключенную камеру. — Самолет был не мой. Груз мой.
— Ну, хорошо, груз. Этот паспорт был на борту самолета, который вез твой груз. А потом самолет сбили те, кто принимал груз. Повторяю, твой груз. Ты сам это сказал. И я уверен, — Сергей чуть наклонил голову и повысил голос. — И я уверен, что все это связано с тобой, Андрей Иваныч.
Он помогал себе для пущей уверенности указательным пальцем. То и дело большой ноготь с черной полоской грязи, расставляя ударения в словах, стучал по стеклянной столешнице, словно телеграфный ключ по бумажной ленте телеграммы-молнии. Он был прав, этот энергичный парень. Но его правота ни на что не влияла. Он провоцировал меня на спор. Совершенно бесполезно, даже с точки зрения его профессии.
— Сергей, ты зря меня выводишь из себя. Все самое интересное я могу тебе выболтать еще до интервью.
— А что, еще есть шанс его записать?
— Я, по-моему, тебе еще не отказал. Хотя и не согласился, — я заговорил купеческим языком. Сергей тут же превратился в профессионального охотника за дураками.
— Андрей Иваныч, я не задам тебе ни одного вопроса, который бы тебе не понравился. Вернее, ты можешь не отвечать на те вопросы, которые тебе не понравятся. Это же не прямой эфир. Это запись. Все лишнее можно выбросить. Прямо здесь, если захочешь. На камере есть такая функция. Раз, и все лишнее тут же стирается. А все самое ценное остается на пленке. Давай?
— Сергей, я все равно не повторю в кадре ничего из того, что я говорю тебе без камеры. Ты хотя бы это понимаешь? Зачем тебе такое интервью?
— Иваныч, постараюсь объяснить как можно проще. Что бы ты ни сказал, все это будет круто. Потому что это скажешь ты, человек, которого подозревают в торговле оружием. Ты это эксклюзив сам по себе. Для меня очень важно, чтобы у меня в кадре были эксклюзивные люди. Интервью с живым торговцем оружия это все равно, что полет на Луну.
— Эксклюзив, говоришь? — заметил я с напускной задумчивостью. «Дай» — думаю, — «подразню этого ловца неспрятанных эмоций.»
— Хочешь эксклюзив, тогда плати гонорар.
Он опешил. Он действительно растерялся. Я отчетливо увидел в его глазах растерянное движение мысли и даже, мне показалось, услышал, как скрипят его извилины, высчитывая все возможные варианты ответа. Но его бортовой компьютер выдал тот же результат, к которому пришла бы любая домохозяйка в подобной ситуации. Он должен переспросить меня «Сколько?» Frequently asked question. Наиболее часто задаваемый вопрос.
— Сколько? — ну, вот, что и требовалось доказать.
— Нет, Сергей, неправильный вопрос. Не «сколько», а «что». Я не беру гонораров деньгами. Во всяком случае, за интервью.
— А что ты за него хочешь?
Я глотнул виски. Выдержал красивую и долгую паузу. Пока она длилась, взгляд Сергея следовал за малейшими моими движениями. Вот моя рука отвинчивает латунную пробку и наливает виски в тяжелый бокал с плоским дном. Мерцание сорокоградусного янтаря отражается в глазах Сергея. Рука подносит бокал к губам. Я вижу, как подбородок Журавлева поднимается вверх, а его зрачки уставились на бокал, словно приклеились к нему. Я отхлебываю виски и ставлю его на стол. Сергей, словно, зачарованный, смотрит на бокал так, словно оказался на приеме у гипнотизера. Как же примитивно, все-таки, устроены наши журналисты. Они так управляемы. Их действия легко просчитать. Они думают, что независимы. Пусть думают. Они зависят от самих себя. От своего желания получить то, что не получают их коллеги. Они соревнуются друг с другом, не задумываясь о том, что часто вместо информации получают подделку. Пожалуй, они знают о том, что их обманывают, но все равно не прекращают гонку за подделкой. В том случае, если уверены — это эксклюзивная подделка. В единственном экземпляре. Лучшие из них не исключение. Они лучшие потому, что раньше других хватают обманку. Вот передо мной сидит отличный парень Сергей Журавлев, который пойдет сейчас на любые условия ради того, чтобы Андрей Шут поиграл перед объективом в момент истины. Журавлев знает, что Шут его будет обманывать. Ну, и что? Это не имеет значения. Имеет значение только эксклюзивность вранья.
— Ставь камеру! — командую я Журавлеву.
Как же быстро он схватился за свой радиоэлектронный прибор. Он развернул камеру на меня и, вставив суетливым движением кассету, резко захлопнул крышку кассетоприемника.
— Так что я буду тебе должен за интервью? — переспросил Сергей.
— Паспорт.
— Какой паспорт? Мой?
— Нет, не твой. Колумбийский.
— Иваныч, я не могу, — Сергей слегка опешил от просьбы.
— Хорошо, — говорю я ему. — Тогда положи его в пепельницу и сожги.
— Как это?
— Ну, представь, что он полностью сгорел в огне катастрофы.
— Я не могу сделать это.
— Тогда я не могу ни о чем с тобой говорить. А почему, собственно, не можешь?
— Потому что... А почему ты хочешь у меня отнять мою добычу? — хитро переспросил у меня Сергей. — Ты все-таки связан с этим делом.
— С каким делом?
— С ФАРК, партизанами из Колумбии.
— Ты об этом хочешь спрашивать меня во время интервью?
— И об этом тоже.
— Нет, не связан, — соврал я. — Но ты в это все равно не поверишь.
— Андрей Иваныч, ну о чем мы сейчас говорим? Сел бы ты в кадр и покончили бы мы с этим делом за десять минут.
И тут я взорвался.
— О чем мы сейчас говорим?! О том, что тебя не интересует правда. А правда в том, что трех твоих соотечественников завалили. И тебя этот факт интересует просто, как новость! Информационный повод! Завалили бы местный самолет, ты бы не скакал так по джунглям. Ты оказался на этом аэродроме благодаря мне! Ты знаешь всю историю — кто сбил, что именно вез этот борт, где он упал. Сейчас этих парней уже ищут родственники. А ты, профессионал хренов, даже не удосужился передать кассету на родину. Не сумел он, видите ли! Да не в этом дело. Просто тебе очень нужен эксклюзив. Иваныч на закуску! Так вот. Хочешь закуску, так давай паспорт.
Сергей сжал свои губы. Они превратились в тонкую полоску под его носом, посиневшую от напряжения. На левом виске у Журавлева появилась капелька пота и медленно поползла вниз. Он тут же смахнул ее тыльной стороной ладони. Парень думал. Взвешивал приоритеты. А я бы на его месте не думал вообще. Клочок дермантина уже отработал свое. Он не сделает тебя, Сергей, ни богатым, ни знаменитым. А торговец оружием в кадре может стать хорошим толчком в твоей журналистской карьере. Чтобы понять это, мне, не имевшему никакого отношения к журналистике, понадобились доли секунды. Сергей, профессиональный журналист, на это потратил гораздо больше времени. Несколько минут своей драгоценной жизни. Наконец, он протянул мне обгоревший артефакт.
— Долго, Сережа, — заметил я нехотя.
— Что долго?
— Долго думаешь. А приходишь к тому же результату. Поэтому среди вас, журналистов, так мало богатых людей. Богатый не тратит время на бессмысленные сомнения. Он всегда идет по самому короткой дороге от пункта А к пункту Б. И потому достигает результата.
Огрызок красной корочки перекочевал ко мне в руки. Я сунул его в ящик деревянного комода возле постели.
— Наденешь что-нибудь? — спросил Сергей.
— Зачем? И так хорош, — я намеренно хотел выглядеть так, словно меня застали врасплох. — Разворачивай камеру. У тебя есть десять минут.
— Где у тебя включается свет?
— Слева, у входа.
Сергей подскочил и нажал на клавишу. Я зажмурился от вспышки яркой люстры. Журавлев не больше минуты возился с камерой, направляя ее на мое лицо.
— А маленький микрофончик цеплять не будешь?
— Какой микрофончик? Тот, с которым легко девушек кадрить? — слегка подначил меня Сергей. — Нет, не буду. Здесь, кроме нас, никого нет. На камеру и так пишется хороший звук. А ну-ка, скажи «раз, два, три»! Звук надо проверить.
Я произнес: «Раз, два, три». Сергей с сомнением поглядел на индикаторы. Потом махнул рукой.
— В принципе, и так сойдет. Ну, поехали. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Строим интервью, как обычную беседу. Можешь перебивать меня, если захочешь.
Запись на видеокассете формата mini-DV, хронометраж семь минут
Вопрос: Несколько дней назад невдалеке от Монровии был сбит украинский военно-транспортный самолет с военным грузом на борту. Вы были последним, кто разговаривал с пилотами этого самолета. По некоторым данным, Вы имеете отношение к грузу и самолету. Уточните, пожалуйста, какое?
Ответ: Никакого.
Вопрос: То есть... Тогда что Вы делали в аэропорту?
Ответ: Покупал билеты на Родину. Изучал расписание полетов.
Вопрос: Но Вы разговаривали с пилотами!
Ответ: Не помню. Вполне возможно. Я и сам был шокирован этим жутким зрелищем.
Вопрос: Постойте, но Вы же приехали в аэропорт с теми людьми, которые сбили самолет, ведь так? Я сам ехал с ними в машине.
Ответ: А что Вы, Сережа, делали в машине с такими опасными людьми? Задайте этот вопрос себе.
Вопрос: Я журналист и даже не мог предполагать, что они окажутся убийцами. Я даже не знаю, как их зовут.
Ответ: Вот видите, мы с Вами в одинаковом положении.
Вопрос: А что вообще может делать в Либерии российско-украинский бизнесмен во время боевых действий? Какова область его интересов в этой стране?
Ответ: Женщины.
Вопрос: Женщины?
Ответ: Вернее, одна женщина. Я собрался жениться. Моя невеста живет здесь. Вместе с ней я выяснял возможность провести медовый месяц у себя на Родине и поэтому оказался на аэродроме. А Вы сейчас вторгаетесь в личную жизнь, хватаете меня чуть ли не из постели и обвиняете в преступлениях, которые я не совершал.
Вопрос: ...Иваныч, я никого не обвиняю... Да, елки-палки, что же это такое?... Мы так не договаривались... Я хочу сказать...
Ответ: Не надо провокаций. Я могу подать на Вас в суд.
Вопрос: Какой суд? Речь не об этом. Я не хотел вторгаться в Вашу личную жизнь.
Ответ: Уже вторглись. Спрашивайте.
Вопрос: Так Вы здесь...?
Ответ: Для того, чтобы жениться на любимой женщине. Это самая прекрасная женщина в мире.
Вопрос: А Вы давно с ней знакомы?
Ответ: Мы с ней очень близки.
Вопрос: Знакомы ли Вы с президентом Тайлером?
Ответ: Да, конечно. Как и с президентом Бушем, и с президентом Путиным. Но вряд ли они знакомы со мной.
Вопрос: Хм-м-м?
Ответ: Я всех их видел в телевизоре. Они меня нет. Теперь увидят.
Вопрос: Ваш бизнес...?
Ответ: Торговля стройматериалами. Хороший бизнес. Жаль, у нас нет интересов в Африке.
Вопрос: Вернемся к Тайлеру. Он подарил Вам дом, в котором мы сейчас находимся.
Ответ: Мне об этом ничего не известно. Я его снимаю.
Вопрос: Но над входом у Вас висит табличка «Собственность Андрея Шута».
Ответ: Повесил вчера. Хотел произвести впечатление на невесту. Глупо, конечно. Придется снять. Настоящую любовь не купишь за деньги.
Вопрос: Иваныч... какая любовь? Это я у нее мог быть первым в ту ночь.
Ответ: Сергей, Вы переходите все границы. Это провокация. Вторжение в частную жизнь. Вы пытаетесь меня оскорбить! Втоптать в грязь честное имя моей будущей жены! Грязный клеветник! Вы с какого канала? Уберите камеру отсюда и сами убирайтесь вон!
(В кадре на переднем плане кисть крупно. Ладонь закрывает объектив. Угол меняется. Камера поднимается вверх. Потом движется в сторону пола. В кадре ноги говорящего человека. Потом полосы технических помех, говорящие о неисправности. Потом черное поле. Звук продолжает фиксироваться в искаженном виде в течение нескольких минут после исчезновения изображения.)
Я так вошел в роль, что слишком крепко сжал камеру Сергея. Чувствительный аппарат хрустнул. На моей ладони остался полукруглый красный рубец от объектива.
— Ну, что, — сказал я гораздо более спокойнее. — Уложился я в десять минут?
— Иваныч, какого хрена ты разбил камеру? Мы так с тобой не договаривались. Я оттуда даже кассету достать не могу. Ну, ты и сволочь.
— Еще раз назовешь меня так, будешь извлекать кассету из собственной головы. Понял?
— Понял, чего тут не понять. Ну, ты и артист. А я думал, у нас дружба.
— Дружба не строится на взаимном интересе. Это святое.
— Верни паспорт. Я с этим интервью могу только в «Сам себе режиссер» обратиться. Есть у нас такая программа.
— Паспорт я тебе не отдам. Мы же договаривались о том, что я соглашусь на интервью. О том, что я тебе в результате наговорю, мы не договаривались, Сережа.
Он вздохнул.
— Обманул ты меня. Очень круто обманул, Иваныч.
Я решил его успокоить.
— Ну, что ты, Сережа. — Я заговорил почти что примирительным тоном. — У тебя на руках отличный материал. Аэродром. Сбитый «Ан». Комментарий подозреваемого в нарушении эмбарго бизнесмена. Добавь еще немного местного колорита, ну, там, людей с оружием на улицах, полуголых аборигенов, корабли в гавани, и все. Пулитцеровкая премия у тебя в кармане. Или как там она у вас называется? «Грэмми»? «Эмми»?
— «Тэфи», — уныло поправил меня Журавлев.
— Это в России «Тэффи», — проявил я хорошее знание предмета. — А я говорю о международном признании. У тебя ведь наверняка наше с тобой ночное шоу купят американцы.
— Если бы у меня. — вздохнул журналист. — Продаст мой родной канал это видео буржуям за бешеные деньги, а мне даст премию. Примерно долларов сто, я думаю.
— А ты хочешь больше? — хитро подмигнул я Сергею.
Тут на его лице промелькнуло внезапное озарение. И он подмигнул мне в ответ. Тоже хитро.
— Андрей Иваныч, я, пожалуй, эту кассету продам кому-нибудь другому. — И он потряс извлеченной из камеры кассетой практически у меня под носом. «Ах, ты, сволочь!» — озарила меня догадка. — «Тайлеру хочешь ее продать!»
— Думаешь, он у тебя ее купит? — попытался я сблефовать.
— Почему «он»? Она.
Я удивился:
— Почему «она»? Он, Тайлер.
— Нет, Иваныч, я отнесу это Мики. И я точно знаю, что она сделает после этого.
Я молча глядел на Сергея. Мысль насчет Тайлера оказалась ошибочной. Журавлев выдержал паузу и продолжил.
— Одно из двух. Или она заставит заплатить тебя компенсацию. Или, — он опять подмигнул мне. — Или женит тебя на себе.
Я взял бутылку виски и отхлебнул прямо из горлышка. Сергей и не догадывался о том, что в интервью я сказал ему правду. По крайней мере, в той его части, которая касалась Маргарет. Впрочем, Маргарет об этом тоже не знала.
— Сережа, ты не представляешь. Ты вообще не в состоянии себе представить, насколько я этого хочу, дружище. Поэтому бери свою кассету и вези ее Мики. Будешь моим сватом.
И он повез. И она сказала «да».
ГЛАВА 29 — ЛИБЕРИЯ, ОКРЕСТНОСТИ МОНРОВИИ, ИЮНЬ 2003. АКУЛА
Мы решили пожениться через месяц. Я должен был закончить свои дела в Африке, она — свои. Однажды ночью я рассказал ей об удивительном городе с золотыми куполами, которые отражаются в широкой реке, о том, как мощные мосты соединяют ее острова с берегами, как звенит старая брусчатка под колесами автомобилей, о князьях, богатырях и красавицах с серебряными слитками в гривах русых волос. Она слушала меня, завороженно глядя мне в глаза, а я отводил взгляд в сторону в те моменты, когда моя фантазия произвольно заполняла пробелы в знании истории. Поскольку пробелов было много, я вдохновенно дорисовывал отечественную историю, а мой взгляд в это время блуждал по стенам ее спальни. Но кое-чего я все же добился. Мики перестала шутить по поводу низкого уровня жизни «этих восточноевропейских стран». В сказочном златоглавом городе мы и решили повенчаться. Вернее, таким было желание Маргарет. Мне было все равно, где венчаться. Я понимал, что брак это формальность. Сам процесс вступления в права обладания другим человеком противоположного пола, это лишь дань традиции, пережиткам патриархата. Или матриархата, что, по сути, одно и то же. Но в то же время, я понимал, что моей избраннице все это было нужно, как воздух. Белое платье, длинная прозрачная фата, вышитые золотом туфли. Так устроены все женщины. Если жениха поставить перед выбором, — что, в принципе невозможно и является лишь гипотезой, — сыграть свадьбу или вместо этого отправиться в романтическое путешествие с приключениями, любой молодой человек, без сомнения, откажется от свадьбы. Женщина же готова отказаться от всех последующий удовольствий в пользу одного — пройтись под взглядами малознакомых людей в ослепительно белом платье. Ради этого единственного мгновения женского триумфа она согласна отдать все сокровища мира. Если бы они у нее были. Женщине всегда нужно быть в центре внимания, а особенно в поворотные моменты ее жизни. Но статистика лишь подтверждает, что право выбора на стороне женщин. Нынче молодожены не часто отправляются в путешествия. Но зато всегда становятся клиентами свадебных салонов. Церемония в белом платье, при стечении огромного количества народа, подтверждает право женщины быть королевой и владеть самым важным, из всех возможных, завоеванием — мужчиной. Мики была умной и расчетливой, ей несвойственна была страсть к банальностям и предрассудкам, быстрота и логика ее ума были выдающимися, но это в данной ситуации ничего не меняло. Она была женщиной. И, значит, я лишен был возможности выбирать. Мое пространство свободы ограничивалось лишь выбором цвета костюма. Но я бы соврал, если бы сказал, что мне это не нравилось. Я согласился на церемонию бракосочетания. Я захотел посмотреть на лицо своей избранницы. Черное лицо на белом свадебном фоне. По-моему, это должно выглядеть очень возбуждающе. Моим обязательным требованием к внешнему виду невесты было лишь декольте и белые чулки. Как они крепятся, должна была знать только она. А потом уже и я.
Многорукая индийская танцовщица все время напоминала мне о моем выборе, болтаясь, подвешенная к зеркалу заднего вида. Я редко ездил в Монровии за рулем. Для того, чтобы ездить по этому городу, нужно было иметь вместо нервов стальные канаты. Правил дорожного движения здесь не знали. Похоже, их в Монровии и не существовало. Единственное правило, которое работало на монровийских улицах, это право сильнейшего. Я предпочитал не тратить свою драгоценную энергию на обычные водительские конфликты, которые возникали на каждом сложном перекрестке. Тем более, спорные ситуации на дороге могли закончиться дружеской перестрелкой. Я же стрелять ни в кого не хотел и сам собирался прожить долгую жизнь. Поэтому водительские споры я оставлял водителям и перемещался по городу то ли на такси, то ли пешком. Но в связи с тем, что я решил поменять свою жизнь, пришлось поменять и привычки. И я взял в аренду старенький внедорожник «мицубиси».
Главное достоинство обладания этой машиной состояло в том, что теперь я мог приезжать к Маргарет в любое время суток и быть уверенным в том, что это не станет известно моему сановному покупателю. Памятуя о том, что здесь процветает доносительство, теперь я был уверен, что ни один черный таксист не расскажет никому о перемещениях белого человека, столь заметного в этой части света. Лакшми, — так звали многорукое существо, изображенное в золоте, — велело танцевала у меня перед глазами и поднимала настроение, размахивая своими конечностями в такт монровийским ухабам. Я считал индийский кулон своим талисманом, хотя и помнил, что при случае должен отдать его загадочному человеку по имени Раджив Лимани. Шансов встретить его у меня было немного. Отец Мики мог находиться где угодно, а, вероятнее всего, в Соединенных Штатах. Туда в ближайшее время я мог попасть лишь на правах обвиняемого в контрабанде оружия и нарушении международных санкций. Так что золотая Лакшми могла спокойно плясать в моей машине и приносить мне удачу. А также отвлекать от нервной обстановки на африканских улицах.
Усевшись в первый раз в арендованный «мицубиси», я решил попробовать его на ухабах и бездорожье. Для белого выезжать в одиночку из Монровии считалось делом небезопасным. Окрестности кишели грабителями, которые в случае чего объявляли себя политическими противниками Тайлера. Для жертв это, впрочем, не имело никакого значения. Какая разница, кому отдавать деньги, бандитам или революционерам? Но я знал одно местечко на выезде из Монровии, где асфальтовая дорога переходила в грунтовку, а затем терялась в дюнах, обложивших небольшой залив. Людей здесь всегда было немного. Из примет цивилизации на океанском берегу виднелись несколько плетеных беседок, непонятно кем и для чего установленных. В общем, местечко было довольно живописным и располагающим к отдыху с купанием в океане. А раз так, я решил пригласить с собой Мики. Ее не пришлось долго уговаривать, но пока она закончила свои дела, наступило послеобеденное время. В тропической Африке, как известно, темнеет рано. Пока мы добрались до залива, все небо на краю океана окрасилось в багровые тона заката.
Старичок-джип, соскочив с асфальта на песок, недовольно зарычал, но я сразу дал ему понять, что никаких поблажек не будет. Я утопил в пол педаль газа и затем чуть отпустил. «Мицубиси» принялся уверенно разгребать колесами набитую колею грунтовки. Скорость была небольшой. Машину качало на неровностях, но она, не буксуя, везла нас в сторону залива. Вскоре перед нами выросла изогнутая дюна. Я хотел было объехать ее справа, но потом передумал. Песок был слежавшийся и влажный после дождя, угол наклона на слишком пугал крутизной. Можно было попробовать и напрямую. Я включил полный привод. Джип заурчал сильнее и двинулся вперед. Он шел медленно, как луноход, и оставлял неглубокие рельефные следы на волнистой поверхности склона. Пока мы поднимались, небо становилось ближе. Оно открывало перед нами свод темно-красного цвета до тех пор, пока он не уперся в горизонт.
Океан был спокоен. Темная масса воды местами отсвечивала солнечными зайчиками, которых становилось все меньше. Вечер, как это обычно бывает здесь, наступал внезапно и неумолимо. Машина взобралась на гребень бархана. С той стороны, которая поначалу была нам не видна, склон песчаного холма был круче. Мики с сомнением покачала головой. «Давай остановимся здесь. Дальше пойдем пешком.» Вокруг, насколько я мог судить, не было ни души. До берега едва ли пару сотен метров. Можно дотянуться рукой. Небо не слишком обложено тучами. Есть шанс, что сквозь них пробьется луна, а в лунном свете мне прекрасно будет виден любой потенциальный угонщик автомобиля.
Мики сняла туфли и босиком спрыгнула на песок. На ее джинсах снизу моментально образовалась влажная кромка. Песок был мокрым после дождя. Взявшись за руки, мы спустились к морю и дошли до ближайшей беседки. Я уже говорил, что назначение этих строений мне было неизвестно. Казалось бы, их поставили для удобства отдыхающих. Чтобы можно было посидеть под крышей и спрятаться в тени от солнечных лучей. Но в беседке не было ни одной скамейки. Четыре неровных стойки уходили в песок, а сверху на них покоилась круглая крыша из прутьев, столь маленькая и дырявая, что попытка спрятаться под ней от солнца не могла вызвать ничего, кроме раздражения. Но нам это нисколько не мешало. Во-первых, наступал прохладный вечер. А, во-вторых, мы не собирались сидеть на берегу, глядя на океан.
Я быстро сбросил с себя рубашку и штаны. Швырнул их в сторону беседки. На мне оставались столь любимые мной семейные трусы.
— Нет, — улыбнулась Маргарет. — Не так.
— А как? — переспросил я.
— Вот так.
Мики уже сняла просторную белую блузку и расстегнула пуговицу на джинсах. Они упали с нее на песок, запутавшись в ногах. Маргарет сделала изящное движение ступней, и джинсы слетели, освобождая девушку от пут. Она переступила через них и быстрым шагом двинулась к воде. Теперь на ней не было ничего. Я смотрел на ее черный силуэт в лучах пробивавшегося сквозь тучи солнца. Ценители женской красоты нашли бы в ней тысячу недостатков. Она не соответствовала общепринятым стандартам красоты. Плечи слишком широкие, грудь слишком большая, бедра полноватые. Девушка не для подиума, правду сказать. Но ни одна модель на сумела бы пройти по деревянным подмосткам так, как Маргарет шла по влажному песку. Каждый изгиб ее тела, каждая выпуклость и впадинка, плавные линии, заметные мне издалека, с того места, где я стоял возле беседки, двигались в ритме и по законам любви, для которой, собственно, и были созданы все женщины этой земли.
Маргарет вошла в воду, неслышно раздвигая мелкие волны, и океан обнял ее за плечи. Она проплыла несколько метров и громко позвала меня.
— Иди сюда, Эндрю. А ты вообще-то умеешь плавать?
Я пошел на ее голос. Семейные трусы нелепо слетели с меня на влажный песок. Вдруг мне подумалось о том, как я выгляжу со стороны. Грузный человек, с едва наметившимися складками по бокам и с архипелагами растительности по всему телу. Конечно, не урод. Но и не жилистый красавец с грацией гепарда. Ничего романтического в моем облике не было. Никакой готовности к тому, чтобы красиво и вдохновенно бежать вдоль кромки за эбеновой феей. Но солнце, единственный посторонний свидетель моей наготы, уже отключало свет. Темнота начинала скрывать все мои недостатки. Впрочем, мы очень редко можем увидеть себя такими, какими нас видят другие. Мы или слишком завышаем собственную оценку, и тогда становимся похожи на глупых самовлюбленных Нарциссов. Или, наоборот, занижаем ее, а потом мучаемся комплексами неполноценности и недолюбленности, и, даже достигнув апогея этой муки, не хотим понять, что в сознании тех, кого мы любим, и кто любит нас, все происходит с точностью до наоборот. Ведь любить по частям невозможно. Загляни в себя, и ты увидишь, что объект своей страсти ты принимаешь полностью, в гармонии со всеми имеющимися достоинствами и недостатками, духовными и телесными. Так сказать, берешь оптом, если использовать привычную мне терминологию.
Тяжелым косолапым шагом я преодолел сотню метров песка, отделявшую меня от воды, и грузно нырнул в океан. Он был теплым и вязким, как рассол в бочке. Соль попала мне в глаза. Я зажмурил их, но под водой это было бесполезно. Я резко вынырнул и протер глаза тыльной стороной ладони. Стало полегче. Я завертел головой по сторонам в поисках Мики. Но ее нигде не было видно.
— Мики! — крикнул я что было сил.
— Я здесь, — услышал я за своей спиной. Но когда я обернулся, то увидел лишь всплеск на океанской глади. Шутит она надо мной, что ли?
Ко мне со стороны горизонта шагнула темнота.
— Где ты? — спросил я темноту.
— Да здесь я! — ответила она голосом Мики — Попробуй догони.
Ну, что это за игры? Я развернулся туда, где еще минуту назад был виден горизонт, и, широко загребая воду, поплыл вслед за Маргарет. Взмахи моих рук были жадными, а потому неуклюжими. Я быстро устал, хотя и плыл медленно. Мне нужно было остановиться, чтобы перевести дыхание. И тут я почувствовал прикосновение другого тела. Быстрого и, как мне показалось, прохладного. Конечно же, это была Маргарет. Она хотела поиграть со мной? Ну, что ж, сказал я себе, поиграем.
Я резко развернулся и попытался рукой достать ее под водой. Может быть, я и выгляжу неуклюжим, но иногда могу быть резким и даже ловким. Моя рука дотянулась до подводного тела, и ладонь коснулась прохладной поверхности. Прохладной, это точно! И, кроме того, нечеловечески гладкой. Но это же невероятно. Мне стало не по себе.
В следующее мгновение меня охватил ужас. Плотные тучи над океаном разошлись, и в образовавшийся просвет заглянула луна. На поверхности океана зарябила дорожка лунного света, и по этой дорожке в сторону горизонта двигался острый плавник. Внезапно он описал невероятно резкую дугу и заскользил по направлению к берегу. И ко мне.
Мне бы грести назад, на мелководье. Туда, где меня ни одна акула не достанет. Ну, конечно же, это была акула. Меня предупреждали, что эти зубастые твари иногда заплывают сюда поохотиться на человечину, но я этим разговорам не доверял и считал их чем-то вроде вредных суеверий, морских баек, которые ленивые рыбаки выдумывают для того, чтобы не выходить в море. Но этот треугольный плавник, мягко рассекавший воду, не был ни байкой, ни суеверием. Я его видел перед собой. Я слышал, как плещется вода, рассекаемая живой торпедой. Чем ближе акулий плавник подплывал ко мне, тем реальнее становился. Наконец, он заполнил собой всю мою реальность, вытеснив оттуда даже Маргарет.
Я даже не пытался уйти от акулы. Я оставался на месте, словно меня охватил моментальный приступ судороги. Акула уже была на расстоянии едва ли десяти метров. Внезапно она замедлила ход и стала обходить меня по дуге. Она описала полную окружность, в центре которой был я. Потом еще один круг. И еще. Всякий раз радиус движения становился меньше. А плавник все ближе и ближе к центру. Я оцепенел от ужаса. Плавник подплыл ко мне почти вплотную. Вода равнодушными всплесками сопровождала его неумолимое приближение. Торпедообразное тело вновь коснулось меня холодной поверхностью. Нежно, коварно и успокаивающе. Мол, не бойся, я тебя не больно съем. Раз, и перекушу на две части.
— Господи! — выдохнул я умоляюще и нырнул в пучину с головой. Спрятался в океан.
Когда я вынырнул, то никакого плавника рядом с собой не увидел. Я огляделся по сторонам. Акулы не было. Лунная дорожка тихо шелестела вокруг меня. Со стороны берега доносился шорох песка. Ну, в самом деле, не могла же акула отказаться от добычи и так быстро скрыться? И тут я снова почувствовал робкое прикосновение к своей ноге. Опасная тварь все еще здесь! Я закричал, что было сил, и забился, расплескивая по сторонам свет лунной дорожки.
— Эндрю, что с тобой?! — услышал я голос. Человеческий. Женский. «Мики,» — очнулся, наконец, мой затуманившийся разум.
— Что с тобой? — тревожно спросила она меня снова, как только подплыла поближе. — Сердце? Судорога?
Я не ответил и, развернувшись, поплыл в сторону берега.
Мы молчали все время, пока одевались. И продолжали молчать, когда поднимались на бархан, к автомобилю.
На обратном пути по дороге в город Мики единственный раз нарушила молчание.
— Это могла быть и я, — печально и непонятно сказала она, глядя, как капли короткого дождя с упорством самоубийц разбиваются о лобовое стекло.
ГЛАВА 30 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮНЬ 2003. ПОЛУГОЛЫЙ ПРЕЕМНИК
В тот день я не собирался ехать к Маргарет. Мне нужно было поработать дома. Я совсем забросил дела своей авиационной империи, которая, казалось, функционировала сама по себе. Но, конечно же, это было не совсем так. Григорий Петрович Кожух умело справлялся с текущими проблемами из моего офиса в Эмиратах. Казбек Плиев держал в своих крепких кулаках личный состав. Своими счетами я управлял сам, с помощью телефона и компьютера, и для этого мне необязательно было покидать Монровию. Я бросил «джип» на улице, возле кафе. После того, как Журавлев удивил хозяина этого, с позволения сказать, заведения, неслыханной щедростью, я мог делать это совершенно безбоязненно. За машиной присматривал и сам босс, и его немногочисленный персонал, и посетители, которых я уже начинал узнавать и здороваться при встрече.
Я успел сварить себе кофе в итальянской экспресс-машине, которая стояла у меня на кухне, когда зазвонил телефон. Кофе мне присылали из Бурунди мои клиенты. Бесплатно, в знак уважения ко мне и моим товарам. Тамошний кофе не отличался особым ароматом, зато это был напиток потрясающей крепости. Одна небольшая чашка бурундийского кофе заменяла пять бразильского. И, главное, мозг, получив дозу африканского кофеина, начинал работать особенно четко и ясно. Я не то, чтобы стал зависим от него, просто этот кофе стал частью моей работы. Хорошей физической и умственной формы.
Я поднял трубку телефона, сделав только один глоток. Кофе был горячим, и я поставил чашку на прозрачную поверхность журнального столика, сделанного из стекла и блестящего металла. На том конце провода был Леня Манюк, мой давний приятель, советчик, партнер, кредитор. И, конечно, конкурент.
— Ну, здорово, бродяга. Не слышал тебя полжизни. Но зато я знаю, где тебя искать. В отличие от Интерпола.
Манюк был старше меня лет на пятнадцать. Нас разделяла вечность воспитания, мировоззрения и жизненного опыта. В эти пятнадцать лет умещалась судьба советского цеховика со всеми полагающимися коллизиями — ходками в тюрьму, отстрелом конкурентов, эмиграцией в Израиль и возвращением на постсоветское пространство. Всего того, чего у меня в жизни не было. Удивительным было то, что и в его случае, и в моем, жизненный опыт заставил сознание эволюционировать в парадоксальном и непредсказуемом направлении. Манюк, человек, у которого частное предпринимательство сидело в крови, как древний инстинкт, получил от Советов на полную катушку. Строгий режим с конфискацией.
Но сейчас, болтаясь по европейской части бывшего СССР, он плачет по временам раннего Брежнева. «При нем каждый брал, сколько хотел,» — таков был его главный аргумент, как будто сейчас Манюку кто-то мешал «брать» в том количестве, которое он сам для себя определял. Я же был типичным продуктом фабрики по производству строителей коммунизма, но, тем не менее, о том, что эксперимент большевиков провалился, нисколько не жалел. Я думаю, все дело в том, что Леня Манюк успел и при советском режиме попробовать на вкус богатую жизнь. Тогда это было опасно, щекотало нервы покруче прыжков с парашютом и делало тебя человеком абсолютно другого качества на однородном серо-зеленом фоне. Почти инопланетянином в блестящем костюме цвета голубой металлик. Вот этого чувства собственной исключительности и не хватало сегодняшнему Лене Манюку. Так мне казалось. И то, что этот бывший цеховик, у которого было несколько легальных источников доходов, занялся еще и оружием, говорило в пользу моей теории.
— Как там жизнь, в Африке? — задал он мне дежурный вопрос. Как жизнь в Африке, он прекрасно знал и без меня, и поэтому, без переходов, стал долго, в подробностях, рассказывать о своей жизни на два дома, в Москве и Тель-Авиве. Рассказ был долгим. И дорогим, учитывая стоимость телефонной связи. Я стал путаться в именах его многочисленных бывших и действующих жен, детей, внуков и любовниц. Ради приличия в ключевых местах повествования поддерживал рассказчика возгласами «Мгм», «Ага» и вопросами совершенно идиотской направленности «А он что?», «А она что?», «А они что?», которые, вместо того, чтобы вызывать раздражение, почему-то воспринимаются собеседником очень положительно. Я слушал, не слушая, и ждал, когда Манюк перейдет к главному. Цели, собственно, звонка. Леня заставил меня ждать довольно долго. Хотя, впрочем, за свой счет.
— Андрей, я по поводу Левочкина. Я не спрашиваю тебя, как это случилось. Это не мое дело. Но я знаю, что ты был там. — трубка закашлялась и продолжала хриплым голосом. — Я имею в виду, там, в Либерии. Груз твой. Левочкин, конечно, не лучший экземпляр. Был. Но у него осталась семья. Двое детей. И еще по двое у его людей. Ты же знаешь, страховки им не видать.
Я понял, к чему клонит Леонид, но решил сперва «включить дурака».
— Почему? — удивился я. — Они ж наверняка застрахованы не в Африке.
— Они вообще не были застрахованы, — бросил Манюк слегка раздраженно. И продолжил. — Но дело не в этом. Будь они застрахованы хоть в Швейцарии, ни одна комиссия на место происшествия не рискнет отправиться. Поэтому официально они считаются пропавшими без вести.
— Подожди, подожди, — говорю. — А репортаж этого твоего парня, которого ты мне подбросил, Журавлева, разве не считается доказательством?
— Доказательством чего? Для кого? — рявкнула трубка. — Я же говорю, они не были застрахованы! Никто не приедет забирать тела в эту Монровию. Да и тел, небось, уже и не найдешь. («Небось,» — мысленно согласился я с ним.) А деньги их семьям нужны как воздух. Причем не когда-нибудь, а сегодня.
Леня вздохнул. Я тоже вздохнул. Мы помолчали.
— Так что же будем делать? — первым нарушил молчание Леня. Еще на заре своего бизнеса я усвоил правило — кто первый называет сумму, тот, соответственно, и платит больше. Поэтому я тянул время.
— Я говорю, что мы будем делать? — сердито повторил голос в трубке.
— А ты, Леня, что предлагаешь? — ответил я вопросом на вопрос.
— По двадцать штук за каждого летчика. Всего шестьдесят.
— Сколько ты хочешь от меня?
— Я хочу, — ворчливо передразнил меня Манюк. — Я вообще ничего не хочу давать. Но надо. Знаешь, как по жизни бывает? Зажмешь копейку, и потеряешь миллион. А дашь на святое дело, и к тебе миллион вернется.
— Леня, скажи мне, а кто в святом деле собрался участвовать? Только честно.
Трубка опять вздохнула.
— Пока только я. В Душанбе Левочкин летел с моим барахлом. Там он разгрузился и взял на борт твое.
Я подумал и объявил:
— Значит, так. Я даю на всю эту историю пятнадцать тысяч долларов. Четвертую часть. Больше ни дам ни копейки.
— Это почему? — удивилась трубка.
— Простая арифметика. Арам не был владельцем самолета. У него есть босс в Симферополе, который и есть главный получатель бабла. Пусть платит свою долю, как и мы.
— Витя, — закряхтел Манюк. — но ты же знаешь, «Пятый океан» банкрот. Они же фактически закрывали глаза на «левые» рейсы, которые Арам делал на свой страх и риск.
— А контракт ты с кем заключал? С Левочкиным или с «Пятым океаном»? Так что дави на них, пусть ищут деньги у себя в Симферополе.
— Ну, ладно, а еще четвертушка? — примирительно спросил Манюк.
— А еще четвертушка с тех, кто «крышевал» эту компанию в Киеве.
— Да ты что! — охнул Леня. — Эти уж точно ничего не дадут.
— И я больше не дам. — Я замолчал. Потом у меня вырвалось, совсем случайно и очень злобно:
— Они зарабатывают на этом больше нас с тобой. Они и должны были сюда приехать. Хотя бы посмотреть на то место, где е...нулся этот борт! И потом написать свои выводы. Пускай фиктивные, пускай вранье! Но они могли бы сами себе сказать, что не испугались приехать на место летного происшествия. Что были на войне, на которой сбивают их самолеты и убивают их людей. Чтобы перед остальными своими камикадзе им не стыдно было. Ты-то меня понимаешь?!
Я перевел дыхание и успокоился. Потом заговорил снова.
— Леня, ты же знаешь, ты не святой. Я не занимаюсь благотворительностью. Я мог бы сидеть в Киеве, в Москве, в Дубаи, наконец. Но я нахожусь здесь и хлебаю то же дерьмо, что и мои летчики. Сколько раз для меня это могло закончиться так же, как и для Левочкина? А эти сидят в хорошо охраняемых офисах, носят дорогие костюмы и при слове «малярия» трясутся от страха и брезгливости. Так что пусть платят за свой комфорт. Я за них платить не намерен.
— Хорошо, — нехотя согласился со мной Леня. — Я с ними попытаюсь поговорить. А как ты сможешь перевести деньги?
Дальше пошли технические подробности. Их обсуждение заняло примерно в десять раз меньше времени, чем рассказ Манюка о его личной жизни.
— Ну, кажется, все, — подвел итог беседы Манюк. И словно спохватился. — А ты-то как? Жив-здоров? А то про малярию так громко кричишь. Знаешь, у кого что болит, тот о том и говорит. Ты там поосторожнее.
— Да все в порядке у меня, не волнуйся. Исправно пью виски. Регулярно поддерживаю уровень алкоголя в крови, чтобы малярия не пристала.
— Я вот что тебе скажу, Андрюша. Я старше тебя. Возможно, я не умнее тебя, но я старше. И, как старший, скажу тебе — пора возвращаться к нормальной жизни. Одеть дорогой костюм, занять достойное место в охраняемом офисе. Можешь, конечно, не трястись при слове «малярия», но для профилактики тебе уже положено переключиться на более прохладные страны. Тебе ведь не обязательно руководить твоим бизнесом из эпицентра. В дорогом костюме больше заработаешь.
— Леня, дружище, — я заговорил было менторским тоном, но сразу же осекся. В случае с Манюком поучительные интонации были неуместны. — Ну, что тебе сказать, как тебе объяснить? Я и сам не знаю, почему я застрял здесь так надолго. Наверное, потому что мне все это нравится.
— Нравится?
— Ну, да. Я втянулся. Я сел на аттракцион, с которого не спешу слезать.
— А деньги? Разве тебе они не нужны?
— Мне их хватает. Больше не надо. — Я мысленно представил себе, как вытянулось и превратилось в овал круглое лицо Манюка в тот момент, когда я произнес эти слова, сделал хорошую паузу и продолжил. — Но и меньше тоже не надо.
И мы оба громко рассмеялись. Но на душе было необъяснимо грустно. Такая усталая грусть, похожая на затихающую зубную боль. Слегка беспокоит, но работать не мешает.
Я был не прочь воспользоваться единственным лекарством, которое могло бы мне помочь. Я вышел на улицу, сел в джип и отправился в ресторан «Бунгало». В это время Маргарет обычно руководила процессом зарабатывания денег на голодных монровийских чиновниках, которые заказывали бизнес-ланч в ее ресторане, восседая в своем кабинете или же за столиком на площадке, прямо среди гостей. Я уже неплохо изучил привычки Мики и обычно не отрывал ее от дел среди бела дня. Но в этот раз мне хотелось забыться. Пока я ехал в «Бунгало», тихая грусть вела себя точно, как зуб с дыркой. Сначала она едва напоминала о себе, потом стала давить все сильнее и сильнее, и, наконец, ко мне опять вернулось то отвратительное чувство, которое накатило на меня в Сприггсе, в день нашего с Маргарет знакомства. Это было странное и унизительное чувство. Как-будто бы одновременно тебя уличили в трусости и в чем-то невероятно постыдном. Например, застукали в постели с женой лучшего друга, и ты попытался бежать, забыв надеть впопыхах штаны. Когда я подъехал к «Бунгало», я готов был отдать гораздо большую, чем пятнадцать тысяч долларов, сумму, если бы можно было избавиться от чувства вины перед незнакомой мне женщиной и ее детьми, которые живут в далеком Симферополе и все еще надеются, — я уверен был, они надеются, ведь официально экипаж числился пропавшим без вести! — что однажды Арам Левочкин вернется. «Это совесть?» — удивленно спрашивал я сам себя. Ответа не было.
В ресторане людей было немного. В основном, мужчины в белых рубашках и при галстуках, восседавшие каждый за своим столиком. Пиджаки, черные и серые, висели рядом, на спинках свободных стульев. Среди посетителей было несколько военных. Они сидели дружной компанией и пили кока-колу, положив на стол береты голубого цвета. Военные наблюдатели ООН предпочитали наблюдать за мирным процессом из ресторана.
Среди посетителей Мики не было. Значит, она у себя в кабинете, решил я и направился к деревянным дверям, которые вели в служебное помещение ресторана. Оттуда слегка веяло холодком. Внутри работал кондиционер. Верный знак того, что хозяйка на месте. Когда Маргарет уезжала из этого заведения, администратор спустя некоторое время выключал кондишн. Из соображений экономии. Я не сомневался, что сэкономленные средства в виде неизрасходованного бензина для электрогенератора он использовал исключительно по своему усмотрению. Маргарет это устраивало. Она, как мудрый менеджер, позволяла себя обманывать, но, конечно же, в некоторых пределах.
В дверях я столкнулся с официантом в белой спецодежде с двумя рядами блестящих пуговиц. Он чуть не выронил из рук поднос с жареной рыбой.
— Сэр, вы куда? — спросил он, виртуозно восстановив равновесие тела.
— К мисс Лимани.
— Ее нет.
Я удивился. Работающий кондиционер говорил о другом.
— Она, видимо, уже уехала? — поинтересовался я у официанта.
— Нет, как раз наоборот. Она обещала приехать утром, но так и не приехала.
Очень странно, подумал я и тут же отправился к Мики домой. В этой непредсказуемой стране с ней могло произойти все, что угодно. Дорога в район роскошных вилл, которыми владела местная элита и иностранные дипломаты, была не слишком загруженной. Это была пятница, мусульманский выходной. Либерия, как известно, в основном исповедует христианство, мусульмане здесь составляют меньшинство. Но жители придорожных селений, мимо которых я ехал, были последователями Мухаммеда, насколько я мог судить по невысоким минаретам, выложенным из кирпича и оштукатуренным, все, как один, белым раствором. Вскоре появились лужайки с ровно постриженной травой, и вдалеке я заметил дом на сваях, в котором жила моя чернокожая невеста.
Через минуту я уже стоял под воротами ее владений. Я выскочил из машины, так и не захлопнув дверь, — здесь в этом не было особой необходимости, — и хотел было нажать на кнопку звонка. Вдруг моя рука остановилась. Не могу понять, по какой причине. Возможно, если бы я позвонил в дверь Мики, все в моей жизни сложилось бы иначе. Но я решил по-хулигански перелезть через забор.
Ноги мягко и пружинисто коснулись зеленой травы. Я двинулся к дому на сваях, отметив с удивлением, что не вижу и тени присутствия кого-либо из прислуги. Я поднялся по внешней лестнице и подошел к двери, которая вела внутрь дома. Она была незаперта. Я зашел. В гостиной работал огромных размеров телевизор, интенсивно ворковавший взволнованным голосом сиэнэновской ведущей Кристиан Аманпур о сложной ситуации в Палестине. На столике перед экраном, в затвердевшей лаве кофейных пятен, стояли пустые миниатюрные чашки. Их было две.
Я молча зашел в спальню Маргарет. Там никого не было. Постель аккуратно застелена. Занавески на окнах задернуты. Никакого постороннего запаха, — духи, кофе, легкий винный аромат, — обычно свидетельствовавшего о пребывании женщины, я не уловил. Тогда я вышел из спальни и направился в гостевую комнату, где совсем еще недавно прошла моя первая ночь в этом доме.
Подходя к комнате, я уловил мерный ритмичный звук, напоминавший скрип старых рессор на ухабах. Воображаемые рессоры скрипели через равные интервалы времени, как будто ухабы находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Я открыл дверь. Здесь все было мне знакомо. Телевизионный экран, почти такой же большой, как и в гостиной. Стул со следами пивной пробки, которую Журавлев, поленившись найти открывалку, по-простецки срывал о деревянную спинку. Широкая кровать в розовых простынях кокаинового оттенка. Разметав эти простыни, в постели находилось хорошо знакомое мне тело. Правду говоря, тел было два. Одно из них принадлежало Маргарет. Я его не видел полностью, но узнал по щиколоткам, не слишком тонким, и, в то же время, обещавшим массу наслаждения своими крепкими очертаниями. Ее согнутые в коленях ноги казались особенно длинными, благодаря вытянутым ступням, выгнутые подъемы которых выглядели продолжением линии ног, как это бывает у балерин. Между этими ногами, раскачиваясь вперед-назад, маятником двигалось другое тело. Мужское. С широкими плечами и рельефными икрами. Спортивное. Ухоженное. Черное. На верхнюю половину тела была надета белая представительская рубашка со сбившимся в сторону воротником. Остальные детали мужского костюма лежали на том самом стуле, о спинку которого Журавлев открывал бутылку пива.
Оба тела не издавали ни единого звука. Если не считать скрип мебели. Верхнее выполняло свою тяжелую мужскую работу. На правой лодыжке поблескивала дорожка, оставленная каплей пота. Нижнее амортизировало вместе с кроватью. Вытянутые ступни подрагивали в такт общему движению слившихся тел. Со стороны это выглядело красиво, но не особенно возбуждающе. Возможно, не хватало озвучки, без которой зрелище напоминало исполнение тяжелой взаимной обязанности. Верхнее тело, увиденное мной, с позволения сказать, спины, тоже показалось мне знакомым.
Мое сознание фиксировало увиденное отстраненно, словно все в этой комнате происходило не со мной и не с Маргарет. Не знаю, долго ли я простоял возле розовой постели, но я запомнил все подробности хеппенинга в гостевой спальне. Периферическое зрение постепенно отключалось, словно свет в зрительном зале, пока включенным не остался один-единственный софит, в световом пятне которого оставалась лишь одна деталь. Узкая женская ступня, с напряженными, как струны, прожилками, желтоватым полукругом африканской пятки и красными леденцами ногтей. И тут мои глаза вмиг продернулись красными шторками ярости, такими же красными, как педикюр Маргарет.
Я бросился к постели, схватил мужскую особь за ворот рубахи и рванул его на себя. Ткань в моей руке треснула, но рубаха выдержала. «Дорогая, падла,» — выругался я про себя мимоходом и притянул к себе черного мужика еще сильнее. Он оказался достаточно тяжелым и неповоротливым. Парень завертелся у меня в руке, но все же не смог выскользнуть из белой рубашки. Ниже рубахи его главный атрибут пребывал в рабочем состоянии и пружинисто болтался из стороны в сторону. С него вяло свисал резиновый чехол. Выше рубахи испуганно скривились полные губы в обрамлении плотной черной щетины. Молодой мужчина, запутавшийся в собственной белой рубахе, был слишком похож на своего отца. Не узнать его было невозможно. Чакки Тайлер. Сын президента Либерии собственной персоной.
Я рявкнул и потянул Тайлера-младшего к двери спальни. Тот продолжал бессмысленное сопротивление. Я давно заметил, что либерийские мужчины, несмотря на потрясающе красивое сложение, не отличаются особой физической силой. Широкие плечи и рельефная мускулатура здесь не редкость. То, чего европейцы добиваются, годами истязая себя в спортзалах, здесь в порядке вещей и не является исключением из правил. Но форма обманчива. Упругие либерийские мускулы, как правило, не выдерживают конкуренции с пропитанным табаком и алкоголем бледнолицым телом. Я с легкостью нес хорошо сложенного сына президента, и силы мои утраивала ярость и ревность.
Мы вылетели из спальни. Краем глаза я успел заметить Маргарет. Она оставалась лежать на кровати, ничуть не изменив позы, даже не накрыв свою наготу, ее ноги оставались согнутыми в коленях. Мики лишь чуть расслабилась, коснувшись ступнями розовых смятых простыней. Она молчала. Ни оха, ни вздоха, ни тени испуга или удивления. А я уже летел вниз, по внешней лестнице, и ноги Тайлера-мл. цеплялись за ступеньки. Если бы я его отпустил, то он мешком скатился бы вниз. Но я его крепко держал за шиворот, еще, впрочем, не зная, что собираюсь с ним сделать. Спустившись на лужайку перед домом Маргарет, я несколько раз метнулся из стороны в сторону и наконец решительно двинулся к воротам. «Нет, нет!!!» — визжал тридцатилетний мужчина, пытаясь достать мое лицо кулаком. Я упреждал его движение, периодически отводя руку в сторону всякий раз, когда он опасно приближался к моей челюсти. Удивительно было, что его мужское достоинство во время этой сцены оставалось готовым к бою и покачивалось в такт нашим перемещениям. Я подскочил к воротам и нажал кнопку. Замок щелкнул, и калитка отворилась. За калиткой открылся холмистый рельеф престижного района, весь в клумбах и газонах перед симпатичными особняками. Я что было силы толкнул Чакки вперед. Он вылетел из калитки, замелькав желтыми пятками и покрытыми курчавыми волосами ягодицами. Достаточно далеко от ворот отлетел. Калитка захлопнулась.
Я повернулся к дому лицом. На верхних ступеньках лестницы стояла Маргарет. Мики была в халате. Она держала в руках ворох тряпок. «Штаны, отдай штаны,» — услышал я с той стороны забора крики и всхлипывание. Тут я рассмотрел, что тряпки в руках Маргарет были деталями мужского костюма. Того самого, который лежал до этого на стуле в розовой спальне. Она швырнула мне его сверху вниз. Пиджак упал камнем. В кармане был какой-то тяжелый предмет. То ли портсигар, то ли пистолет. Штаны вспорхнули черной птицей и приземлились прямо возле меня. Потом, один за другим, прилетели темные лакированные туфли. Я сгреб все это в охапку и перебросил через забор. «Ты, сволочь, еще будешь есть собственное говно,» — донеслось до меня с той стороны. Судя по шороху, владелец костюма одевался. Я поднимался по лестнице. Меня не интересовал Тайлер. Меня интересовала женщина на верхних ступеньках. Она спокойно поглядела мне в глаза, развернулась и зашла в гостиную. Заходя вслед, я услышал хлопок двери автомобиля. «Это же мой!» — спохватился было я. Но Тайлер уже завел двигатель. Мой «джип» рванул с места. Без меня.
— Ты хочешь меня ударить, Андрей? — спросила Маргарет, назвав меня русским именем. Она, стоя ко мне спиной, наливала кофе. Шелковый китайский халат прохладно охватывал ее округлости. Она отхлебнула кофе из чашки и повернулась. Я встретил ее спокойный взгляд, без тени испуга и смущения. Возможно, сначала, пока я управлялся с Тайлером, мне и хотелось порвать ее на части. Но чувство первичной мести я уже утолил. А любовь к этой странной женщине никуда не исчезла.
— Зачем? — только и смог я выговорить, глядя на то, как она пьет кофе. — Зачем?
Я повторил свой бессмысленный вопрос еще много раз.
— Энди, ну разве это важно? Это произошло со мной, с тобой, с Тайлером. Сейчас он приедет к отцу и все доложит. И тогда тебе конец. Или поступит проще. Возьмет своих головорезов и вернется с ними в мой дом.
Маргарет, как всегда, была права. Чарльз Тайлер-мл. возглавлял антитеррористическое подразделение, подчинявшееся непосредственно администрации президента. Преторианскую гвардию своего отца. Чак умчался на моей машине. Когда я подъезжал к дому Маргарет, я не видел поблизости никакого другого автомобиля. Это говорило о том, что сын президента отпустил своего водителя. Вряд ли надолго. Сейчас они встретятся на дороге. Значит, для того, чтобы вызвать сюда свой спецназ, парню понадобится совсем немного времени. Не нужно ехать к папе. Можно воспользоваться телефоном, который наверняка имелся в служебной машине. Вероятнее всего, Тайлер уже сделал звонок и наябедничал обо мне, кому следует. Но почему я думаю обо всем этом? По всем законам жанра мне должно быть абсолютно все равно, что случится со мной в ближайшее время, как, впрочем, и в отдаленном будущем. Любой на моем месте, потеряв разум от ревности, стал бы крушить мебель, посуду и предметы роскоши. А я все же думаю о спасении своей шкуры. Да, я собирался кое-что разбить в этом доме, даже приметил ближайшую ко мне тяжелую пепельницу, чтобы метнуть ее в жидкокристаллическое лицо Кристиан Аманпур. Я не имел ничего против Аманпур лично, скорее, я был против телевизора, в котором она появилась в тот самый момент, когда Маргарет предавала нашу любовь. «А, возможно, и продавала,» — мелькнула у меня мысль. Наверное, я заслужил это, потому что и сам часто предавал и продавал многих. Ее, в том числе. По крайней мере, мысленно. Вот хотя бы сейчас, после сцены с Чарли, я думал о том, что угрожало, в первую очередь, мне, а не ей. А она, как всегда, была спокойна, словно ничего не произошло и ничего уже не произойдет. Она улыбнулась мне. «Ну, разбей здесь что-нибудь, если хочешь,»— означала ее улыбка. Я рухнул на мягкий диван.
— А сделай-ка и мне кофе. Налей сюда. Мыть необязательно, — и я пододвинул к ней чашку, из которой до меня пил Тайлер. Наверняка это была немытая чашка Тайлера, одна из двух стоявших на столе в тот момент, когда я зашел в дом. Из другой сейчас пила кофе сама хозяйка. Я молча ждал, пока Маргарет сварит кофе. Она налила горячую коричневую жидкость почти до края чашки, подала мне и села рядом.
— Ничего не могу с собой поделать. Я хотела его. А люблю тебя. Любовь и желание вещи разные. Во всяком случае, со мной происходит именно так. Я жалею о том, что сделала. Но это повторится вновь. Я не знаю, когда и где, но я знаю, что обязательно повторится. Тебе нужна такая жена? Тебе нужна женщина, для которой предательство и измена разные вещи? Если да, то я останусь с тобой.
— Он позвонил мне утром. Сказал, что знает о моем грядущем замужестве. Поздравил. — продолжала Маргарет. — Потом сказал, что приедет поговорить. После того, как он отпустил своего водителя, мне сразу стало ясно, чего ради он у меня появился. Он выпил кофе. Ты этого, наверное, не поймешь, но все же постараюсь объяснить. Он глотал горячий кофе такими большими жадными глотками и одновременно так нежно, осторожно касался губами края чашки, что мне захотелось его. Мне показалось, что в нем появилось что-то новое, чувственное. Такое, чего я еще не знаю. Тогда я просто позвала его в постель. И поняла, что ошиблась. Он остался прежним примитивным бревном. Впрочем, это неважно. Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Я дрянь. Но я это я. Меня не изменишь, я и сама не собираюсь меняться.
Я пил кофе из чашки Тайлера. Моя будущая жена сознавалась мне в том, что собирается спать с другими мужчинами. Через час, а может быть, и раньше, за мной приедут люди, готовые порвать меня на лоскутки. «Так всегда бывает в Африке с белым человеком в тот момент, когда он начинает думать, что уже стал здесь своим,» — философски успокаивал я себя в мыслях.
— Ты говорила, что раньше у тебя с Чакки был только оральный секс, — я попробовал быть остроумным. — Видимо, парень, наконец, перестал тебя бояться.
— Да, и еще кое-что, — сказала Маргарет, не обратив никакого внимания на мою иронию. — Мне кажется, я беременна. Думаю, от тебя.
Это было уж совсем по-женски. Так обычно говорят представительницы слабого пола всякий раз, когда хотят рядом с собой удержать мужика. Только теперь я по-настоящему понял, что в Африке я чужой.
ГЛАВА 31 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮНЬ 2003. НА ПРИИСКИ
Повязку с моих глаз сняли только тогда, когда машина проехала через весь город и остановилась на восточной окраине Монровии. Была ночь. Я увидел рядом с собой тех же крепких парней в ладном камуфляже, которые принимали мой груз в Сприггсе. В роли «черного воронка» они использовали хорошо знакомый мне «дефендер». Они вели себя со мной довольно корректно, если не считать легкого тычка прикладом под ребро, когда я со связанными за спиной руками замешкался, карабкаясь на высокую подножку джипа. Теперь мне стало понятно, что крепкие ребята это бойцы спецподразделения, которым командовал Тайлер-младший. Они привезли меня не в тюрьму, а в незнакомый мне дом, огороженный невысоким забором из пальмовых брусьев. Снаружи дом выглядел вполне прилично. Дорожка, усыпанная гравием, вела к единственному входу, возле которого стояли вооруженные люди, человек пять. Снаружи дом хорошо освещался. Я услышал поблизости мерный рокот генератора. Меня завели внутрь и оставили одного. Я осмотрелся. В доме совсем не было мебели, если не считать тростниковую подстилку на полу и бамбуковый буфет с посудой в углу единственной в доме комнаты. Кроме нее, из доступных мне помещений имелся туалет, совмещенный с душем. Кухни не было. Возможно, в кухню вела обитая пластиком дверь, но она была закрыта на висячий замок, который в народе принято называть амбарным.
Меня, ни слова не говоря, завели в дом и оставили там одного. Снаружи послышался скрежет. По характеру звука я догадался, что коммандос запирали дверь на такой же точно замок, который висел на двери предполагаемой кухни. Некоторое время спустя генератор замолк, и я оказался в полной темноте. Мне стало скучно. Я залез в правый карман своих джинсов и достал оттуда пачку «Ойо де Монтеррей». Из левого кармана извлек зажигалку. Вспышка на мгновение осветила ближайший от меня угол комнаты, и он тут же погрузился во мрак. Скрученные табачные листья весело затрещали. В темноте виден был только красный кончик сигары. Я выдохнул дым и уселся на тростниковый коврик.
Я недолго сидел в одиночестве. Через пару часов замок на двери снова заскрежетал, вперемежку с русскими нецензурными словами, и в комнату ввели хорошо знакомого мне человека, который, как я уже успел в последнее время заметить, имел потрясающую способность появляться в моей жизни в самый неожиданный момент. Фонарик охранника лучом метнулся по комнате и мельком осветил плотную полноватую фигуру нового гостя. Это был Сергей Журавлев.
— Какого хрена меня сюда притащили? Я ни в чем не виноват. Меня подставили! — кричал он на английском, но охранники, снова закрывая замок, не обращали на его вопли никакого внимания.
— Кто здесь? — тихо спросил Сергей на английском, рассмотрев в темноте мою фигуру. Я затянулся сигарой.
— Узнаешь по запаху? — так же тихо хмыкнул я. Тоже на английском.
— Андрей Иваныч! — закричал Сергей, снова перейдя на русский язык. — Ты как здесь оказался?
— Сначала рассказывай свою историю, — и я протянул ему сигару. Он нащупал в темноте протянутую пачку. Зажигалка тоже перекочевала в руки Сергея. Никогда не видел, чтобы он курил сигары, но, видимо, он серьезно нервничал. Его лицо, освещенное огоньком сигары, было испуганным и усталым. Я сразу понял, что он попал в серьезный переплет, из которого так просто не выбраться. И это как-то было связано со мной. А иначе, почему его посадили сюда. Ко мне? Неужели в Либерии не нашлось другого места для арестованного журналиста?
— Дело было так. — начал Сергей уныло. Его дальнейший рассказ был так похож на рассказы сотен других белых, которых местная полиция заставляла платить огромные взятки за то, чтобы с незадачливых простаков были сняты обвинения в контрабанде алмазов.
Журавлев был на пресс-конференции, которую давал министр обороны Либерии. Место для нее выбрали абсолютно неожиданное. Министр в кевларовой каске и полном снаряжении бродил по центральной улице Монровии и комментировал, насколько готов город к возможной атаке повстанцев. Боевиков явно поддерживали извне. Их тактика была старой и проверенной в сотнях локальных конфликтов. «Hit&run». Ударь и беги. Они наносили точечные удары по объектам Тайлера, а затем скрывались в соседней Гвинее. Но со временем они почувствовали свою силу и поддержку местного населения, в основном, мусульман, и постепенно двигались в сторону столицы.
На пресс-конференцию пригласили только зарубежных корреспондентов. Сергея Журавлева, в том числе. Он сам, лично, бегал с камерой вокруг министра, и остался очень доволен записанным материалом. Когда он возвращался к своей машине (понятное дело, на этот раз он приехал не на роскошном белом БМВ, а на «рено» оранжевой таксистской окраски), к нему подошел оператор местной телекомпании, из тех, которым не разрешили снимать министра. Он долго мялся, застенчиво улыбался белозубой улыбкой, совал свою визитку. Парень что-то хотел получить от Сергея, но так стеснялся сформулировать свою просьбу, что Журавлев не выдержал и сам спросил коллегу «Чего тебе надо?» Тот ответил, что хочет получить часть записи пресс-конференции министра. Причем, любую. Журавлев сказал, что не может дать материал. Тогда чернокожий оператор, причитая, что его, мол, редактор оставит без зарплаты, стал настойчиво жать руку Сергею. «Это же не бесплатно,» — тихо говорил он, удерживая ладонь Журавлева в своей. — «Вы посмотрите, о чем я, а потом скажите. Я вам перезвоню через час.» Журавлев открыл ладонь и увидел в ней маленький прозрачный камушек, который застрял в щелке, образовавшейся между средним и указательным пальцами. Алмаз был прохладным и необработанным. Ошарашенный журналист поднял голову, но местного коллеги и след простыл. Сергей снова посмотрел на камень и снова поднял голову. И столкнулся взглядом с человеком в штатском. А за ним стояли еще двое в форме либерийской полиции. В следующее мгновение на запястьях журналиста, под монотонное предъявление в незаконном приобретении алмазов, сомкнулись стальные браслеты. А дальше Журавлева допрашивали в ближайшем полицейском участке. Сначала журналист пытался объяснить, что камень ему подсунул оператор местной телекомпании. Но на вопрос, как именно называется эта компания, он не смог ответить. Тогда он вспомнил про визитку, которую сунул ему черный парень с камерой, но так и не смог ее найти. Сергей был уверен, что визитку вместе с алмазом забрали полицейские, порывшись в его карманах. Сергей от отчаяния решил предложить денег человеку в штатском, который вел допрос. Он спросил его: «Какова цена моей свободы?» И в ответ получил мощный удар в живот. Это был и хороший, и плохой знак одновременно. Хороший, потому что лицо Сергея пощадили, а плохой, потому что отказались от взятки с видом поруганной невинности. Ну, а потом Журавлева привезли сюда, в бунгало, где находился я. Конечно, Журавлева подставили. Но, видимо, его лицо берегли для какой-то публичной акции. Эта будущая акция имела отношение и ко мне. Иначе бы мы не оказались здесь вместе.
Главным персонажем этого действа оказался не Журавлев, а я. На следующий день нас увезли в суд. Дорога заняла немного времени. Здание суда находилось на территории полицейского управления и занимало одну из построек, огороженных каменным забором фиолетового цвета. Это был цвет полицейской формы. В фиолетовых рубашках бродили по городу полицейские патрули. Суд был закрытым. Судейская бригада, в черных мантиях и париках, разрешила находиться в зале только полицейскому фотографу со старым никоном на потертом ремешке. Мы с Журавлевым, оба в наручниках, сидели на скамье подсудимых и с трудом вслушивались в показания свидетелей и вопросы судей. Из свидетелей на процесс пришел лишь один человек. Я подумал было, что это тот самый парень в штатском, который допрашивал Сергея. «Ты знаешь его?» — спросил я тихо своего соседа по скамье. Журавлев осторожно качнул головой влево и вправо. Нет. Адвоката мы увидели только на процессе, но ни мне, ни Сергею он не сказал ни слова. Его спина была прямо перед нами, за деревянным барьером, отделявшим загончик для подсудимых от полупустого зала. Она полукругом нависла над столом с бумагами. Мы его, кажется, совсем не интересовали. Адвокатская речь заняла минуты три, не больше, из которых две с половиной заняло беглое цитирование обвинения, а оставшиеся тридцать секунд он отвел просьбе о снисхождении к своим подзащитным. Выполнив свои обязанности, защитник сел на место. Я попробовал было возмутиться и попросить слова. Но важный судья в белом парике лениво махнул рукой в мою сторону, мол, вам слова не давали. В конце концов, нас попросили признать вину (чего, разумеется, мы не сделали), а потом зачитали вердикт. Три года принудительных работ в специально предназначенных местах. Это могло означать только одно. Нас отправляют на алмазные рудники. По глазам ударила вспышка фотоаппарата, потом другая. Я прикрыл лицо рукой. То же самое сделал Журавлев. Судьи торопливо выходили из зала, на ходу снимая парики и обнажая свои влажные черные лысины. Охранники бесцеремонно вытолкали нас со скамьи подсудимых и повели вслед за ними. За служебным выходом из зала наши пути расходились. Судьи отправлялись пить холодное пиво «стар». А мы с Сергеем усаживались в раскаленный до температуры финской сауны либерийский «воронок», в котором система кондиционирования предусмотрена не была.
Обвинение ловко связало мое и журавлевское дело в одну криминальную историю. Моя часть была полностью высосана из пальца. По версии прокурорской бригады, я, Андрей Шут, не кто иной, как нелегальный перевозчик алмазов из Либерии. Именно поэтому журналист Журавлев обратился ко мне с просьбой вывезти из страны партию незаконно приобретенных камней. Вот о чем было сказано в вердикте, осудившем нас на три года каторги. Нечто подобное я и ожидал услышать. Очевидно, что приговор прошел нехитрую процедуру согласования между папой и сыном Тайлерами, и только потом был предложен судье. В этом я нисколько не сомневался. Я даже не разозлился. Я просто стал думать о том, как же мне из всей этой истории выпутаться. Но вот Сергей, он точно безвинно попал под раздачу с этим алмазом. Конечно, вся эта нехитрая махинация с либерийским оператором была подстроена. Сергея выбрали на роль козла отпущения по двум причинам. Кроме Гриши Волкова, он был единственным русским в Монровии, с которым я общался в последнее время, а, значит, для общественности, мировой и местной, его можно было правдоподобным образом представить в качестве моего клиента, мелкооптового торговца алмазами. Это же и в самом деле выглядит подозрительно. Русский журналист оказался в Либерии, репортажей почти не делает, обедает в лучших заведениях и разъезжает на автомобиле по личным делам. Спрашивается, откуда деньги? Понятное дело, от торговли алмазами. А кому он их продает? Надежному человеку, лучше всего, соотечественнику. С хорошими связями. И собственным воздушным транспортом. То есть, мне. Но я не стал делиться с Сергеем своими мыслями. Ведь он не знал, что я вышвырнул Тайлера-младшего в чем мать родила за порог дома Маргарет на глазах у фешенебельных соседей своей почти что жены. Если бы узнал, то понял бы, что сел исключительно из-за моих любовных страстей. И наверняка затаил бы на меня лютую злобу. Неизвестно, чем бы это кончилось в условиях совместной отсидки. А так он проходил основным фигурантом этой криминальной истории, и, значит, чувствовал себя несколько неловко передо мной, ошибочно и несправедливо осужденным бизнесменом.
Другая причина, по которой Сергея с такой легкостью определили мне в подельники, относилась к его профессиональной деятельности. Вынося приговор Сергею, судья был уверен, что, в конечном итоге, представитель иностранной прессы не слишком пострадает. Даже если бы его приговорили к пожизненному заключению. Я не сомневался, что вскоре за Журавлева вступятся Международная федерация журналистов, Амнести Интернешнл, а российское телевидение подключит к этой истории мощные дипломатические рычаги. Знал об этом и сам Сергей, а потому этот арест сулил ему недолгое малоприятное приключение на рудниках с последующим международным признанием. Его вскоре освободят. А меня вряд ли. Если я не сумею доказать Папе Тайлеру, что я для гораздо нужнее в качестве партнера, нежели заключенного. Впрочем, находясь на алмазных рудниках, без телефона и прочих современных средств связи, сделать это трудно. Наверняка почти невозможно.
Нас собирались везти в Гбарполу. Туда, где находятся основные разведанные запасы либерийских алмазов. Нам предстояло, часами стоя в зловонной воде, черпать желтую грязь и просеивать ее через мелкое сито в надежде найти хотя бы один камешек, похожий на тот, который сунул в руку Журавлеву ловкий мошенник после пресс-конференции. Если через полгода мы не попадем под амнистию, нам конец. Вернее, мне. У Журавлева, как я уже заметил, было больше шансов уцелеть.
Перед тем, как нас этапировать на рудники, нам дали возможность провести еще одну ночь в пустом бунгало. Молчаливый охранник принес нам еду. Лепешки грубой выпечки и рисовую кашу вперемежку с вареным мясом. Мясо было непонятного происхождения и отдавало тухлятиной, но мы были настолько голодны, что старались не замечать неприятного аромата. Ели в темноте и молча. Я слышал сопение Журавлева. Он все время хотел меня о чем-то спросить, хмыканьем и покряхтыванием выказывая свои негативные эмоции. Явно ждал, что я начну сетовать на обстоятельства, и тогда завяжется диалог. Но я игнорировал все его попытки вызвать меня на контакт. Он не выдержал.
— Иваныч, скажи, а чем ты это ешь? — спросил меня журналист.
Я смолчал. Нам не дали ни ложек, ни вилок. Пришлось есть руками, набирая рис пятерней. Я сразу вспомнил Афганистан и то, как аппетитно хватают руками рис афганцы. Они ловко загребают содержимое тарелки в щепотку, всеми пятью пальцами, а потом отправляют в рот, предварительно смяв комок риса в ладони. Чтобы не рассыпался. Не знаю, насколько ловко я это делал в темноте, но почти все, что я сгребал на тарелке, мне удавалось донести до рта, хотя, как это выяснилось утром, часть риса оказалась на подстилке. У Журавлева это получалось хуже, судя по бранным комментариям, которые иногда доносились до меня из темноты.
— Даже ложек не дали, — безответно ворчал Сергей, влажно ерзая пальцами по тарелке.
Я доел свою порцию и закурил. Мне бы поберечь сигары. Там, куда нас везут, курево наверняка ценится недешево, и с его помощью можно решать мелкие проблемы.
— Будешь? — спросил я Сергея и увидел, как согласно задвигался вверх и вниз его влажный от жира подбородок. Комок риса, приставший к нижней губе, отклеился и свалился вниз, в темноту, прямо на штаны моего подельника. Из темноты выросла рука. И снова исчезла когда погасла зажигалка. Я снова чиркнул кремнем и сунул тонкую сигару Сергею. Его пальцы нервно схватили хрупкий коричневый стержень и качнулись в сторону зажигалки. Мол, а огоньку не найдется? «Мгм,» — произнес я сквозь зубы, что означало: «Конечно, найдется, что за глупый вопрос?»
Темнота в доме была вязкой и какой-то душной. С улицы доносилось разудалое пение африканских сверчков, далекие сигналы машин и быстрый шорох незнакомых ног по гравию. Окон в доме не было. Под потолком в шахматном порядке расположились квадратные отверстия, через которые в помещение проникал свежий воздух вместе с ночными звуками. Снаружи пахло прохладой и свободой. Я никогда не думал, что свобода может звучать. Я слышал все эти звуки тысячи раз, примерно в том же сочетании и пропорции, но до этой ночи даже не представлял себе, что свобода поет хором тропических насекомых при активной помощи автомобильных сигналов. А несвобода прожигала мрак огнями двух кубинских сигар. Когда мы попеременно затягивались, огоньки загорались интенсивнее. Когда выпускали дым, красные точки тускнели. Словно злобные зрачки чудовища, попеременно зажмуривавшего то левый глаз, то правый. Чудовище глядело на нас из темноты, размышляя, что же с нами делать, и примеряясь, как бы точнее сделать свой хищный бросок в сторону нашего неизвестного будущего.
Утром я проснулся первым. Через лицо Сергея перебегала шахматная дорожка света, проникавшего в комнату через квадратные отверстия под потолком. Я не вставал. Ждал, пока откроется входная дверь. Охранник вошел около семи утра, принес завтрак — по стакану слабого кофе и ломтю хлеба, — а перед тем, как выйти наружу, швырнул на пол скрученную газету. Я схватил ее и, быстро пролистав страницы, нашел статью о судебном процессе над двумя контрабандистами иностранного происхождения. Статья была убогой смесью приговора и речи нашего адвоката. Из адвокатского спича на страницы газеты перекочевали целые выражения. Я узнал их стиль. То ли репортер поленился потратить время на поиск собственных слов и выражений, то ли автором статьи был сам адвокат. Замечательным было то, что в статье, вместо наших имен, были указаны только инициалы, а в качестве иллюстрации использованы две фотографии, причем, на обеих мы с Журавлевым уворачиваемся от фотографа. Закрываем лица руками, а на руках наручники. Выглядело необычайно эффектно. Глядишь на такую фотографию и сразу понимаешь, что перед тобой закоренелый преступник. Зато лица закрыты, определить, кого же отправили на каторгу, невозможно. В общем, газета добилась полного соблюдения анонимности. Кого-то судили, а кого именно, непонятно. Впрочем, в здешней газете они могли бы печатать наши портреты размером на полстраницы, причем, это нисколько не нарушило бы режим инкогнито. Качество либерийской печати было настолько низким, что определить по фото, кто есть кто, невозможно. «А раз так, то они спокойно могли бить нас по морде,» — грустно посмеялся я про себя.
Вскоре проснулся и Сергей. Он торопливо схватил газету и быстро нашел статью о нашем процессе.
— Но почему нас не назвали по именам? — удивился он. — И почему не сказали, что я журналист? Это ведь самое главное! Как мои узнают, что я здесь?!
— Сергей, не шуми, — говорю я Сергею. Но он продолжал шуметь и рванулся к запертой двери.
— Откройте, немедленно откройте!!! — стучал он в дверь и подогревал себя громкими возгласами. — Я ни в чем не виновен! Выпустите меня отсюда.
Охраннику очень скоро надоел шум, издаваемый Сергеем. Он, как всегда, невозмутимо вошел в дверь, посмотрел на Журавлева и резко пнул его ногой. Тот опешил. Он явно не ожидал, что с демократическим журналистом можно вот так обращаться. Сергей издал жалобный и немного неприличный звук, как будто икнул за столом, и уселся на тростниковый коврик. «Soon, ma freh,»— сказал охранник вяло — «You go when I tell you go.» Что означало «Пойдешь, дружок, когда тебе скажут.»
Машина приехала за нами примерно через полчаса. В комнату вошли четверо коммандос в знакомых мне французских бронежилетах. Пятый, их командир, зашел внутрь следом за ними. Я его узнал. Это был тот самый громила, который сбил ракетой самолет в Сприггсе. Но на этот раз он был без формы. На нем идеально сидел бежевый льняной костюм с легкой намеренной помятостью. Костюм настолько шел этому парню, что он невольно напоминал черный пластиковый манекен. Такими повсеместно утыканы витрины европейских городов. Но здесь Африка, не Европа, а человек в костюме был из черной плоти и, в отличие от манекена, представлял большую опасность.
— Здравствуйте, мистер Эндрю! Вы меня не забыли? Я Суа Джонсон.
Я его не забыл, а теперь вот узнал, как его зовут. В тот день на аэродроме я подумал, что этот здоровяк наверняка из племени Гио. Там у них в сельве, в глубинке, все такие гиганты. Судя по имени, он действительно принадлежал к народности Гио. Хотя, я мог ошибаться, ведь в этой Либерии племена не так уж сильно придерживаются традиций, как в Центральной Африке, и матери дают своим детям те имена, которые им нравятся, а не те, которые положено давать согласно древним традициям африканского трайбализма.
— Пройдемте, Вас ждет машина, — сказал гигант.
— К чему такая вежливость, мистер Суа? — проговорил я сквозь зубы. — Вы ведь везете нас на рудники, а не на президентский прием.
— Мне было сказано отвезти Вас с комфортом. И Вас, мистер Сергей! — Джонсон чуть повысил голос, с улыбкой перебросив фразу сокамернику через мое плечо.
— Спасибо, — донеслось из-за моей спины.
— Я должен привезти вас обоих в Гбарполу и передать местной охране. А дальше они будут действовать сами.
— Бить будут? — спросил Сергей о наболевшем.
Суа ничего не ответил, только улыбнулся и пожал плечами. Мы вышли во двор. Солнце весело таранило лучами серо-голубые тучи. Птицы равнодушно и весело щебетали на разные голоса. Ветер порывисто шевелил листья на пальмах, и с каждым порывом они поднимались вверх, точь-в-точь, как подол платья Мерилин Монро, случайно наступившей на решетку вентилятора. Я ожидал, что нас посадят в «дефендер» спецназа. Но рядом со входом стоял наполовину разъеденный ржавчиной минибус «фольксваген» с зарешеченными окнами. Суа подмигнул мне.
Нас вежливо, без грубости, пригласили залезть внутрь, в обезьянник. Изнутри унылый микроавтобус выглядел еще хуже, чем снаружи. Ни одного сидения, ни малейшего куска пластика, кожи или дермантина. Конструкция обезьянника была простой. Внутрь грузового отсека была вмонтирована железная коробка с вырезанными отверстиями. Они были проделаны таким образом, чтобы находиться как раз напротив зарешеченных окон автомобиля. Ну, и конечно, дверь. Одна, наружная, была частью кузова «фольксвагена». Другая, внутренняя, была сделана из прутьев арматуры и закрывалась на замок. Эту камеру для транспортировки местных зэков можно было одновременно использовать и в качестве камеры для пыток. Если внешний корпус нагревался до предельной температуры, то поверхность внутреннего достигала запредельных показаний. Весь интерьер транспорта был выполнен из листовой стали, грубо сваренной по углам внутренней коробки. Сбежать отсюда было невозможно. Но главное, нам некуда было бежать.
Утреннее солнце в тот день особенно быстро раскалилось до нормальной дневной температуры. Внутренности «фольксвагена» нагревались с каждой минутой и вскоре стали напоминать интерьер микроволновки, включенной на среднюю мощность. Не знаю, был ли кондиционер в пассажирском отсеке, но думаю, что вряд ли. Нашим вертухаям тоже приходилось несладко. Сюда бы их, к нам, ну хотя бы одного. А одного из нас на освободившееся место. Обмен. Ченчж.
Машину сильно трясло по дороге. Она подскакивала на каждом ухабе. Меня подбрасывало вверх. Я ударялся головой о металлические стены. Пытаясь удержать равновесие, я упирался ладонями в пол. Но кончики пальцев обжигало горячее железо. Подогревают они его, что ли, снизу? Если это так, думал я, то удивляться не следует. Нацисты, неугодных и лишних людей в душегубках возили. Четыре минуты, и нет человека. Они нерационально использовали свои возможности. За четыре минуты разве возможно насладиться страданиями подвластных тебе людей? Конечно, нет. А микроволновая печь на колесах в режиме медленного подогрева, разве это не может впечатлить? Конечно, может. Но я знал, как избавиться от мучений. Я вспоминал то, что мне говорила Мики, вспоминал ее полноватые губы, слегка изогнутые озорной и страстной улыбкой, и мысленно начинал с ней древний разговор. Настолько древний, что слова стали тайным шифром. И когда ты их произносишь, ты всегда говоришь не то, что думаешь.
ГЛАВА 32 — ЛИБЕРИЯ, ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, ИЮНЬ 2003. МИКРОВОЛНОВКА НА КОЛЕСАХ
— Ты любишь Либерию? — спрашивает меня она.
— Я люблю тебя, — отвечаю я как можно нежнее.
Она смотрит на меня своими карими глазами, такими же твердыми и желанными, как местные бриллианты.
— А я ненавижу Либерию. Я ненавижу бедность, от которой не могу отгородиться. Ненавижу дорожную пыль, заползающую под одежду. Ненавижу проституцию. Ненавижу войну и оружие. Я хочу от этого кошмара избавиться.
— Если ты от него избавишься, тебе станет скучно. Тебе будет не хватать родного кошмара.
Она приближается ко мне и прижимается своей большой грудью к моему телу, а я выгибаюсь, как пружина, стараясь повторить весь рельеф ее тела. Я хочу проникнуть сквозь ее кожу, я чувствую, как она пахнет. Медом и свежим деревенским молоком. А еще миндалем. Таким молодым и почти психотропным.
— Ты чувствуешь меня? — она дышит мне прямо в ухо. — Мне тридцать лет. Почувствуй их. Мое тело хочет дать новую жизнь. Но у меня не было детей. Понимаешь ты это или нет? Понимаешь, почему так? Я не хочу, чтобы мои дети родились здесь, в этом зоопарке для хищников. Я хочу быть там, где нужно бояться завтрашнего дня, а не сегодняшнего.
Она обнимает меня и целует. Ее губы, обычно мягкие и податливые, становятся жесткими, как рукавицы палача. Она покусывает меня своими белыми крепкими зубами. От ее укусов остаются следы. Кровавые окружности на моих щеках. Ее зубы входят в мою плоть. Разве Мандинго каннибалы? Но Мики ест меня, выпивает меня. Она любит меня. Или ненавидит вместе с этой страной?
— Ты когда-нибудь видел, как леопард убивает детенышей из чужого выводка? Он находит чужое логово и, если рядом нет матери, съедает всех. Здесь живут такие же леопарды, Энди. Они ходят на двух ногах и даже носят иногда костюмы. Но они рычат от удовольствия, когда находят чужое беззащитное логово. Они грызут беззащитных. Ты хочешь, чтобы я осталась в этой стране?
Я срывал с нее одежду. Она рвала то, что было одето на мне. Швы трещали. Пот капал. Мы сливались с ней в одно целое.
— Но даже если я не вырвусь из этого зверинца, я буду защищать свой выводок. Я не буду отходить от логова дальше, чем на дистанцию одного прыжка. И если кто-нибудь посмеет оскалить свою пасть на мое логово, я порву его. Я брошусь незаметно и быстро. Я увижу его глаза и шею. Они хотят, чтобы я тоже была зверем. И я буду им. Вот так.
Ее зубы впились в мою шею. Меня парализовала боль. Обдала меня, словно кипятком. Я увидел, как мне на грудь сбегает струйка крови. Моей собственной. И в этот момент вместе с болью пришло наслаждение. Оно освободило мою сущность из тесного плена. Я ворвался в Мики всем своим слабым и вязким человеческим естеством. И она радостно и яростно приняла его, слизывая красную соленую влагу с моей шеи и тут же целуя меня в губы. И вот тогда я очнулся.
Очнулся в стальной самоходной коробке «фольксваген», которую со всех сторон жарило тропическое солнце на проселочной дороге. Дорога вела вглубь сельвы. В самую середину африканской неизвестности. Было жарко и душно.
— Иваныч, дай твою сигаретку, — услышал я голос с другой планеты. Это Сергей Журавлев пробился через пелену, затянувшую мое сознание. «Ты стал много курить, дружище, это вредно для здоровья,» — я хотел было пошутить вслух. Но так и не пошутил. Я знал, что со мной происходит, знал, что умный мой организм отключает разум для того, чтобы я не чувствовал физических страданий. Чем больше боли, тем тупее я становлюсь. Чем я тупее, тем меньше чувствую страдания. Парадокс получается. Чем больше я страдаю, тем меньше я страдаю. Но этот голос Журавлева, услышанный в полудреме, он напоминал о том, что внешний мир существует. И вместе с этим напоминанием в меня проникало страдание.
Голова гудела, как старинный колокол во время литургии.
— Иваныч, дай сигаретку, — колотилось в колоколе вежливое и настойчивое напоминание.
— Хорошо, — собрался я резко ответить Журавлеву. Но с резкостью у меня не сложилось. «Шшо,» — прошипели мои обезвоженные легкие. Рука потянулась в карман за полупустой пачкой «Листьев Монтеррея». И в этот момент наш фольксваген резко и неожиданно остановился. Я услышал хлопок водительской двери, а чуть погодя и второй, с пассажирской стороны. Наши спутники вышли из автомобиля. Они стали перед капотом и принялись обсуждать на Гио что-то очень для них важное. Человек, сидевший за рулем, явно был озабочен. Джонсон ответил с легким смешком, но тут же принял серьезный тон. Он заговорил жестко и твердо. Его слова звучали почти, как приказ. Без всяких возражений.
Задняя дверь «фольксвагена» открылась. Затем заскрипели створки встроенного в микроавтобус ящика для перевозки лиц, провинившихся перед законом этой страны. Водитель с неприязненной гримасой, не глядя, бросил внутрь пластиковую бутылку с водой. Жидкость своим мутным видом намекала на гепатит А и брюшной тиф, и, как минимум, гарантировала расстройство желудка. Но нам было не до намеков. Всего лишь час с небольшим пребывания внутри сварной коробки менял всю философию отношения к себе и окружающей действительности. Самосознание Журавлева переживало примерно те же метаморфозы. Бутылка гулко ударилась о пол и, как мяч в американском футболе, подскочила вверх по непредсказуемой траектории. Сергей с невиданной ловкостью поймал ее на лету, суетливо свернул ей пластмассовую шею и отправил в себя половину ее мутного содержимого. И только потом протянул мне.
Каким неожиданным иногда бывает счастье. Оно может измеряться миллионами, которые открывают перед человеком неограниченные, на первый взгляд, возможности. Но вскоре ты начинаешь понимать, что и у них есть своя граница. Ты хочешь ее перейти, но для этого тебе нужны уже не миллионы, а суммы, исчисляемые девятью знаками. И когда они у тебя есть, ты снова становишься счастливым. Но вдруг все вокруг меняется. Эта форма счастья исчезает, а вместо нее приходит пустота. Гулкая, как камера смертника. Весь мир, построенный твоим изворотливым умом рушится у тебя на глазах. Может быть, он и продолжает существовать. Но не в твоей реальности. Твоя реальность напоминает о себе сухим жжением в слипшемся горле и горячими стальными стенами коробки, в которую тебя загнали, как беспомощную дичь. И вот тогда тебя счастливым делает что-нибудь совершенно незначительное. Глоток грязной воды, например.
— А все-таки тебя за что сюда? — ухмыльнувшись, спросил меня Сергей.
— Ну, не знаю, что тебе сказать, — протянул я в ответ. Я понимал, что Журавлев, к его чести, пытался сложить воедино мозаику обстоятельств нашего ареста, и у него, разумеется, ничего не получалось. — Ты разве не был со мной на скамье подсудимых?
— Ну, как же? Был. Слышал все. Слова знакомые, а смысл непонятен. Угадал все буквы, но не угадал слово. Я, Иваныч, понял, за что посадили меня, но не понял, за что тебя.
Он был разменной монетой. Сергея зацепили мимоходом, для того, чтобы уничтожить меня. Но сам он о трюке Тайлера-младшего не догадается, а я ему в этом не помощник. К открытым створкам задних дверей подошел Суа. Он мрачно посмотрел на нас. Черный громила был явно чем-то недоволен.
Я попытался отвлечь внимание Журавлева от мыслей о степени моей виновности и спросил Суа.
— Скажите, Джонсон, а это не вы были там в «Бунгало»?
— Когда именно? — переспросил суровый офицер спецназа.
— Ну, тогда, когда вы сбили самолет.
Джонсон ничуть не растерялся.
— Я всегда оказываюсь в нужное время в нужном месте.
Он сказал это так, словно хлестнул меня словами. Вежливого офицера, который терпеливо дожидался, пока мы переберемся из бунгало в задний отсек «фольксвагена», отныне больше не существовало. Передо мной был дикий и сильный убийца. Я сразу понял по его интонации, что больше от него не стоит ждать ничего хорошего. Он может уничтожить меня так же спокойно, как и Левочкина со всем его экипажем. И, кажется, потом, в «Бунгало», я увидел именно его. Маргарет была права. Я вспомнил, как выглядел человек, которого она хотела пригласить третьим в постель.
— Суа, если в ресторане были Вы, тогда где же Ваша золотая цепь? Такая толстая?
Джонсон хмыкнул и злобно посмотрел на меня.
— Сменил на более тонкую. — ответил он, подумав лишь мгновение. — Вот поглядите.
Он запустил руку себе за пазуху и вытащил из-под пятнистой камуфлированной майки изящную золотую цепочку. Она, как маятник, качнулась из стороны в сторону. На цепочке, весело поблескивая золотыми руками, танцевала Лакшми. Еще недавно золотая индианка так же весело плясала у меня перед глазами на лобовом стекле моего автомобиля. Невероятно. Как она могла попасть к Джонсону? Но, впрочем, тут нечему было удивляться. Чарльза-младшего не интересовали золотые предметы в моей машине. Он думал только о мести. О золоте подумали его подручные. Этому Суа поручили обыскать мою машину. И он сделал это со всей добросовестностью африканского офицера.
Я много раз до этого сталкивался в Африке с крохоборством высокопоставленных людей в форме. Один из первых своих контрактов я заключал в Республике Берег Слоновой Кости. В то время эта страна считалась одной из самых спокойных в Африке. Тем не менее, мои партнеры предложили мне государственную охрану. Моим телохранителем был офицер элитного подразделения местной армии. Высокий, крепкий. Во многом похожий на Суа Джонсона. За одним исключением. Альйю, так звали офицера, был белым. Он держал себя с таким достоинством, словно накануне закончил Вест-Пойнт. Малиновый берет на его большой голове сидел настолько идеально, что, казалось, Альйю носит его с детства. Я вскоре узнал его историю. Его отцом был француз-колонист, поселившийся в Западной Африке. Мать местная. Когда Альйю подрос, родители развелись, и отец уехал назад во Францию. Но все же для сына он успел кое-что сделать, а именно отправил его учиться в элитное военное училище под Парижем. Парень закончил его с отличием и, вернувшись домой, стал делать блистательную военную карьеру, которая сулила в скором времени новые звания и возможности. Когда я беседовал с ним, на его плечах уже держались майорские погоны. Но — увы — Африка есть Африка. На пятый день знакомства вышколенный офицер стал интересоваться броскими часами на моей руке. Такими большими, блестящими и напоказ дорогими. Часы производили неизгладимое впечатление на боевиков, крестьян и мелких торговцев. Но Альйю не был ни тем, ни другим, ни третьим. Белый боевой офицер. Вот кем он мне казался. Я ошибался. Внутри, под налетом вышколенности и европейского опыта, притаился характер самого обычного мелкого мздоимца из бедной страны. В первый день нашего знакомства он вскользь, осторожно, поинтересовался маркой моих часов. А в последний уже пытался уговорить поменять их на местные безделушки из поддельного красного дерева или отдать их ему в качестве подарка. К окончанию моей поездки я презирал этого человека, превратившегося в попрошайку, а он, понимая мои чувства, все же продолжал свои неуклюжие попытки получить часы. К слову, я их ему не отдал.
Джонсон, как я уже сказал, очень походил на белого негра Альйю. Достоин презрения, это было несомненно. Но я возненавидел его не за внешнюю схожесть. И не за то, что он убил Арама Левочкина. Меня начинала трясти мелкая дрожи от мысли, что он обыскивал мою машину, и что теперь к его телу прикасается кулон, который мне отдала Маргарет. Изменившая мне, пустившаяся во все тяжкие ради минутного удовольствия или, вполне возможно, из корыстных соображений. Но все же она была моей невестой. Которую я продолжал любить. Эта моя любовь стала еще сильнее в тот момент, когда я увидел в руке у Джонсона золотую многорукую танцовщицу. Внутри меня словно распрямилась пружина. Она долгое время находилась в сжатом состоянии, и я даже не подозревал о ее существовании. А тут вдруг ощутил ее. Ощутил физическую силу, распиравшую меня изнутри. И когда пружина разжалась, я распрямился вместе с ней. С того самого места, где я сидел, эта сила подняла меня и бросила прямо на Джонсона. Он опешил. Суа и в мыслях представить не мог, что деморализованный ослабленный узник накинется на него с кулаками и примется крошить и крушить его могучее тело.
Все произошло молниеносно. Я оттолкнулся от металлического пола и за считанные доли секунды преодолел расстояние между мной и офицером. Мой правый кулак ударил его в подбородок. В то самое место, где боль чувствуется втройне острее. И если удачно прицелиться в эту точку, говорят, то можно одним ударом свалить противника в нокаут. Мне некогда было проверять, правда это или нет. Костяшки левой руки, рассекая черную кожу африканского лица, нанесли три коротких удара по переносице Джонсона. В первый я постарался вложить всю свою ярость. Под вторым переносица хрустнула. Третий ее явно сместил чуть правее. Джонсон коротко взвыл и, схватившись за лицо, осел на дорогу возле машины.
К нам тут же подскочил водитель. Он, рассыпая во все стороны бранные слова, копошился с пистолетом, который был в кобуре у него под мышкой. Кобура явно была на моей стороне. Она никак не хотела расстегиваться, и, насколько это было возможно, оттягивала страшный момент, когда нас должны были уложить в упор. У водителя был и автомат, но он легкомысленно оставил его в кабине, о чем, несомненно жалел. Когда он, наконец, рванул что было сил клапан кобуры и схватился за пистолет, ему в голову попала пластиковая бутылка из-под воды. Бутылку запустил не растерявшийся Журавлев, сидевший внутри машины. Она была почти пустой и никакого вреда здоровому и озлобленному парню не могла принести. Но, ударившись о крепкий лоб, она издала такой громкий хлопок, что водитель от неожиданности разжал руку. Пистолет оказался на пыльной дороге. Я тут же схватил его и принялся палить в разные стороны, куда попало. Я неистово кричал, и звуки, слетавшие с моих губ, напоминали многократно усиленный клекот разъяренной хищной птицы. В следующее мгновение из «фольксвагена» выскочил Сергей и, размахнувшись ногой, что было сил ударил сидевшего на дороге Джонсона. Тот рухнул, завалившись на бок. Над офицером поднялось небольшое облачко пыли. Водитель неподвижно лежал на обочине. Не знаю, попал я в него или нет. Тогда выяснять это у меня не было ни времени, ни желания. Но, думаю, что он просто оцепенел от страха, когда понял, что события развиваются не совсем в его пользу, вернее, совсем не в его. У него не было оружия, и опасности он для нас не представлял.
Опасность поджидала нас совсем с другой стороны. Я подошел к Джонсону. Его лицо превратилось в кровавую маску. Алые пузыри мелкими кругами собирались возле уголков его губ. Он был без сознания, но часто дышал. Значит, был жив. Я украдкой протянул руку к его шее и рванул на себя кулон с индийским божеством. Золотая Лакшми снова была у меня в руках. Теперь нужно было как можно быстрее драпать. Сергей, дрожа то ли от ярости, то ли от испуга, смотрел мне в глаза, словно ждал команды. Краткого плана действий на ближайшее будущее. Но я не мог ничего ему предложить. Мой бросок был спонтанным и непродуманным. И совершенно случайно, благодаря невероятному стечению обстоятельств, я оказался победителем. То есть, мы вдвоем с Сергеем уложили двоих вооруженных людей и в качестве приза получили свободу. Что теперь с ней делать, не знали ни я, ни он. Впрочем, до победы было еще далеко.
Я недолго думал, куда мне спрятать кулон. В передние карманы джинсов я предпочитал ничего не класть. Они слишком тесно прилегали к телу и при ходьбе натирали пах. Моя рука механически засунула украшение в задний карман и случайно наткнулась на обрывок дермантина, неизвестно каким образом оказавшийся в джинсах. Я извлек его на свет. Ба! Да это был кусок обложки колумбийского паспорта, который я отобрал у Сергея. Для меня за прошедшие несколько дней он потерял было всякую ценность. Но тут я заметил, как на него посмотрел Журавлев. Сергей следил за каждым моим движением. Я в одночасье стал его спасением и его проблемой. Если кто-либо из этих двоих не придет в себя, то Сергею грозит смертный приговор. Но и в противном случае, если они останутся в живых, ему нечего рассчитывать на меньшее наказание. Так же, как и мне. Вместо того, чтобы задуматься о спасении самому, он предпочитал ждать от меня правильного решения. Он был полностью мой и готов был сделать все, что я скажу. Правда, это состояние полной покорности длилось у него несколько секунд. До того самого момента, когда у меня в руках появился обрывок паспорта.
— Иваныч, дай мне его, — уверенно сказал, почти потребовал, журналист.
Я ему не ответил. Я понял только, что этот паспорт имеет для него немалую ценность. Примерно такую же, как и его собственная жизнь, если он думает не о спасении, а о клочке красного дермантина. Во всяком случае, не намного меньшую. Метаморфозы происходили в душе Сергея и тут же, моментально, отражались на его лице. Только что я видел перед собой совершенно размазанного по днищу фургона человека, готового на все ради одного глотка воды. Потом эта развалина превратилась в припертого к стенке хищного волка. Затем хищника сменил домашний преданный пес. А теперь в глазах пса засверкали огоньки бешенства. Калейдоскоп образов вспыхнул и промелькнул на лице журналиста в короткий миг триумфа на проселочной дороге, прорезавшей густой тропический лес.
Триумф быстро закончился. «На землю!!!» — услышал я душераздирающий крик. Фонтанчики пыли в сопровождении противного свиста поднялись прямо у моих ног. Сергей рухнул на землю там, где стоял. Я тотчас же последовал его примеру. Пыль сухой смрадной порцией тут же набилась мне в рот, но это все же было лучше, чем глотать автоматный свинец. Впрочем, это не отменяло подобной перспективы. Падая, я успел ухватить взглядом невысокую худощавую фигуру возле открытой кабины «фольксвагена». Человек был в камуфляже. Все стало ясно. Это третий охранник, о существовании которого я подозревал с самого начала, прислушиваясь через стальную перегородку к разговорам африканцев. Если бы мной управлял разум, а не ярость, то я бы, несомненно, учел во время стычки его присутствие. Впрочем, справедливости ради следует признать, что если бы мной руководил разум, я бы ни за что не стал бросаться на здоровяка Суа Джонсона, терпеливо провел бы всю оставшуюся дорогу в железной коробке микроавтобуса и примерно через год сгнил бы в желтой алмазной луже, приумножая богатство хозяев этой страны.
Но теперь моя жизнь превращалась в слайд-шоу. Вспышки сознания фиксируют предпоследние моменты существования двух белых людей, и у них нет шансов на спасение. Картинка черно-белая. Белые лица в белой дорожной пыли. Черные ботинки оставляют белые следы. Черный ствол автомата над головой Журавлева. Он все ближе и ближе. Он разгребает пламегасителем волосы на его затылке. М-16, словно медведь гризли принюхивается к жертве перед тем, как ее сожрать. Вот ствол останавливается. Сейчас будет выстрел. Внутри черного зверя придет в движение надежно испытанная многими войнами механика, которую придумал Юджин Стонер. А кто ты такой, Стонер? Не кто иной, как зеркальное отражение старика Михаила Калашникова. Оказывается, ты, Юджин, много работал над тем, чтобы однажды не стало одного русского парня, Сергея Журавлева. А потом и другого. Украинского. То есть, меня. Но нет. Я замечаю, что в предназначенной очередности что-то меняется. Черный зверь исчезает из поля зрения. Черный башмак делает шаг ко мне. Твердый нос хищника выбирает мой затылок. Сначала я, потом Сергей. Пока ствол был над Журавлевым, сердце безумно колотилось у меня в груди и, похоже, собиралось вырваться прочь на волю. А теперь оно замедлило пульс. Я прислушиваюсь к себе и не слышу ни единого удара. Сердце совсем остановилось. Может быть, я уже умер? Но нет, я вижу, как ботинок ерзает в пыли у меня перед носом, безразлично касаясь меня ребром рифленой подошвы. Он движется слишком медленно, словно отснятый на кинопленку в рапиде, и мне начинает казаться, что время замедляет свой бег, и я, повелитель времени, могу его остановить прямо сейчас. Но это мне только кажется. От неумолимого ботинка пытается сбежать лесной муравей. Он перебирает конечностями так медленно, словно ползет не по дороге, а по тарелке с медом. И я понимаю: ему не уйти. Я напрягаю все свои силы и слышу у себя в груди гулкий удар колокола. Как я ни стараюсь, время продолжает двигаться вперед. Муравей будет раздавлен. Ствол у меня на затылке совершает едва различимые круговые движения, выбирая удобное место для того, чтобы упереться. И когда это место было найдено, осталось только дождаться выстрела.
Кажется, я его услышал до того, как из ствола вылетела пуля. Я спокойно ждал, когда все, что я вижу перед собой, скроется в бесконечной темноте. Но изображение не исчезало. Наоборот, оно задвигалось быстрее, и мой взгляд едва уловил, как метнулась прочь черная лакированная поверхность ботинка. Прозвучал еще один выстрел. И еще три. Муравей словно вырвался из вязкой среды и, задвигавшись с нормальной для себя скоростью, скрылся за гребнем колеи. И тогда я понял, что жив.
Мы все трое были живы. Если считать муравья. Но это еще ничего не значило. Вокруг нас грохотали выстрелы, и в обшивке старого «фольксвагена» вдруг стало очень много мелких дыр под яростный крик из густого леса, подступавшего к дороге. Черный ботинок снова появился передо мной и снова исчез. На то место, где он стоял, упали три отстрелянные американские гильзы. А потом градом посыпались и другие, хорошо знакомые мне, калибра семь шестьдесят два.
— Эй, вы двое! А ну поднимайтесь!
Это закричали нам со стороны леса, как только стрельба прекратилась. Мы поднялись. Машина, в которой нас везли на рудники, теперь представляла собой еще более жалкое зрелище, чем до того, как нас в нее погрузили. Колеса пробиты и спущены. Двери прострелены насквозь. Стекол не было вообще. Лишь стальная коробка, непонятно каким образом врезанная внутрь микроавтобуса, выдержала свинцовый град. Из коробки торчали ноги в черных ботинках. Охранник, укрываясь от огня, спрятался там, где до этого держали нас с Сергеем. Ботинки, разметав носки в разные стороны, неподвижно выглядывали из отсека для заключенных. Рядом стояли полуголые люди с автоматами. Все говорило о том, что охранника добили там, где он пытался спрятаться от боевиков. Рэбелы смеялись высокими голосами. Кто-то из них пнул ботинок босой ногой. Черный лак дернулся и снова замер. На носке вдруг повис вязкий плевок. Как признак самоутверждения над поверженным противником.
— Этих давайте сюда! — снова услышал я голос. Кричал невысокий крепкий парень лет двадцати. На одном плече у него болтался пулемет на ремне, через другое переброшена лента с желтоватыми патронами. Она, как девичья коса, спадала почти до земли и время от времени хлестала боевика по бедру. Из-под пятнистой кепки на голове у рэбела в разные стороны рассыпались длинные вьющиеся космы, совсем, как у Боба Марли. Дрэды, так, кажется их называют почитатели рэгги и марихуаны.
Меня толкнули в спину, и я чудом устоял на ногах. С Журавлевым тоже не церемонились. Бойцов, захвативших нас, было полтора-два десятка. Правда, в лучшие времена я не назвал бы их бойцами. Основную массу составляли подростки. Некоторым полуголым созданиям с Калашниковыми, как мне показалось, едва исполнилось десять лет. Самым старшим из боевиков был парень, по команде которого нас повели в лес.
— Крейзибулл, генерал, — небрежно представился он нам. — А вы кто? Солдаты? Белые наемники?
Мы отрицательно завертели головами.
— Да ладно вам, не бойтесь. — осклабился парень очаровательной белозубой улыбкой. — Я пошутил. Я знаю, кто вы. Я ведь сказал вам, что я генерал.
Среди либерийских повстанцев до сих пор ходит поговорка: «Если к двадцати пяти ты не стал генералом, то военная карьера у тебя не заладилась.» Подавляющее число партизан составляли дети. Можешь держать оружие, значит, иди воевать! Они вырастали в джунглях, так и не научившись ничему другому, кроме нехитрой науки убивать и калечить. Конечно, вся эта партизанщина управлялась взрослыми. Денег на войну хронически не хватало. Для подпитки молодого задора нужны были другие стимулы. Взрослые раздавали детям воинские звания, которые мало что значили. Этот генерал (как его, Буллшит, что ли?) командовал, в лучшем случае, оравой маленьких бандитов, из которых с трудом можно насобирать взвод солдат. В конце концов, каждый боевик мог назвать себя кем угодно. Хоть генералом, хоть генералиссимусом.
— А сколько вас было? — спросил меня Крейзибулл.
— Двое, — ответил вместо меня Сергей.
— Вас двое. А этих? — переспросил «генерал», неопределенно кивнув в сторону автомобиля.
— А вы не видели? Трое, — сказал я.
— Трое? — удивился парень.
Его удивление неприятно насторожило меня. Я оглянулся и сосчитал тела на месте перестрелки. Одно лежало в автомобиле. Другое — на дороге. Третьего не было. Там, где по моим расчетам, должен был находиться поверженный Суа Джонсон, стоял худощавый подросток с автоматом на плече и дымил огромной, несуразной самокруткой. Вряд ли в самокрутке был табак.
— Ну, вроде трое, — промямлил я, подмигнув Сергею украдкой. — А, может, и двое. Мы-то из машины не видели.
— Вы бы лучше спросили ваших людей, генерал. Они же видели, в кого стреляют, — поддакнул Журавлев, не понимая, зачем это мы «включаем дурака». Я и сам не мог бы точно объяснить, зачем. Просто чувствовал, что так будет правильнее.
Пока генерал Крейзибулл с помощью криков и жестов допрашивал своих малолетних солдат, я еще раз внимательно осмотрел место короткого боя. И понял, что нас здесь действительно ждали. Перед капотом машины, перегородив дорогу густой кроной, лежало сломанное дерево. Баррикаду пытались замаскировать под следы бурелома, но сделали это неуклюже и лениво. На дороге, точно обозначив траекторию, по которой тащили ствол из леса, лежали листья и мелкие ветки. Это и впрямь была засада. Мы нужны были рэбелам. Вернее, не им, а тем, кто ими командовал. Странно только, что Суа Джонсон, такой крутой вояка, попался в эту примитивную западню.
Когда нас уводили в лес, я заметил сквозь деревья пламя огня. Наш «фольксваген» облили бензином и подожгли. Огонь охватил машину почти моментально, за несколько секунд. Тела убитых охранников боевики оставили внутри машины. Весело жестикулируя, малолетние убийцы вприпрыжку бежали впереди нас по узкой лесной тропе.
ГЛАВА 33 — ЛИБЕРИЯ, ПОГРАНИЧНАЯ ДЕРЕВНЯ, ИЮНЬ 2003. СИМБА
— Ну, здравствуйте! — улыбнувшись, молодой упитанный человек в камуфляже широким жестом предложил сесть нам в два плетеных кресла возле нехитрого деревянного стола. На столе были расставлены пустые тарелки и чашки. Посередине стоял большой зеленый чайник, а рядом сахарница с темным тростниковым сахаром. Кроме сахара, ничего, что можно было бы положить в тарелку, я не заметил. Да и сахар, пожалуй, скорее предназначен для чашек, а не для тарелок.
— Нравится у нас? — крепыш сделал полоборота головой, как бы приглашая взглянуть на пейзаж у него за спиной. Ничего особенного я там не увидел. Пыльная африканская деревушка. Дети в разноцветных лохмотьях, грызя ногти, с любопытством глядят на нас. Женщины с пластиковыми канистрами набирают воду из колонки. Старик в коричневой майке, подол которой свесился до колен, тянет какой-то напиток из калабаса. По его мутным глазам я отчетливо вижу, что содержимое калабаса явно крепче чая. Все это я видел много раз. Ничего нового открытие этого партизанского края для меня не сулит.
— Я не представился. — сказал хозяин аскетичного застолья. — Меня зовут Симба. Может быть, слышали? Командир пятой бригады Движения за демократию. Ее еще называют Исламской. Не демократию, конечно, а бригаду. Здесь у нас живут сторонники чистого ислама.
Я с сомнением поглядел на старика с калабасом. К чистоте ислама у него явно было особое отношение.
— Вас мне не нужно представлять. Я знаю, кто вы. Мы специально охотились на вас. — пояснил Симба. И уточнил. — На Вас, мистер Эндрю Шут.
— Чтобы предать суду шариата? — грустно пошутил я.
— Не смейтесь. Сначала мы вас и в самом деле приговорили. Вы поставщик оружия Тайлеру, а, значит, его прямой сообщник и должны отвечать за совершенные Вами преступления. Но потом ситуация изменилась. У нас появился шанс проявить милосердие и простить Вас. При одном условии. Если Вы согласитесь нам помочь.
— Скажите, Симба, напрямую «Мистер Шут, нам нужно оружие»!
— Мистер Шут, нам нужно оружие. Но оружие особого свойства.
Через минуту я держал в руках увесистую трубку спутникового телефона и набрал номер, который начинался с кода 971. Я очень надеялся на то, что моя надежда и опора, Григорий Петрович Кожух, все еще в Арабских Эмиратах.
ГЛАВА 34 — ЭМИРАТЫ, ДУБАЙ, ИЮНЬ 2003. «В ГАНТУ, ПЕТРОВИЧ!»
Григорий Петрович никогда не задавал лишних вопросов. Он добросовестно выполнял все поручения, которые я ему давал. Поначалу я тщательно контролировал его работу, но потом понял, что в этом нет никакой необходимости. Для Кожуха я был единственным счастливым билетом в мир свободы и потребления. Никому другому этот старикашка за пределами Родины не был нужен. В компаниях других Плохишей все вакансии были заняты. Им нужны были, в лучшем случае, пилоты. А менеджеров средней руки и без Петровича было завались. Именно поэтому в том, что Казбек Плиев не бросит меня в сложившейся ситуации, я был уверен на девяносто девять процентов. Петровичу я доверял на сто.
Уже несколько дней Петрович пребывал в состоянии паники. Его каждый день вызывали в полицию в связи с арестом владельца фирмы, которого власти Либерии обвинили в контрабанде алмазов. На всякий случай полицейские опечатали офис на Умм Хурейр, а, заодно, и блокировали почти все счета компании. Но тот, единственный, который был оформлен на Кожуха, остался нетронутым.
Петрович продолжал работать дома, отправляя и встречая грузы, вступая в перебранки с пилотами и оплачивая все расходы по содержанию ненадежного коллектива компании. Он порой так кричал на подчиненных, что, казалось, его сердце лопнет от негодования. «Петрович, не рви сердце,» — сказал ему Казбек Плиев, единственный человек, с которым Кожух никогда не ругался. На что Петрович, моментально восстановив неровное дыхание, спокойно ответил: «А я, когда кричу, сердце не включаю.» Но, впрочем, и для стальных нервов Кожуха нужна была разрядка. И темпераментный осетин предложил ему проверенный способ.
«Петрович, а заведи любовницу!»
«Да ты что!» — ужаснулся старик. — «У меня же семья.»
«У всех семья,» — спокойно возразил Плиев. — «Если в семьдесят лет человек отказывается заводить любовницу из-за наличия семьи, а не из-за отсутствия потенции, то не все еще потеряно.»
После первого разговора Петрович ушел в отказ. После второго согласился рассмотреть возможность адюльтера. Но только теоретическую. Во время третьей беседы старик решился перейти от теории к практике.
«А кого, по-твоему, тут можно, так сказать, ...привлечь...,» — заговорил Петрович эвфемизмами. Он бы очень удивился, узнав, что простые обороты его речи называются столь мудреными терминами. — «Местные же не пойдут. Может, наших, русскоязычных?»
«Русскоязычные не годятся,» — рассуждал Плиев. — «Те, кто согласятся, или бляди. Или домработницы. А тебе же нужно и то, и другое в одном лице.»
«Вот филиппинки еще... Они неплохо убирают. И они, знаешь, такие...»
«Какие?» — переспросил Плиев.
«Ну, такие... Маленькие, в общем. Миниатюрные,» — робко объяснял старик.
«Так тебе что, маленькие нравятся?!» — грозно удивился кавказец.
«Да нет, не то, чтобы...» — смутился Григорий Петрович. — «Они, понимаешь, чем моложе, тем безропотнее. И вопросов не задают.»
«Совсем ты, Петрович, здесь пропадешь один. Когда у тебя в крайний раз была женщина?»
Летчики, однако, очень суеверный народ. Никогда не произносят слово «последний» и заменяют его синонимом «крайний», демонстративно разрушая стандарты русского языка. Это, конечно, раздражает филологов, а летчикам помогает очень быстро сообразить, кто твой собеседник — свой, или чужой.
«Женщина? Полгода назад.»
Семья Кожуха была разбросана по всему бывшему советскому пространству от Владивостока до Таллина. Всем своим детям и внукам Петрович исправно посылал заработанные деньги. Жена в Дубай приезжать не любила, поэтому примерно раз в год старик брал отпуск и отправлялся на месяц на родину, в Мелитополь. Секс в жизни менеджера давно уже не был связан с семейной жизнью.
«Была у меня раньше филиппинка. Очень хорошая девочка. Каждое утро перед работой делала мне минет. Каждый вечер, когда я приходил, согревала ванну ровно до температуры человеческого тела, бросала туда лепестки роз и терла меня губкой.»
«Ты за полгода, наверное, истосковался за минетом?» — заметил Плиев с недобрым сарказмом. Но Петрович не заметил грубости.
«За минетом? Нет, только за ванной. В моем возрасте, Казбек, ванна приятнее,» — мечтательно и тихо сказал старик. — «И эффективнее.»
«Ладно, будет тебе маленькая и без лишних вопросов,» — буркнул Казбек, смутившись.
Обещание свое он выполнил. Девушка идеально соответствовала тому образу, который придумал Петрович. Ей было семнадцать лет. Из-за своей худобы она могла сойти и за четырнадцатилетнюю. Она проявляла покорность в сексе, демонстрировала великолепное качество уборки жилых помещений. И при этом не задавала лишних вопросов. Она вообще не спрашивала ни о чем. Потому что была немой. Она потеряла речь из-за контузии, когда у себя на родине, в Южном Судане, попала под артиллерийский обстрел тамошних повстанцев. Что-то замкнуло в ее нервных окончаниях, и она лишилась дара речи. А, может быть, потеряла желание говорить с внешним миром. И поэтому замолчала. Но внешний мир все же вынуждал ее выходить на контакт, чтобы зарабатывать на хлеб насущный. Был ли сложен тот путь, по которому она попала в Эмираты, Григорий Петрович не знал. Да и не хотел знать. В конечном итоге, он был потребителем ее услуг, не больше. И прошлое девушки его не интересовало.
Все же Кожух к ней сильно привязался. Денег он тратил на нее немного, но к исполнению финансовых обязательств перед девушкой относился исправно. Она и за это была ему благодарна. Каждый раз, когда старику нужна была ее ласка, она добросовестно играла роль любовницы, даже и не задумываясь о том, что в жизни может быть по-другому. Другие варианты она не рассматривала, безропотно проживая настоящее и не мечтая о будущем.
Мой звонок его застал врасплох. С другой, арабской, стороны диалога, ко мне доносились обрывки суеты и шуршания постельных принадлежностей. К своим репликам Петрович часто подмешивал звукоподражательные слова, которыми обычно подгоняют ленивую домашнюю живность. Сейчас я был, как никогда, некстати. Но я его босс. К тому же, время было дневное, значит, формально Кожух находился на службе. И все же, я первым делом извинился за вторжение в личную жизнь.
— Ничего-ничего, я, Иваныч, все время на работе. Докладывать надо?
Его доклад был коротким и невеселым. Ну, что ж, о том, что может произойти, если утерять контроль за ситуацией, я знал и раньше. Сейчас нужно было не бизнес спасать, а самого себя. Потом можно было подумать и об остальных делах. Мне не нужно было много слов, чтобы поставить Петровичу задачу, но, услышав, что я от него хочу, старик на минуту потерял дар речи. Я услышал, как в Эмиратах что-то тяжелое грохнулось об пол и рассыпалось мелкими осколками по кафельной поверхности пола. «Да, ешкин кот!» — выругался мой менеджер.
— Петрович, — говорю. — Ты цел?
— Цел, Андрей Иваныч. Повторить задание?
— Повтори, не сочти за труд.
— А если прослушка?
— Петрович, цена вопроса — моя жизнь. Тут не до прослушки.
— Понял.
И я почти слово в слово услышал то, отчего Петрович начал ронять на пол стеклянные предметы.
— В течение недели подготовить один борт с грузом. Груз — около тридцати тонн стрелкового вооружения. Конечный пункт назначения аэродром Ганта. Это северо-восточная граница Либерии. Особые документы не требуются. Груз оформить как металлолом. Андрей Иваныч, можно вопрос?
— Можно.
— Но ведь самолет и впрямь повезет металлолом. Вы хотите, чтобы я собрал весь военный утиль, который смогу я найти за неделю, и погрузил его на «семьдесят шестой». Разбитое, искореженное, не подлежащее восстановлению оружие. Так?
— Так. Но я не понял вопрос.
— Погодите. С этим металлоломом высококлассный летчик должен лететь в зону боевых действий. Так?
— Так. Дальше.
— Дальше вот что. Чего ради пилот должен сажать целый самолет, набитый металлоломом, там, где идет война? На неизвестном аэродроме? Кто на это согласится? И зачем Вам это нужно?
Кожух сделал ударение на слове «Вам». Вместо одного, вопросов было задано много. Так много, что дело начинало попахивать бунтом на корабле. На этот счет у меня был готов ответ.
— Григорий Петрович, пока это нужно мне. Почему? Потому что я спасаю свою жизнь. Но, вполне возможно, спасать свою жизнь придется и тебе. Потому что я под следствием. — Я не стал вводить Петровича в сложную схему моих взаимоотношений с либерийской фемидой. Главное, чтобы он понял: у нас проблемы, у меня, и у него.
— Если меня закроют, — продолжал я, — то тебя сотрут в порошок. Ты, именно ты, заинтересован, чтобы вытащить меня отсюда. Любой ценой. Если хочешь, конечно, и дальше наслаждаться жизнью на берегу Залива. Теплого такого, сытого. Нефтяного. У тебя мои деньги. Деньги должны работать. Вот и работай.
Петрович закряхтел. Переброшенное через космос, преодолевшее за считанные доли секунды полмира, до меня донеслось его сопение.
— Куда это все нужно доставить?
— В Ганту, Петрович, в Ганту, — сказал я примирительно.
— Не знаю, где это. А если там самолет не сядет?
— Обязательно сядет. По-другому нельзя, — отрезал я и нажал на кнопку сброса.
Работать Петрович умел. А я себе дал слово: как только вернусь, сразу же его уволю. Нехорошо, когда твой менеджер задает слишком много вопросов. Кстати, надо бы поменять и всех остальных работничков. Если роптать начинает вернейший из вернейших, об остальных говорить не приходится. Но сначала нужно выбраться отсюда.
ГЛАВА 35 — ЛИБЕРИЯ, ГАНТА, ИЮНЬ 2003. СТАЛЬ И АЛМАЗ
Через неделю я был в Ганте. Этот городок до войны был не слишком известен. Тихая африканская граница между Либерией и Гвинеей. Сорок тысяч населения в глинобитных одноэтажных хибарках. Но во время войны город постоянно переходил из рук в руки. Боевикам нужна была граница. Там, на севере, они отлеживались, залечивали свои раны. Оттуда получали подпитку оружием и деньгами.
Когда мы въехали в город, окраина все еще горела. Накануне закончился бой с войсками Тайлера. Солдаты в течение нескольких дней тщетно пытались восстановить контроль над границей. Боевики гибли сотнями, но позиций не сдавали. Худощавые парни знали, что прикрывали посадку самолета с оружием. Интересно, что бы они сделали с этим Симбой, если бы узнали, что «борт» везет тридцать тонн металлолома?
— Я хочу проверить взлетку, — сказал я Симбе. Рядом стоял знакомый мне «генерал» по прозвищу Крейзибулл. Симба кивнул ему, и «генерал» метнулся куда-то в сторону. Через минуту он появился за рулем разбитого пикапа. Над крышей машины возвышался пулемет Калашникова, а в кузове сидели двое мрачных бойцов. Крейзибулл дождался, пока я сел рядом, и, рванув с места, помчался на аэродром.
Ехать пришлось недолго. Городок, хоть и считался вторым по величине в Либерии, все же был не больше районного центра в нашей глубинке. И выглядел не лучше, особенно после боя. Я вышел из машины возле главного входа в аэропорт. Если, конечно, этим красивым словом можно назвать то, что я увидел.
Между мной и взлетно-посадочной полосой стояло невысокое двухэтажное здание терминала. Оно было полностью опустошено. Бетонная коробка с темными провалами окон одиноко стояла на самом краю африканского города. Подул ветер. Разбитая дверь качнулась на одной петле. Изнутри повеяло запахом гари и гнилости. Заходить внутрь не хотелось. Я обошел терминал стороной. Это было нетрудно. Забор, которым первоначально был обнесен аэродром, отсутствовал в нескольких местах.
Я шел медленно. Я словно боялся увидеть, что полоса не готова принимать тяжелый самолет, и тогда моя участь была бы незавидной. Но я хотел жить, и с каждым шагом молил Всевышнего на всех языках о том, чтобы лучилось чудо. Шуршал гравий. Камень терся о камень. Каждый щелчок под ногой, каждый шорох, бил по вискам так, как, должно быть, щелкает барабан револьвера в русской рулетке. Шаг. И барабан провернулся. Щелчок. И патрон на полсантиметра ближе к бойку. Еще щелчок! Но выстрела нет. Это треснул осколок стекла, на который я случайно наступил. И вот передо мной открылось поле. Пространство, созданное для самолетов, но на котором уже давно не было ни одной машины. Я взглянул на него. Сделал несколько шагов вперед. Парни с автоматами подумали, наверное, что я сумасшедший. Потому что в следующее мгновение я снял с себя рубашку и рухнул на «взлетку». Совсем, как в полтавском беззаботном детстве. Меня снова спасло чудо.
Это чудо, никак не иначе! Именно оно застелило все пространство до самого горизонта ржавыми шестигранниками. Стальные плиты были так хорошо подогнаны друг к другу, что дикая трава лишь местами смогла преодолеть металлическое совершенство военной мысли и пробиться сквозь редкие щели. Я хорошо знал эти плиты. Американцы все делали на славу. И у нас под Полтавой, и здесь, на границе с Гвинеей. Металл был таким жарким и родным. Мне хотелось целовать его. Хотя, конечно, глупо было бы слизывать с покрытия ржавчину. Мой эскорт явно не приемлет подобной сентиментальности.
С минуту я лежал на шестигранных плитах, уткнув лицо в скрещенные руки. Металл был немного горячее, чем тогда, в моем детском сентябре. Африка, как-никак. Но запах был таким же пронзительным. Кто говорит, что металл не имеет запаха? Десятки лет о него стирали резину сотни шасси. Они полировали плиты и вместе с тем оставляли на них частички оплавившейся массы. Кто-то другой, возможно, и не чувствует этот запах. Но я-то его слышу. Я закрываю глаза, и тогда мое тело принимает вибрацию полосы. Это тяжелый Ту-16 коснулся шестигранных плит. Потом немного подскочил. И снова коснулся, теперь уже замедляя ход. Передняя стойка плавно опускается вниз. И вот уже самолет выруливает на стоянку за капониром.
Я переворачиваюсь на спину и гляжу в небо.
Я коснулся лопатками горячего металла. Небо надо мной такое же синее и пустое. Ту-16 никогда не садился на эту полосу. Он остался там, где довольным и усталым пилотам наливают квас, а, возможно, и кое-что покрепче, если выйти за ворота части и пройти чуть левее, до деревянных скамеек под густыми высокими деревьями. И, если прислушаться, то запах стершейся резины от этих плит едва уловим. Почти не слышен. А, скорее всего, я его сейчас нафантазировал. Потому что вытянул очередной счастливый билет. Шанс на жизнь. Но те, кто их укладывал, не думали о моем спасении. Они даже не знали о моем существовании. Много лет назад им нужен был здесь аэродром подскока. Так же, как и в Полтаве, они решали свои большие военные задачи, не думая о том, как причудливо разыграется на этой листовой стали драма отдельно взятого Мальчиша-Плохиша.
— Эй, маста Эндрю! С Вами все в порядке?
Крейзибулл заехал на взлетку с противоположной стороны терминала. Увидев меня лежащим на плитах, он ударил по тормозам. Двое охранников выскочили из кузова и, взяв автоматы наизготовку, огляделись по сторонам. Их командир побежал ко мне, срывая с плеча свой «калашников». Он не на шутку перепугался. Выстрелов не было слышно. Но я лежал перед его глазами и не двигался.
Мальчиш-Плохиш собрался с силами и поднял голый торс над разогретым металлом плит. Ностальгия выветрилась, даже не оставив послевкусия. Так выветривается из головы внезапное опьянение от бутылки пива, выпитой на голодный желудок. Только после пива клонит в сон. А меня, наоборот, охватила жажда действий и азарт ожидания новых событий.
— Эй, «генерал», а ну, скажи мне, эта полоса, она где кончается?
— Я, маста Эндрю, испугался! Вы лежите. А рядом никого.
— Такое бывает. Когда просишь у неба удачи. Транс называется.
Крейзибулл покосился на меня. Несомненно, он был необразован, суеверен и боялся всего неизвестного. Рэбел сделал шаг назад, с опаской, на всякий случай.
— Да ладно тебе, — махнул я рукой. — Это я шучу. Никакого транса. Понимаешь, кое-что вспомнил. Но это неважно. Так что там с полосой?
— Все нормально, — чуть смущенно ответил «генерал» Крейзибулл. — Там еще два километра этих плит.
Я с недоверием посмотрел на него. Невозможно, чтобы в этой глуши уцелело такое количество покрытия, которое всегда можно сдать на металлолом.
— Ну, правда, говорю Вам, маста Эндрю! Не меньше полутора, это точно.
Полтора километра качественной «взлетки» это хорошо. Это значит, что самолет вполне может приземлиться в Ганте. И, главное, взлететь. При условии, что обратно он пойдет пустым. Люди Симбы его быстро разгрузят. А там я обменяю свою жизнь на тридцать тонн никуда не годного оружия, как и было договорено с командиром Симбой. И можно попрощаться с этой страной. Бай, Лайберия!
— Иваныч, скажи, а зачем им металлолом? — начал Сергей мучительный допрос, когда вечером нас разместили в брошенном одноэтажном доме. Он неприятно походил на бунгало, в котором нас держали в Монровии. Те же голые стены без окон и квадратики вентиляционных отверстий в шахматном порядке под потолком. От дома-тюрьмы его отличал высокий каменный забор, которым был обнесен участок, и лужайка с кустами прямо перед входом в жилище. Не знаю, кто до нас здесь жил, мне это было неинтересно. Я решил не заходить внутрь, в отличие от Журавлева. Пока он шуршал внутри чужими бумагами и скрипел чужой мебелью, я искал во дворе что-нибудь похожее на кровать. Я знал, что в африканском доме всегда найдется пара плетеных кушеток для того, чтобы спать на улице. Мои поиски увенчались успехом. Вскоре я нашел за домом две пыльных раскладушки и поставил их перед крыльцом. Матрац мне не был нужен. А Журавлев пускай заботится о себе сам.
Ворота дома скрипнули и приоткрылись. В образовавшуюся щель пролезла черная рука с пистолетом. Я присел в ожидании выстрела. Но выстрела не последовало. Вместо него раздался голос Крейзибулла:
— Маста Эндрю, возьмите. Здесь неспокойно.
Я взял пистолет, ворчливо заметив, что, мол, лучше бы «генерал» принес что-нибудь от комаров. Москиты в Африке кусают чаще, чем обкуренные боевики попадают в цель, поэтому здесь значительно выше вероятность подхватить малярию, чем шальную пулю. Рука исчезла. Мне показалось, на безымянном пальце блеснуло золото. Странно. Я не замечал, что Крейзибулл носит украшения. Может быть, и впрямь показалось? Дверь закрылась.
Я разглядывал пистолет. Это был китайский ТТ, простой работяга войны. Одноразовая штамповка, рассчитанная на скоротечный бой во время корейской или, может быть, вьетнамской войны, но вынужденная служить и дальше своим хозяевам. Теперь уже здесь, в Африке. Пластиковая рукоятка отполирована сотней человеческих ладоней. Магазин чуть болтается. Я нажал на фиксатор и выбросил его на ладонь. Патроны калибра 7,62 мм были в загустевшей смазке. Я потянул на себя затвор, чтобы заглянуть, нет ли в стволе еще одного патрона. Механизм, придуманный Джоном Браунингом и доведенный до совершенства Федором Токаревым, с трудом пришел в движение. Оружием давно не пользовались. Я засомневался даже, сможет ли этот пистолет сделать хоть один выстрел, в случае чего. За моей спиной скрипнула половица. Это Журавлев выходил из дома. Я отпустил затвор и, как только он встал на место, нажал на курок. Металл сухо щелкнул. Патронник был пуст.
— Ты что? — занервничал журналист.
— Собираюсь разгонять комаров, — говорю. — Крейзибулл принес.
— А-а-а, — успокоился Сергей. — А я тут кое-что нашел.
И он дал мне помятую фотографию. На ней молодой чернокожий офицер в парадной форме обнимал девушку в белом платье до пят. Они стояли на пороге церкви, и рядом с ними угадывалась небольшая толпа веселых людей. Офицер с вожделением глядел на девушку, а она, чуть отвернув от него голову, глядела прямо в объектив. На лице у нее блуждала грустная улыбка. Она походила на пойманное животное. А офицер, соответственно, на охотника, поймавшего, наконец, свою дичь. Края фотографии загнулись. На липком глянце отпечатался пыльный след от армейского башмака.
— Совсем, как у нас, правда? — улыбнулся Журавлев, рассматривая фотографию. — Интересно, где сейчас эти люди?
— В лучшем случае, сбежали, — произнес я.
— А в худшем?
Я поглядел на него с сочувствием. Неужели он такой идиот? Не похоже. Значит, он шутит и у него это плохо сегодня выходит. Я отдал ему фотографию. Грустно смотреть на белое платье невесты, по которому потоптались чужие башмаки.
— Так что же там с металлоломом, Андрей Иваныч? — переключился Сергей на другую тему, бросив фото рядом с плетеной раскладушкой.
— Ну, слушай. — говорю ему. — Есть два варианта рассказа. Один будет долгий и бессмысленный. Если ты будешь перебивать меня вопросами. А другой короткий и полезный. Если будешь молчать. Какой ты выбираешь?
Сергей надул щеки и молча развел руками. В знак того, что ему ближе второй вариант рассказа.
Я был краток.
— Они уверены, что победят, у них в этом просто нет сомнений. Они уже начали осаду Монровии и замкнули кольцо. Через месяц они начнут штурм города. Положат сотни пацанов, но город возьмут. Устроят ночь длинных ножей для всех людей Тайлера, а потом призовут мировое сообщество разгребать их дерьмо. Но мировое сообщество согласится их признать только в том случае, если рэбелы объявят о разоружении своих банд. Не просто объявят, а начнут разоружаться. Публично покаются и уничтожат свои арсеналы. Сожгут, расплавят или пустят под каток.
Я рассказывал об этом Журавлеву и отчетливо представлял себе, как это будет. Центральная площадь Монровии, а еще лучше, огромный стадион, мимо которого вдоль побережья к югу идет главная дорога Либерии. Играет музыка, повсюду полощутся либерийские флаги и мелькают голубые кепки миротворцев с кокардами Объединенных Наций. Нестройные ряды бывших повстанцев движутся вдоль трибун, сваливая на поле все то оружие, с которым они пришли на это действо под аплодисменты зрителей. И всякий раз, когда очередной боевик бросает свой пулемет или гранатомет в центр поля, аплодисменты становятся сильнее. Прощай, оружие!
Какой-нибудь серьезный офицер из иностранцев, швед, а, может быть, пакистанец, делает записи в своем журнале и время от времени просит в нем расписаться и некоторых рэбелов, неизвестно по какому принципу отобранных из толпы. Ну, а потом самое главное. На футбольное поле выезжает тяжелый каток и переминает под собой всю эту коллекцию вороненого металла.
— Но в действительности разоружаться боевики не хотят. И не будут. В такой стране, как Либерия, все очень быстро меняется. Тот, кто остается безоружным, в любой момент может проиграть. Это разоружение нужно европейцам и американцам, которые жуют гамбургеры перед телевизорами. Ну, и людям, которые заказали эту войну и теперь оплачивают ее. Наблюдая за ней, благодаря тебе и таким, как ты, Сережа.
Журавлева передернуло. Я подумал, ему не понравилось мое отношение к журналистам. Некоторое время спустя я узнаю, что в моей фразе был гораздо более глубокий смысл, который был непонятен мне самому, но понятен Сергею. Я сделал паузу. Хотелось затянуться сигаркой, но мои карманные запасы давно истощились, а курить дрянь я не мог.
— И вот тут очень кстати будет мой металлолом. После взятия Монровии рэбелы сдадут Симбе свое оружие, а вместо него получат мой хлам. И отнесут его на лобное место. Где под радостные крики мирового сообщества бросят железо под пресс. А свое, исправное, пристрелянное, почти новое, спрячут в надежных местах. На всякий случай.
— И будут поливать огороды маслом, — тихо добавил журналист.
— И будут поливать, Сережа, но только централизованно, по команде, — я со своей стороны сделал уточнение.
Загремел замок на воротах. Створки снова заскрипели, открываясь внутрь. Появилась рука Крейзибулла. В руке была бутылка виски.
— Пейте, ребята! Ничего другого от малярии я не нашел.
Две собачки на этикетке, черная и белая, весело глядели на меня, словно обещая, что сегодня моя кровь москитам не понравится.
— Спасибо, дружище, — я взял виски и пожал руку «генерала» в знак благодарности.
Все-таки хорошо, что среди местных мусульман так редко встречаются фундаменталисты. Вечер нескучно перешел в ночь, а затем ночь превратилась в рассвет. Я встретил его со смутной надеждой на то, что в сценарии этой войны возможны изменения. Мне удалось хорошенько рассмотреть руку Крейзибулла. И я увидел на ней кольцо с бриллиантом. Сомнений не оставалось. Это был мой перстень из Кандагара.
ГЛАВА 36 — ЛИБЕРИЯ, ГАНТА, ИЮЛЬ 2003. ПОСЛЕДНИЙ «ИЛ»
Шасси самолета уверенно коснулись железных плит. Пилот идеально выполнил посадку. Он плавно сбросил скорость, чтобы самолет не подскочил при касании. Не поймал «козла», как говорят летчики. Я был уверен, что в командирском кресле Плиев.
Самолет подкатился к краю взлетки. Двигатели замолкли. Рампа открылась.
— Иваныч, это самоубийство! — такими были первые слова Казбек, как только он вышел из кабины «Ила».
— Я сразу понял, что здесь мне полный «халас»! — мирное арабское слово, означающее «конец», в исполнении Плиева прозвучало, как русское, рифмующееся со словом «конец». Казбек был типичным кавказцем. Сначала ругался, и только потом объяснял причину своего недовольства. Впрочем, в этом случае я бы и сам поступил так же.
— Я, еще когда делал круг, сразу понял, что здесь что-то не так, — объяснял он, немного охладев. — Ну, посмотри сам. Здесь не будет тысячи пятисот метров. От силы тысяча четыреста. Как я буду взлетать?
Мне сказать ему было нечего.
— Уж лучше бы грунтовка была! — продолжал возмущаться Плиев.
Самолет стоял у самого края полосы. Плиты обрывались ломаной линией. За ней была глинистая поверхность, вся в буграх и трещинах, как высохшее болото.
— Сколько тебе надо для взлета? — спросил я Казбека.
— Тысячу пятьсот, как будто сам не знаешь, — ответил тот.
Я оставил его и бросился искать Симбу. Особого труда это не составило. Командир повстанцев стоял возле терминала, прижимая к уху трубку спутникового телефона. Выражение лица Симбы было озабоченным и сосредоточенным. Время от времени он произносил одну и ту же фразу: «Yes, sir» Человек, с которым говорил главный рэбел, наверняка стоял выше него на партизанской иерархической лестнице. Но, в таком случае, кто бы это мог быть?
Увидев меня, Симба прервал разговор, извинившись перед невидимым собеседником.
— Я не буду разгружать самолет! — заявил я Симбе.
— То есть?
— Я не буду разгружать самолет, потому что он не взлетит.
— Все равно не понял.
Мне понадобилось не очень много времени, чтобы объяснить Симбе, в чем суть проблемы. Для того, чтобы пустой «Ил» взлетел, необходимо как минимум полтора километра взлетной полосы. Здесь же было от силы тысяча четыреста метров пригодной для взлета дорожки. Иными словами, самолет не сможет подняться в воздух.
— Это я понял, мистер Шут. Я не понял другое, — спокойно улыбнулся Симба. — как это Вы помешаете нам разгрузить этот борт. Какая Вам теперь разница? Хоть пустой, хоть полный, он все равно не взлетит.
Он был прав.
— Послушайте, мистер Симба! Командир экипажа Казбек Плиев. Он осетин. Это о чем-нибудь Вам говорит?
Симба отрицательно качнул головой.
— Осетин, кавказец. — продолжал я. — А кавказцы не боятся смерти. Если Вы попробуете разгрузить самолет, он подорвет его вместе с собой.
Симба задумался. Конечно же, я блефовал. Но на африканца это произвело впечатление. Похоже, он мне поверил.
— Кто Вам сказал, что аэродром пригоден? — переспросил меня Симба. Ну, точно, поверил! По его лицу было заметно, что он принял очень серьезное решение.
— Крейзибулл, — сказал я.
Симба резким движением сорвал с пояса портативную радиостанцию.
— Срочно сюда Крейзибулла! — скомандовал он, поднеся микрофон ко рту. — Как только прибудет, сразу ставьте его к стенке!
— Погодите, не надо к стенке! — закричал я. Столь радикальное решение проблемы не входило в мои планы. — Убьете вы его или нет, а самолет все равно не взлетит.
Я озадачил его примерно теми же словами, которыми до этого он озадачил меня.
— У Вас есть другое предложение, мистер Шут?
— Есть. Не уверен, что сработает, но можно попробовать.
Крейзибулла не стали расстреливать. Вместо этого в тот день ему и его подчиненным досталась самая нелегкая и самая идиотская работенка, какую только можно придумать. И придумал ее не кто иной, как я.
После разговора со мной и Симбой банда Крейзибулла отправилась в город. Они целый день колесили по Ганте. Рылись в мусорных кучах. Вели бесполезные разговоры с местным населением. Обыскивали все помещения, какие только были в городе, включая даже муниципалитет. Превозмогая сопротивление домохозяек, врывались в самодельные хибары. Превозмогая неприятный запах, осматривали общественные туалеты. Они разыскивали железные шестигранники. Такие же точно, как и те, из которых была сделана взлетная полоса аэродрома.
Я рассудил так. Полосу начали разбирать на металлолом. Но вывезти весь металл из города было невозможно. Шла война. Значит, хоть что-нибудь должно остаться в городке. Я надеялся только, что этого «что-нибудь» хватит, чтобы доложить оставшиеся сто метров. Ход моих мыслей оказался правильным. Через полчаса после начала поисков боевики привезли первый шестигранник.
Расчет за доставку происходил на аэродроме. Я никогда еще не продавал оружие таким образом.
Цена установилась стихийно. За один ящик стрелкового вооружения мы требовали по одной плите. Столько же просили за отдельный гранатомет или крупнокалиберный пулемет. За контейнер брали уже побольше, от десяти шестигранников и выше.
— Послушай, Андрей Иваныч, — говорил мне вполголоса Казбек, — дальше там все россыпью. Как тогда будем рассчитываться?
— Погоди, — отвечал я ему обнадеживающе, — будем решать проблемы по мере их поступления.
Казбек принимал плату за товар. Кстати, в цену включена была и установка. Плиев лично проверял, как черные рэбелы укладывали плиты на грунт. И если ему работа не нравилась, он заставлял боевиков снова и снова перекладывать покрытие.
— Послушайте, маста Эндрю, — жаловался «генерал» Крейзибулл, — если дело будет идти так, как сейчас, мы не управимся и за неделю.
— Ничего, ничего, — говорил ему я. — Мы теперь никуда не торопимся.
Количество людей, принимавших участие в ремонте полосы, было рекордным. Мне казалось, что на аэродроме собралась вся повстанческая армия. Но все же дело и впрямь двигалось медленно. К вечеру полоса стала ненамного длиннее. Казбек водил за нос гвинейского диспетчера, объявив об аварийной посадке на неизвестном аэродроме. Солнце скрылось за кронами дальнего леса. Но работа не прекращалась. В руках у бойцов появились карманные фонарики. Мне тоже пришлось лично поучаствовать в укладке взлетной полосы. Для быстроты процесса я помогал разгружать плиты из кузова пикапа, который курсировал между городом и аэродромом. Всякий раз, когда я брался за край плиты, я старался стать поближе к «генералу» Крейзибуллу. Чтобы еще раз убедиться в наличии перстня у него на руке. Но он то оставался в кабине пикапа, то раздавал подзатыльники своим малолетним бойцам.
Конец работы терялся в неопределенном будущем. Вдоль полосы появились костры, на которых боевики стали готовить ужин. За ужином, при свете костра, я, наконец, разглядел, что мой афганский перстень с ним.
— Все, больше нет, — обреченно сказал Крейзибулл через сутки, убирая грязной рукой капли пота со лба.
Шестигранник положил было начало новому ряду стальных плит. Но продолжения не предвиделось. Наличие или отсутствие отдельно взятого шестигранника не имело большого значения и проблемы не решало.
— Скажи мне, Казбек, — спросил я командира, — хватит тебе взлетки, чтобы поднять борт?
— Не знаю, Андрей Иваныч, — с сомнением покачал головой летчик. — Сейчас померяем.
Он померял. Потом перемерял еще раз. От перемеривания свежеуложенный участок не стал длиннее. В нем было шестьдесят метров. Если не считать бесполезной плиты с краю. Носком своего ботинка Казбек задумчиво сбивал с крайнего шестигранника то ли грязь, то ли ссохшийся навоз.
— Не знаю, Иваныч, — повторил пилот. — Но теперь есть шансы. Будем взлетать на рассвете. Если утром не будет дождя.
Работы по укладке полосы прекратились. Зато живее пошла разгрузка «Ила». Все высвободившиеся силы рэбелы кинули на остатки вооружения в грузовом отсеке самолета. Сначала они аккуратно выносили разнообразный военный скарб и осторожно ставили его рядом со взлетной полосой. Но Симба, уже давно потерявший остатки терпения, заорал:
— Чего вы церемонитесь? Бросайте этот хлам вниз, да и все тут!
Грузчики удивленно переглянулись, но своего командира все же послушались. Они со смехом и недоумением потрясали автоматами с разбитыми прикладами и слегка согнутыми стволами. Один из них подошел к Симбе, оживленно размахивая правой рукой, кажется, он периодически указывал на меня. А в левой он держал автомат ППШ, выпущенный примерно в середине Великой Отечественной. Автомат, хотя и был без диска, вполне мог заинтересовать коллекционеров оружия. Даже наверняка заинтересовал бы, я уверен в этом. Но здесь, в таком виде, он был абсолютно бесполезен. По спине у меня пробежала неприятная дрожь. Я перевел взгляд на Симбу. Главный повстанец взял в руки автомат, швырнул его в общую кучу металлолома и жестом отправил бдительного бойца работать дальше.
При свете костров начинался восход. Я был доволен. Еще один рассвет в Африке радовал меня недолгой утренней прохладой.
— Ну, что, Иваныч, летим отсюда? — спросил меня Журавлев. Потрясающий человек! Во время разгрузки он стал каким-то незаметным, словно его и не было, и это избавило его от тяжелой физической работы. Попадись он мне под руку, я бы заставил его поработать. Но он вовремя исчез. А теперь вот появился. Когда работа закончилась, и можно было вместе со мной сесть в самолет. Сергей еще не знал, что у меня на этот счет были другие планы.
К нам подошел Симба и кратко позволил:
— Заводите моторы. Улетайте.
— Андрей Иваныч, поднимайтесь на борт, — устало пригласил меня Плиев. Это было вполне в его манере: обращаясь ко мне, переходить с фамильярного «ты» на вполне официальное «вы». Непонятно только было, какими соображениями он руководствовался в каждом отдельном случае. Сейчас, например, он сидел прямо на взлетке, прислонив спину к резине шасси, и всем своим видом демонстрировал, насколько сильно устал от Африки, в целом, и повстанцев, в частности. Бортинженер и второй пилот, люди мне совсем незнакомые, крутились около двигателей, снимая с них оранжевые заглушки. Первый знак для посвященного, что борт получил «добро» на взлет. Я подал руку Казбеку, помогая ему подняться.
— Пойдемте, Иваныч, — повторил Казбек приглашение.
Он был лучшим моим пилотом. Плиев был хитрым, пронырливым, ушлым, подчас неспособным на сострадание человеком. Он мог быть кем угодно, но только не был трусом. И, если говорить начистоту, я его подставлял под удар гораздо чаще, чем он меня. Казбек знал об этом. И в то же время многое прощал мне. Не потому, что был великодушным. И не потому, что я был его хозяином. Хозяина всегда можно поменять. Осетин любил полет и риск. Я давал ему и то, и другое. Ну, и, разумеется, платил больше, чем остальным.
— Знаешь, Казбек, я остаюсь, — улыбнулся я, глядя пилоту в глаза.
— Что, Иваныч, что ты несешь?! — Плиев снова перешел на «ты». — У тебя, наверное, сегодня солнечный удар? Железа много таскал по жаре?
— Да нет, Казбек. Все нормально. Просто планы изменились.
— Стоп-стоп-стоп! — замотал головой осетин. — Я получил задание: привезти груз и вывезти человека.
— Ну, так ты его и вывезешь.
Рядом со мной, недоуменно хлопая глазами, стоял Журавлев. Такого поворота событий он не ожидал. Я слегка подтолкнул его ладонью вперед:
— Вот он и полетит вместо меня. Одно место у тебя найдется? — сказал я бодрящимся тоном. Вышло как-то неискренне, а потому глупо.
Плиев посмотрел на меня непонимающим и злым взглядом.
— Да не волнуйся ты. Премию за рейс ты получишь по полной, — я продолжал нести неуместные глупости.
Казбек сначала развел руками, растопырив пальцы, как будто хотел меня порвать на кусочки, а потом бессильно бросил руки вниз, и они повисли, как плети, вдоль его форменных пятнистых штанов. Мол, ну, что ты будешь делать, если начальник у тебя идиот! Экипаж закончил возиться с заглушками и уже убирал колодки из-под шасси.
— Ладно, как знаешь, ты же хозяин, не я, — сказал он, протянув мне открытую ладонь. Я крепко пожал ее. Плиев двинулся к открытой рампе.
— Пошли, пассажир, — кинул он через плечо Сергею. Но журналист продолжал стоять рядом со мной. Я ничего не понимал. Почему он стоит, почему не идет в самолет? От удивления остановился и Плиев.
— Сергей, ты что?
Журналист, странно улыбаясь, потупил глаза, как провинившийся школьник, и тихо сказал:
— Я тоже остаюсь.
— Что? — вырвалось у меня и у Казбека одновременно.
— Я остаюсь, — повторил Сергей потверже.
— Да вы тут все больные! — рявкнул Плиев и от души добавил — Или ебнутые, или обкуренные!
Он повернулся спиной и зашагал к машине. «Ты что,» — зашипел я на Журавлева. — «окончательно свихнулся?! Они тебя убьют! А не они, так малярия. Или гепатит.»
— Тебя же еще не убили! — парировал журналист. — Буду виски бухать каждый день. По полтора литра. И никаких гепатитов.
— Послушай! — торопливо стал убеждать я Сергея. — Это твой единственный шанс. Каждый раз, когда тебе дается шанс, его нужно использовать.
— Но это же и твой шанс, — удивился Журавлев. — А ты остаешься.
Ну, как ему объяснить? Вроде бы, все он знает про меня и Маргарет. И вместе со мной ввязался в неравное сражение с охранниками. Когда нас везли в этой передвижной железной коробке. Все говорило о том, что ему можно доверять, безусловно, можно. И, в то же время, не хотел я раскрывать ему свои планы. Я не знал, почему мне этого так не хочется. Просто полагался на свою интуицию.
— Сережа, послушай, у меня есть очень серьезные мотивы не лететь, — я попытался обойтись без долгих объяснений.
Он шмыгнул носом и дурацки поджал губы. «Совсем, как Мурзилка,» — я вспомнил про себя его первое место работы. А он, сменив глупую гримасу на нагловатую улыбку, сказал мне:
— Андрей Иваныч, у меня есть тоже очень серьезные мотивы не лететь.
Я не стал спрашивать, какие. Просто поверил ему на слово. Мне казалось, он все еще мечтает о гениальном репортаже из Африки, тем более, оказавшись в гуще событий. Но я даже представить себе не мог, насколько иными были мотивы у этого человека. Он остался стоять рядом, на металлической взлетке, глядя, как самолет разворачивается против ветра.
Костры все еще горели. Большая часть боевиков спала на теплой земле. Ее поверхность вокруг затухающих костров была усеяна черными силуэтами. Совсем, как поле боя павшими героями. Когда пронзительно засвистели реактивные двигатели, силуэты задвигались, закопошились и стали потихоньку подбираться к самой кромке взлетной полосы. Мощный «Ил» развернулся и неторопливо двинулся к дальнему концу металлической дорожки. Концы его крыльев мягко, почти незаметно, пружинили всякий раз, когда шасси попадали на неаккуратный стык шестигранных пластин. В конце полосы самолет развернулся и замер. Обычно в этот момент пилот запрашивает диспетчера о разрешении на взлет. Но здесь спрашивать было не у кого. Я знал, о чем думает Плиев. Наверняка, он молится про себя о том, чтобы шасси самолета успели оторваться от земли до того, как закончится под ней этот металл. Об этом думал и я сам. Но не я один.
Я посмотрел по сторонам и заметил, что уже все боевики поднялись со своих мест и, как один, глядят на «Ил». Они были такие разные. Одни совсем еще дети. Другие беспокойные подростки. Третьи, набрасывая себе век наркотиками и алкоголем, походили на стариков. Но сейчас у всех этих людей на лицах было одно и то же выражение напряженного ожидания. Взлетит? Не взлетит?
То, что самолет разгоняется, я заметил, когда он достиг уже середины полосы. Свист и гул стремительно приближались к нам. Некоторые рэбелы инстинктивно прикрыли лица руками. Но с места не сдвинулись. Продолжали стоять возле взлетки. Только Сергей, повинуясь неведомым позывам, присел на корточки в тот момент, когда «Ил» промчал мимо него.
До края полосы осталось метров сто. Девяносто. Восемьдесят. Передняя стойка уже зависла над полосой. А задние сейчас окажутся как раз на участке, который укладывали повстанцы. Шестьдесят метров осталось. Все, не успеет. Или успеет? Пятьдесят. Нос самолета резко задрался вверх. Если он соскочит на грунт, машине конец. И людям в ней тоже. Тридцать метров! Двадцать! Десять!!!
И в этот миг я заметил, что между шасси и землей есть просвет! Сразу его было не разглядеть. Колеса сливались с темным металлическим фоном. Машина тяжело, с сомнением, поднялась вверх. Набрав примерно километр высоты, «Ильюшин» развернулся и сделал круг над аэродромом. Толпа черных повстанцев истошно и радостно завопила. Самые младшие из боевиков — по возрасту, конечно, — выскочили на полосу и принялись выплясывать на ней, выделывая ногами невероятные кренделя, неведомые балетмейстерам. А кое-кто стал даже от нахлынувших эмоций тузить друг друга. Каждый по-своему переживал восторг. Удивительный восторг, с примесью чувства победы, к которой имели отношение все до одного, собравшиеся на этом клочке земли.
Я тоже кричал. И аплодировал. И плакал. Клянусь, в этот момент мне очень хотелось стать по стойке «смирно» и, вздернув подбородок вверх, поднести правую руку к козырьку. Но, — «к пустой голове руку не прикладывают!» — не было у меня фуражки с козырьком. И никогда уже не будет. Самолет медленно качнул крыльями влево-вправо. Опасный трюк для тяжелого «Ила». Раскачивая самолет, пилот приветствовал нас. Или прощался. Толпа боевиков разразилась невероятно дружным радостным кличем. Кое-кто пальнул даже пару раз в воздух.
Только Сергей молча сидел на корточках и, тихо улыбаясь, глядел, как крылатый силуэт медленно уходит на восток. а затем, поменяв курс, постепенно растворяется в багровых лучах восходящего солнца.
ГЛАВА 37 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮЛЬ 2003. РЕКА СВЯТОГО ПАВЛА
— Вот она, Монровия!
Сергей необычайно возбудился, как только зеленая грузовая «тойота» подъехала к реке Святого Павла. Я неторопливо вылез из кабины, где занимал почетное место рядом с водителем. Журавлев выпрыгнул из кузова. У него в руках была видеокамера. Вот уже несколько часов он сидел в кузове и снимал всех, кто нам попадался по дороге. Боевиков, беженцев, пленных. Сожженные деревни были похожи одна на другую, но Сергей всякий раз просил нас остановиться возле развалин, чем значительно осложнял продвижение к линии фронта. Он просил дать ему на съемки ровно минуточку. Затем исчезал в развалинах на добрые полчаса. Когда он появлялся, мы снова трогались, но, завидев очередные руины, тормозили. Процесс невероятно раздражал водителя, и он страшно ругался на языке мандинго. А я, не зная ни одного слова на мандинго, повторял ругательства на русском. Получался синхронный перевод. Но журналист не обращал на нас внимания.
Вот уже месяц мы двигались от Ганты к Монровии. Маршрут был запутанным и утомительным. Сергей сумел упросить Симбу найти ему камеру и кассеты. Тот откликнулся с пониманием, и вскоре Журавлеву принесли четыре камеры на выбор. У одной был разбит объектив. Другая была нестандартного формата, и ни одна кассета к ней не подходила. На видоискателе третьей брезгливый журналист обнаружил густое красное пятно загадочного происхождения и поэтому отказался даже брать ее в руки. Четвертая работала с равномерным жужжанием, как электрическая бритва, но Сергей, осмотрев ее, сказал, что снимать можно. Вот этим занятием он и развлекал себя в походе на Монровию. А что было делать мне? Только ругать себя, сетовать на собственную глупость и лечить малярию с помощью виски.
— Это Монровия, Иваныч! — запрыгал по берегу реки Святого Павла репортер. — До центра километров десять, не больше!
Где-то невдалеке ухнул разрыв минометной мины. Над рекой поднялся фонтан грязной воды. Чернокожий водитель махнул нам рукой и развернулся в сторону одноэтажных построек на берегу. За ними находился лагерь повстанцев. Дожидаться, пока мы добежим до машины, парень не стал. Рассудил, видимо, что своя жизнь дороже.
Мы добежали до ближайшего дома, утопая по колено в мягком мусоре, который за месяц осады накопился вокруг позиций боевиков. А, может быть, здесь и раньше была свалка. Она прекрасно простреливалась с того берега. Там, все еще надеясь на перелом в войне, держали оборону правительственные войска. Стрелять солдаты Тейлора умели не лучше наших новых друзей. Вторая мина, выпущенная по нашей машине, снова разорвалась в реке. Мы залегли за каменным забором возле незнакомого дома и осматривали мост, который собирались штурмовать боевики.
— Сегодня девятнадцатое июля, — сказал Сергей, наблюдая за суетой вооруженных людей на противоположной конце моста.
— Ну и что? — ответил я механически.
— Нет, ничего. Ровно месяц назад мы разгрузили твой «борт».
— Я бы попросил..., — начал я было возмущаться, вспомнив, как Журавлев ухитрился прятаться во время разгрузки, но потом махнул рукой. — А!
— Хорошо бы отметить! — мечтательно сказал он.
— Это, Сережа, уже алкоголизм. Мы каждый день что-нибудь отмечаем. Или боремся с малярией. А что, собственно, есть отмечать?
— Месяц моей глупости! — произнес Журавлев. В глубине души я с ним был согласен. В жизни с рэбелами были минусы и плюсы. Плюсов было меньше. Что хорошо иллюстрировало лицо журналиста в рамке немытых бороды и волос. А также стойкий запах, который источала его драная одежда. Я выглядел не лучше. К тому же вот уже несколько дней меня трясло, бросая из жара в холод. То ли малярия, то ли неизвестная форма похмельного синдрома. Я все же надеялся на второе. Но больше всего мне портило настроение отсутствие хорошего кубинского табака. А плохой я курить отказывался. Меня от него тошнило навыворот.
С того берега снова донесся глухой разрыв минометного капсюля. Через несколько секунд мина ухнула у самой кромки воды, подняв в воздух невообразимое количество прибрежного мусора.
— Андрей Иваныч, ну хотя бы теперь скажи, чего тебя понесло в Моноровию? — ворчал Журавлев, снимая с уха упавшие с неба картофельные очистки.
Мне не хотелось тратить время на ответ. Было некогда. Я пытался вычислить, сколько против нас задействовано минометов. Минометы я либерийцам не продавал, этим занимались мои американские конкуренты.
Я досчитал до пятидесяти, когда услышал следующий разрыв. На этот раз мина упала метров на двести правее. То ли у них там несколько орудий, то ли минометчик в стельку пьян. Или обкурен. Скорее всего, так и было. Хорошо это или плохо, я не знал. У меня не было никакого плана относительно того, как перебраться на тот берег. Но я почему-то был уверен, что это у меня обязательно получится.
— Вот что, Сергей, — сказал я своему попутчику. — Держись ко мне поближе. Ко мне и к этому Крейзибуллу. Если, конечно, тебе нужно туда.
Я кивнул головой в сторону моста.
— Нужно, — подтвердил Сергей серьезность своих намерений.
Мы по-пластунски двинулись в сторону одноэтажных пакгаузов, неровные стены которых были усеяны следами от пуль.
За этими невысокими строениями спрятался узкий, но очень длинный переулок, который кишмя кишел людской массой. Голые по пояс боевики, увешанные автоматами и гранатометами, суетились и кричали, перетаскивая с места на место боеприпасы. Они смеялись, демонстрируя белизну зубов, ругались между собой и время от времени отпускали друг другу подзатыльники. Казалось, вся мелкорослая армия Симбы набилась сюда, и стоило минометчику с того берега удачно пристрелять свое орудие, как наступление повстанцев будет остановлено. Но миномет продолжал крайне бессистемно лупить по нашим позициям, и на гулкие взрывы уже никто не обращал внимания. Даже если россыпи осколков с металлическим звоном врезались в стены строений, которые нас прикрывали.
«Генерал» Крейзибулл стоял возле своего главнокомандующего. Симба был в неизменном камуфляже, довольно чистом, и, как мне показалось, даже наглаженном. На Крейзибулле тоже была военная форма, а на голове огромный, не по размеру, фиолетовый берет, в который поместилась вся его прическа. За все время, которое мы провели вместе с рэбелами, я впервые видел, чтобы Крейзибулл полностью спрятал свои дрэды под берет. А, может быть, он постригся. Мой перстень был у него на руке.
Симба кратко отдавал распоряжения Крейзибуллу. Тот по очереди подзывал к себе своих людей и передавал им указания, для убедительности дополняя их крепкими тумаками. Гора боеприпасов под стенами складов росла все быстрее.
Я заметил полуголого паренька лет пятнадцати, сидевшего на деревянной табуретке. Под ней была россыпь патронов от «калашникова». Парень набивал магазин, поднимая их прямо с земли. Когда боевик закончил свою работу, он левой рукой залез в карман штанов и извлек оттуда полиэтиленовый пакетик с зеленым порошком и моток белого пластыря. Неведомо каким образом в правой у него оказался перочинный ножик. Меня слегка передернуло: он, не торопясь, сделал надрез у себя на виске. Из раны сбежала капелька крови. Парень небрежно смахнул ее. Он оторвал полоску пластыря и аккуратно уложил на нее щепотку порошка. Затем ловким движением прикрепил пластырь у виска, аккуратно разгладив края материи, так, чтобы они получше держались.
— Чего это ты делаешь, дружок? — ласково спросил его Сергей.
— Какой я тебе «дружок», урод?! — возмутился боевик и подбросил на ладони пакет. — От этого весь страх проходит. Воевать веселее. Понял? Если хочешь, могу тебе продать.
Журавлев поспешил отрицательно покачать головой, а я оглянулся по сторонам. Пожалуй, у каждого подростка на виске красовался пластырь. У кого белый, а у кого серый, от грязи. Они все чаще и громче смеялись. Их движения стали широкими и, как мне показалось, более развязными. Я посмотрел на Крейзибулла. Наш «генерал» смеялся, как и все. Но глаза его оставались какими-то напряженными, а приказы нервными. На его висках не было пластыря.
— Эй, парни, не тратьте сразу весь порошок! — крикнул он повстанцам. — Мы начинаем завтра на рассвете!
Девятнадцатое июля две тысячи третьего был долгим днем. Двадцатое июля обещало неизвестность. А мне очень сильно хотелось, чтобы для меня завтрашний день был таким же долгим, как и сегодняшний.
Утром я проснулся от сухого треска автоматов. Представить себе не мог, что засну, и, в конце концов, ожидание сморило меня. Ну, и конечно, проспал самое начало. Мы спали в кузове «тойоты» Крейзибулла. Не успели мы проснуться, как «генерал» с РПД наперевес запрыгнул в грузовик и принялся торопливо устанавливать пулемет на самодельной опоре, приваренной к кабине. Конец ленты, переброшенный через плечо, хлопал его по спине.
Пулеметные ленты это не просто атрибут любой революции. Это ее символ. Символ надежды на счастливое будущее, которое почему-то обязательно рождается в крови и грязи. Такое вот повсеместное заблуждение. Ленты на серых шинелях. Ленты на красных пончо. Ленты на черных голых телах. Они остаются неизменными. География и время меняют лишь цвет фона.
— Забыли, мать его, вчера установить! — выругался сквозь зубы Крейзибулл. Он торопился, и от этого его движения теряли ловкость.
— Ты бы лучше приказал водителю сменить колеса, — услышал я веселый голос Симбы из джипа, остановившегося рядом с нами. — Вон на передних корд уже виден!
Крейзибулл, даже не взглянув на него, продолжал возиться с пулеметом.
— Слезайте, — махнул он нам с Журавлевым, закончив дело.
Мы переглянулись.
— Я остаюсь в машине, — сказал я «генералу».
— Мы тут немножко поснимаем, — промямлил Журавлев. — Ладно?
Крейзибулл ничего не сказал, только махнул рукой. Он сел в кабину. Худощавый подросток, один из его людей, сунул в кабину свой автомат, а сам вскочил в кузов и стал за пулемет. Мы сидели рядом. Со стороны подъездов к мосту доносилась ожесточенная стрельба, и, хотя бой шел еще далеко от нас, мне захотелось пригнуться и спрятаться за кабиной. Наша «тойота» ехала по опустевшему переулку. Перед нами, разбрасывая колесами автоматные патроны, кучками валявшиеся возле стен, двигался джип Симбы. Из окон его машины в разные стороны торчали стволы автоматов и черные руки охранников. Время от времени в переулок забегали возбужденные боевики. Они сбрасывали опустевшие магазины и тут же хватали новые, полные. Их, сидя на корточках, набивали малолетние девчонки-оборванки, неизвестно каким образом появившиеся в расположении повстанцев. Машина Симбы ловко маневрировала мимо заряжальщиц. Мы набирали скорость, стараясь не отставать от главнокомандующего.
Наша кавалькада выехала на центральную улицу, главную артерию города, пересекавшую предместье и плавно переходившую в мост через реку Святого Павла. Именно там, на мосту, шел ожесточенный бой. Взяв его, повстанцы смогли бы беспрепятственно дойти до центра Монровии и взять резиденцию Тайлера. Только река была им в этом преградой. И несколько сотен верных президенту солдат.
Это был очень странный бой. Партизаны, — их здесь почему-то оказалось немного, — потрясая длинноволосыми прическами, по очереди выбегали на мост и с криками разряжали свои автоматы в сторону противника. Они почти не целились. Оттуда повстанцев непрерывно поливали ответным огнем. Он был очень плотным, но хаотичным. Я сразу и не заметил, чтобы с нашей стороны были убитые или раненые. И этот факт невероятным образом поднял мне дух.
Джип Симбы на большой скорости несся к мосту. Крейзибулл (и мы вместе с ним) следовали за командиром невероятного войска, называвшего себя Пятой бригадой Движения за демократию. Из командирской машины нам махнули рукой, мол, отвалите, не едьте за нами. Крейзибулл проигнорировал приказ. Наша «тойота» только немного притормозила, но потом прибавила газку, сократив расстояние между машинами.
Сергей этого не заметил. Он включил свою камеру и принялся водить ею по сторонам. Не знаю, что он там наснимал. Машину трясло невероятно, камеру в его руках болтало из стороны в сторону. Пулеметчик с невозмутимым лицом оттянул на себя затвор. Оружие было готово к бою.
Крейзибулл мне уже давно казался очень подозрительным парнем. Он вел себя, как стопроцентный рэбел, но именно в этом полном соответствии и было что-то ненастоящее. Вымученное. Словно начинающий актер пытается быть полностью похожим на тот образ, который играет на сцене. Но здесь не сцена. Я, белый и чужой, сразу увидел то, что черные не замечали. Впрочем, нет, не сразу.
Все дело в моем кандагарском перстне. Не знаю, каким образом он оказался на руке у Крейзибулла, но зато я знаю точно, что пришел он с той стороны. Он мог достаться крестьянам, которые растащили обшивку сбитого самолета. Он мог попасть к людям Суа Джонсона, наверняка осматривавших место падения «Ана». В конце концов, его мог снять с пальца погибшего Левочкина и Журавлев, хотя бы теоретически. Но перстень никак не мог достаться боевику Движения за демократию. Это исключено. И все же это было именно так.
Я понимал, что перстень неведомым образом пришел с другой стороны. Значит, однажды он вернется на ту сторону. С Крейзибуллом. И со мной, если повезет. А, кстати, я так и не выяснил, куда делось тело Суа Джонсона. Оно ведь лежало возле «фольксвагена». Но подумать об этом у меня не было времени.
Мы подъехали к мосту. Симба выскочил из джипа и стал отдавать короткие распоряжения своим людям, отброшенным назад контратакой правительственных сил. Их глаза были мутными. А на лицах у каждого блуждала улыбка. Симба обернулся назад, посмотрел на наш пикап и крикнул нам:
— Какого хрена? Я же сказал, убирайся на правый фланг, там нет никого!
Распоряжение, как видно, было адресовано Крейзибуллу, но тот даже не ответил. Шофер вопросительно взглянул на «генерала». Так и не получив подтверждения приказа, он нервно передернул плечами. Водитель и без войны был достаточно нервным парнем, и это внушало опасения. Зато пулеметчик, сохраняя каменное лицо и ленивую позу, продолжал равнодушно глядеть, как на той стороне радостно подпрыгивают солдаты Тайлера, выигравшие первое сегодняшнее боестолкновение.
Рядом с Симбой стоял долговязый боевик. Черная кожа плотно облегала его ребра, их было совсем нетрудно пересчитать. Руки-плети болтались в разные стороны. Настолько тонкие, что, казалось, у парня вообще отсутствуют мускулы. Удивительно, какими силами он удерживал в правой ладони рукоять одиннадцатимиллиметрового «кольта», которым постоянно указывал в сторону правительственных солдат. Парень был похож на одуванчик, качавшийся от ветра. Сходство добавляла курчавая круглая шапка черных волос. Если бы боевик был блондином, сходство было бы почти абсолютным.
Рэбел спорил о чем-то с командиром Пятой бригады. Они говорили на мандинго. Вернее, говорил боевик. Симба отмахивался, а когда ему надоело слушать полунаркотический бред своего бойца, он толкнул его ладонью в грудь. Несильно так толкнул, по-отечески, но «одуванчик» не удержался на ногах и рухнул на землю, выронив из рук пистолет. Когда он приподнялся, то я заметил на его лице оскал ненависти и гнева. Этот оскал был адресован Симбе. Парень резко вскочил на ноги. Я подумал было, что сейчас он бросится на обидчика. У его ног, прямо на разбитом асфальте дороги, лежал гранатомет. Заряженный. Худой верзила, не долго думая, схватил его. Охранники Симбы предостерегающе закричали, наставив на рэбела свои стволы. Они были уверены, что «одуванчик» намерен пальнуть в их джип. Но все произошло совсем иначе.
Свой гнев боевик направил в другое русло. Он бросился на мост. Издавая дикие вопли и размахивая гранатометом, он добежал до середины моста. Солдаты на той стороне опешили. Словно оцепенели. Они явно не ожидали увидеть перед собой камикадзе. В момент замешательства в стане противника боевик присел на колено и нажал на спуск.
Граната громко хлопнула и с шипением устремилась на ту сторону. Через считанные доли секунды гулко грохнул взрыв. А потом еще один, куда более мощный. Граната попала в груду боеприпасов, сложенных солдатами. Участь тех, кто стоял рядом с ней, была незавидной. Белая яркая вспышка на мгновение ослепила глаза, но я успел увидеть, как в разные стороны разлетаются черные силуэты людей. И самым крупным из них был силуэт на переднем плане, уже знакомый мне по пышной круглой шевелюре.
Впрочем, еще через секунду я понял, что ошибался. Кучерявого парня ударная волна не достала. Она улеглась, а «одуванчик» продолжал, подпрыгивая, к нам приближаться. Он все еще держал гранатомет на плече. И я понял: рэбел скачет от восторга. Он и сам не ожидал, что может сделать столь удачный выстрел.
Сергей направил на парня объектив своей камеры. Рот его был приоткрыт, из узкой щели между верхними и нижними зубами торчал красный кончик языка. Сергей тоже испытывал восторг, но несколько другого свойства. Он радовался удачному кадру. Так, сдержанно и сосредоточенно, радуется удачной охоте профессиональный охотник.
На той стороне очень быстро пришли в себя. Я услышал треск автоматных выстрелов. Алюминиевые фонарные столбы на мосту зазвенели, принимая шальные пули. Раскаленный воздух нежно запел над нашими головами. «Фьюить,» — кратко сообщили пули, пролетавшие слишком высоко. «Фьюииить,» — затянули те, которые летели все ниже и ниже.
Охранники развернули свои автоматы в сторону противника и открыли огонь. Они первыми сообразили: парня надо прикрыть. Худощавый боевик с гранатометом бежал прямо на выстрелы «своих», но телохранители Симбы стреляли получше основной массы рэбелов. Впрочем, это уже не имело большого значения. Я заметил нешуточное движение на том берегу реки. К мосту подтягивались серьезные силы. Огонь становился все более плотным, а количество боевиков с нашей стороны сейчас было явно недостаточным. Симба раскидал своих людей вдоль всего берега, и теперь их срочно нужно было возвращать к мосту Святого Павла. Но сделать это быстро у него не получалось.
Охранники молотили из автоматов по толпе солдат. Симба, залезая в джип, неистово орал приказы в рацию. Сергей снимал завязавшийся бой, не выключая камеры. Он сосредоточился на том, что происходило на середине каменного моста. И зря. Сидя в кузове пикапа, почти у самых ног пулеметчика, я увидел то, что не видел никто другой. Крейзибулл, оставаясь совершенно невозмутимым во время всей этой сцены, внезапно высунулся по пояс через окно машины и рукой, — той самой, на которой красовался мой перстень! — сделал знак пулеметчику в кузове. Один короткий взмах. Мол, давай!
Я прятался за невысоким бортом. От свиста пуль над головой останавливалось сердце и стыла кровь. Каждая вторая, кстати, была продана Тайлеру мной. Но это было для меня уже неважно. Потому что я следил за тем, что сделает пулеметчик на крыше. Выражение безразличия моментально сошло с его лица. Он молниеносно подчинился команде Крейзибулла.
Симба запрыгнул в джип. Пулемет на нашей «тойоте» развернулся в сторону командирской машины. Водитель джипа двинул вперед рычаг. Звякнула первая передача. Машина было рванула с места. Но проехать она успела немного. Заработал пулемет на «тойоте». И он стрелял по Симбе и его телохранителям. Мощные пули калибра 7.62 входили в крышу джипа так легко, словно машина была сделана из картона. Они рвали все, что встречалось им на пути: пластик, материю, человеческую плоть. Во все стороны разлетались осколки стекла и, как мне казалось, красные кровавые брызги. Изнутри доносились вопли охраны и стон Симбы. Вскоре их совсем не стало слышно, а пулеметчик продолжал разряжать свой пулемет, и рваных отверстий в тонкой стальной крыше становилось все больше и больше. Никто не успел выскочить из джипа. Рука Симбы безвольно повисла из окна. С указательного пальца на землю быстро закапала кровь. У Пятой бригады не стало командира.
— Гони на мост! — крикнул Крейзибулл водителю, но тот растерялся. Он изумленно таращился то на джип Симбы, то на своего непосредственного начальника. Крейзибулл явно не посвятил шофера в свои планы. И это замешательство стоило нервному водителю жизни. Крейзибулл, не раздумывая, вскинул автомат, который лежал у него на коленях, и всадил на меньше половины рожка в растерявшегося соотечественника. Очередью водителя выбросило из машины.
Всего этого Журавлев не видел. Ему, наверное, казалось, что пулеметчик отражает контратаку солдат. Впрочем, все это произошло в течение нескольких секунд.
Пулеметчик заметил водителя, лежащего на земле.
— Давай сюда белого! — заорал на него Крейзибулл.
Белых в кузове было двое. Первым под рукой оказался я. Боевик, не глядя, схватил меня за ворот и рывком перебросил через борт. Не помню, каким образом я оказался на залитом кровью водительском сидении.
— Дави на педаль! Жми на мост! — кричал Крейзибулл, направив на меня ствол.
Не нужно было дважды меня приглашать. Ведь этого момента я и сам ждал. Я не знал, как это произойдет, но дожидался чего-то подобного с того самого момента, когда увидел на руке Крейзибулла мой перстень.
То-то удивился Журавлев, сидя там, в кузове, когда наш пикап рванул прямо на позиции Тайлера. В это время худощавый боевик, похожий на одуванчик, уже добежал до своих. Кроме меня, только он и мог видеть расстрел командира Пятой бригады. Рэбел отчаянно бросился наперерез «тойоте». Но никакого оружия, кроме разряженного гранатомет, в руках у него не было. Единственное, что он мог сделать, это попытаться остановить нас собой. Что он и попытался сделать. Но не успел. Я увидел, как он дернулся, словно его кто-то ударил сзади. Боевик удержался на ногах, но тут же потерял равновесие. Из сквозной раны на груди брызнули темные капли. Они долетели до «тойоты» и расквасились красными кляксами на лобовом стекле. Я дернул руль вправо, а затем влево, чтобы объехать упавшего на колени парня. Когда его лицо утонуло в пыли, мы уже мчались к середине моста.
Навстречу нам неслась вооруженная толпа. Люди с той стороны не очень-то отличались от боевиков Симбы. Те же грязные длинные волосы. Те же пулеметные ленты на полуголых телах. Хрен его знает, как они отличали своих от чужих. Солдаты отчаянно стреляли в разные стороны. И в нас, в том числе. Мелькнула мысль: «Интересно, как это Крейзибулл докажет, что мы свои?»
За доказательством боевик долго не лез в карман. В прямом смысле этого слова. Легким движением руки, как опытный престидижитатор, он извлек из кармана скомканный флаг с белыми и красными полосками и со звездой на синем фоне. Флаг был не больше тех, какими в свое время размахивали демонстранты во время Первомая на Красной площади. Но с той стороны его заметили. Очевидно, это был заранее установленный сигнал. Солдаты прекратили огонь, во всяком случае, по нашей машине. Я заметил среди них человека в синем бронежилете с камерой в руках. Он уселся прямо на землю и направил камеру на наш пикап.
Пулеметчик развернулся в сторону боевиков и открыл огонь. Не понимаю, что мешало сделать это на мгновение раньше. И тут я услышал один хлопок, потом второй. Машину качнуло сначала влево, затем вправо. Она перестала слушаться руля. Ее резко повело вправо, и она пошла боком. Я не мог ничего сделать. Я крутил баранку, и каждое мое движение лишь усложняло наше положение. Изношенная резина на колесах не выдержала скорости. Мы напоролись на какой-то военный мусор, — ведь бесполезными железками был усеян весь мост, — и пробили оба колеса. Вот ведь как! «А Симба нас предупреждал,» — подумал я, когда машина, перегородив мост, стала заваливаться на бок.
Крейзибулл яростно зарычал. Он не успел убрать руку из окна, и дверная стойка, прижавшись к земле, переломила ее, как спичку. Я оказался сверху «генерала». Он вопил от дикой боли, когда машину по инерции протащило на боку несколько метров. Я был в порядке. Как только развалюха остановилась, мне удалось выбраться через водительскую дверь наружу. Теперь она была сверху. Пока я возился, вылезая из машины, то, похоже, был отличной мишенью для боевиков. Пули сделали несколько дыр в крыше пикапа, совсем рядом со мной, и вошли в кресло водителя, на котором я только что сидел.
Подбежавшие солдаты с неистовым криком вцепились в меня.
— Оставьте его, он журналист! — закричал Журавлев. Вот как! Он цел. Это хорошо. Я оглянулся на наш пикап и не увидел пулеметчика. Из-под машины виднелась раздавленная черная рука. С перстнем. И либерийским флажком. Крейзибулл все еще сжимал его, думаю, это была конвульсия. Боевик тихо стонал. Ему не повезло. А Журавлеву наоборот. Его выбросило из кузова, и он отделался сильным ушибом, впрочем, неопасным.
— Они журналисты, это правда! — закричал человек в синем бронежилете, подбегая к нам. На голове у него была потертая кевларовая каска с буквами «TV press». Из-под каски выглядывало черное круглое лицо с двойным подбородком. Десятки цепких рук продолжали держать нас за грязные майки. Наверняка не все из них были осведомлены о покушении на одного из лидеров герильи. А, значит, мы для них были перебежчиками. Да еще белыми. Что подтверждало легенду о белых наемниках, усердно размножаемую обеими сторонами этого конфликта.
— Эй, парни, они и впрямь журналисты! — повторил человек в синем бронежилете. — Я их знаю!
«Быстро отсюда,» — шепнул он нам, как только солдаты отпустили нас. Они было переключились на наш пикап, пытаясь извлечь из него Я оглянулся назад. Жалко было перстень, чего и говорить. Я подбежал к машине. В суете никто не заметил, как я снял с черной руки золото с бриллиантом. Теперь мой кандагарский подарок снова был у меня.
— Назад! — крикнул мне человек в синем бронежилете. Он видел то, чего не видел ни я, ни солдаты, возившиеся с пикапом. Я среагировал быстрее и с ускорением чемпиона по бегу понесся прочь от машины. Через секунду я услышал взрыв за своей спиной, и ударной волной меня подняло вверх. В общем, на противоположный берег я, в конце концов, попал по воздуху. По перевернутой машине боевики стреляли из гранатометов. Пикап, лежащий на боку, был прекрасной целью.
— Я Джимми Мангу! — пожал мне руку парень в бронежилете.
— Он из Ройтерс, — добавил Сергей, осматривая свою камеру. Он, видимо, остался доволен осмотром, потому что улыбнулся и хлопнул Джимми по спине. — С меня виски!
— Ящик, Серж, не меньше! — хохотнул Джимми. Сразу видно, эти двое были знакомы. Хотя и не нравятся мне журналисты, но правды ради следует признать: друг друга они выручают чаще, чем мы, бизнесмены. Впрочем, наш бизнес особого свойства.
С этой стороны все было примерно так же, как и с той. Суета. Ящики с боеприпасами. Солдаты среднего и старшего школьного возраста. И ковер отстрелянных гильз, покрывающий почти все прилегающее к мосту пространство. Мы сидели прямо на асфальте, у стены двухэтажного дома и — спасибо, Джим! — пили теплый спрайт из железных банок.
— Ну, как там у повстанцев, Серж? — спрашивал Джимми коллегу. — Что сумел отснять?
— Почти ничего, — уклончиво сказал Журавлев. — Мы ведь у них были в заложниках.
— А как ты там оказался? — продолжал допрашивать Мангу. — Тебя же вроде посадили?
— Ну, знаешь, одни посадили, другие выпустили.
И Сергей в общих чертах изложил нашу историю, обойдя стороной разгрузку в Ганте. И пластиковую бутылку, которой он запустил в охранника.
— А этот боевик в пикапе, не помню, как его звали, — и тут Сергей зачем-то соврал. — Он нам сразу сообщил, что хочет рвануть в Монровию, ну, мы с Энди к нему на хвост и упали. Только нам он ни хрена не сказал о том, что собирается завалить Симбу?
— Завалить Симбу? Он в него стрелял?! — возбудился Джимми.
— Наповал, — и Сергей сделал характерный жест, мол, Симбе конец. — А ты разве не видел?
— Да нет, там у вас была сплошная беготня, стрельба, — вздохнул Джим. — Я видел, что стреляют, а в кого, что, как, не понял.
Он помолчал и украдкой добавил:
— Но, ты знаешь, здесь об этом, похоже, знали. Они сегодня стянули сюда половину армии. А утром приезжал лимузин Тайлера. Не знаю, кто там был внутри. Стекла у него, понимаешь, тонированные.
— Послушай, Джим, — перебил его Сергей. — У тебя есть телефон? Нужно срочно позвонить своим.
— Не вопрос, — улыбнулся приветливый толстяк. И протянул Сергею спутниковый телефон.
Журавлев вскочил и отошел от нас в сторону, туда, где трескотня выстрелов была слышна чуть меньше. Ну, а нам от них не было вреда. К шуму мы привыкли, а достать они нас не могли. Дом надежно отгораживал нас от линии фронта.
— Энди? Тебя так, кажется, зовут? — переспросил Джимми.
Я кивнул.
— Слушай, Энди, вы точно там ничего не отсняли? А то я могу поменяться. Мое видео в обмен на ваше.
Любопытно. Он принимает меня за журналиста. Ну, что ж, это хорошо.
— Ладно, — подмигнул я парню. — поговорю с Сергеем, может, он и отдаст. Сам понимаешь, эксклюзив.
Волшебное слово подействовало. Джимми понимающе кивнул в ответ и замолчал. Я неторопливо допивал свой спрайт, когда появился Сергей и вернул хозяину телефон.
— Дай-ка и я сделаю звонок, — обнаглев, попросил я черного парня. Он протянул мне телефон. На табло остался набор цифр, начинавшийся с кода +7. И дальше шел московский номер. Я автоматически пролистал оперативную память телефона. Предыдущий звонок был сделан по номеру с кодом +1. Звонили в Америку. Дальше шли местные номера. Я хотел было позвонить Маргарет. Но случайно нажал на клавишу «Звонок». «Я же просил не звонить дважды с одного и того же номера,» — услышал я в трубке недовольный голос незнакомого американца. — «Больше не буду это повторять!» Ничего не ответив, я сбросил вызов. Похоже, я слегка подставил Джимми. Потом я набрал Маргарет. В динамике послышались унылые длинные гудки. Я терпеливо насчитал четырнадцать и снова нажал клавишу сброса. Нужно было сделать еще один звонок, в Дубай. Но я подумал, что разговор с Петровичем будет долгий. И не стал ему звонить.
— Ну, что, Джимми, — улыбнулся Журавлев, допив свой спрайт. — Пошли пожрем где-нибудь, пока солдаты воюют.
— Ты что, Серж, с ума сошел, — пальцем покрутил у виска Мангу.
Мы удивленно переглянулись. Что он имеет в виду?
— Ребята, вы, что, не знаете? — чуть ли не крикнул Джим.
«Нет», — одновременно замотали мы оба.
— В городе нет нормальной еды. Люди едят кошек и собак. Это, — он указал на пустые жестянки, — была гуманитарная помощь.
Мы с трудом вникали в сказанное.
— Боевики перекрыли все дороги в город. Это блокада, — округлив и без того круглые глаза, твердил Мангу. — Это голод.
— То есть, как «блокада» ? Как у нас в Ленинграде?
— Не знаю, что там у вас, в Ленинграде, парни, но это не у вас. Это Монровия.
— Знаешь что, Джимми, — зло сказал я упитанному журналисту, — дай Бог вам не увидеть Ленинград! А ваш либерийский голод мы как-нибудь переживем. Ты, я вижу, не похудел?
Джимми не обиделся и вздохнул.
— Не похудел. Хотя, поверь, третий день ничего не жру. Только спрайт этот гребаный пью.
— Ну, парень, — говорю, — надо себя заставлять!
Шутке рассмеялся только Сергей. Джим ее не понял. Только заметил ворчливо «Those crazy Russians!» и, кряхтя, поднял себя над асфальтом.
Мимо нас, вдоль по улице, четверо солдат пронесли раненого парня в дырявых джинсах. Ранение было серьезным. За солдатами тянулась кровавая дорожка. Кровь, не останавливаясь, сбегала по спине прямо в задний карман джинсов и оттуда быстрыми каплями падала на асфальт. Вся задняя часть штанов была в пятнах грязно-бурого цвета. Солдаты, такие же подростки, как и раненый, старались не измазаться в кровь. Они с четырех сторон держали своего товарища на вытянутых руках и семенили худыми ногами в рваных кроссовках. Автоматы им очень мешали, били прикладами по лодыжкам. Раненый не издавал ни звука.
— Theirs not to reason why, theirs but to do and die, — тихо продекламировал Сергей.
— Что это? — спросил его Джимми.
— Альфред, сэр Тэннисон. Английская классическая литература.
— Слишком красиво для всего этого дерьма, — покачал головой Мангу.
И я не мог с ним не согласиться.
ГЛАВА 38 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮЛЬ 2003. БЛОКАДА
Свою машину Джимми оставил метрах в пятистах от передовой. Мы вовремя ушли оттуда. Через минуту после нашего исчезновения к мосту подъехали люди Чакки. Тайлера-младшего. Коммандос оперативно опросили всех свидетелей покушения на Симбу, которых только смогли найти на этом берегу. Очень быстро они выяснили, что, кроме двух исполнителей, на правительственную сторону перебежали двое штатских. Среднего возраста. Неопрятного вида. Белые. Тщательно прочесав окрестности, мордовороты Чакки так и не увидели перебежчиков. Один из них, вроде, был с камерой. То ли журналист, то ли правозащитник. Такие сумасшедшие борцы за мир часто попадаются в зонах конфликтов.
Нас искали. Я не мог вернуться домой. Джимми сделал круг по городу и как бы случайно проехал мимо моего дома. Мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять: возвращаться некуда. Ворота нараспашку. За воротами виднелась небольшая лужайка, изрядно вытоптанная солдатскими ботинками. На траве лежала сорванная с петель входная дверь, усыпанная мелкими осколками стекла. Заходить внутрь? В этом не было смысла. Там наверняка царил полный хаос. Солдаты обычно доводят порученное дело до полного совершенства. Если порядок, то идеальный. Если хаос, то тотальный. Под колесами автомобили звякнул металл. Джимми занервничал. Вдруг что-то отвалилось. Я обернулся назад. Волноваться не было причины. Просто мы наехали на железяку. Позади нас на дороге осталась жестяная табличка, на которой раньше было написано «Собственность Эндрю Шута.»
Потом мы направились в район, где жила Мики. Помнится, она говорила, что войны здесь никогда не будет. Ее слова оказались правдой. Почти. Вилла посла Соединенных Штатов стояла, как ни в чем не бывало. И вон еще одна, кажется, в ней жил торговец каучуком. Но дом, в котором я провел самый лучший свой день в этой стране, был неузнаваем. Вернее, дома-то и не было. На его месте красовалась груда обгоревших бревен и битого кирпича. Забор, окружавший усадьбу Маргарет, лежал на земле. Видно, здесь хорошо поработали бульдозером.
— Послушай, Джимми, — шепнул я черному коллеге Журавлева, пока тот мочился в ближайшие кусты. — Ты получишь все наше видео, если спрячешь нас на пару дней. И дашь мне телефон.
Джимми думал недолго.
— Поехали, — твердо сказал он, когда Сергей вернулся в машину. Вскоре мы вернулись в центр города и подъехали к Сезар Билдинг.
— Здесь наше бюро, — пригласил Мангу. — Поднимайтесь за мной.
«Забавно,» — подумал я. — «Именно здесь я встречался с Калибали и Санкарой, этими двумя из Буркина-Фасо.» На деревянной лестнице стоял все тот же затхлый запах, который раздражал меня и в прошлый раз. Двигаясь гуськом по невероятно скрипучим ступенькам, мы поднялись на второй этаж. Я мельком посмотрел на двери знакомого офиса, где раньше находилась «Эйр Лайберия». Они были закрыты. Офис Мангу был этажом выше.
Мы зашли в его контору. Ничего примечательного. Двойной кабинет, разделенный перегородкой. В первой части стол, два стула и шкаф, доверху набитый кассетами. На столе допотопная видеотехника, клубки спутанных проводов и — о чудо! — столь нужный мне телефонный аппарат. Джимми открыл фанерную дверь во второй отсек. Там я не увидел ничего, кроме бронежилета с каской и поролонового матраца под окном. Журналист стянул с себя бронежилет и бросил его рядом с тем, который уже был в комнате.
— Располагайся, Энди, — громогласно заявил Мангу. — Живи здесь, сколько хочешь.
Я не сказал ему, что хотел бы поскорее убраться из этого места, в частности, и этой страны, вообще. Я только подумал об этом, но столь красноречиво, что Мангу сразу же прочитал на моем лице все мои мысли. И осекся. А что подумал Сергей, было неизвестно. Он возился со своей камерой, стоя к нам спиной.
— Ну, что пойдешь в свой офис? — спросил его Джимми.
— Джимми, дружище, — сказал Журавлев, не оборачиваясь. — У меня теперь нет никакого офиса.
И Мангу смирился с тем, что его гостеприимство теперь распространяется не на одного, а на двоих.
Сепаратный сговор у нас с либерийским журналистом вышел простой. Пока они с Сергеем ездят на съемки, я тайком копирую все его материалы для Джимми. За это я пользуюсь телефоном в неограниченном количестве. Сергей был не в курсе наших договоренностей. Я думаю, что мог бы убедить его со временем отдать Джимми часть материалов, но мне не хотелось на это тратить время. «Потом,» — решил я про себя — «я разрулю эту ситуацию». Я успел скопировать, не глядя, лишь пару кассет. А сам в это время накручивал диск старого телефонного аппарата в офисе журналиста. Мне во что бы то ни стало нужно было найти Маргарет. И позаботиться о бегстве.
Я вернулся сюда для того, чтобы вывезти ее отсюда. За то время, пока я был с боевиками, воспоминания о ее измене размылись в моей памяти. Когда я вспоминал увиденное, картина в ее спальне становилась похожей на затертое древнее порно, не вызывающее никаких эмоций. И участвующие в нем персонажи нисколько не похожи на реальных людей. Тем более остро я чувствовал, что мне не хватает именно ее. Оставшись один на поролоновом матраце, я не пытался сдерживать слезы и шептал, как ребенок: «Мики, Мики, Мики.» Наплакавшись вдоволь, я понял, наконец, что это было бесполезное занятие. Нужно было действовать. Нужно было найти Маргарет во что бы то ни стало. Шестое чувство подсказывало мне, что она жива.
Но вместо того, чтобы искать Маргарет, я стал звонить Петровичу. Его снова не было дома. Я уж было подумал, что старика арестовали. И для очистки совести набрал его еще раз. «Последний,» — так сказал я себе.
— Слушаю вас, — прорвался ко мне его голос сквозь посторонние звуки отвратительной связи.
— Послушай, Григорий Петрович, — закричал я, перекрывая голосом помехи. — это я, Андрей.
— Слушаю вас! — повторил он. Но теперь интонация его голоса сменилась с вопросительной на услужливую.
— Буду краток, — сказал я. — Мне нужно, чтобы ты забрал меня отсюда...
— Это невозможно, — перебил меня Кожух. — люди разбежались. Плиев в Монровию не полетит. Никто не полетит.
— Это я знаю, — соврал я. — Не перебивай. Мне нужно убраться отсюда, и я унесу из Монровии свою задницу сам. Но ты должен назвать мне ближайшее место, откуда тебе проще всего эвакуировать меня и еще одного... Нет, двух пассажиров. Без документов.
Григорий Петрович думал всего несколько секунд.
— Абиджан. Берег Слоновой Кости. В течение трех дней с того момента, как только я узнаю, что вы там.
— Понял. Конец связи.
Петрович отключился. В трубке щелкнуло. Но коротких сигналов я не услышал. Казалось, что на том конце кто-то прислушивается к моему дыханию, затаив собственное. Потом еще один щелчок. И только после этого динамик запищал у меня в ухе, как рассерженный попугай. Я положил на рычаг трубку и стал дожидаться Сергея и Джима.
Они пришли довольные. В руках у Джима был бумажный пакет, из которого ароматно пахло жареным мясом. Я не стал спрашивать о том, где они его раздобыли, равно, как не стал интересоваться происхождением продукта. Чье это мясо, уже было неважно. Если запах не раздражает, значит, можно есть. Последствий я тоже не боялся. В тот момент мой слипшийся желудок был готов принять мясо любого зверя. В общем, мелко нарезанное барбекю, еще достаточно теплое, смогло поднять мне настроение. А за барбекю я узнал еще и хорошую новость.
— Это еще не все, Иваныч. Скоро голоду конец, — жующий Журавлев был похож на жадного кота, поймавшего голубя.
— Американцы, — пытался пояснить Джим, но у него это слабо вышло. Рот был занят едой.
— Что «американцы», Джимми? — переспросил я.
Но в одиночку никто из них не мог донести информацию, поэтому их голоса разложились на дуэт.
— Американцы объявили, что скоро... — выдал один.
— ...скоро введут свои войска, а завтра... — продолжил второй.
— ...они начинают эвакуацию своих...
— ...граждан, и уже записывают всех...
— ...желающих эвакуироваться...
— ...будут вывозить всех, кто желает, но...
— ...своих граждан, в первую очередь.
Джимми поставил точку в коротком рассказе. «Расчет окончен!» — так и хотелось услышать от него в конце.
— Джимми, — говорю я ему. — мне срочно нужна твоя машина.
Я не просил его. Я просто поставил его перед фактом, который не требовал возражений. Через пять минут я уже был перед воротами в посольство США. Бросил машину за квартал и оставшиеся сто метров прошел пешком. Перед собой я увидел невероятно длинную очередь. Она, словно живая говорящая змея, галдела, кричала, требовала и плакала, то сжимаясь в кольцо, то вытягивая длинный хвост. Ее голова пыталась безуспешно втиснуться в небольшие двери в посольском заборе. Они были негостеприимно приоткрыты ровно настолько, чтобы дюжие молодцы-охранники могли пропускать внутрь по одному человеку, удерживая остальных. Очередь состояла, в основном, из женщин. Но среди толпы было несколько мужчин. Кстати, вполне призывного возраста. Видно, Тайлера никто защищать не собирался.
У дверей в посольство назревал скандал. Немолодая женщина с ребенком на руках пыталась протиснуться внутрь. Охранник терпеливо отстранил ее локтем. Женщина повторила попытку. Здоровяк при исполнении начал терять терпение и слегка толкнул женщину. Та едва не упала на асфальт. Ребенок заплакал. Женщина закричала. Очередь начала громко возмущаться. Видно было, что она охвачена вирусом ярости. Охранники занервничали. Толпа подтянулась ко входу, сгруппировавшись вокруг крикливой женщины. Запахло штурмом посольства. Ситуация грозила выйти из-под контроля. И тут случилось нечто неожиданное.
К воротам посольства подъехал грузовик-самосвал с опознавательными знаками министерства обороны Либерии. Он, никуда не торопясь, развернулся. К посольству задом, а ко мне передом. Водитель, выставив из окна руку с сигаретой, оглянулся назад и нажал на рычаг. Кузов неторопливо пошел вверх. Послышались глухие удары о землю. Словно водитель сгружал зерно в мешках. Но это были не мешки. И не зерно. Очередь онемела и застыла от ужаса. Закончив свою работу, водитель вышел из машины. В руках у него была бумага и скотч. Ловким движением он прилепил бумагу на ворота. Затем вернулся в кабину. Вернул на место кузов. Запыхтев компрессором, самосвал тронулся, оставив после себя страшный груз.
На земле беспорядочно лежали два десятка мертвых тел. Это не были солдаты. Но на некоторых видны были следы ранений. Тела лежали на земле, раскинув руки в сторону посольства, словно запоздало тянулись к спасительным воротам. Позже, на листке бумаги, я прочел следующие слова: «Эти люди либерийцы американского происхождения. Их убили голод, осада и ваше безразличие. Помогите снять осаду, остановите голод и спасите тех, кого еще можно спасти.»
Я молча смотрел, как толпу начинал охватывать вторичный приступ ярости. И он обещал быть куда более мощным. В посольстве сообразили, что нужно моментально разрядить ситуацию. Створки ворот начали раздвигаться. Из динамика послышался голос. «Не волнуйтесь, мы примем всех!» — сообщил он торопливо. — «По двадцать! По двадцать человек! Не волнуйтесь, соблюдайте очередность.» Но тщетно. Многоголосая толпа, переступая через тела соотечественников, беспорядочно вливалась в спасительные ворота.
ГЛАВА 39 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮЛЬ 2003. ТРИ ВСТРЕЧИ
— Я смотрю, Вы туда не торопитесь, — услышал я за спиной знакомый голос. Не может быть! Это абсолютно невероятно!
Я обернулся и увидел перед собой человека, которого меньше всего ожидал увидеть в Монровии. Да и вообще, я не рассчитывал увидеть его когда-нибудь среди живых. И, признаться, меньше всего мне хотелось подобной встречи. Человек этот носил недлинную аккуратную бороду. На нем был не камуфляж, а цветастая рубаха навыпуск. И все же не узнать его было невозможно. Суа Джонсон. Коммандо из специального подразделения по борьбе с терроризмом, поверженный мной в партизанских джунглях. И добитый боевиком по имени Крейзибулл.
— Не думали со мной свидеться, а, мистер Эндрю? — подмигнул мне верзила. Не требовалось особого труда, чтобы прочитать мои мысли. Я молчал и ждал, что же будет потом.
— Я, конечно, изменился. Но и Вы с этой бородкой не очень-то на себя похожи. Маскировка, мистер Эндрю?
— Хочешь меня сдать? — спросил я его вместо ответа.
— Нет. Но хочу заработать.
— С меня, Суа, сейчас ничего не возьмешь.
— Посмотрим, посмотрим. — усмехнулся коммандо и тат же предложил. — Поехали?
Я не стал отказываться. И снова отправился в неизвестность. А по дороге узнал много любопытных подробностей. Мы сели в мой автомобиль, вернее, в машину, позаимствованную мной у журналиста Джимми. За рулем был Джонсон. Он внимательно следил за дорогой и, не умолкая ни на секунду, рассказывал историю своего удивительного спасения.
— Мистер Шут, Вы, конечно, понимаете, что все это было неспроста. Джунгли, дорога, остановка. Тайлер хотел пустить кровь Симбе. Он думал, что это остановит рэбелов. Он до сих пор так думает. Вот мы и решили сдать ему Вас вместе с этим русским журналистом. Скормить, как наживку. Серджем, кажется его так зовут. А фамилию я не запомнил. Сложно выговорить. Ну, ладно. Пойдем дальше. Был у нас один человечек среди повстанцев. Вы его должны знать, его зовут Крейзибулл. Вернее, звали. Долго его подкармливали, несколько лет подряд. Еще с тех времен, когда он к банде Симбы босяком прибился. То денег подбросим. То травы. Таких мы содержали много. Но этот пошел в гору. Стал начальником, «генералом», как они себя там называют. И Тайлер решил, что Крейзибулл это единственный шанс. Не старший Тайлер. Не президент, а Чакки, конечно. В общем, решил он заказать покушение на Симбу. Исполнитель, понятное дело, Крейзибулл. Только парень захотел предоплату, во всяком случае, частичную. Ну, и кто бы повез ему деньги, а? Только самоубийца. Если бы нас застукали, то живьем бы зажарили обоих. Вы же видели, что они сделали с моими парнями, — Суа, кажется, имел в виду водителя и охранника в сожженном «фольксвагене». Любопытно! Оказывается, он видел все, что происходило на дороге. — Ну, да, о чем это я? Крейзибулл. Он у них был главным диверсантом. Засады на дорогах, захват заложников, — не местных жителей, а серьезных людей, конечно, — похищение ценностей. Это все доверяли нашему парню. В общем, он делал карьеру. И за Симбу Крейзибулл попросил сто тысяч долларов. Американских. Мы сбили цену до пятидесяти.
Машина ехала в сторону аэродрома Сприггс. Проехав аэродром, Суа повернул направо. Машину качнуло на ухабах. Мы въехали в район унылых лачуг. Одноэтажных, с темными проемами вместо окон, из которых местами струился черный дым. Он поднимался над полотнами белья, которые сушились на веревках, протянутых от хижины к хижине. Я почувствовал приторный запах африканской жратвы. Ее здесь готовили начерно, разводя огонь прямо в домах.
— Крейзибулл поторговался, но согласился, — продолжал рассказ коммандо, то и дело дергая руль то влево, то вправо. — И пока мы думали, как ему доставить деньги, подвернулись Вы с этой девочкой, Маргарет. Такое удивительное совпадение. Не знаю, как Вы ухитрились перейти дорогу Чакки, но он сначала грозился убить и ее, и Вас. Потом только Вас. А потом папа Чарли успокоил его. В общем, поскольку повстанцы интересовались Вашей личностью, мы решили, что лучший повод повидаться с Крейзибуллом это отвезти Вас прямо к повстанцам в руки.
«Одно хорошо,» — подумал я. — «Джонсон не в курсе истории с сыном президента.» Впрочем, в рассказе было много темных пятен. И я был не прочь, чтобы коммандо внес некоторую ясность.
— Ну, ладно, здесь все понятно. Но там на дороге бой был короткий. Как же тебе, Суа, удалось и с Крейзибуллом поговорить, и в живых остаться? — я обращался к Джонсону то на «ты», то на «Вы». Совсем как мой пилот Плиев.
— А тут Вы помогли, мистер Эндрю, — улыбнулся командо. — Зарядили мне так, что я секунд на десять вырубился. Вот рэбелы и посчитали меня мертвым. Ну, разумеется, те, кто был в курсе, вовремя оттащили меня в лес, от стрельбы подальше. Жалко, отобрали вы у меня тот золотой кулон.
— Не отобрал, а вернул, — рассердился я. — Я думаю, так, как ты рассказал, не бывает.
— Бывает, мистер Эндрю. На войне все бывает, Вы же сами это знаете.
Я, все же, не очень ему доверял. Но, впрочем, его рассказ многое объяснял. За исключением некоторых незначительных деталей. Которые рассказчик добавил сам, без наводящих вопросов.
— А, знаете, как мы с Крейзибуллом рассчитались? — усмехнулся Суа Джонсон. — Вот это действительно был высший класс. Я сунул ему чек на тридцать тысяч и перстень русского летчика.
Меня слегка передернуло.
— Экономия налицо, по чеку ему не заплатили бы и гроша, — продолжал Суа, ну я перебил его.
— Какой такой перстень русского летчика?
— Того самого, — нагло улыбнулся коммандо. — Который взлетел и тут же разбился. Ракета фьюить! Самолет хрясь! Помните?
Я помнил. Я об этом ни на минуту не забывал. А Джонсон, переведя взгляд с дороги на меня, продолжал терзать мои слабые нервы.
— Я же не зря потом в этом болоте ползал. Нашел самолет. Нашел пилота. И снял перстень с пальца. Вернее, вместе с пальцем снял. Так что никаких особых вложений. А вместе с тем Симба отныне угрозы не представляет.
Он явно дразнил меня. Но я постарался держать себя в руках и ухватился за странную мысль, внезапно промелькнувшую в глубине сознания. Вот ведь какое совпадение. Левочкин отобрал у меня алмаз. И тут же был сбит. Крейзибулл красовался с моим камнем. И печально закончил, не дотянув считанных метров до спасительных позиций Тайлера. Теперь мой перстень вернулся ко мне. Говорят, что алмазы сами себе выбирают хозяина. Если это так, то мне бы радоваться. Но я, наоборот, почему-то испугался. Я вспомнил полуоторванную черную руку Крейзибулла, которая, агонизируя, то сжималась, то разжималась.
Рука этого афганца Дуррани, человека, подарившего мне алмазный перстень, тоже была почти черной. От солнца и несмываемой афганской грязи. Дуррани, передав мне бриллиант, умер на рябом, в потеках масла, железном полу грузового самолета неверных. Интересно, чья теперь будет очередь?
«Нет, нет, это невозможно,» — возмутился я про себя, — «что значит „чья очередь“? И кто это вообще сказал „очередь“?!» Я инстинктивно посмотрел на водителя. Джонсон крутил баранку, переключив внимание с меня на проселок. Больше здесь никого не было. Перстень по-прежнему лежал у меня в кармане джинсов. Сквозь платок, в который я его замотал, он несильно давил мне на бедро. В кармане ему вполне удобно, подумал я, но надо при случае вернуть его на палец. На привычное место, так сказать.
Дальше мы ехали молча. Никаких улиц здесь не было. Около получаса мы петляли по незнакомому району Монровии. Мимо нас мелькали глинобитные заборы. Полуголые ребятишки, завидев наш тарантас, прекращали пинать мяч и глазели на нас. Вскоре машина остановилась возле неприметного строения, и навстречу нам вышла она. Та, ради которой я рвался через линию фронта. Маргарет.
ГЛАВА 40 — РАЗГОВОР МОЕЙ СУДЬБЫ
«Как нам поступить с этим человеком?»
«Я вижу два варианта. Один — показательный процесс. Другой — закрытое дознание. Все зависит от того, какие цели мы перед собой ставим. Глобальные или локальные.»
«Ну, глобальных целей у нас уже не осталось. В Ираке вопрос решен. В Колумбии решается. Нужно разве что уточнить некоторые детали. К сожалению, без этого человека мы ничего не сможем сделать в этом направлении.»
«Тогда вот что. В любом случае мы его достанем. А уже потом будем принимать окончательное решение.»
Два человека. Один чуть постарше, другой помоложе. В серых неброских костюмах. В кабинете с большими, во всю стену, окнами зеркального стекла, сквозь которые виден многоэтажный мегаполис. Правильные параллели и перпендикуляры улиц, затерявшиеся в лесу небоскребов. Знакомый вид, растиражированный сотнями фильмов.
«Но как вы до него дотянитесь? В Монровии он недосягаем. По крайней мере, в ближайшее время,» — это сказал тот, который постарше.
«Да, в Монровии недосягаем. Но у меня есть все основания думать, что вскоре он покинет Монровию,» — обнадежил собеседника тот, который помоложе.
«Покинет Монровию? Я не спрашиваю, как. Я спрашиваю, куда.»
«Абиджан.»
«Абиджан?»
«Да, Абиджан. У меня есть твердое убеждение, что ждать его следует именно там.»
«На чем базируется ваше убеждение?»
«На тщательно собранных нами данных.»
Вот так, должно быть, эти двое за тысячи километров от жалкой африканской лачуги обсуждали мою участь. О разговоре я не знал. А если бы и узнал, то что это могло изменить в моей судьбе? Мне очень хочется, чтобы конец разговора был примерно таким:
«Послушайте, а не положить ли нам с прибором на этого парня? Пусть себе барахтается в джунглях.»
«То есть как „положить с прибором“? По какой причине?»
«По причине того, что без него жизнь станет скучной.»
Но этой части диалога не существовало. Двое в серых костюмах, конечно, ничего подобного не говорили. На самом деле, разговор, запустивший маховик моей судьбы, был еще короче.
ГЛАВА 41 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮЛЬ 2003. ДРУГАЯ МАРГАРЕТ
— Мики, Мики, Мики, — бесконечной скороговоркой я шептал ее странное имя. Она крепко и нежно прижимала мою голову к груди и слизывала слезы восторга, неожиданно побежавшие по моим щекам. Я срывал с нее длиннополую африканскую рубаху и целовал ее в ложбинку возле ключицы. В один момент в этой ложбинке для меня сошлась вся Вселенная. Я был в самом центре мироздания, растворяясь в невероятно сладком запахе ее тела, в бархатных касаниях ее кожи и в глубоких стонах, поднимавшихся с самого дна мира. «Микимикимики,» — шептали мои губы все быстрее и громче. «Энди-и-и,» — протяжно вырывалось из полуоткрытого рта Маргарет. У меня уже закончилось дыхание, когда я услышал, как взлетает вверх, к верхушкам пальм, это ее «-диии!», и падает вниз, изможденным выдохом утоленной, наконец, жажды, недоговоренный звук моего имени. Мне хотелось закрыть глаза и открыть их через тысячу лет. И снова увидеть себя на ее черной груди. Влажной от моих бессмысленных слез.
Мы долго лежали с ней на жесткой бамбуковой кровати, укрывшись цветной простыней. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел, что в пустой комнате, кроме нас, находился еще один человек. Он сидел возле двери на деревянном стуле с кривыми ножками и, положив, как прилежный ученик, руки на колени, глядел на нас из полумрака.
— Какого хрена? — спросил я грубо незнакомого наблюдателя. И, действительно, что это за дикарство: бесстрастно наблюдать, как двое людей предаются страсти. Но человек не ответил. Может, это не человек вовсе?
— Кто ты? — спросил я призрака еще раз. И он мне ответил. По-русски.
— Я твой должник. А за долгами ты всегда возвращаешься, правильно?
Вот сволочь! Подлый дикарь, забывший родину, продавший друга, потерявший совесть! Это был Волков.
— Пошел вон, скотина! — бросил я ему. — Видеть тебя не хочу. Даю тебе пять секунд. На шестой начну тебя рвать на куски.
Мики, натянув на себя одеяло, забилась в угол. Она, конечно, не знала ни слова по-русски, но смысл сказанного мной был понятен и без слов.
— Погоди меня рвать-то, — спокойно ответил Григорий. — Ты сначала поговори со мной, а потом уже рви.
В его спокойной уверенности было что-то важное для меня.
— Идем, Андрюша, на улицу, покурим. У меня, кстати, есть твои любимые «Ойо де Монтеррей».
Ну, я же говорю, сволочь. Он давно превратился в самого настоящего мелкого африканского мошенника. Предлагать мне «Ойо де Монтеррей»! То, чего мне хотелось почти так же сильно, как Мики. А с учетом того, что Мики я уже получил, то ничто теперь не могло удержать меня от соблазна затянуться хорошим кубинским табаком.
Сверчки трещали на всю округу. То тут, то там, горели перед глинобитными халупами костры, на которых толстые черные женщины готовили еду. К запаху зловонного варева я уже привык. Но меня удивляло, как они еще находят, что сварить. Здесь, в этом районе, даже в хорошее время едят один раз в день. И постоянно испытывают чувство голода. Наесться до отвала вот главная мечта ребятишек из трущоб. Но меня всегда удивляло, как это местные женщины ухитряются нагулять такой солидный вес, в то время, как их мужья остаются тощими, напоминающими богомолов, существами. Может быть, все дело в генетике? Значит, моя чернокожая красавица Маргарет однажды тоже превратится в такую увесистую тетку в три обхвата и с невероятного размера задницей? «Не надо думать об этом,» — отгонял я прочь от себя предательские мысли. К тому же, я точно знал, что люблю ее. Вместе со всеми мелкими недостатками и генетическим несовершенством. Я буду обнимать ее даже тогда, когда мои ладони перестанут сходиться у нее за спиной. Во всяком случае, буду пытаться.
— Послушай, Гриша, ты сволочь. И пока ты это не признаешь, я с тобой говорить не стану, — сказал я спокойно и почти примирительно. Сигара неторопливо мерцала красным огоньком. Клубы сладкого табачного дыма уже входили в мои легкие и вместе с ними меня окутала пелена умиротворения.
— Я сволочь, — сказал Гриша. В отблеске огонька сигары я заметил, как он улыбается. — Теперь можно?
— Валяй, — позволил я.
— Андрюша, я перед тобой виноват. Если бы я знал, что с тобой случится, то никогда бы не сдал тебя людям Тайлера. Но...
Он замолчал на мгновение, закашлявшись от табака. Прочистив горло, продолжил:
— Но они меня заставили это сделать.
Заставили. Конечно, человек слаб. Я сам был не самым сильным человеком на этой земле. Но слово «заставили» всегда приводило меня в бешенство. Заставить делать то, что ты не хочешь, человека можно только под угрозой смерти, подставив под ствол его самого или близких. В остальных случаях объяснение «мол, заставили, сволочи» не принимается. Могут, конечно, отобрать что-нибудь, ну, так и мы хороши. Все мы у кого-нибудь когда-нибудь что-нибудь отбирали, так что потерять не жалко. А что могли отобрать у Гриши? Рецепты его пойла? Деревянные табуретки в его заведении? Все, что у него можно было забрать, уже забрали. Заставить пойти на предательство его могли только одним способом. Предложили вернуть то, что забрали. Его дырявое корыто. Плавучий металлолом под названием «Мезень».
— Гриша, прекрати этот сеанс душевного стриптиза, — поморщился я. — Это мне сейчас не нужно. Я знаю все, что ты скажешь. Извини, мол, они сказали: «Мезень» в обмен на Шута. А «Мезень», мол, это мой единственный обратный билет.
— Правильно, Андрей, твой.
— Что ты сказал? — переспросил я. Видно Григорий не понял, что я его передразниваю.
— Твой. Твой обратный билет. Я вернул себе «Мезень». Кое-как мы ее подлатали. И теперь я уйду на ней отсюда. Вместе с тобой.
Я посмотрел на руку Григория. Она лежала на колене. Огненный кончик сигары, зажатой между пальцами, нервно дрожал.
— Скажи, а кто заплатил за ремонт судна? Тайлер? — спросил я Волкова.
— Тайлер, — хмыкнул Григорий, — не дал ни гроша. Деньги нашла она.
Григорий махнул рукой в сторону дверей, за которыми молча ждала меня Маргарет. Они были открытыми, вернее, конструкция этой лачуги вообще не предусматривала дверей со створками, замком и прочими мерами безопасности. Прямоугольный проем, сквозь который можно было войти внутрь в любое время дня и ночи, ничем не закрывался. Маргарет, должно быть, хорошо слышала наш разговор.
— Гриша, скажи, пожалуйста. А почему ты решил, что я хочу отсюда уезжать?
— У тебя нет выхода. Теперь ты здесь никому не нужен. Вернее сказать, ты всем, как кость в горле. Ты проблема. Не мне тебе рассказывать, как в Африке справляются с проблемами.
Конечно, подлец был прав. Каждый свой вопрос к нему я обдумывал долго. Торопиться было некуда.
— Послушай, — спросил я его, — а как она тебя нашла?
— Не она, — сочно затягиваясь, ответил Гриша. — Сначала меня нашел этот парень, Джонсон, и привел к Маргарет. Он давно ждет тебя. Он знал: если ты жив, то обязательно вернешься.
— Обязательно, — словно эхо, повторил я.
— Обязательно, — продолжал Григорий, — ему сказала об этом Маргарет.
Волков замолк, словно обдумывая, что же еще можно мне рассказать. Он не заискивал со мной. Не пытался казаться лучше или хуже, чем он был на самом деле. Ему было наплевать на то, что я не считаю его больше своим другом. Преисполненный африканского фатализма, — «Будь, что будет!», — он пришел ко мне вернуть долги. А уж что потом буду делать я, приму предложение или откажусь, это уже его не касается.
— Кого обрадуют призраки? — нехотя проговорил Волков. — Я тоже не хотел, чтобы ты вернулся. Никто не хотел. Кроме нее. Ты нужен только ей.
Это звучало слишком правдиво, чтобы быть правдой. Я был нужен многим. Людям, которым я давал деньги и работу, например. А еще тем, кто хотел получить от меня долги, выжать информацию или сделать из меня жертвенного барана для публичного избиения. Таких было много. В джунглях Колумбии, в иорданской пустыне и среди небоскребов Манхеттэна. А еще я нужен был своей маме, навсегда пристегнутой к аппарату искусственного дыхания. Надо, кстати, при случае отправить немного денег врачам в клинике. Григорий не мог знать всего этого, но он же неглупый человек. Должен понимать. Он и понимает то главное, что толкает меня на поступки, которые раньше я даже в собственном воображении не мог совершить. Здесь я не потому, что нужен Маргарет. А потому, что она мне нужна.
— Гриша, я очень хочу убраться отсюда. И я буду очень признателен, если ты, сволочь такая, поможешь мне в этом и не сдрейфишь, не сдашь меня в очередной раз за тридцать целковых. В общем, я согласен. Но при одном условии. Если со мной поедет она. Маргарет.
— Мне-то какая разница? — пожал плечами моряк. — Это ваше с ней дело, за билеты мне уже полностью заплатили.
Да, это было именно так. Когда закончился суд и нас вместе с Сергеем благодаря местной прессе сделали главными расхитителями национального достояния Либерии, алмазов, Маргарет внимательно просмотрела все написанные о процессе статьи. И выяснила одну особенность. На всех напечатанных в газетах фото наши лица абсолютно неразличимы. Неузнаваемы. И ни в одном тексте не было наших имен. Только намеки, что-то наподобие «некий мистер X вместе со своим сообщником мистером Y реализовали преступный замысел». Все вкупе, это натолкнуло ее на мысль о том, что вместо нас посадили других людей, что Тайлер разыгрывает очень сложную многоходовую комбинацию. Если хозяин Монровии нас не уничтожил и подсунул публике не наши, а чужие фотографии, то, значит, он решил оставить нас в живых. Мысль, основанная на недостоверных слухах и куцых сведениях, продиктованная совершенно непостижимой женской логикой, помноженной на интуицию с примесью мистицизма. Но, в конечном итоге, она привела ее к правильным выводам. Набраться терпения. Не покидать город. И ждать. Вот что Мики рассказала мне, когда Григорий убрался восвояси. Я слушал ее урывками. Мне нужны были не слова, а интонация. Я вздрагивал всякий раз, когда, рассказывая о своем житье-бытье в Монровии без меня, она глубоко и нежно вздыхала, и тепло ее дыхания пробегало струйкой воздуха у меня по щеке.
Злопамятный Чакки, несмотря на просьбы отца, не удержал свой буйный нрав. Он объявил контртеррористическую операцию по поиску боевиков и их пособников. Его преторианцы, антитеррористическое спецподразделение, получили приказ: уничтожить явочную квартиру Движения за демократию, очевидный рассадник терроризма и наркомании. Адрес явочной квартиры почему-то совпадал с адресом виллы, из которой с треском был выставлен их голый по пояс патрон. Дюжие бойцы приехали на место проведения операции при поддержке гусеничной техники, трактора Катерпиллар. Сей агрегат внушительных размеров был надежен, как танк, а иногда с поставленной задачей справлялся гораздо лучше танка. Именно так и было в той славной баталии с неизвестными и незаметными террористами на вилле Маргарет Лимани. Бой с тенью длился достаточно долго: слишком крепким оказался бетонный забор, да и стены не сразу поддались ударам мощного ковша. Пришлось даже вызывать подкрепление в виде саперов и отселять на время уважаемых соседей опасной террористической «малины». Когда те вернулись, то увидели красноречивые следы многотрудной баталии. Все это Маргарет выяснила уже во время осады Монровии. Чакки планировал разобраться и с ней лично, но дела у семьи Тайлеров неожиданно осложнились, им стало не до Мики, и ее оставили в покое. А она, тем временем, действовала. Во-первых, она продала свой пивной бизнес. Пускай, за гроши, но во время войны не до крохоборства. Она сохранила хотя бы часть своего состояния. Самое главное, она сохранила присутствие духа. И стала понемногу тратить деньги на поиски тех, кто разрушил ее дом. Не для того, чтобы отомстить, сказала Мики, просто мне было интересно знать имена этих подонков. А я подумал тогда, что если бы ей подвернулся случай и если бы обстоятельства не менялись столь стремительно, то она вполне могла бы... Ну, в общем, я бы этим бравым ребятам-претирианцам не стал завидовать.
Получив за деньги, — и, причем, немалые, — полный список антитеррористического подразделения Тайлера, она подметила одну особенность. В операции по уничтожению ее виллы не брал участие лишь один офицер. В одних списках он числился погибшим. По другим проходил, как уволившийся в запас. В третьих его фамилия была вымарана безо всяких объяснений. Не стоит говорить, что фамилия парня была Джонсон, а имя Суа. И Маргарет стала искать этого офицера с упорством пожизненника, роющего подкоп под бетонным забором тюрьмы. Усилия себя оправдали. Госпоже Лимани, конечно, абсолютно конфиденциально, конечно, на условиях анонимности и полного доверия, обеспеченного кредитоспособностью оной госпожи, сообщили, что именно Джонсон, Суа, был старшим конвоя, который этапировал Шута, Андрея, и Журавлева, Сергея, граждан иностранных государств, к окончательному месту отбытия наказания, то есть, на рудники. Ну, а остальное было выяснить несложно. Конвой атакован. Машина обстреляна. Осужденные исчезли. А вместе с ними и офицер Суа Джонсон. Вот он, человек, которого собиралась искать Маргарет. И она готова была тратить и тратить деньги на то, чтобы однажды увидеть перед собой этого человека.
Но Джонсон нашел ее сам. Каково же было удивление Маргарет, когда она узнала в Джонсоне того самого стрелка на аэродроме Сприггс, который сбил русских летчиков. И, — ей так хотелось вычеркнуть из памяти именно этот эпизод! — того самого парня в ресторане «Бунгало», которого она внезапно захотела затащить к себе в постель вместе со мной. Джонсон же был с ней предельно корректен. Когда он вернулся в Монровию, то быстро уяснил, что его патрон, Чарльз Тайлер-младший, намерен слинять из страны вместе с папой и, что самое главное, не намерен никоим образом участвовать в судьбе Суа Джонсона, столь красиво сдавшего меня повстанцам, что, в конечном итоге, привело к гибели партизанского вождя Симбы. И тогда мой конвоир пошел за деньгами туда, где они наверняка еще были. А именно к индоафриканской девице Маргарет Лимани, возлюбленной Андрея Шута, затерявшегося в партизанских дебрях этой благословенной страны. Что было делать моей Маргарет? Конечно, ей ничего не оставалось, как нанять Джонсона. Его гонорар измерялся в астрономической для здешней нищеты суммой, но затраченные деньги Джонсон отрабатывал сполна. Он нашел Григория, получившего назад свое корыто. Он проследил, чтобы Волкову никто не мешал довести до ума пароход. Но, самое удивительное, Суа вычислил то место, где я рано или поздно появлюсь. Если жив. И возле этого места коммандо дежурил днем и ночью. Вот так мы и встретились.
— Знаете, мистер Эндрю, Вы можете считать меня кем угодно. Подлым предателем и убийцей. Маньяком. Кровожадным африканским аборигеном. Черномазым дикарем, в общем. Но я вам хочу сказать одно. Я профессиональный солдат. Война это не просто моя профессия, это, если хотите, призвание. Я заточен под выполнение поставленной задачи и я никогда не подвожу своего командира. Я его не предам до тех пор, пока он меня не предаст.
Мы возвращались в центр Монровии. Мне нужно было вернуть машину Джимми. И попытаться забрать оттуда Сергея. Я был уверен, что Журавлев захочет остаться в Монровии. Он в центре событий. Ему сейчас, должно быть, кажется, что материалы, отснятые в Либерии, сделают его всемирно известным. А как же иначе? Ведь на его кассетах собрана полная антология этой войны. Того, что отснял Сергей, достаточно, по моему скромному разумению, на десяток фильмов. Такой материал не отснял никто, кроме Сергея. И мне почему-то особенно приятно было осознавать, что все это отчасти благодаря мне. Слегка заглянув в себя, я сделал открытие, которое приятным назвать нельзя. «Андрей», — сказал я себе с долей удивления, — «оказывается, и тебе присуще маленькое эксклюзивное тщеславие.» Но, признаться, тщеславие и впрямь было слишком микроскопическим, чтобы пытаться с ним бороться, тем более, это наверняка была бы бесполезная борьба. Победить свои пороки абсолютно невозможно, с ними можно научиться лишь сосуществовать. Ну, да ладно, вернемся, к Джонсону, который снова сидел за рулем и снова загружал меня своими настойчивыми монологами.
— Да, — говорил Джонсон, — на сей раз предали меня. Хотя свою работу я выполнил честно и до конца. В Соединенных Штатах я был бы уважаемым человеком. Даже героем. Знаете, какие задания я выполнял у Тайлера? Если бы это было в Америке, то на мою грудь навесили бы полкило орденов. А здесь на меня навесят всех собак. И, в конце концов, отправят к праотцам, чтобы не мешал и не путался под ногами у обеих Чарльзов, старшего и младшего. Потому что это Либерия. И мне не повезло родиться в Либерии. Жизнь либерийца не стоит ничего. Здесь с любым человеком можно сделать все, что угодно. Со мной, с Маргарет, вон с ним, — Суа махнул вяло свисавшей кистью руки в сторону худющего африканца в грязной майке, сидевшего на корточках возле обочины дороги. — Но Тайлер забывает, что и сам он либериец. И однажды может оказаться на моем месте. Или на его.
Снова жест в сторону малоподвижного парня в майке.
— Вот поэтому я решил работать на Маргарет и спасти тебя.
— Послушай, Суа, мне все это неинтересно, — сказал я как можно равнодушнее. — Меня этим ни за что не пронять. Скажи лучше, зачем ты сбил Левочкина.
— Кого? — удивился Джонсон.
— Ле-воч-ки-на, — раздраженно произнес я по слогам фамилию летчика. Чтобы Джонсон лучше ее усвоил.
— Liovoshnika? — переспоросил Джонсон, конечно же, исковеркав русскую фамилию. — А-а-а, я понимаю, это тот пилот, который привез «стрелы». Послушай, я же тебе сказал. Я солдат и привык исполнять приказы. А не спрашивать, зачем мне их дают. Я могу сказать тебе одно. Мне приказали сбить этот самолет.
— Кто, Чакки?
Суа отрицательно замотал коротко стриженой головой.
— Тогда кто? — поинтересовался я.
— Бери выше, — и глаза Джонсона загадочно закатились вверх, обнажив белки в красных прожилках.
Я взял выше. Там был только президент. Об этом я и сказал Джонсону, а тот ничего не ответил. Только нервно забарабанил пальцами по рулю. Ну, ладно, подумал я, при случае продолжим докапываться до правды.
— Хочешь, я расскажу тебе, почему я ненавижу белых? — внезапно спросил меня Суа фамильярным тоном.
Меня, признаться, этот вопрос застал врасплох. Во-первых, я не знал, что Джонсон, оказывается, черный расист. А, во-вторых, мне не было никакого дела до симпатий и антипатий этого убийцы. Подумаешь, нелюбовь к белым. Я вот, например, тоже не люблю отдельных представителей человечества. Наркоманов, например. Гомосексуалисты мне тоже не нравятся, но, между тем, с некоторыми из них приходится общаться. По делу, разумеется. Еще я не люблю проституток. Хотя ценю их профессионализм. Список нелюбимых социальных категорий можно было бы продолжать, но это мой личный список, и меньше всего я был намерен зачитывать его бывшему коммандо. Джонсон же, наоборот, намерен был разоткровенничаться. Впрочем, эти его откровения имели цель отвлечь меня от опасной и неприятной для него темы. Догадавшись, что правдивого ответа на вопрос «Кто приказал сбить грузовой самолет?» сейчас ожидать нечего, я махнул рукой — виртуально, конечно! — и сказал Джонсону: «Валяй». И добавил: «Только покороче, ладно?»
ГЛАВА 42 — ИСТОРИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО ЮНОШИ СУА ДЖОНСОНА
Я родился недалеко от Монровии. Род моего отца восходит к американским черным колонистам. А мать из племени Гио. Именно она назвала меня Суа, что можно перевести, как «начало новой эры». Мать очень хотела, чтобы моя судьба была совсем другой, непохожей на нашу жизнь в деревне, полную вони, аромата бедности. Но даже сейчас, когда я давно уже не имею ничего общего с деревенской нищетой, всякое дерьмо само меня находит. Честно говоря, в детстве у меня никогда не было желания стать военным. Так сложились обстоятельства. Они сделали за меня выбор. Мне было одиннадцать лет, когда я вместе с двумя своими приятелями оказался в самом счастливом месте Либерии — на каучуковых плантациях. Эти плантации до сих пор находятся в собственности компании «Бриджстоун». Название наверняка вам известно. Оно красуется на каждой десятой автомобильной покрышке. Мы промышляли мелким воровством, ну, знаете, как это бывает в бедной деревне. То пару кур утащим на рынке, то вязку бананов. То вытрусим деньги из пьяного фраера, сразу на выходе из придорожного кафе. Главное условие успешного проведения этой операции — это, чтобы фраер был в одиночестве и едва держался на ногах. Однажды мы ошиблись с клиентом. Тот оказался трезвее и расторопнее, чем мы думали. В общем, нас загребли в полицию. Всех пятерых. Полицейские нас изрядно потрусили, гораздо серьезнее, чем до этого мы чистили местных алкоголиков. Выгребли из карманов весь наш скудный заработок. Но и этого для констеблей оказалось мало. Толстый сержант взял двоих наших в заложники. А оставшимся троим, включая меня, приказал к обеду следующего дня принести ровно в два раза больше денег, чем лежало у него на столе. В противном случае всем нам грозил тюремный срок. С отбытием в том самом месте, куда я вез вас и вашего друга. На это согласиться мы не могли. Нам дали шанс, и мы его решили использовать наилучшим образом. Мы перелезли через проволочное ограждение и оказались на плантации. Чего мы там искали, непонятно. Конкретного плана у нас не было. Но, думаю, мы решили, что проберемся на виллу одного из белых владельцев компании и попробуем забрать все то, что плохо лежит. Если, конечно, на вилле никого нет. В общем, мы попали на территорию плантации. Удивительное место, я вам скажу. Бесконечные ряды ровно высаженных деревьев. На каждом сделан надрез. Мутный сок медленно сбегает в металлический сосуд, привязанный к стволу пониже. Воздух наполнен каким-то особенным ароматом, который не то, чтобы пьянит, а, скорее, расслабляет. И вот стоишь ты, расслабленный, между рядами деревьев, вдыхаешь аромат и смотришь вперед. А впереди, за деревьями, видна зеленая лужайка, на которой можно в гольф играть, кажется даже, что ее стригут специально обученные люди два раза в день, и на этой лужайке стоят аккуратные, чистые и роскошные дома. Какой из них принадлежит хозяину плантации, мы запутались. Да и как могло быть иначе? Мы стояли, придавленные то ли количеством объектов, то ли запахом каучука, и не могли выбрать, с какого объекта начать. Но выбор сделали за нас. Внезапно я почувствовал, как неведомая сила заводит мне руки за спину, причем, так быстро, что я не успел ничего понять. Это в первую секунду. А во вторую мне показалось, что земля поднимается и хрясь меня по лицу! Но, конечно, это я сам, вернее, меня самого ткнули мордой в газон. Нас скрутили трое белых парней в синей униформе. На спинах комбинезонов надпись «Бриджстоун». Как мы их не заметили! Это было невероятно: плантация просматривалась насквозь, а, между тем, я не заметил никакого движения. И вдруг — раз! — молниеносная атака и захват. Сейчас признаю, что те белые парни сработали идеально. Нас бросили в кузов джипа и через десять минут мы втроем, раздетые по пояс, стояли перед крепким человеком лет тридцати, одетым в такую же униформу, как и наши любезные конвоиры. Он скомандовал положить нас прямо в пыль и отвесить по пятнадцать ударов кнутом. Кнут был на манер тех, какими ковбои погоняют своих лошадей. Такой же длинный и тяжелый. От первого удара оставался глубокий след. От второго начинала сползать кожа. Третий проникал до мяса. Мои товарищи страшно кричали. А я молчал. Не знаю, почему. Мне было так же нестерпимо больно, как и им. Мои губы искривились от боли. Но я словно зажал звук на магнитофоне и молчал. Не думаю, что мне хотелось тогда проявить упорство. Просто я не мог кричать, и это было что-то физиологическое, не от ума, а от природы. Тогда начальник этих белых в униформе приказал остановить экзекуцию и распорядился отпустить моих крикливых друзей восвояси. А меня оставить. Он поднял меня левой рукой и поставил перед собой. Этот человек был не очень высокого роста, но тогда он мне казался великаном. Я сам едва доставал ему до груди. Представьте себе, как я стоял перед этим белым. Он сильный и откормленный. Я худой, слабый и беззащитный. В кровавых полосах на черной спине и заднице. Представили? Хорошо. А теперь представьте себе, что он почувствовал, когда я посмотрел ему в глаза. И вот тогда этот ублюдок попросил принести ему перчатки. Перчатки тут же принесли. Он, не торопясь, надел их на руки. Сначала левую, потом правую. Взял меня за плечи и развернул так, чтобы я увидел его глаза. Ничего особенного, обычные карие глаза. Затем он левой ногой в ботинке наступил на мою босую правую. Подошва была вся в мелких шипах. Они больно вошли в мою кожу. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с той, которую я уже испытал. Белый начальник развернулся и ка-а-ак заехал прямо мне в лицо с правой! Я рухнул, как подкошенный. Его ботинок продолжал удерживать мою ногу. Когда я падал, то услышал хруст. Ломалась моя кость. Именно этого и хотел белый. Я и тут смолчал. Потому что потерял сознание. А когда оклемался через минуту или около того, то нашел в себе силы подняться. И демонстративно стал на обе ноги. Сломанная ступня болела так, что мне хотелось умереть, но еще больше мне хотелось задушить этого белого. А он, спокойно глядя на меня, распорядился отсыпать мне еще пятнадцать ударов кнутом. Что было потом, я не помню. Знаю только, что меня привезли в деревню и бросили, как пса, подыхать возле первого же дома. Меня нашли и сумели спасти. Месяц отпаивали травами, а ногу вправили без хирурга, сами. Оказалось, что кость цела, правда, сместились суставы, ну, да это было делом вполне доступным для наших местных знахарей из деревни. Вполне оклемался я через три месяца и решил во что бы то ни стало найти этого белого. И я нашел его почти через десять лет. Я понемногу интересовался тем, что происходит на плантациях, и выяснил некоторые интересные подробности. Каучуковый бизнес охраняла одна частная фирма. Из тех, что тренируют наемников. Их много нынче развелось в мире. Они берут на работу начинающих негодяев, полгода тренируют их, после чего превращают в законченных подонков. Эта же отличалась тем, что почти всегда отбирала людей с опытом службы в армии. А белый ублюдок, которого я разыскивал, как раз и был тем парнем, который, помимо всего прочего, руководил отбором. К двадцати я отслужил в либерийских войсках. Я всегда старался быть лучшим в своем подразделении и все нормативы выполнял на «отлично». У меня был серьезный стимул. Я хотел попасть на плантации «Бриджстоун», теперь уже легально. И это у меня вышло. Я прошел отбор и был принят на самую низкооплачиваемую должность в службе охраны плантации. За десять лет многое поменялось. Прибавилось роскошных домов. Появилась конюшня с прекрасными лошадьми. Белый начальник, все же, был на своем месте. Казалось, он нисколько не изменился. Те же широкие плечи и упитанное довольное лицо. Даже синяя униформа была похожа на ту, которая была на нем много лет назад. Я вскоре надел такую же, после того, как с легкостью прошел все тесты. Белый, кажется, не узнал меня. Пожал руку и вручил задаток. Все, чему меня научили в либерийской армии, здесь оказалось практически бесполезным. Вернее, я хочу сказать, армейская подготовка помогла мне получить эту работу, но для того, чтобы продвигаться по служебной лестнице, я должен был уметь несравнимо больше. И я учился. Тому, как правильно определять нарушителя еще до того, как он увидел тебя. Как неслышно подобраться к нему и максимально быстро нейтрализовать. Под словом «нейтрализовать» понимались разные способы. Постепенно я стал понимать, что мы не совсем охранники, а, скорее, солдаты, задача которых отбить любое нападения на иностранную частную собственность. Вы и сами теперь видите, что в Либерии это сейчас актуально, впрочем, как и всегда. В этой частной армии я старался быть хорошим солдатом. Потому что, как я уже сказал, у меня была цель. Вскоре мне предоставилась возможность добиться того, чего я хотел. Однажды вечером меня поставили охранять бунгало, в котором жил белый начальник. Я уже достаточно хорошо знал его привычки, поэтому был уверен, что к двенадцати часам он прикончит треть литра виски и заснет глубоким сном праведника. В четверть первого я бесшумно, так, как нас учили на тренировках, вошел в дом и поднялся в спальню своего начальника. Подо мной не скрипнула ни одна половица. Я приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Лунный свет падал через окно на постель, освещая одеяло, которым был укрыт белый. Я достал из кожаных ножен свой «кабар», подошел к постели и молниеносным движением резанул начальника по горлу, так, чтобы лезвие ножа прошлось от уха до уха. Но мой «кабар», хотя и был отточен идеально, почему-то застрял в теле ненавистного белого. Я откинул одеяло и увидел под ним пластикового манекена для отработки приемов рукопашного боя. Что такое? И тут, не успев даже обернуться, я получил страшнейший удар по голове. «Ну, что, оклемался, мститель?» — это были первые слова, которые я услышал, придя в себя. Оказывается, этот белый на первом же тесте узнал меня, но не подал и виду. Ему, видите ли, было интересно, сможет ли он меня перехитрить. И ведь перехитрил. Я, связанный, лежал на полу его спальни, и ожидал, что он меня убьет моим же ножом. Или скормит львам. Или передаст либерийским властям, как опасного преступника, что было бы равносильно первым двум вариантам. Но ничего этого не случилось. Наоборот, моя карьера пошла вверх. Сначала мне подняли зарплату. Потом отправили совершенствовать боевую подготовку. Я провел три месяца на базе в Южной Африке. Осваивал навыки выживания в горах и пустыне под надзором бывшего родезийского офицера. Потом меня перебросили в Британию, изучать антипартизанскую тактику тамошних спецподразделений. За все это платила компания «Бриджстоун». Зачем, спрашивается, каучуковой компании такой суперохранник, как я? Таких, как я, было несколько человек. И мне стало ясно, что компания готовится к серьезной войне. То есть, они были уверены, что война начнется. А ведь в то время у нас, в Либерии, все было хорошо и спокойно. Посудите, эти белые инвесторы всегда знали о нас больше, чем мы сами. Они знали о нашем будущем. Почему, я спрашиваю? Да потому, что они же его и планировали. Мы никогда не были хозяевами в Африке, и никогда ими не будем. Но вернемся к белому, который меня не убил. Перед отправкой в Южную Африку я спросил его, почему он этого не сделал. Начальник ответил, что ему нужны только самые лучшие солдаты. А лучший солдат это тот, у которого присутствует личная мотивация. Если я почти десять лет вынашивал способы его убийства, то и выполнения других задач я буду добиваться столь же упорно. «Но, кроме этого мне было очень интересно, кто кого переиграет,» — добавил белый начальник. — «Мне ведь тоже нужно поддерживать форму, а то и сам расслабился.» Когда, через полгода, я вернулся в компанию, я увидел, что мой босс тоже не терял время. Он сделал неплохую карьеру и вошел в состав правления компании. Теперь в его распоряжении был целый вертолет с пассажирским салоном. Вертолет был предназначен для патрулирования плантаций, но этот человек использовал его так, как хотел. Часто набиваясь в салон вместе с пьяными друзьями и девицами всех цветов кожи, он летал на пикники на южную границу. А мы, элита его частной армии, должны были выезжать туда заранее и разворачивать палаточный лагерь. Жратва, матрацы, посуда, пресная вода, противомоскитные сетки и все прочее. Не для этого меня учили воевать. Вертолет, с надписью «Бриджстоун» в готическом стиле, часто видели и в соседней Сьерра-Леоне, и в Гвинее, и в Кот д'Ивуар. Очень заметная машина: борта выкрашены в сине-белые тона, а поверх них красная готика логотипа, стильно наползающая на стекла квадратных иллюминаторов. В общем, за шесть месяцев моего отсутствия жизнь начальника круто изменилась. Но и сам он тоже стал другим. Я бы ни за что не поверил, что человек за полгода может так измениться, если бы не увидел это своими глазами. Он наел рыхлое брюхо, на его лице образовался второй подбородок, а на затылке неприятные складки. Говорили, что он стал принимать какие-то средства для похудения, которые подействовали абсолютно противоположным образом. Но, я думаю, дело было не в них. Ведь он превратился в беспомощный студень не только внешне, но и внутренне. Белому показалось, что он стал всесильным, и поэтому он расслабился. Однажды я сказал ему об этом. Знаете, что он сделал в ответ? Снова, как много лет назад, надел перчатку и заехал мне в зубы. А потом сказал: «Попробуй меня теперь убить, гаденыш.» Рядом с ним стояла охрана. Некоторые из них прошли вместе со мной спецкурс в Южной Африке. Каждый охранник понимал, что может оказаться на моем месте. Но он платил им зарплату, и поэтому парни смолчали. Впрочем, убивать я его не собирался. Он сам себя убил. Пьяный, с рубахой, натянутой на круглом пузе, с красными мешками под глазами. Как всегда, белый был уверен в себе и своем будущем. Но я-то понимал, что ему конец. Тому, кто слишком быстро расслабляется, всегда приходит конец. И я ушел от него. Потом он меня звал назад. После того, как протрезвел, конечно. Просил прощения за оскорбление, а когда я ответил отказом, начал грозиться, что оставит меня без куска хлеба. Долго без дела я не сидел и вскоре уже работал на Тайлера. Тайлер хотя бы не делал вид, что лучше и умнее меня. Он действовал так, как любой подонок на его месте. Но это был черный подонок, как и я. Он никогда не делал вид, что лучше меня знает мое будущее. Поэтому у меня к нему претензий нет. Даже после того, что он меня предал. Выбросил. Вот точно так, как вы сейчас бросаете в окно окурок своей сигары. Кто знает, как бы поступил на его месте я?
Все, это был конец истории, понял я по наступившему в машине молчанию. Мы подъезжали к Сезар Билдинг.
— А что стало с твоими друзьями? — спросил я Джонсона.
— С какими?
— С теми двумя, которых выпороли вместе с тобой. И остальными, что были в заложниках у полиции.
— Я их больше никогда не видел, — спокойно ответил Суа.
Одно мне было непонятно. «Причем здесь Левочкин?» — мысленно спросил я себя, но ответить не смог. Все же, эта история, ничего не объясняя, делала ухабистый путь по Монровии короче и веселее.
— Где ты был? — зашипел на меня Джимми, как только я вошел в его офис. Либерийский журналист, едва завидев меня, вскочил с матраца, расстеленного в дальней комнате. Его российский коллега неподвижно сидел рядом с трафаретом задницы Мангу, оставшимся на полосатой поверхности матраца. Она постепенно распрямлялась, и трафарет неторопливо исчезал. Но то, что находилось между ним и Сергеем, так просто исчезнуть не могло. Потому что это была литровая бутылка виски. Судя по ней и по глазам представителей прессы, они только что перевалили за половину ее содержимого. Ерундовая, в общем-то, доза для двух здоровых мужиков, каждый из которых весил почти центнер. Но это если закусывать. А закуски у них как раз и не было. Последний раз они ели какую-то мясную дрянь из бумажного пакета часов тридцать назад. Теперь же, когда давно забылся даже сам вкус этой дряни, они принялись наполнять пустой желудок алкоголем. А во время блокады, как известно, пить не рекомендуется.
— А мы думали, ты уже в Америке, — опустив подбородок на грудь, тяжело пробормотал Сергей. Так тяжело, словно в нем было не двести пятьдесят грамм виски, а все пятьсот. Впрочем, в этой тяжести был и положительный момент. Виски делал его английское произношение вполне аутентичным.
— Причем, вместе с моей машиной, — укоризненно поддержал собутыльника Джимми. Он встал передо мной и, чуть наклонившись, стал меня вычитывать. При этом глядел не на меня, а куда-то вниз. Его руки то разлетались с стороны, то умоляюще сходились вместе ладонями. Жесты помогали Джимми изъясняться тогда, когда ему не хватало словарного запаса. Доступных для понимания слов у журналиста и впрямь оставалось немного.
— Ну, куда?... куда?... куда? — твердил он, обращаясь к моим ботинкам.
— Сбежать хотел, гад?! — подал с матраца реплику Журавлев. — А не вышло.
— Ну, зачем?... зачем?... зачем? — продолжал обращаться к моей обуви Мангу. Обувь ему не отвечала.
— Не вышло! — заявил Сергей потверже. — И никогда не выйдет.
После этого на лице у Журавлева появилась хитрая и одновременно добрая улыбка.
— Зна-а-аем мы вас, — нежно погрозил он мне пальцем. Что именно он про меня знает, Сергей так и не сказал. В этот момент мне показалось, что наполовину пустая бутылка была у них сегодня не первой.
— ...,но жживвой! — Джимми гордо закончил вслух тираду, первую часть которой он, очевидно, произнес лишь мысленно. Руки очертили в воздухе две полуокружности, обнимая в своем воображении то ли венец триумфатора, то ли широкие бедра африканской женщины.
— Понятно? — строго спросил он ботинки. Те продолжали молчать. Они вообще были какие-то молчаливые, мои ботинки. Но достаточно хитрые. В паузах между репликами Джимми они пытались незаметно обойти его слева или справа. Как только он начинал говорить, ботинки, как вежливые собеседники, тут же останавливались.
— То-то же, — похвалил их журналист.
— А мы здесь просто замучились ждать, — искренне сообщил Сергей с матраца и яростно схватил рукой бутылку. Но поднести ее ко рту не успел. Сработала блокировка под названием «вежливость», и он с мычанием протянул ее в мою сторону, мол, будешь? Но я скривил губы и торопливо замахал руками в знак отказа.
— Брезгуешь, — сделал вывод Сергей. Он отхлебнул желтоватое содержимое из горлышка и кивнул на Джимми. — А вот он не брезговал. Пил здесь, спал здесь, меня стерег.
Одной рукой Сергей держал виски, а другой расставлял знаки препинания в своих тирадах. Удар кулаком по матрацу означал точку, указательным пальцем — запятую. Я подождал, пока он закончит с этим постельным синтаксисом, и сказал:
— Сережа, послушай, я хочу тебе предложить выбор. Я уезжаю из Монровии. Если хочешь, можешь уехать со мной. Если нет, то оставайся и продолжай снимать свои репортажи.
Сергей задумался. Голова его закачалась из стороны в сторону, словно подвижная часть китайского болванчика. Нечто осуждающе-недовольное было в этом покачивании.
— А-а-а, значит, нашел ты ее, Иваныч, — то ли от удивления, то ли от негодования Сергей перешел на русский язык. — Нашел, и все теперь закончилось.
— Что «все»? — переспросил его я. Но Журавлев не стал вдаваться в объяснения. Оставаясь на своей волне, он нагло и безапелляционно влезал в мою личную жизнь.
— Она хороша, Иваныч, оч-чень хороша. Только она... это... с другой планеты. С этой! — и Сергей хлопнул ладонью по поверхности матраца. В воздух поднялось облачко ядовитой, как дуст, пыли.
— А ты, Иваныч, с той, — горлышко бутылки в руках Журавлева указало в сторону страны моего происхождения.
— И что?
— А то, — пафосно повысил голос журналист. — Ей там воздух не подходит! Она не сможет там дышать!
— Ничего, как-нибудь научится. Я же здесь дышу, — улыбнулся я Сергею.
— Ты... — задумчиво протянул журналист. — Ты не человек вообще. Ты биоробот.
— Ну, Сережа, ты меня очень сильно обижаешь сейчас. Ты, значит, у нас живой человек, а я машина. Почему это?
Для того, чтобы ответить на мою «предъяву», Сергею много времени не потребовалось. Конечно, в его объяснении отсутствовала всякая логика, зато присутствовала убежденность в собственной правоте.
— Да потому, что ты с с нами не пьешь. Выпей — и сразу станешь человеком. Бездельник, кто с нами не пьет!
И Журавлев, что было силы понизив регистр своего голоса до фальшивых басов, заявил:
Мелодия Бетховена, в исполнении Журавлева, напугала Джимми. Он вздрогнул, перевел свой остекленевший взгляд с носков моих ботинок на источник громкого звука и сказал:
— Опять запел!
После чего, как подкошенный, рухнул на пол своего офиса. Тело Джимми тут же окутало еще одно облако пыли. В офисе ее было предостаточно. Она была повсюду, даже на хитроумной японской технике, которая помогала всему любопытному человечеству узнавать новости о либерийской войне. Очевидно, что Сергей и до этого успел исполнить что-то вокальное. Для наивной африканской натуры Джима были совершенно противопоказаны внезапные порывы славянской страсти, выражавшиеся да вот хотя бы в этой дурацкой привычке пить на голодный желудок, а потом орать во всю глотку популярные песни. Я считаю, что Джимми еще повезло. Его собутыльником оказался почти что эстет, предпочитающий классический репертуар шансону или попсе.
— Жалко его, — проговорил Журавлев, когда допел «Шотландскую застольную».
Он сочувственно причмокнул губами и тут же вернулся к мейнстриму нашего разговора:
— А на чем полетим домой?
— Не полетим, — говорю я, — а поплывем.
— Вот как! — оживился журналист — Морская прогулка. Это прекрасно. А ты знаешь, Андрей Иваныч, что я люблю плавать? Не знаешь.
Я действительно не знал.
— А ты знаешь, почему я люблю плавать? — продолжал Журавлев.
Я машинально пожал плечами. Какая мне разница, почему он любит плавать?
— Потому что я дерьмо! — сказал Сергей и внезапно затрясся в приступе истерического плача. Это были обычные пьяные слезы, вызванные непонятными мне рефлексиями из прошлого. Плакал он долго, развозя серыми от пыли кулаками слезы по небритому лицу. Его грудь дрожала от всхлипываний. Унылый вой прорывался наружу сквозь сомкнутые зубы, обнажившиеся сверху и снизу нестройным желтым рядом.
— Ну и fuck с ним! — заявил на русско-английском наречии Журавлев, когда истерика закончилась. Он поднялся со своего матраца и нетвердой походкой канатоходца двинулся ко мне. По дороге он схватил одной рукой сумку, в которой громыхнули его кассеты. Другая продолжала железной хваткой удерживать горлышко бутылки.
Когда он проходил мимо Джимми, неподвижное тело на полу ожило. Мангу приподнялся, и пальцы его правой руки сомкнулись на щиколотке Журавлева.
— Кассеты!!! — взвыл африканец.
Журавлев удивленно остановился. Он пошатнулся, но с воображаемого каната, один конец которого был привязан к старому матрацу, а другой к моим ногам, не свалился. Удержался.
— Какие кассеты? — удивленно переспросил он лежащее на полу тело.
— Твои. Ты обещал. Вы обещали.
— Я ничего не... — забормотал Сергей, но тут пьяная догадка озарила его лицо, и он мутно посмотрел на меня.
— Сергей, давай отсюда быстрее, — протянул я ему руку, пытаясь поскорее увести его. Не хватало мне еще участвовать в разбирательстве об авторских правах.
— Нет, погоди! — высвободил Журавлев сначала руку, а потом ногу. — Я спрошу.
Он приподнял с пола голову Джимми и указал на меня:
— Он обещал?
Джимми слабо кивнул. Сергей задумчиво поглядел мне в глаза. Потом с помощью хаотичных движений открыл свою сумку и неаккуратной горкой высыпал рядом с Мангу все ее содержимое. Кассеты вперемежку с ручками, блокнотами и мелкими либерийскими купюрами компактно рассыпались возле ног корреспондента ведущего информагентства планеты.
— Бери, — заявил Сергей. — Раз он сказал. Теперь они оттрахают меня и выбросят нахрен. Но ты бери. Ты спас меня от смерти.
И тут у Джимми проснулась корпоративная совесть. Он правильно понял, что загадочные «они» являются не кем иным, как работодателями Сергея. А в журналистской среде, как известно, работодателей одновременно презирают, любят и боятся.
— Нет, — сказал он. — Я не дам тебя оттрахать!
И принялся лихорадочно засовывать кассеты назад в Сергееву сумку, выхватив ее из рук хозяина.
— Нет! — демонстрировал благородное упорство русский журналист. — Он обещал! А он это знаешь, кто? Он это все равно, что я! А они пусть трахнут себя!
И снова высыпал собранные кассеты на пыльный пол.
У меня не было большого желания наблюдать за этим почти сексуальным приступом журналистской солидарности. Я оставил на столе ключи от старой машины, которую мне любезно предоставил Мангу, и вышел на свежий воздух. На улице меня ждал Суа Джонсон. За то время, пока я находился наверху, он уже успел раздобыть новое транспортное средство. Оно было нисколько не новее автомобиля Джимми, но у него имелись два несомненных достоинства. Во-первых, это был внедорожник с полным приводом. А, во-вторых, с небольшим, но достаточно вместительным, кузовом. К тому же, на таких «пикапах», в основном, разъезжали солдаты Тайлера и боевики Движения за демократию. Так что, при случае, и для тех, и для других мы вполне могли сойти за своих.
«Мезень» уже больше месяца стояла в порту Монровии. Ее было хорошо видно из окон кабинета капитана порта. Но наблюдать за ней отсюда было некому. Капитанерия всем составом, включая начальника, оставила рабочее место, как только началась блокада Монровии, и никто не мог заставить должностные лица вернуться в свои офисы. Неизвестно, кто руководил разгрузкой редких судов с гуманитарной помощью. Скорее всего, никто. И это объясняло ту скорость, с которой гуманитарка испарялась из помещений портовых складов. По территории порта днем и ночью сновали странные вороватые люди, не имевшие никакого отношения к морскому делу, но зато с оружием. Это давало им широкие полномочия. Они быстро, как крысы, перемещались от помещения к помещению в поисках любой добычи. Пробегая мимо «Мезени», они ненадолго останавливались и задумчиво глядели на группу ремонтников на борту небольшого суденышка. Видимо, столь малых размеров пароход не слишком возбуждал их хищные аппетиты, и странные люди шли себе дальше, своей непростой большой дорогой, а ремонтники без суеты продолжали чинить этот неказистый корабль.
Ремонтом руководил Волков собственной персоной. Здесь же, на судне, он и ночевал вместе со своими рабочими. Как он с ними рассчитывался и чем кормил, для меня и по сей день остается загадкой.
Пароход, как я уже сказал, не отличался внушительными размерами, но однажды установил своеобразный рекорд перевозки беженцев из Либерии в соседнюю Сьерра-Леоне. Это было еще до того, как власти Либерии отобрали у Гриши его главное достояние. Тогда Волков получил лицензию ООН на перевозку беженцев. И он смог взять на борт четыреста пятьдесят человек. Невероятно, как эти люди уместились на корабле, но еще более удивительно, что с многократным перегрузом Григорий дотянул пароход до соседней страны. Все-таки, этот мордвин, превратившийся в африканца, был отличным моряком. Шел ли он назад пустой? Конечно же, нет. Рейсы «Мезени» совпадали по времени с массовыми закупками оружия и боеприпасов для местной армии, на чем, конечно, заработали многие, и я в их числе. Возможно, в то золотое время Волков, сам того не зная, урвал у меня мою краюху хлеба, но ведь в нашей волчьей среде принято уважать за сноровку и крепкие зубы. Хотя капитана могли и не ставить в известность о характере груза, и это обычная практика в здешних неспокойных водах. За давнее прошлое мне нечего было злиться на Волкова. А вот недавнее я в глубине души никак не мог ему простить, хотя и согласился покинуть Монровию на его пароходе.
— Я нашел его через газеты. Оказывается, «Либерийское время» написало большую статью после того, как мистеру Грегу вернули корабль. «Справедливость восторжествовала», и все такое, — сделал краткое пояснение Суа Джонсон, когда мы остановились перед пароходом и принялись, не выходя из машины, наблюдать за суетой на борту «Мезени». В порту Джонсон снова перешел на вежливое и дистанцированное «вы».
В это время Сергей Журавлев в обнимку с сумкой спал в кузове пикапа. Сумка была полупустой. Сергей настоял на своем и отдал либерийскому коллеге весь отснятый материал. Все-таки, странный он, этот парень из Москвы.
Машина урчала на холостых оборотах. Джонсон не выключал двигатель. На то была вполне понятная причина. Замок зажигания на панели был сорван, оттуда, где он должен был находиться, торчали два проводка, замыкая контакты которых Суа приводил стартер в движение. А возиться лишний раз с зажиганием в порту, где в любой момент могли появиться грабители, понятное дело было не с руки. Суа предпочитал находиться в постоянной готовности, чтобы в любой момент рвать отсюда когти.
— Мистер Эндрю, нам нужно хорошо подготовиться, — спокойно сообщил мне Джонсон, глядя, как худой длиннорукий рабочий выводит белой краской на корме корабля латинские буквы «Mezen». — У нас должно быть с собой оружие. До парохода я вас всех доставлю в целости и сохранности. Но в море мы будем беспомощны. Любой катер боевиков или пограничников, смотря кто на на наткнется, разделается с нами.
Рабочий, не обращая на нас внимания, продолжал выписывать незнакомое слово.
— Суа, вот что я скажу, — ответил я, подумав. — Сейчас я в роли груза, а груз права голоса не имеет. Но нужно понимать, что первый же пограничный наряд в соседней стране устроит досмотр, найдет оружие и посадит нас в зиндан на неопределенное время.
— А что нам мешает выбросить за борт стволы, как только мы пройдем опасный участок? А, мистер Эндрю?
Ну, что ж, он был прав. Да и вообще, пусть операцию планирует Суа, а мне в его дела сейчас не стоит вмешиваться. Ему заплатили за работу, и он ее делает так, как считает нужным. А мне следует расслабиться до самого Абиджана.
Абиджан. Это слово для меня звучало сейчас, как музыка. Абиджан мне казался воротами в новый мир, через которые я должен войти со своей женщиной так, как император въезжал со своей добычей в Рим. Абиджан, конечно, далеко не Рим. Этот город в соседней Республике Кот д'Ивуар, по-русски Берег Слоновой Кости, мало чем отличался от африканских мегаполисов. Те же трущобы и бидонвили, построенные из обрывков жести, фанерных контейнеров и старого брезента, обложившие город по его немалому периметру. Те же разбитые оранжевые такси, рассекающие ночь, несмотря на комендантский час и автоматные выстрелы полицейских. Грязное море. Берег, усеянный тухлой рыбой и мусором. Пытливые взгляды местных клошаров: «А чем у этого белого можно поживиться?»
Но было в этом городе и что-то иное. Достоинство, что ли. Урбанистический нарциссизм населенного пункта, в центре которого красовался район небоскребов. Стеклянные башни громоздились на самом высоком холме, который местные всегда называли Плато, и от этого казались еще выше. Трущобы почти вплотную подбирались к Плато, но никогда не переходили воображаемую границу между бедностью и богатством. Раньше мне безразличен был этот город. Но сейчас я понимал, что Абиджан это единственное спокойное место, где я могу отлежаться, осмотреться и начать новую жизнь. И от понимания этого факта у меня проснулись сентиментальные чувства к малознакомому и совсем чужому городу небоскребов и трущоб. Я почти полюбил его. Мы с Джонсоном смотрели на «Мезень», но каждый из нас видел разное. Он — усталых рабочих на борту корабля. Я — гавань в лучах заходящего солнца и черные спокойные силуэты домов над розоватой бухтой.
Я остался в порту, а Джонсон уехал за Маргарет. Эту ночь мы решили провести на борту «Мезени». Перед тем, как уехать Суа снес тяжеленное тело пьяного Сергея в капитанскую каюту. Я помогал ему в его нелегкой работе. Свалив журналиста на полосатый матрац, я посмотрел на здоровяка-коммандо. Лицо Джонсона, словно вырубленное из черного дерева, покрылось испариной.
— Жарковато сегодня, — улыбнулся он мне. Я в ответ понимающе кивнул.
Джонсон привез Маргарет, когда уже стемнело. Я сидел на палубе, слушал шелест волн и негромкий разговор рабочих, сбившихся на носу парохода. Рабочий день закончился, и люди расслабились. Домой никто уходить не собирался. В основном, потому, что идти было некуда. У Григория работали мужики из ближайших деревень, которые, как известно, были заняты повстанцами. А через линию фронта как-то неудобно ходить на работу и с работы. Они притихли, как только услышали шум двигателя. «Кто бы это мог быть?» — испуганным молчанием спросила у темноты компания на носу «Мезени».
— Эй, вы, а ну, сюда! — ответила темнота голосом Джонсона.
Рабочие почти мгновенно соскользнули с корабля на пристань и схватились за разнокалиберные ящики, пакеты и мешки, которые коммандо привез на своем джипе.
Я остался сидеть на палубе. Она неровно гудела от топота ног. Я не слышал, как на борт поднялась Маргарет, но внезапно почувствовал, как по моей спине забегали мурашки. Это ее теплое дыхание коснулось моей шеи. А потом я ощутил нежный и жгучий поцелуй у себя на затылке. Две женские ладони легли мне не плечи и быстро, украдкой, сбежали вниз по груди, пробравшись под распахнутый ворот рубашки. Мышцы тела напряглись и снова расслабились. Мне почему-то стало неловко оттого, что рубаха была, мягко говоря, несвежей. Хотя до этого мой грязный вид меня нисколько не беспокоил.
Маргарет села рядом со мной и положила голову на плечо. Мы молчали, слушая море и отрывистые команды Джонсона вперемежку с топотом натруженных ног. Время от времени со стороны реки Святого Павла доносились отдельные выстрелы. Всякий раз, заслышав стрельбу, рабочие замирали на мгновение, а потом с удвоенной энергией принимались таскать груз Джонсона.
— Осторожнее, парни! — кричал он. — Кто повредит упаковку, останется без зарплаты!
«Кричит, как хозяин,» — подумал я.
Настоящая хозяйка, купившая этот корабль вместе с капитаном, Джонсоном и рабочими, сидела, прижавшись ко мне. Надо сказать, что и я теперь был чем-то вроде ее имущества, полученного в результате сомнительной и рискованной торговой сделки. Ее левая рука выбралась из-под рубашки и прошлась по моей короткой бороде.
— Там жратва, — сказал Суа, понизив голос. — Если мы с ними не поделимся, нам кранты. Они сдадут нас. В городе голод, а у нас полный трюм продуктов.
— А если поделимся, они сожрут все, что у нас есть, — заметил я.
— Что бы Вы сделали, Суа, если бы были капитаном? — спросила его Мики.
Джонсон улыбнулся и хмыкнул, мол, неужели не ясно:
— Я бы всех их пустил в расход.
Он произнес это отчетливо, но тихо, так, чтобы рабочие не услышали ни слова.
— Не сомневаюсь в этом ни минуты, — жестко отрезала Мики. — Скажите, Джонсон, а где мой джин? Тот, который я вывезла из «Бунгало», помните?
— Как не помнить, — виновато объяснил Джонсон. — Вот он, в коробках. Уже занесли на борт.
— Так раздайте его людям, сколько попросят. И немного закуски, чтоб не свалились за борт.
Просто и гениально! Эта женщина, подумал я тогда, вполне впишется в действительность моей родины. Ведь как тонко она понимает, что ничто не сближает мужиков круче, чем выпивка, и ничто так не разделяет, как ее отсутствие. Наши рабочие напьются, будут говорить о взаимном уважении, возможно даже, слегка подерутся, но при этом никогда не подставят человека, подарившего им этот кайф бесплатной водки. И тот, кто понимает это, будет хозяином положения. А в данном случае, хозяйкой. Ну, и самое главное, парни сосредоточатся на выпивке, а не на жратве. Я же говорю, что давно понял, насколько гениальна моя женщина. Рабочим раздали десятка полтора упаковок «гвоздей», так в Монровии называют небольшие, грамм по тридцать, пакетики с джином. Узкие и длинные, они и впрямь напоминали гвозди, аккуратно сложенные в пакет. Таких «гвоздей» в одной упаковке умещалось примерно литра полтора. Напиток был качественный и демократичный. Даже монровийские люмпены могли себе позволить, уничтожая содержимое пакетов, коротать день за «забиванием гвоздей». Так заезжие иностранцы прозвали попойку с использованием местного джина, но вскоре этот термин прижился и в либерийском слэнге. Довольно остроумный, на мой взгляд, еще и потому, что наутро от этого джина голова болит так, будто по ней всю ночь стучали молотком, впрочем, возможно, все дело не в качестве напитка, а в количестве.
Рабочим идея пришлась по душе. Они снова сгрудились на носу парохода и принялись без лишнего шума «забивать гвозди». Если кто и срывался на громкий смех, его тут же одергивали остальные, мол, не шуми, а то засветишь всю нашу компанию. Все-таки, шла война, и бесхозный порт никак не мог считаться вполне безопасным местом.
Суа Джонсон исчез в неизвестном направлении. Его машина стояла на пятачке между горой пустых контейнеров и нашим судном. Очень удачная позиция. Со стороны въезда в порт она оставалась незаметной. Зато с борта «Мезени» она была видна, как на ладони. Где находился коммандо, я не знал и, честно говоря, знать не хотел. Все складывалось, как нельзя, хорошо. Часы моего пребывания в этой прекрасной стране уже начинали обратный отсчет времени. И, несмотря на колоссальные убытки, которые, кстати, я вскоре рассчитывал покрыть, я покидал Либерию с драгоценным трофеем.
— Энди, я люблю только тебя, — шептала Маргарет. — Помнишь Чакки Тайлера на моей вилле? Я тогда тебе столько наговорила.
Я помнил все, что услышал от нее в тот день, и многое из того, что было сказано, до сих пор причиняло мне боль.
— Я не любила его никогда. Не то, чтобы ненавидела и все такое. Он был мне безразличен, как человек, но очень интересовал, как механизм, что ли... Не знаю, как это объяснить? У него феноменальные данные для секса. То ли форма члена. То ли запах тела. То ли характер прикосновений. Скорее всего, и то, и другое, и третье. Все вместе. И я всегда удивлялась этому. Как? Я его не хочу, и, в то же время, хочу. Он отвратительный подонок и наглый садист. Но мне с ним хорошо. Когда я была с ним, я вслушивалась в свое тело. И его. Старалась понять себя. И ничего понять не могла. А еще более загадочным было то, что примерно то же самое я раньше чувствовала с его отцом. Почти то же самое, но не настолько остро, словно все мои рецепторы были обернуты ватой или мягким поролоном. А, знаешь, как я досталась младшему?
Я снова слушал ее рассказ. Он напоминал наш разговор на ее вилле, ныне разрушенной. Конечно, я ответил, что не знаю ничего про то, как она ходила по рукам Тайлеров.
— На день рождения. Чарльз-старший пригласил меня на прием. Мне пошили роскошное платье, украшенное стразами. Они блестели ничуть не хуже настоящих бриллиантов, во всяком случае, кое-кто из гостей спрашивал, сколько алмазов у меня на лифе. Не меня, конечно, спрашивал, а Тайлера. Ну, это неважно. Да. Ну, в общем, произносились речи. Тут же были какие-то послы и бизнесмены. Черные, белые, цветные. Очень спокойная и даже немножко домашняя обстановка. Все мило подшучивали друг над другом, и Тайлер время от времени подходил ко мне и говорил «Сейчас, сейчас, будь готова, дарлинг». Потом уходил к своим послам и снова возвращался. А потом поднялся на небольшой подиум и сказал.
Тут Маргарет вздохнула.
— У тебя есть закурить? — спросила она.
Я ответил ей, что раз она не курит, то я ей не дам гробить здоровье. Глупо так сказал, с петушиной мальчишеской интонацией впервые переспавшего с девушкой подростка. Но, к моему удивлению, на Мики мои слова подействовали. Сигары она больше не просила.
— Так вот, поднялся он на подиум и сказал «Сынок, я мог бы подарить тебе полстраны, но это было бы банально» и все такое подобное, бла-бла-бла. А потом, в самом конце, добавил: «И поэтому я дарю тебе свою отцовскую любовь.» И подводит к Чакки меня в этом платье из поддельных алмазов. Все зааплодировали. Подумали, что это очередная шутка, каких в тот вечер было много на приеме. Но это была не шутка. Одно меня утешало. Он сказал, что дарит любовь. Я была его любовью. Может, Тайлер и впрямь любил меня, а?
Я пожал плечами и обнял ее.
— Послушай, — сказал я ей. — Завтра все закончится. Завтра мы отчалим отсюда и никогда больше не вернемся сюда.
— Ты помнишь все, что я тебе говорила? — она посмотрела мне в глаза своими темными зрачками.
Я ответил утвердительно.
— Это все правда, — она повернула голову в сторону моря.
— Что правда?
— Правда то, что я жду ребенка. Тогда я еще не знала наверняка. Но теперь знаю. Это будет твой ребенок.
И она улыбнулась, обнажив свои идеально белые зубы. Она уже говорила мне об этом. Тогда, на вилле, ее слова показались мне игрой. Попыткой приковать меня, заставить остаться в тот момент с ней. Теперь, на верхней палубе «Мезени», мне стало ясно, что именно ради этих слов я рвался назад в Монровию.
— И, знаешь что? — проговорила Маргарет с шутливой серьезностью. — Я хочу, чтобы он был черным, а не белым. Надеюсь, это понятно?
Ну, что чувствует мужчина, когда слышит такое от любимой женщины? О том, что чувствует женщина, когда узнает, что ей предстоит стать мамой, известно всем. Этот романтический момент многократно описан в литературе и сыгран в кино. Но никому нет никакого дела до того, что чувствует мужик, которому только что сообщили потрясающую новость. На самом деле, в этот момент особь мужского пола испытывает целую гамму чувств. От растерянности и страха до наркотической эйфории. Он, конечно, рад. Но в водовороте приятных мыслей, которые крутятся в его голове, мелькает и нервное предчувствие того, что теперь его драгоценная особа теряет пространство свободы. Обычно мужчине кажется, что в этот самый час вся его налаженная жизнь круто, очень круто идет наперекосяк. Прощайте, дурные привычки, старые связи, бег по утрам, алкоголь по вечерам и бильярд по воскресеньям. Теперь придется отказаться от многого. От свободы, например. Вот так. Потому что мужчина боится ответственности. Именно ее он ошибочно считает несвободой. Потому что свобода это и впрямь осознанная необходимость. Понимание этого факта вскоре приходит ко всем. Рано или поздно. Ко мне, например, оно пришло почти вслед за словами, которые я услышал. И за поцелуем, который я получил от нее в ухо.
Но тут неведомый искуситель дернул меня за язык спросить:
— А в чем состояло предательство?
— Предательство кого? — удивленно переспросила она.
— Тайлера. Младшего. И, кажется, ты говорила, еще и старшего, — уточнил я.
Маргарет встала и посмотрела на меня так, словно я испортил весь сегодняшний вечер. Сфальшивил и опошлил задумчивую песню.
— Об этом никогда меня не спрашивай, — сказала она и, чуть зашатавшись, двинулась к трапу, который вел в каюту капитана.
Я нащупал в ней обнаженный нерв, на который не следует давить до тех пор, пока мы не достигнем безопасной гавани. «А, может быть,» — подумал я, — «об этом вообще не стоит вспоминать.» Маргарет не оглянулась. Ее рука легла на шершавый поручень. Она шагнула на железную ступеньку трапа и тут же отшатнулась. Навстречу, с нижней палубы, тяжело передвигая ноги, поднимался Сергей Журавлев. Он пришел в себя после тяжелейшего алкогольного отравления, до которого довел себя в офисе нашего либерийского друга Джимми, и теперь решил подышать свежим воздухом.
Маргарет сделала странный нервный жест рукой. Как-будто отмахивалась от неприятного видения или разгоняла дым от вонючей сигары в прокуренном помещении.
— О, Мики, и ты здесь! — хрипловато проговорил Сергей вместо приветствия. Странно, впрочем, это у него прозвучало. Как-будто не ожидал ее здесь увидеть, хотя и знал, что на авантюру с возвращением в город я пошел только ради нее.
А для Мики эта встреча была полной неожиданностью. Ни один из тех, кому она заплатила за работу, включая Джонсона, не сказал ей, что среди пассажиров «Мезени» будет еще один человек. Русский журналист, которого она хорошо знает. Ее голова недовольно качнулась из стороны в сторону, и Мики сбежала вниз по железным ступенькам. Из люка донеслась беглая шрапнель стука каблучков по нижней палубе. Затем недовольно хлопнула дверь капитанской каюты.
— Чего это она, Иваныч? — пожал плечами Журавлев, обдав меня сивушным дыханием.
— Это я тебя должен спросить, чего, — отрезал я Сергею.
Сергей смолчал и снова пожал плечами. Мол, женщины, чего с них возьмешь. Он сел рядом со мной и твердо пообещал, обращаясь к звездам:
— Все, больше пить не буду никогда!
В этот момент он был убежден, что говорит правду.
— Хочешь «забить гвоздь»? — предложил ему я, но вовсе не из вредности. Жалко было смотреть, как Журавлева мучит похмелье. Если пьянка бывает на голодный желудок, то похмелье обычно затягивается.
— Нет, — отказался журналист, придерживаясь данного слова.
— Андрей Иваныч! — сказал мне Сергей после недолгого молчания. — Это была замечательная высокобюджетна турпоездка. Денег потрачено уйма, а отснятых кассет нет. Я все их отдал Джимми.
— Я знаю, — заметил я, — но ты, Сережа, дурачок. Не потому, что отдал кассеты. А потому, что ноешь. Тебе радоваться надо, что остался живой. О пленках своих не жалей. Джимми они нужнее.
— Я радуюсь, Иваныч, радуюсь, — согласился Журавлев, но по в его словах никакой радости я не услышал.
— Андрей Иваныч! — внезапно попросил он. — Отдай ты мне этот паспорт колумбийский, а?
— Послушай, — говорю я ему, — а ты нудный мужик, Журавлев. Ну на кой хрен тебе этот паспорт, если у тебя нет кассет? Все, твое расследование закончено. А мое, возможно, только начинается. Не видать тебе больше паспорта.
— Отдай, Иваныч, а? Очень он мне нужен!
— Все, Сережа, разговор на эту тему окончен. И не зли меня больше. Вот тебе «гвоздик», если хочешь.
Журавлев взял протянутый пакетик с джином и тут же недовольно швырнул его в море. Пакет незаметно исчез в темноте и тихо шлепнулся о волны. А вот сигару Журавлев принял благосклонно. Это была последняя у меня в коробке, и мы раскурили ее, передавая друг другу, как индейцы трубку мира.
В это время в Дубаи глубокая ночь уже подбиралась к рассвету. Темнокожая девушка-суданка неслышно соскользнула с седой груди Григория Петровича Кожуха и, даже не набросив на себя халат, быстро побежала в комнату, где на рабочем столе высился компьютер, все более для солидного вида, чем для пользы дела. Компьютером старик пользоваться не любил и все свои деловые записи вел на бумажках, которые неопрятно громоздились под монитором. Казалось, в этом ворохе бумаг никто не может разобраться. Но Петрович, напротив, хорошо ориентировался в том, что было написано на измятых разноцветных листках.
Девушка-суданка тоже на удивление неплохо разбиралась в этой макулатуре. Для начала она включила небольшой светильник с лампой направленного света и взяла тонкий карандаш. Она моментально выбирала из этой горы нужные бумажки и тут же переписывала содержимое на чистый листок. Писать она умела явно лучше, чем говорить. Время от времени она отрывалась от своего занятия и напряженно прислушивалась к ночным охам и вздохам старика. Но эти звуки, видимо, Петрович издавал каждую ночь. Суданка, успев изучить его привычки достаточно хорошо, поняла, что Кожух просыпаться не собирается. Закончив все дело за полчаса, она вышла из комнаты. Затем оделась. Взяла на кухне пакет с мусором. И, без единого скрипа и щелчка открыв дверь, побежала на улицу. Оттуда служанка вернулась очень быстро, а ровно через пять минут ее щека снова лежала на груди седовласого доверчивого менеджера.
ГЛАВА 43 — ЛИБЕРИЯ, ПОРТ МОНРОВИЯ
— Оружие разместим на палубе, чтобы быстро от него избавиться при случае, — распоряжался Джонсон.
Волков согласно кивал головой. Они вдвоем обходили корабль, определяя места для нашего арсенала.
Утро нас с Сергеем застало на палубе. Я дремал, а Журавлев продолжал трястись от озноба. Похмелье никак не хотело проходить. Мики все еще спала в капитанской каюте. Рабочие не спеша просыпались. Уничтожив несколько упаковок «гвоздей», они улеглись, кто на палубе, а кто, спустившись по трапу на причал, на деревянных ящиках, покрытых старым брезентом. Где провел ночь Суа Джонсон, не знал никто. Под самое утро он как-то незаметно завел автомобиль и уехал из порта. А когда вернулся, в кабине его «пикапа» сидел хозяин «Мезени» Гриша Волков. А кузов машины снова был завален грузом. И этот груз мог в зависимости от обстоятельств то ли спасти нам жизнь, а то ли наоборот, создать проблемы. Разгружать «пикап» Джонсон стал самостоятельно, даже не попросив рабочих о помощи. Ему помогал только Волков. Я хотел было подключиться, но Джонсон тихонько отодвинул меня рукой, мол, не мешай, сами справимся. Я никогда не видел Волкова с оружием в руках, а тут не удержался от смеха: моряк, увешанный «калашниковым», поднимался на борт, держа при этом автоматы за стволы так, словно собирался отмахиваться от врагов деревянными прикладами.
— Возьми за цевье, Гриша, так будет удобнее, — посоветовал я ему по доброте душевной, но тот в ответ по-волчьи зыркнул на меня, и я сразу замолчал. Все-таки, автоматы были у него, а не у меня. Джонсон схватился за ящик с патронами. Ему было очень тяжело, но о помощи Суа не попросил. Кряхтя, занес его на палубу и поставил в самом центре, под рубкой. Сильный мужик, ничего не скажешь.
— Суа, да ладно тебе! — я, должно быть, от уважения к его силе, снова перешел на «ты». — Давай помогу!
Но Джонсон, не обращая на меня внимание, взялся за гранатометы. В кузове «пикапа» лежали два РПГ вместе с подсумками. Из каждого выглядывали зеленые головки зарядов. По два выстрела в каждом. Коммандо взял и сгреб их в охапку. Поднявшись на «Мезень», он положил один гранатомет на носу, а другой на корме.
— Ты бы закрепил их как-нибудь, чтобы не болтались при качке, — кинул он мне. Ему, видимо, тоже в рабочем поту было сподручнее называть меня на «ты». Но в этом обращении не было ничего начальственного или презрительного. Просто люди, связанные одной задачей, не тратят время на соблюдение лишних формальностей. Я быстро справился с его просьбой. Я умел торговать оружием, а он был обучен воевать. Поэтому сейчас его слова значили больше, чем мои.
С оружием покончили нескоро. Хотя и торопились. Григорий и Суа делали небольшие перекуры. Курил, собственно, только Гриша, а коммандо в это время поглядывал на часы.
— Знаешь новость? — сообщил во время одного из перерывов моряк.
— Скажи, тогда узнаю, — ответил я.
— Тайлер со дня на день подаст в отставку.
— Тоже мне новость. Это и так было понятно.
Внешне я был спокоен. Но в глубине души у меня взорвался заряд досады килограмм на сто в тротиловом эквиваленте. Все здесь катится вверх тормашками.! Тайлер, конечно, редкий сукин сын. Но он же наш сукин сын. И теперь все, что он делал, оказалось лишенным смысла. Покушение на Симбу, противостояние с американцами и остальное, то, что он натворил в этой стране, так и не спасло его от поражения. А, в сущности, какое мне до него дело? У меня и без Тайлера все наперекосяк. Кто бы ни победил в этой войне, я для всех предатель. Как ни крути. Выходит, эта девушка, Маргарет, стоила мне целого бизнеса.
«Это не Тайлер сукин сын,» — заговорила та часть моего «я», в которой еще оставался рудимент совести, — «это ты сукин сын, Андрей. Как можно ее оценивать на весах твоего бизнеса?»
Оценивать? Нет, кажется, я мысленно сказал не «оценивать», а «взвешивать». Именно так. Я уже, впрочем, однажды говорил себе «взвешивать». Сначала обмерить, потом взвесить. И разделить. В этой триаде «разделить» почти всегда означает «потерять». А я уже на один шаг от этого. Надо остановиться. И больше ни о чем не жалеть. Андрей, ты хорошо услышал сам себя?
Как только с оружием покончили, на палубу поднялась Маргарет. У нее было такое лицо, словно ее чем-то напугали. Злое и растерянное одновременно. Переступая через арсенал на палубе, она подошла ко мне и сказала:
— Спустимся на причал. Я хочу с тобой поговорить.
Мне очень не понравилась та интонация, с которой она это произнесла. Так обычно произносят слова при расставании. Но об этом не могло быть и речи! После того, что она мне сказала накануне, я уже не придавал значения интонации. Вернее, я, конечно, почувствовал, что разговор будет не из приятных, но даже и не думал, что он закончится именно так, как он закончился.
— Эндрю, ты знаешь меня. И знаешь, что я очень твердый человек. И если я что-то решила, то так оно и будет.
— А что ты решила?
— Решила, что я никуда на этом корабле не поплыву.
Это было невероятно. И это был удар.
— Но почему, Мики?! Ведь только что все еще было хорошо! — и я подумал, что это она из-за оружия на борту.
— Послушай, если это из-за автоматов, то хрен с ними. Я скажу Джонсону, и он сейчас же выбросит их за борт! Мы должны отсюда выбраться, с автоматами или без, понимаешь?
Она с досадой покачала головой.
— Я понимаю, понимаю. Но дело не в оружии.
— Тогда в чем?! — схватив ее за плечи, я прошипел яростным шепотом, чтобы не слышали меня на «Мезени».
— Н-н-нет, не могу сказать, — с сомнением произнесла она.
Я тряс ее за плечи, уже теряя контроль над собой.
— Ну, скажи, скажи мне, скажи, не мучь меня!!!
Она с сомнением посмотрела мне в глаза и произнесла одно слово:
— Сергей...
— Что «Сергей»? — не понял я.
— Сергей. — тверже сказала Мики. — Вместе с ним я никуда не поеду.
И я вспомнил, как отшатнулась Маргарет, увидев вчера на палубе Журавлева. А ведь верно, подумал я, она совсем не рассчитывала встретиться с ним на «Мезени».
— Но я не позволю, чтобы ты здесь осталась. Ты же не просто моя... моя, ну, невеста, — еле выговорил я это непривычное для меня слово. — Ты что, хочешь меня бросить?
— Я и не думаю тебя бросать. И не думаю здесь оставаться.
«Что за ерунда!» — похоже, было написано на моем лице большими буквами, потому что Маргарет, улыбнувшись мне, как непонятливому школяру, взяла меня за руку и потянула к машине Джонсона.
— Поехали.
Два проводка под приборной доской весело заискрились. Двигатель недовольно чихнул, но завелся. Машина тронулась в сторону выезда из порта, оставив позади «Мезень» и ее удивленную команду. Наверняка у Джонсона отвисла челюсть и вытянулось лицо, но я этого не видел. Я хотел услышать от Маргарет объяснение столь странным поступкам.
Она заговорила быстро и торопливо, так непохоже на себя.
— Езжай в Сприггс, Эндрю. И слушай внимательно. Я хочу быть с тобой, но этот человек, Сергей, способен все разрушить. Не знаю, почему и как. Но я чувствую, что будет именно так.
— Ты спала с ним?
— Нет, но какое это имеет значение?
Странная, однако, реакция.
— Здесь другое, — попробовала пояснить Маргарет. — Это не то, что с Тайлером. Он ненавидит меня, я это чувствую, как кошка землетрясение. Он, может быть, неплохой парень и надежный друг, но в том, что касается меня... В общем, это закончится катастрофой.
— Мики, послушай, но это же психоз. Мы беженцы. И ты, и я, и он. Пара дней вместе на корабле, и все. Мы с ним расстанемся и больше никогда не встретимся. Если, конечно, ты этого хочешь.
— Энди, не пару дней, не пару. Ты же сам понимаешь, эта морская прогулка может затянуться. Будет ли она спокойной? Как нас пропустят в Абиджан? Покинем ли мы спокойно либерийские воды? Я не знаю, что может прийти в голову Сергею. Но я не знаю, смогу ли я сама удержаться от непредсказуемых поступков. В общем, так будет лучше. И для него и для меня. Да?
Тут было что-то не так. Согласиться с ней было равносильным тому, чтобы признать наше общее безумие.
— У тебя не может быть ничего против Сергея, — уверенно произнес я. — Ни одного факта. А все, что есть у меня, говорит только в его пользу. Он спас меня. И он пришел сюда вместе со мной. За тобой.
Маргарет устало вздохнула, как-будто этот разговор отбирал у нее огромное количество сил.
— Эндрю, я заранее знала, что ты мне скажешь. Ну, что ж, по-другому и быть не может. Скажи, ты можешь убрать его с «Мезени»?
— Нет, — твердо ответил я.
— Тогда послушай меня. Я чувствую опасность. Я люблю тебя больше жизни. Но того, кто сейчас во мне, я люблю еще больше. И это делает меня чувствительной, как барометр. Моя кожа начинает зудеть, как только я вижу этого человека. «Будет катастрофа, небо упадет на землю в том месте, где я буду стоять рядом с ним,» — вот что говорит мне интуиция. Мне хочется спрятаться от него подальше и не видеть, как он говорит с тобой. Шутит. Почесывает затылок. Пьет виски. И ковыряется со своей камерой. Я не знаю, опасен ли он для тебя. Но для меня опасность это не война. Это он. Сергей. Так вот, теперь, после того, как я тебе об этом сказала, я хочу снова спросить. Ты можешь убрать его с «Мезени»?
Я думал.
Пожалуй, впервые в жизни я разрывался между тем, что хотел сделать, и между тем, что должен. Я верил в ее интуицию. Но как же я мог бросить человека, который побывал со мной в невероятных переделках и ни разу не бросил меня? Каждый день моя жизнь могла окончиться, и его тоже, вместе с моей. Но Сергей меня не предал. Это он спас меня на лесной дороге, и вместе мы выбили из Джонсона нашу свободу. Теперь Джонсон на нашей стороне, но тогда в джунглях все было иначе. Журавлев остался со мной в Ганте, хотя мог вполне почетно сбежать из Либерии. Я видел, как он не гнул голову под пулями и снимал своей камерой, прорываясь в Монровию, тех, кто стрелял в него.
— Можешь?
— Нет, — повторил я свой ответ Маргарет.
— Вот видишь, — грустно произнесла она. — Поэтому мы едем в Сприггс.
ГЛАВА 44 — ЛИБЕРИЯ, МОНРОВИЯ, ИЮЛЬ 2003. «БРИДЖСТОУН»
Улицы города были почти пусты, если не считать редкие джипы с верными Тайлеру оборванцами. Мимо нас в сторону реки Святого Павла пронеслись две машины. Обе были до отказу набиты вооруженными подростками. Невозможно было сосчитать число рук, торчащих их окон обоих «пикапов», и каждая сжимала «калашников». Те, кто сидел сзади, в кузове, тоже размахивали автоматами. Количество вооруженных пассажиров было таким, что задний бампер едва не касался асфальта. Со стороны реки, как всегда, доносилась стрельба. За эти несколько дней в Монровии я уже привык к выстрелам, но в тот день, день погрузки, она казалась более интенсивной.
Нас не остановили. Вероятно, приняли за своих. Не разглядели, что за рулем белый. Впрочем, белых было много и на въезде в Сприггс. Подъезжая к аэродрому, я сначала увидел людей в форме. Потом осознал, что форма была американской. Невероятно! У ворот перед аэродромом собралось около сотни жителей Монровии. А на воротах стояли часовые. И это были американские солдаты.
— Мне туда нельзя, — сказал я, остановившись.
— Я знаю, — согласилась Маргарет.
В Америке я официально считался преступником. Вот уже несколько лет, как ФБР объявило меня в розыск. Это не просто слова. Из разных источников до меня доходили тревожные слухи о том, что мне не стоит вести дела с американцами и по возможности подальше держаться от любых тамошних институтов власти. Но вот он, американский институт власти. Сам добрался до меня. Стоит перед воротами аэродрома. В пятнистой форме пустынного цвета. За спиной «кэмелбэк», ранец с водой. На груди пластина бронежилета, а поверх М-16 с чуть приспущенным стволом. Голова в кевларовой каске вращается из стороны в сторону. Следит, чтобы чернокожие не перешли воображаемую черту безопасности.
— Это что? — спросил я Мики.
— Эвакуация. Но вывезут не всех. Количество мест в вертолете ограничено.
— Ты уверена, что тебя возьмут?
— Я знаю это.
Она замолчала. Ее ресницы стали чуть влажными.
— Где мне тебя искать, Мики?
— Вот, возьми, — она сунула свою ладошку мне в руку, оставив там помятую визитную карточку. На карточке было написано «Интерконтиненталь», а снизу указан адрес в Абиджане.
— Американцы везут своих беженцев в Абиджан. Это же для нас удача, правда, Эндрю? Вертолет не военный, а самый обычный, пассажирский. Они боятся, что военный могут сбить.
Такая предусмотрительность обнадеживала. Американцев зря считают людьми с заплывшими жиром мозгами. Напротив, перед тем, как сделать что-нибудь, они все тщательно обдумывают и просчитывают любую операцию до единого цента. Поэтому побед у них много, а потерь, напротив, не очень.
Я все еще держал руку Маргарет. Она неспешно ее высвободила.
— Ну, я пойду, Андрюша, боюсь не успеть.
Она впервые назвала меня так. «Андрюуша». Мягкое «ю», переходящее в жесткое «у», затерявшееся в рокоте согласных.
Мики обняла меня, быстро поцеловала и выскочила из машины. Она было захлопнула дверь, но тут же задержала руку. Задумалась.
— Вот что. Я должна заплатить Джонсону и команде.
— Но ты же уже заплатила?
— Я должна им гораздо больше. И, потом, тебе нужно что-то иметь при себе. Для маневра, — улыбнулась Мики.
У меня в ладони снова оказалась ее теплая ладонь. Это был последний раз, когда я чувствовал ее тепло. Ладонь Маргарет погладила меня по запястью, и вдруг я почувствовал, как откуда-то снизу у меня поднимается комок слез. Плотный шарик, обжигая мои внутренности, полз к самому горлу, и мне стало нестерпимо больно. Хотелось кричать от боли и любви, но это длилось лишь мгновение. Я уже начал набирать в легкие воздух, когда горячий шар растворился во мне так же внезапно, как и вспыхнул. Когда она отняла свою руку, в моей была еще одна бумажка.
— Съезди по этому адресу, там уже все для тебя приготовлено, — сказала Мики, а потом развернулась и пошла в сторону ворот.
Она не попрощалась, не поцеловала меня и даже не смахнула слезу, зависшую на ее длинных ресницах. Она просто шла к воротам, за которыми была неизвестность. А я смотрел ей вслед и прикидывал, как бы поближе подъехать ко входу на аэродром, но так, чтобы американские солдаты не перепугались незнакомой машины и сдуру не открыли огонь. Я развернулся и переулками подобрался к авиабазе настолько близко, насколько позволяло мне чувство внутренней безопасности. За то время, пока я крутился по незнакомым улицам и дворам, Мики успела подойти к самым воротам базы. Между ней и моей машиной галдела толпа людей, надеявшихся покинуть город. Каждый рассказывал солдатам о том, почему именно его надо увезти отсюда. Все их рассказы сливались в однородный шум, напоминавший птичий базар. Солдаты не вслушивались в просьбы, а просто кивали головами и при этом удерживали людей на безопасной от себя дистанции. Створки ворот были открыты. За ними я рассмотрел вертолет на стоянке. Он одиноко стоял на пустой площадке. Других машин рядом не было. «А как же эти, в таком случае, здесь высадились?» — полумал я об американцах. Вертолет и впрямь был гражданским. Его сине-белый бок празднично сиял на солнце, которое зайчиками прогуливалось по квадратным иллюминаторам, поверх которых я прочитал надпись готикой «Бриджстоун». Это, судя по внешнему виду, была та самая машина, о которой мне рассказывал Джонсон. Вокруг вертолета стоял еще один кордон американских солдат, усиленный охранниками компании с готическими трафаретами «Бриджстоун» на спинах. Те немногие люди, которых пропустили на территорию базы, неспешно брели в сторону этого вертолета.
Я увидел, как Маргарет подошла к американцу в форме. Тот сначала остановил ее, но Мики достала из сумочки какой-то документ. Издалека мне было не рассмотреть, что это. Паспорт, разрешение, письмо? Посмотрев на него, солдат опустил руку и уважительно так отошел в сторону, одновременно пропуская Маргарет и загораживая проход для остальных желающих. Его пятнистая каска качнулась, словно в поклоне. Он вернул ей документ, и Мики уверенно зашагала к в вертолету. Я загадал про себя: «Если она обернется, то все будет в порядке.» Расстояние между ней и разноцветным вертолетом становилось с каждым шагом меньше и меньше, а она все не оборачивалась. И тут один из солдат в первом оцеплении указал на мой «пикап» другому. Тот включил рацию, висевшую у него на груди, и что-то отрывисто доложил незримому начальству. А потом двинулся через толпу в моем направлении. «Ну, обернись же обернись, прошу тебя!» — мысленно твердил я Мики. Безуспешно. Она удалялась от меня, а в противоположном направлении двигался вооруженный американец в камуфляже. Маргарет уже подходила ко второму кордону солдат, когда я понял, что нужно уезжать отсюда поскорее. Я неторопливо, чтобы не вызывать подозрение суетой, тронулся с места, развернулся и поехал прочь о Сприггса. Машина подскакивала на ухабах. В зеркале заднего вида дрожал ускоривший было шаг американец. Одной рукой он снова схватился за рацию, другой взял поудобнее автоматическую винтовку. Но потом, прислушавшись к голосу в динамике рации, остановился и развернулся в сторону ворот. А Мики уже была неразличима среди людей возле вертолета. Зеркало слишком сильно дрожало. Обернулась она или нет, теперь было не разобрать.
Не отрываясь от дороги, я взглянул на вторую бумажку, которую мне оставила Мики. Адрес на Броуд-стрит. Недалеко от порта. На улицах было пустынно. Кроме солдат, никто не рисковал разъезжать по Монровии. Я рассчитывал добраться туда минут за пятнадцать.
Броуд-стрит это самая широкая и длинная улица Монровии. Мало того, она еще и самая старая, основанная американскими колонистами в середине девятнадцатого века. Аналогия с нью-йоркским Бродвеем налицо. Но только в названии. В отличие от небоскребов Бродвея, слева и справа от проезжей части центральной улицы Монровии неровной шеренгой стояли невысокие, в три-четыре этажа, здания с потертыми фасадами. Две асфальтовые полосы разделял бульвар с редкой растительностью и фонарными столбами. Броуд-стрит спускалась вниз и хорошо просматривалась. Сверху здания казались больше и внушительнее. Но не на парадоксы ландшафтного проектирования я обратил внимание. Еще вчера на каждом перекрестке стояли солдаты Тайлера. Теперь, насколько мог видеть мой взгляд, не было ни одного. Блок-посты, вроде бы, остались. Колючая проволока. Неказистые будки с деревянными крышами на подпорках. Круглые знаки «Стоп». Все это находилось на прежних местах. Не было вооруженных людей. Широкая улица опустела, абсолютно опустела. И мой «пикап» здесь был заметен так же хорошо, как вошь на бритой голове солдата. Если где-то прячется снайпер, то ему ничего не стоит расстрелять мою машину, просто из любви к своему жестокому искусству. Я растерялся. Не знал, стоит мне по этой причине прибавить скорость или сбросить газ. Но, пока я раздумывал, машина докатилась до нужного мне адреса.
Я остановился и вышел из «пикапа». Машину решил не глушить. Передо мной был фасад трехэтажного здания с деревянной дверью. Я дернул за ручку, она провернулась на пол-оборота. Дверь была закрыта изнутри. Я негромко постучал. За дверью послышалась сдержанная возня, но никто ее мне не открыл. Я постучал сильнее и настойчивее. Из-за двери донеслось шарканье шагов и негромкое ворчание. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. На пороге стояла толстая пожилая негритянка в черном деловом костюме и белой блузке, вздувшейся кружевами на мощной груди. На ее атлетических ногах были надеты потертые домашние тапки. Над этим странным сочетанием одежды высилось широкое неприятное лицо и башнеподобная прическа.
Негритянка внимательно осмотрела меня с головы до ног и, развернувшись было ко мне внушительных размеров кормой, сказала одно слово: «Идем.»
— Погодите, — остановил ее я, — давайте разберемся здесь. Машину я не могу оставить.
— Хорошо, тогда жди, — кивнула мне женщина. Она зашаркала прочь от меня, и вскоре ее шаги затихли в полутемном коридоре.
Ждал я недолго. Хотя на пустой улице каждая секунда тянулась бесконечно долго. Я вслушивался в шум выстрелов. Мне показалось, что в какой-то момент он стих, и это тоже выглядело странно. Не менее странно, чем Брод-стрит без солдат.
— Здравствуйте, — протянул мне руку человек, появившийся из темноты коридора. — Вы, кажется, пришли за этим?
В его руке был небольшой бархатный мешочек. Как-то сразу стало понятно, что внутри него нечто компактное, увесистое, и очень ценное. Но не мешочек удивил меня, а сам человек. В его одежде не было ничего необычного. Просторная цветастая африканская рубаха, белые хлопчатобумажные штаны и шлепанцы на ногах. Странным был сам факт того, что этот толстый и самодовольный человек сейчас был одет именно так. Ведь до этого я его видел одетым совсем по-другому.
— Не узнали меня, мистер Шут? — улыбнулся африканец.
Ба, вот это встреча!
— Как же, узнал.
Это был Жан-Батист Санкара. Тот самый юрисконсульт, — или как там его величать? — из Буркина-Фасо, который, вкупе со своим партнером Томасом Калибали, предлагал мне лоббировать здесь их алмазные интересы. Санкара широко и гостеприимно улыбнулся:
— Зайдете?
— Нет, давайте все решим здесь.
— Понимаю, понимаю, — с деланно озабоченным видом произнес толстяк. Но его протянутая рука по-прежнему крепко держала бархатный мешочек.
— Так что же Вы, опять вернулись? — не удержавшись, я спросил его язвительно.
— Нет, нет, — рассмеялся Санкара. — Я и не уезжал никуда. Наблюдал за ситуацией отсюда.
Он сделал широкий жест в сторону пустого коридора за спиной.
— Ну, ладно, не будем тратить время, — сказал он, словно спохватившись, и положил мне в ладонь мешочек. — Здесь то, что я Вам должен отдать.
Я зажал его в кулаке. Твердые холодные камешки, даже через бархатную ткань, больно врезались жесткими гранями в кожу ладони. Не говоря ни слова, я повернулся и пошел к машине.
— Но мы еще остались должны! — весело бросил мне вслед Санкара. — За Симбу. Знаю, он с Вами не рассчитался!
Я, не оглядываясь, сел в машину и поехал прочь от этого толстяка. Он еще некоторое время смотрел мне вслед. Мне не хотелось видеть его даже в зеркале заднего вида, и я свернул с главной улицы на перпендикулярную дорогу, и, следуя закоулкам, названия которых я никогда не запоминал, повел свой «пикап» в сторону морского порта. Время подгоняло меня. В том, что Санкара жив и здоров, не было ничего удивительного. Но он, оказывается, еще и связан с Маргарет. Человек, которого разыскивает Тайлер, по одному ее только слову готов расплачиваться со мной, своим врагом, причем, алмазами, а не деньгами. Не правда ли, странно? И что там он еще сказал? Ах, да, про Симбу. Это было сказано, чтобы окончательно добить меня. Размазать об асфальт. Значит, Санкара связан с повстанцами, и ему хорошо известно о том, как мы разгружали оружие в Ганте. Но, если так, то, выходит, Маргарет тоже связана с рэбелами. Пускай, не напрямую, пускай через Санкару, но связь очевидна. И только полный идиот может ее не замечать. «Ну, ладно, — сказал я себе, — доберусь до Абиджана и там с ней поговорю.» Я стал размышлять об этом и нафантазировал себе целый сценарий разговора с Мики. Это меня успокоило, и я постарался забыть о толстом пройдохе из Буркина-Фасо. Но пока я размышлял, окольные переулки снова вернули меня на главную улицу, и я решил уже никуда не сворачивать с Броуд-стрит. Метров за пятьсот от моей машины я заметил движение на блок-посту. Хотел было свернуть, да поздно. Люди меня заметили и стали махать руками, мол, а, ну-ка, подъезжай сюда. И чем ближе я подъезжал, тем сильнее билось мое сердце.
Сначала я рассмотрел в руках людей автоматы. На первый взгляд, мне они показались неестественно большими. Но потом я понял, в чем дело. Это не автоматы были большими, это люди были маленькими. И по росту, и по возрасту. Дети, в общем. С виду они были похожи на солдат Тайлера. Полуголые, заросшие, грязные. У каждого за спиной рюкзак, очевидно, с боеприпасами. Подкатив совсем близко, я сообразил, в чем главное отличие этих парней от бойцов президента. Парням на Броуд-стрит было лет по десять. Ну, от силы не больше двенадцати. Малыши с выпуклыми животами и худющими ногами. Их лица были искажены от ярости, но одновременно дети были напуганы. Они оглядывались по сторонам так, словно впервые оказались в большом городе. Малыши неумело держали тяжелые автоматы в руках, но при этом их указательные пальцы лежали на спусковых крючках. Они в любой момент могли выстрелить — хоть друг в друга, хоть в проезжающий автомобиль. Вот тебе и воины без страха и упрека. Тайлер, конечно, набирал в свое войско всяких малолеток. Но таких я у него еще не видел. В общем, эта босоногая шпана была с того берега. Из лагеря повстанцев. Самая беспощадная и самая наивная часть партизанской армии. Глядя на этих мальчишек, я как-то не сразу осознал, что рэбелы уже в городе.
Я притормозил возле маленьких оборванцев. Один из них стволом автомата показал на дверь. Я открыл ее, но остался сидеть в машине. Первый раз мне приходилось подчиняться требованиям десятилетнего пацана. Он явно опешил. На лице недоброе удивление. Наверняка, оттого, что увидел белого.
— Эй, белый, еда у тебя есть?! — визгливо спросил меня паренек.
— Нет.
— А что есть? — переспросил он.
— Вот.
И я протянул ему початую двухлитровку газированной воды. Потом залез в бардачок и достал оттуда две железные банки спрайта, оставшиеся после общения с журналистом Джимми.
— Круто, — улыбнулся мальчишка и звонко позвал своих братьев по оружию.
Спрайт был теплый. Юный боевик сорвал кольцо, и липкая жидкость с шипением ударила ему в лицо. Паренек зажмурился и задорно засмеялся. От неожиданности он зажмурил глаза. Продолжая улыбаться, открыл один, потом второй. С ресниц свисали сладкие капли. Его друзья так и покатывались от смеха, схватившись за свои голые животы. Пока они пили спрайт, я тихонько двинулся вперед. Им до меня уже не было никакого дела. Мальчишки облизывали зеленые жестянки и темпераментно спорили о чем-то своем. «В городе повстанцы,» — признал я мысленно очевидный факт. — «Это дети, но за ними вскоре придут взрослые.»
Взрослые наверняка сначала задержат меня. Потом опознают. И вздернут на ближайшем фонарном столбе, вот хотя бы прямо здесь, над зеленым бульваром Броуд-стрит. Значит, пока они не появились, надо поскорее бежать отсюда. И я бежал. Но бежал не спеша, осторожно, стараясь не вызвать подозрения у этих маленьких симпатичных людоедов.
Проезжая по Монровии, я заметил, что малолетки с автоматами появились не только на центральной улице, но и в других местах города. Я уже не катился, я гнал что было сил в порт. Рэбелы прорвали оборону и проникли в город через мост. А если это так, то времени для отплытия у нас мало. Даже если не все еще готово, мы должны покинуть этот город. А, может, не все так печально? Может, мне стоит развернуться и, подъехав к зданию, где прятался Санкара, позвать ему и сказать, что готов к совместной работе? Это было бы правильно, с точки зрения спасения своей шкуры. Но я настолько не выносил Санкару, что наверняка повторил бы ему ту фразу, которую некогда произнес по-русски в офисе «Либерийских авиалиний»: «Idite v zhopu». В общем, мне проще было сбежать из Монровии, чем идти на поклон к Санкаре. «Опять бежишь,» — с сожалением констатировала та часть моего сознания, которая уговаривала меня остаться. Самая разумная, надо сказать, часть. Но другая уже летела прочь отсюда, вслед за разноцветным вертолетом, увозившем от меня Маргарет.
Я приехал в порт и пулей взлетел на верхнюю палубу «Мезени».
— Что случилось? — хором спросили меня Волков и Джонсон.
— Повстанцы в городе, — выпалил я. — Срочно отплываем.
Волков покачал головой:
— Андрей, я не пойду без Маргарет. Она заплатила, и я ее подставлять не собираюсь.
— Я тоже, Энди, — присоединился к моряку Джонсон. — Это даже не обсуждается.
Ну, вот, я так и знал. Теперь придется тратить лишнее время на объяснения и уговоры. Или засветить содержимое бархатной сумочки Санкары.
— А это вы видели?
Лучше не смог бы сказать даже Буратино, показавший друзьям золотой ключик. На мою ладонь нежной тяжестью просыпались алмазы. Их было так много, что оба носа моих партнеров, словно притянутые магнитом, сунулись к раскрытой руке.
— Это на всех, — пояснил я, сжимая алмазы в кулак прямо перед выпученными глазами Волкова и Джонсона. — Маргарет передала. Сказала рассчитаться с вами в Абиджане.
— А сама она? — вяло спросил Джонсон.
— А сама она остается, — соврал я. — До лучших времен.
Журавлев опять успел напиться и спал в рубке. А еще говорил, что пить больше не будет. Вот и верь после этого слову журналиста! Но в тот момент я не хотел его видеть. Он был причиной того, что мы уходим без Маргарет. И даже если сам он в этом и не был виноват, я все же не мог отнестись к этому спокойно. Я оставил его на борту. Но пространства для нашей дружбы оставалось все меньше и меньше.
Суа вместе с Григорием рассчитывался с рабочими. Процесс двигался медленно, многие хотели остаться на борту. Но Волков из всей группы уже заранее отобрал троих. Один из них, как выяснилось, служил некогда помощником моториста на гвинейском пароходе, двое других выходили в море на траулерах. К тому же, у Гриши был и собственный механик, который настолько редко вылезал из машинного отделения, что за все время я его ни разу не видел.
Рабочие кричали и ругались, недовольно размахивая заработанными купюрами. Волков, спокойно понаблюдав за протестующими, выдал им по упаковке «гвоздей», и те успокоились. Это был старый африканский трюк. Сколько бы ни дал Григорий, либерийцы захотели бы больше. В данной случае, алкогольная премия была заложена в статью расходов. Думаю, что об этом догадывались и ремонтники, но без крика они уже не могли обойтись: традиция есть традиция.
— А в Абиджане, значит, скакать передо мной будете вы с Джонсоном? — поддел я Волкова. Он криво улыбнулся и развернулся ко мне спиной. Шутка попала в цель. Очень точно.
Мы отдали швартовы. Заработал двигатель. Палуба уверенно завибрировала под ногами. «Мезень» медленно отходила от стенки. На причале, тесно сбившись гурьбой, стояли наши рабочие и тоскливо смотрели, как расстояние между ними все увеличивается и увеличивается. И когда люди превратились в черные фигурки, а их лица уже стали неразличимы, случилось то, чего предвидеть никто из нас не мог. Сначала я услышал стрельбу со стороны берега. Затем увидел, как рассыпалась группа рабочих. Они бросились в разные стороны. Несколько черных фигурок, одна или две, упали на бетонную пристань и больше не поднимались. А потом, к самой кромке причала подъехали два «пикапа», из которых на бетон вывалились вооруженные люди. Они заглянули в нашу машину, теперь уже ненужную. С борта «Мезени» было не разобрать, что они там делали, но вскоре машина вспыхнула ярко-желтым пламенем, которое моментально поднялось метров на десять. Пока машина горела, боевики, — а это были именно они, — развернулись в нашу сторону и открыли огонь из автоматов. Они стояли в полный рост и с громкими криками от бедра поливали нашу «Мезень». Джонсон тут же прижался к палубе, а в следующее мгновение уже отвечал им из своего «калашникова». Все остальные, кто стоял на палубе, упали вслед за ним, ровно на мгновение позже. Но этого мгновения было достаточно, чтобы успеть услышать нежное «фьюить!» возле самой головы. Пули молотили и по снастям, с резким визгом разлетаясь рикошетом во все стороны.
И тут, откуда ни возьмись, появился вертолет. Он резко взлетел со стороны береговых пакгаузов и, оказавшись над нами, завис, словно стрекоза над цветком. Вертолет был бело-сине-красный, с надписью «Бриджстоун». Это был тот самый вертолет, в который собиралась сесть Маргарет. И, конечно же, именно об этом вертолете мне рассказывал Суа Джонсон. Пилот, похоже, хотел бы нам помочь. Мне хорошо было видно, как он делает загадочные знаки руками за толстым стеклом кабины.
Все, что случилось потом, я помню смутно. С какого-то момента память стала работать, фиксируя происходящее урывками. Вот вертолет снижается к палубе. Джонсон приподнимается и смотрит наверх. Пули рэбелов барабанят по палубе совсем рядом с ним. Но он на них внимания не обращает. Его губы шепчут незнакомое ругательство на гио. Он медленно наклоняется и, словно потерял что-то, шарит по палубе. А когда находит, я замечаю, что это гранатомет РПГ-7. Уже снаряженный и готовый к бою.
Джонсон кладет его на плечо и разворачивается в сторону вертолета. Остроносый заряд смотрит вверх, прямо на машину. Но это не может быть реальностью. Это дежа-вю страшного случая на Сприггсе. Не надо повтора, Джонсон! Не стреляй! Я тебя умоляю!
— Не стреляй, там она! — закричал я Джонсону. Но он меня не слышал. Вертолетчик, как только разглядел гранатомет Джонсона, сразу же попытался включить форсаж и рвануть с места. Мои слова потонули в реве двигателя.
И тогда я рванул к нему. Я не замечал ни пуль, ни снастей, ни всего того, чего, обычно, бывает много на палубе. Мои ноги сами летели к нему, и я бы остановился только тогда, когда сбросил бы его в океан. Но для рывка расстояние от кормы, где находился я, до носа, где стоял Суа, было слишком большим. Я успел добежать только до рубки, когда Джонсон нажал на спуск. Граната, вращаясь, вышла из трубы и шипя, как змея, полетела в направлении вертолета. «Нет! Нет! Это уже было!» — завыл голос внутри меня. И сам я закричал вслух, в полный голос. Как зверь кричал, нечеловечески отчаянно.
Я подлетел к черному психопату в тот момент, когда граната влетела в борт вертолета. Она легко вошла в него, это было заметно даже невооруженным взглядом. Через мгновение вертолет словно осел в воздухе и тут же превратился в огненный шар. Ярко-красный в середине и иссиня-белый по краям. С неба дохнуло беспощадным жаром. Внутри шара было мое счастье и моя любовь.
И я оттолкнулся от палубы обеими ногами, чтобы взлететь как можно выше и, пробив огненную оболочку, оказаться вместе с ними, там, внутри.
ГЛАВА 45 — АТЛАНТИКА. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ КОТ Д'ИВУАР. ФЛЯГА С НАЧИНКОЙ
— Пей! — услышал я голос в темноте. — Пей.
Здесь темно. Воздух липкий и прогорклый. Все пространство вибрирует, подчиняясь ритмам невидимого двигателя. Вот, оказывается, что бывает после того, как наступает конец. Я уже не человек из плоти и крови, а просто мысль, пойманная неизвестным ловцом и помещенная на вечное хранение в середину черной бесконечности.
— Пей, — упрямо повторял знакомый голос, но я никак не мог вспомнить, кому он принадлежит. Голос настойчиво и упрямо повторял кому-то свою просьбу. И я догадался, что этот кто-то — я сам. Я почувствовал, как в меня вливается тоненькая струйка жидкости, и обнаружил, что кроме мысли у меня есть еще губы и глотка.
Постепенно ко мне возвращались чувства. Наверное, так чувствует себя робот, к которому по одной присоединяют конечности. Сначала он это просто программа, записанная на чипе. Потом у него появляются фотоэлементы, он начинает видеть мир. Потом к нему подсоединяют тело, руки, ноги. Он шевелит пальцами и радуется тому, что может узнать этот мир наощупь.
Мое горло оказалось пересохшим, а губы растрескавшимися. Мне стало больно глотать неизвестную жидкость, и в знак того, что, мол, достаточно, я покачал головой. Я могу шевелиться! Это было удивительное открытие. Значит, еще не конец, и жизнь продолжается. Но вместе с чувствами стала возвращаться и память. Я вспомнил палубу корабля. Огненный шар над ней. И то, что было внутри этого шара. То, ради чего я отдал бы, не раздумывая, все, что имел. Я отдал бы все ради того, чтобы в момент вспышки оказаться в вертолете. Но это было уже невозможно.
— Он стонет, — заговорил другой голос, тоже довольно знакомый. — Значит, будет жить. Дай ему еще этого пойла.
Микстура снова полилась внутрь меня. Я ощутил ее вкус только со второго раза. Она напоминала травяной чай, который собирают в крымских горах, а потом вязками сушат под потолком, помешанные на своем здоровье старухи. Как ни странно, неприятный напиток окончательно вернул меня в этот мир, назад к реальности. «Хорошо бы открыть глаза,» — сказал я сам себе и поднял веки. Свет электрической лампочки ударил мне в глаза. Почти, как вспышка от взрыва. Я увидел в самой середине стеклянного пузыря молнию от вольфрамовой нити и снова прикрыл глаза.
— Порядок, — удовлетворенно сказал первый голос.
Я вспомнил, кто этот человек. Его зовут Сергей Журавлев, журналист. А второй это Григорий Волков, капитан корабля и, по совместительству, неблагодарная сволочь. Между собой они говорили на языке, который мое сознание идентифицировало как русский. Я был почти в порядке. Если не вспоминать о том, что мне больше хотелось умереть, чем жить.
— Полежи, полежи, Андрей, — ласково сказал Григорий.
Но я и без его уговоров не хотел вставать.
— Послушай, Гриша, не трогай его. Пойдем отсюда. Придет в себя и встанет сам, — попросил вполголоса Журавлев.
Григорий согласился. Я услышал, как щелкнул автоматический замок и где-то за дверью затихло неторопливое шарканье шагов. Я снова приоткрыл глаза и осмотрелся. Возле меня стояла крашеная белой краской тумбочка. Над ней висела полка с книгами. Я повернул голову. Ноги упирались в грязный пластик стены. Помещение очень напоминало купе проводника в поезде дальнего следования. Только окно было не квадратным, а круглым, с мутным стеклом, за которым плескалась зеленоватая вода. Я понял, что нахожусь в капитанской каюте. В которой до меня спала Маргарет. Мне захотелось закрыть глаза, и я снова ушел в беспамятство.
Когда я в следующий раз открыл глаза, рядом со мной, на краю койки, сидел Григорий. В руках у него была плоская металлическая фляжка.
— Выпей, — протянул он ее мне.
Я взял фляжку и сделал небольшой глоток. Опять трава. Я бы лучше выпил виски, причем, всю бутылку залпом.
— Сейчас тебе это нужно больше всего, — сказал Гриша, словно прочитав мои мысли.
«Мне уже ничего не нужно,» — горько усмехнулся я про себя и попытался приподняться. Голова гудела. Когда я сел, свесив ноги с койки, в висках застучало.
— Вставай постепенно, — посоветовал Волков. — Хочешь, помогу?
Я отвел в сторону его участливую руку и привстал с койки. Ноги были словно набиты ватой и плохо слушались. Я сделал несколько шагов по крохотной каюте и снова сел на койку.
— Тяжело? — риторически спросил Григорий.
Я вместо ответа глотнул еще немного из металлической фляжки.
— Оно и понятно, — пробормотал моряк, — три дня пластом...
— Как три дня? — переспросил я его.
— А вот так. Ты три дня был без сознания. Тебя то лихорадило, то попускало. Весь в холодной испарине. Тошнило тебя постоянно, даже вода в желудке не удерживалась. Очень похоже на лихорадку лассо. Но не лассо. Что-то на нервной почве.
«На нервной почве», Гриша, это хорошо сказано.
— А у меня запас разных настоек, — продолжал Волков, — Гриссо дал мне в дорогу целую аптеку. Торговать можно. Я, конечно же, не Гриссо. Но кое в чем немного разбираюсь. Мы с Сергеем по капле в тебя эти чаи заливали. Разжимали челюсти фанеркой и заливали. А сегодня ты уже сам справился.
Значит, прошло уже три дня после того, как Суа Джонсон сделал выстрел из гранатомета.
— Где он? — спросил я Волкова.
Он сразу понял, о ком я спрашиваю.
— Нет его, Андрюша, совсем нет.
Я почему-то заранее знал, что он ответит именно так.
— Андрюша, — осторожно задал мне вопрос Волков, — а ты знаешь, почему он сделал это?
Конечно, я знал. Догадывался, по крайней мере. Идиотское стечение обстоятельств: вертолет принадлежал человеку, которого Джонсон считал своим врагом номер один. Может быть, этот человек тоже был среди пассажиров. Этого я не мог знать. А Джонсон не мог знать, что на борту вертолета находится Мики. У меня не было ни сил, ни желания, чтобы рассказывать сейчас всю эту долгую историю, и я ограничился утвердительным кивком головы.
Мы вышли на палубу. Я не пытался идти быстро и особенно осторожно поднимался вверх по трапу. Григорий неотступно следовал за мной и, как медсестра, заботливо поддерживал под локоть. На палубе к нам присоединился Журавлев. Он подхватил меня с другой стороны, и они наперебой принялись задавать мне глупые вопросы «Ну, как?», «Нормально?», «Не тошнит?», «Голова не кружится?», «Еще или посидишь?» Этот поток слов я оставил без внимания. И только настойчиво перебирал ногами в направлении носовой части судна. Что-то здесь было не так. Снасти искорежены, поручни срезаны, причем, как-то неаккуратно. Дощатое покрытие палубы иссечено так, словно на ней кололи дрова, а местами доски были сорваны. Я удивленно посмотрел на Волкова. Тот, скорчив недовольную гримасу, пожал плечами:
— Винт вертолетный прошелся. Когда вертолет упал в море. Совсем рядом с бортом.
— Как это могло случиться? Вертолет же ушел от корабля? — спросил я.
— А хрен его знает, Андрей, этот винт прилетел, как бумеранг. И судно слегка порубил, и Джонсона.
Я с сомнением посмотрел на капитана. Тот нахмурил свои густые брови:
— Ты что же, думаешь, это я Джонсона порешил?
Нет, конечно, Григорий не стал бы этого делать. Ну, а даже если бы и стал, то что мне теперь до этого? Я остановился и присел на корточки. За спиной оказалась металлическая опора неизвестного мне назначения. Обычно таких предостаточно на любом корабле. Я смотрел на океан. Над невысокими волнами повис легкий туман. В этих краях туманы редко бывают, впрочем, откуда мне знать, я же не моряк, меня больше интересуют облака в небе, чем туманы на земле. Или на воде. Но дымка постепенно стала расходиться. Туман поредел, и за ним, словно на лице дамы под вуалью, стали проявляться знакомые очертания. Когда ветер окончательно развеял туман, я увидел город.
Прямоугольники стеклянных башен выстроились в ряд, как будто встречая дорогого гостя. А перед ними, беспрерывно шевеля своими стрелами, громоздились краны в порту. Между кранами и небоскребами лежала лагуна, но с борта «Мезени» ее не было видно. Казалось, что город начинается сразу за портом. Конечно, это было вовсе не так. В Африке вообще все всегда бывает не так, как кажется на первый взгляд. В одном я был уверен. Город называется Абиджан, здесь есть хорошие гостиницы с саунами, тренажерными залами и джакузи. А накрахмаленные простыни приятно хрустят, когда ложишься на них в первый раз. Здесь есть ночные клубы и дискотеки, а таксисты всегда улыбаются, потому что этого от них требуют владельцы таксомоторных компаний. Здесь не увидишь детей с культями вместо рук и ног, играющих в футбол на костылях, а в прохладных офисах с тобой о делах будут вежливо говорить приятные молодые люди в строгих костюмах с галстуками. Абиджан это очень хороший город. Идеальное место для любителя безопасной африканской романтики, который всегда успевает вовремя остановиться на грани. А я возвращался из-за грани, с той стороны. Я хотел порадоваться башням Абиджана. И не мог. Я просто не знал, что мне там делать. Но там, откуда я плыл, делать мне уже точно было нечего. Когда не знаешь, что делать, всегда иди вперед.
«Мезень» не пустили в лагуну. Ее оставили на внешнем рейде и согласились выслать пограничную полицию только после того, как Григорий сообщил на берег, что у него на борту белые беженцы. У меня не было паспорта, у Сергея тоже. Но Петрович все сделал, как надо. и на берегу нас уже ожидали временные документы.
Мы стояли на палубе и смотрели на город. Уже собиралось темнеть, и закат выкрасил гребешки мелких волн в багровые тона. Рассекая красноватые воды залива, в нашу сторону двинулся пограничный катер. Григорий тихо подошел ко мне и сунул в руки железную китайскую фляжку с приваренным к ней гвардейским значком. Фляжка была полной.
— Возьми, Андрюша, это подарок от Гриссо.
— Что это?
— Да так, отличная штука для нервов. Будет тебя колбасить, глотни чайную ложечку.
— И что?
— И ничего. Тебя сразу попустит. Только помни: одной ложки достаточно. Очень сильная штука.
Я пробормотал «спасибо». И только, когда катер швартовался к борту «Мезени», я сообразил, к чему это Григорий клонит.
— Погоди, Гриша! — подтянул я его за плечо к себе поближе. — Ты что же, на берег не идешь?
Волков помотал головой:
— Нет, я возвращаюсь.
— Возвращаешься?! — удивился я. — Но ты же собирался уехать из Африки!
Григорий пожал плечами, что означало «все в жизни однажды меняется».
— Гриша, но ведь там идет война! Если ты туда вернешься, тебя расстреляют!
— Кто? — спросил Волков.
— Ну, кто-кто? Все! Да любой, у кого есть оружие.
Григорий улыбнулся, словно знал больше других о будущем.
— Андрей, там у меня проблем не будет, поверь. Тайлера посадят. На его место придут другие люди. А я со своей старушкой «Мезенью» на хлеб всегда заработаю. Вот и заведение мое после войны нужно будет в порядок привести. Сам видел, и там нужно будет копейку вложить.
Он смотрел на меня, улыбаясь, как идиот на доктора в психлечебнице. Я слушал его и поддакивал, словно боялся, что его тихое помешательство перейдет в буйную стадию. Но потом я подумал, что не стоит подыгрывать сумасшествию других, иначе и сам сойдешь с ума.
— Гриша, ты чего, белены объелся? — возмутился я. — Или настоек своих обпился?
— Там! — развернул его я в сторону Либерии. — Плохо! Понимаешь, плохо!
— Здесь! — снова повернул я Григория лицом к небоскребам. — Хорошо! Повтори, если ты такой идиот: «Хо-ро-шо»!
— Андрей, я не сумасшедший, — продолжал улыбаться Григорий. — Еще несколько дней назад я хотел сбежать оттуда не меньше, чем ты. Но теперь подумал. Что ждет меня дома, в Калининграде? Ничего. Даже дома нет. Дома я бомж с пароходом, который ни одного рейса в России не сделает. У меня там нет никого. А в Монровии у меня есть мой подвал и Гриссо. И, знаешь что? Сейчас он, наверное, единственный человек в мире, которому я нужен.
— А еще ты нужен этой девушке, — улыбнулся я криво. — Племянница она его или как ее там?
— Ну, разве что, этой девушке тоже, — серьезно подтвердил Гриша. — А в России меня никто не ждет.
И он схватил меня за грудки, а потом тихо засипел в лицо:
— Ты понимаешь, Андрей, как это бывает, когда тебя никто не ждет? Думаю, что понимаешь.
Я осторожно убрал его руку:
— Знаешь, Гриша, давным-давно один мудрый грек сказал, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Я никогда не слушался старших и, тем более, древних. Я вернулся в Монровию. Вошел во второй раз в одно и то же дерьмо. Посмотри на меня. Теперь ты видишь, что из этого получилось?
Я глядел на лицо Волкова и понимал, что уговаривать его бесполезно. Его давно уже ничего не связывало с прежней жизнью. Григорий слишком долго ждал свою «Мезень» и в конце концов превратился в африканца. Я это понял так же отчетливо, как и тогда, в полуподвале за стаканом йагге. Мне захотелось остаться с ним. Послать подальше этих пограничников и вернуться туда, где ноги по колено утопают в пыли, когда вылезаешь из автомобиля. Но что для меня теперь Монровия? Город, в котором никогда не будет ее.
Пограничники быстро закончили с формальностями. «Сколько вас сходит на берег?», — спросили они капитана. «Двое,» — сказал он. Сергей удивленно поднял брови и что-то пробормотал под нос, кажется, «Ни хрена себе!» или другое высказывание подобного содержания. «Есть багаж?» — поинтересовался чернокожий офицер. «Нет,» — дружно ответили мы с Сергеем и в подтверждение развели в стороны пустыми руками. «Ну, ладно,» — подозрительно хмыкнул пограничник и сделал знак спускаться в катер.
За доставку я рассчитался сполна. Пока катер приближался к судну, я успел сунуть в руку Григория несколько камней. Дальнейшее уже было его делом: меня не касалось, заплатит ли своим матросам или все оставит себе. Когда его рука прятала камни в карман, на его коричневом лице аскета не дрогнул ни один мускул. Оставшиеся алмазы я сумел пристроить так, чтобы ни один таможенник их не нашел.
— А что в бутылке? — между делом бросил офицер, когда, пытаясь сесть поудобнее, я перекладывал фляжку из заднего кармана джинсов в передний.
— Чай. От расстройства хорошо помогает, — сказал я ему и приподнял флягу, мол, попробуешь?
Офицер улыбнулся и сделал отрицательный жест рукой. Двое странных белых, несомненно, вызывали у него желание отправить их в кутузку и хорошенько отдубасить, дабы узнать правду о том, с какой целью они пересекают государственную границу Ивуарийской Республики, но сделать это было невозможно по причине того, что их задницы были надежно прикрыты всеми необходимыми бумагами, которые поступили накануне в пограничную службу, и младший офицер погранслужбы справедливо подумал, что не должен проявлять рвение там, где его начальники не усматривают ничего подозрительного.
Катер все дальше и дальше отходил от борта «Мезени». Руки невидимых матросов подтянули наверх трап. Григорий, недолго постояв на палубе, пошел по направлению к рубке. Он ни разу не обернулся и не сделал никакого прощального жеста. Буквы «Мезень» стали сливаться в одно белое пятно, потом это пятно стало неразличимым, а вскоре и сам корабль стал невидимым, растворившись на фоне серого неба.
ГЛАВА 46 — КОТ Д'ИВУАР, АБИДЖАН, ИЮЛЬ 2003. «ВИСКИ И-ГО-ГО!»
Сергей позвонил мне в номер через сутки.
— Иваныч, все здесь прекрасно, но, если честно, завтрак не стоит двадцати баксов.
«Почему он вечером про завтрак говорит?» — отстраненно подумал я, глядя на потолок своего номера в «Интерконтинентале» и слушая голос Журавлева в трубке.
За окном был чудесный вид на ночной город. Добавить бы сюда стрельчатый силуэт Бруклинского моста, пару башен ВТЦ, и точь-в-точь получится Нью-Йорк. Впрочем, башен в Нью-Йорке уже не было. А для меня, в общем-то, большого значения не имело, какой город подмигивает мне из темноты.
— Спасибо тебе за камешки, Андрей Иваныч, — продолжал трепаться Журавлев. — А у меня к тебе есть предложение. Давай напьемся, а?
С камнями все обошлось, как нельзя, лучше. Григорий Петрович, после недолгих переговоров по телефону, уже завел себе здесь друзей, которые помогли по дешевке сбыть несколько алмазов. Денег на первое время нам с Сергеем хватало. А вскоре мы собирались совсем покинуть эту гостеприимную страну. Нам оставалось дождаться, пока местные чиновники закончат все формальности с документами. «Не волнуйтесь, со дня на день,» — участливо обещали они. Но мы их не торопили. Я, во всяком случае. А Журавлеву и подавно хотелось здесь задержаться.
— Это как Париж для бедных, — видимо, он уже выпил и уговаривал меня присоединиться к нему. — Все то же самое, только цены в три раза ниже.
Я понимал, что мне от него не отвязаться. «Заходи,» — скомандовал я Сергею. Через пять минут он стучался в мой номер. Когда я открыл ему, то заметил, что в руках у него нет ничего, что свидетельствовало бы о намерении выпить. Ни бутылки, ни даже пакета с закуской.
— Иваныч, мне тут подсказали одно место. Смесь дискотеки, бильярдного клуба и публичного дома. И название соответствующее «Виски а гоу-гоу». Значит, накатываешь, и вперед!
В его исполнении «a go-go» прозвучало, как «и-го-го», да и произнес он название заведения, возбужденно притаптывая ногой, как молодой жеребец.
— Ну, и чем знаменито это место? — спросил я.
— Понимаешь, там лучший в Абиджане бильярд и пиво, говорят, привозят из Европы. Но не это главное, а главное то, что там можно найти черных девушек на любой вкус. Хочешь Наоми Кэмпбелл? Пожалуйста. Хочешь Уитни Хьюстон? Пожалуйста.
— А Вупи Голдберг там нет?
Сергей слегка закашлялся.
— Очень хорошо! Уже шутишь. Узнаю прежнего Иваныча!
Он меня уговорил. Не потому, что тянуло выпить. Или развлечься с местными красавицами. Мне хотелось, чтобы перед глазами мелькало изображение, менялась картинка, и голова не думала ни о чем.
Оранжевые «короллы» выстроились в ряд как раз напротив входа в отель. Это было не по правилам. Обычно таксистов вызывал портье. А, возможно, клиентов было несколько, и все эти машины были под заказом. Это нам не помешало, впрочем, сесть в первую же машину.
— «Виски-игогоу», — небрежно бросил Журавлев, захлопывая дверь.
— А-а, Трешвилль, — понятливо кивнул водитель, молодой парень с бритой головой и серьгой в ухе.
До заведения от нас было рукой подать. По широкому автомобильному мосту мы переехали через лагуну и оказались прямо в центре Трешвилля, самого густонаселенного района Абиджана. Здесь даже ночью бывали пробки. Влияние Нью-Йорка на застройку Абиджана особенно сильно чувствовалось именно здесь, в Трешвилле. Параллели длинных однообразных авеню, пересекали перпендикуляры улочек, у которых не было названий. Только номера, ну, точно, как в Нью-Йорке. Водитель хорошо ориентировался в этом районе. Мы ехали вдоль морского берега. Лагуну освещали яркие огни многоэтажек. Водитель нажал на кнопку магнитофона. Из динамика послышались скрипучие нотки африканского рэгги. Голос незнакомого певца запел на чудовищной смеси французского и английского. Незатейливая песня, что-то про разрушительную любовь к автомату Калашникова.
— Кто это, Боб Марли? — спросил я водителя.
— Нет, это наш, Альфа Блонди, — с гордостью произнес шофер и сделал звук погромче.
Через пару минут мы торжественно парковались под звуки рэгги возле нужного заведения. Ошибиться было невозможно. В узком переулке это было единственное освещенное здание. Неоновые буквы «Whisky a go-go» сияли на всю стену. Синеватый силуэт девушки с бокалом, изображенный гнутыми светящимися трубками, недвусмысленно обещал, что после «whisky» обязательно будет «go-go».
Внутри полутьма, громкая музыка и стеклянный шар под потолком, в стиле дискотеки восьмидесятых, хаотично отбрасывавший лучи по лицам танцующих мужчин и женщин. Глаза Журавлева загорелись. Здесь было настолько много длинных ног, высоких каблуков и декольтированных нарядов, что любой новичок мог в первое мгновение потерять дар речи. Журавлев, со своими горящими глазами на раскрасневшемся лице, был похож на измученного жаждой путника, увидевшего, наконец, колодец с холодной водой.
Я отошел в сторонку и присел возле барной стойки. Тут же рядом на высокий табурет приземлилась девушка в блестящем платье, подол которого едва прикрывал шоколадные бедра.
— Permettez-moi? Вы позволите? — спросила она по-французски, уже, впрочем, разместившись на табурете. Неимоверно сладкий аромат ее духов едва забивал запах свежего пота. Она, видимо, уже давно была здесь и явно работала, а не отдыхала.
— Comment tu t'appelles? Как тебя звать? — сразу же перешла она на «ты».
— Pas important, bebe. Неважно, детка, — бросил я автоматически, чтобы отшить ее. Но вот это мое «бебе» ее, наоборот, воодушевило. И она принялась меня кадрить и дальше.
— De quelle pays? L'Americain? Откуда? Американец? — спросила она, слегка царапнув длинными накрашенными ногтями мою ладонь. При беглом рассмотрении ногти оказались местами облезлыми, со следами красного дешевого лака.
— No, — ответил я.
— Pas l'Americain? Maintenant qui, l'Allemagnien? Немец?
Я отрицательно покачал головой.
— Le Russe? Русский?
Ну, что ж, молодец, почти угадала.
— Je suis de l'Ukraine, — гордо произнес я.
— Откуда? — переспросила она. — Из Ю. Кей?
Барышне отчетливо послышалось Ю. Кей вместо Юкрен. Аббревиатуру «UK», Соединенное Королевство, используют по всему миру чаще, чем упрошенное название «Британия». Мою малоизвестную родину иногда путают с великой морской державой. Но мне это никогда не льстило.
— Юкрен, детка. Знаешь такую страну?
Она не знала. Ее большие, навыкате, глаза еще больше вылезли из орбит, уставившись на меня. То ли шутит, подумала девушка, то ли уже пьяный. Она взвешивала степень возможной опасности, которую таил в себе клиент из незнакомой страны. Все ее сомнения отражались на ее черном лице. Грохотала музыка. Вращался шар. Под глазами у моей соседки пробегали блестки отраженных огней.
— Ладно, закажи мне выпить, — уныло промолвила она, сразу растеряв весь свой интерес ко мне, а заодно и очарование. Я как-то заметил, что ей уже за тридцать, и она порядком устала от ночного образа жизни.
Я заказал ей «маргариту», а себе рюмку «Блэк-энд-Уайт».
— Ну, будьмо, — сказал я ей почему-то по-украински, и, подмигнув, залпом опрокинул тридцатиграммовый наперсток себе в глотку.
Журавлев плясал с длинноногими девицами прямо возле бильярдных столов. Девиц было двое, а, может быть, даже и трое. Сергей, единственный белый на танцевальном пятачке, энергично выплясывал под слегка устаревшие хиты, и неторопливые черные бильярдисты, с могучими бицепсами и плавными движениями, внимательно и строго наблюдали за тем, как журналист ритмично взбрыкивает и выкидывает коленца. Девицы визжали от восторга и время от времени целовали Сергея. Я поставил рюмку на стойку. Махнув Сергею рукой, побыстрее двинулся к дверям. Но он меня не заметил. Я постоял минуту на улице перед входом и отправился искать такси.
Наголо стриженый парень, который привез нас сюда, никуда не уехал. Клуб считался «рыбным местом», проще было дождаться полупьяных клиентов у входа в заведение, чем рыскать по городу в поисках заработка.
Я сел в машину и с гагаринской интонацией произнес французское «On y va!» «Поехали, куда?» — переспросил водитель.
— А куда глаза глядят, — попросил я. — Давай просто покатаемся по городу.
В динамике снова заиграла музыка. Паренек включил рэгги.
Мы снова поехали вдоль лагуны. На том берегу, вся в огнях, была видна башня нашего отеля. Машина тихо промчалась по автостраде и въехала в деловую часть города. Даже в столь поздний час здесь бродило огромное количество людей, причем, несмотря на душный воздух, многие из них были в костюмах и при галстуках. Автомобильные сигналы будоражили нервную систему, но порядка движению на придавали. То и дело перед нами возникали непредвиденные пробки. Собственно, это и отличало Абиджан от любого другого мегаполиса. В европейских столицах, например, пробки всегда предсказуемы.
Кассета в магнитофоне у таксиста была все той же. Черный певец продолжал раздражать меня своей активной гражданской позицией.
— Ты кричишь «Мир», ты кричишь «Любовь»,
Ну, а в руке твоей Калашников, — тихо подпевал лысый шофер, и серьга у него в ухе покачивалась в такт неказистой мелодии.
Район небоскребов закончился как-то внезапно, и на смену офисам вдоль дороги выстроились длинные заборы коттеджей. А потом оборвались и они. Уличные фонари, к которым уже привык неизбалованный глаз, тоже исчезли. И вместо них нас словно обступили трущобы. Дома, сшитые из жести, картона и целлофановых пакетов. Они, плотно прижавшись друг к другу, тянулись до самого конца улицы, насколько их могли выхватить лучи наших фар, и даже еще дальше.
— Кто это? — спросил я шофера.
— Это иммигранты, из Буркина-Фасо.
Он посмотрел на меня и понял, о чем я подумал.
— Не переживайте, там им еще хуже, чем здесь. Иначе они бы у нас не оставались.
Это место было похоже на Либерию. Но не трущобами, их полным-полно в любой африканской стране. Я увидел, что вдоль дороги, перед каждым стихийно построенным кварталом трущоб стоит блок-пост. Все было почти, как в Монровии: колючая проволока, деревянные полосатые столбы и будки с солдатами. Но солдаты выглядели по-другому, гораздо серьезнее. По крайней мере, они были одеты в пятнистую форму, а не потертые джинсы. И это тебе не худощавые юнцы, а крепкие мужчины, в которых чувствовалась неплохая выучка и трехразовое питание. Хотя, если честно, оружие у этих было похуже, чем в Либерии. Старые «стэны» и «кольты» вместо «калашниковых» и «М-16». Я попросил таксиста остановить и подошел к одному из солдат.
— Можно Вас спросить, офицер? — сказал я, намеренно завысив его чин.
Солдат с достоинством кивнул:
— Спрашивайте.
— Этот автомат, — говорю я, — русский?
— Нет, английский, очень старый, — ответил военный.
— А почему такой старый? — продолжаю я выяснять.
— Не знаю. У меня есть своя теория на этот счет.
— Можете поделиться ей со мной?
— Пожалуйста, мсье, если хотите, почему бы нет. Я считаю, что мы слишком мирная нация, чтобы тратить много денег на войну. Нам хватает этого.
И солдат поднял вверх древний «стэн», которому место было не здесь, а в музее Второй Мировой. Я поблагодарил парня и плюхнулся на переднее сиденье в оранжевом абиджанском такси. Но напоследок не смог удержаться от сарказма.
— Если вы такие мирные, то зачем вы вообще здесь стоите? — крикнул я солдату из открытого окна машины.
Умный солдат не полез за ответом в карман.
— А это, мсье, для того, чтобы чужие в нашей стране жили по нашим правилам. Я понятно объясняю?
— Да, офицер, вполне. Желаю Вам поскорее стать генералом, — бросил я вместо «до свидания», когда водитель уже разворачивался в сторону центра.
В «Интерконтиненталь» машина приехала под утро. Я щедро рассчитался с водителем и поднялся к себе на этаж. Когда я вышел из лифта, я сразу заметил, что дверь моего номера приоткрыта, и оттуда доносится музыка и женские голоса. Может быть, я ошибся и вышел не на своем этаже? Я подошел поближе. Нет, номер был мой. А обладательницам голосов явно было хорошо у меня в гостях. Я задумался на мгновение, а стоит ли вообще заходить, и решил, что стоит.
Посередине номера, на сером ковролине, босиком отплясывали две стройные африканки. Желтые пятки мелькали под ритмы Эм-Ти-Ви из телевизора, двигаясь вокруг стеклянного столика и огибая разбросанные по полу прозрачные туфли на высоком каблуке и прочие предметы женского туалета. Девицы были почти голые. Непонятно, каким образом на них крепились небольшие кусочки кружевной белой материи, очевидно, выполнявшие функции женского белья. Девушки танцевали с бокалами в руках. На ковролин то и дело падали тяжелые капли вина. Они чудом не попадали на Журавлева. Журналист, приободряюще хлопая в ладоши, сидел по-турецки возле стеклянного столика. Именно на столике, в центре этой вакханалии вседозволенности, находилось самое интересное. Горка белого порошка, по цвету и консистенции напоминавшего стиральный. Белые следы были и на переносице у Сергея, как-будто он ел пирожное и влез носом в сахарную пудру. Моим первым желанием было вышвырнуть его отсюда. Но он, увидев меня, нервно захохотал и, вскочив со своего насиженного места, вцепился в меня.
— Иваныч, Иваныч, Иваныч! У тебя так много места, а у меня в номере негде развернуться. Я попросил, и они открыли твой номер. Представляешь? Просто попросил, и они открыли.
«Вот сволочь этот портье,» — подумал я. — «Небось, Журавлев сунул ему пару бумажек.»
— Но, если хочешь, мы уйдем, — виновато улыбнулся Сергей, заглядывая мне в глаза. Зрачки у него были настолько большими, что, казалось, голубые глаза поменяли цвет и стали черными.
— Уйдем, девушки? — громко спросил он своих ночных подруг по-французски.
— Не-е-т! — дружно, хором, ответили девицы, ни на секунду не прекращая свой танец.
— Не гони нас, Андрюша, а лучше оттянись с нами. Забудь, забудь обо всем. Вот в чем спасение, дружище, — и Журавлев сделал широкий жест в сторону девушек и столика с кокаином.
Я зашел в туалет и закрыл дверь прямо перед лицом Сергея. Он робко, но настырно, стучал в коричневый пластик двери. Я умыл лицо и посмотрел в зеркало. Оттуда на меня глядел усталый небритый человек со свалявшимися волосами пшеничного цвета и мешками под глазами. Я давно не вглядывался в это лицо и вдруг понял, что оно постарело. Я не мог понять, что же в нем было от старости. То ли появились седые волосы. То ли мешки стали больше и кожа посерела. А, скорее всего, все это вместе не добавляло мне молодости. И усталость, бесконечная усталость, к которой я, впрочем, уже успел привыкнуть. И одиночество, с которым теперь мне придется научиться сосуществовать.
— ...и поверь, это лучшие модели из «Whisky a go-go», а «Виски» это лучшее заведение во всем Абиджане, а Абиджан лучший город во всем Кот д'Ивуар. И я хотел, чтобы тебе, Иваныч, было хорошо. Чтобы ты разгрузил свое сердце. Потому что нельзя же так мучить себя...
Журавлев что-то говорил без остановки и продолжал стучать ладонью по двери. Но я его не слушал. Человек в зеркале смотрел мне прямо в глаза. Так смотрит на хозяина старый умирающий пес. Под таким взглядом сердобольному хозяину хочется где-нибудь достать пистолет и пристрелить верного друга. Этому парню из зеркала уже не нужен был кокаин и черные топ-модели из дешевого ночного клуба.
Я достал металлическую фляжку и вылил ее содержимое в стаканчик для бритвенных принадлежностей, стоявший нетронутым на полочке перед зеркалом. Коричневая жидкость налилась почти до края, а в стакане помещалось грамм триста, не меньше.
Потом я с трудом извлек то, что находилось на дне фляги. Несколько твердых прозрачных камешков, каждый из которых был заботливо обернут куском салфетки. Чтобы алмазы не звенели об стенки при таможенном досмотре. Фляжка у офицеров не вызвала особых подозрений. Вот так, с помощью примитивной хитрости, я ввез в эту страну небольшое состояние и теперь, глядя в глаза своему отражению, раздумывал, зачем теперь оно мне нужно.
Что там говорил Гриша об этой коричневой жидкости? Кажется, он назвал ее сильной штукой, и не рекомендовал пить ее помногу. «Одного глотка тебе хватит, чтобы успокоить нервы,» — вроде бы так он советовал на борту «Мезени». А что будет, если хапнуть сразу весь стакан? Успокоюсь навеки или впаду в летаргический сон? Пожалуй, стоит проверить.
Я взял стакан в руку. Понюхал. Запах был все тот же. Жидкость пахла аптекой. «Ну, что страшно?» — спросил я себя. Но никакого страха я не испытывал. Только любопытство, и ничего больше.
— Твое здоровье, — улыбнулся я парню в зеркале и приподнял стакан. Усталый человек напротив сделал то же самое. У него явно улучшилось настроение. У нас с ним получилась отличная компания. Мы, как никто другой, понимали друг друга. Он осторожно поднес край стакана к губам и сделал первый глоток. Я не отставал от него и спешно, наперегонки с ним, вливал в себя успокаивающий эликсир. Когда в стакане ничего не осталось, я тщательно вымыл его, а потом смел туда с полочки все до единого алмазы. Мы одновременно поставили свои стаканы. Я еще раз посмотрел в зеркало и увидел, как удвоилось мое либерийское состояние. Потом я развернулся и вышел из ванной.
— Ну, вот, наконец-то, — довольно сказал Журавлев.
Чай почему-то не действовал. Я твердо стоял на ногах. Сердце в обычном ритме, — шестьдесят ударов за шестьдесят секунд, — билось у меня в груди. Сознание оставалось незамутненным. Журавлев, задорно посмеиваясь, присоединился к девицам и, танцуя, принялся стаскивать с себя одежду. Он начал с потной рубахи. Зрелище голого упитанного торса мне показалось отвратительным. Белизна наметившихся по бокам складок раздражала, особенно на фоне черного шоколада стройных африканок. Бока Журавлева тряслись, как холодец в пакете, и мне захотелось надавать ему пинков по заднице. Странное дело, я испытывал вполне дружеские чувства к этому человеку, и, в то же время, за всю историю нашей с ним дружбы меня постоянно подмывало нанести ему легкие увечья. Особенно сейчас. «Как-то не по дружески,» — мысленно упрекнул я сам себя и решил догнаться кокаином. Уж если этот травяной чай не срабатывает, — видно, испортился, — то, возможно, кокаин сможет ему помочь. В сочетании с этим средством, которое приготовил Гриссо, он, вполне вероятно, просто добьет мое сердце, и я безболезненно перейду в иное агрегатное состояние.
Я уселся перед столиком, и, опустив голову пониже к бело-розовой субстанции, вдохнул в себя приличную порцию порошка. Сначала я ничего, кроме легкого жжения в носоглотке, не почувствовал. Я поднял голову и посмотрел на танцующих. Журналист размахивал рубахой. Девицы смеялись и нежно повизгивали. Я снова наклонился лицом к зелью. Сделал мощный вдох и втянул в себя кокаин. Потом выждал немного и поднял глаза.
Журавлева в комнате не было. Исчезли и девицы. Музыка стихла. Телевизор выключился сам. Номер был пуст. Никаких следов пребывания шумной компании. Ни рубахи Журавлева, ни туфель на длинном каблуке, ни стаканов с веселящим пойлом. Ничего. Даже кокаин исчез со стола. Ну, не мог же я сам весь его втянуть в себя? Дверь в ванную была приоткрыта. Оттуда лился мягкий голубой свет. Я сразу почувствовал, что свет этот очень добрый, не тревожный.
И я встал со своего места и пошел навстречу свету. Я знал, что за ним я увижу новый прекрасный мир, настолько прекрасный, насколько уродливым был гостиничный номер, в котором я находился. Да, да, я внезапно понял, что меня окружает уродство, а на самом деле мне хотелось чего-то гармоничного и прекрасного.
Я подошел к двери ванной, с явным намерением войти туда, откуда лилось сияние. Но как только я попытался открыть дверь, тут же услышал за спиной знакомый голос.
— Не надо туда заходить, сеньор Шут, там Вас пока еще не ждут.
Я обернулся и увидел его. Человек нисколько не изменился. На нем был камуфляж, а из расстегнутого ворота формы выглядывала голова, поросшая трехдневной небритостью. Умные глаза изучающе смотрели на меня. Я заметил, что мой гость прячет глаза за меняющими свой цвет стеклами дорогих очков. Они аккуратнейшим образом удерживались на простоватом носу хозяина, который, суди по частому протиранию стекол, относился к очкам бережно и с любовью. Конечно, я хорошо знал этого человека. Его либерально-прогрессивная небритость вызывала симпатию у собеседников, даже у тех, кто был хорошо осведомлен о его карьере. Это был Рауль де Сильва. Главный банкир Революционных Вооруженных сил Колумбии. Он был в военной форме, рукава которой были закатаны по локти, точно так, как в тот день, когда я его увидел в первый и последний раз в своей жизни. Из-под левого погона, как это иногда бывает у профессиональных военных, выглядывала свернутая в трубочку пятнистая кепка. Но меня совсем не удивило присутствие партизанского команданте в моем номере. Я знал, что Рауль де Сильва мертв, он погиб во время рейда колумбийской армии.
— Вы пришли за мной, команданте? — спросил его я по-русски.
— Нет, я пришел не за Вами, а к Вам. Улавливаете смысл? — ответил он, даже не раскрыв рта. Его губы оставались сомкнутыми, но я отчетливо слышал его голос. Слова, которые произносил команданте, тоже звучали по-русски.
— Улавливаю, — подтвердил я мысленно. Но Рауль услышал меня и, все так же, не размыкая рта, одобрительно сказал:
— Хорошо.
Я вглядывался в его лицо. Искал любые перемены. Но ничего особенного не нашел. Рауль выглядел точно так же, как и на партизанской базе в сельве. Мне даже показалось, что его щетина кое-где блестит каплями пота, затерявшимися на небритой шее. Словно он находился не в номере с кондиционером, а среди зарослей душного и влажного леса. Рауль уловил мой взгляд и неловко смахнул пот тыльной стороной ладони.
— Садитесь, Андреас.
Я сел там, где стоял, то есть прямо на ковер, скрестив по-турецки ноги.
— Спрашивайте, — позволил команданте.
Я пожал плечами. Спрашивать было не о чем.
— Нет, ошибаетесь, Андреас, спрашивать всегда есть о чем. Например, что Вы видите вокруг себя?
Я оглянулся. Вокруг меня были стены и мебель моего номера. Все было, как всегда, только вот этот голубоватый свет из приоткрытой двери в ванную комнату был первым признаком того, что мир изменился. Ну, а вторым был сам Рауль, сидящий напротив меня, хотя за минуту до этого я видел в комнате не его, а Журавлева.
— Да, Андреас, а я вижу другое. Маскировочную сетку, натянутую над моим столом, и через ее ячейки вертолет, с которого сходит в моем направлении ракета.
— И ничего другого? — спросил я.
— И ничего другого, — ответил Рауль.
— А меня?
— А вы тоже находитесь в моей сельве, под маскировочной сеткой. Во всяком случае, именно так я и могу Вас видеть. У Вас своя последняя реальность, у меня своя. Иногда они пересекаются. Например, я в любой момент могу встретиться с Вами, там где я есть в свой последний момент. А Вы со мной, соответственно, там, где Вы находились в свой.
«Вот как все это выглядит,» — удивился я. И тут же спохватился:
— Но Вы же сами сказали, что пришли не за мной, а ко мне.
— Да, действительно. Но что это меняет для Вас? — усмехнулся Рауль. — Да Вы садитесь. Курите, если хотите.
Я закурил. На столе оказалась коробка «Ойо де Монтеррей», как раз тогда, когда мне этого захотелось.
— Будете? — протянул я тоненькую сигарку де Сильве. Тот печально улыбнулся.
— Нет, не получится. В мой последний момент сигар у меня не оказалось. Так что я могу о них только..., — он запнулся.
— Мечтать? — подсказал я.
— Да, что-то вроде этого, — согласился де Сильва.
И тут меня осенила догадка.
— Значит, я еще жив, команданте!
Небритый подбородок де Сильвы качнулся в знак согласия.
— Тогда зачем Вы пришли ко мне? — спросил я.
— Ну, наконец-то! — облегченно заявил Рауль. — Я же сразу сказал Вам: «Спрашивайте!»
— Зачем я здесь? — повторил мой вопрос де Сильва и тут же дал вполне развернутый ответ. — Вы были нашим должником. Моим должником. Армия выследила нас как раз тогда, когда мы искали Вас, чтобы получить объяснения. Мы развернули целый колл-центр в джунглях, и, делая звонки по всему миру, рассекретили себя. Так что, именно Вы, сеньор Шут, мой киллер. Но я не хочу Вам мстить. Там, где я сейчас есть, не мстят. Наоборот, я пришел Вас спасти.
— Я не хочу, чтобы меня спасали, — заявил я команданте. — Я хочу остаться с вами здесь.
— Боюсь, не получится, — отказал мне Рауль. — Вы еще есть. И Вы еще будете жить некоторое время. Это я могу Вам точно сказать. Остальное выше моих скромных сил.
— Скажите, Рауль, — попросил его я. — Вы можете сделать так, чтобы я увидел ее?
Я не назвал Маргарет по имени. Мне почему-то показалось, что де Сильва знает, о ком я его спрашиваю.
Команданте покачал головой:
— Нет. Она за пределами моих возможностей. Она это Ваша память, а не моя.
— Вот поэтому я хочу здесь остаться, — крикнул я. — Неужели не понятно?
Рауль неопределенно качнул головой. То ли в подтверждение того, что «непонятно», то ли в знак невозможности моей просьбы.
— Мне без нее не дышится, Рауль. Я не знаю, как мне дальше жить в моей реальности.
— У каждого своя судьба, Андреас.
Он посмотрел на мою сигару и поинтересовался:
— Табак не сыроват?
— Нет, — ответил я, выдохнув облако сладковатого дыма. — Сухой, вполне. А, кстати, Ваши сигары, Рауль, были сырыми, но это только придавало им особый вкус. Помните?
— Конечно, помню. В Путумайо, — задумчиво сказал команданте.
Мы помолчали. Пепел, отломившись от моей сигары, бесшумно упал на ковер.
— Как я могу с Вами рассчитаться? — задал я ему вопрос, который следовало задать уже давным-давно. Но тогда, когда он был к месту, я не мог найти Рауля. А теперь вопрос к человеку, которого нет, прозвучал как-то глупо. Но команданте все же заговорил. Это не был прямой ответ, а, скорее, мысль, дремавшая в сознании и разбуженная странным сочетанием наивных слов.
— Думаю, Вы догадываетесь, Андреас, что мы хотели Вас казнить. Сначала найти, потом привезти в Колумбию и наказать по революционным законам. Мы даже нашли человека, который согласился нам помочь. Но потом выяснилось нечто, что, на мой взгляд, освобождает Вас от ответственности перед нами. Именно поэтому мы сейчас и говорим с Вами.
Дверь в ванную скрипнула и приоткрылась чуть шире, дав дорогу потоку голубого света. Все предметы в комнате, словно на пленке, которую передержали в проявителе, приобрели голубоватый оттенок. И только пятнистый камуфляж де Сильвы по-прежнему оставался зеленым.
— Мы думали, что мы игроки, Андреас, — продолжал команданте, — но на самом деле мы оказались инструментами в руках еще более искусных игроков, чем мы. Вы же сами знаете, что настоящие игроки никогда не появляются на поле боя. Этот груз, эти иракские бомбы, нужен был не нам, а им. Но они их не получили. И Вы единственный человек, который знает, где они лежат.
— Не единственный, — попробовал возразить я.
— Единственный, — остановил меня Рауль. — Поверьте, я знаю, что говорю.
Но вернемся к нашему делу. На самом деле, подставив нас, Вы же нас и спасли. Хотя и убили меня. Но я не в обиде на Вас. Возможно, это то, что я заслужил.
— А я? Что я тогда, по-вашему, заслужил?
— Жизнь.
Де Сильва произнес это так просто и спокойно, что меня внезапно пробрала нервная дрожь от осознания того, какая же это мука все время проживать последний момент своей жизни. Как он это назвал? «Твоя последняя реальность»? Самый тяжелый момент твоей жизни, помноженный на вечность.
— Но я хочу Вам сказать, Андреас, что рядом с Вами человек, который хочет отобрать эту жизнь у Вас. Это его работа.
— Пусть забирает все, мне не жалко.
— Он хочет забрать у Вас больше, чем жизнь. Вашу свободу.
Я задумался.
— Это Ваш человек, Рауль?
— Да, сначала он был нашим. Мы так думали. Мы его наняли, но потом оказалось, что у него более могущественные хозяева.
— Где сейчас этот человек?
Рауль посмотрел мне в глаза. Стекла его дорогих очков начали темнеть, и за их дымкой зрачки глаз команданте стали совсем не видны.
— Этот человек, — произнес де Сильва, — рядом с Вами.
— Рядом? — удивился я.
— Да, рядом. Он возле Вас, так близко, как никто другой из ныне живущих. И Вы сами никогда бы не узнали об этом, если бы я не.., — Рауль осекся, а потом продолжил фразу. — Если бы мне не позволили это сказать.
— Назовите его имя, — попросил я.
И тут Рауль внезапно замолчал, хотя я ожидал от него другого. Он выглядел задумчивым и нерешительным. А я, желая узнать имя охотника за моей головой, в то же время, почему-то боялся услышать его имя. То ли от страха, то ли от нежелания возвращаться, я закричал и, вскочив со своего места на ковре, бросился навстречу потоку голубого цвета.
— Все не так, как Вы думаете, Андреас! — услышал я за спиной голос команданте как раз в тот момент, когда меня поглотил голубой поток. Он ослепил глаза, мне сначала стало больно, но потом, секунда за секундой, боль стала отпускать меня. Я думал, что, когда она меня отпустит, я увижу другой мир, прекрасный и вечный. Или же, в крайнем случае, ванную комнату, в которой оставил стакан с алмазами. Но вместо этого я обнаружил себя в гостиничном коридоре «Интерконтиненталя». Так, словно, рванув на свет, я ошибся дверью. Я оглянулся и пошел назад, к ближайшей. Но это оказался вовсе не мой номер. Дверь была закрыта. На ней красовалась табличка с незнакомыми значками. Они были похожи то ли на китайские иероглифы, то ли на тамильскую вязь. Я постучал в дверь. Но она не открылась. Я прислушался, приложив ухо к полированной поверхности, но не уловил ни единого звука внутри номера. И тогда я двинулся вперед по гостиничному коридору в поисках хотя бы одной открытой двери. Он был пуст. Никакого движения. Я не слышал ничего, кроме своих собственных шагов по ковровой дорожке. Я остановился, чтобы услышать хотя бы отдаленные признаки жизни в этом отеле. Обычно гостиница, даже такая дорогая, как «Интерконтиненталь», полна всевозможных звуков. Постояльцы, защищенные от любых раздражающих факторов качественной звукоизоляцией, не обращают на них внимания. Но если прислушаться, то можно услышать, как рядом приглушенно урчит лифт. А откуда-то снизу доносится ресторанная музыка, смех горничных и шум паркующихся такси.
Ничего этого не было. Коридор был абсолютно тих. Абсолютно.
Я прошелся взад-вперед несколько раз. Двери номеров были закрыты. В конце коридора свернул направо, к лифту. Нажал серебряную кнопку с красной лампочкой внутри. Она сначала загорелась, а потом потухла. Я надавил на нее еще раз. В середине кнопки снова загорелся красный огонек. И снова потух. Меня охватила ярость. Я в припадке бешенства стал бить кулаком по кнопке, но ничего, кроме мерцания красной лампочки, от лифта не добился.
Тогда я вернулся назад. Коридор ничуть не изменился. Но зато я услышал тихий звук. Это был ритмичный писк какого-то знакомого электроприбора, правда, я не мог сразу вспомнить, какого. Такое вот «бип-бип-бип», похожее на сигнал первого советского спутника. Я пошел по коридору, ориентируясь на этот звук и вскоре заметил, что одна из полированных дверей приоткрыта. Именно оттуда и подавал мне сигналы невидимый прибор. Я слегка толкнул дверь и вошел внутрь.
Когда я оказался в номере, я оглянулся вокруг и заметил, что это не номер, а большая больничная палата с белыми стенами. Посреди палаты стояла высокая кровать, опутанная невероятным количеством проводов и трубок. Все они с одной стороны были подключены к человеку, лежавшему на кровати. Его я не мог рассмотреть сразу. Трубки вели к разным приборам жизнеобеспечения. Назначения я их не знал, но для чего они, догадаться было нетрудно. Вот пластиковая капельница с физраствором. Вот аппарат искусственного дыхания с гофрированным, как гармошка, поршнем, который ходит то вниз, то вверх. Вот осциллограф, на экране которого острыми взлетами и падениями бьется линия жизни. Он ритмично пищал, фиксируя пульс человека на кровати. Этот больничный звук я и услышал в коридоре. Рядом с осциллографом сидела пожилая полная женщина в белом халате и высокой шапочке. Позевывая, она листала разноцветный журнал. «Медсестра,» — наконец, догадался я.
Я подошел совсем близко к кровати и взглянул на лицо человека. Это была женщина. Но сразу я не мог рассмотреть черты ее лица. Они, сначала расплывчатые, словно формировались под моим взглядом. И чем дольше я на него смотрел, тем четче они становились. Наконец, я смог узнать женщину. Это была моя мать. Она лежала с закрытыми глазами, а тонкая больничная простыня на ее груди поднималась и опускалась, чуть с запозданием, в такт движения резинового поршня. «Ма,» — позвал я ее тихо. Она не отвечала. Да и не могла ответить. Ее мозг был давно уже отключен, и не было надежды, что он когда-либо снова заработает. Я вгляделся в ее слегка оплывшее лицо и заметил, что трубка аппарата искусственной вентиляции легких вставлена очень неудобно, как-то криво, так, что рот был слегка перекошен. Человеку, находящемуся в полном здравии и сознании, это причиняло бы боль, но мать была в коме. Она ничего не чувствовала. И все же я решил поправить конец трубки. Я попытался вставить ее поудобнее. Ничего не получилось. Моя рука прошла сквозь прибор так, словно он был из воздуха. А, может быть, из воздуха был я сам. Тогда я подошел к медсестре и заглянул через плечо. Она решала кроссворд, застряв на слове номер пятнадцать, охарактеризованным, как «ближайший советник монарха на Ближнем Востоке» из шести букв. Я попытался растормошить ее за плечо, чтобы попросить поправить трубку, но моя рука, точно так же, как и за минуту до этого, прошла сквозь ее тело, словно сквозь облако. «Поправь ей трубку, я же, дрянь, плачу тебе за это!» — крикнул я ей что было сил, но женщина продолжала позевывать и размышлять, так не обнаружив у себя в памяти слово «визирь». Я выскочил из больничной палаты в коридор сквозь раскрытую дверь.
Но это был вовсе не тот коридор, по которому я бродил в поисках своего номера. Вместо ряда светлокоричневых дверей и картин в стиле «африканский модерн», которыми были увешаны стены отеля, я увидел холодный голубоватый пластик, так и сиявший стерильной чистотой. Давным-давно мне случалось заходить сюда. Это была та самая больница в моем родном городе, в которую я несколько лет назад определил свою мать. Вдоль стен выстроились двумя рядами белые двери с матовыми стеклами. Под потолком горела длинная, почти бесконечная, нить ламп дневного света, уходившая вдаль, за конторку дежурной сестры. Там, за невысокой перегородкой, насколько я мог заметить, никого не было. Мне как-то моментально стало ясно, что наступила глубокая ночь, и сестра вполне могла задремать. Или отлучиться ненадолго. Я пошел по коридору по направлению к посту ночной дежурной. Двери больничных были закрыты. Кроме той, из которой я только что вышел. Я оглянулся на нее, потом снова посмотрел вперед. Кажется, еще одна дверь скрипнула. Совсем возле конторки ночной сестры. Меня взяло любопытство. А что, если там, внутри, я увижу нечто важное для себя? И, может быть, тот, кто находится внутри этой приоткрытой палаты услышит меня и передаст сиделке, чтобы та поправила поудобнее трубку аппарата искусственного дыхания, к которому была подключена мать? Попробую, решил я, и заглянул за дверь.
Но там я увидел совсем не больничную койку, а роскошную гостиничную кровать, за которой виднелся гигантский экран телевизора. А перед кроватью стоял стеклянный столик для журналов. Вместо журналов на столике лежала россыпь белого, похожего на стиральный, порошка, в который упиралась голова полноватого мужчины. Его небритое лицо было чуть повернуто ко мне. Нос, весь в белой легкой пудре, комично изогнут под тяжестью головы. Плечи мужчины нависали над столиком, а задница находилась на кровати. Мостом соединяя эти противоположные части тела, безвольно горбилась спина. Человек очень напоминал пьяного симпатичного повара, месившего тесто и заснувшего прямо в своем мучном месиве. Вокруг симпатяги суетились трое. Две черные девушки и белый мужчина. Все они были полуголые, но нагота африканок смотрелась естественно, а голый торс белого выглядел безобразно. Белый тормошил повара за плечи и, шатаясь, поливал водой, которую суетливо подносили африканки.
И тут я понял, что пьяный симпатяга это я сам, а полуголый белый это журналист и мой друг Сергей Журавлев, который пытается вернуть меня к жизни. Он обнимал меня за плечи и кричал скороговоркой: «Андрейиванычиванычандрейочнись!» Мне даже показалось, что Сергей всхлипывал, то ли от непроизвольных слез, то ли от алкоголя с кокаином. Я глядел на Сергея и вспомнил те слова, которые произнес команданте Раудь де Сильва, сидя вот на том самом месте, где теперь сидит реальный Андрей Шут, то есть я.
«Он возле Вас, так близко, как никто другой из ныне живущих.»
«Ныне живущих.»
«Как никто другой.»
«Он возле Вас, так близко.»
«Возле Вас.»
«Он.»
Он! И вдруг меня пронзило догадкой, как молнией. Все у меня в сознании сложилось в предельно ясную картину. Я вспомнил, как Сергей умчался в лес искать сбитый «борт» и вернулся оттуда с обрывком колумбийского паспорта. Почему этот парень дразнил меня этим паспортом? Ну, конечно! Потому что пытался вывести из равновесия. Ему нужны были доказательства моих связей с колумбийцами. Я вспомнил его навязчивую попытку получить от меня интервью. То, что он уступил мне Маргарет, сделало нас друзьями. И это неспроста. Я доверял ему почти бесконечно. Из-за меня он оказался под арестом. Но так ли это было на самом деле? Он отказался лететь на самолете Плиева и предпочел остаться в гнилостной стране. Потому что хотел сделать репортаж? Нет, потому что там оставался и я. Он отдал все до единой свои кассеты этому черному по фамилии Мангу. Не кассеты ему были нужны, а я. И телефон. Тот номер на спутниковом аппарате либерийца. С американским кодом и голосом в динамике. Помню ли я, что сказал тот голос? Конечно, помню. Он просил больше ему не звонить с одного и того же телефона. Я нужен был ему и его хозяевам живым. Иначе они давно бы меня прихлопнули. Или вот сейчас. Он тормошит меня, пытается вернуть к жизни пойманного зверя. Ах, ты, распоследняя продажная сволочь!
Вот о чем я подумал, когда бросился к Сергею. Но как только я оказался на середине комнаты, голубой свет неожиданно стал ослепительно белым и больно ударил мне в глаза.
Когда я снова обрел способность видеть, то рассмотрел над собой озабоченное лицо Сергея, все в белых мучных пятнах от рассыпанного на столе кокаина. Он набрал в рот воды и резко, фыркая, выплюнул ее мне на лицо. А в следующее мгновение я нанес ему удар в челюсть. Несильно, но точно.
Сергей упал прямо возле столика. Девицы радостно завизжали и бросились меня обнимать. Журавлев быстро поднялся на ноги, недоуменно улыбаясь и потирая челюсть. Он был, скорее, рад, чем расстроен. Ну, конечно, добыча жива, заработок обеспечен. Несущественные телесные повреждения не в счет. Счастливый финал окупает любые издержки. Но он не знает, что я не собираюсь сдаваться.
Я трудная дичь, и я ему не по зубам. Это не Рауль мне раскрыл правду, это я сам обо всем догадался, пройдя сквозь причудливые фантасмагории, которые только что выстроило мое сознание. Я, наконец, понял, где друг, а где враг. Когда знаешь, где твой враг, победа почти обеспечена.
Я поднялся на ноги. Они были словно ватные и еле держали мое грузное тело. Рискуя потерять равновесие, я размахнулся и еще раз выкинул кулак в сторону Сергея. Журавлев успел заметить движение и, чуть отклонившись, позволил кулаку пролететь мимо своего лица.
— Да ты что, Андрей Иваныч! — удивился журналист.
— Он под кайфом, под кайфом! — засмеялась одна из черных красавиц.
Но Журавлев так не считал. Он посмотрел мне в глаза и увидел там ясность мысли и намерений. Он понял, о чем я думаю. А я понял, что он понял меня.
Выражение его лица внезапно стало жестким. Зрачки чуть сузились. А кисти сжались в кулаки, защищая подбородок.
И тут дверь моего номера внезапно слетела с петель от мощного удара. В комнату влетела уйма народу. Человек десять, не меньше. С оружием наперевес, все они, как один, были одеты в одинаковые черные костюмы. Только придурок может носить в Африке черный костюм. Или полицейский. Эти действовали обдуманно и четко. Значит, придурками они не были. Один из них легким движением повалил меня на пол, другой, грубо заехав ногой по лодыжкам, заставил пошире развести ноги.
— Лицом вниз! — услышал я крик на французском, но не заметил, мне ли он адресован или кому-то другому. Я и так лежал, уткнувшись носом в ковер.
Щелкал фотоаппарат, мигая вспышкой. «Сними это!» — слышал я. — «И еще вот это». Вспышка послушно выполняла команды. Девицы, всхлипывая, торопливо давали объяснения на смеси французского и незнакомого мне местного наречия. Вперемежку с девичьим бормотанием заискивающе шуршали одежды. Застучали каблуки наспех одетых туфель. В общем, это был полицейский рейд, но явно сделанный по наводке. Они знали, кого берут, а, значит, шансов откупиться на месте не было. Горка кокаина на столе тянула на несколько лет несвободы, даже по законам этой относительно свободной страны. Но дело было не в кокаине. Я это чувствовал. И понимал, что за спинами этих людей в черном громоздятся более могущественные фигуры. Мне показалось странным только то, что в этой какофонии звуков я не слышу голос Журавлева. Ведь если все это происходит по наводке, то навести мог только он. Он сдал пойманную дичину и теперь может расслабиться.
Вдруг я услышал треск бьющегося стекла и почувствовал, как на меня свалилось тело весом около центнера.
— Беги, Иваныч! — закричал Журавлев, и я, не раздумывая вскочил на ноги. Полуголый Журавлев стоял над телом в черном костюме. В его руках были ножки от журнального столика. Стеклянная столешница превратилась в осколки. Она лежала вокруг поверженного полицейского в черном костюме. Еще взмах. Еще удар. Еще один черный костюм свалился на ковер.
— Беги, Иваныч! — истошно взвыл Сергей. Передо мной была открытая дверь. Полицейские набросились на Сергея, забыв на мгновение обо мне. Больше повторять приглашение не было нужды. Я метнулся в коридор и ринулся по направлению к лифту. Картины и двери с ускорением замелькали слева и справа.
Поступок Сергея абсолютно не увязывался с моими выводами об этом человеке. Но на раздумья о Журавлеве не было времени. Нужно было, выжав из себя все силы, добежать до лифта.
Мне мог бы позавидовать Карл Льюис. Преодолев длинный коридор за считанные секунды, я почти мгновенно оказался возле хромированных створок лифта. Результат моего спринта был поистине олимпийским, но оценить его по достоинству мог только я сам и, пожалуй, преследователи в черных костюмах, замешкавшиеся в дверях гостиничного номера. Я услышал топот их ног как раз тогда, когда нажимал кнопку вызова. Она мигнула красным цветом и погасла. Совсем, как в моем кокаиновом сне. Я еще раз нажал на кнопку и внезапно услышал хлопок. Как-будто школьный учитель ударил пластиковой линейкой по парте нерадивого ученика. Так стреляет пистолет, но не боевой, а мелкокалиберный, спортивный. Я не стал дожидаться, пока приедет лифт, и выбежал на лестничную площадку. Дверь с пневматическим механизмом плавно закрылась за мной. Но перед тем, как щелкнула собачка замка, я уловил двойной женский крик. Это истошно закричали девушки в номере, где за несколько минут до этого в разгаре было неистовое веселье с запахом секса и кокаина.
Я скатился вниз по лестнице, даже не обращая внимания на то, слышны ли за моей спиной звуки погони. Не было у меня сил на то, чтобы прислушиваться к посторонним звукам. Нужно как можно быстрее выбраться из отеля, а дальше сам собой появится план действий. Пролетев одиннадцать этажей, я толкнул плечом дверь и оказался в просторном холле. Мягкая подсветка над администратором гостиницы должна была заранее настраивать клиентов на спокойный и благодушный лад. Администратор, вежливый немолодой мужчина в форменном малиновом смокинге, профессионально улыбнулся, отреагировав на мое внезапное появление. Заметив, что я тороплюсь и не проявляю к нему интерес, он тут же опустил голову и принялся щелкать пальцем по клавиатуре компьютера. Я пулей вылетел из холла на улицу и метнулся к стоянке такси.
Машины, как всегда, находились в состоянии полной боевой готовности. Когда я запрыгнул в первую, водитель уже заводил двигатель. «Кажется, повезло,» — подумал я, посмотрев на него. Это был все тот же лысый парень с серьгой в ухе, который успел повозить меня туда-обратно по Абиджану. Город он знал неплохо, и у меня появились шансы на спасение.
— Куда, мсье, на этот раз? — серьга, приветливо покачиваясь, желтовато поблескивала отражением света гостиничной вывески.
— Давай в Трешвилль! — скомандовал я и, подумав, осекся. — Или нет. Поедем в квартал иммигрантов, а там посмотрим. Только очень быстро.
— D'accord, ладно, — улыбнулся парень, и такси рвануло с места так, будто водитель собирался выиграть Гран-При Монако и никак не меньше.
Светящаяся башня отеля быстро растаяла позади нас. Мы снова выехали на набережную, а потом на мост через лагуну. Я открыл окно. В салон ворвался сильный запах моря. Он одновременно пьянил, успокаивал, и обещал скорую свободу. Но, главное, он помогал проветрить нетрезвые мозги от того дурмана, которым я травил себя, пытаясь навсегда сбежать от реальности.
ГЛАВА 47 — АВГУСТ 2003. ИЗ АФРИКИ
Я всегда мечтал полетать за штурвалом «Геркулеса».
У каждого человека есть сокровенная детская мечта, которая, как правило, остается неосуществленной даже в солидном возрасте. И большого значения не имеет, остался ли мечтатель неудачником или же, наоборот, достиг небывалых успехов. И в том, и в другом случае, мечта остается мечтой. Например, увидев на картинке, ну, предположим, роскошный экземпляр «Бугатти-Руайяль», юный автолюбитель загорается желанием проехаться за рулем этого чуда французского автопрома. Проходит время, юный автолюбитель вырастает и делает успехи. Он становится известным и богатым человеком, перепробовавшим десятки машин. Он в состоянии купить за деньги любую, но так уж случается, что в мире всего несколько единиц «Бугатти-Руайяль». Не стоять же солидному человеку в очереди, чтобы прокатиться на музейном экспонате. Он разумом понимает, что любая машина это всего лишь машина. А мечта, засевшая в нем, не умолкает и все сулит ему чудо необыкновенное, невероятное.
Я думал, что, попросившись полетать на «Геркулесе», буду выглядеть глупо и несолидно. Но теперь вот и просить не пришлось. Вежливые, но настойчивые, парни с квадратными плечами аккуратно взяли меня под локти и завели внутрь самолета через откинутую рампу. Я заглянул внутрь и не увидел ничего особенного. Обычный воздушный грузовик, размером не больше нашего Ан-12. И уж наверняка меньше моего любимого и непревзойденного Ил-76. Впрочем, в любом самолете есть свои положительные отличия. Этот, например, мог взлететь с любой грунтовой полосы. И, кроме всего прочего, с него гораздо удобнее было десантировать грузы и людей. Готовясь к операции в небе Колумбии, мне пришлось заказывать не только платформы для сброса, но и многое другое, что, как я успел заметить, и без того имелось на борту «Геркулеса». В общем, мне пришлось изобретать велосипед, который до меня уже вовсю клепали. Конечно, в Америке.
Правда, на место пилота мне никто не предложил сесть. Для меня было приготовлено откидное сиденье посреди грузового отсека. Мне показали жестом, куда я могу сесть, и, как только уместился на сиденье, квадратные ребята невозмутимо пристегнули обе мои ноги широкими ремнями. Кожа крепко затянулась на оранжевой ткани комбинезона. Потом точно так же мне зафиксировали руки и торс, любезно расправив складки комбинезона на животе и на спине. Впереди у меня было часов десять полета.
Конечно, уйти от погони у меня не было шансов. Они учли все. Включая таксистов. Здесь доносительство было поставлено на очень высокий уровень. Водитель такси сообщил диспетчеру условным сигналом, что добыча у него. А через десять минут нас остановили на блок-посту, якобы для проверки документов. Водитель протянул полицейскому права, и в этот момент меня схватили, скрутили и выволокли из машины.
Дознание было коротким. Меня обвиняли в контрабанде алмазов и торговле наркотиками. С алмазами я еще мог согласиться, а вот на почве наркотиков у меня имелись серьезные разногласия со следователями. Они никак не могли поверить в то, что горка кокаина, лежавшая на журнальном столике у меня в номере, не предназначена для продажи. «Это все Вам?!» — удивился чернокожий следователь, когда я ему попытался объяснить, в чем же было дело.
Прошло всего несколько дней с начала следствия, когда состоялась экстрадиция. Меня, по запросу из-за океана, передали американцам. Они называли меня «большой удачей» и показывали корреспондентам фотографии, на которых я бродил по военному лагерю ФАРК в Колумбии. Значит, у них были среди партизан свои люди. Возможно, они не были подпущены к де Сильве и Маруланде, но свое дело эти ребята знали. Они сумели насобирать достаточно материала, чтобы обвинить меня в содействии террористам и в незаконных поставках вооружения, которое могло быть направлено против американских граждан.
Передо мной отчетливо замаячила перспектива оказаться в комнате с пуленепробиваемым стеклом, за которым группа специально приглашенных зрителей наблюдает, как человек в униформе деловито присоединяет визитеру три капельницы, из которых в организм поступает снотворное и два сильнодействующих яда. А если по какой-либо причине меня оставят в живых, я могу лишь надеяться на долгую спокойную жизнь за решеткой, конец которой может вполне затеряться среди апелляций, повторных судебных заседаний и встречных исков. Во всяком случае, я понимал, что поймавшие меня люди не намерены меня отпускать.
Когда я был намертво пристегнут к своему креслу, ко мне подошел незнакомый человек. Это был белый, лет тридцати, в хорошей физической форме, которую, правда, слегка портил чуть наметившийся живот. Белый наклонился к моему уху и спросил негромко:
— Где контейнер?
Конечно, я понимал, о каком контейнере идет речь. Я вспомнил выражение лица Санкары, когда перевел ему значение выражения «Idite v zhopu», и не удержался от улыбки.
— Какого хера ты улыбаешься, сволочь! — прошипел белый.
— Да, так, — говорю, — представляю, как у тебя вытянется лицо, когда ты услышишь мой ответ.
Белый понял, что я над ним издеваюсь, выпрямился и направился в кабину пилота. Через полчаса мы были уже на высоте десять тысяч метров.
Григорий Петрович Кожух был арестован в Дубае, в тот же день, что и я, только на несколько часов раньше. Его девушка из Судана не умела говорить. Зато выяснилось, что она достаточно хорошо читала. И писала. Эти знания ей пригодились для того, чтобы тщательно фиксировать все, что было на бумажках, разбросанных на его рабочем столе. Свою работу она делала по ночам, регулярно не досыпая. Но избыток ее усталости был, в конце концов, хорошо оплачен полицией. Девушка нуждалась в деньгах, поскольку была единственной кормилицей своей большой семьи.
Сам Григорий Петрович не дотянул даже до первого допроса. Его сердце внезапно остановилось, когда он заметил, что в комнате дознавателя присутствует стенографистка. Я подумал было, что Петровичу помогли расстаться с жизнью, но потом понял, что это не так. Старик слишком разнервничался. Он очень боялся, что вся эта история станет известна его жене, особенно щекотливый эпизод с молоденькой девушкой-уборщицей. Его не тюрьма пугала, а огласка.
Плиев... Был ли Плиев в курсе всех тех хитроумных схем, с помощью которых меня, как бильярдный шар, загоняли в лузу? Не знаю. Установить это теперь уже невозможно, несмотря на могущество тех, кто играет на этом бильярде. Казбек был под фрахтом. Из Африки он летел в Индию, с одной посадкой на дозаправку в Эмиратах. Его ждали в Шардже, но безуспешно. Плиевский «Ил» рухнул в Киншасе прямо на местный рынок. Сразу же после взлета. Что послужило тому причиной, установить не удалось. Да, собственно, никто в этом и не хотел разбираться. Во всяком случае, зная Казбека, я сомневаюсь, что всему виной человеческий фактор.
О Журавлеве я больше ничего не слышал. Но почему-то я думаю, тот выстрел, звук которого я уловил в гостинице, предназначался ему. Так обычно убирают тех, кто слишком много знает. Залог безопасности любого журналиста это его публичность. Не носи в себе чужие тайны, и будешь жив. Сергей — так мне думалось, пока я сидел в брюхе «Геркулеса», — решил подработать. Освоить еще одну профессию. Но она давала доступ к тайнам, которые кто-то постарался скрыть с помощью нажатия курка. Одно не укладывалось в это предельно ясное объяснение. Сергей несколько раз спас мне жизнь. И даже больше. Он попытался подарить мне свободу, даже не думая о том, что вскоре произойдет с ним самим. Выходит, несмотря на свою работу, он был моим настоящим другом. Единственным настоящим другом.
Меня высадили на одном из островов в Карибском море. Я это понял по влажному воздуху и неповторимому, ни с чем не сравнимому запаху водорослей, который доносился с берега до моей тюрьмы. Она была небольшой, всего на пару сотен заключенных. К тому же, камер, в понятном для обывателя виде, здесь не было. Только клетки, со всех сторон открытые солнцу и ветрам. Сидя в своей клетке, я чувствовал себя оранжевым попугаем, забытым хозяйкой на окне. Сходство с говорящей птицей усиливало и то, что целую неделю, по несколько часов в день, мне задавали один и тот же вопрос:
— Где контейнер?
Я про себя решил, что как только назову координаты, то сразу же перестану быть интересным моим визави, и меня тут же скормят прожорливым карибским рыбам. Становиться рыбьим кормом я не хотел. Поэтому только слушал и молчал. Через неделю дознаватели сломались. На их месте я бы просто избил в кровь столь строптивого заключенного. Или поджарил на электрогриле. Но мои, если можно так сказать, собеседники почему-то не решались меня бить. Хотя зеков из соседних камер-клеток частенько уводили на допросы, после которых они возвращались с синяками и следами крови.
После семи дней в этой странной тюрьме я отупел, но не утратил волю к сопротивлению. Перед тем, как снова посадить меня в самолет, мне выдали новую робу, синего цвета, и сказали «Гет йор эсс аут оф хир!». Мол, убирайся. Сам я убраться не мог, поскольку и на ногах и на руках у меня были надеты весьма неудобные блестящие цепи. Вместе с ними меня подняли на борт самолета — это, кажется, снова был «Геркулес», — и довезли до материка.
На материке климат помягче. Впрочем, какое мне дело до погоды, если на улице я бываю всего один раз в день, в одно и то же время, с четырнадцати до пятнадцати, да и то выводят меня на прогулку в небольшой квадратный дворик, сплошь огороженный бетоном. Надо мной голубое небо, расчерченное на квадраты стальными прутьями, и всякий раз, когда я поднимаю голову вверх, то слышу грубый окрик. Тогда я снова опускаю взгляд и внимательно рассматриваю серый бетон в поисках новых, еще не изученных мной, неровностей.
ГЛАВА 48 — МАЙ 2007. «ПОЛОНСКИ».
Я постарался забыть координаты точки сброса. И у меня это поначалу получилось. Но тут со мной произошло удивительное событие.
В мою камеру зашел человек в форме и предложил следовать за ним. Мне надели на ноги цепь и завели руки за спину. Я вышел в гулкий коридор и зашагал, гремя цепью, по дырчатому полу стальной галереи, протянувшейся вдоль одиночных камер по периметру всего здания. Мне показалось, что сейчас снова будет допрос. Правда, раньше меня всегда допрашивали в камере, но что это меняет, если у них, у дознавателей, поменялись правила? Мы дошли до металлической лестницы с перилами. Охранник скомандовал спускаться вниз. Я, не торопясь, пошел туда, куда вели гулкие ступеньки.
Вскоре дошли до первого этажа. Надзиратель приказал остановиться и приложил карточку к замку на двери. Электронное устройство щелкнуло. Дверь открылась. Я зашел внутрь и оказался в комнате, в которой из мебели имелся только высокий стул. Мне сразу стало ясно, что стул наглухо привинчен к полу. Он стоял довольно близко от перегородки, нижняя часть которой была металлической, покрашенной в серый цвет. А верхняя прозрачная, из очень толстого стекла. Все это напоминало рабочее место продавца билетов в кассе, только, разве что, в прозрачной перегородке не было окошка для билетов. Телефонная трубка, висевшая тут же, делала сходство с билетной кассой немного комичным. Мне сняли наручники и позволили сесть на стул. «Что дальше?» — спросил я. «Ждите,» — довольно флегматично ответил надзиратель. Он остался со мной в комнате. Я стал ждать.
За стеклом стены были выкрашены в тот же цвет, что и на моей стороне. Вращающийся стул ничем не отличался от моего сидения и тоже был наглухо привинчен к полу. Пол с той стороны был так же истерт тысячами башмаков, как и с этой. А еще и черная телефонная трубка. Такая же точно, как и моя, которую от нечего делать я снял и принялся внимательно осматривать. Она была липкой от многих касаний заключенных и, кажется, слегка теплой, как будто на моем месте только что сидел другой человек, и за минуту до моего прихода он закончил разговор с посетителем. Да, с той стороны висела такая же трубка. Все там было так же, как и здесь. Казалось, посади туда другого меня, и перед мной будет зеркальное отображение моей реальности. И все же, по неуловимым признакам, я заметил, что там, на той стороне, совсем другая жизнь. Может быть, потому, что за моей спиной стоял охранник, а там его не было. А, возможно, мне просто захотелось прорваться сквозь барьер и хотя бы одним глазком посмотреть, а какая она сейчас, свобода? Впрочем, вызов в комнату свиданий только усложняет жизнь в тюрьме. Ты привыкаешь к жизни под замком, а визитер мешает тебе выработать правильную привычку. Но, поскольку посетители ходили ко мне нечасто, а, вернее, никогда, я согласился провести один час перед пуленепробиваемым стеклом.
Когда я увидел человека на той стороне, мне захотелось во что бы то ни стало пробить это стекло. Но это чувство накатило после. А сначала я онемел и оцепенел. Я не верил своим глазам. Да и как мне было поверить, когда на казенном стуле перед собой я увидел того, кого считал погибшим за тысячи километров отсюда.
Вернее, погибшей. Напротив меня, улыбаясь, сидела потрясающей красоты девушка с жемчужными зубами. Она была в белой блузке, и кружевная ткань была натянута на груди так сильно, что, казалось, нежная плоть, срывая пуговицы, готовится вырваться на свободу. Улыбка была робкая и слегка растерянная, к такой очень пошли бы слегка зардевшиеся щеки. Но шоколадная, почти черная, кожа девушки не умела краснеть. Это была Маргарет.
Она приложила трубку к уху и знаками попросила меня сделать то же самое. Я вышел из оцепенения и взял в руку черный исцарапанный пластик.
— Здравствуй, Андрей, — сказала трубка голосом Мики, чуть с запозданием: когда полные губы с той стороны стекла сомкнулись, голос в динамике все еще был слышен. Мне кажется, сигнал проходил через какую-то контрольную аппаратуру и прослушивался специально обученными людьми.
«Он возле Вас, так близко, как никто другой из ныне живущих.»
А, может быть, тогда, в Абиджане, Рауль сказал не «он», а «она»? Тени прошлого часто говорят невнятно.
— Здравствуй, — сказал я. — Как мне тебя называть?
В тюрьме иначе читаешь газеты. На воле ты выхватываешь в печатных текстах самое главное, чтобы не засорять голову лишней информацией. В камере ты читаешь все, что тебе разрешают, до последней строчки. До последней буквы, часто непроизвольно запоминая тексты наизусть. Даже если это бессмысленные объявления, рекламы или напечатанные мелким шрифтом извинения редакции за неточности в статьях. Газеты это связь с реальностью по ту сторону пуленепробиваемого стекла.
В «Нью-Йорк таймс» я прочел небольшое объявление: «Нью-йоркская ассоциация либерийцев Мандинго собирает добровольные взносы для миссионерской школы и госпиталя в городе Ганта.» Сначала я ухватился за слово «либерийцы». Потом сознание переключилось на название города. Именно в Ганте я последний раз виделся с Казбеком Плиевым, когда вместе с отрядом малолетних боевиков выкладывал для него взлетно-посадочную полосу из стальных листов. Я вспоминал Ганту и все наши злоключения в тылу у рэбелов и вдруг обратил внимание на вебсайт этой ассоциации. После трех одинаковых букв, означавших всего лишь мировую паутину, я прочел до боли знакомое слово. Limany.com было написано под объявлением. Лимани. Для меня это слово звучало, как рокот винта вертолета и вой ракеты, устремленной в разноцветный борт. На самом же деле, все было иначе. Li-berian Ma-ndingos of «N-ew Y-ork». Не больше и не меньше. Совпадений быть не могло. Фамилия Маргарет была списана с названия веб-сайта. Она ведь и сама Мандинго. А имя?
— Вот как. Уже знаешь? — спокойно удивилась она.
— Просто читаю газеты, — улыбнулся я.
Она разглядывала меня через толстое стекло так, словно ощупывала взглядом в поисках новых морщин. Овал лица тот же, ну, разве что похудел. Мешки под глазами меньше не стали, но, в целом, не мешают приятному впечатлению. Что-то изменилось, наверняка думала Маргарет. И не сразу сообразила. Эндрю сбрил усы.
— Ну, ладно, Энди, зови меня, как раньше. Мики. Звучит задорно, не правда ли?
Я кивнул головой в знак согласия.
— Не хочешь узнать, зачем я пришла?
Я шевельнул плечами. Если захочет, то скажет сама.
— Я не могу жить во лжи. Моя работа... — она вздохнула, замолчав, и тут же продолжила. — Для меня придумали очень убедительную историю жизни, в которую я и сама сумела поверить. Иначе было невозможно. Но теперь работа закончилась. Я выхожу в отставку, начинаю новую жизнь. И хочу, чтобы все было с чистого листа. С чистого, понимаешь, а не в пятнах?
— По-твоему, я это пятно? — с плохо скрытым сарказмом спросил я.
— Если ты и был пятном, то самым светлым в моей жизни, Эндрю, — серьезно сказала она.
— Как ты выжила? — вырвалось у меня. — Ты же была в том вертолете!
— А, «Бриджстоун», — словно вспомнила она. — Нет, меня там не было. Мой босс попросил меня остаться.
— Твой босс? Тайлер?
Мики засмеялась, но не издевательски, а, скорее, успокаивающе. «Ну, что же ты у меня такой глупыш?» — сквозил в ее смехе риторический вопрос.
Вскоре я знал все, — или почти все, — что хотел узнать. Мики уже давно работала в Управлении. С тех самых пор, как ей предложили стать подругой Тайлера. О лучшем информаторе здесь, в Штатах, и не могли мечтать. Меня ей поручили в разработку случайно. Другого, более достойного, чем Маргарет, сотрудника в Либерии у могущественной конторы просто не оказалось. Обширное досье на меня имелось в архивах целых двух упрямых организаций. Одна это ATF, бюро по контролю торговли алкоголем, табаком и стрелковым оружием. А другая это управление по борьбе с наркотиками, сокращенно, DEA. Так уж вышло, что интересы обеих сошлись на мне. Ну, а Центральное управление разведки состряпало из этих двух досье дело о террористической деятельности, которую я вел против Соединенных Штатов. Конечно, в терроризме меня решили обвинить уже после того, как я сбросил в Тихий океан три контейнера с бомбами. Которые они же, эти сверхмудрые Джеймсы Бонды, мне подсунули, чтобы начать войну в Ираке. А заодно и развязать себе руки в Колумбии. Отличный, согласитесь, повод: Хусейн отправляет партизанам химические бомбы! Эх, правильно я рассуждал тогда в небе над Колумбией. По-другому и быть не могло. Единственное, чего я тогда не знал, — да и не мог знать, — это то, что везу абсолютно весь скудный запас иракского оружия массового поражения. Полностью. Но в Ираке эти парни начали свою войну и без него.
— Колумбийцы сами не знали, чего хотели. То ли убить тебя, то ли получить назад свои деньги. Ты же знаешь, они сильно на тебя потратились, — засмеялась Маргарет. Похоже, она была в курсе моего латиноамериканского контракта на три миллиона.
Но ничего смешного я в этом не видел. Маргарет сама напросилась к колумбийцам. Им нужен был хотя бы один влиятельный и не слишком заметный человек в Либерии. Им она пообещала найти меня. И нашла. Славная арифметика получается: ее услуги оплачивали колумбийские партизаны, а главный приз, то есть я, достался американцам. Думаю, большие люди в Управления выдали ей двойную премию. Такой работник, как Мики, просто на вес золота. И задание выполнила, и бюджетные деньги сэкономила.
Я, Андрей Шут, нужен был им только для того, чтобы найти ящики. Об этом мне сообщила голосом Мики телефонная трубка. Об остальном она так и не сказала, но я и сам давно догадывался. Как только я назову координаты точки сброса, они меня спишут со счетов. Пошлют свои подлодки, достанут контейнеры. А меня отправят в расход. И не спасет меня тогда ни это пуленепробиваемое стекло, ни выучка здоровенного охранника, который сейчас стоит за спиной. Впрочем, может, ему-то как раз и поручат деликатное дело.
— А Журавлев? — поинтересовался я, прервав ее рассказ.
— Сергей, — грустно произнесла она. — Жалко его. Правда, жалко.
Значит, тот звук в «Интерконтинентале» и впрямь был пистолетным выстрелом.
— Мы хотели, чтобы ты занервничал. И начал совершать ошибки. Поэтому мы подсунули ему обложку колумбийского паспорта. Я подсунула. И подсказала ему варианты, как лучше спровоцировать тебя.
— Когда это было?
— В тот день, когда вы вдвоем оказались у меня.
— В тот самый день?
— В тот самый день. После того, как ты ушел от меня.
Помнится, это было тогда, когда мне предложили сдать Тайлера. За алмазы. И тут я догадался, или, пожалуй, не догадался, а просто сдуру брякнул. И попал в десятку.
— Ты с ним переспала.
Она нисколько не растерялась.
— Да. А как еще я могла убедить его?
В ее вопросе почти не было раздражения. Она и в самом деле хотела быть уверенной в том, что выбрала единственно правильное решение. Мы молча глядели друг другу в глаза. Она первая не выдержала и отвела взгляд.
— Он репортер до мозга костей. Такого, как он, можно держать только за яйца, — призналась Мики. Я хотел спросить ее, почему подобным образом можно управлять только репортерами, но спросил ее совсем о другом.
— Ты приказала ему вернуть паспорт?
— Да, но ты не отдал. И мой босс, куратор, потребовал, чтобы я воздержалась от встреч с Сергеем в твоем присутствии.
Она достала из сумочки кусочек красного дермантина. У меня его забрали в Абиджане, когда обыскивали мой номер в гостинице. Обрывок обложки колумбийского паспорта был сделан в Штатах. Теперь я ни минуты не сомневался в этом. Кто его знает, а, может быть, и сам Рауль де Сильва, могущественный партизанский банкир, был их агентом? Только об этом мне уже не узнать. Ну, разве что, накатить йагге с кокаином и расспросить самого Рауля в том мире, где он существует в своей последней реальности. Впрочем, здесь, в тюрьме «Полонски» с максимальным уровнем безопасности, это было исключено.
— Сюрприз, — улыбнулась Мики, помахав обрывком паспорта. — Хочешь, оставлю? На память?
— Ты мне уже оставила, — хмуро напомнил я ей о подарке.
Она удивленно подняла брови. Я запустил руку за пазуху и достал оттуда кулон с многорукой Лакшми. Мики чуть качнула головой.
— Это кулон моей мамы.
— А папа, надо полагать, это персонаж индийского фольклора?! Как там его? Раджив, э-э-э, Ли-ма-ни? — и опять я сорвался на сарказм.
— Не совсем, но, в целом, ты...
— «Но, в целом, ты прав, Эндрю»?
— Да, ты прав, Эндрю.
Маргарет встала, чуть расправив плечи и прогнувшись в пояснице, затекшей от сидения на неудобном стуле. Она, кажется, сегодня одела блузку, похожую на ту, которая была на ней на второй день нашего знакомства. И первый день нашей любви.
— Я оставлю это охране. Тебе обязательно передадут.
Она развернулась и направилась к двери. Ее трубка уже висела на рычаге, когда я постучал в стекло. Охранник за спиной было рванулся ко мне, но я ему кивнул, — мол, порядок, босс, не волнуйся, — и он вернулся на свое место. А, может, его остановил уверенный и хозяйский взгляд Маргарет.
— Скажи, Мики, — задышал я в трубку, подбирая нужные слова. — А ребенок? Я хочу спросить о том, о чем ты мне тогда говорила. На вилле, и потом, на корабле.
Нужные слова никак не хотели подбираться. Ладонь стала влажной. Трубка едва не выскользнула из руки.
— Что, Андрей, ты еще хочешь знать?
— Правда? — почти безнадежно шептал я, едва сдерживая клокотание слез в горле. — Это правда?
Она подошла к стеклу и прислонилась к нему лбом. Кончик ее носа смешно сплющился. Она, понимая, что выглядит забавно, улыбнулась. Улыбка была адресована не мне, а той части меня, которая сейчас для нее важнее всего на свете. И для меня то существо, которому она улыбалась, внезапно стало важнее, чем я сам. И мне стало необыкновенно хорошо просто оттого, что это существо есть, пусть оно не знает меня, и никогда не узнает. Но я знаю, что оно это моя плоть, поэтому я счастлив.
— Правда, — услышал я в трубке ее голос. Сейчас он звучал так же тихо, как и на корабле, в ночь перед моим отплытием. От звуков ее голоса я почувствовал, словно фантомную боль, тепло ее ладоней на своем теле. На плечах и на груди. Теплые прикосновения сбежали к животу, и даже еще ниже, а потом превратились в комок слез и подкатили к самому горлу. Я был счастлив.
— Кто? — спросил я ее. Трубка повисла в моей руке. Мики, с той стороны, могла только по губам прочитать мой вопрос. Она опустила руку. Теперь стекло больше не мешало нам чувствовать друг друга.
Она произнесла одно лишь слово. Короткое и нежное. Главное слово в ее жизни. И в моей. Я прижался лицом к поверхности стекла, так, словно надеялся растопить его пуленепробиваемость жаром своих слез. Она коснулась губами стекла, словно поцеловала меня в губы и, достав из сумочки гильзу с губной помадой, быстро написала на прозрачной перегородке «uoY эvol I». Буква Y была написана, как заглавная. Совсем не по-английски.
Мики поставила в конце три восклицательных знака и выбежала прочь. Но для меня фраза-перевертыш начиналась именно с них. С моей стороны вообще все выглядело иначе.
«Ну, теперь, кажется, все, Андрей?» — спрашиваю я себя. Я и раньше ничего в жизни не боялся. Точнее, почти ничего, если быть честным. Почему? Да, наверное, потому, что не знал, ради чего я живу на свете. Ради чего мы все живем и барахтаемся в этой жизни. И я считал, что буду молодым и живучим до тех пор, пока меня будет вперед толкать любопытство. То есть, очень долго, практически, вечно. Вечность закончилась. Но тогда скажите, если сможете: что остается человеку, который давно изучил все неровности и царапины на крашеном бетоне тюремной стены? Только одно. Рассказать, где лежат иракские контейнеры.