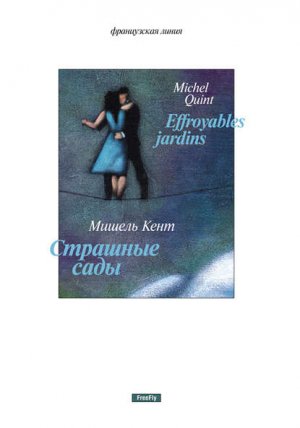
Страшные сады
Памяти моего дедушки Лепретра,
ветерана Верденского сражения, шахтера,
и моего отца, участника движения
Сопротивления, учителя,
которые распахнули для меня настежь
память об ужасах войны
и, однако, заставили учить немецкий язык,
ибо прекрасно понимали, что манихейство
в истории — это глупость.
А также памяти Бернарда Викки.
И как трогательны гранаты
В наших страшных садах[1].
Каллиграммы, Гийом Аполлинер
По свидетельствам некоторых очевидцев, в один из последних дней процесса над Морисом Папоном полиция не пропустила в зал заседаний дворца правосудия г. Бордо какого-то рыжего клоуна, дурно загримированного, в оборванном сценическом костюме. Говорят, клоун в тот день дождался, когда выведут обвиняемого, и просто смотрел на него издали, не подошел ближе, не пытался заговорить. Бывший генеральный секретарь префектуры Жиронды, возможно, его заметил, но с уверенностью этого утверждать нельзя. Впоследствии мужчина регулярно возвращался, уже без клоунского наряда, дабы присутствовать в конце слушаний и на выступлении защиты. Каждый раз он клал на колени маленький чемоданчик и поглаживал его расцарапанную кожу. Один судебный пристав припомнил, что слышал, как после оглашения приговора мужчина сказал:
— Без правды ведь и надежды не было бы?..
А без памяти? Законы Виши: от 17 июля 1940 года, ограничивающий допуск к государственной административной работе, от 4 октября 1940 года о евреях иностранного происхождения, от 3 октября, накануне, о статусе евреев, от 23 июля 1940 года относительно лишения гражданства французов, покинувших Францию, все эти акты, которые Петэн начинал словами «Мы, Маршал Франции…», и еще тот закон, который касается непосредственно меня, от 6 июня 1942 года, запрещающий евреям актерскую профессию…
Я не еврей. И не актер. Но…
Насколько мне позволяет память, в те времена, когда я еще пешком под стол ходил и даже не догадывался, что клоуны предназначены для того, чтобы смешить, уже тогда они нагоняли на меня тоску. Желание зареветь и пронзительное отчаяние, жгучие страдания и стыд изгоя.
Больше всего на свете я ненавидел клоунов. Больше, чем рыбий жир, поцелуи старых усатых родственниц и устный счет, больше, чем любую другую пытку детства. Точнее говоря, чувство времен моей невинности, которое я испытывал перед этими нелепыми людьми в залатанных костюмах, с вытаращенными глазами в обводке белил, было сродни благородной оторопи девственника, повстречавшегося с размалеванной проституткой, — как я себе это образно представляю, — или вящему ужасу девицы, обнаружившей в цветнике непристойного садового гнома с огромным фаллосом. Если меня заставляли идти на цирковое представление, я трусил до посинения, до заикания, до того, что писался в штаны. До глухоты. До безумия. До смерти.
От одной только мысли о клоунской физиономии, о красном парике, о предстоящем утре в цирке у моих одноклассников, сестры Франсуазы, у всех нормально устроенных ребят заранее поднималось настроение, сами собой растягивались уголки губ. Их охватывал восторг смеха, упоение хохотом во все горло. Я же сжимался настолько, что в меня уже не лезли ни правила грамматики, ни вечерний ужин.
Конечно, книжки по популярному психоанализу пишут не просто так, и я давно определил причины своего невроза.
Дело в том, что мой отец, по профессии учитель, не упускал ни единой возможности выступить на публике в роли клоуна-любителя. Огромные башмаки, красный носище и невообразимый наряд, смастеренный из старой одежды и предметов кухонной утвари. Нужно ли говорить, что кружевные лоскуты из материнских запасов добавляли пикантности его костюму. Вооруженный и наряженный, с облупленным эмалированным дуршлагом на голове, в доспехах из розового корсета на китовом усе, с термоядерной картофелемялкой у бедра и сверхзвуковыми щипцами для колки орехов в руке он выглядел растерянным воином, жестяным самураем, спасавшим все межгалактическое, а также и наше, крайне наивное, человечество своим патетическим номером, в котором одинокому простофиле приходится осыпать самого себя оплеухами и пинать под зад. Этакий доморощенный Матамор, Тентен пролетарского разлива, чьей галиматьи было не разобрать, да никто и не слушал, зато растрогать публику ему здорово удавалось. Может быть, потому, что он правда был очень неловким и по-настоящему застревал пальцами в дырках сырной терки, служившей ему пулеметом, потому, что пел фальшиво и непременно умирал от голода, от любви или… От любви. Да, если хорошенько подумать, подражая Шарло, он прежде всего умирал от любви.
И это лишь усиливало мое чувство неловкости. Что до мамы, то, сколько бы она ни притворялась, для меня было очевидно — видеть, как папа кувыркается и судорожно подпрыгивает с бумажным цветком в кулаке для девицы из публики, — ей тоже это было неприятно. Ну что поделаешь.
Он выступал на всех праздниках под Новый год, на рождественских полдниках, на юбилеях и корпоративных вечеринках. На послеобеденных концертах в благотворительных учреждениях, предпочтительнее светских. И конечно же он не щадил себя. Во всех смыслах. Известно же, что это за мероприятия в непринужденной дружеской обстановке: у бравого клоуна, который изрядно попотел под прожекторами, пивная кружка не пустела. Отец возвращался со своих выступлений накачанный хмельной признательностью и довольный тем, что пьян по долгу. А я стыдился, отрекался от него, не хотел его знать, отдал бы любому сироте, но не думал, что хоть один из них согласится. Я ненавидел свою мать за то, что она укладывает его в кровать, вытирает пот со лба, нашептывает всякие нежности.
Никогда он не брал ни гроша за свое выступление, за то, что гробил нашу семейную субботу, воскресенье, лишал удовольствия проводить в семейном кругу школьные выходные по четвергам. Ему звонили прямо домой, по телефону. Он слушал, спрашивал место и время. Потом сообщал маме о данном обещании. Она смотрела, как он вытаскивает из шкафа в подвале свой чемодан, проверяет реквизит. Бензин в машине, билет на трамвай, мелкие расходы — все за свой счет. Перед тем как уехать, он соблюдал ритуал, вопрошая нас взглядом: колебался, делал вид, будто ему тяжело нас бросать, приносить в жертву собственному удовольствию. Он готов был отказаться, уже ставил чемодан, нет-нет, он не поедет, пренебрегать нами слишком жестоко. И вся эта морока для того, чтобы мы разыграли нашу часть мизансцены нежных и невозможных расставаний, чтобы мама снисходительно согласилась — я и моя сестра Франсуаза прилагались к ее капитуляции — и все с гордостью отправились его сопровождать.
На самом деле мама не снисходила до уступки, она притязала на статус жены клоуна и выступала в роли просвещенной патриотки: мы шли не на жертву, а к триумфу. Для меня, признаюсь, это было жертвой, навязанный выход тяготил меня, снова придется хитрить, старательно отдаляться от своих, не разговаривать с ними, пока идет номер, предавать. Поджав хвост, я с трудом утешал себя сладостями, прогорклыми бутербродами и тошнотворными лимонадами, которыми нас иногда угощали. Как бедных.
Хотя мы таковыми не были.
Ведь мой отец был учителем. И популярным, как никто из его коллег: ученики начальной школы обожали его как раз за это удручающее экстравагантное призвание, смехотворное для уважаемого педагога.
Мой отец был самым грустным из грустных клоунов. По крайней мере, так мне представлялось. Он специально причинял себе боль, словно отбывал наказание за какую-то постыдную ошибку, делая себя столь несчастным. Однажды, из чистого озорства листая катехизис, который он отобрал у меня, а потом позабыл в ящике своего письменного стола, я даже заподозрил его в стремлении к крестному пути. Нелепая навязчивая мысль о том, что, страдая и жертвуя собой, он сможет искупить нечто темное, грязные дела человечества. А на самом деле за гримом смешного человека, теряющего свое время, репутацию и достоинство честного чиновника неблагодарным на потеху, скрывался плохой артист, прекрасно это знающий, но его распирало от счастья. Дурацкое и прекрасное занятие, как у рыбака, охотника, игрока в петанк…
Пятидесятые годы, начало шестидесятых. Мы ездили на «дине-панар», длинной жабе с круглой мордой канареечного цвета, с дерматиновыми сиденьями под зебру, грохочущей как кастрюля. Тачка клоуна. Отец был от нее в восторге. Единственный в своем роде. Другие папы ездили на «ситроенах» «ДС», «пежо», «фордах»… Даже на «симках»!.. Да будь у него хотя бы двухцветная «этуальсис», это подобие рахитичного кита, я бы и то ему простил. Но «панар»! Я часто думал, что он нас возил — маму, Франсуазу и меня, — потому что мы были уродливы под стать машине; с нашими волосами блекло-желтого цвета, носами картошкой и круглыми очками, мы выглядели достойным продолжением драндулета. Я боялся, как бы однажды он не вытащил нас на сцену, точнее говоря, на те дерьмовые подмостки, где он выступал в лучшие свои вечера. Я страшился, что он преподнесет публике нас, как у Пиранделло, которого я тогда еще не знал, печальный глава семьи из шести персонажей поверяет актерам свои домашние мерзости, да, я страшился, что он и нас отдаст в угоду нездоровому любопытству сидящих за столиками детей газовщиков или социальных работников. Они станут задавать нам вопросы о наших горестях и всяких гадостях, и наше замешательство будет доставлять им огромное удовольствие. Я и без него достаточно на них насмотрелся, встречался с ними на уроках и завидовал, что у них нормальные отцы! Даже безразличный отчим, даже ленивый любовник вдовствующей и ветреной матери были лучше, чем этот странный клоун, похожий на лося и способный решить любую проблему текущих кранов.
Худшее произошло, когда я попал к отцу в ученики, в пятом классе. Однажды он осмелился явиться в школу и вести урок в своем клоунском облачении под серой учительской робой, в корсете, со всеми причиндалами. На грим и парик, а уж тем более на башмаки, у него все же наглости не хватило. Если бы он посмел, я, наверное, бросился бы под поезд или под колеса «дины», выезжающей из гаража…
Как бы там ни было, в тот момент его клоунада показалась мне началом апокалипсиса. Хотя я был единственным, кого это событие так потрясло: ученики выпускного класса, те, кто уже побывал в лапах моего отца, прекрасно знали про эту его выходку, которую он проделывал ежегодно, вскоре после Дня Богоявления, ближе к масленице. Ему охотно прощали эту причуду, не зная настоящего ее значения.
Мой отец был шутом, этим все сказано. Про него говорили: святой. Андре у нас святой! Сколько раз я это слышал, пока мои мучения не были замечены и перед ребенком святого не стали замолкать… Почему святой? Употреблявшие это выражение, думаю, знали не больше меня, и никто конечно же не считал, что однажды перст Божий указал на моего отца, дабы освятить его, но это великодушно присвоенное определение превращало его в человека особенного.
Действительно, сегодня я знаю об этом, отец заслуживал отличия, почетного легиона признательности, и прохожие на улице, поймав на себе его мягкий взгляд, должны были бы обнажать головы. Потому что всю жизнь он отдавал дань памяти, выплачивал свой долг человечности самым достойным, по его мнению, способом. Тридцать лет он держал в руке шляпу и низко кланялся. Уже после начальной школы я смутно чувствовал, что свои выходы на арену он совершает из чувства долга, как некий искупительный ритуал, и только посмеется, если кто-то вдруг признает у него способности к ремеслу. Он знал, что был плохим клоуном, не испытывал по этому поводу ни малейшего стыда и, несмотря ни на что, получал удовольствие от своих ничтожных трюков. Мой отец был человеком тихого упорства и внутренней необходимости.
Обо всем этом я узнал значительно позже. Когда он посчитал, что настала пора мне рассказать.
Но не он, не мой отец, все мне объяснил и освободил от проклятия клоуна. Его кузен Гастон взял на себя эту миссию. Или тяжелую повинность.
Гастон. Никудышный Гастон, о чьей судьбе так сокрушалась моя мать. Похожий на худощавого Джеймса Кэгни со светлыми волнистыми волосами, женатый на пухленькой Николь, которая то и дело прыскала со смеху. Они едва сводили концы с концами, но не делали из этого трагедии. По воскресеньям почти каждую неделю они обедали у нас, и когда ближе к десерту, после славного «Бордо», разговоры смолкали, их руки на камчатной скатерти сплетались, Николь испускала глубокий вздох, перераставший в приступ хохота до слез, и Гастон вытирал свои очки. А потом они давали волю чувствам, обнимались, целовались в шею, звучно проверяя на прочность нежность, да и саму жизнь. Без ложной скромности и стыда, без изысков. По-простому.
У них не было детей и не могло быть. Их вечный медовый месяц вызывал у людей зависть. И убивал их самих.
В те минуты, когда мы чувствовали, что сердце у них разрывается, моя мать качала головой, отец смотрел в сторону. А что до моей дурехи сестры Франсуазы, так она корчила из себя посвященную, напускала на лицо выражение безутешной печали и выглядела достойным образчиком вселенского страдания. Слишком старая для своих лет. Если бы она могла, то, пожалуй, погрузилась бы в покаянные девятидневные молитвы. Уже сейчас она умела очень элегантно плакать сколь угодно долго и без какого-либо ущерба внешнему виду.
Меня все их манеры бесили. Я был примерным мальчиком, подающим большие надежды, и погружаться в их послеобеденные волненья было выше моих сил. По мере того как во мне пробуждался подросток, эти кривлянья становились в моих глазах настоящим дерьмом, утешениями ничтожеств, нездоровым наслаждением, потаенной и неприглядной бедой, возможно, слишком переоцененной или вообще выдуманной, о которой и вспоминают-то только для близких друзей. Жалкое зрелище.
Даже дружелюбные порывы Гастона, по воскресеньям, когда он предлагал мне поиграть в настольный футбол, все его старания завоевать расположение мальчишки — ему бы такого сына! — я отвергал, твердый и неподкупный. О предложениях Николь научить меня вальсировать под аккордеон, положив руки на ее бедра и уткнувшись в ее сиськи, не стоит и говорить!
Я сильно заблуждался насчет своего отца и был слеп в отношении этой с виду простенькой парочки. Это сейчас я понимаю, что Гастон и Николь восхитительны, и догадываюсь, как сильно им приходилось сжимать кулаки, чтобы выжить, и сам бы всыпал себе хорошенько за то, что презирал их когда-то, за то, что язвительно смотрел на обтрепанные манжеты Гастона, на распухшие ноги Николь, снимавшей под столом свои стоптанные лодочки.
Николь была красивой. Сегодня, анализируя свои воспоминания, я бы поручился в этом. Тогда же был не в состоянии оценить ее. Однако я подозреваю, что отец заметил Николь. И мама отнюдь не обманывалась по поводу его нежного увлечения. Может быть, именно из-за этой невысказанной любви он и умирал так часто, когда был клоуном. И все же срок давности истек. Теперь… Все позабыто.
Естественно, Гастона и Николь больше нет. Их несчастные жизни оборвались однажды утром, или однажды ночью, и ни одной слезинки не пролилось, чтобы оплакать их, ни одной фразой не было выражено сожаление. В отсутствие моих уже умерших тогда родителей они плавно переместились в рай семейных фотографий, редких и неточных, которые выкидывают, когда уже не могут понять, что это за высокий придурок в очках, прилизанный, словно тыловая крыса, и толстушка, нежно обнимающая его, перед клумбой с розами. Эти снимки хранятся в моей памяти, но я не нашел их в своих ящиках. Надо было бы спросить у Франсуазы, которая сейчас учительствует в Нормандии. Она перевезла туда и сохранила вещи наших родителей, ушедших, как и Гастон с Николь. И даже раньше них. Благочестивая Франсуаза, хранительница всякого хлама и увядших цветов, вечно взволнованная тем, чего не пережила, Эмма Бовари из преподавательниц немецкого, мне надо было бы навестить ее. Но нет, спасибо. Уж лучше конец света, чем все эти ее почему да зачем.
К тому же я вовсе не умею плакать так уверенно и искусно, как она, обычно дававшая волю своим благородным слезам. Я рыдаю взахлеб, с соплями и опухшими глазами. Моей печали не свойственно достоинство, оправдывающее причину красотой излияний. В общем, спасибо, нет. Гастона и Николь я сохраню такими, какие они есть, далекими, но все более и более удивительными в моей памяти. Живыми.
Потому что… Да, я говорил, что Гастон освободил меня от проклятия клоуна… Мое посвящение в секреты взрослых произошло в баре какого-то кинотеатра, где показывали «Мост». Мне кажется, это было в «Трамвае» или «Метро»… В каком-то кинотеатре с названием вида транспорта, точно, где-то в рабочем квартале, на окраинах Рубэ или Туркуана, в те времена, когда один и тот же фильм студии «Фокс» и шоколадно-ванильное эскимо еще излечивали ребятишек от зубной боли. Однажды в воскресенье, после полудня.
Мы набились в «дину», трое на переднем сиденье, Николь между отцом и мамой, позади нее Гастон, вольготно расположившийся между Франсуазой и мной. Все приоделись, надушились, напомадились. На лицах торжественность, даже у Гастона. Я заподозрил исключительное событие, но не мог и предположить, в чем дело, ну а сестра моя, понятно, знала не больше меня.
Я надеялся, что фильм подскажет мне разгадку, но просчитался. Пока шли начальные титры, Кордула Трантов, единственная женщина, и остальные, сплошь немецкие имена, со стороны Гастон — Николь — папа донеслась некоторая возня, там слегка потолкались, поерзали. И больше ничего.
До самого титра «Конец» и вновь зажегшегося света. Щуришь глаза, моргаешь, все еще во власти картины, ошеломленный, словно одурманенный, бредешь вниз по проходу вслед за выходящими людьми, которые переговариваются вполголоса, скрывая волнение, что было неплохо, что им понравилась эта история о мальчишках, присоединившихся к отступающим войскам. Добрый сержант ставит ребят в караул на мосту, не имеющем никакого стратегического значения, а они оказываются в такой степени придурками и идеалистами, что умудряются там подохнуть, играя во взрослых. Невыносимая история, но вроде бы не имеющая отношения к нам, к нашей семье и близким, ведь мы на стороне победителей, в числе выживших во Второй мировой. И тем не менее у меня перехватило горло, а у Франсуазы в глазах застыло соболезнование.
В конце этого тягостного спуска, когда мы наконец вышли из зала в вестибюль, наши дамы захотели купить себе пакетик жареной картошки в ларьке на тротуаре напротив. Пока они выходили через обязательный проход сквозь бар, мой отец и Гастон обменялись взглядами, и Гастон остановил меня, почти сразу за пивными кранами. Две круглые табуретки, один лимонад, одно пиво. Гастон тяжело вздохнул. Столько церемоний, я сразу понял: ему многое надо мне сказать и все это заранее подготовлено, организовано. Наш Гастон действовал по поручению. Отец со своим пивом расположился в самом конце стойки, там, где обычно устраивается покурить разрывающая билетики девушка, когда начинается сеанс. За все то время, что Гастон говорил, отец не прикоснулся к пиву, не взглянул на девушку-билетершу. Он погрузился в себя и выглядел мягким, бархатным. А Гастон — слова просто лились из него, без злобы и ненависти, без всякого бахвальства, такие простые и откровенные, что заставляли потупить взор.
Кузен Гастон говорил на местном наречии. На диалекте, который я прекрасно понимал, но когда он рассказывал мне там, на этом пластмассовом растрескавшемся табурете историю душевных ран моего отца, он очень старался. Точные его слова, его варваризмы мне уже не вспомнить. Пишу по-своему. За исключением тех выражений и фраз, которые по-прежнему звучат у меня в голове, в конце концов я позабыл плоть этого языка, а ведь Гастон не притворялся и слова его не были тенями вещей и бесчеловечных минут, он открывал мне свою жизнь, смиренно преподнося мне все, что у него было — страшные сады, опустошенные, кровавые, жестокие.
Это случилось где-то в конце 1942 — начале 1943 года. Я и твой отец через нашу маленькую группу сопротивленцев получили приказ взорвать все трансформаторы района. И прежде всего тот, что на вокзале Дуэ. Я так никогда и не узнал, зачем…
Он складно начал свою байку, мой Гастон. Время от времени, прежде чем обратиться ко мне, его глаза, словно под воздействием какой-то мужицкой ностальгии скользили по старым афишам за стойкой, по прекрасной жестокости ковбоев и неприличным декольте дам. Берт Ланкастер, Виржиния Майо, Элизабет Тейлор, Монти Клифт и вся их компания, сплошь герои, звезды, на которых только смотреть да слюни пускать. Что я и делал, как и мои самые распущенные товарищи. Но с того самого дня, рядом с Гастоном, с отцом и с Николь тоже, они перестали для меня что-либо значить. Стали бледными призраками.
На улице сияло солнце. Гастон рассказывал о временах, когда ночь была сильнее дня. Он переходил к сути:
…Послевкусие зимы. Такое же как здесь. В основном влажный холод, дождь и не слишком много света. В придачу — война, траур, продовольственные карточки и ощущение, что унижение закончится не завтра… Но заметь: сколь бы ни было серо у людей на душе, они все-таки пытались не сильно прогибаться. Как и мы. Я должен сказать тебе: мы вступили в Сопротивление, уж не знаю, как другие, во всяком случае твой отец и я, просто чтоб было веселее, чтобы не подыхать со скуки, во всяком случае поначалу… Все равно что пошли на танцы… Обстановочка-то ведь была еще та, под звуки «Horst Wessel lied»[2] да военных маршей танцевать особо не хотелось. Вот мы и решили вроде как свою музыку им исполнить — взорвать вокзальный трансформатор, твой отец и я, мы сделали это легко, как по нотам, как по клавишам аккордеона волшебными пальцами в темпе алегретто. Однажды вечером, как только стемнело. Не отдавая себе отчета, не приняв никаких мер предосторожности… При себе только кожаные куртки электриков и сумки со взрывчаткой. Потому что нам это казалось лучшим прикрытием… Об остальном мы не задумывались…
Бум! Мы возвращались по тропинке в деревню, когда раздался грохот позади нас, а потом уж все как полагается — фейерверк и прочее… Ну, сказали мы себе, дело сделано! И спокойно отправились спать. Даже насморка по дороге не подхватив!
Добрую дюжину часов мы верили, что выпутались играючи. Как всегда, и именно потому, что не принимали мер предосторожности… Как в государственной лотерее: выигрываешь по-крупному только если тебе наплевать на проигрыш. Понимаешь?..
Во всяком случае, тогда мы дважды сорвали главный куш! Один раз вечером, когда нас не поймали, и потом…
Утром нас взяли в подвале. В доме у твоих бабушки и дедушки по матери. Среди варенья и банок с огурцами. Настоящее сокровище. Можешь смеяться, но тут фрицы не ошиблись: человек, пойманный на месте тайных наслаждений, с полными руками этаких богатств, да, такой человек крайне опасен. Жестокая превратность судьбы, потому что мы, как я тебе и говорил, хоть и взорвали трансформатор, все же не прятались, притворяясь невиновными. Я помогал твоему отцу возводить стеллажи для консервов его будущей тещи. Фашистов, сбежавших по маленькой лестнице и попавших прямиком на нас, было четверо. Не успели мы обернуться, как они подтолкнули нас к стене, щелкая затворами ружей, и мы с Андре попрощались друг с другом. По-быстрому, с трясущимися коленями. Героизм, сердце, рвущееся из выреза рубашки, «Марсельеза», которую ты им поешь во всю глотку до последнего вздоха, — это фантазии, мой мальчик, так бывает только в книжках. В жизни же ты не знаешь, куда смотреть, что схватить из того, что можно унести с собой, навсегда, что-нибудь такое, что займет твои руки, глаза, губы. И самым лучшим, конечно, было бы лицо женщины. У нас такого не было. У нас были только огурцы. В общем, пока они в нас прицеливались, пока мы слушали, как твоя мать и мать твоей матери кричат наверху, и как колотятся наши сердца, мы с Андре просто взяли друг друга за руки, как двое мальчишек на пороге школы, что не хотят уходить по одному, уставились на банки с огромными огурцами, которые были не в уксусе, а малосольные, по-польски. Представляешь картину? Мы ждали выстрелов и черной смерти… Внезапно все прекратилось.
Топот сапог, запыхавшийся сержант, скатывающийся с лестницы с криками «Аrtoung!», и «los», и «wek», и, о чудо, нас не расстреливают! Только тычки прикладов и пинки по ногам, чтобы помочь нам попроворнее взбираться наверх. Тогда-то и пришел страх, мы почувствовали, что вполне могли бы уже ничего не чувствовать, страх пришел сразу, когда мы ощутили, что живем!
Позже, когда нас провели по деревне, просто для того, чтобы люди за ставнями увидели нас с кровоточащими губами и разбитыми лицами, после проезда в грузовике, ничком на животе, где эти господа вытирали свои сапоги о наши ребра, после всего этого, — встреча с обер-кемто в Ortskommandantur… Знаешь, где это? На той самой улице, где ты родился, там, на улице Жана Жореса, если встать не слишком далеко, но и не слишком близко от длинной стены, окружающей парк большого дома, можно четко прочесть надпись белыми буквами «Ortskommandantur»… Кирпич поглотил краску, но все-таки надпись осталась… Что неплохо: это заставляет нас помнить!.. Так вот… нас отвели туда. Два-три слова, пара оплеух, губы, надутые презрением, и наконец нам говорят, в чем, собственно, дело, и как это называется: пункт обвинения! Вот так: пункт обвинения! Закон от 14 августа 1941 года! Тот, который Петэн провел 22-го, после покушения Фабьена в метро Барбес, он датировал его задним числом, чтобы иметь возможность законно казнить заложников и успокоить этих серо-зеленых господ!
Ты не можешь себе представить: закон от 14 августа, и мы так же, как парижские парни из-за Фабьена, стали заложниками из-за взорванного трансформатора! Именно это и произошло! Если через три дня авторы покушения не сдадутся, виновными окажемся мы! На этот раз по-настоящему!
Понимаешь всю иронию и безысходность ситуации? Мы не могли надеяться, что кто-нибудь признает себя виновным, поскольку виновными были мы с твоим отцом, хотя тупые фрицы забрали именно нас абсолютно случайно! Что бы там ни было, нам конец, как заложникам или как террористам, анархистам, коммунистам! Закон от 14 августа!
А может, они выбрали нас из-за того, что мы, как полные идиоты, хвастались тем, что участвуем в Сопротивлении, пусть и шепотком, лишь бы поразить нескольких девиц… Они хотели нас устранить, но сперва добившись, чтобы мы сознались в чем-то еще, выдали товарищей или не знаю что… Или это был не слишком грязный способ помучить нас, показать народу свою власть? Нет, даже не так, ничего похожего… Сколько ни пытались мы прокрутить все это в своей башке, сколько ни переглядывались, не верилось, что они могут быть такими хитрецами. Чего мы боялись, так это пыток, ванны, шпицрутена… Мы не слишком были уверены в том, что сможем выдержать. Похоже, они не хотели зря мутить воду или не принимали нас всерьез, поскольку перестали разговаривать с нами. Мы были вынуждены простоять два-три часа посреди зимнего сада, под большим стеклянным куполом, в помещении, которое превратилось в контору Oberboche. Шевелиться — chtrengue verboteune.
Мы для них были просто овощами.
Конечно, сейчас мы прекрасно знаем, что нас выбрали французские жандармы. Это они составили для фашистов список заложников. Ты никогда не догадаешься, за что они нам так отомстили…
Ну да ладно, итак, на закате снова в грузовик. Добрые минут десять нас везли по дорогам, еще более разбитым, чем мы сами, после чего бросили в глубокую, почти круглую глиняную яму с гладкими стенками. Там, на побережье Дуврского пролива, где раньше добывали глину для кирпичного и черепичного заводов. Давно упраздненных. Твой отец сказал, что так делалось уже во времена римлян или греков, людей бросали в яму.
Самая простая и самая действенная из тюрем. Даже нет нужды нас сторожить. Тюрьма воистину жестокая: какое-то время моросил мелкий дождь, несколько раз сменявшийся сильными ливнями, и мы уже стояли в воде, пять-шесть сантиметров глубины, и никакой возможности укрыться.
Я хорошо понимал, что от влаги в башмаках наша кожа начнет шелушиться и мы расцветем волдырями и обморожениями. Пытаясь защититься от воды под откосом, карабкаешься на стену, но тебя заносит, и ты шлепаешься задницей в лужу, в самую грязь. В действительности все это не имело уже никакого значения: прежде чем мы оказались здесь, крытый грузовик дал задний ход, чтобы просто ссыпать нас в яму, потом — толчки стволом ружья в спину, и мы скатились на дно в грязную жижу. Окаменели в этом дерьме. Наверное, выглядели далеко не изящно!
Помню, тогда-то твой отец и заговорил о гранатах, о страшных садах. Я не понял, а он не объяснил.
Позже, оставшись одни, мы утоптали и расчистили небольшую ровную площадку, где можно было немного подсушить насквозь промокшие ботинки. Осмелиться на большее, на побег, выдолбить лестницу на боковой отвесной стене и смыться было невозможно: она обрушивалась, скользила под ногами или превращалась в ровную поверхность под рукой, и не за что было уцепиться, сплошной предательский грунт. Допустим, даже, в конце концов, мы бы долезли до верха ямы, навряд ли они позволили бы нам пойти по ягоды, эти фрицы! Мы полагали, что из какой-нибудь засады за нами присматривает автоматчик, которому будет одно удовольствие расстрелять нас на бегу.
Итак, мы решили подождать, не снимая одежды, под моросящим дождем. Молча стояли, ссутулив спины. Дождь завершил наш туалет. Кровь хорошо смылась, остались только синяки от тумаков.
На самом деле нас там оказалось четверо, четверо тех, кто месил ногами грязь примерно на тридцати квадратных метрах. Твой отец приблизительно промерил шагами диаметр, рассчитал площадь при помощи числа Пи — 3,14 — и все такое. Итог: тридцать квадратных метров. Да только от этого никакого проку. Если бы нам принадлежало и целое царство, которое мы могли бы разделить между собой, с того мгновения, как сие пространство было уготовано для того, чтобы в нем и остаться похороненными заживо, на точную площадь было начхать. Потому что мы говорили себе: чертов подарочек, нам выпали шанс и радость посетить нашу собственную могилу! Конечно, этим придуркам не нужно даже переводить пули, разве что для того, чтобы покалечить нас, лишить сил артачиться, ведь нам все равно конец. А потом, ногами спихнув сверху глину, маленький отряд засыплет нас здесь на раз-два!
Двое других, Анри Йедрежак и Эмиль Байоль, были настоящими заложниками… Невиновными, я хочу сказать. Тогда как мы, твой отец и я, мы были заложниками виновными. Их, Анри и Эмиля, сцапали на выходе из шахты № 2 после утренней смены. Но не случайно. Разговаривая друг с другом в нашей яме, мы начали понимать, как именно фрицы выбирали, и как Анри и Эмиль оказались третьим и четвертым. Фашисты хватали людей из определенной группы: заложники были частью нашей местной футбольной команды! Мы все четверо играли за нее и, естественно, знали друг друга. Твой отец был вратарем, я левым защитником, они, кажется, правым защитником и полузащитником, не помню уж. Но то, что мы с твоим отцом обговаривали детали диверсий в душе после матча, а Анри и Эмиль вовсе не участвовали в наших безрассудных планах, это я хорошо помню… Мы и представить себе не могли, кто в нашей команде оказался таким мерзавцем, чтобы выдать нас… Только после войны мы узнали суть дела: жандармы болели за футбольную команду «Энен-Лиетар», а мы, футболисты «Энена», разгромили их три ноль в первом чемпионате Франции в 1939 году! Поэтому они мстили за свою честь, как могли… Указав на нас, как на заложников… Четверо спортсменов-любителей, выбранных собственной жандармерией, предположительно невиновные и расстрелянные из-за трусости террористов-подрывников, — фрицы сочли это достаточно жестоким, а значит, и вполне забавным зрелищем. Если так посмотреть, наша бесцельная смерть должна была явиться ярким примером и заставить всех в штаны наложить от страха!
Анри и Эмиль не понимали всего этого ужаса. Они доставали нас всякими почему и отчего, но… Если трансформатор — ваше дело, скажите об этом, ведь в любом случае вы скоро умрете, а так хотя бы поможете нашему спасению… И даже если это не так, пожертвовав собой, вы спасете ваших товарищей по Сопротивлению… Все эти бесконечные ляля, рассуждения, хождения по кругу. Мы оба, я и твой отец, сказали, что им надо просто выдать нас, когда фрицы вернутся, пусть они решатся на это… Мы посмотрели бы на них с такой ненавистью, что им, Анри и Эмилю, поверили бы и пощадили их. Пусть они это сделают, если думают, что выпутаются такой ценой. Твой отец говорил, что ему все равно: он был уверен, что в любом случае мы все умрем и очень скоро.
Анри и Эмилю стало стыдно, они сказали, что им надо было просто выговориться, что они думали о своих женах… И опять все по новой… Это правда, женаты были они, а не мы, но все же они с нами, даже если мы и виновны… И они снова заводили одну и ту же пластинку… Судили так и эдак, до безумия… Ведь если это вы… Мы с твоим отцом готовы были сожрать наши футбольные лицензии. Так и надо было сделать с самого объявления войны, а не играть в мячик с такими порядочными людьми, как Анри и Эмиль. В подобные времена спорт слишком опасен. Вот и доказательство… ха-ха-ха!
Что я говорил? Так вот…
Итак, мы оказались вчетвером. Около трех часов пополудни, без всякой еды, дрожа от холода и сырости. Впереди семьдесят два часа на жизнь. Мы не знали, о чем говорить друг с другом, ведь если бы твой отец и я признались, что взорвали трансформатор, двое других решили бы, что обязаны этим адом нам, и, конечно, попытались бы выдать нас. Ты сейчас спросишь, кому. Учитывая, что воцарилась полная тишина, и только птицы чирикали да пугливые зверьки пробегали у нашей ямы, мы были одни в чистом поле. Может, о нас забыли? И нам удастся спокойно подготовиться и сбежать… Эта мысль вдруг осенила нас, но в нее трудно было поверить.
И мы верили недолго.
Потому что было еще светло, когда с западной стороны по стене посыпалась земля. Мы задрали носы, и он был там. Спина, подставленная дождю, болтающиеся ноги в добротных сапогах, ружье за спиной, аккуратно застегнутое пальто, — этот человек сидел на мешках, на краю нашей ямы. Каска до самых бровей и широченная улыбка, ты и вообразить себе не можешь, какой олух. Наш охранник. В итоге они все-таки приставили к нам одного. Придурка с торфяников, бестолочь! Наверняка из-за того, что ни на что другое он был не годен! В любом случае, при охраннике, пусть даже и идиоте, с побегом ничего не выйдет!
Вот так, сверху, упершись руками в колени, он смотрел, как мы скисли. И вдруг, ты не поверишь, состроил нам рожу! Настоящую, ребяческую рожу, вращал глазами, сложив губы куриной попкой! Мы застыли, словно остолбенели! Он мог бы нас оскорбить, забросать камнями, помочиться на нас, это было бы в порядке вещей, ничего не попишешь. Но так издеваться над заложниками, строить из себя ребенка перед людьми, которые скоро умрут, — это недостойно, невыносимо! Мы попытались забросать его комьями глины, но впустую: они падали обратно, прямо нам на головы! И сверх всего, он вынимает ломоть хлеба, свой легкий завтрак! Горбушку хлеба… Ты бы знал, как у нас слюнки потекли! И все это он проделал каким-то невероятным способом, с огромными усилиями, как будто его карман был глубиною в три километра и там, на дне, какие-то звери кусали его за палец! Он испускал боевые кличи, повизгивал от ужаса! Это уже слишком! Играть вот так с едой перед изголодавшимися людьми, насмехаться над ними: мы готовы были убить дикаря-охранника! Но ничего не могли с собой поделать, смотрели на него и, исходя слюной от вида еды, говорили друг другу, что подлый ублюдок издевается над нами, но мы справимся с этим… И вместе с тем — думай, что хочешь, — да, мы были безвольны и беспомощны, но в то же время не могли этого выдержать, ни я, ни остальные. Кажется, твой отец первым рассмеялся над нелепыми выходками нашего охранника, и мы не устояли. Просто рухнули со смеху. Ха-ха-ха!
Но чем больше мы надрывались от смеха, там, на дне ямы, тем труднее было ему вытаскивать свой хлеб из кармана. Едва он доставал его, едва приближал зубы, чтобы схватить бутерброд, маячивший у него перед носом, как шинель заглатывала его обратно, и охранник тяжко вздыхал, кусал пальцы, делал вид, что смирился, решил больше не думать о еде, на пару секунд отвлекался, а потом вдруг, неожиданно, вновь штурмовал свой карман! Никогда я так не смеялся, и твой отец тоже, я знаю точно. Охота на бутерброд! От этого зрелища слезы набегали на глаза. Никогда мы не плакали с таким удовольствием.
Мы больше не думали о том, что скоро сдохнем. Нет, не думали, настолько стали снова мальчишками, и настолько он был смешным…
А потом вдруг мы увидели, как наш друг фриц вскочил на краю ямы, погрузил руки в карманы и извлек оттуда бутерброды, завернутые в газетные страницы! Шесть штук, это животное собиралось обожраться ими! Но он начал жонглировать бутербродами! И чертовски здорово: они даже не выскользнули из газетных оберток! Мы от этого рты разинули, стоя внизу, со слюной на губах! А потом он прозевал один бутерброд, поймал его в последний момент, а мы, можешь себе представить, уже протянули руки, уверенные, что этот бутерброд для нас, но нет, наш ублюдок снова поймал его, хотя, казалось, это невозможно! Мы постыдно заорали, непроизвольно, как собаки, которых заставляют изнывать в ожидании, прежде чем бросят им кость, а того, серо-зеленого, это вдруг смутило, и все его жонглирование нарушилось! Он был уверен, что здорово подбрасывает хлеб, насмехаясь над нами, но все бутерброды попадали в яму, божественный бутербродный дождь пролился на нас!
Понятно, мы не упустили ни одного! Бутерброды размером с ладонь, с паштетом и огурцами, может быть, даже с теми самыми, из нашего подвала! Клянусь, так мы и подумали, да, они растащили наши консервы после того, как увезли нас. Тем хуже, это было так вкусно, что мы вылизывали газетную упаковку. Рожи у всех были перепачканы типографской краской, пока не пошел дождь, настоящий дождь с неба, и не омыл нас, как раньше от крови. Черт возьми, мы были горды, обнимались, зачитывали вслух более или менее пригодную страницу с рисунками, историю Кафуньета, который возвращался домой после футбольного матча в стельку пьяный, и говорил своей жене, что ходил к приятелю, чтобы послужить доказательством его присутствия на матче вместе с ним! Как же мы хохотали! Пьяными в стельку мы уже не будем никогда, но посмеяться так, что пуговицы полетят, все же посмеялись, последним нашим смехом — а ведь мы сделали этого фрица! Хитростью, отвагой, выкрутасами, но мы стащили его продуктовые запасы на семьдесят два часа! Так ему и надо за все его издевательства и неуважение к ближнему, так-то!
Он снова сел, и вместе с тенью на нас разом опустилась ночь, пока мы жадно поглощали пищу и уже видели только его очертания, только силуэт, чуть темнее неба, а взгляда охранника под козырьком каски было не различить. Мы больше так сильно не смеялись: конечно, он специально разыграл свой номер, чтобы помучить голодных заложников медленной смертью. Его бутерброды были для нас, нам причитались, наверное, то была наша последняя еда. Жонглировать ими, рисковать, что они свалятся в грязь, чихать на нас, было настоящим оскорблением! Ну да ладно, мы не собирались ворчать в темноте и портить себе пищеварение, обсуждая все это.
Утром мы увидели его глаза. Взошедшее солнце отражалось прямо в них. Он не пошевелился за ночь. И этот взгляд не принадлежал ни идиоту, ни палачу. У нас зуб на зуб не попадал после того, как мы провели всю ночь прижавшись друг к другу, спали вполглаза, полустоя-полусидя у стены ямы. Наши пальто и ботинки залеплены грязью. Эмиль тихо плакал, Анри, с потерянным взглядом бормотал что-то по-польски. А твой отец, несмотря ни на что, был бодр. Он поднял голову, и я всегда буду помнить его голос, прозвучавший как в первое утро каникул на море.
— Нельзя ли подать нам завтрак? — сказал он охраннику.
А тот, так же сухо, ответил:
— Знаешь, старина, в отеле сквозняков завтрак — это ветер!
Никакого акцента. Нисколько. Никогда не подумаешь, что он не француз. И назвал твоего отца «стариной», как давнего приятеля… Нам это показалось подозрительным. До такой степени, что мы перемигнулись: вдруг фрицы додумались приставить к нам для охраны полицая… Но нет, серо-зеленая форма, «Вермахт».
— Меня зовут Бернхард. Можно Бернд. Кроме шуток, я постараюсь найти вам… как там вы говорите? «Раздобыть» что-нибудь поесть… Вчерашний хлеб — это был мой паек… Но я не могу все время брать жратву в одном и том же месте… В итоге меня самого бросят в яму!
Он сказал это, состроив свою чертову рожу, скосив глаза, сложив губы дудочкой, голосом трусливого мальчишки! Неотразимо!
Позже твой отец и я начали по-настоящему опасаться. Где-то сразу после полудня. Нам наконец пришла в голову мысль, что этот человек, Бернд, говорящий по-французски, любезный, сочувствующий, такой добрый малый, пытается добиться, чтобы мы оказались полными дураками и доверились ему, выдали подпольную организацию, тайный склад оружия, а также планы будущих диверсий… И что там еще? Было поздновато думать об этом и проникать в суть, но, к счастью, зло не совершилось, мы ничему не позволили просочиться.
Мы даже ничего не сказали в знак благодарности, когда он ушел на чуток, а потом вернулся, чтобы спустить нам картошку, запеченную в золе! Славный подарок! Естественно, перед раздачей картошки он не смог удержаться и пожонглировал ею. Неисправим. Этот Бернд все время прикидывался дураком! Мы посмеялись, но ничего не сказали.
Пока мы пожирали картошку, он держал свое ружье, как трубу. Как саксофон, скорее. Дул в ствол, напевая какой-то мотивчик. Так легко, словно каждый день пользовался ружьем, чтобы исполнять музыку! Какие-то несколько секунд… я даже не знаю, успели ли другие заметить… но я заметил: его большой палец на спусковом крючке, так и пулю в лоб послать недолго! А потом и он заметил, что я смотрю на него, состроил свою рожу, и все. В глубине его глаз осталась лишь завеса тумана…
Мы сожрали картошку.
Только успели облизать пальцы, как наверху появились фрицы — патрульный отряд. Они выстроились в позицию на краю ямы, наведя на нас ружья. С ними был фельдфебель или кто-то вроде того, скорее даже полковник, в галифе, руки в боки, с видом крайнего недовольства оттого, что вынужден терять время. Мы сказали себе, на этот раз это то самое, казнь приближается, прощай, белый свет, прощайте, мои старики, жизнь прошла зря, я даже не испытал любви, станет ли мне плохо, обмочусь ли я себе в ботинки, где они собираются нас похоронить, что скажут нашим родителям, а та женщина, которая полюбила бы меня, какой бы она была, как бы ее звали? Все это пролетает в уме, мгновенно, а потом тебя бросает в дрожь, и уже нечем похвастать, поверь… Ты думаешь о том, что скоро сдохнешь, в двадцать лет, и что это совсем не здорово…
Эмиль рухнул на колени, он оплакивал все, что мог, коротко повизгивая так, что у него сотрясались плечи. Он выглядел как танцор танго, я помню, или как танцовщица, с завитком локона на лбу. А может, его волосы так завивались из-за дождя? Но я это прекрасно помню… И еще, что Анри бормотал по-польски свои молитвы, прямой как струна, опущенные веки, сложенные руки, сплетенные пальцы, в пиджаке и брюках рабочей одежды, она болталась на нем, мокрая насквозь… И поехали, все эти ля-ля по-поляцки… Но мы не очень хорошо слышали, потому что тот тип наверху начал кричать по-немецки. Мы даже не поняли, на кого он так разорался. Я положил руку на плечо твоего отца, а может, наоборот, он мне, в общем, скажу, что мы взялись за руки, обнялись, и прощай, Андре, до свидания, Гастон, и потом — ничего, поскольку ни я, ни он не верили в Бога. Потом мы попытались поднять Эмиля, удержать его между нами, рядом с Анри, чтобы уйти не как трусы, а выстроившись в ряд, знаешь, как в конце матча, когда приветствуют зрителей…
Бернд стоял в стороне, в двух шагах. Ремень ружья мягко спадал с его плеча, и, наклонив голову к нам, он смотрел прямо на нас, вытаращив глаза, как человек, который хочет запомнить все-все, сохранить навсегда сцену, глубоко отпечатавшуюся в глазах.
Нам показалось, тишина словно бы сдавливается, становится более сжатой, что не стало ни птиц, ни ветерка, ни угрюмых стонов земли, показалось, будто время заклинило, уступив место расстрелу. А потом наоборот. Все, вдруг вернулась жизнь. Взмах руки сержанта, и люди из отряда зафыркали в своих шинелях. Опять ложная тревога! Пижон в фуражке и надутых брюках что-то заорал и сделал знак Бернду перевести. Вечером один из нас будет казнен, если никто из виновных не сдастся в Kommandantur. Нам выбирать, кто именно.
Четкий полуоборот направо, и они ушли. Еще с минуту мы слышали, как они говорят, смеются и что-то насвистывают, удаляясь по мокрому полю. К грузовику, припаркованному так далеко, что шум мотора приходилось почти угадывать. И лишь тогда Бернд щелкнул затвором своего ружья. Не знаю, взвел ли он курок или разрядил ружье. Я ничего в этом не понимал. Но он был смертельно бледен.
Конец дня.
Какая там передышка! Только лишняя пара часов мучений. И грызни между собой по поводу того, кто умрет первым.
Мы решили тянуть соломинку. Эмиль и Анри не в счет, ясное дело. Твой отец сжал два конца белесых корешков в руке и протянул их мне. Смешно, но Эмиль с этим не согласился. Мгновенье назад он был готов на коленях ползти до Берлина, чтобы спасти свою жизнь, а теперь воспринял как оскорбление то, что ему не дают поучаствовать в дерьмовом выборе. Он был очень вспыльчивым, этот Эмиль, и чувствительным. Пока не стоял у стенки по-настоящему, пока шел только треп об опасности, да, он был смел, как никто другой. Но из тех, кто может грохнуться в обморок перед креслом стоматолога! А представь — перед нацеленным ружьем! Анри же во время этой дрязги просто смотрел и в конце концов сказал:
— Брось, Эмиль, ты же видишь, что это они…
— Они что?
Эмиль не понимал. Анри расставил для него все точки над i.
— Ребята с трансформатором. Виновные. Если нет, с чего бы им делать нам такое одолжение?
— Я вам объяснил: потому что вы женаты, — ответил твой отец.
— По-моему, каким бы ни было ваше участие во взрыве, вы зря пляшете под дудку герра Оберст… В идеале надо заставить его расстрелять всех или никого… Если вы подарите ему искупительную жертву, это будет означать, что вы с ним сотрудничаете, что вы его оправдываете, его бесчеловечное предложение о выборе окажется разумным, почти спасительным…
Все эти, столь прекрасные, изысканные слова, которые остались в моей памяти, словно свет звезд, принадлежали Бернду снова усевшемуся на краю ямы. «Искупительная жертва, бесчеловечный выбор…»
— Легко тебе говорить, — сказал Анри. — Лучше пожертвовать одним, чтобы спасти троих, чем строить из себя гордых и умереть вчетвером!
— Предоставлять кому-либо право на человеческую жизнь и смерть, считать себя выше всего настолько, что вправе определять цену той или иной жизни, значит лишиться всякого достоинства и позволить злу обрести смысл. Простите, что в этой униформе я на стороне зла!
И он отошел, встал чуть поодаль, так, чтобы мы его больше не видели со дна нашей глубокой ямы-тюрьмы. Твой отец отбросил свои корешки, и мы просто ждали в тишине. Пока по стене вдруг не скатилась бутылка, упавшая прямо в грязь. Можжевеловая водка, шнапс, беленькая, почти полбутылки! Пока мы поднимали головы вверх, Бернд уже испарился. Твой отец прокричал: «Спасибо!», и, по-моему, первым выпил Анри.
Они вернулись, когда полдень катился на убыль. Вот так мы приблизительно и узнали, который час. Мы умрем вместе с днем. Бутылка уже давно опустела.
Сначала показались галифе. Фриц устроился на краю ямы, расставив ноги, скрестив за спиной руки, весь из себя надменный гордец. За ним подошел его маленький отряд. Четверо, с саперными лопатами в руках. Они посмотрели на сержанта и по его знаку начали копать, обрушивать почву. Ломти глины падали на нас. Эти животные закапывали нас живьем! Думаю, Бернд попытался спросить их, в чем дело, может быть, даже хотел помешать им, но у него не было времени переводить, Эмиля снова охватил панический ужас, он чуть не помешался, начал орать, открыв рот, выбивался из сил, пытаясь взобраться вверх по стене, мы думали, он никогда не прекратит! Понадобилось выстрелить из револьвера, чтобы заткнуть его. Мгновенно! На секунду нам показалось, что мы уже умерли! Но нет! Сержант выстрелил в воздух, еще катилось эхо, и мы услышали, как Бернд повторяет:
— Вы спасены, ребята, вы спасены! Не бойтесь! Они просто скинули немного земли, потому что у нас нет под рукой веревки, а лестница грузовика очень маленькая!..
Все остальные посмеивались, качая головой. Как будто, будучи приговоренным к смерти и двумя ногами стоя в могиле, можно догадаться, что землю сбрасывают в яму для того, чтобы вытащить оттуда заключенных! На нашем месте небось тоже бы перетрусили!
Короче, мы отошли, чтобы дать им время обвалить достаточное количество глины для насыпи, а потом нам спустили лестницу, и мы поднялись наверх, ступенька за ступенькой, по шаткому приспособлению с вкопанными в землю ножками, на волоске от того, чтобы в любую минуту снова рухнуть на дно. Так что Бернд, который пытался схватить руку Эмиля, шедшего первым, покачнулся, и все, что было — лестница, Бернд, Эмиль рухнули вниз! Там, наверху, заволновались, привели оружие в боевую готовность и все такое, но мы просто подняли Бернда, всего в траве, вернули ему ружье… А потом, увидев его и самих себя здесь, внизу, одинаково плененных и по уши в дерьме, мы рухнули со смеху… Естественно, остальные, наверху, не поняли, Галифе что-то орал, и пришлось успокоиться, прекратить ржать и шлепать друг друга по ляжкам, пришлось заново поставить лестницу и — вперед; мы держали лестницу, пока Бернд поднимался наверх, потом настала наша очередь… Чем дальше, тем больше лестница раскачивалась, но мы долезли, долезли бы, даже если пришлось бы держаться зубами, и Бернд протягивал нам руку, потому что лестница была все-таки недостаточно высокой. И вот все мы снова на земле. Совершенно обалдевшие, просто держались друг за друга, как мальчишки, которые боятся потеряться.
Грузовик был припаркован в стороне, и мы пошли к нему. Бернд впереди, он тащил за собой четыре лопаты: для того, чтобы солдаты могли держать нас под прицелом. Галифе шагал позади.
Потом, в грузовике, поскольку он был в таком же дерьме, что и мы, Бернд сел на пол вместе с нами, между сапог его товарищей, расположившихся вдоль бортов. Твой отец спросил, как его зовут и чем он занимается в обычной жизни. Бернд улыбнулся:
— Меня зовут Бернд Вики, я клоун.
— Ах, клоун!
Бернд состроил рожицу, словно бы извиняясь:
— Рыжий клоун, с красным париком и огромным носом…
— А я учитель, — сказал твой отец. — Значит, мы оба смешим ребят… А почему нас помиловали?
— Один человек признался во взрыве трансформатора. Он уже расстрелян…
Мы не смогли продолжить: Галифе заорал через стекло кабины, а Бернд перевел, тоже криком, чтобы произвести правильное впечатление, — заткнитесь, а не то! Так мы и ехали до маленького вокзала с ожидавшими нас вагонами для перевозки скота.
На сей раз мы не умерли, но все же были высланы. В сортировочный лагерь неподалеку от Кельна. Откуда сбежали все вчетвером и еще с десятком других парней, строем прошли — шагом марш — мимо часовых. Эти идиоты подумали, что мы куда-то идем законным нарядом! И — свобода! Самое смешное то, чего ты не можешь знать… Нет, конечно же ты знаешь. Отец рассказывал тебе, так вот, мы вернулись через Бельгию, провели две ночи в монастыре, с монахинями, которые даже не боялись, что их изнасилуют… А потом, потом… С головой ушли в Сопротивление, потеряв счет дням, себя не помня, понимая только одно: мы должны оставаться людьми…
Эмиль умер в 1949-м, глупо: бросился под поезд в угольной шахте, потому что его жена больше не хотела жить с ним. Так я слышал… Анри давно вернулся в Польшу. Поди, жив до сих пор и рассказывает сейчас своим детям эту историю.
В то утро, когда мы были помилованы и высланы, произошло настоящее событие. Отчего стоило не умирать. На самом деле человек, который признал себя виновным во взрыве трансформатора на вокзале Дуэ, никак не был с нами связан. И даже ни с кем из сети Сопротивления. Это жена выдала его фашистам. Она не участвовала в Сопротивлении, не была обманутой женой и, в принципе, не должна была нас спасать. Дело трансформатора получило огласку, фрицы кричали об измене, люди испугались, но только не она, наоборот, она решила действовать, чтобы не соглашаться с убийцами. В тот момент, когда она узнала, что фрицы взяли заложников и что их скоро расстреляют, случилось так, что ее собственный муж, едва ли не через месяц после их свадьбы, оказался при смерти. Вопрос часов. У него не было даже сил на поцелуй. Поэтому она сказала себе, что бренные останки ее мужчины могут еще на что-нибудь сгодиться. И она решила выдать его как подрывника в Kommandantur!
Естественно, фрицы сперва рассмеялись: красивые жены, наставлявшие рога мужьям, попадались им на глаза каждый день, но ту, что пожелала избавиться от своего, выдав его на казнь как террориста, они захотели рассмотреть поближе. Конечно же они поспешили обо всем рассказать ее мужу, потребовать у него подтверждения. Они обнаружили его при смерти, его жизнь висела на волоске и вряд ли он дотянул бы до вечера. Тогда они совсем перестали что-либо понимать: этой женщине не надо ждать и дня, чтобы оказаться свободной! Однако он, этот мужчина, на смертном одре все подтвердил, глядя жене в глаза, сказал, что да, он один в ответе за взрыв трансформатора. И что расплачивается сейчас за свой поступок, но ни о чем не жалеет. Фашистов это взбесило, они вытащили его из дома, привязали к столбу и все-таки расстреляли, с бинтами, что развевались под пулями над сплошной раной его обожженного тела!
Поэтому фрицы нас и отпустили. Они на самом деле поверили той женщине, и мужчине тоже. Знаешь, почему? Он работал электриком и был обожжен во время взрыва трансформатора! Обожжен до костей… Но самое ужасное, что это мы убили того человека, а он спас нам жизнь! Мы взорвали трансформатор на вокзале, не зная, что он был там! Он видел, как мы входили в помещение, переодетые электриками, так вот, он был серьезным служащим, немного себе на уме, и вовсе не подумал о взрыве, лишь предположил, что мы хотим украсть медь с трансформатора. Скорее всего, он решил не вмешиваться, а подождать, пока мы выйдем, и пойти все проверить, чтобы, если нужно, предупредить руководство. И бум! Его нашли железнодорожники, сразу же после взрыва, с ожогами последней степени. Они узнали электрика, подумали, что ему досталось от его собственного взрыва, и потихоньку отнесли к жене, чтобы он не попал в руки фрицев. После войны нашлись даже люди, которые хотели назвать его именем улицу, почтив таким образом память сопротивленца и мученика. Его жена отказалась. Наотрез и не объясняя причин.
Кроме, конечно, истории с названием улицы, обо всем остальном мы узнали сразу, как только сбежали, нам, естественно, пришлось прятаться, чтобы уклониться от обязательной воинской службы, так мы с твоим отцом превратились в шахтеров с черными рожами, стали совершенно неузнаваемы, все время находились в угольной шахте либо в шахтерских поселках у сопротивленцев… А потом взрывы, диверсии… Так до конца войны у нас и не было времени пойти поблагодарить вдову…
Однажды ясным воскресным днем. Твой отец продолжал учительствовать, я работал электриком. Живые. Мы приоделись, галстуки и все такое, начищенные ботинки с кусками картона внутри, потому что подметки прохудились, но этого было не видно, и каждый с букетом в руке. Розы из сада твоих бабушки и дедушки. Мы оставили велосипеды у стены ее дома и постучали в дверь. Маленький домик в начале улицы Белан, в Дуэ.
Она открыла, и вот мы стоим, как два дурака, тяжело дышим и сжимаем зубы, потому что если заговорим, то заревем белугой, а она, она берет край своего фартука, вытирает глаза и заключает нас в объятия… Ты не можешь понять… Мы провели с ней весь день, нарубили ей дров, выпили пива, которое она делала сама. И говорили, говорили… К вечеру мы оба были окончательно влюблены…
Ее звали Николь. Так ее зовут до сих пор. И кроме того, сейчас она замужем за мной…
И все. Гастон допил до дна выдохшееся теплое пиво, все было сказано. Он улыбнулся своей грустной улыбкой немого комика Лореля, прищурил глаза, оттого что так ловко обманул меня, разоблачив в последний момент самое прекрасное в этой истории, роль Николь, он наслаждался последними мгновениями угасающего воскресного дня. У стойки появилась Николь, ее пакетик жареной картошки был уже давно съеден. Она смотрела на моего отца и Гастона, а они — на нее, и им не требовались слова. У моей матери было такое выражение лица, как, когда у нее болят ноги, а у ее сестры всегдашний дурацкий вид. Я же разглядывал имя вверху афиши фильма «Мост», который мы только что посмотрели: «Фильм Бернарда Викки». Охранник заложников. Клоун-солдат.
Значит, со своим морковным париком мой отец всю жизнь жил, сняв шляпу. В обоих смыслах выражения, потому что он никогда не носил головных уборов. Но, возможно, Черная Дама прибрала его однажды студеным днем по ошибке, потому что, дожидаясь меня в Лилле на вокзале сквозняков, он напялил новую кепку. Ведь даже я, сойдя с поезда и заметив тело за спинами врачей «скорой помощи», делавших ему массаж сердца, даже я не подумал, что речь может идти о нем. Только не с этой перевернутой кепкой, валяющейся рядом, словно для сбора пожертвований за последнее выступление.
Твой чемодан у меня, папа. Он в багажной сетке поезда, который уносит меня из Брюсселя в Бордо, через Лилль. Полный набор косметики Лейхнера, жирный грим, карандаши по цветам, так, как ты их оставил, и вся твоя экипировка для арены. Если бы мои коллеги, высокопоставленные европейские чиновники из комиссии по финансам, видели этот чемодан и знали бы мои намерения! Конечно, они бы подумали, что я слетел с катушек, став жертвой высокомерной женщины и обезумев от разочарования в любви. У них были бы именно такие мысли — соответствующие, как всякий раз, когда они вообще думают.
Все это, папа, — чемодан старого барахла, твои шалости учителя-клоуна, скупой рассказ Гастона, — все это было собрано и хранилось в тайниках моей памяти. Глухой след нашей несостоявшейся встречи на вокзале Лилля, мой привычный кошмар.
Я все это вынул, стряхнул пыль.
Завтра последние часы процесса над уважаемым, по мнению некоторых орденоносцев, типом, пусть он и совершил там и сям несколько преступлений под самопровозглашенной властью «правительства французского государства», когда делал первые шаги в своей карьере, начинавшейся в секретариате префектуры Бордо и закончившейся должностью важного государственного сановника, но эти несколько преступлений были, по правде говоря, настолько случайны, непроизвольны, и он о них так быстро пожалел! И все же преступления против человечности… Потому что существовало правительство Виши, потому что в Истории не бывает скобок, потому что глубокая человечность, достоинство, служение нравственному идеалу не подчиняются праву, закону! И потому мне кажется, что этот поезд везет меня на процесс над людоедом и чудовищем. И что мой долг представлять там тебя, папа, так же, как Гастона, Николь, Бернда и других, эти горестные тени, откуда бы они ни были, потому что тот человек, что пытается превратить свой процесс в маскарад, строит из себя жалкого шута, хуже всех былых врагов, и многие из них возненавидели бы его за то, что он предал всякое достоинство.
Итак, посмотрим, согласуется ли достоинство этого зала заседаний, позволившего палачу наслаждаться крохами свободы, будто время, вечность, которую он украл у тех, кого выслал, стала его неприкасаемым капиталом, посмотрим, согласуется ли это великолепное достоинство горностая и пурпура с черным юмором. Имя обвиняемого? Я едва помню его, как резкое эхо, как унизительную пощечину, и даже это хочу забыть завтра, чтобы сохранить в памяти только тех, кого он выслал из жизни.
Завтра я обведу большими черными кругами глаза, наложу на щеки грим, как у фальшивого покойника. Я попробую, папа, быть всеми теми, чей смех умолк в буковых лесах, в березовых рощах, там, на рассвете, кого ты пытался воскресить. Я также попытаюсь быть тобой, тем, кто никогда не терял памяти.
Сделаю все, что смогу. Буду клоуном изо всех сил. И, возможно, так мне удастся стать человеком, во имя всех. Кроме ш-у-у-ток!
Влюбись я слегка
Жоэлю и Сюзанне,
моим Лорелей
и жертвам всяких мракобесий
Любилось бы легче, влюбись я слегка.[3]
Гийом Аполлинер, «Мари»
Потому что было бы правильно, если бы дети
не умирали из-за ошибки отцов
и чтобы страдание не вызывало месть.
— Сегодня умерла мама…
Прямая как стержень в длинном черном платье, она только подняла голубые печальные глаза, прошептала что-то про свою ушедшую мать, и я сразу принял все близко к сердцу, этот траур задел меня за живое, ее трагический взгляд и звонкая пощечина, пощечина безумной любви.
В момент этого жуткого признания, девушка и я, мы танцевали танго. Главным образом она, потому что я не умею танцевать, разве что чуток верчу попой, когда мне уж очень радостно.
Той последней августовской ночью я сидел в баре зала для праздников в германской глубинке. Случайно. Просто зашел выпить пива за мой первый вечер здесь. Вцепившись в кружку, я рассматривал поддатое человечество под световыми горошинами, разлетавшимися от граней зеркального шара, что крутился под потолком. И увидел ее, она шла прямо на меня, словно большая ночная лилия с бледной кожей: глубокое декольте, красивые плечи, двадцать лет, не больше, темная цыганская шевелюра и лицо Лорелей, — такая красивая, что я готов был сам броситься в Рейн.
— Darf ich, bitte?.. Не хотите ли?..
Легкий акцент, особый шик говорить сначала по-немецки, а потом переводить. Вежливость и прозорливость одновременно. Черт побери! А ведь я, если честно, не тяну на French lover…
— Почему бы нет? Warum nicht?.. Ха-ха-ха!..
Смеяться болваном, на лучшее во флирте я не способен. А потом я крепко обхватываю ее и весь обмякаю. Моя правая рука дрожит на ее бедре, а левая поднята не слишком высоко, мы приникли друг к другу, она сжимает мне предплечье, чувствуя через пиджак, как я трепещу. Она почти невесома для меня, эта девушка — лиана, наездница пампасов, рожденная для танго. Тогда как я… Я скорее напоминаю лошадь! Пара топтаний на месте, извиняющееся ржание, ловкая увертка, и вот я уже при смерти… Ей удается все-таки вписать меня в правильный ритм, мои сердечные биения стихают, я следую за ней, мелкой рысью, лавируя между другими танцорами, и в тот момент, когда могло бы показаться, что я почти ожил, она приканчивает меня тремя-четырьмя словами! Мама, умерла, сегодня!..
С годами моя физиономия лучше не стала, я все больше и больше похожу на рогатого оленя, тупого и близорукого, на дикого лося, я даже удивляюсь, когда, ощупывая по утрам верхнюю часть своего лба, не нахожу там рогов какого-нибудь крупного самца, вот и тогда, от внезапной растерянности, попытавшись вновь обрести человеческое существование, все, я так и не сумел выйти из образа стареющего рогатого самца, чье поведение соответствовало физическому состоянию — инстинктивное, как у охваченного паникой животного. Я, разумеется, тут же сбился с ритма танго и отдавил ей ноги своими огромными ботинками. Если бы вы только видели, с каким достоинством она вытерпела боль, как, извиняя меня, улыбнулась едва заметно, хотя на глаза у кее наворачивались слезы — мне захотелось превратиться в доброго Самаритянина, чтобы она выплакалась, ведь от этого становится легче!.. Я оставил попытки походить на аргентинского гаучо, изогнулся так, чтобы красавица ощутила всю мою мужескую силу. Замерев на танцплощадке среди танцующих, которые налетали на нас со всех сторон, я притянул ее голову к своему плечу, и, разумеется, так или иначе надеялся, что мои утешения ей в ушко приведут нас к поцелую и к настоящему братству народов:
— Моя ушла в прошлом году…
И в ту же секунду я осознал, что опустился на самое дно, ниже некуда! Закрытая комната, подвал, мышиная нора, даже юбки старой девы, брошенной жены, занятой вышиванием, что угодно, лишь бы спрятаться там. Черт возьми, мне, высокообразованному начитанному человеку, непогрешимому эрудиту, забыть начало, вступительные строки самого знаменитого из романов одного из самых знаменитых французских романистов. Первые слова «Постороннего» Камю я, дипломированный знаток политических наук, находящийся на официальной стажировке в Ландах Южной Германии, я-то вообразил, что это доверительное сообщение о сугубо личном горе равносильно тому, что я уже завоевал эту женщину… Когда же я покончу с гонором! «Моя ушла»!.. Ко всему прочему я еще и позировал, строил из себя настоящего оратора, говоря о своих собственных семейных несчастьях: черт бы меня побрал с моими «ушла»!.. Мама умерла от рака, от гадости, пожирающей изнутри, и ее последние месяцы совсем не были прекрасны, поскольку страдание никогда таковым не бывает.
Короче, пунцовый от стыда, я осознал свой усугубленный показной ученостью промах, а что до девушки, плененной в моих объятиях, то я не позволял ей поднять голову, опасаясь ее взгляда. А потом она начала корчиться от смеха, и мы оба взорвались хохотом как созревшие гранаты.
До сих пор вы бы сказали, что все это детские истории, закидоны студента, наслаждающегося свободой за границей, сексуальные игры отсталых подростков, рассказ для женских романов. Совсем не то, что стоило бы…
Время, о котором идет речь, моя учеба в Германии, танцы, девушка, читавшая Камю, — все это происходило на закате лета 1972 года. В Петерсберге, поселке на возвышенностях Фульды, в американской зоне Юго-Восточной Германии, в двух турах вальса от границы с ГДР. В тот самый вечер я встретил единственную женщину, с которой мог бы прожить до конца своих дней, единственную, что была предназначена мне судьбой или историей, изначально, ту, с которой можно идти по жизни и в горе, и в радости, женщину всеобъемлющей гармонии, ту, чьей тенью суждено мне быть. Сейчас, когда я это пишу, на заре другого тысячелетия, прошло уже около тридцати лет, и ни одна другая так и не смогла занять ее место.
Инга, тебя звали Инга. И ты не была ложной любовью, с тех пор я ни с кем бы тебя не перепутал, для тебя я бы прыгнул к акулам. И все же я оставил тебя, или потерял, в Германии и больше не увижу…
Уже той же самой осенью 1972 года, когда я вернулся во Францию после немецкого лета, все было кончено. Память вершит свою работу, и боль сквозит в каждом слове. Я вернулся лишь для того, чтобы поговорить о тебе, Инга, со своим отцом, как можно быстрее, и, однако же, я слишком долго медлил: сегодня мы хороним папу в маленькой деревеньке департамента Па-де-Кале.
За живой изгородью из боярышника, что скрывает бездействующую железную дорогу к угольным шахтам, под моросящим дождем этого скверного времени года, открывается вид на твою могилу, и я никак не могу избавиться от мысли о той, другой глиняной яме, такой глубокой, что из нее не выбраться, в ней можно сгнить заживо, папа. Офицеры Вермахта бросили тебя туда как заложника, вместе с твоим кузеном Гастоном, ждать казни, потому что вы взорвали трансформатор, и потому, что они арестовали виновных, сами не зная того: вас!.. Не осмелившись сам, папа, ты поручил Гастону рассказать мне об этом рискованном предприятии сопротивленцев, однажды воскресным днем 1958 года, после дневного сеанса, в кафе какого-то кинотеатра в Рубэ… Помнишь?.. Показывали «Мост», немецкий фильм Бернда Викки… Гастон открыл мне глаза на твое призвание жалкого клоуна-любителя, которое вызывало у меня непреодолимый стыд: на самом деле я не знал, что уважаемый школьный учитель, при каждой возможности, профсоюзный ли это праздник, рождественская ли елка, ты, изображая шута, воздавал почести солдату, что охранял вас, пока вы ждали смерти. Этот немец, Бернд Вики, делил с вами свой паек, строил из себя клоуна, кем он, собственно, и был до войны, чтобы остаться человеком. И в 1958 году он снял «Мост», который мы пошли все вместе смотреть. Сегодня, когда мы кладем тебя в землю, папа, в моем кармане по-прежнему лежит тот самый билет на воскресное кино, надорванный билетершей кинотеатра «Трамвай», благоговейно сохраненный и уже весь покрытый пятнами… В какой-то момент я думал, что потерял его, а потом снова нашел, я расскажу тебе, папа…
Гастон здесь. Перед твоим гробом, который мы опускаем в могилу. У его рубашки обтрепался воротник, на нем черный галстук, каких уже никто не носит, а его круглые очки склеены лейкопластырем. У Николь распухли ноги, она шмыгает носом, и от этого у нее приподнимаются брови. Ее тушь размыта от печали, у нее мокрые от дождя волосы, всклокоченная химия, платье из лилового атласа под демисезонным пальто, которое она уже не может на себе застегнуть, вечное доказательство простых удовольствий. Они твоего возраста, папа, им как раз около пятидесяти. И они прекрасны.
В те времена, в первые дни зимы 1942 года, смерть не приняла вас, но в итоге она все-таки сцапала тебя на перроне вокзала Лилля, раздробив одним ударом твое сердце, в прошлую субботу, когда на тебе не было красного носа и клоунских башмаков. На тебе не было твоего маскарадного костюма, а новой кепки, настоящей, не шутовской, оказалось недостаточно, Черная Дама узнала тебя. И это случилось из-за меня, я позвонил тебе, сообщить, что возвращаюсь, чтобы рассказать о необыкновенном продолжении 1942 года, о тех подробностях твоей жизни, которых ты не знал, обо всем, что ты посеял в своих страшных садах и что проросло там, в Германии. Было ясно, что ты поторопишься: я же рисовался и поддерживал напряженное ожидание. И речи не могло быть о том, чтобы выложить тебе все это по телефону. Или написать в письме. После моей наконец закончившейся стажировки в Германии я спешил донести до тебя вживую эпилог твоих приключений сопротивленца. Вживую… Вот почему этот финал, которого ты никогда не узнаешь, я хочу рассказать тебе в тишине перед твоей открытой могилой, пока ты еще не стал воспоминанием, рассказать нашими, и только нашими, словами, если получится, словами отсюда, скромными выражениями, от которых ты никогда не отрекался, даже если твое ремесло учителя обязывало тебя прибегать к академической грамматике. Итак, не вслушивайся в гул вокруг, будь глух к почестям и пересудам, что шепчут с серьезными лицами на аллеях этого кладбища…
Даже Гастона и Николь предоставь их печали.
Не слушай никого, папа… Подумай о себе, хоть раз… Окажи внимание лишь тени моих слов, это история мира, который мог бы существовать. И главное, не позволяй выступлениям Франсуазы завладевать тобой. Возьми свою долю искренней боли ее нытья и будь снисходителен к ее выходкам властной девицы и образцовой сестры.
Она рядом со мной, такая же, как всегда. Она нацепила на себя печаль по последней моде, слезу, пошитую на заказ, рыдания с дефиле, и ей стало лучше. Так не столь остро ощущается боль. Потому что в тяжелых обстоятельствах она показывает все, что имеет: большое тело, немного тучное, грудь, что обычно обременяет ее, сходство со мной, нос-пятачок и коровьи глаза, и вместе с тем она преисполнена достоинства, преподносит тебе все это с щедростью болезненной плоти, как подарок, с видом Марии Магдалины… Не думайте, что говорить так о Франсуазе жестоко. Напротив, эта ее манера никогда не удивляться боли, это четко управляемое отчаяние вызывают восхищение… Нет, правда, молодые мужчины, с покрасневшими глазами, кое-кто из твоих бывших учеников, пришедших отдать тебе последние почести, папа, вздрагивают, когда она испускает короткий, почти эротический стон, как раз в тот момент, когда кюре поднимает кропило над могилой:
— Во имя отца…
Уже!.. Сейчас закроют твою могилу, заточат тебя в глухие сумерки… Итак, я должен тебе сказать, быстро, папа, у меня две секунды, и я не знаю, с чего начать. Может, закрыв глаза, я смогу остановить время:
«— Сегодня умерла мама…»
Хотя эта история началась сразу с финала, мне казалось, что мы проживем любовный роман от начала до конца, Инга и я…
Накануне я приехал в семью, что сдала мне две комнаты в цокольном этаже своей виллы. На склоне холма, который взбирался к широкоплечей церкви. Семья Тьелей. Теодор и Гертруда. Они приняли меня при большом параде, выстроившись в ряд у крыльца, мальчики, семи, пяти, трех лет, Шорен, Маркус, Лоенгрин, как матрешки, побритые налысо, в баварских кожаных шортах, пышущие здоровьем, с голубыми глазами, розовыми щеками, и на руках матери — Брунгильда, десяти месяцев от роду но уже с голосом Кастафьоре, от которого лопаются зеркала.
Теодор — крепыш с квадратной головой, гранитная глыба, монолит, на первый взгляд упрямо-ограниченный. Но он шел к тебе с распростертыми объятиями, был скромен в движениях и сдержан, участлив. И внимателен к ближнему. Явно не позер. Гертруда, вот это да, бесспорно, совсем не та Валькирия, что ты представляешь! Землеройка, лесной зверек, тушканчик, сноп коричневой пшеницы, посеянной на голове, глаза фаянсовой игрушки, она постоянно кудахчет, так, что ничего невозможно понять, и смеется сама с собой, и в каком бы уголке дома ты ни встретился с ней, вынимает для тебя, будто фокусник, даже не заметишь, откуда что берется, тарелку пирожных и бокал рейнского вина, для небольшой спонтанной пирушки. И все эти люди улыбались мне так широко, словно я был маленьким Иисусом. Сейчас, папа, я все понимаю правильно, но в тот день, ой-ей-ей, я больше не мог выносить эту картину семьи в фольклорных тонах!.. Сдерживаясь изо всех сил, чтобы не расхохотаться, я чуть было не пукнул от натуги!
Знаешь, папа, мне все еще трудно не смотреть на людей свысока, подавлять в себе это. Возможно, из-за инстинктивной защиты — своего рода способ оградить себя. Хотя, конечно, это — самоутешение. По правде говоря, сколько я ни старался, моя суть высокомерного педанта осталась прежней: Тьели, я смотрел на них снисходительно, как на деревенщину из другой эпохи. Конечно, Гастон и ты, вы меня уже один раз остудили, показав обратную сторону очевидных вещей, и презирать эту семью за то, что они немцы, я совсем не хотел, но не мог помешать своей старой сущности тайно выбираться наверх. Мы даже не отдаем себе отчета в собственной мерзости. Когда приезжаешь в завоеванную страну, к побежденным в 1945 году нацистам, уверенности и предубеждений хоть отбавляй!..
Теодор представил мне всех по очереди, потом я попытался сказать хоть одну любезность, каждому в отдельности; не знаю, как удается Франсуазе так комфортно чувствовать себя с немцами, ей, которая всегда видит только плохую сторону вещей, я же, несмотря на мой благостный порыв, на то, что я очень старался и все такое… я запутался в склонениях, забыл правила переноса глагола и что-то невнятно бормотал. В тот раз я их сильно рассмешил, и это спасло меня от того, чтобы самому не лопнуть от смеха, они сделали вид, что понимают мой ломаный язык, и ребята довели нас, меня и Теодора, до порога моего пристанища. А потом они выстроились перед чем-то вроде мудреного сундука, гордые, словно коты, показывающие огромную мышь, растерзанную их когтями:
— Нам кажется, что это лучше, чем радио…
И Теодор открыл клавиатуру маленькой фисгармоники. Потрясающая штука. Стоило ему поднять крышку, как Лоенгрин уже стучал кулаками по клавишам! Братья схватили его за лямки штанов и одним махом вернули на место. Я по глупости решил, что им было лень переставлять инструмент, и теперь они станут выпрашивать себе право приходить поупражняться в мое отсутствие. Прекрасно… Чтобы успокоить их, я сам завел разговор об этом:
— Ага, Лоенгрин — будущий Вагнер, да? Вы, может быть, тоже играете, Герр Тьель?..
— Nein… Никто из семьи… Но вы-то конечно же играете, не так ли?.. Французы такие образованные… Мы взяли ее напрокат для вас…
Я просто сел от изумления! Фисгармоника! Взять напрокат фисгармонику, только потому что я француз, для меня, чья нога никогда не ступала в церковь, кто не смог бы попасть в такт, даже если бы дал сам себе молотком по пальцам! Музыка! Да я всегда фальшивлю! Однако я не осмелился развеять их заблуждения. Не смог честно признаться в своей спеси, которая еще владела мной. Это было моей первой подлостью. Впрочем, я не слишком задирал нос, подыскивая себе симпатичные алиби, чтобы отказаться от предложения сыграть маленький кусочек: одеревенелые от путешествия пальцы, например?.. И так далее, и тому подобное, я строил из себя неженку… Чтобы сохранить лицо, не признаваться, что я ничего не смыслю в музыке!.. Я не знал, что на следующий день подвергнусь второму оскорблению с Ингой и умершей мамой. Так мне и надо!
Я должен был провести у этих ангелов-вояк в кожаных штанах два месяца. Мне казалось, что меня рассматривают как экзотического французского студента. Ach Parisss, kleine madmazelles! Не тут-то было: Тьели совсем не искали благоухания Пигаль на отворотах моего пиджака… Очень быстро, из-за смешной истории, которую я расскажу тебе позже, из-за одной встречи, одной старой фотографии, висевшей на стене в их гостиной, запечатлевшей улыбающегося парня, в кепке, взгромоздившегося на самый верх строящегося дома, я понял, что они, в рамках своей семьи, заключили вселенский мир без покаяния в грехах, без ложных сожалений о том, в чем не чувствовали себя виновными, о преступлениях нацистов. Они признавали их реальность, но не желали добровольно соучаствовать. Я также понял, что должен соответствовать этому неброскому достоинству. Отец Гертруды, плотник с фотографии, умер в Сталинграде, простой удивленный солдатик, а за прошедшие годы Тьели приютили у себя сначала бельгийку, потом англичанина. Перед моим отъездом они страстно желали, чтобы молодой советский человек, из любой социалистической республики, приехал бы к ним погостить. Чтобы в комнате для гостей осталась атмосфера братства, чтобы дети Тьелей приходили подышать ею. Сентиментальные утопии… Да, ладно, мы к этому вернемся…
В ожидании осуществления заветного желания Теодор главным образом приобщал свою семью и гостей к аромату Heffeweissbier, белого пива: он был декоратором пивных, состоял на зарплате Dortmunder Union Bier, Дортмундской Пивной Лиги. В его ведении находился округ, размером с четверть Франции, он чертил планы и следил за ходом внутреннего оформления всех бистро, где продавали дортмундское пиво. Kolossal! Из-за того, что ему хронически не хватало времени, все приемки работ он откладывал на воскресные дни. Что позволяло ему улаживать дела в воскресных радостях, выслушивая похвалы клиентов о своей работе, и не позволяло отказываться от предложенных кружек пива, mass, как их там называют. В конце дня, пьяный и ублаженный, мой Теодор пел!.. «Кармен», «Травиата», «Паяцы», связанные вместе случайно, и что-нибудь из Тренэ по-немецки, и «Лили Марлен», и «Венская кровь» — все, что приходило в голову. И громко. Потому что в его «фольксвагене» нет радио. И потому что он думал, будто пение, даже фальшивое, это всегда гимн радости примирившихся людей. В один из таких дней он все так же радостно заснет за рулем, и auf Wiedersehen Теодор!.. Наверное, эти заезженные мотивчики, а особенно необходимость часто останавливаться для того, чтобы пописать на обочине дорог, спасали его до настоящего времени. Он заставляет меня вспоминать о тебе, папа, о том, как ты возвращался со своих любительских клоунад, усталый, но гордый сознанием выполненного долга.
Я знаю об этом, потому что с первого же воскресенья служил ему шофером и помогал иногда добраться до кровати.
Но прежде всех этих хмельных триумфов, в самый первый вечер, я встретил Ингу. Окончательно сбитый с толку, ударив в грязь лицом с ее умершей сегодня мамой и отдавив ей ноги, какое-то время я делал вид, будто ничего не произошло, а она убеждала меня, что я красив, и мы оба одновременно поняли, что нам не стоит спешить. После нашего потерпевшего крушение танго и безумного смеха мы вышли в ночь. Ни украденного поцелуя, ни ее руки в моей руке: просто мы целую вечность смотрели друг на друга, стоя на паперти старой церкви, сгорбившейся в самом высоком месте Петерсберга, где тени облаков омывали наши лица, и ни одного слова, ничего, только зрительный контакт, мы словно принюхивались друг к другу. Даже о встрече на следующий день мы договорились вполголоса, а потом она быстро развернулась и побежала направо по улице, резко взбиравшейся вверх. Friedhofsweg. Сразу после этого ее взлета я подошел прочитать название улицы: «Дорога на кладбище»!.. Я воспринял это как вызов.
И примчался на свидание даже раньше назначенного времени.
Я должен был писать дипломную работу. Об этом ты знал, папа. Работу об открытии спортивных клубов по всем видам спорта и социально-профессиональном составе руководства. И о вероятном нацистском прошлом этих людей. О причастности спортивной среды к национал-социализму Тебя это смешило до икоты, папа: я собирался исследовать главным образом пиво, потому что футбол, всегда и везде, обсуждается в кабаках!.. Но ты снова притворился шутом, чтобы скрыть свое смятение: разве не правда, что ты бы скорее дал отрезать себе язык, только бы не вспоминать, что тебя чуть не убили из-за футбола?.. Ведь именно в качестве репрессий за один проигранный кубковый матч ты из мести французских жандармов стал заложником немцев в 1942 году?.. Разве не так?.. Конечно же так: циничность судьбы стала для тебя очевидна! Внутри же ты покатывался со смеху… В любом случае, я и теперь слышу, как ты насмехаешься надо мной. И не так уж ты был не прав, признаю я сейчас.
На деле же, в то первое утро, с Ингой в качестве экскурсовода, я решил начать свой обход злачных мест с самого важного в моей программе: с футбольных клубов, со спортсменов, которые между 1933 и 1945 годами больше всех сопротивлялись использованию спорта нацистской пропагандой. Как раз для того, чтобы не показаться слабаком перед Хольстеном и потихоньку попривыкнуть к пиву. Однако когда я показал свой план действий Инге, она лишь наморщила кончик носа:
— Fussball… Сплошные кабаки… А лошади тебе не подойдут?.. Меньше будешь писать…
И она рассмеялась своей шутке, шутке, которую я никогда не осмелился бы произнести перед девушкой!.. И тем не менее Инга была права… Для меня осуществить этот план — все равно что проплыть между Сциллой и Харибдой: будь то обычная пивная Хольстен, оформленная, возможно, Теодором, или же местный Версаль, замок с кучей флигельков и манежем для конных прогулок в глубине парка! И там, и там я был как бегемот, вылезший из реки, совершенно неуместный. Инга склонила голову и обмахивалась моим новеньким блокнотом.
Я согласился на лошадей. Отчасти потому, что Шлосс Фазанери, правление конного клуба, находилось за городом, без машины не доберешься. А Инга была обладательницей автомобиля. Но какого!.. Я согласился, еще не видя его, и уже не мог отказаться от своих слов. Пренебречь Ингой в моем положении синего чулка, без средств передвижения, было равносильно самоубийству!.. Твоя «дина-панар» канареечного цвета, папа, та, что ты ревностно хранил многие годы, я над ней жестоко издевался и не собираюсь извиняться. Но, по правде говоря, «уньон» Инги цвета зеленой чащи также напоминал животное: Инга скакала на огромной лягушке, зверьке из мультфильма! Шаровидные навыкате фары, губастая облицовка, напряженный ход, она была готова прыгнуть в любой момент, оттолкнувшись от земли задней осью с колесами… Но на этом сходство заканчивалось: в отличие от твоей доблестной «дины», зверь Инги страдал от серьезного увечья: он не мог трогаться в гору, только носом вниз, потому как, я бы сказал, имел проблемы с кровообращением, что-то с топливным насосом. Если машина поднимала нос, у нее отливала кровь, бензин утекал из двигателя, и она сразу глохла. И тогда приходилось двигать это огромное неживое тело, разворачивать его в нужную сторону собственными руками и ждать, пока закон тяготения завершит остальное и лягушка проснется. Зато этот зверь был самым послушным из всех, какие только могут быть, он мягко скакал, куда тебе надо. Эдакое вызывающее животное, с наклейкой на левом бедре: «Atomkraft, nein, danke!», атомной энергетике нет, спасибо. Наглый идеологический отказ от лица ленивой машины!..
Я согласился, потому что хотел, но также и из-за макиавеллиевского расчета: достаточно было увидеть Ингу краешком глаза, и ай-яй-яй! Платье цвета подсолнуха в стиле Куреж, короткое, короткое, короткое!.. Когда нам пришлось тащить, толкать лягушку, упираться, прыгать за руль, чтобы нажимать рукой на тормоз, пускать в ход коленки и поясницу, как и следовало ожидать, кружева небес разверзлись надо мной, все барабаны Вальхаллы забили в моей груди! И особенно в сильное волнение пришли мои благородные члены… Что не очень-то в вагнеровском духе…
И вот мы уже снова медленно катим под зелеными липами последних дней прекрасного лета, в сторону замка Фазанери, и продолжаем наше узнавание, словно два невинных ребенка, в первый день в детском саду, что придирчиво исследуют друг друга кончиками пальцев, оценивают, принюхиваясь и шмыгая носом, пробуют щеки на вкус кончиком языка, потом берутся за руки и больше уже не расстаются. О, эта чистая, вечная любовь!..
— В следующем году я заканчиваю журналистскую школу… Ты сколько лет?..
— «Тебе…» Мы говорим, тебе сколько лет. Двадцать два. Эх… Я снова готовлюсь к экзаменам в Государственный институт управления. Один раз уже провалился… Но немного не хватило, да, немного!.. Хочу стать высокопоставленным чиновником… А ты?..
Ты или тебе, какой же я кретин! Как будто бы сам я прекрасно говорил по-немецки! Я готов был проглотить свои собственные глаза!
— О чем я… Ах да, извини, возраст: мне тоже двадцать два… И я хочу быть спортивным репортером… Или спортивной?.. Может, на Олимпийских играх в Мюнхене, у меня есть зацепка, мне удастся написать статью… Через одного американского приятеля…
Я знаю, что ты думаешь, папа: что я могу лишь до ора тупо повторять обрывки наших разговоров! Да. От этого больнее всего. Обстановка потерянного времени. Если бы мы тут же начали пожирать друг друга поцелуями, к черту светскость и сдержанность! Но нет, мы даже не видели, каким голубым было небо… Или наши тела, тела бывших врагов, все еще сопротивлялись…
Я мог бы подумать, что в замке нас ждали. Короткая витиеватость Инги, и заискивающий худышка спешил ответить на мои вопросы, одновременно ведя нас на полную экскурсию. Конный клуб — это воплощение местной аристократии. Не правда ли?.. Ja wohl! Вот так мы мелкими шажками скользили по паркету во французском стиле, в фетровых тапках, которые мстили мерзкому французу за поражение Германии!.. Они цеплялись за ножки мебели, застревали на пороге, убегали к черту от слишком большого шага. Я беспрерывно лежал ничком на животе, чтобы вытащить их из-под мебели! Как он был рад, этот тощий лицемер, видеть меня ползающим на брюхе, смешным!.. Кроме огромного стола в стиле рококо, с вырезанной из глыбы столешницей, я помню еще позолоту невиданной роскоши, столовое серебро, фарфор. И пыль, которой я наглотался! Инга испускала охи и ахи, смеялась исподтишка над моими бедствиями. А тот слащавый тип важничал и пялился на ее грудь. Мне, доходяге, казалось, что он смотрит на меня как на следующий трофей в ряду кабаньих голов и оленьих рогов, висевших на стенах, как на будущий предмет псовой охоты, как на животное, которое скоро загонят и превратят в чучело. Конечно же из-за моей внешности. Из его объяснений я понял: для того, чтобы стать членом Конного клуба, за редким исключением надо было быть наследником богатых предков! Каждый, удостоенный этой чести, был под чьим-нибудь покровительством.
Множество промышленников с длинной родословной, еще больше местных мелкопоместных дворян… Возможность вступления осуществлялась согласно цензу, не так ли?.. И меньше определенного дохода, об этом не могло быть и речи…
Он смерил меня таким взглядом, как будто я уже собирался вынуть чековую книжку, добиваясь права вступления в клуб!.. Он ликовал при мысли о том, что меня можно будет отнести к разряду убогих без единого су: отказано!.. Развратник даже принес мне список, с адресами и должностями, и это были сплошные фон-бароны!.. А потом низкая месть труса: ему важно было уточнить, что многие из этих семей серьезно пострадали от войны. И своей плотью, родители — старшие офицеры, погибшие на поле чести; и своим имуществом — заводы, разрушенные бомбами союзников поместья… Не говоря уже об их владениях, вероломно разоренных коммунистами из ГДР, — леса, охотничьи угодья, все эти коллективизированные богатства!
Я делал пометки, слушая вполуха и закипая внутри, у меня чесались руки съездить нашему аристократу по роже. Скандала не произошло только благодаря присутствию Инги, которая ничего не могла сделать, но попыталась вернуть мне спокойствие, прошептав на ухо, что наш экскурсовод привирает, чтобы задеть меня. Вернее, сильно преувеличивает: ее собственный отец был членом клуба, и он вычитал свои взносы из налогов в качестве представительских расходов для разработки клиентов… Я не стал заострять на этом внимание, поскольку и так был сильно задет тем, что я чужой в этом раю, где у нее тоже было свое место. И кроме того, каждый раз проходя мимо окон замка, я как бы переносился в другое место, устремив взгляд вниз, туда, где на краю большой клумбы елозил на коленях человек, приступивший к осеннему туалету парка, словно к туалету огромного покойника. Когда мы выходили, я захотел доказать себе собственную мужественность, восторжествовать над нахальной мелкой сошкой убийственной фразой:
— А замок?.. Он не претерпел убытков во время войны?..
— Слава Богу, незначительно… И мы горды тем, что все отреставрировали за счет частных немецких фондов… Несмотря на мировой конфликт, наши члены практически восстановили свое имущество и сохранили свою честь… Некоторые даже приумножили состояние…
Его глаза были ледяными, он отвечал цинизмом и сарказмом на иронию и довольствовался тем, что указал нам пальцем направление к манежу и конюшням. Словно принцессе в сопровождении лакея…
— Если вы захотите еще раз посмотреть конные помещения, фрейлин Ингеборга, то дорогу знаете…
Мадемуазель Ингеборга… Уменьшительно: Инга!.. Он позволил себе роскошь сообщить мне полное имя моей возлюбленной, украсть у меня эту близость. Я готов был съесть свои фетровые тапки!
Мы пошли через парк. К крытой аллее с обвитыми зеленью сводами. Там-то, не ко времени, я закатил Инге сцену, заявив, что, очевидно, немец всегда остается пруссаком в душе и что надо бы переписать всех внебрачных детей Гиммлера… Я был невыносим, и губы Инги побледнели… Садовник, по-прежнему на коленях, выкапывал луковицы. От звука французских слов он обернулся, привстал, поспешно вытер руки и направился к нам. Огромный, в духе Эррола Флинна, закрученные усы, зачесанные назад волосы. Похож на провинившегося мажордома, приговоренного к принудительным работам. Он очень вежливо спросил, откуда я приехал. Лилль, Север. Едва услышав ответ, садовник пришел в страшное волнение. Он взял мои руки, со слезами на глазах чуть ли не целовал их, а меня от всего этого уже начало тошнить — мне совсем не нравилось быть воплощением Будды, живой статуей, которой поклоняются как миссии!.. Я улыбался, в духе до свидания, всего хорошего, но для него и речи не могло быть, чтобы выпустить меня, он объяснял Инге: Камбрэ, Валенсьен, его жена Розелин, он Адриан, я не понимал его обрывочных отрывистых фраз, только то, что он повторял через каждые два слова, Розелин, Розелин!.. И вот эта самая Розелин уже подбегает, решив, что ее муж порезал палец, копаясь в саду, она волнуется, взгляд изучает рубцы, она кричит на него, потом вдруг останавливается и, как в замедленной съемке, поворачивается ко мне:
— Не говори, чт’ты’с!.. да, ты из Лилля, я родилась в Ваземе, в самом центре!..
Ее глаза увлажняются, вот она уже возле меня, плачет, а я, ты же знаешь, я не умею бороться с печалью, услышав говор маленьких людей из моих краев, здесь, во владениях изысканного немецкого общества, и я тоже даю волю чувствам, реву, как плохо воспитанный мальчик, Адриан заключает меня и Розелин в объятия, мы сотрясаемся от рыданий в этих роскошных садах, и вид у нас такой, что даже Инга, девушка, поцелованная солнцем, свободная и раскованная, плюющая на то, что обнажает свои ягодицы перед первым попавшимся французом, даже она, глядя на эти объятья, сжимает губы и старается не зареветь подобно нам троим.
Потом они рассказывают нам. Адриан и Розелин. Мы в их комнате в жилых помещениях замка. Они приготовили настоящий кофе, не тот обычный суррогат, который все еще пьют у Теодора с Гертрудой, и Розалин надела блузончик, как она выразилась, с кружевным воротничком. Слова, на немецком, на французском, перемешивались над их неловкими руками, уставшими, лежащими на скатерти. Адриану удалось избежать службы в корпусе СС, поскольку он был на сантиметр ниже, чем требовалось. Но, разумеется, его все-таки мобилизовали в Вермахт. Он не смог стать, как того хотел, левым нападающим в дортмундской «Боруссии», антифашистском рабочем клубе из Рура, который был уничтожен Геббельсом и его архангелами… Адриан служил охранником русских заключенных в лагере в Валенсьене. И однажды, из-за того, что его начальство не разрешило ему организовывать в лагере футбольные матчи с этими русишами, он решил дезертировать. Ничего не планируя, как-то утром, по дороге на свой пост, он, сказав, что ему нужно отойти по нужде, уединился, а потом бросился бежать, не разбирая дороги, по улицам и полям, через парк Эско, мимо шахтерских поселков, раз двадцать он мог умереть, пока не добрался до кафе около одной из шахт. Сорвав знаки отличия с униформы, он положил ружье на стойку и посмотрел в глаза трактирщику. Он поставил на карту все. Трактирщик взялся рукой за ружье, и Адриан подумал, что вот сейчас, здесь, перед толстожопыми пивными кружками и стопками для самогона, он подарит свою тень дьяволу. И тут позади него кто-то сказал:
— Идем со мной, малыш…
Чья-то ладонь опустилась ему на плечо, его вывели через черный ход, и он провел десять месяцев, до самого конца войны, на полу заброшенного чердака, выходя только по ночам, с предосторожностями раненого зверя. Чтобы как-то развлечь его, из своей комнаты под чердаком, хозяйская дочка пела «Рамону», «Я плакал тебе вослед» и «Когда умирает любовь», как Марлен в «Марокко». Адриан помнит все слова, и я уверен, папа, что сегодня, чтобы выразить Розелин свою нежность, он делает точно такое же движение, как тогда шахтер в кафе, — движение танцующего танго, когда тот обхватывает свою партнершу. После освобождения этот шахтер помог Адриану устроиться на работу — поденщиком в угольную шахту. Его звали Жан Дельзен. Розелин была его дочерью.
Это она настояла, чтобы Адриан уволился с шахты прежде, чем заболеет силикозом, как Жан. И тогда они снова обратили взор в сторону Германии, нашли это место садовников в замке, и Розелин, хотя она до сих пор ни черта не понимает по-немецки, говорит, что здесь у нее будет такая же красивая могила, как и в Валенсьене… Ах да, отец Инги был в тот момент членом правления клуба… Если бы Инга могла еще раз поблагодарить… У них тоже родилась дочка, которую назвали Марлен, в память о той песне. И Дитрих, конечно… Марлен вышла замуж за одного человека из Гёте-института, ездит далеко, чтобы распространять немецкую культуру, и они скучают по ней.
Когда мы собрались уезжать, они проводили нас до ворот замка, до машины Инги, как истинные хозяева, но обнять на прощание не решились, скромно прижавшись друг к дружке. Я опустил окно со своей стороны, чтобы помахать рукой, и неожиданно для себя услышал, как Розелин пела: «Я буду ждать… днем и ночью, я буду ждать всегда… когда ты вернешься…», и от ее голоса склонялись большие надменные деревья.
Я не видел обратной дороги, па, стеснялся вытереть мокрые очки.
Остановив машину перед домом Тьелей, Инга повернулась ко мне, привалившись спиной к дверце со стороны водителя. И разглядывала меня, молча, застенчиво улыбаясь, все еще под действием песни или не знаю чего. Взволнованная. Или забавляющаяся смятением французика, растроганная глупым мальчишкой… Я не мог разгадать ее мысли. Но она была такая манящая, папа, ты-то ведь понимаешь мое состояние… Сразу после столь сильного, словно хлыстом стегнувшего меня волнения, естественно, я бил копытами от желания поцеловать ее, мою Цыганку, мою бесстыдницу с прекрасными лодыжками, глазами цвета рейнской гальки, но я, дурак, испугался получить от ворот поворот. И в итоге сказал, что ладно… Завтра воскресенье, я пообещал Теодору… А в понедельник, если она еще захочет видеть меня… И открыл дверцу… Ее лицо озарила улыбка… Не хочу ли я пойти потанцевать сегодня вечером с Пруссачкой?.. Послушать музыку?.. На этот раз не танго для бедных, а рок, песни освободителей…
Есть способ отказаться? Я обидел ее своей сценой антифашиста с незапятнанной совестью, и она отплатила мне той же монетой… Это честная война… Да, пойдем на рок, но только послушать… О’кей, она почти вытолкнула меня на тротуар… Tchass, пока… До скорого, bis bald, я заберу тебя в восемь вечера… И ее голос смягчился.
Я вышел из машины, она тотчас же уехала. Наверху колыхались занавески в комнате мальчиков, а Лоенгрин глазел в окно и махал рукой. Узнав, что я вернулся, он тут же прибежал дать мне препаршивый концерт на фисгармонике, дубася двумя кулаками по клавиатуре, военный марш, под который можно было маршировать разве что гусиным шагом, развлекая меня, пока я тешил себя надеждой превратиться в красавца — душ, бритье, капелька лака с восточным ароматом на волосы, белая рубашка. Гертруда пришла успокоить своего чудо-музыканта. Я сказал, что обожаю манеру, в которой Лоенгрин играет Вагнера. Она засмеялась и настояла на том, чтобы одолжить мне ужасный галстук в красную и голубую полоску.
Галстук Сэмми, в «Палетт», выглядел еще хуже. Шелковый, с нарисованной вручную Бетти Буп на кремовом фоне. Сэмми был из тех редких американских солдат, что не носят форму и любезничают направо и налево. За исключением Инги, нескольких других девушек и меня, все присутствующие имели отношение к американской армии. Ночной клуб, полностью контролируемый оккупантами, представлял собой темную пещеру с выкрашенными в черное стенами и ветхой мебелью. Единственными скупо освещенными местами были подковообразная барная стойка и короткая эстрада, на которой четыре рокера с длинными волосами, бросив на ударную установку гитары, ели картошку фри из бумажных кульков, пристроенных на коленях. В ожидании, пока они исполнят еще что-нибудь, музыкальный автомат играл «Keep on runnin’».
Сэмми был местью Инги, ее способом указать мне на мое полное ничтожество в любви и в политике! Огромный негр, с фигурой Гарри Белафонте, в рубашке табачного цвета с короткими рукавами, говоривший по-немецки с таким старанием, словно этого требовала вежливость. На гражданке он был спортивным журналистом. Пресловутая завязка на Олимпийские игры! Непревосходимый соперник!
Но каким бы Супертарзаном он ни казался, по его мгновенно увядшей улыбке, по его манере сверлить меня взглядом, а потом что-то по секрету выспрашивать у Инги, по его дерьмовому галстуку я сразу понял, что сегодня вечером у них было назначено нежное свидание, прямо здесь, однако все пошло не так, как планировалось: Инга только что объявила Сэмми о конце их романа и, последняя жестокость, представила ему его заместителя! То есть меня! Представляешь, папа, мою гордость маленького петушка и вместе с тем мое замешательство любовника, которого так откровенно используют?.. Сэмми был в два раза красивее меня и в миллион раз обольстительнее, за исключением его галстука, а Инга нанесла ему такое оскорбление?.. Я чувствовал себя в шкуре жиголо, самого уродливого и глупого в мире, и в то же время мне хотелось петь Марсельезу! Золотая медаль Франции в любовных играх!..
Сэмми настоял на том, чтобы расплатиться за наши напитки, и позволил себе пригласить Ингу лишь на один танец под «Roll over Beethoven», когда музыканты вновь взяли свои гитары, даже не вымыв рук после еды. На ней было оранжевое платье-трапеция, которое колыхалось на ее бедрах при каждом движении. От их танца веяло горечью расставания и послевкусием удовольствия. Когда они вернулись ко мне, я с важным видом обладателя драгоценного военного трофея предложил Сэмми еще немного потанцевать с моей красавицей. Поскольку я… хореография, это не… Сэмми только улыбнулся мне своей голливудской улыбкой и сказал, что теперь нам лучше уйти. Он был лейтенантом военной полиции и знал, что скоро сюда нагрянут его коллеги… А тогда… После майских терактов банды Баадер-Майнхоф против штаб-квартиры американской армии во Франкфурте и в Гейдельберге американцы стали слишком обидчивы… Какая-нибудь одинокая молодая немка среди американских солдат могла оказаться террористкой… Инга кивнула и чмокнула Сэмми. Я же, сочтя бегство трусостью, из удальства решил допить свое пиво. Но не успел: Инга быстро вытащила меня на улицу, вытирая мне на ходу пену с губ. Ее «уньон» был припаркован как надо, двигателем вниз.
Тем вечером мы отдались красотам пейзажа, с головой погрузились в меланхолию здешних мест. С пивными кружками в руках мы причащались этой призрачно-романтичной атмосферы. Потому что не могли сразу перейти к поцелуям, к ласкам… Под страхом смерти мы не могли бы показать себя глупее, вести себя проще… Ах да, еще кое-что, папа: твой Аполлинер, которого ты все время заставлял учить своих учеников, и Германия в его поэзии… Инга и я, в начале наших отношений, когда нам требовались обходные пути, чтобы говорить о любви, в его стихах мы черпали силы. Я говорил ей о зеленоволосых ундинах, об опьяневшем Рейне, а она отвечала мне Сеной, мостом Мирабо и днями любви, но помню я смиренно… Я бы руку дал на отсечение, что Сэмми не знал Аполлинера, Камю, вообще литературу. И что тогда он мог понимать в немке?.. А я, как будто моей возлюбленной была Лорелей!
Потом, уже глубокой ночью, в начале улицы Friedhofsweg, я оставил ее, пятясь задом, как накануне, продолжив нашу маленькую игру в Орфея и Эвредику, теряющих друг друга на пороге ада, на краю жизни, и когда я уже почти не мог ее видеть, она сказала:
— «Любилось бы легче, влюбись я слегка».
Представляешь, какая штука, папа?.. Я был сражен, Аполлинер ударил точно промеж глаз! Она только что запустила мне прямо в сердце бомбу, и я пропал! Террористка чувств! В точности старый оживший миф: впечатление человека, который идет искать свою жену в ад и, несмотря на запрет, не может удержаться, чтобы не взглянуть на нее, пока они не выйдут оттуда. Орфей и Эвридика. У меня возникло похожее ощущение, словно что-то утекает из рук, то, что мне дают и забирают обратно одним и тем же движением. Я бы взорвал крест на углу улицы Кладбища! Я помочился на него. Из-за пива.
На следующий день, на рассвете, меня разбудил Теодор: объезд строительных площадок. Воскресенье. Sonntag. Ja. Я обещал. Мы поехали на его «фольксвагене». Он говорил, говорил, об Олимпийских играх в Мюнхене, о церемонии открытия, на которую ни я, ни Инга не обратили внимания, о первых медалях, о том о сем, что мы, французы, можем выиграть 110 метров с барьерами, и еще, и еще, и кроме того он беспокоился, не сложилось ли плохое мнение о немцах из-за РАФ, Фракции Красной Армии, бандитов, которые повсюду бросают бомбы, но которые, слава богу, в тюрьме… Можно было подумать, что Сэмми преподал ему урок трусости!.. Сплошное занудство. Все утро мы осматривали интерьеры, более или менее законченные, оценивали покрытые воском стойки, кружево необработанного дерева над сервантами для пивных кружек, обдумывали проходы для официанток между пивными кранами и столами, обсуждали расцветку тканей для занавесок, лак для мебели и рейки для обшивки стен. И всякий раз, не спрашивая нашего мнения, нам совали в пятерню очередную кружку пенистого пива, и Gesundheit, на здоровье!.. К полудню я был совершенно пьян, а Теодор смеялся надо мною во все свое брюхо.
Это потом, слушай внимательно, папа, я забыл название той деревни, совсем рядом с Фульдой, и название пивной, в которой Теодор должен был в скором времени приступить к переделке, но там, во второй половине дня, я разом протрезвел.
Это был наш последний заход перед возвращением домой.
Теодор показывал шефу эскизы, а я думал об Инге, раскачиваясь меж столов, пьяный вдребодан. И, наверное, я угрожающе терял равновесие, потому что какой-то тип лет шестидесяти, в маленькой замшевой баварской шляпе, элегантный и очень крепкий, предложил мне присесть: setzen Sie sich! Он сидел в одиночестве за Stammtisch — большим круглым столом завсегдатаев с медной пластинкой посередине, на которой выгравированы их имена. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что я француз. А вот чтобы спросить меня сразу и на моем языке, не с севера ли Франции я приехал, нужен был веский повод. И таковой у него имелся: часть войны он провел в Нор-Па-де-Кале… А я, пойди пойми почему, пьянство, моя проклятая привычка строить из себя самого умного, мсье всезнайку, я начал рассказывать об Адриане, о том, что за два дня встретил двух бывших солдат, которые бывали в моих местах… А потом, очень гордый, я рассказал твою историю героических заложников. Я получал удовольствие от этого рассказа; непростительно, что меня распирало, пока я воспевал твои подвиги, папа, и что, сам того не зная, своим хвастовством я снова предал тебя… Потому что прежняя жестокость показала себя во всей красе, просто и сердечно. Без каких-либо предзнаменований, ничего, ни приоткрытых дверей ада, ни раздающихся вокруг криков обреченных. Этот человек не переставал улыбаться, громко восхищаться, удивленно вскидывать брови вплоть до конца моего маленького рассказа, когда он понял, что знаменитая немецкая армия была одурачена простым героизмом маленьких людей. Большим пальцем автоматически надраивая медную пластину, он сказал мне глаза в глаза, что дорого бы дал за то, чтобы узнать обо всем этом тогда… Потому что дело о взрыве трансформатора на вокзале Дуэ коснулось и его тоже! Он не помнил ни тебя, папа, ни Гастона, но вовсе не отказывался от своей роли в этом фарсе. Да, в то время, которое я упомянул, именно он отвечал за зону Лилля, и именно он подписал приказ об аресте четырех заложников, а потом приказ о депортации… Какая жалость, даже какой стыд для бывшего офицера — не понять, что он держал в заложниках настоящих виновников взрыва и что ему нужно было только расстрелять их… Знаешь, папа, оказывается, ты и Гастон, если бы вы имели понятие о чести, должны были бы сдаться и не ждать, что вас спасет ошибка их служб… Ну да ладно, у каждого своя мораль… Для него это был долг, не так ли, отдавать приказы?.. Мучить, расстреливать, высылать, понятно, что этим занимались младшие офицеры… Его нельзя было в этом обвинить… А потом долг потребовал сотрудничества с американцами после падения Третьего рейха… Его даже почти убедили вступить в организацию Петерсена, вместе с Клаусом Барбье, завербовали, чтобы бороться с коммунистами!.. Среди тех, кого он сдал, лишь один ускользнул от ЦРУ — фон Риббентроп, арестованный каким-то англичанином где-то в районе Гамбурга… Американцы посчитали это чуть ли не предательством и ждали от него оправданий… Он открыто потешался над ними… Что касается твоей истории, он смотрел на меня, пытаясь найти в моих чертах сходство с тобой… Он приговорил тебя к смерти, потом помиловал и послал на другую смерть, в лагерь, у него была непомерная власть над твоей жизнью, и он говорил об этом с нежностью, как о дорогом воспоминании… А Лиль, закусочная Жан, на углу улицы Федерб, напротив оперы!.. Сколько вечеринок он там закатил!.. Он снова чувствовал себя хозяином, выпихивая нас своей маниакальной памятью с лилльской мостовой! И в довершение всего: он радовался, папа, что ты выбрался из этого живым и невредимым, рукоплескал твоему побегу… В нем была какая-то спокойная наглость, невыносимая вежливость палача… Он спросил у меня твое имя, сказал свое, попросил записать, чтобы я передал тебе от него привет… И все это даже не потрудившись снять шляпу!..
Вот тогда Теодор начал петь, широко и глубоко, так, что чуть было не рухнули стены, и все замолчали, и слава богу, потому что иначе, иначе…
Он пел «Время вишен». Конечно, я не осознавал всю меру тишины, что установилась в зале во время заключительных циничных слов Oberoffizier, но все заткнулись, и в тот момент, когда я отодвинул свой стул, Теодор оказался уже за моей спиной и нерешительно запел на ломаном французском: «Когда для нас настанет время вишен…»
Бесконечно повторяя свою песенку, он обнимал меня, хватал за руку, тащил куда-то, направлял к двери, я вырывался, пытался боднуть его, а он тянул меня назад между столов… Нас можно было принять за неловких танцоров, двух неумелых мальчишек на первом балу… А Теодор не прекращал петь, в полный голос, словно исполнял военную песню, полную любви и боли, «Я не проживу без страдания ни дня…». Он был великолепен. И более взволнован, чем я. Он воплощал собой всю Германию, что должна была смыть свой стыд, но опять ударила в грязь лицом!.. У него не было возможности одному за всех каждый день приближать расплату за жестокость… Кроме этой бунтарской французской песни… А тот другой, хозяин этих мест, король этой пивной, сжимал пальцами свою кружку и насмехался над нами, раздраженный моим неуместным поведением.
На улице, прежде чем снова сесть в машину, как только закончилась песня, «Я сохраню в сердце открытую рану…», Теодор от всей души выругался, отряхнувшись от шелухи нацистского проклятия, дважды поцеловал меня, а потом, покачивая головой и продолжая шепотом ругаться, вздохнул и затолкал меня в машину. За руль. Не только потому, что был слишком пьян и слишком взволнован, чтобы вести машину, но также из желания показать свое гостеприимство, бросить вызов старым серо-зеленым драконам, которых я разбудил. Это было смело: за окнами пивной с нас не сводили глаз. Губы шевелились, и все ухмылялись, сплетничали. И описывали, что происходит снаружи, важному аристократу, единственному, кто остался сидеть, не соизволившему проводить побежденных.
В машине, из-за в стельку пьяного Теодора, притулившегося ко мне и забывшегося в своем опьянении, меня осенила одна мысль: а что, если этот старший офицер был все-таки человеком, даже такой, как он, с его послевоенными сделками с совестью?.. Что, если все мы, подобно ему, могли бы приблизиться к этой степени жестокости, просто отведя взгляд?.. Потому что, видишь, мне чуть-чуть не хватило героизма, я не стал мстителем, беспощадным поборником справедливости. У меня было полное непонимание истории. И вот только что я восполнил этот пробел, как будто история прикоснулась ко мне неуместным движением, словно исправляя ошибку в моем сознании. Конечно, я возмутился. И конечно, Теодор заставил меня сохранить достоинство. Но я ничего не сделал, возможно даже, сказал что-то непоправимое, извинился за тебя, просто проглотил унижение. Из-за привычки быть вежливым — даже с убийцами… Не помню уже. Помню только песню Теодора. И отныне я буду нести в себе эту неуверенность как отпечаток позора, как символ презрения… Скажи мне, папа: я был подлецом, когда встал и просто попятился от стола?.. Собирался ли я врезать ему?.. Даже в дорогой одежде, переполненный надменностью через край, это все-таки был старик, он мог бы умереть от порыва сквозняка… Нет, неправда, я ищу себе оправдание. Потому что он орал как животное, и, несмотря на возраст, у него живые глаза и твердая рука, и он бы подписал еще кучу приказов о высылке, о расстрелах, сколько угодно!.. Ты бы что сделал, папа?.. Ты бы убил его, ты бы плюнул ему в лицо, ты бы побежал по деревне, возвещая о его позоре, чтобы лишить убийцу уважения окружающих?.. А?.. Как будто все эти люди, оттуда, не знали о его прошлом… Как раз наоборот: то, что он имел такой чин в Waffen SS и у него была власть карать и миловать, то, что ему грозил Нюрнбергский процесс после окончания войны, — все это превратило его в местного героя. Здесь он был неприкасаемым, божком, который проживет свои последние дни без неудобств… Нет, думаю, ты надел бы свой красный нос, схватил бы сосиску, их Bratwurst, и, оп-ля, она превращается в сигару, ты взял бы бутылку пива и играл бы на ней, как на трубе, ты обернулся бы, чтобы подозвать официанта, и перекувырнулся бы назад, трах-тарарах и, оп-ля, снова на ногах, как пружина, ты целовал бы руки официантке, ощупывал бы ее корсет прекрасной баварки, ты приделал бы себе косы из белых соленых крендельков, ты стал бы притворно ханжески добродетельной служанкой или разбрасывал бы во все стороны монеты, как мертвецки пьяный богач у стойки, воплощение былой роскоши, ты бы изобразил его, этого сверхчеловека… Ты бы отрекся от законного гнева, позабыв о своей мести, отверг бы его преступления, ты победил бы абсолютное зло, пожертвовав собой, и уничтожил бы его болезненной насмешкой?.. Да, папа?.. Что ты сделал бы, чтобы ему стало стыдно?.. Скажи мне, черт побери, папа, что бы ты сделал?.. Изобразил бы рыжего клоуна, как обычно, грустного и приветливого, здравствуйте, мои убивцы!.. Потому что я, понимаешь, мне нужно знать, не был ли я последним дерьмом, тряпкой, достоин ли я еще называться мужчиной!.. Потому что я, папа, я не знаю, у меня в голове только законы и указы, я не владею оружием юмора и смеха, мной движет одно лишь желание пожаловаться в Европейский суд, — вечный инстинкт прилежного студента юридического факультета… Скажи мне, что я прав, что ты бы ему показал, памятуя о Бернде Викки, этом божественном клоуне, скажи мне, потому что если нет, то я должен туда вернуться, понимаешь, с ножом, с ружьем, я должен вырыть там яму, огромную, как та, в которую он приказал бросить тебя, и я должен швырнуть его в эту яму, и, вдоволь обжираясь, попивая пиво, как он любит, кокетничая с девушками и зарегистрировав мою месть в Бюро дозволенных преступлений, я должен дождаться, пока он там сдохнет!.. Никогда ты мне не сможешь сказать, папа!..
В любом случае, я легко отделался, потому что все кончено, потому что больше и речи нет о вендетте между нашими народами. Особенно в отношении давних преступлений.
За исключением того, что тем же вечером Инга… Меня распирало излить перед ней мою душевную боль… Я обошел всю улицу Friedhofsweg, предполагая уже заходить в каждый дом, чтобы найти ее, и именно в этот момент она приехала на своем «уньоне»… Словоохотливо, кудахтая как курица, я все ей рассказал, от А до Я, дергаясь и дрожа, о трансформаторе, па, о заложниках и о том, какое это жестокое испытание, для меня, твоего сына, — встретить через тридцать лет мучителя моего отца, нисколько не раскаивающегося, не осознающего своей виновности… Пока мы ехали в город, я остро ощутил, что вновь промахнулся, на сей раз еще хуже, чем тогда с танго в первый вечер, что я ее теряю, что это вопрос часов, дней. Если бы ты видел ее бешенство!.. В один миг она одеревенела, стала почти безобразной, бледная, с выпученными глазами, позабывшая, что нужно вести машину, — в результате мы чуть не вылетели в кювет! Она попросила меня описать ей твоего палача, па, его баварскую шляпу, красную окантовку баварской куртки… Ach ja, какой образцовый немец!.. Она обливала презрением мою нехватку смелости, мою трусость, уничтожила меня словами о том, как низко я пал в ее глазах, вручив свою и твою свободу преступнику, преступнику!.. Она была непреклонна и холодна. Как будто я своей любезностью отменил ненависть к нацистам, о которой она мне кричала, обвиняя меня в том, что я мешаю искуплению Германии, недостоин наследства справедливости и что я отрекся от тебя, папа… Как, как она могла быть немкой после этого?.. Если не была ко всему этому причастна!.. Я, в любом случае, был причастен к забвению!.. Она мешала французский и немецкий, так что я понимал не все, но ее жесты красноречиво говорили, чтобы я заткнулся, чтобы соблюдал дистанцию; ни поцелуя, ни моей руки на ее плече, Ruhe, bleib still — спокойно, на место, как собаке, слишком виляющей хвостом, вот это да, унижение и презрение, которые трудно было не заметить… Попробуйте залатать такие прорехи между любовниками, чьи отношения находятся еще в самом зародыше!.. Ей легко: ее отец — благодетель Адриана, у нее были основания им гордиться… Пойми меня правильно: я тоже горжусь тобой, па!.. Ты увидишь!.. Но тогда я уже ничего не понимал, она сковывала меня, как лед, и воспламеняла, как огонь, не знаю, не могу объяснить точнее!.. Она пела «Лили Марлен», в быстром темпе, словно заклинала судьбу, повышая голос, как только я пытался заговорить.
По собственной воле она объехала все бары города. Пыталась найти старого нациста, чтобы я заставил его извиниться!.. У меня тряслись поджилки от мысли пережить еще раз мой сегодняшний позор у нее на глазах. Она молча вопрошала взглядом, тот ли это бар. Я качал головой, давая понять, что нет, это было не здесь. В том числе и когда мы затормозили у пивной, в которой я говорил с офицером. В пустом зале горела только одна лампа, бар закрывался. Я снова ответил отрицательно, не поднимая глаз на Ингу. Не знаю, что бы она сделала, если бы я сказал, да, это здесь. Что касается меня…
Тем же вечером она бросилась искать Сэмми, но при этом настаивала, чтобы я был рядом. Кто знает, что случилось бы, если б она его сразу же нашла. Может, между нами все бы закончилось, не было бы продолжения, и мне пришлось бы два-три дня страдать из-за саднящей гордости, а потом я бы забыл ее, быстро заменил бы какой-нибудь Гретхен без особых душевных переживаний и оп-ля!.. Но нет, тоненькая нить, связавшая наши судьбы, не оборвалась…
Она долго ждала у одного конца стойки в «Палетт», я — у другого. Пока мне это не осточертело. Роль зрителя во время реванша Сэмми меня не прельщала, нет, увольте. Я вышел, слегка коснувшись ее. И оставив перед ней, как слащавый залог мальчишеской любви, старый билет в кино, тот, с воскресного «Моста», весь помятый. Не уточнив, разумеется, что я дарю ей свои личные сокровища и свою жизнь. То, что еще заставляет меня держаться на ногах сегодня… Я вернулся пешком. В полном отчаянии.
На следующий день, в понедельник, она поскреблась в мое окно, напугав Лоенгрина, как всегда развлекавшего меня энергичной музыкой, пока я брился, и напомнила, что пора начинать обход футбольных клубов. Самодовольный, я подумал, что прирожден заставлять барышень плясать под мою дудку. Билет в кино и аристократическая спесь произвели это волшебство: Инга пришла просить прощения. Вот так…
Она ничего не сказала ни о вчерашнем происшествии, ни о моем поведении, ни о билете-талисмане, естественно, разорванном, выброшенном, сожженном… Она вообще почти не говорила, просто молча сопровождала меня, но на ней была короткая плиссированная юбка, широкий пояс поверх облегающего длинного свитера, и очень изысканный медальон с чеканкой: кокетство, кокетство! Я не стал ни о чем спрашивать. В ее взгляде было что-то загадочное и неистовое, а я не святой… Впрочем, быстрый поцелуй Инги искупил ее вчерашние капризы, даже с лихвой… Я щедро налег на лосьон после бритья, в надежде на другие поцелуи. Но явно опередил события: она наморщила нос, увернулась, вновь начала напевать «Лили Марлен» с видом роковой женщины, и мы сели в «уньон», который тоже решил показать свой норов, никак не хотел заводиться, так что нам пришлось развернуть его, прежде чем мы смогли тронуться с места.
Фактически весь день мы бродили по окрестностям. Изучали футбол со всех сторон. Я снова думал о тебе, о тех вероломных жандармах из Энан-Лиетарда, что выдали тебя гестапо… Здесь я повстречался с хвастунами, лишенными памяти, убежденными, что чемпионат мира по футболу стирает все войны, особенно когда Германия выигрывает в финале, с простыми людьми, работниками стадиона, которые во время войны превратили евреев-хирургов, адвокатов, жен банкиров в прачек, стиравших форму футболистов, в рабочих по уходу за газонами, в ремонтников… И тем самым, с согласия игроков клуба и некоторых руководителей, спасли их от Холокоста… Они никогда не хвастались этим, никогда не извлекали из этого никакой выгоды для себя… И они, и Адриан, и Розелин, — эти люди, здесь, в Германии, такие же, как у нас, им позволила остаться людьми их человечность… В тот день, опустошая пивные кружки, они с трепетом рассматривали старые фотографии, шептали имена, Якоб или Давид, потом вдруг замирали, тяжело дыша, и давали волю слезам, ручейками стекавшим по бороздкам их морщинистых щек; старые арийцы с голубыми глазами, толстокожие здоровяки с жесткой шевелюрой, которые убили бы из-за незасчитанного гола «Баварии» или «Айнтрахта», рыдали, вспоминая своих угнанных приятелей евреев и цыган. Инга, при первом же проявлении чувств, отдалялась, выходила или испепеляла невидимого врага взглядом народного героя, преследующего предателя.
К полудню мой список спортивных учреждений был исчерпан. Инга с самого утра так и не произнесла ни слова. Хуже того, она помрачнела, и весь обратный путь в Петерсберг меня трясло. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что мне дана отставка, что сегодня наши чувства мертвы. Прошлой ночью, после моего ухода из «Палетт», Сэмми, наверное, предложил ей что-то более интересное, получил для Инги журналистское прикрытие на один день Олимпийских игр в Мюнхене или не знаю что пообещал, но снова завоевал ее… И сейчас она точила нож гильотины, который разрубит наши отношения. А потом мы со скоростью пешехода тащились через городок, действительно практически шагом, я даже подумал, что Инга хочет дать мне полюбоваться огромным, украшенным гирляндами, Maibaum, майским деревом на площади… И вдруг — опять каприз: с видом рассерженной пруссачки, чем она немного напоминала Франсуазу, когда та делает орфографическую ошибку, Инга резко остановила машину у современной церкви с шероховатыми стенами без отделки и цветными окнами и вошла внутрь.
Ты, папа, я тебя знаю, ты бы и в этой ситуации нашел, что сказать, сохранив свои убеждения неверующего под личиной клоуна-любителя! Ты бы сравнил просторное помещение под церковными сводами с огромным гаражом, или сараем, где можно было бы устроить танцы, или еще лучше: ярмарку с куклами на муниципальный праздник!.. Подумаешь, в церкви!.. Я зримо представляю, как ты машешь руками в центральном проходе и очень громко говоришь: сюда лошадиный жир для жареной картошки, туда кукол, сосиски для гриля, сюда, разумеется, пивные бочки!.. А я чувствовал себя посрамленным, сознавал, что отныне меня вычеркнули из списка! Будь я шофером, рабом, она бы и то обращалась со мной лучше!.. И это после всего!.. Я пошел за ней.
Она ждала в глубине, перед алтарем, я огляделся и был ошарашен этим местом, как будто попал внутрь бетонного эклера. Ни одной прямой линии, никаких колонн, но все в равновесии с геометрическими объемами!.. Черт возьми, это архитектурное достижение!.. У меня бежали мурашки по коже, пока я пытался как можно бесшумнее подойти к Инге, и, разумеется, неимоверно шумел, натыкаясь на скамейки… Казалось, что меня окружает экспрессионистская декорация из какого-то старого фильма, знаешь, такого, с разбросанными покосившимися домами и сильно загримированными людьми… От этого я окончательно утратил равновесие… Да так, что Инга даже обернулась, когда я уронил стопку молитвенников и разбил себе локоть, пытаясь собрать их. Ты бы оценил эту клоунаду, папа, номер, достойный тебя. Во всяком случае, Инга обернулась и не могла удержаться от смеха. Я стоял на коленях, пытаясь собрать проклятые книги, которые словно нарочно удирали, ускользали, укрывались под скамейками, как те чертовы тапки в замке, невзлюбившие меня, чужака на немецкой земле, а Инга примостилась рядом со мной и прошептала, что эту церковь построил ее отец, он мирный человек, гуманист… Подобные творения — его способ найти путь к единству людей, обрести вселенское согласие…
Его имя было выгравировано на табличке около алтаря: «Доктор Erwin Sonnenschein. Architekt»…
Ага, ее тоже звали Сонненшайн, значит, Инга «свет солнца»?.. Ну конечно! Так, так… Наверное, у меня был глупый вид, задрав нос, я вновь и вновь рассматривал высокие своды потолка, красоту витражей, все это взывание к Богу, эту музыку цвета дня в чем-то вроде священного бункера… Что ты хочешь сказать: браво, снимаю шляпу, о-ля-ля, вот тебе сполна за твою гордыню, так-то! Нет, мне не стало стыдно за нас, папа, за нашу скромную жизнь и за то, что мы обыкновенные люди, ты прекрасно знаешь, с моим презрением покончено, но Инга, понимаешь, дочь создателя храма все-таки, как же она должна была гордиться своим отцом, никогда в нем не сомневаясь, в отличие от меня, кретина, когда я еще не знал причин, заставивших тебя стать клоуном-любителем. Я как будто вел под руку святую Терезу Авильскую и всех невест Божьих… Конечно же я не достоин… Я, коллаборационист завтрашнего дня, который не осмеливается кричать о справедливости для своих близких… Инга взяла меня за руку, я чувствовал ее волнение, казалось, она готова вот-вот разрыдаться, мы преклонили колени у алтаря, приняв помазанье светом, струившимся сквозь цветные витражи, и тут настала моя очередь исступления, па!.. А потом Инга уклонилась от моего поцелуя, бум, я здорово шарахнулся о скамейку, и все стопки книг, с первого до последнего ряда, задрожали перед тем, как обрушиться на меня. Это было похоже на взрыв аплодисментов… Мы выбежали из церкви, умирая от смеха, преследуемые молодым монахом, с которого на бегу то и дело слетали сандалии!..
Плохо было то, что Инга припарковалась вниз по склону, и нам, прежде чем мы смогли уехать, пришлось толкать лягушку, так что у монаха было достаточно времени, чтобы предавать нас анафеме с помощью плевков и испорченной латыни. А я крикнул ему, чтобы он замолчал, что отец Инги построил эту церковь, а значит, учиненный нами беспорядок нельзя квалифицировать как смертный грех, да, ведь Инга, по праву наследницы, и я, учитывая мою любовь к ней, мы заслуживаем поблажек перед Богом!..
И потом мы вновь хохотали до слез, ранним вечером, грызя Knodel Schnitzel, в закусочной, возможно, оформленной Теодором. От этих глупых школярских выходок Инге полегчало, но когда она внезапно затихала, бормоча сквозь зубы «Лили Марлен», то смотрела на меня так, будто все еще не простила мне мою капитуляцию перед твоим палачом, па.
Затем настал черед моей исповеди. Дашь на дашь. Инга показала мне своего отца в его творениях, я представил ей твои клоунады, почесть, которую ты воздавал Бернду в течение всей жизни. В конце Инга просто наклонила голову, и в тот момент, когда я подумал, что она скорее похожа на брюнетку Гарбо, чем на блондинку Дитрих, и потянулся к ней, чтобы погладить по щеке, как всегда неловко, я задел ее сумку с ремнем через плечо, брошенную на краю стола, и оттуда выпало оружие, пистолет, который она положила рядом с тарелкой, как будто добавила еще один прибор для смерти. Как ты догадываешься, меня от этого бросило в пот, и я попросил ее немедленно убрать его!..
Я уже ничего не понимал про Ингу: сначала обольстительница, цитирующая Камю, затем антифашистка-passionaria, потом простая девчушка, очарованная американским солдатом и готовая продаться за то, чтобы получить должность журналиста на одном из каналов Радио США, а теперь что, с этим оружием?.. Она случайно не террористка из банды Баадер-Майнхоф?.. Инга не растерялась… Я угадал точно. Да, она из них. Из Kommando 15 июля, если уж совсем точно!.. Это в память о таких людях, как ты, папа, честных сопротивленцах, активно работала Инга. Потому что Германия сжульничала, потому что с помощью лицемерных Соединенных Штатов она ловко избежала расплаты, потому что она не наказана за абсолютное зло, в котором признала себя виновной. В 1951 году канцлер Аденауэр обязался «возместить материальные и моральные убытки за бесчеловечные преступления, совершенные во имя немецкого народа»! Невыполненное обещание! Итак, теперь Инга может мне признаться: РАФ, контакты с бывшими коммандос Петрой Шельм или Манфредом Грасхофом, планы побега из тюрьмы Энслинна, Баадера и Майнхоф, это ее способ сопротивления! Сопротивления Германии денег, которая пережила войну без ущерба, как богатые члены Конного клуба, включая отца и семью Инги, конечно же, да, даже церкви ее отца, не сотрут никакое преступление, способ борьбы против этой Германии роскоши, без памяти, без угрызений совести, этой сообщницы американского империализма, который истребляет северовьетнамский народ, как нацисты истребляли евреев во время Холокоста… Но народ, Адриан, Розелин, малыши, — они помнят об Освенциме и Дахау, не хотят больше стыдиться и знают, что Фракция Красной Армии обрушивается только на властей предержащих и на агентов империализма!..
Наверное, пока Инга все это мне объясняла, у меня был совершенно блаженный и офонаревший вид, потому что она прервала свою обвинительную речь, наклонилась над столом и — раз, поцелуй, как бабочка, в уголок губ!.. Я не должен беспокоиться… Чтобы освободить активистов, достигнуть своих целей, не быть больше козлом отпущения, выбранным для формирования мнения нации, требующего порядка и безопасности, РАФ должна изменить свои методы… Инга собиралась стать журналисткой, чтобы бороться пером и словом… Но, разумеется, начиная прямо с этой минуты, для меня было бы лучше больше не строить иллюзий и насколько возможно избегать ее: будущий высокопоставленный французский чиновник и немецкая террористка, это никуда не годится!.. К тому же прошлой ночью она виделась с Сэмми, после моего ухода из «Палетт», и согласилась выйти за него замуж… На этот раз Инга добивала меня по-предательски. Подачка неискреннего поцелуя, мне не о чем беспокоиться, я должен избегать ее, должен позволить ей выйти замуж за другого!.. Ну ее и занесло!.. Вот тогда я осознал, что, несмотря на жестокость этой женщины, двуличие на кончиках ресниц ее прекрасных глаз, я просто не представляю остаток своих дней без нее, что отныне лишь она одна имеет для меня значение. Но я не смог ей ничего сказать, только промычал что-то и сжал зубы.
Она отвезла меня домой. И снова забрала через час, чтобы успеть на ночной поезд: направление Мюнхен, Олимпийские игры! Сэмми проведет нас в деревню… Я был обессилен, подавлен, расплющен, как сигарета!..
Теодор ждал меня, чтобы угостить пивом, потому что у самой младшенькой, Брунгильды, резались зубы и она не давала ему спать. Мы спели «Время вишен». Фальшиво, разумеется. Я признался, что не умею играть на фисгармонике. И что влюблен в террористку РАФ, которая собирается выйти замуж, из профессиональных соображений, за американского негра с паршивыми галстуками. И что из-за этого я подыхаю. Но уезжаю с ней сегодня ночью в Мюнхен. Любовное терзание — это ведь тоже любовь, разве нет?.. Ach, ja, Теодор скривился. Он посоветовал мне не отвечать на ее звонок или сразу прочитать ей какое-нибудь стихотворение на немецком о любви, а потом жениться на ней. Хорошо. Понятно. Мне нужно будет порыться в поэтическом архиве моей памяти, Erlkonig, Kassandra или… Мы выпили еще по пиву и попытались исполнить «Гимн к Радости» на фисгармонике. Очень быстро нам стало ясно, что даже Лоенгрин играет лучше нас. Тогда мы забарабанили, как глухие, по клавиатуре, воя от смеха, опрокидывая кружку за кружкой. Я попытался спеть «Лили Марлен», с грехом пополам, но Теодор прервал меня: у Марлен Дитрих хватило смелости оставить Германию, поехать в США, во Францию, а потом вернуться лишь в 1969 году, чтобы спеть прежние песни, не дать ни о чем забыть, понимаешь?.. У нее не было фальшивых нот, и мы не должны… Ok, jawohl, Теодор, простите… А потом, с улицы, Инга коротко просигналила. Почему я вышел, почему не продолжил пьянствовать, учитывая, что был опустошен, выслан из жизни и будущих чувств Инги, почему я побежал к моей изменнице, пойди пойми!.. Теодор проводил меня до лягушки, узнал Fraulein Sonnenschein, сказал ей добрый вечер, а мне сделал рожу, типа, придется нелегко, в красавице есть изюминка, и, прежде чем лягушка умчала нас, он меня поцеловал, крепко, взволнованно, словно я уезжал на войну.
Это было в понедельник вечером. Инга выглядела шикарно: черные брюки и свитер, на котором вспыхивал золотом изящный медальон, большая сумка на ремне. В поезде я все же попробовал воплотить план Теодора, пытался читать стихи, но в голову лез только Аполлинер: «Все про любовь поет, измены да наветы, про бедный перстенек, про боль сердечных ран»[4], а строки, в которых говорилось про колесо мельницы и про желание умереть, никак не мог вспомнить… В результате Инга заснула на моем плече, а я всю ночь объяснялся ей в любви. Она ничего не услышала или сделала вид. Хотел бы я знать «Песнь партизанов», убаюкать ею мою возлюбленную, но нет…
На следующий день, во вторник 5 сентября, прямо на рассвете мы приехали в олимпийскую деревню. Сэмми, этот чертов преданный пес, проведет нас внутрь. У Инги будет возможность взять интервью у Марка Спитца, американского пловца израильского происхождения, и Гейды Розендхол, чемпионки по прыжкам в длину, уже награжденной серебряной медалью в пятиборье… А что я мог предложить?..
Сначала все шло прекрасно. Сэмми ждал нас. В своем безвкусном галстуке с Бетти Буп. И с пропуском в сектор прыжков, частично прикрывавшим галстук. Мы миновали контрольные пункты. Сэмми улыбался, рассказывая нам, как американские спортсмены, возвращавшиеся сегодня поздно ночью сильно навеселе, повстречали девятерых бразильцев, тоже загулявших, но таких незадачливых, что они умудрились потеряться: нагруженные спортивными сумками, пьяные лунатики, хохоча до упаду помогали друг другу перелезть через забор, соорудив из собственных тел «живую» лестницу… Сэмми закрыл на это глаза, как и в нашем случае: видишь, он снова рассмеялся, Олимпийские игры — это и впрямь всемирная дружба… Я позволил Инге отвести его на минутку в сторону, поговорить с ним. А по какому праву я мог бы им помешать: они были помолвлены, американский журналист и немецкая антиамериканская террористка… Когда они вернулись ко мне, я прекрасно заметил мимолетную жалость во взгляде Сэмми: ясное дело, Инга только что подтвердила, что да, она выходит за него замуж, о, my darling, и все в том же духе!.. А у него сердце рвется из груди, о нет, он не думал vae victis, горе побежденным, это было полусекундное соболезнование побежденному и basta cosi! Гуманный и такой вежливый, даже скорее смущенный тем, что Инга прижимается к нему, и они смотрятся так гармонично!.. Он сразу же нам объяснил, что в деревне мы пойдем по Конноле-штрассе, чтобы попасть в американский квартал и к Марку Спитцу… У нас было достаточно времени осмотреться: без пяти восемь, все еще спят… Там маленький двухэтажный домик — это для израильской команды, напротив — два больших здания ГДР, Германской Демократической Республики… Я же ничего не чувствовал, как под наркозом, я сходил с ума, я не мог представить Ингу рядом с человеком, который носит такие галстуки!.. И я прибег к самому позорному оружию: а будет ли Сэмми любить Ингу, если узнает, что она причастна к убийству четырех американцев во Франкфурте и Гейдельберге?.. Помню, что время остановилось на какую-то секунду… Сэмми не слышит меня, он поднимает руку, чтобы показать израильский домик, где на балконе второго этажа маячат чьи-то фигуры, почти в истерике я хватаю Сэмми за плечо и кричу, призналась ли Инга своему будущему мужу, что она носит с собой пистолет, что она состоит в РАФ, организации, убивающей американцев, и тут Инга вынимает этот самый пистолет, наводит его, туманно целясь в меня, точно как полицейские в одежде коммандос, появляющиеся откуда-то справа…
Она упала, прежде чем я услышал звук выстрела. Пуля так откинула ее, что она потеряла туфлю… Я… я бросился к ней, попытался поднять ее на ноги, придерживая одной рукой за плечи, а другой за правую руку, как в тот первый раз, танцуя с ней танго, но теперь она не танцевала, давила, тянула меня вниз… Выступившая у нее на губах кровь стекала по цепочке медальона… Я не мог поднять ее, не мог…
Она протянула руку, коснулась моего лица, и все, было уже слишком поздно, она меня не видела, устремив взгляд по другую сторону света:
«Любилось бы легче, влюбись я…»
Слегка, если я расслышал… Это я закончил… И больше ничего, nichts mehr, мертва, gestorbene, — плевать, на каком языке ты об этом думаешь, нет языка живых и языка мертвых, любой язык способен передать тишину, боль, небытие, отнятую юность, трагизм прекрасного тела, предназначенного для жизни, любви, рождения детей и безумств, но сейчас бездыханное, разом угасшее. Какая разница, на каком языке это прозвучит, ведь ранит отсутствие, а не слова, которые тебе больше некому говорить! Ты теперь далеко, Инга… Ты оставила меня с моими угрызениями совести и всем, что я не успел тебе сказать…
А потом все пошло кувырком: схваченный, избитый, оглушенный приказами на немецком, я с вывернутыми за спину руками оказался прижатым щекой к асфальту, рядом с телом Инги, ее глаза еще глядели на меня. И этот взгляд, па… Я думаю, что теперь вижу мир прежде всего через призму этого взгляда, что я открываю глаза только после того, как позволю тени моей черной невесты вдосталь насмотреться…
Пока полицейские меня обыскивали и, как я слышал, о чем-то нервно говорили с Сэмми, они опустошили карманы Инги, ощупав ее всю, там, в водосточной канаве, босую на одну ногу и в крови… Нет больше ни Гарбо, ни Дитрих, роковых женщин моих грез, просто мертвая немецкая девушка, загубленная молодость! В медальоне, они его открыли, хранился, как святая реликвия, билет в кино, с того памятного воскресенья, тот самый, с «Моста»… А пистолет был даже не заряжен и не мог никому причинить вред!.. На какую-то секунду парни из Sicherheitsdienst пораженно замерли, поняв, что они убили безоружную девчонку, но только на секунду, всего на секунду, а потом вновь стали энергичными, унесли тело Инги, запихнули меня и Сэмми в машину.
Сдерните огромное полотнище неба, сверните ковер земли, разберите шапито мира, разгримируйте богов, снимите с них залатанные шмотки и слишком большие башмаки, и вы все, человеческое братство из огромного цирка, детишки и взрослые, плачьте, плачьте!
Нас с Сэмми отвезли в службу безопасности олимпийской деревни. И держали там по отдельности, без телефона, душа, никакой еды, только вода… Вот тогда я и узнал: в 7 часов 41 минуту палестинские террористы из «Черного Сентября» ворвались в помещения израильской делегации, убили тренера команды борцов и взяли в заложники остальных. «Черный Сентябрь» угрожал уничтожить заложников, если Израиль не выпустит двести пятьдесят палестинских заключенных. В 7 часов 52 минуты радио деревни распространило новость, и вмешались полицейские из Специального отдела. Когда Инга, одетая в черное, вынула оружие и направила его на меня, совсем рядом с американцем, имеющим официальный пропуск, снайперы, еще не занявшие свои огневые позиции, в этой ситуации даже не думали… они выстрелили инстинктивно. Кроме того, террористами оказались псевдобразильцы, которых американские спортсмены провели в олимпийскую деревню этой ночью, с наполненными оружием сумками!..
Позднее, как только власти убедились, что я — мелкая сошка, французский консул в Мюнхене вызволил меня. Инга никогда не имела ничего общего с РАФ… Все ее откровения, которые я повторил полицейским, были проверены. На это потребовалось лишь нескольких минут… Она была мифоманкой… Официально смерть Инги представят как самоубийство в результате неразделенной любви к спортсмену… Газеты уже подготовили соответствующие статейки для размещения на внутренних страницах… Огласка всех этих историй с РАФ, даже фальшивых, была запрещена… В любом случае мне никто не поверит: только что ситуация с захватом заложников разрешилась в аэропорту Фюрстенфельдбрука, гранатами и смертью… Все израильтяне и пять федуинов погибли… Никого не пощадили… Какими пулями убили, кого, израильтян или палестинцев, это не наше дело…
Итак, чтобы я все хорошо понял, тем более раз выбрал такую специальность, мсье консул воззвал к моему сознанию будущего дипломата: наши немецкие друзья очень плохо восприняли, что убивать евреев снова приехали на их землю… И отныне они являются гарантами Израиля, больше чем кто-либо, и в особенности здесь… Будущий дипломат… Какое-то время я стоял перед машиной консула. И увидел себя в ветровом стекле. Как бы я хотел, чтобы у меня был, как у тебя, папа, красный клоунский нос. Но нет, в стекле отражалась только моя рожа серьезного парня.
Это не конец, папа… Я вернулся в Петерсберг. Сэмми ждал меня дома с Теодором и Гертрудой. Я не стал его слушать, когда он поклялся мне, что Инга не вышла бы за него замуж. Да, она предложила ему это, но он отказался, потому что она любила меня, потому что они объяснились в воскресенье вечером, и сказать это было нелегко черному безумно влюбленному жителю Нью-Йорка… Сейчас же ему даже не надо отчитываться, расплачиваться за свою оплошность с «бразильцами»… Слишком горячо, слишком компрометирует США… Ему было обидно до слез… Я не слушал… И не слушал Теодора, когда он в своей обычной манере грустного медведя принялся бормотать, что опечален, что хорошо знает семью Инги… Они пытались утешить меня… Гертруда теребила коротко стриженные волосы старших сыновей… Лоенгрин сидел перед фисгармоникой… Я оборвал излияния чувств, вдохновив Лоенгрина исполнить похоронный марш… Я слышал с улицы, как он стучит по клавишам…
Мне нужно было совершить паломничество туда, где все отныне не имеет значения, туда, где я вечно буду ждать, когда Инга заберет меня с собой… Преодолевая границы, туда, куда она исчезала на исходе каждого из горстки проведенных нами вместе дней, куда прежде путь мне был закрыт…
Я расскажу тебе, па…
Обойдя церковь сбоку, ты оказываешься на Friedhofsweg. Дом Инги еще дальше, за кладбищем, на краю рыжей песчаной равнины. Я шел под ветром, пронизывающим меня насквозь. Видел бы ты это жалкое зрелище: я и так-то невзрачный, с букетом не знаю чего, обернутым газетной бумагой, я был похож на дурака, который не осмеливается попросить руки и сердца любимой и уповает на цветы, в надежде, что она сама догадается о его чувствах… Вот с таким настроением я шел на встречу с мертвой невестой.
Мне даже не пришлось звонить.
Он стоял на крыльце, отец Инги, весь в печальных морщинах, в криво застегнутом костюме. Руководитель Рейтерклуба, благодетель Адриана и Розелины, создатель нефов, проводник человечности и творец этих огромных бетонных сводов, что ведут к Богу… Архитектор святого, отец той, ради кого я готов был претерпеть все нелепости свадьбы… Дряхлый старик, на паперти своего жилища, смотрящий на меня как на всадника апокалипсиса, наконец появившегося… И также это был человек из закусочной, мелкопоместный дворянчик, встреченный мной и Теодором, экс-эсэсовец, прекрасно себя чувствующий во всех деревнях округи, заскакивающий пропустить стаканчик на предобеденные застолья, олицетворенные едва реальной и оттого радостно принимаемой легенды, ностальгии по нацизму, по Рейху, который должен был длиться десять тысяч лет, как символ ненависти к несговорчивым победителям, разместившимся в завоеванной стране, тот, кто подписал приказ о взятии тебя в заложники, тот, кто хотел расстрелять тебя и в итоге выслал из страны! Твой палач, папа!.. Но без былой надменности, сотрясаемый кряхтением старой собаки. Конечно же он меня сразу узнал, и, кроме того, Инга тогда вернулась в ярости, вопила о военных преступлениях, и ей понадобилось намного больше, чем та полуправда, которой она более или менее довольствовалась раньше и которую компенсировала любовью к Франции и ко всему французскому… Потому что отныне она знала, он выложил ей все начистоту, полностью, силясь оправдаться, хотя надеялся никогда не делать этого перед собственной дочерью, и в конце его рассказа Инга посмотрела на отца как на чужого. И взяла пистолет.
Только в тот момент я понял, папа, всю иронию и жестокость нашей встречи с Ингой, всю ее ложь, чтобы отдалить меня, когда она прочувствовала мой стыд, мою опустошенность и увидела связь между тобой и ее отцом, чьи преступления разом взорвали забвение памяти, на которое она давно согласилась, ранив сердце чувством вины… В мгновение ока я перевел этого раскаявшегося, благочестивого отца в разряд отступников, полусвятой, творец соборов превратился для меня в палача, в служителя ада!.. Да, она хотела, чтобы я отдалился от нее, разыграла передо мной пугающий номер с РАФ, слепила себе наспех террористское прошлое, желая оттолкнуть меня, потому что теперь ей было стыдно, но позволила себе провести со мной пару часов, прежде чем покарать себя, покаяться и нанести оскорбление своему отцу, выйдя замуж без любви за чернокожего американца, который увезет ее в изгнание… Еще я понял, что Теодор и Сэмми хотели сказать мне совсем недавно и не сумели… Я должен был рассмотреть старого дракона вблизи. Сонненшайн раскрыл объятия, сделал шаг навстречу, еще чуть-чуть, и он бы разрыдался мне в жилетку… Нет, нет… я спустился на ступеньку, чтобы сохранить дистанцию… Он стоял передо мной, пошатываясь, глотая слезы, и вся жестокость войны, с ее страданиями, мертвыми детьми, выжженными городами, разлученными возлюбленными, бесчеловечным уничтожением красоты жизни, — все это вселенское зло лавиной нахлынуло на него как окончательный приговор… Он получил то, что заслужил, и теперь был вынужден искупать содеянное ценой своей собственной крови.
Подумать только, ты, плоть и кровь этого человека, ушла, чтобы искупить его грехи, Инга!.. Помнить о тебе, а не о нем… Но мне невыносима мысль, которая отныне будет со мной всегда, что это из-за меня и из-за тебя, папа, не стало моей возлюбленной, что она подарила нам свою жизнь во искупление… Ты не поняла, Инга, ты не должна была ничего искупать, ты виновна не больше, чем я или кто-либо другой… Нацизм не передается на генном уровне, ты приняла наследство, чтобы взвалить его на себя, заставить работать свою память, и это было хорошо, я бы взял тебя в жены такой, немкой и дочерью эсэсовца, и как раз именно поэтому!
Я спустился на ступеньку вниз и спросил: если бы я захотел жениться на Инге, если бы я пришел за благословением к нему, к тому, кто чуть не забрал у меня моего отца, к тому, из-за кого меня вообще могло бы не быть, что бы он мне ответил?.. Я бы хотел, чтобы ты был там, па, и чтобы это твою руку он омывал своими слезами. Он утвердительно кивал головой, но ни слова не слетело с его уст. Возможно ли измерить раскаяние, оценить его искренность?.. Я сумел лишь еще добавить, что он убил свою дочь уже давно, в тот день, когда выслал первого еврея, казнил первого сопротивленца. А теперь у него так много денег, он так уважаем и всеми прощен, так безнаказан, так прогнил от этого рая на земле… Больше я не мог говорить, понимаешь, не мог, не хотел изливаться перед ним, не хотел рыдать вместе с ним… А в глубине дома, я слышал, плакала женщина. Я оставил свой букет герру Эрвину Сонненшайну. Инга слишком дорого заплатила за то, чтобы он был этого достоин. Уверен, что ты сделал бы то же самое, па…
И именно там в моей памяти всплыло стихотворение о разорванном круге, и я прочитал ему последнюю строфу:
Как только я повернулся спиной, Сонненшайн вдруг сказал: пистолет, которым угрожала Инга, во время войны принадлежал ему… Она собиралась отдать его мне, чтобы я передал его тебе, папа, как бы в ознаменование твоей победы.
Расплата, месть, если тебе были нужны эти дикие утешения для бравых тыловиков, то вот они, папа, ты мог бы смеяться ему в лицо, мог бы попросить фотографию Инги, бередя его раны, но я знаю, что нет, ты бы просто отвернулся от меня, услышав все это, чтобы я не увидел твоих слез. Потому что никто не может желать кому бы то ни было, даже самому худшему из людей, даже тому, кто приговорил тебя к смерти, такого возмездия — потери ребенка, любимой дочери, только начавшей жить. И в особенности клоун.
Не беспокойся, папа, ваши сады, твои и Гастона, и сады Бернда Викки, скоро вновь зацветут, вишневые сады, где кружат лепестки, дрожащие как веки у любимой, их запах помню я смиренно… Осень будет красивой… И эти срезанные цветы, о, эти только распустившиеся срезанные цветы!.. Скоро, из всего твоего наследства, я попрошу у Франсуазы лишь старый клоунский чемодан, грим и великолепные лохмотья шута… И твой красный нос тоже… Мое наследие перед последним причащением, то, с чем я проживу жизнь, а потом заберу с собой, все это у меня в нагрудном кармане. Билет в кино, запятнанный кровью, единственное свидетельство моих уз с Ингой…
Время остановилось на мгновенье, но взмах ресниц, и я вновь открываю глаза на кладбище, под мелким дождем, как раз в тот момент, когда кюре закончил свое благословение…
— …Сына… И Святого Духа… Аминь…
…и когда похоронные служащие заставили отойти Гастона и Николь, чтобы установить могильный камень, когда от ужасного рыдания Фрасуазы побежали мурашки у нескольких щеголей, когда ты ступил, па, на бесконечную дорогу, там, между звездами…
Прощай, па.
Вот так, в те дни, в день смерти Инги и в день похорон отца, я постарел на века, но не знаю, повзрослел ли. Папа больше не слышит меня, покоясь в могиле уже тридцать лет. О смерти Гастона и Николь мне никто не сообщил. Я даже не был на похоронах. Франсуаза, возможно, была. Она осталась старой девой и занимается немецким, как занимаются приготовлением варенья. Без необходимости, из чревоугодия. Нет, мужественно. Потому что, преподавая Гёте и Бёлля, она отдает свою часть наших долгов человечности.
Сегодня я знаю лишь ненамного больше, чем тогда. Знаю, что Германия радостно воссоединилась, что Берлинская стена распалась на разноцветные куски в пластмассовых шарах, которые переворачивают, чтобы счастливый снег посыпался на руины прошлого, что «трабанты» гниют на обочинах дорог Восточной Европы, замененные быстрыми «БМВ» и «мерседесами», что бывшие генералы расформированной армии ГДР стали пожарниками, что господа из Федеративной Республики Германии по-братски пришли занять их места, что бывшие французские министры хотят освободить Папона, еще одного преступника, пережившего свою память, как будто есть возрастные границы виновности, что ностальгия по фашизму витает над Европой, как старый вальс, такой нежный, такой близкий нам, ни слов, ни музыки которого не знают представители других рас, не улавливающие даже его отголосков… И что дети федуинов, захваченных в Фюрстенфельдбруке, освобожденные через шесть недель после Мюнхенской трагедии, после израильских военных рейдов на палестинские лагеря в Ливане, эти последователи Абу Дауда, возможно еще недавно находившиеся под защитой Соединенных Штатов, прождав двадцать девять лет, посеяли апокалипсис в садах небоскребов Нью-Йорка… Вот то немногое, что может потревожить твой сон, па…
И даже если мой голос не доходит до тебя, папа, я говорю с тобой… Да, на процессе Папона я сыграл клоуна за тебя, спустя больше чем два десятилетия после твоей смерти, я попытался вызвать души несчастных, погибших в лагерях, высланных; конечно, я старался насмешкой вернуть миру немного достоинства, конечно, я нарушал священность правосудия, конечно, я балансировал на грани святотатства по отношению к украденным войной жизням, ибо это единственный способ бороться с величайшей ошибкой природы, каковой является абсолютное зло, но я также взывал к тени Инги, потому что в итоге, понимаешь, мы все платим, и очень дорого, победители и побежденные, платим за жестокость и бесчеловечность, за работу палачей, мы все начисляем им жалованье, а в конечном итоге только и можем, что попытаться влюбиться слегка. И, черт возьми, это больно, папа, больно…
Сегодня умерла Инга, па, сегодня, и все сегодня, что мне еще предстоят, она будет умирать, пока и я тоже не окажусь под землей или не стану пеплом, развеянным по ветру…
Лилль. Апрель 2001.
Вилла Мон Нуар. Сентябрь 2001
И боль моя в мире со мною
Бриджит,
чьим образом уже давно пронизаны
мои страницы
и которая отныне озаряет
каждый прожитый вместе день поцелуем
Любилось бы легче, влюбись я слегка,
И боль моя в мире со мною.[6]
Гийом Аполлинер, «Мари»
Пусть нижеследующие строки не смутят
близких Жерара Филипа, его родителей и друзей,
это всего лишь фантазия в честь легенды,
добавление к мифу.
Конец лета. Древняя Картезианская обитель в Вильнёве, лишь Роной отделенном от Авиньона, пышет солнцем. Ее совсем недавно отреставрировали, и памятник превратился в культурный центр, излюбленное место писателей. Кажется, и я один из них… Никому не известный, начинающий, еще только задумывающий свои первые драматические реплики и впервые проводящий здесь послеобеденные часы. Я только что решился: бросаю хромающую карьеру учителя литературы, бесплотную болтовню про «Сида», в числе прочего, для надменных ребят, которых больше интересует порнографическая плоть, нежели плоть слов, и посылаю ко всем чертям властную девицу, тоже учительницу, озабоченную своим продвижением по службе. Возможно, из-за того, что я прошел через сад в небольшой монастырской галерее, на меня снова нахлынула провинциальная радость. Я сорвал цветок жасмина! Как дурак, поцеловал его. И ровно в тот момент, когда я прилаживал цветок в петличку рубашки, ко мне сзади подошел какой-то старик и внезапно заговорил:
«Химена, безумно влюбленная в Родриго, за это я не дал бы и ломаного гроша. Ее оливковая кожа девочки-подростка виднелась в прорехах платья, слишком большого, слишком широкого в груди, ее поведение беспутной девчонки, всегда растрепанной, босоногой, жгучей и прекрасной смуглянки с синими глазами, — ничто не вязалось с моими накрахмаленными манерами, с моим нелепым видом значимого придурка. Мы были из разных миров. Но я бы отдал всю имевшуюся у меня вселенную сына богатых родителей за то, чтобы она открыла мне свое нищее подземное царство. Химена из трущоб, Родриго из богатых кварталов.
Нет, никто бы не поставил на нашу встречу.
И однако, клянусь вам, мсье, каждый вечер Макс Кляйн, сын председателя суда, и Люс, дочка старьевщика, оказывались друг напротив друга в двух шагах отсюда, в самом сердце монастырских развалин, забирались на руины бывшей трапезной папы Иннокентия IV, обвалившейся под открытым небом… Вам конечно же знакомо это место, мсье… Теперь там позади театр… Когда-то мы не сомневались в грядущем дне… И каждый вечер разыгрывали вечную историю проклятой любви Химены и Родриго… Так, как ее понимала Люс…После ужина она ждала меня среди лунных теней, я прибегал из летнего домика моих родителей, из „Тутового сада“, расположенного чуть выше, ближе к Бельвю. Я жил лишь этим мгновением, она — не знаю… Просто встретиться взглядом, пока стихает бег сердца, услышать отголосок женского голоса под сводами крошечной монастырской галереи, почувствовать в ноздрях запахи развеянной днем пыли, согретого камня и одурманенной травы. Люс, ты говорила: „Родриго у меня! Прийти дерзнул он к нам!“[7] И в голосе звучал мучительный восторг. Жестокий обряд начинался! Люс…»
Только сейчас он забывает свои реплики, этот дедушка Родриго. Он идет и садится в тени, на каменную скамейку у края галереи. Сколько ему? Где-то к восьмидесяти. Сухой, высокий, с красивыми руками, седые, коротко подстриженные волосы, все его лицо поглощал античный нос, крупный и слегка искривленный, нос нечестного патриция, облаченного в пеплум. Измятая утонченность сквозила в его костюме из необработанного льна и белой рубашке с открытым воротом. Он часто дышал, его взгляд затерялся в кустах жасмина.
Быть может, то, что он вот так разом отпустил свою память, позволил ей бежать во весь опор, не переводя дыхания, и тот огонь, что он вложил в воскрешение перипетий своей незрелой любви, все это опустошило старика… А может, он почувствовал неловкость и пожалел, что столь бесстыдно обнажил себя перед незнакомцем. Или просто из-за жаркого летнего зноя кровь прилила к его голове… Но нет, все дело было в Люс, которая так мучительно вернулась к нему болью в сердце, что он заговорил с ней, и от этого на какое-то мгновение потерял душевное равновесие. Признаем честно: пока он был молод, пусть даже и не слишком привлекателен, ему, наверное, могло повезти, но сегодня, если Химена захочет воскресить свою страсть, такой вот Родриго на пенсии вряд ли приведет ее к катарсису! Да, все эти циничные мысли промелькнули в моей голове, но все же я был смущен не меньше, чем он, оттого что стал свидетелем его душевного стриптиза, и не меньше, чем он, взволнован, да, черт возьми, именно так, оттого, что он столь глубоко доверился мне. Мне, хотя даже не знал моего имени. Его дребезжащий голос, невпопад сглатываемая слюна, его ладони, ласкающие воздух, руки, скрещенные на груди, словно прижимающие какую-то тень, я прекрасно чувствовал, что он не строит передо мной бывшего бахвалящегося фронтовика, победоносно объезжающего места увядших подвигов. Я сел рядом с ним и замер в ожидании. Было бы неприлично просить его продолжить рассказ. Нужно, чтобы он сам решил, достоин ли я этого. Ну а я, современный «Сид», всегда готов! В общем, мы так и сидели, не знаю, сколько времени, пока день не склонился к закату, и тогда он повторил: «Люс», одним вздохом, повернул голову, словно увидел ее, выходящую из древнего зала капитула. Даже если я оставлю его одного, он пойдет до конца. И я знаю, что тень Люс отныне будет сопровождать его. Он наконец говорит с ней, так же, как со мной, который значит для него не больше, чем эта молчаливая тень. Он испуган, удивлен…
«…Мы неслись друг за дружкой по галереям, она срезала путь по галерее Усопших… Там паслись козы… Потом огибала всякий хлам, оставленный ее семейкой торговцев металлоломом на безликих могилах монахов, сворачивала на колею для телег, вспоровшую землю вокруг часовни с фресками… А потом бежала до фонтана Сен-Жак. И там, каждый вечер, под куполом над восьмиугольным водоемом, укрывшись за колодцем, Химена оплакивала свою невозможную любовь к Родриго. Она не знала, и не хотела знать, никакой другой пьесы: только „Сид“, трагикомедия Пьера Корнеля. Давайте, попробуйте переубедить ее! Аньес, Араманта, охваченные страстью влюбленные, даже водевиль с его мещаночками, снедаемыми желанием, мои самые свежие познания в области театра, я пытался разнообразить ее репертуар, я приносил эти книжонки для совместного чтения, чтобы покончить наконец с запретными чувствами, чтобы снискать ее благосклонность к моей нежной неловкости, но куда там, она вышвыривала книжки в помойку и настаивала на кровавых свадьбах. Платонических! Если бы я только дотронулся до нее, Химена разодрала бы мне грудь своими прекрасными зубами и выгрызла бы мою печень! Надо сказать, что все это было далеко не в стиле „Комеди Франсез“, поверьте, занудный текст и прекрасное произношение!.. Она придумывала себе спектакли у старьевщика. По своему образу плохо одетой девчонки! Две-три строфы Корнеля, а дальше заплатки, перекроенные под ее размер, с распоровшимися рифмами, искалеченным гневом языком, исполненным печали, мятежным. Я изо всех сил старался подхватить ее импровизации, и она расцарапывала мне спину ногтями, оттого что я был столь манерен, вежлив в своих репликах, не осмеливался на ругательства и ненависть. Ты убил моего отца за то, что он оскорбил твоего, это естественно, но после всего этого, ты думаешь, что сможешь заполучить меня, расшаркиваясь передо мной? Ты должен меня завоевать, преодолевая опасность, на поле боя! Определенно, я был никудышным Родриго, бесплотным дублером, мне повезло, что я стал им, потому что у нее просто не оказалось под рукой никого другого, в особенности настоящего актера, который мог бы подавать ей реплики не понарошку! А иначе она бы послала меня к чертовой матери! От одной этой мысли я трепетал.
Да, Химена была без ума от Родриго, но только в театре…»
Он на какое-то время замолк, вздохнул и вновь заговорил в духе gentleman very sorry:
«Простите меня, мсье, что я вот так выворачиваю душу перед незнакомцем, что надоедаю… Я вам кажусь выжившим из ума стариком, выбалтывающим свои ничего не стоящие воспоминания, да? Это все из-за жасмина, понимаете, это тот самый цветок, что… Но я утомил вас… Вы осматриваете окрестности?
— Я буду жить здесь какое-то время… На самом деле я пытаюсь стать писателем…»
Вот этого мне, наверное, не надо было говорить. А может, именно этого он ждал уже давно. Упрямства ему было не занимать, у него открылось второе дыхание:
«Писателем… если бы я осмелился… А впрочем, ладно, вы ведь меня все равно уже слушаете, да? И теперь, когда я так разоткровенничался…»
В моем жесте вежливости не было нужды, он сам настежь распахнул передо мной двери в его жизнь, и я почувствовал, что забыл обо всех своих высоких литературных устремлениях, обо всех своих замыслах.
«…как это началось, эти свидания невозможных любовников? В начале войны в 1940 году в неразберихе всеобщего безоглядного бегства, мои родители уже в конце мая переехали в летний дом, так что каникулы у меня начались рано. Я проводил дни в праздных прогулках. Кажется, однажды я последовал за каким-то рыжим котенком. И через Женский двор, мимо жилища настоятеля, вышел к Обители, хотя отец запрещал мне туда ходить. Люс стояла, прислонившись к полуразрушенной стене, и вот тогда она в первый раз сразила меня знаменитыми стихами из 4-го явления 3-го действия… И я пропал, я был обречен ослушаться отца. Заметьте, мсье, сейчас вы не можете себе представить, но в предвоенное время Обитель была лишь призраком того памятника, что вы видите сегодня, полностью отреставрированного, пронизанного духом культуры для интеллектуалов и театра для избранных… Нет, Французская революция распродала по частям все постройки монастыря частным лицам, как только изгнала всех монахов. От мелких собственников к нищим квартирантам, и постепенно это место превратилось в прибежище убогих в самом центре Вильнёва, все религиозные помещения были переделаны под жилые, в сараи, в кладовки, нищие семьи набивались в бывшие монастырские кельи, коридоры и церковь заполонили небольшие ремесленные лавки, камни перепродавались соседским каменщикам, все рушилось и шаталось, святость места была попрана. Я скажу вам, мсье, что в сильную жару здесь зачастую воняло сортиром… Говорили даже, что здесь скрывались преступники, банды цыган сваливали тут свою добычу. Как, например, родственники Люс, какие-то ее двоюродные братья, дяди, невестки… Место вне законов… Королевство всякого сброда… Это папа так выражался… Если бы он знал о моих вечерах!.. И о моей возлюбленной!.. Люс сиротой жила в своем племени, ей не в чем было перед кем-либо отчитываться. Ее уже овдовевшая тетя изо всех сил заботилась о ней. Ампаро… Она жила там же, в монастыре, в бывшей келье… „Сид“, Ампаро, Обитель, свихнувшаяся вселенная, логику которой я и не пытался понять… Полудикарка, каждый вечер разыгрывающая для себя самой одну и ту же избитую классику, это наваждение, и вы считаете, что мне следовало задаваться вопросом, почему да отчего! Или спросить у нее! Вы бы так поступили?
Я не знал, что отец Люс умер в тюрьме… Бесстрастно, потому что надо было смыть оскорбление, он убил своего брата, мужа Ампаро, а женщина, которую они оба любили… Мария, мать Люс…»
Воспоминания о его золотых годах, о его нежных дурных привязанностях ко всякому сброду, пусть и болезненные, встряхнули старика. Он встал и зашагал по внутреннему дворику в сторону бывшего ризничего здания, широко размахивая руками. Вновь ожившее прошлое настолько поглотило его, что ему было все равно, слежу я за рассказом или нет. Он тихо бубнил, так, что я почти ничего не слышал, и вдруг яростно закричал:
«Люс… Конечно же мы играли с огнем. Из вечера в вечер, в нас зарождалась жестокость, она слегка прикасалась ко мне, ощетинившаяся, дикарка в разодранном платье и с челкой на глаза, она выплевывала в меня беспорядочные обрывки Корнеля: да ты в своем уме ли, удались отселе, ты причиняешь боль, прочь, убирайся, я не для тебя, ты никогда понять меня не сможешь, оставь свои мечты о поцелуе, уж лучше я убью себя прямо на твоих глазах… а я, полностью сбитый с толку, я чуть не разрывал на себе белую майку пай-мальчика: Химена, кто мечтает, вот почему конец, что схватка мне сулит, да, ты увидишь, я брошусь с колокольни, ты дождешься! Мы расставались друг с другом полностью потрясенные, опустошенные этой нервной мучительной трагедией. Я, по крайней мере. Я бегом возвращался домой, забирался в погреб и рыдал там, чтобы никто меня не услышал, среди солений и бутылок вина. Я чувствовал, что наступит миг, когда маскарада будет недостаточно, когда игра станет реальностью, с муками тела и жертвоприношением запретных любовников. Я был готов, я наточил свой перочинный ножик, и часто, долгими вялыми днями, слушая по радио новости с родителями, которых беспокоила война, на большом пальце пробовал острие лезвия».
Машинально он повторил это движение, обернулся, увидев меня, молчаливого, жадно ловящего каждое слово, был почти удивлен этим и понемногу пришел в себя. Мы находились в самом центре галереи Усопших. Солнце клонилось за горизонт. Короткий извиняющийся смешок, лацканы пиджака, разглаженные ладонью, и, это было сильнее его, слова полились снова. Залежалые слова, что так долго томились внутри, порхали в сумерках вслед за стариком, возобновившим свое хождение.
«А потом нужно было, чтобы разрыв мира докатился до нас… Однажды прекрасной нежной ночью все всадники Апокалипсиса пронеслись через Вильнёв. Спустившись к Обители, я обнаружил, что улица Републик забита машинами и грузовиками. Какие-то люди в рубашках копались в двигателях поломанных автомобилей, другие канистрами заливали баки, пока целые семьи, женщины и дети, ждали, сидя на ступеньках. Одновременно они что-то жевали, что Бог послал или что приносили жители городка. Столы и стулья вытаскивали прямо на тротуары, люди знакомились. Проходя между ними, я улавливал стенания и названия городов, откуда стекались эти беженцы, многие были из Бургундии. Люди переругивались, обсуждая, следует ли уезжать как можно быстрее или лучше расположиться пока здесь и посмотреть, как все обернется в оккупированной зоне, что будет с нашей армией. Служащий муниципалитета пытался навести порядок и переписать людей, чтобы организовать стоянку. Он дергался: в прошлом месяце потребовалось расселить больше тысячи молодых бельгийцев, эвакуированных во избежание обязательной военной службы на немцев. Беженцы жили и в крепости Сент-Андре, и в Башне Филиппа Красивого, и много где еще, так что придется обойтись без трех звезд! Что ж, на войне как войне! По ту сторону Женского двора весь бульвар Мюрье был забит припаркованными машинами, люди устраивались на ночлег. Плакали дети, на территорию Обители бесшумно просачивались небольшие группы, груженные пожитками. Отовсюду слышался глухой треск, словно город срывал свои якоря.
Именно в ту ночь я подумал, что всё, главный приз мой. Все наши ля-ля, ритуальный вызов, „Родриго у меня! Прийти дерзнул он к нам“, бег до галереи Сен-Жак, где мы будем вдоволь изводить друг друга, где состоится, как обычно, спектакль… Только чуть более лихорадочный, более истеричный… Да нет, еще круче… Люс запрыгнула на край колодца, балансируя и чуть не падая внутрь, она кусала свои руки, чтобы сдержать слова, и шептала: „Всем любящим сердцам отрадно сознавать, что чувство долее им незачем скрывать…“ Если б вы ее только видели, мою Химену, в самом начале, перед другим Родриго, благородным разбойником: она любила меня!.. Никакого сомнения, я ощутил это всеми своими мышцами, всеми костями!.. Здесь, да, конечно, мы сольемся в поцелуе, который отзовется смятением в груди, звучите, трубы, играйте, фанфары, у меня от всего этого шла кругом голова, а Люс раскрыла объятья, она летела навстречу моим губам!.. Ночью, полной звезд, ветер с юга обдувал развалины Обители, души мертвых монахов кричали о святотатстве, черт возьми, мы готовы были вобрать в себя весь мир!
А потом появился он. Мы увидели его, когда он вышел из сумерек, откуда-то снизу, махнул каким-то теням, он нес чемоданы, предваряя сверкающих глазами женщин, пришедших сюда зачерпнуть воды. Тощий, всклокоченные волосы, худое лицо с невидящим взглядом, в светлой открытой рубашке и вытянутых штанах, его большие сухие руки упирались в бедра.
„Вот как, влюбленные?..“
Люс обрела равновесие и пошла к нему. Гордая, словно танцовщица фламенко. Он смотрел, как она приближается. И эти двое, моя Химена и сумрачный незнакомец, узнали друг друга.
„Родриго… Ты будешь Родриго… Вспомни, как с тобой мы влюблены…
— Я бы не возжелал тебя…“
Он еще какое-то время стоял в стороне и наблюдал за игрой. Люс смотрела на него глазами passionaria.
„Не бойся ничего, краснею я за то, что насказала, пускай смутит моя любовь лишь мрак и тишину…“
Стоит ли объяснять, что он конечно же включился в эту инстинктивную игру. Он оттолкнул Химену повернулся спиной, сказал, что уходит изгонять немца из Франции, в закоулках своей памяти обнаружил что-то из Корнеля, животное, итак, вот почему конец, что схватка мне сулит, умножит честь мою, отнюдь не умалит, потом вдруг внезапно остановился, замер профилем к лунному свету, Химена отвернулась, поднятый подбородок, она колебалась лишь секунду и побежала прижаться щекой к груди Родриго… Родриго, кто бы ждал, Химена, кто б предрек… Он говорил медленно, почти нерешительно, внутри была какая-то отдаленность и в то же время теплота, вы не можете понять… И Люс преобразилась, тысячелетия затянутой в корсет Испании в голосе, полном оскорбленной нервно-чувствительной чести, и дрожи, и жажды обнаженности, выпятив грудь вперед… Вместе они рассказывали древнюю историю.
А я был зрителем, и Доном Санчо, и Графом Гормасом, и Доном Диего, я играл Инфанту и Эльвиру, я утешал, торопил любовные признания, впитывал тайны, умирал на дуэли… Смешно… Я также был королем, отдавал Химену Родриго… Я сам себя изгонял из своего рая.
„Как тебя зовут?..
— Жерар…
— Правда же, ты станешь актером?
— Иногда я уже играю на сцене, любительской…
— Нет, ты станешь настоящим актером, известным повсюду-повсюду!.. И ты сыграешь „Сида“?
— Клянусь…
— Здесь, во дворе обители?
— В любом дворе, куда ты придешь рукоплескать мне…“
И тогда Химена поцеловала Родриго. Долгим поцелуем. Они кусали друг другу губы, вновь и вновь шептали друг другу свои судьбы. Клятвы бродяг, иллюзии детей? Вовсе нет, мсье. Их участь была решена и скреплена печатью. А вокруг успокаивался город.
Это был июнь 1940 года, 14 июня. 22-го Петэн подписал перемирие с Германией. Нам с Люс было по семнадцать лет. Жерару шел семнадцатый год. 15 июня он уже покинул Вильнёв. И с того дня Люс никогда больше не возобновляла со мной свои доморощенные спектакли… В театре выходной, мсье, выходной, за отсутствием молодого премьера!.. Я стал недостоин даже того, чтобы подкидывать реплики!»
Вот мы и на месте. Том самом. Около фонтана Сен-Жак. Там, где Макс Кляйн начал стареть, когда ему еще не исполнилось и двадцати. Его руки расставлены в стороны, он словно ищет что-то — направо, налево, у него вид человека, выбитого из колеи. И конечно же его призраки исчезают, он теребит свой воротник, он слегка растерян.
«Вам знаком Вильнёв, мсье?.. Вы позволите мне показать вам город?.. Так вы его сможете лучше представить… Для того чтобы писать, мне кажется, места должны быть неразделимы с самой историей…»
Вот и приехали. Я тебя раскусил. Я разгадал твою уловку. Ты заставишь меня совершить путешествие, паломничество — мелодраматические световые и музыкальные эффекты на каждой остановке подразумеваются. А в конце спросишь, можно ли из этого сделать книгу… После всего… Тем лучше, если тебе от этого будет легче… Я не склонен ставить его на место, если честно, я сам хочу узнать конец этой слезливой истории.
«Вы мне доставите огромное удовольствие…»
И мы пустились в путь. И с первых шагов он снова опрокинулся в прошлое, голос звучал размеренно, в такт его старческой походке.
«Потом, в первые дни войны, Люс и я, мы на какое-то время потеряли друг друга из виду. Исключительно по моей вине. Я вернулся в обывательский мир, сдавал выпускные экзамены, вгрызался в первый медицинский курс в Монпелье. Но даже приезжая в „Тутовый сад“, к родителям, я обходил Обитель стороной. Из страха снова потеряться, или, может, выход моим чувствам преграждал Жерар, и я не хотел, чтобы Люс унижала меня, посылала ко всем чертям. Перестать отираться вокруг, сидеть дома, изображая сынка из приличной семьи, нет, я просто не мог. Как не мог я запретить себе перечитывать „Сида“, безумно тоскуя. Но изменять безумной любви, притворяясь будничным и разумным, этому, да, я научился. Я глотал огромными порциями дурацкого романтизма извращенные наслаждения страсти, принесенной в жертву социальным условностям и трагедии истории. Ибо не сомневался, что демаркационную линию в итоге прорвут и немцы дойдут до Средиземного моря. Тогда нас начнут травить, как травили евреев в оккупационной зоне, меня публично осудят, она будет горевать и сожалеть о моей любви… Что за чушь! Моя мать не была еврейкой. А значит, и я тоже. Подумаешь, мой отец еврей! Но и этого вполне достаточно, чтобы мы были в опасности, я так думал. Только мои родители плевали на это. Всем своим видом они совершенно некстати демонстрировали полную безмятежность. Конечно, они знали, но… В любом случае, мы были в недосягаемости, правда ведь, здесь, в свободной зоне, под защитой статуса моего отца как представителя власти, и ко всему прочему нас не в чем было упрекнуть… Евреи, которых изводили в оккупационной зоне, были простолюдинами, естественно, не слишком опрятными, по крайней мере непредусмотрительными… Смутно я понимал, что мои родители сами себя обманывали, совершенно сознательно, может, для того, чтобы успокоить меня… Отец иногда крепко прижимал к себе маму, и они оба проглядывали газеты с похоронным видом. Но несмотря ни на что, они и я, мы пытались делать хорошую мину при плохой игре.
Эти безоблачные дни тянулись до ноября 1942 года. А 12 ноября, в морозный день, когда оголенные лезвия ножей ледяного холода пронзали всех жителей города насквозь, войска Вермахта прошли через Вильнёв и начали свою высадку. Мотоциклы с колясками и без, открытые автомобили с надменными офицерами… Когда люди в форме ступали на тротуары, замки жалобно скрипели в дверях. Некоторые отчаянные смельчаки, или просто зеваки, оставались стоять вдоль улиц, чтобы рассмотреть захватчиков, глядя им прямо в глаза, демонстрируя свое презрение этим колорадским жукам, как их уже успели здесь окрестить. А тем временем самолеты „Люфтваффе“, на небольшой высоте пролетающие над городом, приземлялись в Пюжо, совсем неподалеку. Я тогда околачивался около двери монастырской ограды, руки в карманы… помню, как я обернулся с разинутым ртом, уставившись в небо, словно счастливец, восхищенный зрелищем фейерверка. А потом, вдруг осознав разверзнувшийся ад, я припустил домой. Туда, где достоинство и оптимизм все еще были уместны. Нет никаких причин на то, чтобы фрицы проявили интерес именно к нам. Мы не были ни солдатами, ни тем более участниками Сопротивления, мы на себе испытали продовольственные карточки, даже не отоваривались на черном рынке!.. Мои родители не верили ни одному собственному слову, но предпочитали не прозревать, чтобы продлить былые счастливые времена. Каждый вечер они одевались к обеду — земляные груши и несколько граммов плохого мяса в хорошие дни.
Немцы сразу принялись за дело. Реквизиции начались практически мгновенно. Несколько дней спустя после прибытия этих господ в Вильнёв, почти на рассвете, к нам в летний домик пожаловал какой-то человек в серо-зеленой форме Вермахта, адъютант старшего по званию офицера. Он говорил по-французски, уверенно. Наш дом реквизируется для превращения в местный штаб. Если нужно, нам оставят верхние помещения на пару дней, а потом мы должны будем вернуться в наш основной дом, в Юзес. Но лучше всего освободить помещения прямо сегодня. Он пролистал какие-то бумаги, заметив мельком, что Кляйн — это еврейская фамилия, разве нет?.. Мой отец согласился. Тот человек запихнул свои бумаги в карман кителя, без тени улыбки. Я был свидетелем всего этого сквозь полузакрытое окно ротонды гостиной. Он не мог видеть меня. У калитки Обер-кто-то ждал его в „мерседесе“ с открытым верхом. На пассажирском сиденье смеялась, повернувшись к нему, молодая девушка в полицейской светло-синей пилотке. Серая мышка.
Папа с крыльца наблюдал за отъездом этих представителей избранного мира. А потом вернулся в дом, сказать нам, чтобы мы собирали вещи, что около полудня мы уезжаем. Лучше подчиниться… Хотя… У этих господ нет к нам никаких личных претензий, и по большому счету мы могли бы сосуществовать, найти почву для диалога. В конце концов, Моцарт, Вагнер, Гёте и Монтескье с Прустом принадлежат всем. Главное — не потерять достоинства, достоинства француза и представителя республиканского закона. Мы можем положиться на немецкое понимание гуманистической культуры и чести. Верхних помещений нам вполне хватит… Несомненно… Вы правильно думаете, мсье: я не был введен в заблуждение их спектаклем. Понимая, что вряд ли когда-нибудь вернусь сюда, я быстро закрыл свой чемодан и вышел из дома, чтобы в последний раз встретиться с Люс. Но не успел уйти далеко: при виде небольшого открытого грузовика с фрицами, сидевшими на боковых скамейках, мне захотелось вжаться в стену. Они остановились перед нашим летним домом, адъютант слез с грузовика вместе с четырьмя солдатами. Пока я развернулся и побежал обратно, они вытолкали моих родителей и заставили их залезть в грузовик. Отец краем глаза заметил меня. Я услышал, как он достаточно громко сказал, что да, его сын Макс действительно был вписан в продовольственные карточки, но уехал из города… я был в Париже, начиная со вчерашнего дня, у своего дяди Жозефа, улица Реомюр. Я понял его сообщение: у меня нет дяди Жозефа. Никого, кроме тетки Розы, Розы Делиньи, как и моя мать, улица Гаете. Вот туда-то мне и следовало идти. Он смотрел на адъютанта, глаза в глаза, и одновременно держал, сжимая за плечи, мою мать, чтобы не дать ей увидеть меня и таким образом выдать мое присутствие. С того дня мне так их не хватает, мсье, этих потерянных взглядов.
Я не стал ждать, пока грузовик умчит моих родителей, окруженных немецкими солдатами, раскачивающимися от дорожной тряски, вцепившимися в борта. Со всех ног я припустил по переулкам и вбежал в Обитель со стороны булочной, бывшей гостевой части монастыря. Две секунды на то, чтобы пересечь галерею Усопших, и я уже толкал дверь кельи Ампаро и Люс.
Мне доводилось прежде встречать ее у колодца в те памятные вечера, когда Химена признавалась в любви Родриго, и уходила, как всегда оставляя его одного, но сейчас я в первый раз по-настоящему увидел Ампаро. Женщина в черном, с пучком дуэньи, лицом болезненной чувственной танцовщицы фламенко и свободным, выпущенным из корсета телом, с широкими бедрами и округлой грудью. А Люс, Люс, даже закутанная в скрывающий все шарф, помешивающая суп в печи, она была Золушкой, принцессой из „Старой, старой сказки“, всей красотой мира в лохмотьях, и прежняя, заснувшая на время, любовь наотмашь вернулась ко мне. Они меня приняли так, словно я был их кузеном откуда-то из Америки, о котором они никогда не забывали, словно я вышел минуту назад и вернулся с утренним хлебом или водой, набранной из колодца. Сев на табуретку, совсем поникший, я рассказал об аресте, о реквизированном доме и о том, что хочу податься к партизанам. Ибо мне некуда идти. У меня остались только та одежда, что на мне, несколько франков и маленький перочинный нож. Вот так. Не было никаких причитаний. Ампаро подошла, прильнула ко мне сбоку, стоя, и обняла меня, нежно. Не вставая с места, я позволил ей прижать мою щеку к ее животу, обхватил Ампаро руками чуть ниже талии и крепко сжал. Она поцеловала меня в голову: я могу жить с ними столько, сколько захочу. Немцы ни за что не рискнут прийти в этот темный бедлам. Слишком опасно и того не стоит. Лучше следить за нищенским гетто извне. Конечно, они всегда могут взорвать дома, войти сюда с огнеметами и стереть все с лица земли. В таком случае, наши горести закончатся и adios muchachos!.. Плакал ли я? Не помню. В памяти сохранилось лишь то, как угоняли моих родителей, растерянность на их лицах и, одновременно с этим, — сжигающий меня изнутри огонь: я буду жить с Люс! Ампаро бросила мне соломенный тюфяк в комнате на втором этаже и перенесла свои вещи. Отныне она будет спать рядом с Люс, в бывшей мастерской монахов, внизу.
Прошли месяцы, я освоил благородное ремесло старьевщика и, будучи протеже Люс и Ампаро, стал подручным для всего их племени, трех испанцев, которые зачастую объяснялись со мной знаками. Я забыл их имена. Хосе, Эндрю, кажется… В любом случае фамилия у них была Казаль, как и у Люс с Ампаро. Я выходил за ограду Обители только ночью, после наступления комендантского часа. Избегая патрулей, я шел подбирать металлолом на железных дорогах, взорванных Сопротивлением, воровал овощи с заброшенных полей, чтобы подпитать нашу торговлю черного рынка, рубил топором дрова в пустоши. Еще мы делали соломенные сиденья для стульев, точили ножи, чесали шерсть для матрасов. Из кроликов. Или из кошек, поскольку кроликов больше не осталось. На продукты с черного рынка женщины обменивали одежду покойников, последние свидетельства предвоенного великолепия зажиточных семей, которые уже начинали еле-еле сводить концы с концами. Люс и Ампаро приспособили древнюю швейную машинку и потихоньку перешивали вещи. Люс не забыла Жерара. Война и лишения стекали с нее, как летний ливень. Она ждала и верила. С витрин газетных киосков, перед открытием, я воровал все театральные журналы, всю печатную продукцию, содержащую раздел кино или театра.
Она проглатывала их, но без нетерпения, уверенная, что рано или поздно Жерар завоюет известность, и она узнает его на этих страницах о беззаботных звездах. Даррье, Перье, Романс… Я заблудился во временах года, не знал, какое сегодня число, который час. Но веселился как заведенный, без тормозов, и Люс касалась меня каждую секунду. Мы говорили практически только о Жераре: фильмы, пьесы, образ жизни богемы Парижа… Ампаро, когда мы оставались с ней вдвоем, пока Люс слонялась по Вильнёву, чуть-чуть раскрепощалась. На ужасном французском, вперемешку с каталонским, она рассказывала о своем бегстве из Барселоны в первые дни гражданской войны. Они с мужем приехали сюда к одной семье, эмигрировавшей в начале двадцатых годов. Она описывала красоту своего города, свою жизнь на бульварах Барселоны, а потом замолкала на долгие минуты, и я не смел их прерывать, просто шелушил горох или служил манекеном для костюма, который она перекраивала. Как-то она рассказала мне о двух братьях, ее муже и отце Люс, и о неверной жене, матери Люс. Из-за матери Люс все и случилось, из-за ее жажды мужчин. Слишком играла кровь в венах. Она стравила братьев, задирая юбку и зубоскаля без стеснения, так, что дошло до дела чести. Муж Ампаро хотел уехать, а эта шлюха, мать Люс, поклялась последовать за ним. И тогда отец Люс сказал, что должен будет их убить. Все произошло после ужина, зимой, около колодца, там, где когда-то мы с Люс разыгрывали последнее действие нашего „Сида“. Братья сошлись в рукопашной, и все решил нож.
Удар мужу Ампаро, удар матери Люс, которая целовала мертвеца в губы. Люс появилась как раз в тот момент, когда отец убивал ее мать. Она все видела. Трупы матери и дяди, и своего отца, ждущего жандармов. Ампаро не дала ей выместить на отце безутешную боль, оттащила ее, хотя Люс вырывалась, кричала, дралась. Какой-то человек вынужден был даже прийти на помощь Ампаро, поскольку она одна не могла справиться с Люс, один художник, находившийся в той же галерее. Это он дал Люс старенького „Сида“.
Ампаро не рассказала, что чувствовала тогда она. Печаль, гнев… Она добавила только, что тот художник прожил здесь еще некоторое время и иногда рисовал портреты Люс, для почтовых открыток, вот и все. Люс и я, мы никогда об этом не говорили, ни о двойном убийстве, ни о том, что ее отец повесился в тюрьме, ни о художнике. В дальнейшем мы подружились с тем художником, но это произошло много позже.
Через несколько дней после исповеди Ампаро одна утренняя газета, что я прихватил для Люс, сама раскрылась на странице с театрами. Посередине — фотография ангела с Едвигой Фёйер. Из „Содома и Гоморры“ Жиродо. Я мгновенно узнал его: Жерар! В подписи под фотографией называлось имя ангела, торжествовавшего на сцене: Жерар Филип. Если бы не рассказ Ампаро, кровоточащий в памяти, думаю, я выкинул бы газету в водосточную канаву. Но вместо этого я положил ее на колени Люс, полностью осознавая, что для меня это обернется окончательным изгнанием, я ревновал, да, ревновал. Я ее прямо вижу перед собой, мсье… Она принялась щебетать, шепотом повторять строчки статьи, как живую молитву, из газеты на нее лился свет. Она преобразилась. Она могла бы читать в полной темноте. Так Жерар ступил на путь, который привел его к Люс. Она не сомневалась, что однажды, через день, через год, узнает, что он играет „Сида“ в Обители, и уже слышала, как сколачивают доски сцены, представляла декорации, костюм Жерара, а кто сыграет Химену, скажи мне, Макс, Химену? В ответ я молчал, вопрос был простой формальностью, я не знал никакой другой Химены, кроме нее… Однако она не беспокоилась, уверенная в порядке вещей. Наверное, дело было к концу октября 1943 года, я помню, от Роны поднимались туманы.
А потом со мной все стало ясно. Я был только почтальоном, тем, кого ждут на пороге и кого не замечают, потому что уже читают принесенные тобой новости. В газетах, которые я воровал в киосках, все было только про него, Жерара Филипа: вот он закончил сниматься в фильме с Делормом, Блиером и Одетт Жуайо, а потом с ней же сыграл в пьесе „На счастье“, сообщали и о конце его идиллии с Бернадетт Ланж… И на всех углах его ангельская рожа…
Война, высадка в Сицилии, все более и более жестокая немецкая оккупация, местные партизаны, несколько дней скрывавшиеся в потайных закоулках Обители, мои вылазки с Хосе и Эндрю, наша незаконная торговля, от которой я совершенно рехнулся, не помнил больше своего имени и не боялся быть пойманным и расстрелянным, то, что мы начали узнавать о концлагерях, уверенность, что мои родители сгинули там, а потом — нет, невозможно, они вернутся, папа, мама… не знаю, заметила ли все это Люс. Ампаро, да. Она стояла ногами на земле.
Люс хранила фотографии и статьи над кроватью, как благодарственные приношения, свидетельства юношеской болезни, от которой она непременно выздоровеет. Она вставала перед своими реликвиями на колени и снова и снова повторяла киношные пересуды, восхваляла Жерара, говорила мне, даже не глядя на меня: „Видишь!“, и поскольку я молчал: „Ну вот, смотри, ты меня не любишь! Жалко, что я играла пьесу с тобой! Тебе вообще наплевать на меня!“ А я жил только ею.
Весной 1944 года, в мае, в наших местах начались бомбардировки, и для Гитлера стало попахивать жареным. Освобождение вовсю заявляло о себе. Сначала на юге. Только что прошла премьера фильма Аллегре „Малютки с набережной цветов“, и Люс впала в мистический экстаз, я не мог больше этого выносить. Однажды я совершил вылазку к нашему дому в Юзесе. Его заняли семьи беженцев. Никто ничего не слышал о моих родителях. Я продолжил путь до Монпелье.
Мои бывшие приятели, студенты-медики, прятали меня на территории медицинского факультета и государственной больницы. Днем я жил в аудиториях, притворялся студентом, совершал обходы, в белом халате, затерявшись в группах, сопровождавших профессоров. Ночью дремал с дежурными врачами как интерн-практикант. Нам даже приходилось лечить раненых сопротивленцев, потихоньку, с одобрения преподавателей. До августа. В те времена еще встречались эсэсовцы, беспорядочно отступающие пособники гестапо. Мы знали, что они обречены, но еще способны на жестокие репрессии, такие как в Орадур-сюр-Глан, уничтоженном и сожженном в июне. Они даже ни разу не удостоили меня взглядом. Потом их здесь не стало, но я продолжал жить так же, словно в ожидании, когда в мире снова воцарится порядок, чтобы попытаться найти свое место. От того бесконечного года, от той ужасающе холодной зимы у меня осталось цельное воспоминание, как от одного нескончаемого дня. Мы следили за военными действиями Франции, за продвижением союзнических войск от Нормандии, подступом Леклерка к Парижу, мы вернулись к жизни. Ни разу я не попытался узнать о перипетиях карьеры Жерара Филипа. Тем не менее, он неотвязно преследовал меня — через Люс.
В самом начале мая я решил поехать в Париж, к тете Розе. Может быть, она что-то знала о моих родителях. По слухам, депортированных начали возвращать домой. Если так, они наверняка были у нее!.. Естественно, я сделал крюк через Обитель. Я приехал 7-го, невероятно взвинченный. Поговаривали, что Германия капитулировала, что все закончилось!.. Ампаро чуть не съела меня живьем, не произнеся ни слова, сплошные поцелуи, она ощупывала меня, гладила мои щеки, и ее губы дрожали. А я смотрел на Люс. Еще более дикое животное, чем когда-либо, гордая и блестящая, моя растрепанная цыганка с темно-синими глазами. Черт возьми, как я хотел ее поцеловать, кажется, я даже попытался, по крайней мере, подошел к ней, она отшатнулась, затараторила без умолку, а потом показала мне свою стену, сплошь покрытую газетными статьями. Единственная новая вырезка из прессы: в марте Жерар Филип сыграл Федерико в театре „Матурэн“. Больше ей нечем было поделиться со мной. Его восхождение продолжалось. Всю ночь я пил плохую сангрию, что сготовила Ампаро. Кажется, я изрядно напился, и она помогла мне добраться до моего тюфяка. Люс к тому времени давно спала».
Теперь уже было темно, и Макс остановился перевести дыхание в оранжевом ореоле уличного фонаря. Мы вышли из Обители через Женский двор и монастырские врата, дошли до площади Нев. Он говорил долго, останавливался, как старый пес с неровным дыханием, словно бы для того, чтобы принюхаться, взять след.
Рядом с каким-то баром он прислонился спиной к стене, ощупывая ее бугорки, и прислушался, оглядываясь вокруг, как будто вновь уловил прежние голоса, увидел тени прошлого. Ощущал ли он мое волнение, не играл ли умышленно на моих чувствах?.. Или же просто выбился из сил, столько воспоминаний разом — это слишком много?.. Во всяком случае, выдержав актерскую паузу, он снова заговорил вполголоса.
«Настоящий городской праздник с танцами по случаю Освобождения был назначен на 9 мая 1945 года. Но уже 8-го, при известии о победе, на площади Нев были возведены временные подмостки, на платанах висели разноцветные гирлянды. Здесь были все: нищие и именитые, красавцы и уроды, бабули и девчонки, и все гетто Обители в полном составе, неловкие от привычки жить в страхе, ослепленные люди, которые только-только наугад вновь обретали свободу движения и целовали друг друга крепкими влажными поцелуями, пряча в дрожащих до самых плеч руках мокрые носовые платки. Я прижался к Люс и Ампаро. На них были праздничные браслеты и сатиновые платья, смастеренные из былых нарядов, перелицованные из обносков. Все окна на площади были распахнуты. В ожидании танцев. Скорее танцевать! Стирать страхи и унижения, держать в своих объятиях женщину, ощутить ритмы танго, вновь испытать достоинство простых удовольствий. Все ждали. До тех пор, пока какой-то человек с напомаженными волосами не вскарабкался на помост и не сообщил, что оркестр застрял в Ниме и не приедет. Сначала это было словно поражение, опустились руки, народ потек к выходу с площади, намереваясь разойтись по домам. А потом что-то произошло, какое-то движение, потому что мы не могли упустить это мгновенье, потому что мы должны были выкрутиться в последний раз, не прогибаться снова, кто-то, женский голос, заржавевший от стольких лет тишины, начал: „Есть люди, рассказывающие вам об Америке…“ — и постепенно песня победила, вся толпа подхватила первый припев: „Где моя мельница с площади Бланш, мой магазинчик и кафе на углу…“, и этот безбрежный голос перелился через площадь, дотек до самой Роны, что уносила проникнутые тоской слова: „Где они, наши друзья, наши товарищи, где они, старые добрые танцы под аккордеон…“. Это послужило сигналом, из кафе вынесли граммофон, муниципальные служащие включили громкоговорители, и вдруг мы услышали Тренэ, исполняющего „Милую Францию“, бесконечно трещащую, далеко-далеко, словно кто-то крал эту мелодию с запрещенных волн. И тогда образовались парочки, вслепую, между незнакомцами, просто по улыбке, по пойманному взгляду. И вперед, музыка!..
За весь вечер мне ни разу не удалось обнять Люс. Она переходила от кавалера к кавалеру, и до меня очередь так и не дошла. Боже, как она смеялась, какой благородной дамой она была в своих ничтожных обносках, со своей дикарской красотой растрепанной босячки. Никто, ни один из мужчин, что сжимали ее в объятиях, не позволил себе ни развязного движения, ни попытки опустить руку ниже ее поясницы. Просто в конце танца они целовали Люс, по-настоящему, и на мгновение продолжали танец в поцелуе. Потом она ускользала, обшаривала глазами толпу, словно та была прозрачной, словно на площади никого не было, я прекрасно понимал, что она искала одного-единственного человека, Жерара, который может появиться из-за угла мэрии, около почты или у лестницы к Крепости. Секундная паника, как у потерявшегося ребенка, и, оп-ля, очередной танцор опрокидывал Люс в яву и ее красное платье исчезало в вихре крутящихся пар. Что до меня, дамы, пахнущие мылом, прижимались ко мне, затягивали в шаги, которых я не знал, целовали в губы, плакали от радости, рассказывали свои жизни, я был Тино Росси, Морисом Шевалье, Карлосом Гарделем, в особенности Гарделем, во время танго до удушья… Наступила ночь, нам было наплевать, равно как и на то, что болят ноги, что уже невозможно разглядеть, с кем ты танцуешь. В итоге я оказался в объятиях Ампаро. Вся в белом сатине, случайная новобрачная, которую бросят на следующий день после свадьбы. С того момента, как Ампаро положила руку мне на плечо, она меня больше не отпускала. Она вела меня, подхватывала мои неверные шаги, и я чувствовал ее жадное и нежное тело, ее грудь, разрывающую лиф платья, ее ляжки меж моих ног. Я пытался найти Люс, но нет, лишь красная вспышка, и она снова погружалась в самую гущу танцев. Распущенные красивые черные волосы Ампаро, трагизм в глазах и полуоткрытый рот. С какого-то момента я перестал различать Люс. Ампаро сказала, что Люс устала и наверняка вернулась домой… Позже, мсье, во дворе какого-то винодела, около какой-то брошенной бочки, я в первый раз занимался любовью. Не из жалости, мсье, и не из-за досады!.. А потому, что эта женщина была достойна любви, и потому, что она любила меня. Да, там я узнал о ее чувствах ко мне, мальчишке, от которого она ничего не ждала. И там она научила меня таинству любви, нежно, без нетерпения и насмешек, не переставая говорить на испанском, которого я не понимал и который действовал на меня как старое заклинание или колыбельная. И я закрыл глаза.
Потом, впервые с ареста моих родителей, я пошел ночевать в опустошенный летний дом, в котором остались прикрепленные к стенам приказы на немецком, опрокинутые на столах стаканы, хлам отступающей армии. О комнатах даже не хочу говорить. Разоренные. Один из матрасов был заляпан кровью. Я спал в погребе, как во времена моих жестоких игр с Люс.
На следующий день все сделали по правилам. Официальные танцы. Вся деревня заполнила площадь Нев, некоторые родственники пришли из Авиньона. То же место, та же жажда танцевать. И небольшой оркестрик, который пытался всячески разнообразить свои обычные пасодобли. Пятеро музыкантов, исхудавших от недоедания, плохо одетых, потрепанных, со старенькими инструментами. Они играли до рассвета.
С самого своего прихода Люс подволакивала ногу. Мы с Ампаро подумали, что это из-за вчерашнего вечера. Перетанцевала вальсов и чарльстонов? Слишком энергичный кавалер? Естественно, мы склонялись ко второму варианту, памятуя о том, чем сами занимались во дворе виноградаря прошлой ночью. И все же Люс улыбалась, позволяла нам говорить без своих обычных вспышек гнева, как бывало всегда, когда я осмеливался подкалывать ее дурацкими шуточками о Жераре. Мы пристроились около стены, смотрели на толпу, изголодавшуюся по свободе. Я думал о своих родителях, вернутся ли они из ссылки или же сгнили где-нибудь в лысых равнинах Пруссии либо Силезии, как они умерли — от холода, от истощения, сраженные пулей, что последнее они увидели перед смертью?.. Помню, как оркестр заиграл „Рамону“, и Люс протянула ко мне руки. На ней были черная прямая юбка и черный корсаж из крепдешина, перелицованные и перекрашенные. Я… Представьте, мсье, меня неистово колотило, это было мое признание, моя тайная помолвка, — прижимать к себе Люс, чувствовать грудью ее плоть, совсем рядом, вдыхать аромат ее волос, и потом — этот ее темно-синий взгляд, возведенный к моему лицу и полный смятения внутри… Сам король мог бы позавидовать мне!.. Я увлек Люс в огромный поток гордых танцующих людей, мы словно парили над землей, и она, и я. Ампаро, прислонившись к стене, в своем поношенном платье из сатина, отводила глаза. Два-три шага, чтобы попасть в ритм, обещанный мне поцелуй, а потом вдруг скрежет туфли по мостовой, Люс цепляется за мою рубашку, чуть не падает, совершенно растерянная, она стонет, открытый рот, сдавленный вздох, я едва успел выхватить ее из толпы и отвести к Ампаро, которая уже притащила стул из кафе, чтобы усадить Люс… Мы обнимали ее, гладили по волосам, что случилось, Люс?.. Она потирала правую ногу, ощупывала, пощипывала ее, пыталась встать, но не могла… Ногу парализовало, все было тщетно, она умерла!.. Люс повторяла эти слова безостановочно, почти недоверчиво, беззвучным голосом: она умерла!.. Я поднял ее, как лишившегося чувств ребенка, и, прорвавшись сквозь гущу людей, которые целовали друг друга, распевали песенки, взобрался вверх по улице Републик, по бульвару Мюрье, пробежал по галерее до кельи в Обители и положил Люс на кровать. Правую ногу, которая по-прежнему не подавала признаков жизни, она больше не чувствовала, и ее глаза обезумели от тревоги, она закрывала рот рукой, стонала, а я, что я мог сделать? Я разминал, растирал ей бедро, колено, икру, ступню контрабандной водкой, которую Ампаро лила мне на ладони. Безрезультатно. Люс лежала, с закатанной до бедер юбкой, как неуклюжая шлюха. Еще вчера я бы пересек всю Аляску ради одной ее ласки, а сегодня у меня ничего не получалось, я массировал эту столь желанную плоть и не способен был вызвать в ней хоть малейшую дрожь.
Я послал Ампаро на площадь за помощью. Она вернулась с докторишкой, очень молодым весельчаком, у которого на воротнике рубашки остались следы помады. Он раздел Люс догола, полностью, и приступил к осмотру. Он послушал ее, пощупал, расспросил, задавал вопросы то серьезно, то снова с улыбкой. Как только Люс раздели, она взяла Ампаро за руку и больше не отпускала ее. Что до меня, то это тело цвета сепии, блестящее как у сирены, я его не видел, я ловил ускользающий взгляд докторишки и слушал его покашливание, пока он не набросил на Люс покрывало и не сказал, что такие несчастные случаи теперь не редки: нехватка витаминов, кальция… Надо будет сделать анализы и подготовить соответствующее лечение… Люс уставилась в потолок, Ампаро же неотрывно смотрела на меня, словно бы это Бог покарал нас.
Докторишка кивнул мне, отзывая в сторону, мы вышли под разбитые своды галереи Усопших: он предполагает, что это за болезнь, но не хотел бы пока называть ее, хотя опасается ухудшений, поскольку сейчас болезнь в прогрессирующей форме, самой плохой, сопровождающейся моноплегией, парализацией одной конечности. Он был бы рад ошибаться, нужно провести дополнительные обследования, моноплегия может отступить, но появятся другие симптомы, и Люс обречена на то, чтобы каменеть все больше и больше… Доктор был в отчаянии оттого, что вынес такой ужасный диагноз, и отказался взять деньги. Кажется, я хотел съездить ему по роже. Он оставил мне письмо для обращения в больницу Авиньона и ушел, пятясь задом, его губы бормотали извинения. Я бился лбом о стены, рыдал, а потом вернулся в келью, чтобы поведать страшную правду.
Ампаро уже одела Люс и усадила ее в кресло из ивовых прутьев, в небольшом садике, разбитом уступами, рядом с салатом и дынями. Прикрыв ноги одеялом, Люс смотрела, как поверх крепостной стены на город опускается ночь. Я присел рядом с ней на корточки, взял ее руки в свои и рассказал, чем чревата эта болезнь и о возможных моментах улучшения. Хотя Люс не сразу опустила ко мне взор, уверен, что она слушала. И что она поняла. Ампаро тоже, прислонившись к косяку двери, с видом женщины, которая повидала всякого, не вникая в смысл слишком сложных слов, только по тону моего голоса тут же поняла, что дело плохо. Краем платья из белого сатина, без смущения задранного к глазам, она вытерла две слезинки и принялась копаться в кастрюлях, чтобы укрыться от наших взглядов.
Все, что произошло потом с Люс, навеки запечатлено в моей памяти. Ни рыданий, ни вопросов, ни волнений. Она по-прежнему была царственной Хименой, гордой и непреклонной. Болезнь, клиника, лечение, что ж, все так, она будет бороться. Значение имело лишь одно: нельзя, чтобы о случившемся узнал Жерар. Необходимо успеть выздороветь до того, как он приедет сыграть „Сида“… Напрасно я говорил ей, терпеливо, что это все давно забытое ребячество, что он вообще не помнит о нас, что нельзя строить жизнь на пустых словах… Она посмотрела на меня в упор: он поклялся мне, сказала она, а ты, ты ревнив и безобразен. Во-первых, у тебя огромный нос!.. А если ты еще и сомневаешься в его клятве, больше никогда не приходи сюда… Что я мог ответить или сделать?.. Попросить ее выйти за меня замуж?.. Убеждать, что я не призрак, что я буду ухаживать за ней до самой смерти, что не пройдет ни дня, чтобы она не ощутила моей заботы, даже если ей суждено стать инвалидом, даже если она откажется разговаривать со мной, прикасаться ко мне?.. Но я лишь покачал головой, в полной растерянности перед этой, обрекающей себя на вечные муки женщиной, чья медленная смерть уже оповестила о себе и чьи мысли были заняты лишь бутафорским принцем!.. Куда мне, Максу Кляйну, до него!.. А потом меня вдруг осенила идея, глупая и простая! Я принял решение, нарисовал план своей дальнейшей жизни, столь же очевидный и сложный, как постановка на сцене, столь же иллюзорный и столь же правдивый… Я объявил, что уезжаю в Париж, к сестре моей матери. Я тоже стану актером и встречусь с Жераром Филипом, может, буду его партнером или даже другом, и заставлю этого блудного Сида вернуться в Обитель, на худой конец смогу сообщать Люс новости о нем… Если бы вы видели ее!.. На секунду я подумал, что она сейчас побежит, что я совершил чудо!.. В каком-то порыве, озаренная внезапным лучом света, она протянула мне руки. Я их поцеловал, в ладони, и ушел. Потому что больше не мог выносить это, мсье, не мог и не хотел плакать у нее на глазах.
В Париже тетя Роза встретила меня так, словно я уцелел в лагерях. Это была независимая дама, которая жила вне законов общества. Вдова, унаследовавшая значительное состояние, достаточно близкая к артистической среде и очень в духе „Семейные ценности не для меня“. Благодаря ей, в дальнейшем, я получил возможность для установления контакта с Жераром Филипом. Она даже вкладывала деньги в театральные постановки и кино. Сомневаюсь, чтобы она хоть раз поужинала с моими родителями после их свадьбы. Но знать, что они угнаны на чужбину, не получать от них больше кратких известий, которые до этих пор лишь надоедали ей, представлять их разлученными, или, хуже того, похороненными в общей канаве, — все это было для нее невыносимо, она упрекала себя за то, что отдалилась от них, за то, что не сказала им, как прекрасна их любовь, которой она завидовала, поскольку чертово счастье опять досталось другим. Никогда уже они не вернутся, сгинут в бараках, где-то в Германии… Нам обещали невозможные возвращения. Она бы себе не простила, если бы утратила надежду, мечтала, что их найдут, репатриируют. К моему приезду она узнала, что первые депортированные на самом деле начали наконец возвращаться.
Бесполезно описывать вам центр Орсэ, в котором их размещали. Естественно, мы не имели права заходить туда, да и нелегко это — видеть полумертвые тени. Зато можно пробежать глазами вывешенные Отделом репатриации списки. И когда кто-то обнаруживал в этих списках пропавшего родственника, семья получала разрешение забрать его. Если он не мог самостоятельно уйти из центра. Если же мог, нужно было стоять и ждать его снаружи. Там все бурлило. Женщины из задних рядов толпы выкрикивали имена тем, кто был впереди. Лагаш Марсель, Лагаш!.. Санжер Рашель!.. Все перемешалось, было слишком плохо слышно для того, чтобы ответить с уверенностью. Иногда кто-нибудь, желая всем отчаявшимся только добра, ошибался и орал, что да, Робер или Жереми тут есть! Матери, брату давали пройти к списку, чтобы они возрадовались, увидев имя своего пропавшего без вести родственника. И каково же было разочарование, когда это оказывалось неправдой! На следующий день они уже держались в сторонке, опустошенные, не осмеливаясь приблизиться. Здоровые узники войны после дезинфекции выходили из центра, небольшими группками, ошарашенные свободой. Их ждали родители, приятели, они бросались им на грудь, и все смеялись, плакали, силясь в двух словах рассказать о долгих месяцах и годах. А те, кого не встречали, отворачивались, чтобы скрыть, как им больно оттого, что их никто не ждет. О, боль этих дней, парадоксальная, траур и облегчение одновременно!.. Слезы радости и страдания смешались воедино. Моей тете Розе становилось плохо от проглоченных рыданий. Мне было не лучше, но я, не теряя надежды, распахнул свое сердце для тех, кого любил, где бы они ни находились, — родители, Люс, продолжающая бороться с болезнью. В дальнейшем я настоял, что ходить к центру буду один.
Однажды, когда я уже собирался уйти, решив, что, видимо, мой день еще не сегодня, девушка, часто разговаривавшая со мной, окликнула меня: Даниэль Кляйн, ведь это твой отец, да?.. Да… Его привезли из Бухенвальда. Я забыл те первые мгновения, когда вновь увидел отца на носилках, которые только что вынесли из вагона, и не помню уже, как разобрался со всеми бумагами и прочим.
Его перевели в больницу „Отель Дье“. От прежнего судьи с представительной осанкой и в мантии с горностаем ничего не осталось. Только скелет. Можно было подумать, что под накрахмаленной простыней вообще никого нет. Он был не способен усваивать пищу. Его рвало после первой же ложки проглоченного бульона. Кроме того, я не сумел скрыть от него, что мама не вернется из Биркенау Он захотел увидеть уведомление о ее официальной кончине. И слезы безграничной любви к ней подступили к его глазам. А потом он полностью отказался от еды. Но так невозможно протянуть и несколько недель. Он не протянул даже одной. На шестой вечер он сжал мою руку, и прощай навсегда. Но перед этим мы успели поговорить. Собрав все силы, что у него остались, он спросил меня, как мне удалось уцелеть в водовороте войны. Взгляд его был устремлен в окно, за которым возрождалась мирная жизнь. Я рассказал обо всем: о моей хулиганской партизанщине в Обители, о семье Казаль, об Ампаро, о Люс, о наших встречах украдкой, начиная с июня 1940 года, о „Сиде“ и о том, как я люблю эту синеглазую Химену Рассказал даже об отце Люс, убившем жену и брата. Слушая меня, папа, а это был его последний день, вдруг почему-то нахмурился: Казаль, Казаль… Ну конечно же!.. Секундная заминка, и он вспомнил перипетии того суда: прокурор тогда требовал смертного приговора, а адвокат произнес прекрасную речь о чести и об испанском народе, истерзанном гражданской войной… И еще забавный случай: сноха Ампаро попыталась взять вину на себя… Никто в это не поверил… В итоге он вынес Казалю пожизненное заключение… И тот, если память не подводит, покончил с собой в тюрьме… Точно. Таким образом, Ампаро и Люс, спрятав меня у себя, знали, кому они спасают жизнь!.. Он был раздавлен жестокой шуткой судьбы и пытался протянуть мне руку: жаль, если… Как все это вынести? Сам того не ведая, я стал воплощением Сида в реальной жизни! И тогда я не выдержал, поняв, что злюсь на отца за все, за его жизнь, за эту чертову войну, за то, что больше нет ничего человеческого… Я сбежал, чтобы не разбить себе голову о стену. Тетя Роза плакала в коридоре, почти механически, не в силах справиться с горем, и я рухнул в ее объятия. Когда мне удалось взять себя в руки, мы вернулись к отцу. Нам с тобой, папа, никогда не перестать исповедоваться друг другу, никогда не наговориться вдоволь… Я закрыл его совсем иссохшие веки».
Мы уже давно покинули площадь Нев. Без какой-либо определенной причины. Достаточно было, чтобы я слушал, чтобы он оборачивался на ходу и, видя мое внимание, продолжал свой жестокий рассказ. Теперь он зашел уже слишком далеко, чтобы останавливаться. Я знаю, он пойдет до конца, потому что иначе умрет на этом самом месте. Мы с трудом пробирались по идущим под уклон улочкам, сворачивали направо, налево, темными дорогами его воспоминаний, и он не замолкал больше чем на минуту, только чтобы перевести дыхание.
«Я оказался трусом. Понадобились месяцы, чтобы я смог предстать перед Люс и Ампаро. Они слали мне почтовые открытки, того самого художника из Обители. С изображением Люс на лицевой стороне. Расслабленно прислонившаяся к стене, в полурасстегнутой одежде, приспущенная бретелька корсажа, согнутое колено, чтобы не было видно лодыжку. Дикарская Химена тех прежних времен, манящая. На обороте она мне писала, что с ее лечением все хорошо, что она чувствует себя лучше, не считая редких головокружений. Встретился ли я с Жераром Филипом? Ампаро целует меня. Все это время я постоянно ходил в кино и театр. Динам, Желэн, приятели Жерара Филипа, Оклэр, с которым он праздновал освобождение Парижа, мы встречались за кулисами на премьерах, я не пропускал ни одной. Вторая алебарда на фиестах, статист на съемках, я видел воочию, как растет слава актера. А потом я не выдержал и приехал в Вильнёв с „Калигулой“ Камю и „Эпифаниями“ Пишетт в карманах. С пьесами, где играл Жерар Филип. Я должен был прочесть их Люс. Время от времени ее взгляд темнел, она чувствовала себя далеко не прекрасно. Мертвящая болезнь сжимала свои когти. Иногда ей становилось лучше, как и говорил доктор, и тогда Люс забывала о неизбежном и писала мне оптимистические открытки. Тайком Ампаро спросила меня, правда ли, что говорят: будто Жерар лично помог своему отцу, приговоренному к смерти, укрыться у Франко, в Барселоне… Потому что, если это правда, то надо это скрыть от Люс… Барселона, понимаешь… Я сказал, что нет, когда Марсель Филип переходил границу, Жерар был на сцене, в Париже, а я сидел в зале…
В течение следующих нескольких лет я ездил туда-сюда: Париж — Вильнёв. По большому счету состояние Люс стабилизировалось. Медицинское наблюдение за ней было хорошим, во всяком случае, по меркам того времени. Я продолжал быть почтальоном сплетен. „Идиот“, „Дьявол во плоти“, „Пармская обитель“, „Такой красивый маленький пляж“ — все фильмы Жерара Филипа, в каждом из них я участвовал в массовках. „Пармскую обитель“ снимали в Италии… Люс плевать было на Италию, но она восприняла как знак возвращения Жерара слово „обитель“ в названии, и ее беспокоили журнальные пересуды: правда, что у Жерара была интрижка с Марией Казарес?.. Да нет же, просто дружба, ничего больше. Впрочем, Мария влюблена в Жана Серве, ты же знаешь… Подвергался ли он опасностям во время съемок? Этот спуск с верхотуры башни, на тросе?.. Когда у Люс хватало сил на то, чтобы ее отвели в кино, она, инвалид, особенно восхищалась физическими подвигами Жерара: я бы так сделать не смогла, да?.. Впрочем, она не заметила меня в фильме, где там я?.. Спрятанный в шкуре убийцы, один из солдат среди сотен других, зачастую даже вырезанный при монтаже…»
Мы как раз обогнули склон, и перед нами вдруг предстало пространство над Роной, а позади Авиньон, Папский дворец, который весь трещал по швам от света прожекторов. Мы остановились. Макс задумчиво смотрел на дворец, и его дыхание странным образом успокоилось. Но все-таки он кряхтел, дрожал, цеплялся за мою руку:
«Вы бы не согласились разделить со мной ужин? Скромный, не беспокойтесь…В любом случае, вы прекрасно понимали, что я веду вас к себе…»
Я утвердительно кивнул, конечно же я понял правила игры, и этого ему было достаточно, он еще раз бросил взгляд на дворец и повернул обратно. Что до меня, то теперь я пошел бы за ним на Аляску.
«…Однажды утром, в начале июля 1951 года, я приехал в Обитель с ворохом киношных журналов; первый день моих каникул. И обнаружил настоящий бедлам! Словно бы по келье пролетел ураган: обрывки ткани, какие-то лоскутки, выкройки платьев загромоздили кровать и стол. Ампаро строчила на своей ножной машинке, разрывая тишину грохотом картечи: с новостями, от которых кровоточило мое сердце, я опоздал. Люс уже знала: 18-го числа этого месяца Жерар Филип будет играть „Сида“ в папском дворце Авиньона, в главном дворе замка! На фестивале! Сидя на ограде садика, она что-то лепетала, ее руки порхали, в нетерпении, от счастья: Ампаро сошьет ей что-нибудь элегантное, Жерар узнает ее, совершенно точно… Она еще похудела, вертикальные лучи солнца высвечивали ввалившиеся щеки. Я сказал, не помню уже, что… может, что пойду заказать места, и оставил журналы рядом с Люс.
В тот день дул мистраль. Поднявшийся прошлой ночью, ледяной, он терзал волосы Люс, пока я вез ее кресло-каталку вдоль края сцены, мимо первого ряда. Я сидел чуть в стороне, на складном приставном стуле. Шелест плющей главного двора замка, сплетенный с разговорами рассаживающихся зрителей, создавал атмосферу огромного нетерпения. Ампаро отказалась пойти: Испания героических идальго, об этом не может быть и речи. До тех пор, пока Франко, caudillo de sangre, будет у власти!.. Но она помогла Люс вымыться, причесала ее, одела. Всплеск чувств, тревога спровоцировали у Люс серьезный приступ, параплегию, паралич обеих конечностей, и мне пришлось приподнять ее почти неподвижное тело, чтобы Ампаро смогла завершить туалет. Все это время Люс ворчала, что я держу ее голой в своих руках, что я присутствую при ее интимной гигиене, она говорила зло, ничем не пыталась помочь нам, жаловалась, что мы причиняем ей боль и что специально делаем все, чтобы она опоздала. Если она пропустит начало, то никогда больше не скажет нам ни слова! В конце концов Ампаро не выдержала, и это уже я подводил карандашом глаза Люс, красил ей ресницы, накладывал тональный крем на ее серые скулы, наносил тени на веки и помаду на губы. Неловко, широкими дрожащими мазками. И я же вдел ей в уши старинные серебряные серьги Ампаро, их единственное богатство. В результате она обрела смутное очарование актрис в тот миг, когда гаснут прожекторы.
Дали звонки к началу, слышен был только ветер, ласкающий стены, над сценой появился свет. Эльвира и Химена…
С самых первых стихов пьесы, со слов Химены, преображенной любовью: „Эльвира! Верно ль то, что сообщила мне ты?“, я увидел, как шевелятся губы Люс. Она проговаривала роль вместе с Франсуазой Спира, она была ее тенью, с первой минуты до самой последней реплики она была Хименой. И вот появился Сид, искалеченный Родриго: Жерара Филипа вынесли на сцену, устроили в нужном месте, он не мог ходить. На мгновение публика содрогнулась, а потом голос Жерара захлестнул главный двор, но не голос серьезного трагедийного актера, а голос молодого удачливого задиры, не согласного ни на какие сделки, припертого к стенке, вынужденного сломать под грузом долга собственную, едва начавшуюся жизнь, убив отца своей возлюбленной… Жерар Филип сыграл всю пьесу полусидя-полустоя, не способный сделать ни шагу, все остальные, Жан Вилар, Жанна Моро, Спира, крутились вокруг Жерара, возмещая его вынужденную неподвижность, и мы, увлеченные действием, не замечали ущербности постановки. Перед нами был юнец, становившийся мужчиной, с порывами, с бахвальством, с чудовищными разочарованиями, и физическое страдание Жерара тоже способствовало раскрытию образа Родриго. Думала ли снова Люс о собственном отце, во имя чести убившем жену и брата?.. Не знаю, но она вырвалась из своего одеревенелого тела, она была там, высоко, в лучах света… Как тогда, тем давним июньским вечером, в Обители. Возможно, теперь, июльским вечером 1951 года, боги вернулись в этот двор, и их перст указал на Жерара Филипа и Люс. В финале воцарилась звенящая тишина, а потом вдруг единое биение сердец выплеснулось в криках „браво“, в унисон сорвавшихся с уст, все стояли, рукоплескали до боли. Кроме Люс. Вбирая взглядом Жерара, которого поддерживали у края сцены, она растворялась в овации публики, она говорила с ним. Еще долго, после того как закрылся занавес, она оставалась в таком исступлении.
От выходящих зрителей мы узнали, что Жерар Филип накануне, во время последней репетиции, повредил колено, упав со сцены. Так сильно, что все были уверены: он не сможет участвовать в спектакле.
Теперь Люс хотела поблагодарить Жерара за то, что он сдержал слово, вернулся сыграть „Сида“ только для нее. И к тому же я с ним неплохо знаком, я тоже актер, значит, нас пропустят к нему, не так ли?.. Мы спустились в уборную Жерара. Что-то вроде подвала, который он делил с Жаном Виларом. Никто не осмелился воспрепятствовать нам. Я докатил кресло Люс до этой уборной. Грим Жерара был расчерчен слезами, любимец Франции дрожал от опустошения, сидя в кресле у зеркала мертвенно-бледный в резком свете ламп, освещавших подвал. Вся боль, которой он не давал выхода во время спектакля, вернулась к нему, отомстила, вцепилась в него до костей. Он увидел нас в зеркало, и, не строя из себя недотрогу или раздраженную звезду, с насмешливой улыбкой спросил: „Вы пришли утешить меня?“ А потом разразился своим неповторимым смехом, завораживающим дам, мы даже присоединились к нему, от смущения или просто так, потому что уж больно заразительным был его смех, а потом он обернулся, добавив: „Если бы я знал, что вы здесь, попросил бы, чтобы вам тоже похлопали…“ Кто-то украсил гримерный столик хиленьким жасмином, в горшке. Жерар примостил его между мертвыми руками Люс и поцеловал ее. И Люс, вы не можете представить, размалеванная, как шлюха, в сшитом Ампаро парадном платье на безжизненном теле, Люс только склонила голову, удовлетворенная, и она была самой красивой женщиной на свете. Не имело смысла говорить о нашей прошлой встрече, напоминать о старом обещании, Жерар только что ответил ей на все возможные вопросы. И, что бы ни произошло, даже прикованная к постели, с истрепанной до дыр жизнью, в тот момент я не сомневался, что она пронесет это счастье до конца, что отныне у нее будет больше жизненного багажа, чем времени, чтобы его потратить, чем я когда-либо смог бы ей подарить.
За все дни фестиваля 1951 года, за все то время, что она прожила, Люс больше никогда не ходила ни на какой другой спектакль. В августе я вернулся в Париж, продолжив заниматься своим ремеслом, и по-прежнему старался поддерживать связь Люс с Жераром с помощью моих маленьких новостей о спектаклях… Он начал сниматься в „Фанфане-Тюльпане“…
Следующие шесть лет были самыми ужасными и, возможно, самыми счастливыми. Поверьте мне, мсье, она подарила мне настоящую жизнь, несмотря ни на что… Я снова вижу ее, пересаживающую жасмин, в уголке крошечной галереи. Я выкопал ямку, поместил в землю растение, и, кажется, потом она уже больше почти не ходила. Естественно, я все делал плохо, и она ругалась на меня, брюзжала. Ей важно было самой утрамбовать землю, и усилия, потраченные на это, были ей дороже всего. Я поддерживал ее, а она чередовала слабенькие удары пяткой с болезненными стенаниями. Она уже почти ничего не весила. Кроме того, она едва видела, и ее слепота становилась необратимой. Все сыгранные Жераром пьесы я должен был читать вслух. Я исполнял все роли, как в нашем прежнем „Сиде“, Лоренцаччо и герцога, Рюи Блаза и Ричарда II, королев и принцесс. Разумеется, мы больше не ходили в кино, и я рассказывал ей кинофильмы: „Красное и черное“, „Приключения Тиля Уленшпигеля“…
В такие часы она любила меня, мсье. Я был Каллимахом, я читал: „И тогда она также мне скажет: мой любимый, но самим сердцем…“, а она шепотом повторяла: „Мой любимый“, голосом Лукреции. И это я был перед ней, я заставлял ее плакать, стенать и смеяться от любви и забывать о страдании на время действия… Двадцать раз я спрашивал ее, не хочет ли она, чтобы я напомнил Жерару Филипу о той июньской ночи 1940 года, не хочет ли продиктовать мне письмо… Категорический отказ: он сдержал свое обещание, вернулся, чтобы сыграть Сида, basta cosi, он должен заботиться о своей карьере, о своей жене… Она была убеждена, что ей досталась самая лучшая участь… Пока все не начало путаться в ее памяти, я вынужден был поклясться никогда не говорить о ней с Жераром… Потом болезнь больше не церемонилась с ней. О, взгляд Ампаро, ее манера качать головой, когда я приезжал из Парижа и, задыхаясь от гонки, вбегал в келью Люс! Люс сразу же требовала новостей о Жераре, и я, делая над собой усилие, открывал газету, чтобы успокоить ее. Злые колкости Люс сменились настоящими приступами слабоумия, а потом она впала в кому. Ее пришлось положить в больницу. Жизнь еле теплилась в ней, она не могла даже принимать пищу. И умерла от голода, мсье. Однажды днем, когда я стоял к ней спиной. Тридцатипятилетний ребенок. С того дня у меня остались платья Люс, которые я целую каждый вечер, ее открытки, всякие мелочи и жасмин… В конце 1959 года я срезал цветок и бросил его на гроб Жерара Филипа, я сделал это для Люс…»
Перед нами высокая решетка. За ней видна песчаная алея и зажиточный дом, с эркером, крыльцом и двустворчатой дверью. Фонари парка золотят тутовые деревья и эвкалипты. Летний домик родителей Макса Кляйна. У меня появилось чувство, будто я не раз бывал здесь и знаю семью Макса целую вечность. Он вынул ключ, мы пошли по алее, медленно. Изможденный, совсем седой. Макс закончил говорить, и мне показалось, что он терпел меня сейчас из вежливости, что он хотел бы, чтобы я извинился и ушел. Но это было уже невозможно. Как?.. Все забыть?.. Люс, Ампаро, Жерар Филип, прощайте навсегда, приятно было с вами познакомиться, — даже не мечтайте! В первый раз с начала исповеди я задал вопрос, и он почти опешил от этого, остановился посреди алеи.
«Так вы пожертвовали своей карьерой актера?.. И прожили в тени Жерара Филипа из-за Люс?.. Все эти маленькие роли, на которые вы соглашались только из-за…
— Я ничем не пожертвовал: я никогда не был актером, как вы полагаете… Я надеялся, что вы поняли… В Париже я вновь вернулся к учебе, закончил ее… Я был врачом в больнице Ларибуазьер… Вы можете догадаться о моем выборе специализации… Неврологические и дегенеративные заболевания… Те, которые сейчас называют „сиротскими болезнями“… Люс страдала от одной из них…
— Но тогда как… Почему не?.. Люс так никогда и не узнала, что вы были врачом?
— Она бы отказалась видеть меня…
— Вы могли бы помочь ей…
— Кажется, я только это и делал… Я пытался подарить ей жизнь Химены…
— Все это время вы ей лгали?..
— Нет, мсье, нет… Я играл свою роль в театре Люс, до конца… Я штудировал все киношные журналы, бежал в Национальный народный театр, когда там играл Жерар Филип, постоянно являлся за кулисы, говорил со статистами, приглашал на обед начинающих актрис, вламывался в двери студий, летал в Швецию, в Мексику, повсюду, куда его приглашали, благо я хорошо зарабатывал и мог себе это позволить… Даже медицинские конгрессы я выбирал по принципу территориальной близости к съемкам. Тетя Роза со своими акциями в киноиндустрии помогла мне сверх возможного… Вы правы: тень, я был тенью одного актера… И горжусь этим…
— Для единственной зрительницы, которая никогда не рукоплескала…
— Она в это поверила, мсье, так лучше… Никаких сожалений, кроме того, что Люс меня так ни разу и не поцеловала. Даже когда она была на смертном одре, я не осмелился прикоснуться к ее губам… Только Жерару в июне 1940 года, посчастливилось вкусить ее поцелуй…»
Я был потрясен. Вести двойную жизнь, и при этом прекрасно сознавать, что твоя настоящая жизнь — фальшивка, сотканная из лжи!..
«Но Жерар Филип, вы все-таки приблизились к нему!.. Вы могли бы!.. Один намек на премьеру „Сида“, на фестивале, и он бы вспомнил ту ночь, я уверен, что он написал бы, пришел бы навестить ее… И вы бы не нарушили данную ей клятву!..»
Макс опустился на ступеньки крыльца. Я последовал его примеру, сел, скрестив ноги, изумленный и одновременно уверенный в том, что он еще не сказал последнего слова, что мы лишь приблизились к кульминации. Широкие листья тисовых деревьев отбрасывали на нас лимонный свет.
«Вы прекрасно знаете, что… Клятва есть клятва… В конечном счете все было не так просто, как мне казалось… В начале июля 1958 года, однажды, приехав приглядеть за жасмином, я услышал в галерее Коллоквиумов женский голос, серьезный, безнадежный: „Зачем ты говорил: прости, любовь“? И как кто-то отвечает, ясно, холодно и жестоко: „Я вас, Марианна, не люблю; вас любил Челио…“[8] О, эта до боли знакомая манера дистанцироваться от любого проявления чувств! Я бросился туда… он был там, Жерар Филип, большая темная птица, отступающая перед нимфой со светлыми волосами, стянутыми ободком, глазами грустной одалиски, устремленными к нему. Женевьева Паж. Через мгновение я понял: они репетировали в тишине „Прихоти Марианны“… Не знаю почему, и день вроде выдался ничем не примечательный, но эти двое были так прекрасны, что слова сами сорвались у меня с языка, словно я обращался к членам семьи, с опозданием прибывшим на похороны: „Люс умерла в прошлом году“. Они не засмеялись, хотя и не смогли сдержать вежливых полуулыбок, пребывая в полном недоумении. Должно быть, они приняли меня за юродивого. А потом Жерар нахмурил лоб. Подождите, вы везли кресло калеки… Он вспомнил премьеру „Сида“!.. Вы не можете представить себе мое облегчение!.. Я рассказал ему обо всем, о памятной ночи в Обители в июне 1940 года, во время массового бегства, о его обещании, о счастье Люс, когда он сдержал свое слово, о том, что она следила за его карьерой, день за днем, и о болезни Люс тоже, о ее последних мгновениях. Я жестикулировал, тащил Жерара и Женевьеву за собой: этот жасмин, это ваш, тот самый, что вы подарили ей в гримерной Папского дворца; мы дошли до колодца: Люс поцеловала вас в этом месте, вы помните? Я привел их в бывшую келью Ампаро, теперь заброшенную: на этой стене Люс устроила алтарь из фотографий, сидя около этой оградки, она читала и перечитывала „Сида“… Я хотел отвести их к себе, чтобы он прикоснулся к реликвиям, к бедным вещам Люс, и потом я должен был признаться… Но он остановил меня, просто положив мне руку на плечо. В 1939 году он еще жил в Грассе, у родителей.
Они держали там отель и уехали в Париж только в 1943-м… Это не мог быть он… В том июне 1940 года он зубрил экзамены на аттестат зрелости… Моя подруга Люс ошиблась… Из-за ее состояния здоровья, разумеется, из-за одинаковых имен, она отождествила воспоминание о случайно встретившемся мальчишке с образом похожего на него актера… Но он гордится тем, что она подарила ему, пусть и на расстоянии, столь сильную дружбу… Дружбу? Люс любила вас, и этим сказано все. Ее жизнь была наполнена вами, вы не давали ей умереть, лучше чем кто-либо, лучше, чем врачи… Память поддерживала ее силы… Он согласно кивнул, засунул руки в карманы, не в состоянии говорить. Мы смотрели друг на друга, одно мгновение, один короткий взмах век, а потом Женевьева Паж сдавленно всхлипнула. Он обнял ее за талию, повел к двери, чтобы увести из Обители, но, сделав три шага, вернулся ко мне, и, наверное, никогда он так горько и одновременно так нежно не произносил эту реплику, последнюю из „Прихотей“, лишь немного подправленную: „Она не любила меня, мсье, это вас она любила…“ Он сорвал цветок жасмина, поцеловал его и засунул в петлицу, как вы, совсем недавно… Теперь понимаете, что вы со мной сделали, взяв этот цветок?.. Его слова… Я был сражен любовью и уничтожен. Кажется, Женевьева Паж поцеловала меня, или я ее, не помню. Я даже не видел, как они ушли. У меня только что украли мою юность».
Старик замолчал. Утомленный долгим путешествием по лабиринту памяти, но словно заново рожденный, стряхнувший с себя все то, что так долго мучило его. А про меня он вроде как забыл. Встал, вынул из кармана ключ, открыл входную дверь. И, если бы я не задал ему вопрос, он бы оставил меня на пороге, даже не заметив моего присутствия, бросил бы наедине с его судьбой, запавшей мне в душу, с его персонажами, разбередившими мои чувства, и с его мелодраматической чушью о даме с жасмином!.. Я сжал зубы в порыве гнева, мне захотелось сделать ему больно.
«Но тогда как же тот, другой?.. Настоящий Жерар из июня 1940 года, он ведь на самом деле существовал?.. Удивительно, если он больше не появился!.. Вы не думаете, что Люс и он, в то время как вы лелеяли свою воображаемую жизнь?.. Сначала еще куда ни шло, а потом взаимное влечение… Люс и Дева Мария, это все-таки не одно и то же!»
Конечно, его задела моя мелочно-мстительная тирада, однако он не подал виду и лишь улыбнулся, сделав мне знак заходить.
«Что? А!.. Представьте, меня тоже посещали такие злые мысли…»
Я готов был надавать себе пощечин.
«Простите меня… Только не Люс…
— Видите, мсье, вы начинаете понимать ее так же хорошо, как и я… В восьмидесятые годы Жерар, тот, другой, держал небольшой бар в Дижоне… Его родном городе… Я легко нашел нужное имя в списках эшелона беженцев, который останавливался в Вильнёве… И не смог устоять перед искушением… Кружка пива за его стойкой, он сам обслужил меня… Кажется, я намеревался заговорить с ним, выспросить всю правду, помучив заодно и себя… Он располнел, отвислые щеки, громкий голос, но все те же большие руки, насмешливая улыбка, растрепанная шевелюра… Невозможно ошибиться… Это глупо, но я почти был рад тому, что увидел его таким обычным, таким будничным, что он никем не стал и, главное, не стал актером… Я даже решился произнести две-три фразы о времени, о политике, чтобы убедиться, насколько он ничтожен, чтобы ощутить свое превосходство над ним — как-никак, а я все-таки уважаемый врач… Думаю, мсье, что я просто мстил за себя так же мелочно, как и вы только что… Моя наживка оказалась даже лучше, чем я надеялся, он изливал мне душу, хорохорился, тут его тесть с тещей, а это его сын, Пьер, с женой, она экс-мисс Бургундия… За кассой висела фотография светленькой девочки… Чтобы еще поболтать ни о чем, подтолкнуть исповедь хозяина забегаловки, я восхитился симпа-тяшкой… Его дочь?.. Нет, дочь Пьера, единственного сына. Тогда я спросил, как ее зовут… Химена!
У меня перехватило дыхание, полностью опустошенный, я сильно сжал свой стакан — хруст, он разбился и рассек мне ладонь… Не помню, что я бормотал, перевязывая руку платком: необычно, такое старинное имя, семейная традиция, может, в память об ушедшей родственнице?.. Его глаза наполнились слезами: нет, мсье, сказал он, чтобы оплатить долг счастья.
Уходя, я обернулся. Он стоял, опершись большими руками о стойку, и тихо плакал».
Вот ведь как! Макс Кляйн взял меня за локоть, и мы вошли в большую гостиную. Там, над камином, сразу бросался в глаза портрет женщины в полный рост: собранные в узел темные волосы, Каллас с грустными глазами, вся в черном, наверное, кроме рук, но и те спрятаны где-то в складках длинного платья.
«Ампаро. После смерти Люс я ей во всем признался: что я врач, а не актер, и что я мог бы лечить Люс… А потом я попросил ее выйти за меня замуж. Ни единого упрека. Она пришла сюда, осмотрела дом. Наверху толкнула дверь самой маленькой комнаты. Когда-то моей. И сказала, что готова жить здесь, но насчет свадьбы — нет. Она согласна лишь прислуживать мне, столько, сколько я буду нуждаться в ней, каждый раз, когда буду приезжать из Парижа. Она осталась верна своему слову, отказывалась есть, пока не накроет для меня и не прислужит мне за едой, стоя за моей спиной. А еще она, как и Люс, отказывалась фотографироваться. Ее образ сохранился только в моей памяти и на этой картине: состарившийся художник, тот, из Обители, который рисовал Люс на почтовых открытках, попросил ее однажды позировать. И один-единственный раз она долго говорила со мной… Вы догадываетесь о чем, не так ли?.. Об убийстве ее мужа и матери Люс… Суд моего отца ошибся: она сыграла в той трагедии свою роль, ударив ножом… И, да, они с Люс знали, чей я сын. Может быть, именно из-за этой черной тени прошлого, висящей надо мной, Люс меня и любила… Жерар Филип был просто способом сказать мне об этом… Но Люс не сомневалась, что принесет мне несчастье, потому что она, как и ее мать, потаску… Она держала меня достаточно близко, чтобы любить, и достаточно далеко, чтобы не уничтожить… Только раз Ампаро произнесла эти слова, повторять их она не хотела, а когда я спросил, потрясенный, вторя старой реплике из „Прихотей Марианны“ — голос Жерара Филипа еще звучал в моем сердце, — любила ли меня сама Ампаро, она посмотрела мне прямо в лицо, и, мсье, я готов был умереть на месте, от стыда… Остаток лет прошел в молчании. В восемьдесят она почувствовала приближение конца, встала глубокой ночью, чтобы приготовить мне в последний раз завтрак. И не смогла. У нее хватило сил только подняться обратно в свою комнату. Я обнаружил ее мертвой утром, распростертой на кровати. На ней было платье из белого сатина, с танцев в честь Освобождения. Я похоронил ее в этом одеянии новобрачной. Рядом с Люс…»
Слышно было, как стрекочут цикады. Макс Кляйн открыл секретер, вынул оттуда свои реликвии.
«Скажите, мсье, я едва осмеливаюсь вас спросить… Вы хотите, чтобы я написал вашу историю?.. Так?..»
Он согласно кивнул:
«Историю Люс и Ампаро, историю моих родителей… Я хотел… Конечно, не обошлось без лукавства, я знал, что вы писатель, видел, как вы отправились на прогулку… Сорвав жасмин, вы подарили мне выход на сцену, неожиданный… Если бы этого не произошло, я бы придумывал что-то на ходу… Хоть один раз я был хорошим актером?.. Люс осталась бы довольна мной?.. Впрочем, теперь уже не важно. Сейчас, когда я давал для вас этот спектакль, когда вы провожали меня в мой опустевший рай, я жил, и они тоже… Сейчас… И мы благодарим вас за это…»
Вот и все! Наверное, никогда больше мое сердце не будет так рваться из груди, никогда больше слезы не будут так застилать мне глаза. Мы стоим в гостиной. Макс Кляйн начинает тихонько аплодировать, и я не могу оторвать взгляд от его холеных рук врача. Сволочь! А потом — это происходит само собой, не знаю, как — мы оказываемся в объятиях друг друга. Словно мальчишки в порыве чувств, вызванных первым проявлением дружбы в начальной школе, или старики, примиренные памятью о женщине, которую они оба любили — Макс Кляйн, случайный знакомый, по возрасту годящийся мне в деды, и я, только что постаревший на несколько веков.
Он перебирает старые почтовые открытки Люс, изъеденный молью экземпляр «Сида», вырезки о Жераре Филипе. Затем делает два шага, осторожно, будто опасаясь разбудить спящего ребенка, открывает провансальский шкаф. Здесь платья Люс, висящие в ряд лохмотья, которые он бережно снимает с плечиков, кладет на стулья, диваны, как если бы укладывал больную девушку. Его губы шевелятся, и я слышу, что он нежно о чем-то говорит с ней. С улыбкой он дрожащими руками поправляет распоровшееся декольте, застегивает на крючки поношенный корсаж, разглаживает рукав на ручке кресла. И я тоже ее вижу, вижу будничную Химену, босоногую Люс, вечную невесту. Вижу ее смуглое тело в чудесных лохмотьях, ее кобальтовые глаза, ее растрепанные черные локоны!.. И я помогаю Максу закончить туалет этой бессмертной девочки, чтобы отныне она проводила ночи в мире.
Перед моим уходом Макс удерживает меня на мгновенье, снова обнимает и засовывает что-то в карман моей рубашки. «Иди…»
Уже за воротами, когда человек, стоящий на крыльце, стал почти неразличим, я рассмотрел его украдкой сделанный подарок: небольшая книжонка в изодранном переплете, непрезентабельная, старенький «Сид»!
Да, Макс, я пишу твою историю. И историю твоих близких. Они и мои отныне. Потому что ты мне поведал без злобы и ненависти о чудовищности жизни маленьких, незаметных людей, об их укромных мыслях и чаяниях, о том, что слова состоят из плоти, что нужно просто уметь слушать биение их сердец, чтобы ощутить всю бездонную глубину самых обыкновенных чувств. И таким образом ты помог мне осознать смысл писательства. Потому что пронзительно, искренне, без прикрас, без притворства ты поделился со мной своей жизнью, вручил мне ее с открытой душой, обнажив истинный смысл человечности. Не той идеальной, из религий и философий, и не той, что стала заложницей политических интриг, а настоящей, которая встречается нам на каждом шагу, когда болят зубы, когда мы пытаемся любить, превозмогая боль или лелея надежду, невзирая на большой нос, болезнь, предрассудки, вопреки изысканным восхвалениям и крикам «браво», несмотря на исторические потрясения, забытье войн и выдающиеся судьбы, той будничной человечности, которая обманывает и убивает, которая способна испытывать страх, невинной и обыденно героической, той, что хочет запрятать вселенную в свой сжатый кулак и не может удержать в нем бабочку. Тебя больше нет, Макс, ты воссоединился с Люс и Ампаро, и с Жераром Филипом, где-то там, в бесконечном небытии. Но отныне я знаю сладкую боль Химены из трущоб и Родриго из богатых кварталов, знаю, что история других нас, обыкновенных людей, есть лишь недоразумение одного поцелуя, сколь желанного, столь и несбыточного, когда это то, о чем невозможно попросить.