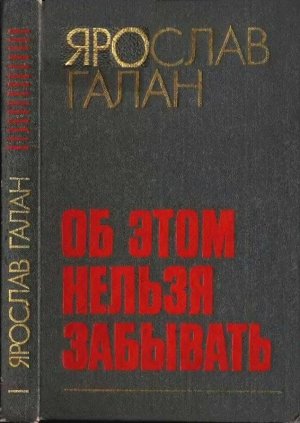
В историю передовой художественной мысли Ярослав Галан вошел как один из основоположников пролетарской литературы на Западной Украине. Талантливый публицист, драматург, прозаик, литературный и театральный критик, он бесстрашно связал свое литературное творчество с революционно-освободительным движением, с коммунистическим подпольем.
Западно-украинская пролетарская литература 20—30-х годов стала составной и неотъемлемой частью освободительной борьбы украинских трудящихся против режима буржуазной Польши. В период реакции, когда пилсудчики и украинские националисты распространяли разного рода клеветнические измышления и готовили против СССР «крестовый поход», лучшие представители западно-украинской интеллигенции — Я. Галан, С. Тудор, А. Гаврилюк, В. Бобинский, П. Козланюк, К. Пелехатый, Я. Кондра — мужественным словом несли правду о первом социалистическом государстве, пропагандировали многонациональную советскую литературу, которая утверждала качественно новый тип героя, воплощающего передовые идеалы человечества.
Я. Галан за свою недолгую и неспокойную жизнь написал около пятисот произведений, среди которых восемь пьес, около двухсот памфлетов и фельетонов, свыше ста рассказов и очерков, много публицистических, литературно-критических статей. Он оставил литературное наследие воистину уникальное и героическое.
В мемориальном музее писателя во Львове для будущих поколений хранится страница, обагренная кровью. На ней слова, написанные Ярославом Александровичем буквально за несколько минут до трагической смерти: «Жизнь, чудесная советская жизнь победоносно шагает вперед и рождает новые песни, новые легенды, в которых звучит величие освобожденного человека...». Бескомпромиссным борцом, горячим глашатаем жизни запомнили писателя его друзья и соратники по революционному подполью и литературному творчеству.
Сохранилась первая партийная характеристика Я. Галана. «Совестный, делу Ленина — предан»,— говорится в ней. Пройдет четверть столетия, и, готовясь к выступлению на партийном собрании Львовской писательской организации, на котором писателя должны будут принять в ряды Коммунистической партии, он запишет в свой блокнот: «По совести — интернационалист, по духу — ленинец». Ярослав Александрович назвал этот день самым счастливым в своей жизни. А всего несколько месяцев спустя он трагически погибнет от рук тех, с кем так бесстрашно боролся,— украинских буржуазных националистов.
История жизни и творчества Ярослава Галана — часть истории той ветви украинского народа, которая в силу международных драматических событий на долгие годы оказалась под властью буржуазной Польши. Писатель познал весь трагизм неволи, потери друзей, горькой безработицы и профашистских цензурных рогаток, угроз и террора украинских буржуазных националистов. Но и в этих условиях художник-новатор сумел подняться к вершинам национальной и мировой литератур, вписать в советскую культуру самобытную и неповторимую страницу. Огромна была выстраданная радость свободы, которую 17 сентября 1939 года принесла на Западную Украину Советская Армия. Взволнованно и проникновенно обращается писатель к своим соотечественникам: «Вдохните на полную грудь и вы почувствуете, как вам страстно, до боли страстно хочется жить...»
Ярослав Александрович Галан родился 27 июля 1902 года в семье мелкого служащего в местечке Дынов над Саном (ныне ПНР). Сначала учился в местной школе, потом в Перемышле. В публицистических произведениях и памфлетах писатель не раз то с грустью, то с иронией возвращался к годам детства. Например, в памфлете «Я и папа» он рассказал о своем первом конфликте в гимназии со служителями церкви. Как-то священник спросил его на уроке: «Почему святого отца называем Пием?» На это мальчик простодушно, но не без иронического подтекста, ответил: «Потому, что святой отец любит выпить!» И тогда, вразумляя ученика, священник розгой оставил на его теле «десять заповедей».
Началась первая мировая война. За симпатии к русскому народу отца Ярослава бросают в концлагерь для политических заключенных Талергоф. Опасаясь новых репрессий, мать вынуждена выехать с детьми в Ростов-на-Дону, где Ярослав продолжил учебу в русской гимназии. Здесь юноша стал не только свидетелем, но и участником исторических, революционных событий. Именно на улицах революционного Ростова-на-Дону он услыхал пеиие «Интернационала», слова «Ленин» и «революция» прочно вошли в его сознание. Под впечатлением тех памятных лет Я. Галан напишет свой первый рассказ «В дни незабываемые», события которого происходят на берегах Дона.
Окончилась мировая война и семья Галана возвращается в родной Перемышль. После всего увиденного в революционной России Ярослав тяжело переживает атмосферу полицейского режима, господствовавшего на оккупированной украинской земле. Буржуазное правительство Польши даже переименовало Западную Украину в «Малопольшу». Галан много работает над самообразованием, увлекается литературой, музыкой, театром. После окончания гимназии в 1923 году поступает в Венский университет на факультет славянской филологии. Здесь Ярослав сближается с прогрессивной рабочей и студенческой молодежью, вступает в товарищество «Единство», участвует в подпольных собраниях, революционных выступлениях.
Еще в ростовской гимназии Галан увлекся творчеством М. Горького. Во время первых же студенческих каникул он отправляется в Италию с надеждой увидеться с пролетарским писателем, поделиться своими мыслями и, может быть, показать первые пробы пера. Юноша не встретился с Горьким, но путешествие окажется незабываемым. О нем он вспомнит через много лет, незадолго до своей трагической гибели, в памфлете «Их лица».
Именно тогда на итальянской земле Галан впервые столкнулся с фашизмом «в стадии его осуществления», стал свидетелем организованных выступлений трудящихся против него. Однажды за городом Полярно на 400-метровой скале он увидел лозунг, написанный огромными красными буквами: «EvvivaLenin! AbassoMussolini!» («Пусть живет Ленин! Долой Муссолини!»). Показательно, что политическая оценка молодого Галана совпадает с оценкой именно этих событий М. Горьким в статье «Две беседы». Путешествие еще более укрепило Галана в его прогрессивных взглядах, в Перемышле он сближается с революционным подпольем и в 1924 вступает в ряды Коммунистической партии Западной Украины.
После повторного ареста отца в 1926 году Ярослав переводится в Краковский Ягеллонский университет, где сразу же находит единомышленников, становится членом Коммунистической партии Польши. В стенах Краковского университета он пишет свою первую пьесу «Дон Кихот из Эттенгайма», которая на закрытом конкурсе кооператива «Украинский театр» во Львове была удостоена первой премии и в 1928 году поставлена на сцене этого же театра.
После окончания университета Я. Галан получает назначение на должность преподавателя польского языка и литературы в Луцкой частной гимназии. Однако через десять месяцев за «революционную деятельность» он был уволен. С «волчьим билетом» едет во Львов. В письме к жене Галан пишет о том времени, что хлеб ему только во снах снится и сообщает, что уволен с работы за «коммунистическую деятельность, как опасный коммунист и агитатор». И здесь же убежденно добавляет: «в будущем я постараюсь это оправдать».
В жизни молодого литератора происходит событие, решающее в его революционной и литературной биографии: он сближается с группой пролетарских писателей В. Бобинским, С. Ту- дором, П. Козланюком, объединявшихся вокруг журнала «Вiкна». Именно на страницах этого издания Я. Галан печатает свою первую драму «Дон Кихот из Эттенгайма», выступает с новыми пьесами, рассказами, памфлетами, фейлетонами. Здесь же печатаются произведения советских писателей. Полиция бдительно следит за деятельностью «Вiкон» и в своих донесениях характеризуют ее как «мятежническую пропаганду». Особенно злобную реакцию вызывали произведения Я. Галана. Националистическая и клерикальная пресса печатала на него разного рода пасквили, открытые и анонимные угрозы. Давая гневную отповедь врагам, Галан в статье «Ответ клеветнику» писал: «И в будущем, как и до этого, буду исполнять свой классовый долг и беспощадно буду бороться против явного и скрытого фашизма, как бы это ни бесило безнадежных графоманов».
Тридцатые годы, до самого прихода Советской Армии были годами террора и националистического разбоя.
По всей Западной Украине нарастала новая волна революционного сопротивления. В ответ профашистское польское правительство разгромило все прогрессивные организации, периодические издания, в том числе и «Вiкна», ввело военно-полевые суды. Пролетарские писатели вынуждены были уйти в подполье. Я. Галан глубоко переживал все это. Постоянные травля, репрессии подорвали его здоровье, и он вынужден был выехать на Гуцульщину, в село Нижний Березов, где прожил три года. Он отдается творчеству, восстанавливает связь с революционным подпольем.
Полиция и здесь бдительно следит за каждым шагом писателя. В донесениях он значится то как «выдающийся коммунистический деятель», то как «убежденный коммунист», «занимающий высокое положение в коммунистической организации».
В 1935 году в жизни Я. Галана происходит знаменательное событие: ЦК КПЗУ (Коммунистическая партия Западной Украины) поручает ему и А. Гаврилюку возглавить оргработу по подготовке Антифашистского конгресса защиты культуры во Львове. В организации и проведении этого форума приняли активное участие писатели разных национальностей — С. Тудор, В. Василевская, П. Козланюк, Б. Домбровский, Л. Кручковский, К. Пелехатый. Почетным председателем был М. Горький. Конгресс оказал огромное влияние на политическую и литературную жизнь не только в Польше. В. Василевская под бурные аплодисменты рабочих произнесла тогда пророческие слова о том, что следующая встреча состоится в «красном Львове».
После конгресса началась новая волна репрессий польского правительства против пролетарских писателей. Учитывая сложность ситуации, В. Василевская приглашает Я. Галана в Варшаву, где он некоторое время работает в прогрессивной газете «Dziennikpopularny». Но и здесь его находит полиция. Восемь месяцев просидел он сначала в варшавской, а затем львовской тюрьмах. Был освобожден под строгий надзор дефензивы с запрещением печататься и работать.
До прихода Советской Армии Я. Галан был безработным, жил на случайные заработки.
И вот пришел долгожданный, выстраданный день освобождения. Я. Галан — сотрудник газеты «Вільна Україна». Почти каждый день на ее страницах появляются очерки, фельетоны, рецензии, в которых писатель рассказывает о рождении новой жизни, высмеивает буржуазную мораль, освещает театральную жизнь. Возвращаясь к «любимому роду творчества», писатель начал работать над новой пьесой о последних днях бесчинств пилсудчиков на Западной Украине. Вынашивает он и книгу о людях возрожденного края. Я. Галан много ездит, встречается со своими земляками, теми, кто еще вчера был в неволе, а ныне стали хозяевами своей счастливой судьбы.
Война оборвала мирную жизнь советских людей. В этот грозный час Я. Галан рвется на фронт. В свой дневник он заносит пророческие слова: «Впереди далекий и неизвестный, конечно же, тяжелый путь, но я твердо верю в день нашей победы...» Писатель активно работает на радиостанции имени Т. Г. Шевченко, он — корреспондент газеты «Радянська Україна», комментатор на прифронтовой радиостанции «Дніпро».
Годы войны стали этапными в публицистическом творчестве Я. Галана. Рассказывает он о беспримерном героизме советских людей на фронте и в тылу, гневно разоблачает гитлеровский «новый порядок» на временно оккупированных украинских землях, предательскую роль украинских националистов. Часть этих фельетонов и памфлетов вошла в книгу «Фронт в эфире», вышедшую в 1943 году в Москве.
В 1945 году как специальный корреспондент газеты «Радянська Україна» Я. Галан выезжает в Нюрнберг, где вместе с Ю. Яновским, Б. Полевым освещает судебный процесс над главными гитлеровскими преступниками. Писатель создает большой цикл антифашистских памфлетов, и также произведений, в которых неопровержимо, на документальных фактах раскрывает предательскую роль униатской церкви на Западной Украине и украинских националистов во второй мировой войне. Эти произведения потом войдут в прижизненные издания писателя — «Их лица» и «Перед лицом фактов».
Литературное наследие Галана многомерно и многогранно. Он работал в разных жанрах литературы — драматургии, прозе, публицистике, активно выступал и в области литературной и театральной критики. Но, по признанию писателя, самой любимой сферой его творчества была драматургия. Однако путьГалана — драматурга был сложным, неровным. Он мучительно ищет своего героя, свою тему, сценические выразительные средства, приемы. Молодой драматург нелегко пережил неудачу театрального дебюта. Его пьеса «Дон Кихот из Эттенгайма» (1927 год) не имела успеха и скоро сошла со сцены. Прогрессивная пресса критиковала автора за то, что тема драмы была далека от проблем современной революционной борьбы, за ее мировоззренческую нечеткость. Но когда националистическая пресса сделала попытку фальсифицировать пьесу, пролетарские писателиБобийский,Кондра) горячо выступили в защиту молодого литератора.
Галан глубоко пережил неудачу. Извлек урок из критики. И уже в следующей пьесе «Груз» (1928) обратился к острой социальной проблематике, к современной теме, разоблачающей колониальную политику Англии на Востоке. В пьесе «Груз» яркое воплощение получила идея интернациональной солидарности рабочего класса. Это была первая попытка в творчествеГалана создать образ революционера (Оскар), который противостоял герою буржуазно-националистической литературы, воспевающей героя-убийцу, героя-завоевателя. Углубляются связи писателя с жизнью, революционным подпольем. К отображению современной действительности Западной Украины драматург впервые обращается в сатирической комедии «99%» (1930). К этому времениГалан уже зарекомендовал себя как острый и оригинальный публицист, фельетонист, что не могло не отразиться на выборе темы, жанра, стиля новой пьесы, в которой он широко использует приемы и средства сатиры. В комедии не было положительного героя. Героем здесь выступал уничтожающий смех. В отличие от предыдущих пьес, построенных на антагонистических конфликтах, в «99%» такого конфликта нет. Здесь действуют персонажи, социально однородные, хотя между ними происходит скрытая и открытая борьба (позже писатель метко назовет буржуазно-националистических предателей «пауками в банке», пожирающими друг друга).
Сатирическая комедия «99%» стала событием не только в творчестве Я. Галана, но и во всей пролетарской литературе Западной Украины. Она сыграла важную роль в разоблачении националистической идеологии, предательства «столпов нации», разных «народолюбцев», живших по принципу: «Можно быть добрым мошенником и не менее добрым патриотом». Драматург раскрыл в комедии искусство индивидуализации отрицательных характеров, диалога, изображения их образа жизни, отношений, построенных на измене, шантаже и разврате. Автор то возносит своих персонажей до высот самозванных «вождей нации», то разоблачает их как последних мерзавцев. Этим произведением писатель нанес новый уничтожающий удар по националистическому лагерю. Комедия по праву заняла достойное место среди лучших произведений всей украинской драматургии. Пьесу поставил Рабочий театр. Популярность комедии вызвала злобную реакцию националистической прессы. Польские власти вскоре запрещают ее.
Новой страницей в творчестве Я. Галана стала пьеса «Ячейка» (1932), в которой драматург впервые вывел на сцену представителей западноукраинского пролетариата, создал образ коммуниста-борца. В основу пьесы легли реальные события. В те годы в Польше углублялся политический и экономический кризис, по количеству забастовок она стояла на первом месте в Европе. В основе сюжета «Ячейки» лег остродраматический конфликт — забастовка рабочих, которые объединились в борьбе против предпринимателя за свои жизненные права. Я. Галан осознавал, что в условиях национально-освободительной борьбы особенно актуальна проблема героического характера, создания образа коммуниста, стоящего во главе масс. Впервые в пролетарской литературе Западной Украины Я. Галан создал такой образ профессионального революционера (Кинаш), воплощающего лучшие черты героя нового типа. Главная мысль пьесы: хозяевами жизни являются творцы материальных и духовных ценностей, им принадлежит будущее. Убедительно опровергает драматург и антинаучную теорию о так называемой «безбуржуазности» украинской нации.
Я. Галан в постоянных новаторских поисках темы, конфликта, сценического воплощения характера. На этом пути были открытия и творческие просчеты. Поскольку драматическое произведение живет только на сцене, после разгрома прогрессивных организаций и закрытия театра писатель до сентября 1939 года, по существу, не обращался к своему любимому жанру. Исключение составила пьеса «Говорит Вена», которая была переслана в Советский Союз, но перехвачена пилсудчиками.
Мысль вернуться к драматургии никогда не оставляет Я. Галана. Еще во время Нюрнбергского процесса у него рождается идея, а потом и конкретный план драмы «Под золотым орлом». Как корреспондент Я. Галан не раз бывал в американской зоне оккупации Германии, где наблюдал за трагической судьбой советских перемещенных лиц. В основу пьесы легли события, связанные с бесстрашной и неравной борьбой советских патриотов за возвращение на родную землю. Следует отдать должное драматургу, который в тех сложных международных событиях сумел увидеть основные тенденции, предвидеть некоторые события, противоречия, конфликты. Он уже тогда показал в пьесе две Америки — реакционно-милитаристскую (Петерсон) и прогрессивную, демократическую. В образе Нормы Фанси воплощены черты тех американцев, которые с симпатией относятся к Советскому Союзу, понимают, что с нашим народом нужно жить в дружбе. В этом убеждается и сержант американской армии Боб Фобер. В острых конфликтах, столкновениях непримиримых идеологий раскрываются не только разные индивидуальные характеры, биографии, а и личностное начало самого драматурга.
Драма «Под золотым орлом» была особенно дорога Я. Галану. Это «часть моего Я», заметил он в дневнике. М. Рыльский, прочитав рукопись «Под золотым орлом», написал автору: «Большое Вам спасибо, что прислали пьесу. И за пьесу спасибо. Сильная вещь... это оптимистическая трагедия». Несмотря на трагическую судьбу героев, драма проникнута идеей жизнеутверждения. Именно этого не увидели тогда некоторые режиссеры. Всеобщее сценическое признание драма получила уже после смерти писателя.
Я. Галан очень внимательно следил за остродраматическими, а нередко и трагическими, процессами и событиями, которые происходили в послевоенные годы в селах западных областей Украины. Писатель часто выезжал в села, встречался с крестьянами, с друзьями и недругами коллективизации. На эту тему он выступал со статьями, очерками в прессе. Вынашивал сюжет, характеры своей новой драмы «Любовь на рассвете». Как бы подтверждая достоверность картин народной жизни, автор не случайно избрал жанр «современной были». К этой пьесе можно было бы поставить эпиграфом слова самого же Я. Галана, сказанные им на собрании колхозников артели имени И. Франко на Львовщине, когда по его следам уже ходили бандеровские убийцы: «Мы строим счастливую и радостную жизнь на обновленной земле. Но на нашем пути еще стоят самые лютые враги колхозного строя — кулаки и украинские буржуазные националисты».
Для пьесы «Любовь на рассвете» (1949 год), возможно, как ни для одной из предыдущих пьес Я. Галана, характерна глубокая классовая конфликтность. Раскрывая непримиримые социальные противоречия на селе, драматург прослеживает, как они проникают в семейные отношения, разрушают патриархальные устои.
С именем Я. Галана неразрывно связано становление пролетарской драматургии и театра на Западной Украине. Его творчество формировалось под большим влиянием многонациональной советской драматургии. Драматургия Я. Галана расширила и обогатила проблематику, жанровые возможности театра, открыла важные новые черты героя, который идет на героический подвиг во имя светлого будущего своего народа.
Еще в начале творческого пути Я. Галан обращался к таким литературным жанрам «малых форм» как рассказ, очерк, фейлетон, памфлет-рецензия. Если говорить о жанрово-тематических особенностях его прозаических произведений, то для них прежде всего характерно изображение трагических событий, внимание к драматическим биографиям, судьбам. Особенно это относится к произведениям, написанным в условиях буржуазного общества.
Обращаясь к «вечной теме» — судьбе обездоленного человека — писатель вносит в ее раскрытие качественно-новое видение. Он изображает не только бесправие и страдания человека. Его герои все чаще задумываются над причинами, породившими их страдания. Формирование такого самосознания, симпатий к Советскому Союзу особенно характерно для одного из лучших рассказов Я. Галана — «Казнь» (1932 год). Сквозь призму судьбы бедного украинского крестьянина Орестюка автор показывает типичную судьбу бесправного и обездоленного человека в условиях буржуазного общества. Орестюка посадили на скамью подсудимых и осудили к смертной казни только за то, что он, спасаясь от голодной смерти, вместе с односельчанами и своей маленькой дочерью пытается перейти границу, чтобы попасть на советскую землю.
Писатель раскрывает сложный мир переживаний забитого «хлопа», его мысли о смысле жизни, о добре и зле. Он — не революционер, но в трагических обстоятельствах прозревает и от стихийного бунтарства приходит к убеждению, что. так дальше, жить нельзя, открывает в себе «целое море ненависти», которая до этого «дремала в нем». Поднимаясь с этим чувством на виселицу, он в последний раз хочет посмотреть в глаза своим палачам, но те прячут их, «словно испугались ненависти, которую источали глаза Гната». В одном из последующих рассказов «Савку кровь заливает» герой выскажет твердое убеждение: «Должно быть иначе...»
Я. Галана всегда привлекала тема интеллигенции, в частности сельской. Обращался он к ней и в драматургии, и в публицистике, и в прозе. В одном из ранних рассказов «Три смерти» (1932 год) писатель нарисовал трагические картины народной жизни, показал судьбу сельской учительницы, прообразом которой была его родная сестра. В статье «Так растут ростки» Я- Галан в эти же годы писал: «Ужасна наша действительность... Есть большая тюрьма, в которой живут миллионы, есть меньшие тюрьмы, с решетками, за которыми десятки и сотни тысяч, а есть тюрьмы без решеток...» (писатель имел в виду украинские школы в буржуазной Польше). В центре рассказа «Три смерти» — трагическая судьба сельской учительницы. Героиня видит вокруг несправедливость, жестокость, но не находит выхода. Она идеализирует прошлое и не видит ничего утешительного в настоящем и будущем. В этом ее трагедия. Учительница умирает от голода среди таких же голодных и обездоленных, как она, односельчан. В рассказе показаны три разные смерти, три разные биографии, через которые воссоздается вся острота классовых противоречий, рост революционного сознания и отцов, и детей.
Уже в советский период творчества в пьесе «Любовь на рассвете» Я. Галан снова вернулся к образу учительницы (Варвара), в которой воплотил черты интеллигента нового типа. Варвара Петрич в условиях новой жизни увидела счастливые перемены, которых не могла увидеть героиня рассказа «Три смерти»; увидел их и Грицко Гуцало из рассказа «Школа» (1946 год). Юный герой мечтает учиться, строить в жизни мосты. Но в село пришли фашисты и закрыли его любимую школу. Почти четыре года ждет мальчик возвращения советских воинов-освободителей. И вот снова он учится — «снова ученик шестого класса». Только как-то «серым, осенним утром» отец разбудил Грицка и сказал: «Они подожгли школу». Мальчик знал, что значит «они». Грицко «проклял бандеровцев». Отныне он становится «ястребком» — с оружием в руках вступает в открытую борьбу с националистическим охвостьем. Я. Галан удачно использует в рассказе элементы публицистики. Как и в очерках, он нередко обращается к приемам и средствам новеллистическим. Немало его рассказов родилось на жизненно-документальной, очерковой основе («Дед Мартын», «Незабудка», «Дженни», «Створка» и упомянутый рассказ «Школа»).
В лице писателя видим уникальный пример органического сочетания таланта художественного, публицистического и научно-исследовательского. Творчество Я. Галана-публициста — самобытная и неповторимая страница в истории советской литературы.
Начиная с первых своих выступлений на страницах журнала «В1кна», писатель в таких памфлетах и фельетонах, как «Рыцари черной руки», «Как поет канарейка», «Получат», средствами сатиры и юмора изобличал предательство украинских националистов, их сумасбродные планы «похода на Киев», реакционную сущность униатской церкви, в частности профашиствующего митрополита Шептицкого, которого уже тогда назвал «бородатым мутителем святой водички». В целях конспирации в условиях жестокой цензуры Я. Галан нередко обращался к эзопову языку («Последние годы Багатонии»). Здесь особенно ощутимо влияние сатиры Салтыкова-Щедрина и Франко. Именно в публицистических произведениях писатель оперативно откликается на политические события в буржуазной Польше, в международной жизни, показывая глубокое понимание тех социальных процессов, классовых конфликтов, которые происходили в антагонистическом обществе.
Велика его заслуга в популяризации советской литературы, пропаганде советского образа жизни. В то время как буржуазная пропаганда, литература ополчились на нашу страну, когда, по меткому выражению В. Маяковского «газеты соревновались во весь рот, кто СССР получше обоврет», Я. Галан и его соратники по перу и подполью бесстрашно поднимали голос в защиту Страны Советов, ее литературы, искусства, при этом особенно ценно в его публицистическом творчестве — последовательное утверждение идей интернационализма и гуманизма.
Публицистический талант Я. Галана повернулся своими новыми гранями в советский период творчества. Эти годы (неполное десятилетие) отмечены высокой творческой активностью именно в жанрах публицистических. Писатель испытывает острую потребность в постоянном общении с читателем, в диалоге с ним на остроактуальные темы внутренней и международной жизни, литературные и театральные. Я. Галан понимал, что основой основ советского общества является дружба народов. В одной из статей он с гордостью писал о вечной дружбе украинского и русского народов, благодаря которой «мы живем и будем жить как народ, как страна, как государство» («То, чего не забывают»).
Особенно плодотворным в жизни Я. Галана был нюрнбергский период. Он интересен смелыми творческими поисками писателя жанровых возможностей, новых выразительных средств. Именно Я. Галану принадлежит большая заслуга перед нашей публицистикой в расширении эстетических возможностей такого жанра, как памфлет-портрет. Он создает на документальной основе цикл таких памфлетов («Сверхчеловек»., «Геринг», «Йоахим фон...», «Когда убийца смеется», «Акушеры третьей империи»). Писатель разоблачал не только реакционную сущность фашистской идеологии, украинского национализма, но и идеологию католицизма, философию клерикализма. Здесь он достойно продолжал традиции классической украинской литературы (И. Вишенский, Т. Шевченко, И. Франко). В таких памфлетах, как «С крестом или с ножом», «Что такое уния?», Я. Галан достоверно показал мужественный и драматичный путь борьбы украинского народа против экспансии католицизма.
Публицистическое творчество Я. Галана — это и научно- исследовательская деятельность. Работая над антицерковными памфлетами, Я. Галан изучал произведения основоположников марксизма-ленинизма о религии, историю папства, глубоко знал первоисточники, умело анализировал и отбирал факты (здесь ему помогал художественный опыт). Автор тонко сочетал анализ конкретных событий с домыслом, с материалами биографии исторической личности. К этому приему он, например, обратился в памфлетах «С крестом или с ножом», «Сумерки чужих богов», в которых он прослеживает почти полувековой путь предательств и преступлений митрополита Шептицкого. Понятно, почему так злобно реагировали представители католической церкви на антирелигиозные произведения писателя, вот почему так жестоко с ним расправились, подослав наемных убийц.
Только теперь заокеанские украинские националисты узнали, что В. Росович (автор брошюр «С крестом или с ножом» и «Что такое уния?»), а также И. Семенюк (автор брошюры «Довольно!»)— одна и та же личность — Ярослав Галан. Было это для них как гром среди ясного неба. Когда в книжных магазинах и киосках Львова появлялись эти издания, они раскупались буквально за несколько часов. Интерес к ним, правда, был разный. Как потом стало известно, одни покупали, чтобы узнать правду о реакционной политике церкви на западноукраинских землях, а иные — чтобы их потом сжечь в печах и каминах. После И. Вишенского, Т. Шевченко, И. Франко, Остапа Вишни, А. Довженко в истории украинской литературы не было такого последовательного разоблачителя католицизма и украинского национализма. Его имя по праву стоит в ряду имен лучших представителей мировой антиклерикальной литературы — Эразма Роттердамского, Поля Лафарга, Анатоля Франса, Максима Горького.
Украинские буржуазные националисты не прекращают своих нападок на Я. Галана и на всю советскую литературу. На европейских и американских книжных полках появляется немало разного рода «исследований», «публикаций» и даже «воспоминаний», в частности и о Галане, авторы которых беззастенчиво прибегают к фальсификации и подделкам. Эти их «методы» очень хорошо знал Галан, всегда умевший находить неопровержимые контраргументы на злобные нападки врагов. Обезоруженные, они часто переходили к злобной клевете и к открытым угрозам в адрес писателя.
Сегодня националистические «исследователи» его творчества дошли до того, что утверждают, что, дескать, Я. Галан, хотя и был «агентом Москвы», но в ряды Коммунистической партии его не приняли. Автору этих строк, опираясь на документы и факты, уже не раз приходилось публично опровергать подобные провокационные выдумки. В частности, на такой неопровержимый документ, как протокол собрания партийной организации Львовского отделения Союза писателей Украины (он сохраняется в музее-квартире Я. Галана), на котором Ярослав Александрович единогласно был принят в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Автору этих строк тогда выпала честь не только отдать свой голос за Ярослава Галана, а и быть председателем того памятного собрания. Как говорят в народе: у лжи ноги коротки.
Писатель обладал удивительной работоспособностью. Был чрезвычайно требователен к себе. Прежде чем приступить к работе над произведением, он тщательно изучал материал, анализировал факты, события и только после этого садился за чистый лист бумаги. Писал не спеша, вдумчиво, работал над каждым словом, образом, эпитетом, о чем он рассказал в заметках «Моя работа в Нюрнберге». Был нетерпим к штампам, шаблонам, разного рода «стилистическим цветочкам» и «энциклопедической эрудиции». Считал, что писатель должен писать «правду и только правду в большом и малом». С исключительным доверием относился к читателю. Главное — «заставить самого читателя мыслить».
Был он человеком неспокойным и любознательным. С юношеских лет очень любил путешествовать. Незадолго до трагической смерти, после очередной поездки по Закарпатской земле, он, шутя, сказал, что вот, когда он постареет и не будет сил путешествовать, тогда сядет за свой письменный стол и напишет самую главную книгу обо всем виденном, пережитом, передуманном. Есть что-то неумолимо жестокое и непоправимое в том, что не стало человека, который так доверительно признавался, что «до боли страстно хочется жить». В расцвете творческих сил, больших замыслов он погиб, как солдат в бою. 24 октября 1949 года под видом «просителей» враги пришли на квартиру писателя с топором и за письменным столом злодейски зарубили его.
Уже сразу после войны Я. Галан призывал советских людей к бдительности, ибо, как дальновидно писал он в памфлете «Их лица», «отродье фашистского сатаны» еще не исчезло «с лица земли». Темные силы, те силы, которые породили Муссолини и Гитлера, «еще живут и действуют», а это накладывает на каждого из нас обязанность последовательно и беспощадно бороться с реакцией «во всех ее проявлениях». В статьях, памфлетах писатель предупреждал «не убежденность, трудового нем И в этой борьбе дело прогресса и у советского слово
он вошел только
Борис Буряк
Рассказы
КАЗНЬ
Когда его ввели в зал суда, там еще никого не было. За окнами уже третий день бесновалась метель, и сквозь облепленные снегом стекла в зал заползали сумерки. Он сидел между двумя хмурыми конвоирами и робко покашливал хриплым, глубоким кашлем. Ему было неловко нарушать своим кашлем тишину и сидеть на самой середине огромного зала, куда его привели и усадили так, чтобы все могли осматривать его невзрачное крестьянское лицо, его старую, потертую куртку и военные, еще русские, сапоги со смешно загнутыми носами. Он знал, что его опять будут допрашивать об этой неинтересной, осточертевшей ему истории, и хоть не станут больше остервенело бить в зубы и под бороду, все же придется снова, в четвертый или пятый уже раз, рассказывать про эту гниду — осадника Миколайчика, про собачью его душу, про неудачное нападение на него и глупое бегство с девчонкой на руках.
Нет, ни за что не надо было брать Гапку с собой, да еще в такую стужу. Гапка могла спокойно остаться у тети Пелагеи (только теперь вспомнилась тетя Пелагея), там бы и росла, а довелось бы ему вернуться, и отца вспомнила бы. Матери вот и не видела толком, а не забыла, шестой год уже, а не забыла, вспоминает. Вспоминала бы и его. Нет! Гапка вспомнила бы... «Она моя»,— прошептал он, и от этого у него под сердцем что-то екнуло, и так остро, так остро захотелось ему увидеть Гапку! Он окинул взглядом зал и никого не увидел. Тогда ему захотелось выглянуть за двери, в коридор: там темно, может, он и не заметил ее, стоявшую где-нибудь в уголке. Он уже собрался было броситься к дверям, выбежать в коридор и позвать ее во весь голос, но в этот самый миг дверь отворилась и в зал вошел пристав. Он почистил тряпочкой медное распятие, стоявшее на столе, и как раз вовремя положил около свечей спички: в тот же момент в боковых дверях появился председатель трибунала, пухлый старикашка с заспанным лицом, которое он никогда не брил, скрывая огромную бородавку на левой щеке. Но вместо бороды росла седая щетина, нисколько не прикрывавшая безобразной бородавки, и, должно быть, поэтому судья уже двадцать лет лечился от камней в печени. Он исподлобья поглядел на подсудимого и недовольно покосился на пустующее место секретаря. Затем повернулся, подобрал тогу и вышел. У подсудимого беспокойно забилось сердце. Ему почему-то казалось, что взгляд судьи, его гримаса и то, что он вышел, хлопнув дверью,— все это вместе предвещало дурное.
Через минуту что-то заскрипело и вошел офицер военной жандармерии, стройный человек с прилизанными русыми волосами, с напудренным лицом, перетянутый скрипучими ремнями, между которыми болтались на пестрых лентах бесчисленные кресты и медали. Не взглянув на подсудимого, офицер сел за столик у окна и принялся рыться в портфеле. Вслед за ним вошел прокурор. Он молча поклонился офицеру и, потирая руки, направился на свое место — справа от судей. Разложив перед собой бумаги, он удобно расположился в кресле, привычным движением приклеил к глазу монокль, зевнул слегка и уставился на Гната. Но, вероятно, разочаровался, потому что зевнул пошире, снял монокль, откинул голову на спинку кресла, повернувшись к залу благородным профилем лорда, и прищурился.
Члены трибунала заняли свои места в десять часов. Посредине, под огромным изображением белой женщины с завязанными глазами, державшей в одной руке весы, сел пухлый председатель. Слева от него занял свое место другой судья, худой, черный, с пылающим, словно горячечным взглядом. Обыватели городка знали его как непримиримого врага прокурора, но об этом больше всех могла бы рассказать жена судьи, которая была на двадцать лет моложе мужа и смертельно скучала в глухой провинции, где один только прокурор «понимал ее небудничную, погибшую душу».
У другого члена трибунала была черная козлиная бородка, хитрые глазки и такая же натура. Перед известным маем[1] он был стопроцентным эндеком [2]: читал только «Варшавскую», признавал только Галлера [3] и яро, до потери сознания ненавидел все, что «пахло Востоком». После мая он даже скорее, чем прокурор, сориентировался: выбросил из канцелярии портрет Галлера, первый подписался на «Глос правды» и так же яро, до потери сознания ненавидел все, что «пахло Востоком».
Рядом с ним сидел молоденький напомаженный секретарь. Он тоже скучал в провинции и мастерски выслуживался перед начальством, лелея одну мечту — попасть когда-нибудь в Варшаву и ходить хоть раз в неделю на дансинг в «Адрию». Как раз в тот момент, когда мечтатель-секретарь достал новое блестящее перо, его подозвал к себе председатель трибунала и шепотом сказал ему что-то на ухо. Секретарь подошел к подсудимому и вежливо уведомил его, что ему дали защитника. И в тот же миг адвокат явился. Он покраснел от холода или оттого, что чувствовал себя неловко, заставив суд ждать, поклонился трибуналу и, даже не посмотрев на своего клиента, побежал к столику и дрожащими руками стал листать дело. Он был молод, занимался адвокатурой первый год и, будучи сыном бедного портного из Белостока, не мог как следует разрекламировать свою контору и приобрести клиентуру. Сегодняшний процесс был первым серьезным делом, порученным ему. И хотя приходилось защищать за собачьи гроши из кассы суда (клиент был несостоятельный), он с радостью взялся за это дело и всю последнюю ночь просидел над актами, которым предстояло решить судьбу двоих — его, как адвоката, и Гната Орестюка, как обвиняемого. Ему было известно, что чрезвычайный суд — дело серьезное, что по всей стране скрипят виселицы. Кроме того, он за год имел возможность изучить судей, ведущих этот процесс, и знал, что его еврейское происхождение и фамилия Любомирский также сыграют свою роль. Поэтому руки его, раскладывая акты, дрожали.
Зато не дрожали они у Гната. Когда вошли судьи, в нем что-то заныло и он почувствовал себя одиноким, затравленным зайцем среди собак. В редких взглядах, которые иногда бросали в его у сторону судьи, прокурор и жандарм, он видел столько презрения, равнодушия, что, казалось ему, предложи кто-нибудь дать Орестюку пять лет тюрьмы, никто из этих господ не возразил бы ни слова: таким мелким и ненужным видел себя Гнат в глазах судей. Когда вошел адвокат, Гнату стало легче на душе и он повеселел. Хотя он и видел, что этот молодой низенький адвокат не ровня самоуверенным, суровым судьям, но все-таки обрадовался, потому что не был уже так одинок и беспомощен,— рядом с ним сидел кто-то, кто яснее мог сказать судьям, что не стоит им утруждать себя из-за такого подлюги, как Миколайчик.
Гнат успокоился. Он был спокоен и тогда, когда председатель назвал его фамилию, даже повеселел, подумав, что вот уже началось и что через час, через два эти суровые господа пойдут себе обедать, а он тем временем бросится искать по городу Гапку. Четыре дня! Нет, за четыре дня она не могла пропасть! Гнат успокоился совсем.
Допрашивали председатель суда и его сосед справа. Сидевший слева молчал, как всегда, если обвинял прокурор с моноклем. Спрашивали то же, что и в полиции, то же, что и следователь. И потому, что впервые за эту неделю на душе у Гната было легче, он охотно рассказывал и о селе, и о прохвосте Миколайчике, у которого, почитай, полсела былодолгах. Он высчитывал на своих грязных пальцах, сколько хозяев в селе разорил Миколайчик, сколько народу своими доносами в тюрьму засадил, и не хватало ему пальцев.
Гнат разошелся. Он в лицо судьям обвинял Миколайчика и помещика из соседнего села, платившего Миколайчику за то, что тот привозил на господские поля штрейкбрехеров.
Председатель непрестанно кривился, правый сосед что-то возмущенно говорил ему на ухо, прокурор устремил мечтательный взор в окно.
Гнат рассказывал и о том, как село ненавидело Миколайчика и жаждало от него избавиться. Но Миколайчик в ответ на это только улыбался и каждый вечер ходил с комендантом в шинок. И случилось в этот вечер так (это было на следующий день после того, как десятерых вывезли из села в Новогрудки), что Миколайчик один возвращался домой. Кое-кто это заметил, узнал об этом и Гнат. Тогда они вдесятером пошли за Миколайчиком и нагнали его, когда он входил уже в свою хату. Но это их не остановило. Гната поставили с дубиной позади хаты, чтобы Миколайчик не ускользнул, а потом выбили стекла. Гнату недолго пришлось ждать. Миколайчик наскочил прямо на него и бежал так быстро, что Гнат не успел и дубиной замахнуться, как тот исчез в лозняке и оттуда выстрелил в Гната, но пуля только над ухом просвистела. В полночь приехал из города на машине большой отряд полицейских, и всем десятерым стало ясно, что добра от этого не будет. Когда разбудили Гната, он сначала упирался, но, вспомнив про Гапку и подумав, что станется с нею, если его посадят под следствие на полгода, закутал ее в кожух, взял на руки, запер хату на ключ и побрел с девятью товарищами через белые поля к границе.
Идти надо было четыре мили, и, когда подходили лесом к границе, уже рассвело. Увидели полосатый столб и повернули направо, чтобы обойти его незаметно. Вышли на большую поляну и заметили по ту сторону красноармейца с винтовкой. Подумали тогда — конец путешествию и высыпали на поляну, толпой спеша к красноармейцу. Но тут по лесу прокатилось громкое «Стой!». И кто-то выстрелил. Те девять побежали и через минуту были уже на той стороне. Остался только Гнат, не было сил нести Гапку под пули.
«Пусть,— подумал он,— лучше уж полгода отсижу, а Гапка у добрых людей авось не пропадет».
И пошел Гнат назад, только уже не в село, а прямо в город. И это хуже всего,— пропадет Гапка в городе, ей же только шесть лет.
Гнат кончил и посмотрел вокруг. Он думал, что все сочувствуют шестилетней Гапке, которая бродит сейчас где-то на холоду, голодная, в чужом городе. Но лица судей, прокурора и жандармов были такими же, как и прежде. Только адвокат еще глубже зарылся в бумаги. Гнат опустил голову.
Второй час уже допрашивали Гната, и когда председатель устал, его сменил сосед с бородкой. Он задавал вопросы и скалил большие желтые зубы, точно хотел схватить каждый ответ подсудимого, разжевать и выплюнуть на стол трибунала, как готовый параграф. Он впервые в жизни видел Гната, ему было совершенно безразлично, в чем обвиняют этого человека, но он ненавидел подсудимого всей душой — и за то, что тот говорил на языке, ненавистном судье, и за то, что он так прямо смотрел ему в глаза, и за то, что в нем была сила, которая, если освободить ее на миг от цепей, оставит судью без тоги, под голым небом, сиротой в чистом поле, где нет ни дорог, ни устланных коврами тропок, а только пустота и ноги, которым некуда двинуться.
Прокурор все время молчал, и когда судья с бородкой, перестав скалить зубы, удовлетворенно откинулся в кресле, он вопросительно посмотрел на брюнета и для эффекта выждал минуту. Но тот не заговорил, и тогда прокурор вздохнул легонько и будто невзначай задал подсудимому вопрос:
— Вас лично Миколайчик обидел чем-нибудь?
— Меня — нет,— ответил Гнат.
— В таком случае зачем же вы набросились на него?
Гнат молчал,— он не понимал прокурора, и ему казалось,
что тот шутит и потому только задает такой нелепый вопрос. Ведь каждый ребенок в селе знал, кто такой Миколайчик.
— Не знаете? А мы знаем.— Прокурор вобрал монокль глубже в глаз и продолжал допрос: — Вы давно уже член организации?
— Какой?
— Террористической.
— Да я никогда...— Гнат замялся.
А ведь верно, приходилось уже что-то такое делать. Год назад бастовали у помещика, и тогда Харитон, сын Михайла, бывало, говорил: «Организация мы, а об организацию господа непременно зубы обломают». Но перед ним теперь тоже сидели господа, и он решил возражать.
А прокурор тем временем продолжал громить подсудимого:
— Вас было десять, и нападали вы организованно.
Гнат растерянно молчал, и триумф прокурора был полный.
— Кстати, вы долго занимались шпионской деятельностью?
Гнат не мог больше молчать. Он понял, что его ошибочно
обвиняют в преступлениях, за которые жестоко карают, что эту ошибку необходимо исправить. Надо сказать им, что Миколайчик и на этот раз, как всегда, подло брехал и что в его болтовне нет ни крошки правды.
— Высокий трибунал! Никогда ничего подобного не было. Не мог я знать и не знал ничего. Шпионом в нашем селе Миколайчик был. Это он меня...
Ярость душила Гната.
— Террористическая банда, членом которой вы были, составила после перехода через границу подробное сообщение о расположении наших войск.
Жандармский офицер насупил брови и утвердительно кивнул головой, хотя он знал об этом столько же, сколько и прокурор. Он только честно исполнял свои жандармские обязанности.
— И вы все еще не признаете себя виновным? — недовольно спросил председатель.
— Не виновен я, высокий трибунал. Хотел отколотить Миколайчика, подлюгу, признаюсь, а что шпион я — неправда, это неправда! Трижды присягну вам — неправда!
Но как ни убедительно говорил Гнат, председатель только поморщился, а прокурор, жандарм и тот, что с бородкой, снисходительно усмехнулись.
Тогда поднялся адвокат и с дрожью в голосе стал спрашивать Гната, кто такой Миколайчик, был ли он пьяницей, не затевал ли с кем-нибудь драк, и можно ли было дубинкой, которой вооружился Гнат, убить хоть котенка, и знает ли Гнат, что такое шпионаж. В заключение торжественно произнес:
— Гнат Орестюк, Христос с этого распятия видит тебя и видит, что ты невинен и что чиста душа твоя, как чиста была его душа!..— и сел, не поднимая глаз.
Судьи, прокурор и жандарм возмущенно посмотрели на адвоката. То, что еврей посмел сослаться на Христа — и не только сослаться, а сравнить с ним какого-то мужика, да к тому же еще с оскорбительными для трибунала намеками,— все это решило судьбу несчастного Гната. И он, как будто чувствуя это, тяжело сел на скамью, безнадежно опустил голову и точно сквозь сон слушал то, что говорили свидетели: Миколайчик, комендант и пограничник. Он и не опомнился, как объявили перерыв и вывели его из зала. В коридоре к нему подошел адвокат и, не глядя в глаза, прошептал:
— Все будет хорошо. Успокойтесь, Орестюк.
Потом быстро сбежал по лестнице.
Тем временем члены трибунала столпились у окна, выходящего на тюремный двор, и с любопытством разглядывали термометр. Он показывал двадцать два ниже нуля.
Когда после полудня начал говорить прокурор, в зале уже горели лампы и монокль мерцал золотой звездочкой. Прокурор говорил без обычного пафоса — заседание было закрытое, а на этого адвоката не стоило даже обращать внимания. В полчаса он успел обрисовать всю преступность натуры Гната и смертельную опасность, угрожающую молодой стране от таких дегенеративных типов, наемников иностранного государства, которое в пору глубокого кризиса пытается своими хищными щупальцами опутать мир христианской культуры и цивилизации, чтобы таким образом уничтожить в нем все прекрасное, доброе и возвышенное и оставить голого человека на голой земле. Во имя спасения мира Христа, которого, кстати сказать, несколько часов тому назад оскорбили в зале, прокурор призывал судей вынести приговор, который послужил бы святым огнем, выжигающим струпья на здоровом теле человечества. Закончил он призывом к судьям — изгнать, подобно древним римлянам, слабость из своих сердец, когда «Hannibalanteportas»[4].
Адвоката слушал, вероятно, только Гнат,— только для него была интересна речь этого человека, пытавшегося головой проломить каменную стену. К тому же неинтересно говорил сегодня адвокат Любомирский,— потому ли, что он видел безнадежность дела, или потому, что чувствовал неравенство сил, выступая перед пустым залом. Когда он закончил, судьи зашевелились и, словно давно уже ожидали этого момента, быстро удалились на совещание. Прокурор пошел с жандармом выкурить папироску, в зале остались только Гнат с конвоирами и адвокат, растерянно листавший конспект своей никчемной речи.
У ног Гната стлались черные неподвижные тени конвойных, и тень была в его душе. Казалось, что век сидеть ему в этом зале и что тени вокруг него будут расти и расти, пока не покроют все вокруг, а тогда ночь, безнадежная ночь повиснет над Гнатом. Ему все теперь было безразлично, и казалось, что, если его присудят даже к пожизненному заключению, ему будет все равно. Даже мысль о Гапке только изредка приходила ему в голову, да и то как-то неясно, точно он забыл уже ее лицо, и где-то во мгле тонула его серая, нерадостная мужицкая жизнь.
Не прошло и двадцати минут, как трибунал вернулся и все расселись по своим местам. Председатель встал, поправил берет, откашлялся и гнусавым голосом, точно спеша куда-то, прочел приговор:
— «...Чрезвычайный суд... Гната Орестюка, тридцати двух лет, крестьянина... за террористическую и шпионскую деятельность... к смертной казни через повешение и покрытие судебных издержек... Приговор будет приведен в исполнение завтра, в пять тридцать утра».
Когда председатель кончил, его соседи кивнули головами, прокурор вынул из глаза монокль, потер его платочком и спрятал в карман, а офицер вздохнул и, вставая, заскрипел ремнями, как скрипит виселица. Адвокат побледнел и с ужасом смотрел в лицо Гната. А оно было прежним, только отразилось в нем какое-то огромное удивление. Гнат понимал каждое слово приговора и не понимал ничего. Это была слишком большая неожиданность для него, и он всматривался в судей, словно спрашивая, что это вздумали с ним делать и не шутят ли они. Но судьи не смотрели ему в глаза. Они быстро собрали бумаги и вышли в смежную комнату, чтобы сбросить тоги и на этом закончить на сегодня выполнение своих трудных и неинтересных обязанностей.
А Гнат еще долго стоял посреди зала, если бы не конвоиры. Они напомнили ему, что первая часть «парада» закончилась и ему пора возвращаться в камеру. В дверях подошел к нему адвокат, зачем-то пожал ему руку и сказал, что будет телефонировать президенту страны. Тогда Гнат что-то вспомнил и, не глядя на адвоката, несколько раз повторил:
— Ищите Гапку! Найдите Гапку!
— Будем всю ночь искать,— ответил адвокат, еще раз пожал Гнату руку и пропал во тьме коридоров, ощетинившихся в этот день штыками полицейских.
В камере узнали о приговоре еще до того, как Гнат вернулся из зала суда. Когда он вошел, все молчали. Он сел на свои нары, и тут только у него запылали уши и шея, и он ощутил, глубоко ощутил, что ему готовят неминуемую смерть. В камере была тишина, и он слышал, как бурливо переливалась в нем кровь, как толкалась о стенки жил, как будто и она знала, что завтра утром застынет уже навсегда. И в груди Гната что-то заскрипело, охнуло и вырвалось наружу долгим, нервным, неудержимым кашлем. Потом вновь наступило молчание, и хмуро, уставя глаза в землю, сидели арестанты по углам.
Открылась дверь. Гнату приказали забрать вещи и отправляться в одиночку. Он тяжело поднялся и стал надевать старый овчинный кожух, доставшийся ему еще от покойного отца. Но руки у него дрожали, и он не мог найти рукава. Тогда его сосед, сморщенный старик-бродяга, подошел к нему, встал на цыпочки и помог одеться. Гнат огляделся вокруг и молча пошел за часовыми.
Было уже за полночь. Гнат сидел на табурете и, кто знает, который уже час ерошил свои белокурые нечесаные вихры. Его сердце не билось уже так тревожно,— должно быть, и оно утомилось и хотело отдохнуть. Гнат думал и не узнавал своих мыслей,— так они были необычны для него, так ясны и понятны, и только странно ему было, почему они родились у него так поздно и к тому же еще в такое время, когда думать ему оставалось всего несколько часов, а после этого придет смерть. Окно его камеры выходило во двор, и он слышал, как кто-то вгонял гвозди в дерево, и был уверен, что это для него готовят гроб. В гроб упрячут Гната Орестюка и зароют глубоко в землю, чтобы, чего доброго, не поднялся Гнат Орестюк, не встал и не пошел бы мстить за свою и не свою мужицкую обиду. Он теперь видел ясно, что недаром судьи потратили на него целый день, недаром отправили его на виселицу. Мозг работал теперь, как новая смазанная жнейка. Гнат открыл в себе целое море ненависти, дремавшей до сих пор где-то под сердцем, и был уверен, что они не могли этого не знать. Ему все представлялся трибунал, за ним он видел злобно улыбающегося Миколайчика, а за Миколайчиком в полутьме стоял помещик, а за помещиком в густой мгле он видел целую толпу миколайчиков и помещиков, и у каждого из этих миколайчиков и помещиков на груди были золотые кресты и медали, а на животе скрипели ремни. Все они смотрели на Гната, и Гнат видел в их глазах ту же ненависть, какую он открыл в себе. Они захватили Гната Орестюка в свои руки, и они должны были с Гнатом Орестюком покончить. Гнат Орестюк мог и должен был защищаться. Гнату Орестюку не следовало бояться пули, и, если уж он побоялся ее, ему не следовало теперь бояться виселицы. Гнат Орестюк тверд, он не из теста, и миколайчики с помещиками не могли из него ничего вылепить. Гнат колюч, он мог опасно уколоть, и Гната следовало уничтожить. Гнат Орестюк должен погибнуть.
Среди ночи вошел в камеру маленький захудалый попик. На его груди висел серебряный восьмираменный крест, и Гнату показалось, что он вторично очутился перед трибуналом. И тут он увидел, как попик прыгнул в толпу и испуганно смотрел на него из-за спин миколайчиков и помещиков, пока не исчез, почесывая редкую бородку. За попиком затворилась дверь, и сквозь глазок в камеру с любопытством заглядывала новая смена часовых. Гнат знал уже все и успокоился. Он мог, наконец, заснуть, и заснул сидя.
Ранним утром Гната разбудили и сообщили, что президент отклонил его просьбу. В дверях камеры стоял прокурор, за ним председатель трибунала, офицер, начальник тюрьмы, часовые и какие-то незнакомые господа в дорогих шубах. Гнату велели приготовиться. Он хотел накинуть кожух, но ему этого не разрешили (кто знает, выдержит ли веревка тяжесть?). Тогда он хотел закутать платком шею,— у него уже несколько дней болело горло,— но и этого ему не разрешили сделать.
Когда его вели по узкому сырому коридору во двор, бледный адвокат, точно оправдываясь, сказал ему, что Гапку искали, искала и полиция, но не могли найти, что он не забудет о ней, будет помнить, будет искать. Гнат задержался, и с ним задержались все. Он растерянно посмотрел на адвоката, потом оглянулся вокруг, побледнел, покраснел и во весь голос стал кричать: «Гапка! Гапка!» Тогда ему связали руки за спиной и потащили вперед. А Гнат все кричал и звал Гапку, которая спряталась где-то за стенами, так что не присмотреть за ней, не повидать, не поцеловать ее отцу в последний раз... Звал Гнат Гапку, точно звал жизнь свою, которой через несколько минут придет конец.
Выйдя во двор, Гнат растерялся и умолк. Было еще совсем темно, снег падал большими хлопьями. Гнат понял, что если вешают его, мирного Гната Орестюка из глухих Самоселок, то что-то великое творится на свете и что Гапка и он, Гнат, ее отец, слишком малы перед этим великим. Гнат замолчал и не произнес больше ни слова.
Ему было холодно в одной куртке, он дрожал. Зрители заметили это и запахнулись получше в шубы. Когда Гната возвели на эшафот и стали вязать ему ноги, кое-кто подошел поближе к виселице. Было темно, а им хотелось получше разглядеть, как будет умирать Гнат. А адвокат Любомирский вбежал в сени и там затрясся в тихом, пискливом, истерическом плаче.
Гната поставили на табуретку и закинули ему на шею петлю. Он увидел перед собой толпу любопытных и узнал прокурора, и судей, и жандарма. Он различал во тьме их лица, не видел только глаз, словно они спрятали их, словно испугались ненависти, которую источали глаза Гната. Они ждали, когда Гнат закроет глаза. Но Гнат не закрыл их, даже когда у него из-под ног вышибли табурет, и, хотя петля сжимала шею и глаза от напряжения чуть не лопнули, он не спускал взгляда со зрителей, он хотел излить на них всю свою ненависть, он даже хотел сказать им о своей ненависти. Но петля все туже сжимала шею и не выпускала из горла последнего слова Гната. Тогда злоба и отчаяние, порожденное бессилием, охватили Гната, и потому, вероятно, перестало биться его сердце.
Еще пять минут мерзли господа перед виселицей. Виселица под тяжестью могучего тела Гната скрипела, а шпоры офицера позвякивали от нетерпения. Потом маленький толстый тюремный врач залез на эшафот, приложил ухо к груди Гната и сказал зрителям, что они могут уже идти погреться. Общество решило не ходить домой, а дождаться утра в кондитерской Дзеньцела, которая славилась каким-то особенным грогом.
Глаза Гната смотрели вслед ушедшим до тех пор, пока зрачки не залепило чистым пушистым снегом.
1932
ТРИ СМЕРТИ
Всю ночь шел частый мартовский дождь, и когда в яму опустили маленький, посеребренный гроб, он чуть не весь погрузился в мутную воду. Какая-то баба тонко заголосила, и среди ребятишек раздался тихий плач. Тщедушный поп откашлялся, плюнул, снял ризу, подобрал рясу и, перепрыгивая через лужи, направился домой. За ним стал расходиться народ, только детвора теснилась у могилы и слушала, как шлепались о гроб комья грязи, пока не вырос высокий холмик.
Было воскресенье, и люди лениво месили слякоть на вобненских дорогах. В летнюю жару дороги эти высыхали, и тогда все село заволакивалось едкой пылью. Осенью с запада надвигались тучи, и долгие недели шел непрерывный дождь, маленькие хаты облепляла грязь, они чернели, трухлявели и все глубже увязали в мягком раскисшем грунте. По обе стороны села бежали холмы, и летом на них овес шептался с землей. Узкие, нещадно изрезанные межами нивки с каждой вобненской свадьбой все больше сжимались, мельчали и все безнадежнее упирались по ту сторону южного холма в просторные владения графа Скшинского. В страду на эту землю высыпали чуть ли не все Вобни; старый и малый потели на ней от восхода до звезд за шестнадцатый сноп, и в три дня на графских полях не оставалось ни колоска. Тогда люди жали свой овес, бережливо, у самой земли, так что потом тощие пестрые коровенки мычали в отчаянии на скудном жнивье.
Десять лет назад молодая учительница Козан приехала в Вобни. Август был на исходе, и над селом сонно бродил туман. В первые ночи учительница садилась у открытого окна и подолгу любовалась посеребренными луной ольхами. Утром, наскоро собрав книжки и тетради, она с тихой радостью в груди, прихрамывая, бежала к школе. Входя в старую маленькую хатку с земляным полом, она встречала пятьдесят пар любопытных детских глаз. Тогда ей казалось, что стены раздвигаются, из-под земли вырастают парты и ребятишки, чистые, в вышитых рубашках, поют в светлом, просторном зале: «Расти, расти, старый дуб могучий». Но вскоре пошли осенние дожди, и ее ноги увязали по щиколотку в раскисшем полу. Бледные, ободранные ребятишки дрожали от холода на трех сломанных санях, служивших партами, а от духоты и вони спирало дыхание и голова наливалась свинцом. После шести уроков учительница, шатаясь, возвращалась домой, в полубессознательном состоянии падала на кровать, чтобы, едва опомнясь, приняться за книги и тетради. Она глубоко верила, что трудно лишь начало и что Вобни — чуть ли не последнее украинское село по ту сторону Сана — останется украинским. Она была уверена, что добиться этого — ее благородное призвание, что это смысл ее жизни и что если ей удастся одеть вобненскую детвору в вышитые рубашки и научить их любить Украину, эту романтическую Украину красных жупанов, тоскливых песен и тихих вишневых садов, то через несколько десятков лет никто не узнает бедных, забитых вобнян. На месте грязного шинка она уже видела просторную каменную читальню, на стенах ее — украшенные рушниками портреты Шевченко и Франко, а за столиками — старых и молодых вобнян над книжками и газетами. И все люди — чистые, приветливые, веселые.
Но до сих пор в Вобнях веселыми бывали одни рекруты. Матери доставали им из запыленных узелочков два-три злотых, всю ночь светилось кривое окно шинка, и по вобненским холмам до утра перекатывался пьяный гомон. По воскресеньям и праздникам еще бывало весело в поповском доме. Пухлые поповны танцевали под граммофон, а когда приезжал на мотоцикле молодой дантист из ближайшего местечка, шуткам и смеху не было конца. Козан вначале заходила туда, пила чай с малиновым соком и слушала граммофон, но с ней напомаженный дантист никогда не танцевал,— верно, потому, что у нее одна нога была короче и в больших серых глазах светились задумчивость тоска. Вскоре она забыла дорогу в поповский дом, а там о ней забыли еще раньше.
Выпал снег, и поп наведывался в школу лишь раз в неделю. Обычно он приезжал в субботу в полдень и разучивал с детьми молитвы. Тех, кто не затвердил как следует «Помилуй мя» или «Верую», поп, наморщив брови, щелкал желтым ногтем по носу и выставлял за дверь. Потом недовольно ворчал на учительницу, что не печется она о душах малых сих, поднимал воротник и усаживался в бричку.
Дважды в год приезжал в школу инспектор, худой брюнет с большими зубами. Он заходил в школу на несколько минут и прежде всего приказывал детям петь. Когда детвора однажды приветствовала его двумя украинскими народными песнями, он спокойно слушал и вежливо улыбался, но сразу же после его отъезда взволнованная учительница накинула на голову платок н под дождем заковыляла в город. На другой день на стенах в школе, кроме обязательного орла, повесили большие портреты президента, маршала и Костюшко, а изможденная детвора кричала на все лады, разучивая полтора десятка патриотических песен о безмерно мудрых и героических государственных мужах и их божественных покровителях. Это был первый удар для учительницы, и от него она уже не оправилась.
Осенью и весной в Вобнях свирепствовали лихорадка и тиф, и тогда в школе становилось просторнее. Почти каждую неделю ученики шли за нетесаным гробиком какого-нибудь своего товарища, и глаза учительницы распухали от слез. Случалось, что во время урока кто-нибудь из детей бледнел как снег, закрывал глаза и падал под сани. Скоро стала падать в обморок и учительница. В таких случаях дети с помощью воды приводили ее в чувство, а когда она приходила в себя, снова тихо и послушно садились на сани.
На редкость тихие и спокойные были эти вобненские дети. Впрочем, быть может, потому, что в школе не хватало воздуха для крика. Козан жаловалась инспектору и просила выстроить новую школу, пока эта не пожрала всю вобненскую детвору. Инспектор подумал и ответил, что Вобни должны стать польским селом, хочет этого учительница Козан или нет. Если хочет, тем лучше: тогда ей отстроят новую школу.
Потом он уставился выпученными глазами на портрет Франко, висевший над кроватью. Козан в тот же вечер вынесла портрет на чердак.
Шло время, и каждый год ложился на Вобни все большей; тяжестью. Нужда веками грызла вобнян, но то, что началось в последние годы, было так ужасающе и непостижимо, что в селе никто не мог понять, что это такое и до каких пор так будет. Не уразумел и поп, неистовствуя в проповедях по поводу долгов безбожного вобненского люда за требы, а пан комендант бегал с войтом по хатам как пришпоренный, и когда у крестьян нечего было взять за недоимки, в остервенении бил штыком стекла. Не понимала этого и учительница, как не понимала она и того, почему бывшие ученики ее так быстро забывают рассказы о гетманах и казачестве и становятся такими же неграмотными и неприветливыми, как все обитатели села. Случалось, иные из них, так и не окончив школы, отправлялись во Францию на заработки. Возвращались они оттуда еще более неприветливыми и с угрюмыми лицами молча шатались по улицам села. Когда учительница заводила с ними разговор, они, потупив глаза, бормотали что-то под нос и, не прощаясь, отходили от нее. Это удивляло и болезненно поражало ее. В конце концов она поняла, что ее одиночество в Вобнях не случайно и что весь ее горький труд, все ее столкновения с властями не привели ни к чему. Вобни не были ей благодарны; наоборот, она видела, что между нею и селом' вырастает высокая стена и нет уже сил пробить ее. Она знала уже, что Вобни хотели больше, чем она могла дать, ибо все, что у нее было, она уже отдала, даже себе ничего не оставила,— все перегорело в ней за эти годы, и то, что все перегорело так быстро, могло послужить уроком... Но не для нее — она была уже старой, высохшей, ненужной яблонькой.
Вобненские дни и ночи были грозны и тихи. Одинокий шинок пустовал теперь по целым неделям, и однажды его владелец запряг облезлую клячу и повез свою семью куда глаза глядят. Скотина возвращалась с ярмарок непроданная и, голодная, гибла в хлевах. В селе началась чахотка, но за доктором не посылали даже в смертный час. Войта, Маланюка из Комонивки, Грица Лебеду и пьяницу-колониста Мроза тоже сжигала горячка,— они целыми днями бегали по селу, просили, грозились, а женщин, случалось, били даже, но все было напрасно: вобняне не могли платить ни процентов, ни самих долгов — это было сверх сил — и стояли грозной и молчаливой стеною. Это мучило богачей и, охваченные тяжелыми предчувствиями, они все чаще обходили в глухую ночь с фонарем свои владения.
А Козан овладела старческая апатия. Как всегда, точнехонько в восемь часов утра она была в школе, а после уроков клала на голову компресс и лежала в немом отупении до позднего вечера. Пыль толстым слоем покрыла большое зеркало, доставшееся учительнице по наследству от родителей, но женщина и так уже не смотрелась в него. Ее бескровное лицо пересекали глубокие морщины, и под глазами проступили зеленые пятна. Иногда она вскакивала ночью, и ей казалось, что на нее через окно смотрит грозный усатый комендант, она ясно различала во тьме блестящий штык и была уверена, что подан новый донос. В такие ночи ее маленькое тело до самого рассвета тряслось в диком страхе, боль в груди доводила до изнеможения.
Однажды учительница встала в полузабытьи и, пока дошла до школы, трижды падала в снег. После обязательной молитвы она почему-то велела детям петь «Расти, расти, старый дуб могучий». Но, не дослушав, пошатнулась и упала к ногам детей, прямо лицом в грязь.
На другой день она не могла уже пошевельнуться, руки и ноги ее опухли, и сквозь маленькие оконца ее домика на улицу доносились вопли. Иногда к ней заходили крестьяне и кормили ее вобненской пищей: овсяным хлебом и печеной картошкой без масла.
Как-то вечером вбежала в комнату хозяйка с едой и, попросив прощения за то, что не зашла утром, положила в рот больной картофелину. Козан, в знак благодарности, мигнула одним веком, но картофелины не проглотила. А наутро, когда хозяйка снова вошла в комнату, учительница все еще смотрела одним глазом в потолок, и тогда поняла хозяйка, поняли и все Вобни, что их учительница умерла.
На другой день продали в местечке ее зеркало и туфли, купили гроб и схоронили ее на почетном месте, рядом с могилой прежнего попа.
Так покончила со своей несчастной жизнью учительница Козан.
Через неделю после похорон в село приехал новый учитель — дебелый белокурый человек с толстой шеей, с суровыми, пронизывающими глазами профессионала-фельдфебеля. Он был, по мнению инспектора, «лучшей преподавательской силой» в соседнем уезде и обладал немалым опытом в «государственно- созидательной» работе. На его лбу и под левым глазом синели два глубоких рубца, приобретенные, по его словам, в боях с Красной Армией. Он и в самом деле гордился крестом «За заслуги», однако знакомые его утверждали, что это следы недавнего прошлого и свидетельство верной службы пана Хрусцельского на поприще просвещения украинских крестьян.
Через два дня, когда новый учитель удобно устроился у коменданта, войт оповестил село, что завтра начнутся занятия.
Строгий и темный как ночь вошел пан Хрусцельский в школу. Детвора застыла на санях и боязливо следила за учителем, обводившим угрюмым взглядом запущенную, неприветливую лачугу. Голова учителя едва не касалась сырого потолка, с которого падали на грязный пол тяжелые слезы. Пан Хрусцельский надел было шапку, но, вспомнив, что в школе перед занятиями молятся, снял ее и скомандовал:
— На молитву!
Пока детишки растерянными голосами в тысячный раз повторяли непонятные для них слова, взор учителя блуждал по стенам й среди целого полка портретов в коронах и с орденами нашел в углу, под вышитым рушником, нечто ненавистное, чуждое, мужицкое. Он грозно наморщил лоб, и дети, не закончив молитвы, испуганно уселись.
— Что это там, в углу? Ты!
Маленький белокурый мальчик медленно поднялся и тихо проговорил:
— Тарас... Шевченко.
— Прочь хама! — заорал учитель.— Снять!
Но маленький Федь не шевельнулся, только побледнел, заморгал глазами и застыл в ужасе. Тогда учитель большими шагами подошел к стене, сорвал маленький портрет, изорвал его в клочки и бросил под ноги. Потом поднял с пола грязный рушник, и, неловко усмехаясь, подал его ближайшей девочке.
— На, малышка, вытри нос, а то замерзнет!
— Ты кто?
Федь оглянулся вокруг, словно искал помощи у товарищей, и встал:
— Кобыляк Федь.
— Поляк? Русин?
— У...украинец...— ответил Федь и, словно заметив что-то недоброе в глазах учителя, тихо добавил: — пане профессор...
Но в этот момент почувствовал на лице жгучий удар руки учителя, и пан Хрусцельский разразился солдатской руганью о гайдамацкой неблагодарности и великодушии шляхетской «матки ойчизны», которая, невзирая на их неблагодарность, сердечно заботится о них и защищает их от большевистских варваров с Востока. Тут пан Хрусцельский остановился, словно вспомнив о чем-то, и обратился к Федю:
— Ты что знаешь про большевиков?
Тот подумал минуту и торопливо проговорил:
— панов прогнали, пане профессор„.
Учитель наморщил вспотевший лоб и расстегнул полушубок.
Теперь он был уверен, что дело серьезно и надо начинать работу с азов, то есть с выработки государственно-национального самосознания, ибо только культуру шляхетского государства можно противопоставить бунтарскому духу голытьбы. Гордясь своим умозаключением, он даже подобрел и уже ласковее обратился к Федю:
— Склоняй — естем полякем!
— Естем полякем... Естесь...
— Показывай пальцем!
Федь дрожащим пальцем указал на своего старшего брата Миколу, высокого чернявого мальчика, которому труднеедавалось учение.
— Естесь... полякем, он, она, оно, есте...
Но тут Микола вдруг встал и удивленно сказал:
— Ваша милость, я не поляк,— и вопросительно уставился на своего брата.
Тогда Федь громко расплакался:
— Ваша милость, я тоже... нет...
Пан Хрусцельский побледнел, поднял руку, растопырил пальцы, и ладонь коршуном упала на голову Федя. Тот упирался, хныкал, но учитель накрутил его волосы на пальцы и легко, как перышко, приподнял малыша с земли. Ребенок болтал растопыренными ногами и уже не кричал, а только стонал глухим, низким голосом. Его редкие вобненские волосы не выдержали тяжести, клок их остался в руке учителя, Федь хлопнулся на землю, тряхнул головой, неловким движением приложил руку к темени, увидел на пальцах кровь и потерял сознание. Тогда брат его Микола, сидевший позади всех у окна, встал и, бледный, как смерть, вышел. Когда он вернулся с водой для брата, он выглядел уже спокойнее, хотя руки его тряслись, как в лихорадке. Карман большой рваной блузы мальчика оттягивало что-то тяжелое и острое.
Но учитель не заметил этого. Он смотрел в окно, за которым бродили по грязи гуси, и думал, что эта голь не стоит его нервов и что он сегодня же напишет инспектору и потребует, чтобы тот прислал вспомогательную силу и приказал селу отстроить новую школу, так как эта не дает ему возможности развернуться и вконец разрушает его испорченное на службе отчизне здоровье. Кроме того, он предложил инспектору поохотиться в лесах графа Скшинского, где он, может быть, прислужится гостю своим дрилингом. Вспомнив о том, какие гости будут на графской охоте, пан Хрусцельский повеселел и велел детям спеть что-нибудь бодрое.
Те молчали и словно ждали чего-то.
— Спойте «Еще Польска»,— сказал он и устремил глаза на большеголовую, рахитичную девочку, сидевшую у дверей.
Она растерянно заморгала глазами, зашептала и неожиданно для себя тонким, пискливым голоском затянула:
Расти, расти, старый дуб могучий...
Сперва взразнобой, а потом дружно и громко весь класс подхватил песню о дубе, и казалось уже, что здесь ничего не произошло за минуту до того и что у вобненской детворы не быяо в мыслях ничего, кроме этого растущего дуба. Дети пели не очень стройно, но так громко, что гуси под окнами тревожно загоготали, расправили крылья, махнули ими и, едва касаясь земли, полетели на реку.
Однако песня скоро оборвалась. Пан Хрусцельский, синий от гнева, весь затрясся. Его глаза налились кровью. Он сжал кулаки, постоял минуту, точно в раздумье, затем подбежал к большеголовой девочке, схватил за шею ее и ее соседку, стукнул их головами, и тяжелые, страшные удары посыпались на груди, спины, головы детей. Пан Хрусцельский рассвирепел. Его широкий полушубок развевался по хате черными крыльями, и в воздухе, как стремительные мячи, мелькали могучие кулаки. Поднялся страшный крик и визг. Тех, кто хотел убежать во двор, учитель ловил и в остервенении бил головами о стены. Дети забивались под сани, но рука учителя находила их повсюду, выволакивала за волосы из-под саней и полуживых бросала под сапоги.
Как раз, когда пан Хрусцельский приблизился к последним рядам и нагнулся, чтобы вытащить очередную жертву, он почувствовал, как что-то острое и теплое вонзилось в его правый висок. Он выпрямился, удивленно огляделся вокруг и увидел мертвенно-бледное лицо Фединого брата. Черные глаза Миколы горели, как раскаленные угольки. В руке мальчик сжимал большой плоский камень с острым ребром. Пан Хрусцельский поднял обе руки, шагнул к Миколе, но вдруг выпрямился, напрягся и, как колода, свалился навзничь на землю. Онемевшая детвора осторожно подходила к нему, удивляясь, что он стал белый, как полотно. Когда из носа пана Хрусцельского тонкой змейкой поползла кровь, дети с криком бросились к двери.
Ветреным пасмурным днем жандармы повели закованного в кандалы Миколу в местечко. Грязные изорванные тучи плыли низко над землей, из-за них временами проглядывало солнце. Вели мальчика под вечер, и в этот вечер больше, чем обычно, звонили в церкви. Это звонили в память пана Хрусцельского. Он лежал, засыпанный бумажными цветами, на столе в комнате коменданта. У завешенного окна мерцала восковая свечка, и мутно блестел на офицерском мундире крест «Virtutimilitari»[5]. У изголовья покойника поп бормотал молитвы и одновременно обдумывал проповедь на завтра. Его старческое лицо пылало гневом. Он представлял уже себе, какими адскими муками будет грозить этой голытьбе, утратившей всякое подобие божие.
Между тем Микола уже миновал плотину и, сопровождаемый двумя жандармами, большими шагами удалялся от дома. Люди выбегали из хат и молча, пытливо смотрели на него. Потом выходили на дорогу и, перепрыгивая с камня на камень, шли позади.
У мостика, ежегодно сносимого половодьем, Микола увидел родителей и Федя. Мать обняла, поцеловала его, сунула ему в карман кусок черного хлеба и луковицу. Теснимая жандармами, она покорно подалась назад и с тихим плачем побрела по грязи вместе с толпой, к которой постепенно присоединилась чуть ли не половина села.
Вобняне шли молча, и никто не мог бы сказать, что движет ими — любопытство или сердечное участие.
Дойдя до околицы села, где кончались хаты и начиналась дорога, за которой морем разлился Сан, достигший чуть ли не самой лестницы дворца графа Скшинского, толпа остановилась и застыла. Микола обернулся на миг, тогда мать спряталась за спину своего высокого Андрия и сдавленно, грудью, всхлипывала.
Из-за облаков выглянуло солнце, и с ним вынырнул из мглы медленно, без крика приближающийся клин журавлей. Все подняли головы и, прищурившись, загляделись на стаю, а заместитель коменданта прицелился в птиц из винтовки и выстрелил. Толпа увидела, как Микола в страхе метнулся в сторону и бросился бежать. Жандармы стали кричать «стой!», но это не помогло. Микола бежал, как испуганная лошадь.
Через минуту он не слышал уже криков, как не услышал и выстрела.
Вдруг вся толпа тучей двинулась на жандармов. Помощник коменданта схватился за винтовку, но было уже поздно. Он слышал запах вобненских овчин, в глазах у него потемнело, и он, перепрыгнув через канаву, бросился вместе с другим жандармом бежать по единственному оставшемуся им пути — на Сан. На берегу они еще раз обернулись, и оба с хриплым криком кинулись в мутную быстрину. Волны закружили их, как колоду, и понесли на глубокое место.
Толпа молча стояла на берегу и тяжело дышала. На дороге голосила над Миколой Андрииха. Вобняне повернулись туда, и как раз в этот миг солнце осветило белоснежный дворец графа Скшинского, высившийся над парком двумя зубчатыми башнями. Вобняне морщили лбы и широко раскрытыми глазами смотрели на сказочный дворец. Они чувствовали, что сегодняшний день не похож на все другие дни их жизни, но случившееся сегодня было для них понятно, и они удивлялись только, что поняли это так поздно. Они видели, что солнце стоит еще довольно высоко и день еще не кончился. Они сознавали, что не смогут уже сегодня вернуться к своему труду, и поняли, что весь их труд, труд всей их жизни ни к чему не ведет, ничего не меняет, что не улучшатся и не станут просторнее вобненские земли, не родятся хлеба и никто не вымолит для них, вобнян, другой, лучшей доли. Они видели перед собой бескрайние просторы плодородных земель и За ними, в тихом парке, сверкающий на солнце дворец. Они видели ещё не вспаханный клин — из земли тянулась реденькая травка, и им захотелось пальцем поковыряться в черной, жирной земле. Вобняне двинулись на господское поле, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, потом, точно ветер подхватил их, из сотни грудей вырвался громкий крик без слов, и они грозной толпой бросились ко дворцу.
...Микола, придя в сознание, увидел рядом заплаканную мать. Он хотел зачем-то полезть в карман, но наручники мешали. Услышав журчание ручейка в канаве, он со стоном пополз к воде. Напившись, он поднял голову и увидел, что над дворцом вырос столб белого и вслед за тем черного дыма. Заходящее за холмы солнце скрылось за дымом.
Миколе больше не хотелось воды, он опустил голову на черную пашню и умер.
1932
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТРО
Передо мной новый (на 1932 год) календарь-альманах «Червоной калины», и, как всегда, каждая страничка его вопиет о крови, о безграничной классовой ненависти. Альманах «Червоной калины» задыхается от ненависти, от классовой ненависти к трудящимся.
На сто сорок третьей странице, где-то чуть ли не в самом конце объемистого календаря, затерялись две странички воспоминаний: Л. Веринский, «Над Ценивкой».
Крови здесь мало, вернее, совсем нет. Автор приступает к рассказу спокойно, без выкриков, без пафоса, просто так:
«Ценивка — маленький ручеек, текущий из Ценева неподалеку от Конюхов по узкой долине в сторону Потутор, что под Бережанами, где впадает в Золотую Липу».
Это была весна 1917 года. «Это было время радостных событий».
«Тогда на фронте началось «братание» (обязательно в кавычках.— и война для УСС [6] потеряла смысл».
«На фронте настало затишье. Только артиллерия время от времени затевала дуэль да патрули перестреливались. А по вечерам в окопах по ту сторону линии фронта раздавались песни. Наши отвечали.
Это происходило так. Какой-то неизвестный Петро выходил на бруствер и затягивал украинскую песню — длинную, протяжную. Его мягкий баритон катился эхом по лесу, очарованному сказкой весенней ночи.
— Эй, Петро! — окликали его с нашей стороны.
Петро откликался. Подходил украдкой к нашим окопам, приносил газеты. Первые украинские газеты. Какая радость!»
Была весна 1917 года, было братание, первые украинские газеты, и был Петро с той стороны. Он вставал во весь рост над окопами и затягивал украинские песни, долгие и протяжные. И больше о Петре ни слова. Был Петро, пел и носил газеты в стрелецкие окопы. Была радость, и пан Веринский забыл на радостях о неизвестном Петре с той стороны.
На фронте, у Ценивки, стояли сечевые стрельцы. Были у них старшины, и было мужичье — рядовые. С тех пор прошло пятнадцать лет, и было время позабыть многое. Мог забыть о Петре пан Веринский, могли забыть о нем солдаты. Но они не забыли. И не только потому, что Петро хорошо пел и приносил газеты. Были у Ценивки атаманы, были сотники, куренные и четари. У многих из них сверкали на груди блестящие кресты и медали, и о многих из них забыли. Но Петро, самый обыкновенный полтавский парнишка Петро, навсегда остался в солдатской памяти.
Недавно мне пришлось встретиться с бывшим стрельцом УСС, стоявшим со своей сотней весной 1917 года у Ценивки. Он читал червонокалининские воспоминания и очень жалел, что пан Веринский так мало написал о том времени.
У этого стрельца была хорошая память, и особенно хорошо он помнил Петра. И когда он рассказывал о судьбе Петра, глаза его заблестели, и я уверен, что он никогда не забудет ту весну.
Стрелец рассказал мне то, о чем умолчал альманах «Червоной калины».
«Шел уже третий год войны, а конца все не было видно. Но мы слушались своих старшин и, когда приходил приказ, дрались. С каждой неделей нас оставалось все меньше, но мы знали, что сражаемся с царской Россией, с тюрьмой народов и трудящихся, и мы бились до последнего, хотя чаще всего оглядывались назад, и тогда чувствовали, что и в том направлении устремлялась наша еще глухая и затаенная ненависть. Наши глаза видели все лучше, мы все больше понимали. Рядовые стрельцы хмурились, мрачнели; одни все чаще тосковали по дому, другие — по родне, а все — по тому, о чем тогда только робко и неясно думали и мечтали на ночных постах. Это был март, начало марта 1917 года.
Однажды мы загляделись на русские окопы. Там, в трехстах метрах от нас, поднялся необычный шум. Мы не знали, что там происходит, и удивлялись. Мы продолжали удивляться, когда на их колючей проволоке кто-то повесил флажок. Флажок был красный. Мы молча смотрели, а вдоль их окопов появлялись все новые и новые флажки, и вскоре все впереди заалело.
Только на другой день мы узнали, что у них революция.
Мы собирались толпами в окопах, по целым дням смотрели на восток и прислушивались. Ночи были лунные, и нам захотелось петь. Вот мы и затянули однажды вечером «Ой, місяцю, місячень- ку...» Кто-то выглянул и сказал, что русские вылезли из окопов. Мы встали на цыпочки и увидели за проволочными заграждениями несколько фигур. Русские стояли неподвижно, точно заслушались. Мы запели еще громче, во весь голос, и, когда кончили, месяц катился к горизонту. Мы еще раз посмотрели в ту сторону. Темные фигуры все еще стояли там, хотя песня отзвучала и было уже тихо. Месяц светил еще, и прицел был хорош, но никто из нас не отважился стрелять. Мы смотрели и словно ждали чего-то. Вдруг кто-то из них запел. Стояла такая тишина, что мы отчетливо слышали каждое слово. Это была украинская песня «Ой, у лузі, тай ще при 6epeзi, зацвіла калина». Пел один, а в глубине окопов подтягивали.
Нас удивило и пенье и то, что песня была украинская и что подхватили ее в русских окопах. Мы сразу почувствовали, что там, за вражеской проволокой, наши братья и что у них нет к нам ненависти, как не было ее и у нас. Мы хотели сказать им об этом и подхватили песню. Когда спели, месяца уже не было, и до нас донесся тот самый голос, который затянул «Ой, у лузi».
— Товарищи стрельцы, а ну еще какую-нибудь!
— Ты кто? — крикнули от нас.
— Украинец! Полтавской губернии. Петром зовут, товарищи стрельцы.
Было темно, однако мы видели высокого Петра и толпу солдат, высыпавших из окопов. Никто из наших не знал, о чем еще спросить, и снова стало тихо.
— Товарищи стрельцы! Мы больше не будем стрелять в вас — у нас ре-во-лю-ция! И царя у нас уже нету, и господ, товарищи, не будет. Мы больше не будем стрелять в вас. Да здравствует, товарищи стрельцы, революция!
Мы и тут промолчали, и только один из нас, в темноте не разглядели кто, крикнул было «Да здравствует...» — и осекся. Слишком мало мы думали до тех пор и слишком много узнали в тот вечер.
Чуть ли не до утра в окопах у нас гудело, как в улье. Мы возбужденно спорили, рассуждали. Подстаршины были того мнения, что Петра подослало русское командование, чтобы за
Весь следующий день на фронте было тихо.
С русской стороны даже артиллерия молчала. Мы уже не боялись пуль, смело выглядывали из окопов, искали глазами Петра. Вечером мы вновь услышали его голос, и началась беседа на расстоянии трехсот метров. Каждое слово Петра западало в душу; слова его были всякому близки и понятны и столько говорили нам, сколько мы не слыхали за всю нашу жизнь. Мы сознавали, что теперь все пойдет иначе, что с этих пор мы становимся совсем другими, чем были вчера, и что больше никогда уже не станем прежними. Мы слушали Петра и, оборачиваясь, встречали хмурые взгляды старшин.
Мы сговорились с Петром, что выйдем втроем, без винтовок, на берег Ценивки. Русских тоже будет трое.
Когда стемнело, они уже ждали. Тут мы впервые увидели Петра близко. Он был молодой, крепкий, красивый. Мы, как и накануне, долго говорили с ним, и он повторил все, что говорил прежде, а мы слушали и не могли наслушаться.
На следующий вечер нас пришло больше, их — тоже. Мы уже перекидывались шутками, хохотали, менялись харчами. От них получали хлеб и сало, им давали крепкий австрийский ром. Но Петро не ел и не пил, хотя старшины посылали ему самый лучший ром.
Старшины заинтересовались Петром не только потому, что он приносил украинские газеты. Адъютант полковника Кикаля Воютицкий тоже выходил на речку и внимательно слушал полтавчанина. Потом уходил в старшинскую землянку, и там шел долгий вполголоса разговор. Адъютант Воютицкий с тех пор полюбил Петра, стал приносить ему подарки, звать к себе в гости. Но Петро упорно отказывался и, когда ему совали что-нибудь в руки, говорил своим с улыбкой:
— Я не хочу, а вы, ребята, берите, ежели угощают.
Он был упорен и тверд и упорно твердил, что пора кончить войну и заключить рабоче-крестьянский мир. Среди нас были рабочие, а еще больше было крестьян. И, кажется, не было между нами никого, кто не хотел бы этого мира. Петро знал это и говорил, что, не сбросив царя, мир не заключить, что войну хотят только царь да господа и что они на рабоче-крестьянский мир добровольно не согласятся.
Мы слушали, думали и все крепче пожимали руку Петру и его товарищам. Все это видели и знали старшины, знали они и то, что никак не удается заманить Петра в наши окопы. Адъютант Воютицкий все чаще перешептывался со старшинами, а за ним, как тень, ходил командир пулеметчиков Турок.
словно предчувствовал дурное, видя все более темневшие глаза старшин. Молодой красивый голос Петра звучал за речкой над полями, и я боялся, чтобы он вдруг не замолк, чтобы Петро с товарищами не ушел от нас.полюбил Петра и возненавидел войну и первый повернул бы винтовку в грудь того, кто захотел бы возобновить битву.
Началась буйная весна. Мы каждый день встречались с русскими, и они уже заходили к нам в окопы. Не заходил только Петро. Он уже на рассвете стоял в условленном месте над речкой и ждал нас. Так было всегда, так было и в тот памятный день.
Рано утром адъютант Воютицкий вызвал четырех стрельцов и отправился с ними на речку. Те из нас, кто не спал, видели, что Петро вышел уже на свое место с тремя товарищами и говорил с нашими, обращаясь по большей части к стрельцам.тогда стоял неподалеку от пулемета, и меня удивляло, почему это десятник Турок сидит у пулемета и набивает ленту.посмотрел на речку. Стрельцы и солдаты, пересмеиваясь, разговаривали. Только Воютицкий все оглядывался, точно искал что-то глазами. В этот миг пулемет дал один выстрел. Воютицкий что-то взволнованно скомандовал, наши стрельцы отпрянули назад, и в то же мгновение пулемет дал еще очередь. Широко открытыми глазами я видел, как солдаты, точно тяжелые мешки, упали в речку. И и
Адъютант Воютицкий надвинул мазепинку на лоб и побежал к землянке. Когда я оглянулся, у пулемета уже никого не было.
Стрельцы выбегали из землянок и, бледные, смотрели на речку. Потом начался шум. Мы собирались толпами, размахивали кулаками и бросали старшинам гневные слова. Обида, жалость, ненависть овладели нами, а по окопам бродили вооруженные с ног до головы грозные и угрюмые старшины. Как много узнали мы в этот день и как мало еще тогда было среди нас таких, кто знал бы, что делать! Старшины, живые, здоровые и надутые, ходили среди нас...
Ни в этот вечер, ни на следующий, ни на третий никто не пел ни у нас, ни у них. Кто-то из наших крикнул среди ночи:
— Петро!
— Петра нету. Ваши убили! — ответили русские.
Мы молчали, и только один едва слышно ответил:
— Это не мы!..
На другое утро на реку никто не вышел. Сейчас же после пасхи нас перевели под Конюхи».
Вот что рассказал стрелец о Ценивке, 1917 годе и Петре. Не правда ли, немного больше, чем пан Веринский? Впрочем, дело не в Петре. Петров тогда было много, немало их и теперь. И то, что они подымаются во весь рост, смущает разум кикалей и воютицких. Они день и ночь наводят на Петров пушки и пулеметы и будут убивать Петров, пока имеют возможность ходить среди нас живых, здоровые и надутые.
Петро говорил, Петро пел о и...
1932
ШКОЛА
Грицко Гудало любит книжки. В его большом деревянном сундуке — целая библиотека. Там и Шевченко, и Конан Дойл, и «Моисей» Франко, и «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Каждая книжка аккуратно обернута в зеленую бумагу, на каждой старательно выведено заглавие и номер.
Все эти книжки Грицко читал уже дважды, а некоторые из них и трижды, всегда с тем самым глубоким, неповторимым волнением, на которое способны только дети.
Грицко Гуцало знает: книг на свете много, и не под силу одному человеку прочитать их все, но читать надо как можно больше, до самой смерти. Жизнь без книг представляется Грицку убогой, бессодержательной и тусклой. Это весна без цветов, это ночное небо без звезд.
В высоколобой голове этого хрупкого мальчика мыслей без числа, и не всегда он может разрешить возникающие у него вопросы. К примеру: как выстроить такой мост, чтобы по нем ходили поезда?
Как разрушить его, Грицко знает; об этом может вам рассказать чуть ли не каждый ребенок в его селе. Но Грицко хочет строить; Грицку за прожитые им годы снилось уже столько новеньких, ажурных мостов, что ими можно соединить континенты.
Вот почему Грицко так тоскует по школе. Этой тоске пошел уже четвертый год,родилась она в тот памятный Грицку сентябрьский вечер, когда из Дрогобыча пришла немецкая бумага, запрещавшая к пятый класс, и шестой, и седьмой. Для Грицка это был незабываемый удар: обида будет жить в его сердце до самой смерти.
Но настал день, когда из Дрогобыча перестали посылать немецкие бумаги,вместо них письмоносец стал приносить украинские. В одной из них было всего несколько слов, но эти несколько слов стали для Грицка всем: он снова ученик шестого класса.
Но недолго он учился. Как-то серым, осенним утром отец разбудил Грицка и сказал: «Они подожгли школу». Мальчик знал, что значит «они». Он опрометью выбежал из хаты. Двухэтажное здание школы напоминало огромный костер. Под балконом, в вихре раскаленного воздуха, раскачивался на веревке, как язык колокола, человек с курчавыми волосами. Грицко узнал своего учителя и понял, что тот никогда уже больше не подойдет к нему в классе и большая, пропахшая табаком, рука никогда уже не ляжет ему на голову.
В этот миг Грицко проклял бандеровцев.
Он стал «ястребком». Отец, старый солдат, ветеран еще первой империалистической войны, вечерами муштровал его в хате, а ранним утром водил в березовую рощу и учил стрелять.
— Ты уже настоящий солдат,— сказал он сыну через неделю,— но при мне ты станешь еще лучше. Повоюем вместе.
И они воевали. Вместе отправлялись в засаду, вместе охраняли село. Грицко ждал своего боевого крещения, и ему уже казалось, что судьба глумится над ним. Прошел месяц, а она ни разу еще не свела его лицом к лицу с «бандерой».
А срок приближался. По селу бродил страх, он заползал под стрехи и по ночам тлел в человеческих глазах блуждающими огоньками. Однажды утром в хате, на краю села, не осталось ни души,— даже двухлетняя девочка не уцелела от звериной расправы: сгусток детского мозга прилип к щеке ее зарубленной тем же топором матери. Несколькими днями позже такая же участь постигла две другие семьи.
За что? Об этом никто уже не спрашивал. Об этом люди не спрашивали уже четвертый год, с того дня, когда по селу промчался на мотоциклах первый фашистский патруль.
В начале ноября по хатам поползли черные вести: на село готовится налет. Неподалеку в лесах появилась большая банда. Говорили: бандитов тьма-тьмущая, во главе немецкий генерал.
Грицко Гуцало знал, сколько во всем этом было правды. Банда насчитывала человек двести пятьдесят, и командовал ею не генерал, а самый обыкновенный лейтенант немецкой полиции. Но и этого количества головорезов было достаточно, чтобы село сгорело дотла, а жители его пали жертвой кровавой расправы. Все зависело от того, удастся ли бандеровцам застать «ястребков» врасплох.
Грицко не спал уже третью ночь. Покрасневшие глаза нестерпимо болели, лицо набрякло от холодного, сырого ветра. Как ни боролся мальчик со сном, это было выше его сил. Он все чаще клевал носом, хотя и не сдавался — натирал снегом лоб и шею, щипал тело до боли. И стоя- на вахте, Грицко не заплакал впервые за много-много его немногих лет.
А на следующее утро на поверке командир отделения сказал ему:
— Банда отошла. Ступай, парень, поспи!
Когда Грицко проснулся, вечерело, в иных хатах мерцали огоньки, село как будто возвращалось к обычной мирной жизни. По ту сторону реки, на хуторах, стонала скрипка, и глухо бренчали цимбалы — это была первая свадьба в ту осень.
Грицку захотелось потанцевать. Наскоро пообедав, он закинул за плечо винтовку и отправился на хутор.
На мосту стоял часовой. Грицко узнал отца. Старик был не в духе. Сын не любил его таким.
— Тебя там только не хватало! Все в одну хату. Придут бандеры — как мышей вас передавят...
Грицко не ответил. Он знал по опыту: в таких случаях с отцом лучше не препираться. Вдруг мальчик вспомнил, что у него было только пять патронов. Однако возвращаться было стыдно. Отец заклевал бы его своими попреками.
Крутая тропка вела на пригорок. Мальчик окинул взглядом снежную равнину, за которой чернели леса. На едва видневшийся из-за тумана месяц наползала тучка, страшилище с лохматыми щупальцами. Надвигалась вьюга.
Снежная пустыня лежала перед взором мальчика немая и скорбная. Ничто не шевелилось, только невесомые тени туч плыли по ней, исчезая во мгле.
Порывистый ветер обжег лицо, и тут Грицко услышал что-то похожее на отдаленный человеческий голос. Это длилось один миг, вслед за тем снова зазвучала музыка и земля задрожала от ритмичного перестука каблуков, на этот раз отбивавших польку.
Грицку стало холодно, по спине пробежали мурашки. В ушах все еще звенел далекий голос. Мальчик хотел было бежать в хату — кликнуть «ястребков», но мысль, что его могут поднять на смех, сковала его движения. В самом деле — мало ли что могло ему почудиться после трех бессонных ночей?
Он ощутил что-то подобное страху. Щеки мальчика пылали от стыда. Он снял с плеча винтовку и пошел вперед вдоль полу заметённого снегом кустарника, тянувшегося по долине.
Возле дуплистой вербы над родничком он остановился. Сюда не долетали уже звуки музыки, и только ветер тихонько шумел в ветвях.
Вьюга усиливалась, стремительные снежинки кололи Грицу щеки.
Мальчик боялся одного: чтобы бандиты не подошли внезапно к хате, где пировали «ястребки». Хата стояла на отшибе, и в эту пору нетрудно было подкрасться к ней незаметно.
Правда, по всем данным, банда еще вчера отошла на север, но едва слышный оклик с равнины настораживал. Грицко знал, с кем имеет дело: эти двуногие волки были опаснее своих четвероногих братьев.
Мир окутала темень, и, казалось, разбушевавшейся снежной стихии нет ни конца, ни края. Проходили минуты, ветер крепчал. Грицка знобило. Он пробовал согреться с помощью воспоминаний о мужественных героях Джека Лондона, об отважных путешественниках, которых день и ночь жгло ледяное дыхание Севера, однако не мог забыть н о том, что их защищали меха из волчьих шкур, а на нем только подбитая ветром шинелька...
Его уже грызли сомнения. Далекий голос с полей мог быть обыкновенным эхом оклика, раздавшегося в селе и отраженного холмами. Так, верно, это и было. Грицко знал повадку бандеровцев: они были хитрее рыжих псов из книжки Киплинга и подкрадывались к своим жертвам тихо; тише, чем хорек к курятнику. Слух обманул его.
И все же он не двинулся с места: что бы там ни было, он простоит здесь до самого рассвета, борясь со стужей и сном,— иначе сердце его не успокоится. Он был солдатом и мстителем и таким останется до тех пор, пока не засияют снова огни в хатах, пока люди не смогут ходить на свадьбы с беспечальными песнями, пока топоры не примутся вновь рубить дрова вместо детских голов, а учителям не надо будет расплачиваться мученической смертью за то, что они учителя. Мальчику, как всегда в тяжелые минуты, казалось теперь, что на него смотрит весь Подбужанский район, а может, кто его знает, и вся Украина.
Музыка смолкла. Еще одна мертвецки тихая ночь легла на измученное село. Ветер вдруг прекратился, и вновь пошел снег, медленно покрывая землю ровным пластом.
Перед глазами Грицка что-то заколыхалось. «Ястребок» вздрогнул. В двадцати шагах от него появился человек, за ним другой, третий, четвертый. Пока из-за кустов вынырнул пятый, Грицко знал уже, кто перед ним. Это были бандеровские разведчики; за ними, чуть левее, в двухстах шагах отрывалась от земли цепь!
Сердце у мальчика заколотилось. Отступать было поздно, но он мог прижаться к вербе и головорезы прошли бы, не заметив его. Но за спиной у Грицка было село, малые дети, их родители, Грицко не предаст их, он и вообще не знает, что такое измена, как не знал когда-то этого слова Ричард-Львиное сердце. Пусть бандеровские пули изрешетят его, но первый выстрел даст он, и этот выстрел подымет на ноги все село.
Он недолго целился — на это не оставалось времени. Спокойно нажал спуск, и выстрел громом прокатился по холмам. Передний бандит взмахнул руками и упал навзничь. Другие залегли, но, пока они открыли огонь, Грицко успел уже занять выгодную позицию за желобком с замерзшей водой.
В затворе его винтовки было четыре патрона. Их следовало беречь. Это были последние капли воды во фляжке путника, очутившегося посреди африканской пустыни.
Пули бандеровцев злобно постукивали о корни вербы. Когда один из бандитов попробовал подняться, Гриц выстрелил вторично и — промахнулся. Выстрелил еще — с тем же результатом. Где-то слева откликнулся автомат, и после этого сразу наступила тишина.
Гриц не спускал глаз с бандитов. Они, оставив тело убитого, медленно отползали.
Грицко осторожно встал и, спрятавшись за вербу, бросил взгляд на овраг. Цепь бандитов быстро продвигалась вперед, до села им оставалось не более трехсот метров.
Дорога была каждая секунда. Низко пригнувшись, Грицко побежал вверх. Он во что бы то ни стало должен опередить бандитов!
«Неужто в селе не обратили внимания на перестрелку?» —- подумал он в отчаянии. Прицелился снова и выстрелил. Словно издеваясь над ним, бандиты не отвечали. По обе стороны тракта цепь вдруг разорвалась, и человек двадцать бандеровцев скрылись в придорожных кюветах. Они пройдут еще двести метров и молниеносным броском захватят мост. Что дальше будет, Гриц не хотел и думать. Картина пылающей школы и висящего под балконом учителя так и маячила у него перед глазами.
Мальчик чуть не заплакал от гнева и обиды. Бандиты подходили уже к реке. Месяц, выглянув из-за тучи, осветил их правый фланг на противоположном холме: там бандеровцы приблизились к первым хатам, почти на расстояние револьверного выстрела.
Грицко знал, чем это пахнет.
Ровно через минуту они скроются в садах, а еще через минуту вспыхнут первые овины и сквозь стрельбу послышатся крики истязаемых людей.
Он в ярости стукнул винтовкой оземь. Оставалось только одно — кричать. Грицко поднял уже ладони ко рту, когда над хатами взвилась ракета, а следом за нею весь край села заискрился и огласился залпами винтовок и клекотом автоматных очередей. Пулемет откликнулся, когда бандеровцы вылезли из кюветов и устремились к мосту. Их скосило первой же очередью.
Грицко был на седьмом небе. Рискуя угодить под огонь своих, он стремглав несся с холма. Через минуту «ястребок» был уже в кювете. Перед ним лежал мертвый бандит с зажатым в руке пистолетом.
Этого только и надо было Грицку: примостившись за кустом шиповника, он посылал короткие прощальные очереди вслед удирающим бандитам. А потом вместе со всем почти селом поднялся в атаку. Ветер стеснял его дыхание и глушил радостный возглас — возглас бессмертного Уленшпигеля: «Ура! Победа за гезами!..»
1945
МИССИС МАККАРДИ ТЕРЯЕТ ВЕРУ
Миссис Маккарди была необыкновенно вежлива.
— Вы спешите в Дахау? Можете ехать со мной.
Знакомство наше началось за четверть часа перед тем, и
фразы, которыми мы обменялись в бюро «лагеря прессы», носили чисто деловой характер: я искал оказии, чтобы добраться до Мюнхена.
— Очень благодарен вам за помощь.
Во время оживленного разговора мы коснулись темы недавно законченной войны.
— Мы верили в эту войну: скептицизм — не американская черта характера. А сегодня... сегодня я боюсь, что из этой кровавой купели мы вышли грязнее, чем были когда-либо прежде.
Я не совсем понимаю мою соседку.
— Боюсь, что мы с вами говорим на разных языках, миссис. Если бы не отвага солдат Сталинграда,— кто знает, не везла ли бы сегодня «Куин Мери» в какой-нибудь из европейских портов очередной груз уже американского топлива для крематориев Дахау и Освенцима. Нет, миссис Маккарди, ваш сын погиб не напрасно.
— Спасибо! — бросила она сухо.
Мы долго молчали, не отрывая глаз от дали, откуда надвигались на нас грозные лесистые холмы, которые затем, приблизившись, расступались и таяли, как вчерашний сон. Наконец мое любопытство пересилило.
— Я осмелюсь напомнить, миссис, что вы не поставили точек над и. Может быть, вы имели в виду Индонезию?
— Ох, сэр! Не напоминайте мне в такое чудесное утро о наших английских родичах. Узнав, что о них так много говорят, они еще чего доброго лопнут от спеси. Другое дело, что это, вероятно, был бы наилучший выход из создавшегося положения.
— Это голос шотландской крови?
— Нет — американской. Шотландская фамилия досталась мне от мужа... Вы, кажется, могли уже не раз наблюдать взаимоотношения между нашими джи-ай и томми[7].
— Да, это взаимная «блестящая изоляция».
— Я назвала бы это иначе, но пусть будет по-вашему. К вашему сведению, меня тревожит не английская политика. От британского аристократического вола наивно было бы требовать чего-нибудь большего, чем кусок тухлого мяса.
— В большинстве случаев эту политику трудно отличить от американской, не так ли?
— Вы угадали. Больше всего раздражает, нет, бесит меня, когда я слышу или читаю эти нестихающие комплименты наших нынешних светил над могилой президента, поклявшегося избавить человечество от войны, нищеты и страха. Это уже нечто худшее, чем лицемерие, это цинизм.
Возмущение миссис Маккарди содержало все элементы искренности: ее голос сливался теперь с гневным рокотом мотора, преодолевавшего подъем.
Немного погодя она добавила:
— Печальнее всего то, что народы не видят трагизма ситуации или не хотят его видеть.
— Народы здесь ни при чем, миссис.
Миссис Маккарди иронически оттопырила губку.
— Если смотреть с высоты ваших принципов, быть может, это и так. Но позвольте мне иметь было слышать это «собственное») мнение; мнение, рожденное в конце концов юнрровским опытом.
Разговор становился интересным. Я счел необходимым поспешить собеседнице на помощь.
— Надеюсь, вы согласитесь со мной, что этот юнрровский опыт дорого обходится народам, и боюсь, обойдется еще дороже...
— Несомненно. Есть святыни, которыми нельзя торговать безнаказанно.
— Таким способом можно утратить не только моральный кредит...
Она покосилась на меня:
— Можно утратить, говорите? Он уже утрачен. Особенно после скандала в Дахау.
— В Дахау? За Дахау отвечают сегодня нюрнбергские обвиняемые.
— А впоследствии мы все ответим перед судом истории.
— Вы, очевидно, имеете в виду Мюнхен и его результаты?
— Нет, сэр. Я говорю теперь о Дахау и обо всем, что произошло там после ликвидации лагеря. Не удивляюсь, что вы успели уже забыть об этом. А я не забыла и не забуду, что американские солдаты нарушили священное право убежища. Надо было видеть, как эти люди плакали и рвали на себе волосы, когда их передавали вашим властям!
Я не верил своим ушам.
— Миссис Маккарди! Вы проливаете слезы над...
— О, еще бы, над коллаборационистами, предателями, или как вы их там называете. Однако для меня, американки, они прежде всего люди, страдающие люди. К тому же не забудьте, сэр, что война ведь уже кончилась.
Логика моей собеседницы была достойна ее этических принципов.
— Вы ошибаетесь, миссис. Еще не кончилась, ни в коем случае не кончилась война против уцелевших камелотов[8] достаточно известного вам Адольфа Гитлера и против...
— ...идиотов, вы хотели сказать? Спасибо.
— Не за что. С идиотами было бы не так уж трудно справиться. Хуже, когда этих камелотов протежируют няньки вроде вас, миссис.
— Ваша склонность к эпитетам, сэр...
— Менее, наверняка менее опасна, чем ваша забота о последышах нацистского дьявола. Впрочем, могу вас успокоить: американцы выдали всего несколько десятков предателей и то лишь потому, что те в прошлом стреляли по вашим джи-ай. Основная же масса, несколько сот тысяч этих негодяев, все еще пребывает под вашей любвеобильной опекой.
— У вас, должно быть, нетерпимость в крови, если вас не волнует даже судьба несчастных детей.
Я не успел ответить. Внезапно заскрежетали тормоза, и миссис Маккарди остановила машину перед двумя молодыми джентльменами в американской форме (без знаков различия) и с красно-белыми ленточками на груди. Оба джентльмена показывали пальцами на небо.
— Садитесь,— сказала с материнской улыбкой миссис Маккарди.
— Данке шейн! — ответили джентльмены с чистым галицийским акцентом и сели в машину.
Меня удивило, откуда они взялись в этой безлюдной местности.
— Вы где живете? — спросил я.
Украинская речь не произвела на джентльменов никакого впечатления. Один из них, шатен, с широким шрамом на щеке, лениво ткнул пальцем в сторону леса. И в самом деле, в перелеске можно было разглядеть трехэтажный дом казарменного типа, весь увитый, точно плющом, гирляндами полуголых загорелых тел. Эта картина заметно смутила мою спутницу, и ведомая ее рукою машина чуть не врезалась в ограду из колючей проволоки.
— Если не ошибаюсь, миссис Маккарди, это ваши воспитанники...
На лице ее проступило нечто подобное румянцу.
— Вы не ошибаетесь.
— Не считаете ли вы, что безделье не самый лучший способ воспитания?
— Этот вопрос я прошу вас задать кому-нибудь другому.
— Кому?
— Ну хотя бы даже командованию третьей армии ЮНРРА, которое, к сожалению, заботится лишь о телесных потребностях перемещенных лиц.
Должно быть, миссис Маккарди чувствовала себя неловко.
— Не надоела вам такая жизнь? — спросил я у наших пассажиров.
— Какая именно? — переспросил полный брюнет мелодичным львовским говорком.
— Безделье.
— Нет.
— И так до самой смерти?
— Мы еще не собираемся умирать.
— О нас думают американцы,— прибавил шатен.
— И что же они придумали?
— Говорят, что нас еще подкормят немножко, а потом поедем в их армию, в Японию или еще куда-то. Обещают нам американское подданство после трех лет службы.
Я лояльно переводил миссис Маккарди все, что говорили «перемещенные» джентльмены.
— Вы поляки?
— Нет,— ответили дуэтом пассажиры,— мы украинцы. Поляков уже взяли в охранную роту. Там они охраняют американское имущество.
Справа от дороги тянулось огромное поле, ощетинившееся сотнями, тысячами пушечных стволов. У входа стоял сторож этого монументального склада в американской каске с польским орлом.
— Сервус, Ясь! — крикнул ему брюнет и, обращаясь ко мне, сказал: — Это из «бригады Святого Креста» НСЗ[9]. Как пришли год назад из Польши целым подразделением, так и служат подразделением.
— Холерические парни,— уточнил информацию шатен.— Поссорятся за картами и сразу — в ножи.
— А вы?
— Мы на деньги редко играем. ЮНРРА мало платит.
— А можно ли узнать, почему у вас на лацканах ленточки польских цветов?
— Нам сказали, что так лучше — большевики не будут иметь на нас прав.
— Кто же мог вам так сказать?
Миссис Маккарди торопливо прервала нашу беседу:
— Боюсь, сэр, что вы злоупотребляете болтливостью простодушных ребят. Неужели вы не хотите понять, что интеллектуальный уровень этих парней ни в какой степени не соответствует вашим, мягко говоря, чрезмерным требованиям? Я уже не говорю о том, что ваш способ задавать вопросы напоминает следствие. Неужели вы даже здесь, где господствует американское право, не можете простить этим симпатичным парням, что они по-своему понимают и любят свободу? Разве вы...
— Ви шпет ист ден?[10] — прервал поток ее красноречия брюнет.
Миссис Маккардирукуруля, и на солнце блеснуло золото ее часов.
— Двадцать пять десятого,— ответила миссис с материнской улыбкой.
Не успели мы проехать и двухсот метров, как брюнет, стараясь, должно быть, показать свое пристрастие к американским манерам, фамильярно потрепал миссис по плечу.
— Стоп,— крикнул он, и машина послушно остановилась.
На этот раз джентльмены решили блеснуть манерами нашего полушария. Сперва шатен, затем брюнет припали к ручке миссис Маккарди. Выглядело это очень мило. О, миссис Маккарди прощалась со слезами на глазах.
Внезапно она вспыхнула и, оторвав взгляд от молодых людей, скрывшихся в глубине придорожного леса, устремила глаза на меня. Это не предвещало ничего хорошего.
— Теперь я понимаю, почему вас не любят! — прошипела она.
— Меня?
— Всех вас! Ведь в каждом из вас сидит фанатичный Торквемада, не способный понять, что и в груди еретика может биться благородное сердце.
Она произнесла эти слова с убийственным сарказмом.
Джип летел, как стрела.
— Передержка, миссис. Во-первых, ни павеличи, ни бандеробцы не напоминают мне ни одного известного из истории еретика. Разве если назвать еретиком Иуду Искариотского.
— Как всегда — неоригинально. А во-вторых?
Жестом подверженной сплину королевы она поправила левой рукой волосы. Эта рука вдруг приковала мое внимание.
— А во-вторых? — повторила она.
— А во-вторых... Где ваши часы?!
Вопрос произвел эффект, который образно можно было бы назвать «коротким замыканием». Джип издал тихий звук, нечто вроде «ой-ой-ой! ой-ой-ой!» и стал, как вкопанный, а глаза его владелицы погасли и заволоклись туманом тихого отчаяния. К чести миссис Маккарди, она не делала того, что сделали бы на ее месте другие женщины: не смотрела под ноги, не искала в карманах, не переворачивала подушек. Она скорее напоминала жену Лота после известного библейского происшествия.
Однако несколько позднее женщина все же воскресла в ней.
— Что же вы сидите? Бегите за ними! Тоже рыцарь!
— Хорошо. А у вас есть оружие?
— Нет. А что?
— Да ведь здесь недалеко еще один лагерь ваших воспитанников. Я бы не хотел оставлять вас одну на дороге.
— Вы правы...— услышал я впервые за все наше знакомство.
Миссис Маккарди молча утирала слезы. Джип с глухим стоном тронулся.
Оглянувшись, я заметил на том месте, где только что сидели «симпатичные парни», смятую газету. Это был последний номер издаваемой на украинском языке в Фюрте газеты «Время». Страницы этого органа были переполнены антисоветской бранью, святочными пожеланиями по адресу бандеровских головорезов и уверениями в том, что новая, третья война — вопрос ближайших месяцев, если не недель. На четвертой странице внизу внимательный читатель мог увидеть два набранных скромным петитом слова: «Издает ЮНРРА».
— Что вы читаете? — слабым голосом спросила миссис Маккарди.
— Вашу газету.
— На каком языке?
— На украинском. Надо сказать, что ваши польские газеты выглядят импозантнее: нюрнбергское «Письмо жолнежа» плюется на целых шестнадцати страницах. Как видите, ваша организация удовлетворяет не одни телесные потребности своих перемещенных подопечных.
— Мы даем им только бумагу и деньги.
— То есть то же самое, что тиссены и гугенберги давали в двадцатых годах Гитлеру. С известным вам результатом. Кроме того, вы забыли, вероятно, уважаемая миссис, о мюнхенском «университете» ЮНРРА...
— К вашему сведению, я помогла его организовать.
— Можно знать, миссис, по чьему заданию?
Миссис Маккарди нервно пожала плечами.
— Ваш вопрос удивил бы меня, если бы я за время этого маленького путешествия не утратила способности удивляться...
— Ага, Юпитер сердится... Это тоже ответ. А можно узнать, почему ректором этого университета стал герр Пфицмаер? Вы, случайно, не имели отношения к его назначению?
— Вы переоцениваете, решительно переоцениваете мою компетенцию, сэр!
— Хорошо! А на подбор преподавателей вы также не оказывали никакого влияния? И если даже нет, то что вам мешало узнать, что большинство этих преподавателей — люди, так или иначе связанные с гитлеровским режимом?
Миссис Маккарди молчала. Казалось, все ее внимание было теперь сосредоточено на машине.
— То же самое, точь-в-точь то же самое следует сказать и о ваших «студентах», миссис. Вы содрогались, читая об истязуемых народах, а сегодня с ласковой улыбкой подносите их убийцам хлеб-соль и за отбираемые у ваших и не ваших граждан деньги кормите их, одеваете и печатным словом помогаете популяризировать религию массовых душегубов. А теперь еще И университет! Дорогая миссис Маккарди, не проще ли было бы перевезти его студентов в Вашингтон, непосредственно в школу шефа «Федерального бюро расследований» мистера Гувера, вместо того чтобы инсценировать идиотскую комедию с «университетом»? Инсценировать на деньги, буквально украденные у сирот, родители которых погибли от рук ваших «преподавателей» и «студентов»?
Миссис Маккарди все еще молчала, только ее вдруг заострившийся профиль показывал, что у нее в сердце носилось сто фурий.
— По статистическим данным, в «университете» насчитывается восемьсот сорок семь студентов «украинской национальности — польских граждан». Как вам известно, Западная Украина — составная часть Советского Союза и ее жители уже семь лет назад перестали быть гражданами Польши. Это факт, санкционированный перед лицом всего мира также и Вашингтоном. Однако ваши власти в Европе как будто и не подозревают об этом и перекрашивают этих гитлеровских ландскнехтов в бело-красный цвет с таким же азартом, с каким ваши гангстеры перекрашивают украденные автомобили. Далеко ли заедут ваши комбинаторы на этих автомобилях — не наша забота; меня в этом случае волнует нечто другое: бесцеремонное расшатывание международного права, беспримерное издевательство над элементарными принципами сосуществования народов, к тому же народов дружественных, тех, что еще вчера шли плечом к плечу на штурм фашистской Бастилии. Хотя нет, простите, я сказал «беспримерное». Это не совсем так. Прецеденты были, их создала известная троица: Гитлер, Геринг и Риббентроп...
— Вы говорите таким тоном, сэр, словно мы не только никогда не шли вместе, а собрались завтра воевать между собой.
Миссис Маккарди процедила это с такой миной, как будто все мосты между нами были уже сожжены, а ей оставалось только поднять брошенную мной перчатку.
— Прошу извинить меня, миссис, если мой словарь отличается от словаря покойной маркизы Рамбулье. Но стоит перелистать один номер нью-йоркского «Тайма», когда там пишут о нас, чтобы забыть о версальских манерах... Что же касается войны, «третьей войны», то вряд ли ваши комбинаторы отважатся ее начать. Ведь и они уясняют себе, что у атомной бомбы два конца и что до сих пор еще неизвестно который из них был лучше...
— Это звучит как угроза!
— Нет, как предостережение.
— И все это из-за этих жалких «ди-пи»[11]?
— Жалких? Я вижу, что даже дамские часики могут иногда послужить пособием для изучения истории. Суть дела не в «ди-пи», они лишь симптом.
— Назревающего конфликта?
— Нет, назревающего разложения. Вы знаете не меньше, если не больше, чем я, хотя ваши уста и сомкнуты печатью сговора.
— Позвольте! Сговора?
— Да. Иначе нельзя назвать то, что здесь творится. А что творится, вы и сами знаете. Вашу армию разъедает спекуляция и праздность. В созданной вашими заправилами моральной атмосфере трудолюбивые, честные янки на глазах превращаются алкоголиков и громил. Вы загадили в глазах джи-ай военный мундир, ибо, прикрываясь им, делаете все что угодно, кроме того, чего джи-ай ждал, надевая его перед отправкой в Европу на смертный бой с фашизмом. Теперь он видит, как вы нянчитесь с недобитыми фашистами, как позволяете им спекулировать и красть, как воспитываете их методом почти принудительного безделья, как даже тех из них, кто попал в Германию, конвоируемый штыком гитлеровского жандарма, и хотел бы вернуться домой, к труду, отдаете в жертву своре квислинговских террористов. Охваченные жаждой капиталистической наживы и страхом перед утратой возможности наживаться, вы вместе с англичанами создаете в Европе резерв фашизма, создаете его на немецкой земле, в этой колыбели нацистского сатаны, в этом очаге и рассаднике самой страшной инфекции. Предоставив джи-ай самим себе, вернее джинну и всем смертным грехам, вы творите по методам гестапо и «ОВРА» другую армию, армию на все готовых политических гангстеров, которым предстоит продолжать в своих странах начатую с благословения Гиммлера кровавую работу, на этот раз в интересах ваших империалистов. Ваши и канадские власти готовы даже пустить часть этих гангстеров в свои страны, ведь их прошлое и настоящее дает гарантию, что в них ваши комбинаторы получат преданнейшую гвардию, готовую устроить хоть и все триста шестьдесят пять варфоломеевских ночей в году.
— Любопытно! Варфоломеевских ночей? У нас? А где же вы видите наших гугенотов?
Бледная гримаса на лице миссис Маккарди указывала на ее желание улыбнуться.
— Где? Во всяком случае, не в династии Гуверов. Да неужели вы думаете, что надо идеализировать американский народ, чтобы не потерять веру в него, в простых, трудовых людей Америки?
Этот вопрос остался риторическим. Миссис Маккарди молчала. И, только когда в разогретом воздухе замелькали башни Мюнхена, она скромно откликнулась:
— Вы вспомнили о вере. Можно узнать, где этот феникс водится? Может быть, тоже в Египте?
— В Египте наверняка нет; там британский лев оставил бы от него одни перья.
Джип весело запрыгал по распаханной бомбами улице. Мы приближались к перекрестку, где я должен был попрощаться с моей спутницей.
— Я искренне завидую вам всем,— сказала она.— Если у меня и оставались какие-то клочья веры в человека, то их смешал с землей снаряд, растерзавший моего Келли-. И, вероятно, именно поэтому я служу не столько ЮНРРА, сколько... Вы меня поняли, сэр?
Миссис Маккарди смотрела так, точно искала в моих глазах сочувствия.
— Сколько одному из династии Гуверов, да? Я вас понял, миссис Маккарди...
ПЬЕСЫ
99 % (Пьеса в четырех действиях)
адвокат.
его жена.
его помощник (конципиент).
греко-католический священник, депутат польского сейма.
секретарша у Помыкевича.
Гости Помыкевичей:
Пыпця
Рыпця
Душкова
Помыкевичей.
Действие происходит во Львове в 1930 году.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
В канцелярии адвоката Помыкевича. Справа за столом Дзуня, слева пишет на машинке Леся. По комнате ходит Помыкевич и диктует ей.
ч-ч-ч-ести заверяю вас, что только благо моих клиентов и украинской нации руководило мной во всей моей...
Дзуня. Войдите!
Пожалуйста.
Душкова. Мое почтение...
Дзуня. Здравствуйте.
Целую вашу ручку! Пани Душкова! Целую ручку! Очень приятно! Пожалуйста! Вы, наверное, по делам...
Да, пане. Да, пане меценат, я по делу...
Пожалуйста, принесите мне дело двенадцать тысяч семьсот четыре.
Дзуня лениво перебирает бумаги. Обращается к Душковой.
Все как нельзя лучше, милостивая пани, как нельзя лучше. В ближайшие дни вашему сыну будет вручен обвинительный акт.
Но вы... вы же, господин адвокат? на прошлой неделе говорили то же самое...
Я ходил к прокурору по этому делу. Да-да! И не раз. Да-да! Милостивая пани, ходил! Хотя дело, знаете... но все-таки, хотя он и коммунист, но украинец, я уверен,— сердце у него украинское, мы ведь все, милостивая панииспользуем, одним словом, все возможное, чтобы правда победила и ваш сын оказался на свободе, уважаемая пани!
Всю жизнь буду вам благодарна, господин адвокат.
Я выполняю только свой долг, как патриот- украинец.
Благодарю... Всего доброго.
До свидания.
Целую вашу ручку, добродетельная пани!
Ува...
В прошлый раз заплатила?
В этом месяце всего десять... двадцать злотых.
Добродетельная пани! Добродетельная пани! Задержитесь еще на минутку! Еще одно важное дело. Да, да, по делу сына. Добродетельная пани! О да, да, даже очень важно. А как же? Для вас, пани? Как? Отсюда вам кричать во все горло, добродетельная пани? Извините, но это... Не верит ч-ч-чертовая ведьма!..
Дзуня. Наверное, у нее есть на то основания, меценат?
Вы говорите, у нее есть на то основания?
Пане меценат, не будьте скромны...
Пане, я вас не совсем хорошо понимаю.
Зато мы кое-что хорошо понимаем, дорогой пане меценат... Не так ли, панна Леся?
И вы еще смеете говорить от имени панны Леси?
Дзуня. Не так ли, панна Леся?
Да, Дзуня...
Да?
Пане Дзуня...
Я вижу и слышу все, панна Леся.
Я тоже вижу все...
Бедный пан меценат... Вам не жаль его, панна Леся?
Мне... Да!
И вы... вы тоже? Даже вы?..
Интересно! Что это за «даже». Панна Леся, меценат чувствует к вам особую жалость...
Пане Дзуня, вы хотите...
Только ради шутки хочется немного залезть языком в семейные дела мецената.
А вы, я это знаю, вы не только языком ко мне влезли!..
Извините, это ваше неуважение к собственной супруге...
Это ч-ч-черт знает что такое!
Да, я вполне с вами согласен. Это действительно черт знает что такое. «Не питай, чого в мене заплакані очi...»
Пане товарищ, перед вами ваш шеф!
Мне очень приятно, да вы, кажется, имели уже честь мне представиться. Панна Леся, вы не припоминаете?
Помыкевич. Панна Леся, вы должны к двенадцати быть В суде и не забыть о гербовых марках. А мы тем временем с вами поговорим!
У меня тоже к вам будет маленькое дельце.
Пане меценат... господа... если вы это из-за меня...
Что тогда?
Что тогда, голубушка?..
Тогда... тогда... мне было бы очень неприятно.
Дзуня. Успокойтесь, панна Леся, меценат не сделает мне ничего плохого, потому что знает, что это было бы для вас очень неприятно.
П о м ы к е в и ч. Идите, панна Леся!
Леся. Это было бы для меня...
До свидания, милая Леся!
Милая, славная девушка. Я завидую вам, меценат.
Это оч-ч-чень мило с вашей стороны.
Благодарю за признание.
Сегодня я окончательно решил отблагодарить вас за ваше сотрудничество! Сегодня мы, пане Шуян, распрощаемся.
А я другого мнения, пане меценат!
Что все это значит?
Это значит, что не распрощаемся сегодня, господин меценат...
Знаете, пане Шуян, я всякое в жизни видел, но такого отъявленного наглеца, как вы, даже во сне видеть не приходилось. При таком жаловании, какое вы получаете, другой чувствовал бы себя по крайней мере удовлетворенным.
А я нет.
Я это знаю. Вы хотели бы еще особых прибавок. А позаботились ли вы об этом сами?
Вполне возможно... Но это не связано с вашей неблагодарностью, меценат. Однако, я думаю, это не столь важно.
Извините, но это очень важно, хотя бы и потому, что ваше поведение исключает возможность вашего дальнейшего пребывания в моем...
Доме?
Да, и в канцелярии!
Вы чрезмерно строги.
Больше всего меня поразило в вас полнейшее отсутствие, заметьте себе, уважения к человеку, который всю свою жизнь отдал народу.
Всю жизнь, а я и не знал. Как жаль, что не приходится читать старых календарей!..
Правильно. Вы бы из них многое почерпнули для себя, молодой человек!
Даже и о деле с векселями в тысяча девятьсот восьмом году?
Довольно! Приходите завтра, я вам выплачу за три месяца! До свидания.
Одну минутку! Как бывший председатель «Нашей школы» будьте признательны мне за то, что благодаря мне стало, извините, скоро станет всем известно дело, которое наложило темное пятно на это уважаемое сообщество и его учредителей. Но об этом как-нибудь в другой раз. Не правда ли?(Берет шляпу.)
(Бежит в столовую, в дверях встречается с Дзунем.)
(Подает ей руку и вместе уходят в столовую.)
(Нервозно ходит по комнате.)
(Шепчет ему что-то на ухо.)
(Вытаскивает из кармана одни часы, затем другие, третьи и четвертые.)
(прячет кошелек обратно в поповский карман).
(Выводит отца Румегу за двери и открывает двери в канцелярию.)
(рассматривает снимок и, приоткрыв дверь, зовет).
(открывает дверь в столовую).
(Поворачивается в сторону Дзуни.)(Обнимает и целует Дзуню.)
(показывает снимок).
ее.)
«ПОД ЗОЛОТЫМ ОРЛОМ»
(записывает, не спуская глаз с Белина).
(после короткого колебания).
(Мелкими шажками семенит на свое место.)
хлопая глазами).(Утирает глаза платочком.)
(берет деньги).(Садится около Цуповича, еще раз считает деньги.)
(машинально разглаживает ладонью деньги).
(не слушая).
(вытаращив глаза).
(Хочет встать, но Белин насильно усаживает его обратно.)
(до сознания которого очень медленно доходит смысл слов Цуповича. Наконец он понял, тяжело поднялся и тучей навис над Цуповичем).
(съежился от страха, глаза его беспокойно забегали. Все говорит за то, что он не ожидал такой сильной реакции.)
(Открывает чемодан.)
(Белину).(Отходит от стола.)
(достает из кармана наручники).(Замечает, что часть перемещенных отгораживает его от Андрея.)
(Подходит с наручниками к Андрею.)
(показывая на Андрея и Анну).
(кивнув головой, записывает в блокнот).
(Норме).(Кивком головы показывает на Белина и Цуповича.)
(показывая кинжал Белину).
(берет кинжал).(Протягивает кинжал Цупович у, который рассматривает его и рассекает им несколько раз воздух.)
(Перебрасывает кинжал, Андрей ловит его на лету и прячет в карман.)
(почесав подбородок).(Повернулся грудью к стойке.)
(откусил и выплюнул кончик сигары: пытается казаться спокойным).
(достает из кармана золотую зажигалку и зажигает сигару Белина).(Играет зажигалкой.)
(фрау Мильх).
(едва переводя дыхание).
(вытирает кружки дольше и энергичнее, чем это надо).
(постаревшим голосом).(Засунув руку в карман пальто, опустил голову, потом поднял ее и посмотрел на Анну.)(Вынул из кармана горсть монет, подбросил их на ладони.)(Спрятал деньги и, застегнув пальто, медленно пошел к двери.)
(Бежит по ступенькам, но не успевает добежать до верха.)
(платит за пиво).(Ставит перед ним кружку пива.) (Кивнула головой в сторону улицы.)
(удивленно посмотрел на нее и нахмурил брови).
(Положил на ее руку свою.)
(входит, замечает кинжал).
(худощавый, туберкулезный юноша в старом, заплатанном, но чистом комбинезоне и американской пилотке. Вспыльчивый, в контрасте с его подвижностью только спокойные, печальные глаза).
(мечтательно).
(вздыхая).(Достает из кармана клещи и, ловко вскочив на стол, выдергивает из одного конца транспаранта гвозди.)
(указывая на бутылки).(Снимает пальто, вешает его на стенку, аккуратно складывает пилотку и прячет в карман, потом подходит к столу, садится и достает из кармана связку ключей.)
(официальным тоном).(Достает из ящика газеты и вытирает стол, потом снимает с бюста Гете каску.)
моет руки виски).
(энергичным движением закрывает окно).
(Смотрит на часы).
(разводит руками, отчего его шляпа сползает с колен, и он то и дело подхватывает ее).
бумагу, и кладет перед Петерсоном, который вынимает из него большое жемчужное ожерелье).
(превозмогая страх).(Встает и протягивает руку за жемчугом, однако Петерсон торопливо накрывает его рукой.)
(вытирая платком лоб).
(встает, открывает сейф. Еще раз посмотрев на жемчуг, старательно завертывает его и прячет в кассу. Швыряет деньги на стол).
(считает деньги, потом говорит тоном примирения).
(закурив сигарету, ложится на кровать).
(лениво поднимается и разговаривает уже сидя).
(пробует пить пиво, но из этого ничего не выходит, оно ей не нравится).
(Бросается к нему.)
(после короткого колебания достает конверт, кладет его на стол и прикрывает ладонью).
(не спуская встревоженного взгляда с Андрея).
(взволнованно смотрит ему вслед, потом медленно приближается к Анне).(Хочет схватить ее за руку.)
(закрывает правой ладонью глаза.)
(вперив взгляд в дверь, за которой недавно исчезла Анна).
(Выпивает и быстро уходит на улицу.)
(вскочив с места).
(взглянув на Боба).(Опять взглянув на Боба.)
давали ключ?
Земля дрожит от тяжелого танка, который проходит мимо трактира «Под золотым орлом».
Слышно, как приближается второй танк.
Помещение контрразведки. По радио передают песню «Тихая ночь, святая ночь» по-английски. Майор сидит около натопленной печки и читает Библию. На его носу очки. За окном — на крышах свежий пушистый снег. Читая, майор медленно шевелит губами. Телефонный звонок. Петерсон встал, положил Библию на стол.
Боб быстро отстегивает кобуру с револьвером и через всю сцену бросает его на стол.
Боб стоит секунду спиной к Петерсону, потом быстро уходит. Том идет за ним. Петерсон явно взволнован. Он хочет - куда-то звонить. Но тут же кладет трубку. Подумав, он подходит к дверям и широко распахивает их.
Пущенный рукой Петерсона серебряный ангелочек затанцевал на елке. Петерсон подходит к столу и прячет в ящик револьвер Боба.
Ага!.. Так, так... Браво, лейтенант! что же думаете делать?
я взяла на себя, позорная роль, но я не могла поступить иначе. Я хочу предупредить это убийство.
Хоть бы Анна была жива, а то и ее, бедняжку, не пожалели. Цивилизаторы!..
Норма крепко пожимает его руку.
«Под золотым орлом». Пасмурная погода. Фрау пишет за стойкой. Очки еле держатся на конце ее носа. За последним столом справа сидит он без пояса и оружия, на голове вместо каски помятая пилотка. Боб спит, закрыв голову руками. Перед ним пустой стакан. Входит бой из отеля.
останавливается и молча подносит пальцы к пилотке. Норма, стараясь казаться спокойной, садится к столу с левой стороны.
(Быстро выходит за Белиным на улицу.)
(опускает монету в музыкальный ящик).
Лука поднялся сегодня раньше всех.
Я привела коня. Отец Юлиан просит извинить за опоздание: он ездил исповедовать больного.
Мыкола распахивает дверь и выскакивает на крыльцо. Доносится размеренный цокот копыт. Отец Юлиан зашатался и оперся рукой о печь.
Иван поднимает газету, кладет на колени Мыколе, берет с кровати подушку-думочку и бережно подкладывает ему под голову. На галерейке появляется Параска.
Входит в длинной темносерой пелерине с капюшоном, в черном платье. В руке у нее — туго набитый клеенчатый портфель. Она подходит к постели, снимает шерстяное одеяло и с помощью Параски окутывает им колени Мыколы. До конца действия все говорят вполголоса.
По ступенькам поднимается среднего роста, шатен двадцати восьми лет. Под его высоким бледным лбом — густые брови, как у отца. На щеках — почти девичий румянец, молодящий его. В жестах и словах еще более сдержанный, чем Иван. Он одет в короткий гуцульский кафтанчик и военную форму без знаков различия. Небольшая шляпа такого же покроя, как у отца, лишь поля ее молодецки отогнуты. На ногах — ладно сшитые хромовые сапоги.
Семен целует руку Варваре, здоровается с Параской, потом смотрит на Штефана жестким взглядом. Тот вытягивает голову, как бык перед атакой, пробурчав что-то, неуверенными шагами направляется во двор.
не отрывает глаз от удаляющегося потом вытирает кулаком слезы и бежит за ним. Мыкола шевелится во сне; газета с шелестом падает на пол. Под доносящиеся звуки школьного звонка опускается занавес.
Та же обстановка, только солнце уже светит справа. Высоко над горами повисли золотые барашки. На кресле, где в первом действии спал Мыкола Воркалюк, развалившись храпит Прозвенел звонок. Открылись двери, и со двора степенно входит Увидев Федора, он ускоряет шаги, подходит к спящему и тормошит его.
Со двора вбегает за ней —
постояв минуту, опускает кулаки, сгибается в три погибели и опрометью выбегает из хаты. Варвара подходит к бабе Олене.
Варвара быстрыми шагами ходит по хате, похрустывая от волнения пальцами. Потом хватает пелерину и портфель и направляется в свою комнату.
Параска отворачивается. Отец Юлиан подходит к ней, гладит ее по голове и направляется к выходу. На пороге своей комнаты стоит Она в клетчатом костюме и пестрой гуцульской безрукавке нараспашку. хочет ей что-то сказать, показывая рукой на Параску, однако, передумав, молча уходит.
Параска после короткой паузы бросается с рыданиями к ногам Варвары; цветы рассыпаются по полу.
Параска, подойдя к ней вплотную, поднимает на нее глаза и внезапно отворачивается. Варвара берет ее за кисть здоровой руки. В этой позе и проходит диалог.
Они не услышали, как появился с уздечкой в руках. Увидев их, он крякает; Лука и Варвара отскакивают друг от друга. Мурлыча свою песню, Мыкола вешает уздечку, шляпу и куртку, подходит к фисгармонии и с грохотом опускает ее крышку.
Варвара ставит на стол тарелки, ложки и два горшка, потом кладет каждому в тарелку жидкой каши, наливает молока.
На пороге останавливается вошедший Из-под его распахнутого кафтана выглядывает дуло автомата.
На пороге появляется Он без шляпы и без палки. Увидев его, отворачивается, стремясь скрыть слезы, потом быстро уходит в свою комнату.
Варвара осторожно перебирает содержимое узелка. Входит ка и дает Варваре бумажник. Варвара выкладывает его содержимое на стол, перебирает документы, потом отделяет от них орденские книжки.
Стемнело. Та же обстановка. Из своей комнаты быстро выходит и направляется к выходу. На крыльце она сталкивается Иван — с винтовкой.
Семен — с автоматом.
Оба садятся. Иван набивает чубук табаком и закуривает. Входит и берет с припечка подойник. Увидев в дверях Мыколу с оружием в руках, она испуганно отшатывается, вскрикивает, потом выбегает из хаты.
Семен встает и спокойным шагом подходит к двери, выходящей во двор.
Его надо тоже выследить!
Иван взглядом показывает Мыколе на Параску.
Параска, встрепенувшись, впивается глазами в Семена.
Открывает дверь своей комнаты, пропускает Параску. Параска обнимает ее и громко целует в щеку. Варвара прикрывает за ней дверь и направляется к выходу. На пороге ее встречает
Лука трет ладонью лоб, потом спокойным, усталым шагом приближается к фисгармонии, усаживается на вертящийся стульчик и берет несколько аккордов, из которых снова возникает лейтмотив из оперы «Долина». В музыку д'Альбера вплетается немецкая маршевая мелодия. Лука не замечает появления и, только когда тот зажигает лампу, обрывает игру, резко поворачивается к Штефану и следит за его движениями. Штефан закрывает двери, оглядывается и подходит к Луке.
подается назад и слушает сквозь приоткрытые двери.
Лампа колеблется в такт тиканья часов.
Декорация та же. Тускло горит лампа. В окно заглядывает ущербный месяц. Раздается трехкратный удар в дверь. поднимается с припечки, протирает рукавом глаза. Кто-то вторично три раза, но уже с большей силой стучит в дверь. Штефан прикручивает фитиль — и лунный свет заливает хату.
В ответ трижды загремело. Штефан, перекрестившись, открыл дверь и с тихим возгласом отпрянул. Перед ним на пороге стоит
Штефан, вывернув фитиль, прирастает глазами к Мыколе, на руках у которого, завернутая в куртку, лежит Ее голова и искалеченная рука бессильно свисают. Мыкола направляется в свою комнату, перед дверями останавливается. Штефан предупредительно открывает их и, пропустив М ы о л у, бросается к выходу, однако тут натыкается на пристально наблюдавшего за ним.
Входит со шляпой в руке Пошатнувшись, обессиленный, опускается на пол. Семен подбегает к Мыколе, подхватывает его и сажает в кресло. не отрывая глаз от них обоих, пятится к выходу. На пороге он поднимает кулаки, потрясает ими, потом, схватившись за голову, исчезает в предрассветном тумане.
Неслышными шагами входит Встревоженным взглядом бегает по присутствующим, потом подходит к дверям комнаты Мыколы. Увидев труп Параски, он резко оборачивается лицом к Семену.
Семен движением головы показывает на фисгармонию. Отец Юлиан закрывает лицо руками и тихо-тихо направляется к выходу. На пороге он останавливается и поднимает руку для крестного знамения, но на полпути его рука опускается. уходит. Пауза.
Мыкола и Семен, обнявшись, медленно идут к выходу. Перед порогом останавливаются. Край неба занимается розовой зарей.
Она!
Входит Ее волосы рассыпаны по плечам, глаза расширены. Тревожным, непонимающим взглядом она окидывает всех присутствующих. Наконец, ее взор останавливается на дверях комнаты Мыколы. идет туда и спустя мгновение возвращается.
Входит За ним — несколько с цветами. Сельский хлопчик в безрукавке несет пионерское знамя. Семен показывает им, где лежит Параска, и дети проходят через сцену в комнату Воркалюка.
Тишина. Едва-едва доносятся из комнаты Мыколы детские голоса. в черном платке, сбившемся на шею, в рубашке и в черной заплатанной юбке, с высокой шапкой седых всклокоченных волос слезает с печи и идет в комнату Мыколы и тут же возвращается с трясущейся от волнения головой.
Слышно мерное тиканье часов и далекая музыка. На крыльцо медленно поднимается Он уже не в сутане, а в черном жилете, в легком темносером сюртуке до колен со стоячим воротником. Его шею плотно облегает вышитый воротничок льняной рубашки. На спине у него — легкий рюкзак, а в руках — палка. Как и все действующие лица пьесы, отец Юлиан по существующему обычаю снимает на пороге шляпу. Окинув взглядом хату, он направляется в комнату Мыколы. Навстречу ему выходит
на мгновение задерживается, кланяется комнате, в которой лежит Параска, и медленно уходит. Варвара махнула ему на прощанье платочком. На фоне приближающейся музыки, ковыляя, возвращается В руках у нее — цветы. Она несет их перед собой и заходит в комнату Мыколы. За ней туда же проходит Вбегает
Из комнаты Мыколы доносятся сперва нестройные и робкие, а затем все более громкие слова пионерской песни-клятвы о Павлике Морозове. Детские голоса сливаются с мелодией приближающейся к дому песни, которую поют идущие сеять колхозники. Входит Быстрыми шагами идет навстречу вышедшей из своей комнаты.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ї
радзивиллы чувствовали бы себя действительно как у себя дома, где бы они чувствовали себя такими же беззаботными и счастливыми, как их позорной памяти прадеды из Торговицы, продавшие Польшу за украинскую пшеницу...
Красен цвет наших знамен, Ибо на них рабочая кровь...
ПАМФЛЕТЫ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
любченки, осмачки и гай-головки ни капли не уступали своим львовским побратимам.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
и сам способен поверить в сверхъестественную силу фюрера, если бы это могло хоть немного уменьшить тяжесть его ответственности за все содеянное. Но эти тонны, тонны обвинительного материала! Они ломают, уничтожают, сметают так старательно продуманное, взвешенное и выученное на память построение защиты.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
бентропы и франки, нашли себе убежище те, о кровавых делах которых с таким понятным возмущением говорят на Нюрнбергском процессе представители американского обвинения...
—
—
—
—
—
мистецтво», 1940, № 3 под названием «Три смерти».
ї
їна». Впервые напечатан в журн. «Радянський Львi
99%
ї
їн
їн
ї
ї
ї
ї
ї
Муки Мораллера
їн», 1944, 17 ноября. Позже Я. Галан дополнил его и включил в сборник «Их лица».
» под названием «Еще о Геринге». Я. Галан продолжал работать над памфлетом. Под названием «Перед нами Геринг» включил в сборник «Их лица».
», в которой был напечатан 9 марта 1946 г. С некоторыми авторскими правками напечатан в сборнике «Их лица».
», 1946, 8 января. Сохранился машинописный текст с авторской правкой и новым названием — «Последние дни одной аферы».
», где был напечатан 19 января 1946 г. Сохранилась газетная вырезка с авторской правкой и с измененным названием — «Убийцы на отдыхе».
», 1946, 1 ноября.
», 1947, 22 августа.
», 1946, 6 января.
їн» в 1947 г. под этим же названием. В сборник были включены и другие произведения, в которых разоблачалась реакционная сущность идеологии фашизма и украинского буржуазного национализма.
їн», 1950, 4, 5 и 11 февраля. Сохранился машинописный текст на украинском языке с авторскими правками.