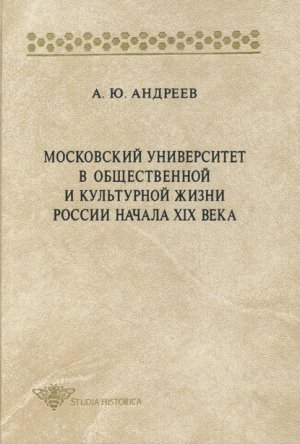
Вступление
История Московского университета составной частью входит в изучение истории русской культуры. При этом затрагиваемый ею культурный пласт настолько широк, что трудно провести границу между собственно университетской жизнью и интеллектуальным, научным, литературным, философским, социально-политическим развитием общества в целом, так тесно они связаны множеством нитей, составлявших единство идей и человеческих судеб.
В узком смысле историю университета можно понимать как историю создания и развития конкретного учебного заведения в составе общей структуры учреждений Российского государства. С этой точки зрения ее содержанием является изучение и сравнительное описание университетских уставов, принципов преподавания, взаимоотношений профессоров внутри университета, так же как и их отношений с университетским начальством вне его; здесь необходимо определить роль и место университета в системе российского образования и соотнести их с правительственной политикой в сфере народного просвещения.
Однако такой подход, хотя и чрезвычайно важный для понимания особенностей университетской жизни, оставляет в стороне ее главное содержание — живое творческое развитие внутри и через посредство университета русской культуры. Исследование этой задачи гораздо сложнее и требует привлечения значительного круга источниковых материалов различного характера. С одной стороны, мы сталкиваемся здесь с проблемой изучения развития в целом русской науки, поскольку одна из важнейших культурных функций, которую нес на себе университет, заключалась в его роли научного центра общества. Изучая университетскую науку во всех отраслях знаний, мы должны не только отдавать себе отчет в ее успехах и недостатках, но и соотнести ее состояние с мировым уровнем, рассмотреть, насколько свободно и плодотворно циркулировали здесь идеи, волновавшие мировое ученое сообщество, от которого российская наука неотделима.
С другой стороны, степень взаимосвязи университета и культурной жизни России не определялась исключительно развитием науки. Выступая в качестве мощного аккумулятора идей, университет притягивал к себе мыслящую часть «молодой России», не только образовывал молодое поколение, передавая ему накопленные знания, но и безотчетно содействовал формированию новых культурно-общественных связей, способа мыслей и характера действий. Творческая среда московских студентов и преподавателей распространяла свое влияние далеко за пределами Москвы, господствовавшие в ней идеи часто составляли физиономию целого поколения.
В избранный нами период времени (1803–1812 гг.) названные группы проблем чрезвычайно значимы для университетской истории. Нижняя его граница определяется началом александровских преобразований системы народного просвещения. К началу XIX века Россия подошла, имея за плечами уже две волны реформ — Петра I и Екатерины II, направлявших ее по пути европеизации. Для Александра I его преобразования представлялись естественным продолжением деятельности предшественников. Речь, таким образом, шла о новом этапе европеизации России, особенностью которого было гораздо большее, чем при предыдущих реформах, даже во времена Екатерины, влияние идей и духа европейского Просвещения.
Новое просвещение России было ключевой мыслью Александра при начале реформ и залогом их дальнейшего успеха; так его воспитывали учителя при дворе «просвещенной» бабушки-Минервы, так мечтал он сам, оставив Россию в благоденствии, преображенную расцветом наук и искусств, «удалиться когда-нибудь на покой». Если петровские преобразования побочно затрагивали науку, рассматривая ее практическую сторону как инструмент для решения государственных проблем и ликвидирования отставания России по сравнению с Западом, то теперь наука и просвещение вставали в центр концепции реформ, являясь скорейшим средством для распространения добродетели и свободы граждан, как об этом писали европейские философы. Некоторые оговорки о вреде наук, появившиеся после Французской революции, в сущности не меняли дела. В конечном счете, такое просвещение должно было затронуть всех людей, находившихся на государственной службе, в особенности дворян как привилегированную их часть. Поэтому его наивысшим воплощением стал подготовленный Сперанским известный указ об экзаменах на чин по всему энциклопедическому кругу знаний. Если Петр деспотически требовал от своего дворянства практических навыков к исполнению службы, то Александр «отечески» советовал подданным приобретать европейскую ученость, без малейшей надежды ее применить в действительности.
Отсюда нам ясен крайне идеалистический характер преобразований времен «дней Александровых прекрасного начала», которые должны были подвинуть и значительно подвинули развитие российского образования, но совершенно не добились того результата, на который были рассчитаны, так что через десятилетие сменились на прямо противоположную политику. Велика роль этих преобразований в укреплении Московского университета, даровании ему тех основных принципов, которые, в общем, определяли его дальнейшее развитие, но не решали конкретных трудностей по их реализации. Было восстановлено единое научное пространство между Россией и Европой, и развитие науки по европейскому образцу в Московском университете, значительно замедлившееся в конце XVIII века, вновь получило свежий импульс из родственной в научном плане Германии. Проблема генезиса собственно российских университетских научных школ также относится к этому периоду и тесно связана с меняющейся атмосферой университетской жизни.
Однако главное значение александровских реформ заключалось в том, что распространяя просвещение и способствуя развитию наук, правительство получало в ответ не желаемое приращение абстрактной добродетели подданных, а рост гражданского сознания молодых людей, прошедших новую школу воспитания, для которых образованность и научные знания были неотделимы от желания приносить пользу Отечеству. Таким образом, одно из важнейших мест при исследовании взаимосвязи университета этого периода и общественной жизни занимает вопрос о возникновении и формировании поколения декабристов. Для Николая Тургенева научное образование означало занятия политэкономией, для Александра Грибоедова — глубокое знание русской истории, для Петра Чаадаева — штудирование философии Канта, но всех их объединяло одно: чем бы они ни занимались, серьезное отношение к науке, глубина просвещения соприкасались у них с чувством собственной ответственности за судьбу родины, необходимостью высшего служения ей, что в дальнейшем станет сердцевиной идейного содержания движения декабристов. Круг мыслей и переживаний, которые молодые люди питали во время обучения в университете, непосредственно подготавливал их к патриотическому подвигу Отечественной войны 1812 г. Именно это событие, трагически отразившееся и на жизни самого университета, естественно завершает рассматриваемый нами период университетской истории, подводя некоторые его итоги и открывая множество путей его дальнейшего развития[1].
В основе настоящей монографии лежит диссертация автора на соискание ученой степени кандидата исторических наук, защищенная им на историческом факультете МГУ. Автор приносит глубокую благодарность своему научному руководителю, академику РАЕН, профессору В. А. Федорову, а также главному научному сотруднику ГИМ Ф. А. Петрову, своими ценными замечаниями много способствовавших к улучшению работы, А. В. Семеновой, Н. В. Минаевой, А. А. Левандовскому, А. П. Шевыреву, А. С. Орлову и всем сотрудникам исторического факультета МГУ, участвовавшим вместе с автором в обсуждении проблем данного исследования.
Источники и историография
Проблема построения источниковой базы для изучения истории Московского университета в рассматриваемый нами период — от начала XIX в. до пожара Москвы — встает особенно остро, что в первую очередь связано с полным уничтожением при пожаре всего корпуса документов, хранившихся в архиве университетской канцелярии, а также библиотеки университета и его музейных коллекций. Тем самым были утрачены материалы, относящиеся к деятельности совета и правления университета, переписка совета с попечителями учебного округа, послужные списки профессоров и преподавателей, документы учета и контроля успеваемости и посещаемости студентов и гимназистов, копии аттестатов и дипломов, выдаваемых студентам по окончании университета (подлинники этих документов можно встретить в некоторых личных фондах). Вместе со сгоревшей библиотекой исчезли и редкие университетские издания, существовавшие всего в нескольких экземплярах (например, начало выпускаемого Обществом истории и древностей российских издания Повести временных лет). Утраченные коллекции университетских музеев содержали экспонаты, имевшие огромную не только научную, но и историческую ценность. Одновременно с ними сгорели и многие личные собрания профессоров университета вместе с их дневниками и письмами, рассказывающими о жизни университета в допожарной Москве. Практически полностью погибло учебное оборудование университетских лабораторий, физического, химического и медицинского кабинета, отсутствие описаний которых лишает нас существенной информации о развитии университетской науки того времени.
Тем не менее, утрата целого корпуса прямых источников по истории университета за данный период не делает ее создание невозможной, поскольку существует большое количество взаимодополняющих материалов, как архивных, так и опубликованных, которые с той или иной степенью близости оказались связаны с деятельностью университета.
Приступая к обзору архивных фондов, относящихся к университетской истории начала XIX века, отметим, что они естественно разделяются на фонды, связанные с деятельностью правительственных структур, в составе которых университет находился, и фонды личного происхождения. Фонды первой группы очень велики по объему, имеют сложный состав, однако в силу утраты значительного количества документов Московского университета из-за пожара и некоторых других причин, содержат, по большей части, лишь редкие, разрозненные дела интересующего нас периода. Определенной широтой охвата материала отличается лишь фонд Департамента народного просвещения, находившегося в Петербурге, где можно было бы надеяться найти копии многих документов, утраченных в Москве, однако и эта надежда оправдывается лишь частично.
Напротив, фонды личного происхождения, даже и очень небольшие в количественном отношении, содержат интереснейшие материалы, проливающие свет на многие важные страницы истории университета. По характеру фондообразователей их условно можно разделить на фонды, отразившие деятельность университетского руководства — директора, кураторов (здесь бесценным источником являются фонды, связанные с попечителем М. Н. Муравьевым), фонды, в которых сохранились документы профессоров и преподавателей университета того времени (наиболее интересным по содержанию из обнаруженных нами бесспорно является фонд Каменецких, вобравший в себя переписку профессора И. А. Гейма), и, наконец, несколько личных фондов и коллекций, включивших материалы выдающихся людей этой эпохи — студентов или слушателей Московского университета, их воспоминания и переписку (назовем здесь М. А. Дмитриева, И. Д. Якушкина, Н. И. Тургенева, Н. Ф. Грамматина).
Четыре из исследованных нами архивных фондов представляют собой собрания делопроизводственных документов, обращавшихся в составе Министерства народного просвещения, которые отражают повседневную жизнь Московского университета с ее официальной стороны. Это, прежде всего, собственно фонд канцелярии Московского университета (ЦГА г. Москвы, ф. 418). Из-за понесенных утрат при пожаре материалы этого фонда фактически (за исключением нескольких отрывочных документов последней четверти XVIII в.) начинаются с 1813 года. Тем не менее, журналы временной комиссии по управлению учебным округом, созданной после пожара, совета университета (оп. 249) и советов отдельных факультетов (оп. 332, 477) и особенно университетского правления (оп. 109) за 1813 год дают нам некоторые сведения о происходившей осенью 1812 года эвакуации университета, о понесенном им ущербе, судьбе его членов, вступивших в московское ополчение, и др. Здесь нами обнаружены новые биографические данные, касающиеся пребывания в университете декабриста Н. М. Муравьева.
В лучшей сохранности, чем допожарный архив Московского университета, оказались бумаги канцелярии попечителя Московского учебного округа (ЦГА г. Москвы, ф. 459). Дело в том, что в конце августа 1812 года попечитель П. И. Голенищев-Кутузов, спешно уезжая из Москвы, оставил канцелярию в подвале собственного дома, который затем хотя и пострадал от грабителей, но уцелел при пожаре. В книгах исходящих дел канцелярии Московского учебного округа, которую организовал вместе с созданием самого округа попечитель М. Н. Муравьев, отражались названия и краткое содержание всех официальных писем и документов, проходивших через руки попечителя. В фонде (оп. 11) сейчас хранятся пять книг исходящих дел за 1803–1807 годы, вышедших из канцелярии Муравьева, но отсутствуют аналогичные тома из канцелярий попечителей А. К. Разумовского и П. И. Голенищева-Кутузова, (появляясь вновь только при попечителе А. П. Оболенском). Зная отношение обоих названных попечителей (особенно Голенищева-Кутузова) к канцелярской работе (см. ниже воспоминания канцеляриста М. П. Третьякова), можно предположить, что такие книги при них не велись, а соответствующие дела оказались просто списаны через некоторое время и, таким образом, утрачены для исследователей. Однако и дошедшие до нас канцелярские книги времен попечительства М. Н. Муравьева дают обильный материал по управлению университетом и становлению его деятельности в первые годы университетских реформ, рассказывают о приглашении немецких ученых и поощрении собственных профессоров, которыми с равной энергией занимался Муравьев, о первых шагах университетских ученых обществ и научных журналов, успехах молодых студентов и научных работах заслуженных профессоров этого времени.
С момента основания Министерства народного просвещения в сентябре 1802 года Московский университет вел интенсивную переписку с петербургскими ведомствами этого министерства: собственно Департаментом народного просвещения и Главным правлением училищ. В делах Главного правления училищ (РГИА, ф. 732, on. 1) мы находим документы о служебных производствах в Московском университете, которые должны были проходить здесь обсуждение, — представления к производству в званиях ректора, деканов, ординарных и экстраординарных профессоров, адъюнктов, докторов, магистров и кандидатов, а также канцелярских чиновников университета. Большая часть этих документов дублирует материалы Департамента народного просвещения, поскольку через него поступала на утверждение министру.
Именно в фонде этого департамента (РГИА, ф. 733) должно было находиться большое количество различного рода документов, повторяющих материалы сгоревшего архива Московского университета и таким образом восполняющих его утрату. Особенно важным при этом было бы обнаружение корпуса официальной переписки попечителя Московского учебного округа с министром народного просвещения (как мы увидим ниже, такого же рода частная переписка между П. И. Голенищевым-Кутузовым и А. К. Разумовским за 1810–1812 годы значительно расширяет наши представления об университетской истории тех лет). Однако в первые годы работы министерства такие своды писем не составлялись, причем большая часть разрозненных документов, не вошедших в законченные дела, была списана при реорганизации канцелярии департамента в 1817 году. Таким образом, от периода 1803–1812 гг. по Московскому учебному округу в фонде остался лишь набор из нескольких десятков никак не связанных друг с другом дел (оп. 28). В действительности, даже эти документы представляют огромный интерес для исследователя. Среди них — письмо поэта И. И. Дмитриева, в котором он отказывается от должности попечителя Московского университета, предложенной ему императором после смерти М. Н. Муравьева, собственноручный послужной список учителя Грибоедова, немецкого профессора И. Т. Буле, и его переписка с Департаментом народного просвещения, дела об утверждении ректоров и деканов университета, содержащие любопытные подробности их избрания, документы, связанные с приглашением в университет студентов из Финляндии, и т. д.
Отсутствие систематического собрания текущей официальной документации, относящейся к Московскому университету, отчасти компенсируется полным корпусом отчетов по университету, которые ежегодно с конца 1802 г. поступали в Петербург, обнаруженных нами в том же фонде (оп. 95). С принятием университетского устава определяется постоянная форма этих отчетов. В соответствии с разделами устава в них приводится полный состав профессоров и преподавателей Московского университета по факультетам, списки новопроизведенных или выбывших профессоров, адъюнктов, докторов, магистров и кандидатов, а также избранных в этом году почетных членов университета. Университет сообщал о представленных им конкурсных задачах и сделанных новых открытиях, выпущенных им сочинениях и переводах, пополнении библиотеки и музея, состоянии ботанического сада, физической, химической и астрономической лаборатории, медицинских учреждений при нем, ходе дел в университетском суде, числе и характере занятий магистров и кандидатов в педагогическом институте. Приводилось число обучавшихся в этом году студентов, с разделением по факультетам, а также число поступивших и выбывших, те же сведения сообщались и об академической гимназии и благородном пансионе. Отдельная глава была посвящена деятельности ученых обществ, издаваемым ими журналам, проведенным экспедициям, состоявшимся открытиям. В отчете рассказывалось также об управлении и надзоре за училищами Московского учебного округа, о визитаторских поездках профессоров. В целом отчеты содержат уникальную информацию по истории университета, в особенности связанную со студентами, произведенными в течение года в ученые степени, полные списки которых с указанием даты и научной отрасли здесь приводятся. Эти списки по информативности превосходят более известные исследователям отчеты в «Московских ведомостях» (см. ниже), и мы находим в них немало имен, дорогих русской культуре.
Переходя к обзору личных фондов, использованных при работе над книгой, подчеркнем, что их отбор и поиск в них документов по университетской истории тесно связаны с подробным биографическим изучением судеб людей, составлявших университетскую корпорацию в рассматриваемый нами период. Жизнь Московского университета уже в первые десятилетия XIX века затрагивала столь широкие пласты русской культуры, что было бы наивно говорить о возможности выявления полного комплекса таких документов, рассеянных по всей России и даже за ее пределами[2].
В качестве основного направления архивных поисков были выбраны фонды, по своему происхождению относящиеся к попечителям и профессорам университета. Как и можно было ожидать, среди них наибольшей ценностью для исследователей обладают фонды попечителя М. Н. Муравьева. Дело здесь не только в исключительной роли Муравьева в создании нового образа университетской жизни, принципов «ученой республики», приглашении новых профессоров и т. д., но важно, что именно эти заслуги, высоко оцененные уже следующим поколением профессоров, привлекли их внимание к архиву попечителя. Прекрасным состоянием этого документального собрания (РО РНБ, ф. 499) мы обязаны М. П. Погодину, который приобрел и обработал бумаги Муравьева, а также С. П. Шевыреву и Н. С. Тихонравову, активно занимавшимся исследованием этого архива при подготовке изданий по истории Московского университета. Помимо литературных и исторических рукописей, биографических материалов М. Н. Муравьева, большую часть фонда составляет собрание писем, из которых около сотни принадлежит профессорам Московского университета и относится к годам его пребывания на посту попечителя. Здесь находятся автографы всех немецких профессоров, приехавших в Московский университет — по их письмам мы можем судить о том, как проходили переговоры об их приглашении сюда и какого рода работа занимала их после приезда в Москву. Особенно частый обмен посланиями шел с профессором И. Т. Буле, они показывают немалые труды последнего по воплощению в жизнь университетских реформ в соответствии с просветительской программой Муравьева. Из других писем выделим полную интересных деталей университетской жизни корреспонденцию профессора Ф. Баузе, а также частично опубликованную переписку с попечителем молодых российских ученых, находившихся в те годы за границей. Наконец, отметим уникальный документ — записную книгу М. Н. Муравьева (ф. 499, оп. 1, ед. хр. 14), которую он начал вести, вступив в должность попечителя и занося туда текущие заметки, касающиеся Московского университета. Среди них — черновики статей университетского устава и отчетов министру народного просвещения, списки студентов, отмеченных попечителем для поощрения их успехов в учебе, заметки о ходе переговоров с иностранными профессорами, общие замечания о преподавании в университете, черновики статей по университетской истории для его изданийи пр. Многие из материалов этой записной книги нашли отражение в изданной в 1855 г. «Истории императорского Московского университета».
Другое важное хранилище бумаг М. Н. Муравьева образовалось в результате процесса над декабристами, поскольку несколько документов, наиболее ярко, с точки зрения попечителя, характеризовавшие его общественную деятельность на ниве народного просвещения, были специально завещаны им сыну Никите, хранились у него и затем были изъяты в ходе следствия вместе с другими семейными бумагами (ГАРФ, ф. 1153). Именно здесь находится авторская рукопись проекта устава Московского университета 1804 г., принадлежавшая М. Н. Муравьеву, а точнее, три редакции этого устава (см. главу 1), и вместе с ними текст доклада Александру I, поданный 8 августа 1802 г. комиссией по рассмотрению уставов учебных заведений и содержавший предварительные соображения по реформированию университетского образования. Кроме того, часть интересной переписки М. Н. Муравьева, в том числе письма к нему H. М. Карамзина, хранятся в РГАЛИ (ф. 1765).
Личные фонды других представителей высшего университетского начальства — директора И. П. Тургенева, попечителей А. К. Разумовского и П. И. Голенищева-Кутузова — содержат лишь считанные документы, относящиеся к истории университета. В семейном архиве Тургеневых, рассеянном по нескольким архивным хранилищам, остались «семидневный рапорт» о состоянии Московского университета за 1800 г. (ОПИ ГИМ, ф. 247), любопытный черновик отчета одного из кураторов (ГАРФ, ф. 1094, on. 1, ед. хр. 202); среди корреспонденции А. И. Тургенева (РГАЛИ, ф. 501) — несколько писем от московских и геттингенских профессоров. В фонде П. И. Голенищева-Кутузова (ПД, ф. 413) сохранились 9 подлинных писем, полученных им в августе-сентябре 1812 г. в связи с отъездом университета из Москвы.
Поиск личных архивов профессоров Московского университета осложнен как невосполнимыми их утратами в пожаре 1812 года (например, полностью сгорел архив профессора П. И. Страхова, скончавшегося через несколько месяцев в Нижнем Новгороде, из-за чего мы имеем, несмотря на воспоминания, оставленные современниками, далеко не полные сведения об этом ярком ученом), так и тем, что некоторые профессора, будучи подчас людьми одинокими и ведя рассеянный образ жизни, не собирали и не хранили свои бумаги (так, несмотря на все старания, не удалось выявить более или менее цельный комплекс документов, относящийся к деятельности такого выдающегося профессора и литератора, как А. Ф. Мерзляков). На этом фоне удивительной (но по-своему закономерной) находкой предствляется исследованное нами собрание писем О. К. и Т. А. Каменецких (ОР РГБ, ф. 406), на котором следует остановиться подробнее.
Тит Алексеевич Каменецкий был одним из любимейших учеников ректора Московского университета И. А. Гейма. В 1812 г. именно под его присмотром отправлялись в Нижний Новгород казеннокоштные студенты и гимназисты. Он же первым из всех членов университетской корпорации побывал в опустошенной пожаром Москве. Дружеские отношения с ректором Каменецкий сохранял до самой смерти Гейма в 1821 г., а затем, в память об учителе, приобрел его письма. Замечательно, что корреспонденция Гейма — единственного среди всех профессоров — вместе с его библиотекой уцелела при пожаре. В дальнейшем это собрание вместе с перепиской известного петербургского врача Осипа Кирилловича Каменецкого, опекуна и родного дяди Тита Алексеевича, и составило упомянутый архивный фонд. Вся коллекция состоит из пяти объемистых переплетенных вместе пачек писем. Конечно, самостоятельный интерес имеет семейная переписка между Т. А. и О. К. Каменецкими, относящаяся ко времени учебы Тита в гимназии и университете, которая живо рассказывает о ходе воспитания молодого человека в первом десятилетии XIX века, так же как и собственная переписка О. К. Каменецкого, знакомого со многими выдающимися людьми этой эпохи. Около трети всех материалов фонда составляют письма (большей частью на немецком языке, а также русском, французском и латыни), адресованные И. А. Гейму (ф. 406, к. 1, ед. 3 и к. 2, ед. хр. 1). Немалая доля корреспонденции написана профессорами Геттингенского университета, высоко ценившими дружбу Гейма, в том числе знаменитым историком А. Л. Шлецером. Здесь же и автографы попечителей Московского университета Муравьева и Разумовского, профессоров Буле и Фишера и практически всех русских профессоров и преподавателей университета. Значительное количество писем тематически связано с войной 1812 года, пребыванием университета вне Москвы (к ним примыкают и письма молодых университетских ученых, адресованные Т. А. Каменецкому, частично опубликованные в 1904 г.), в том числе и ранее неизвестное описание очевидцем пожара Московского университета[3]. Несколько писем, отправленных студентами Московского университета, обучающимися в Геттингене, дают непосредственное представление об образе жизни русских студентов за границей. Таким образом, полнота, информативность и многосторонность этой коллекции значительно обогатили наши знания об университетской среде начала XIX в.
Назовем и другие архивы московских профессоров, обнаруженные в ходе нашего исследования. Неоднократно упоминавшийся профессор И. Т. Буле после своей смерти оставил большое собрание исторических материалов, которыми он пользовался при составлении незаконченного «Опыта критической литературы по русской истории». Это собрание, приобретенное Академией наук, хранится в ее архиве (ПФА РАН, ф. 89, оп. 1). Там же находится и личный фонд профессора Фишера фон Вальдгейма с его дневниками наблюдений за 1813–1838 гг. и протоколами Общества испытателей природы (ПФА РАН, ф. 260, оп. 1). В РГАЛИ хранится фонд профессора М. Т. Каченовского с его письмами к жене, отправленными в апреле 1810 г. из Петербурга, куда тот приехал в качестве секретаря А. К. Разумовского, ждавшего своего утверждения в должности министра народного просвещения (ф. 1251, оп. 1, ед. хр. 3).
Наконец, документы по университетской истории содержат несколько отдельных коллекций. В так называемом собрании «Погодинских автографов» (РО РНБ, ф. 588) находятся листы с автобиографиями А. Ф. Мерзлякова, М. Т. Каченовского, И. Т. Буле и письмо декана Ф. Г. Баузе к одному из университетских магистров. Подлинные аттестаты, выданные после окончания благородного пансиона и Московского университета поэту М. В. Милонову, хранятся в фонде В. А. Цеэ (РО РНБ, ф. 833, ед. хр. 472–473). Секретное цензурное дело 1805 года из правления университета (возможно, единственное уцелевшее после пожара, поскольку хранилось вместе с университетской кассой) обнаружено нами в фонде Н. С. Тихонравова (ОР РГБ, ф. 298, ч. 4, к. 1, ед. хр. 48), здесь же и несколько копий, сделанных Тихонравовым с погодинского собрания университетских бумаг Муравьева.
Наиболее редкими и уже поэтому ценными являются документы, принадлежавшие студентам тех лет. Образцы табелей, выдававшихся воспитанникам университета, дошли до нас в собрании отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ, а кроме того в 1939 г. здесь была найдена книга регистрации студентов за 1810–1815 гг., с автографами многих русских общественных деятелей, обучавшихся в университете, в том числе А. С. Грибоедова и Н. М. Муравьева. Значительный интерес представляют рукописные студенческие лекции этого времени: два прекрасно оформленных курса лекций Л. А. Цветаева по римскому праву и Н. Ф. Кошанского по эстетике хранятся в отделе письменных источников Государственного исторического музея (ф. 221, ед. хр. 37; ф. 292, ед. хр. 119). Записи лекции Цветаева о «правах знатнейших народов» вел будущий декабрист И. Д. Якушкин (ГАРФ, ф. 279, ед. хр. 3), а его товарищ по учебе М. Я. Чаадаев оставил нам немецкий конспект приватных лекций по новейшим философским системам профессора Буле (собрание Н. К. Пиксанова, Пушкинский дом). Образцы дружеской переписки между дворянами-студентами и воспитанниками благородного пансиона сохранились в фонде Н. Ф. Грамматика (ОР РГБ, ф. 398, письма к нему М. В. Милонова и Д. В. Дашкова частично опубликованы в 1859 г.).
Рассмотрим теперь комплекс опубликованных источников. В первую очередь сюда входят документы учреждений, которые в процессе своей работы были подчинены университету или которым сам университет подчинялся. В рамках возникшей в начале XIX в., структуры Министерства народного просвещения к первым относились гимназии и училища Московского учебного округа, ко вторым — само Министерство народного просвещения. По материалам, поступающим из различных учебных округов России, министерство с 1803 г. выпускало журнал «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения», где, в частности, упоминались важнейшие события в жизни Московского университета, публиковались сведения о производстве в ученые должности и научные степени и даже публичные речи некоторых профессоров. Основные документы Министерства народного просвещения в середине 60-х гг. XIX в. были изданы в виде двух сборников: «Сборник постановлений по Министерству народного просвещения» (СПб., 1864), где помещались императорские указы, высочайше одобренные уставы университетов, научных обществ, рескрипты и постановления, касающиеся регулирования основных принципов деятельности учреждений, входивших в структуру министерства, и «Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения.» (СПб., 1866), содержавший акты, утверждаемые министром: основные положения устройства гимназий, пансионов и училищ, распоряжения, относящиеся к отдельным учреждениям и чиновникам.
Текущая жизнь Московского университета освещалась не только в «Периодическом сочинении об успехах народного просвещения». В рассматриваемый период можно назвать по крайней мере три основных источника, дающих регулярную информацию о состоянии университета и находящихся при нем академической гимназии и благородном пансионе. Во-первых, это газетные отчеты, публикуемые ежегодно в «Московских ведомостях» по случаю торжественного собрания Московского университета, происходившего в начале июля, после завершения учебного года, и торжественного акта в Университетском благородном пансионе, устраивавшегося в канун Рождества. Кроме упоминания названий речей профессоров, обращенных к присутствующим гостям, музыкальных номеров и стихотворений, из которых состояло торжество, в отчет об университетском акте входило перечисление фамилий всех лиц, произведенных на этом акте в ученые степени (кандидата, магистра или доктора), новых студентов, принятых в университет «по надлежащему экзамену» или переведенных из академической гимназии и благородного пансиона. Отчет также упоминал имена студентов, награжденных в этом году золотыми и серебряными медалями, а также фамилии получивших призы гимназистов и списки учеников, переведенных в следующие классы гимназии по каждому из предметов.
В газетном сообщении о пансионском акте подробно описывалась программа торжественного вечера, на котором выступали воспитанники, а затем публиковались полные списки награжденных, которые открывало имя лучшего воспитанника (одного или двух), заносимое на золотую доску в пансионе, после чего в порядке старшинства возрастов перечислялись ученики, награжденные медалями и призами. В отчете также говорилось о выпущенных в этом году пансионских литературных альманахах, лучших диссертациях воспитанников, которые они писали на заданные темы, об их лучших рисунках, чертежах и пр. и, как и в университетском отчете, приводились списки учеников, переведенных в высшие классы. Таким образом, каждый из отчетов, как и упомянутые выше ежегодные отчеты по университету, содержит записи более ста фамилий воспитанников, которые являются единственными в своем роде свидетельствами об ученическом и студенческом составе университета.
Уникальная информация, отчасти восполняющая утраченные документы, находится в публикуемых университетом на текущий год «Объявлениях о публичных учениях в императорском Московском университете» и «Объявлениях о благородном пансионе, учрежденном при императорском Московском университете». В университетских объявлениях по каждому факультету приводились сведения о публичных (для всех студентов) и приватных занятиях всех профессоров этого факультета с указанием полной университетской должности профессора, названий его курсов, времени лекций и учебных руководств к ним. С 1805 по 1810 гг. объявления сопровождались научными приложениями в виде статьи одного из профессоров. Пансионское объявление представляло собой довольно объемную книжку, где, кроме собственно расписания занятий, сведений о преподавателях пансиона и читаемых ими курсах, помещалось постановление о благородном пансионе, правила для воспитанников и другая полезная информация. Благодаря тому, что сведения, содержавшиеся в объявлениях, соответствовали году их выпуска и не подвергались искажениям (в отличие, например, от позднейших воспоминаний), мы можем считать их наиболее достоверным источником, позволяющим проверить различные факты из внутренней жизни университета.
Другие печатные источники, тесно связанные с университетской жизнью, — это книги и журналы, выпускаемые в типографии Московского университета. Строго говоря, вся печатная продукция этой типографии может рассматриваться как источник по истории Московского университета, поскольку в ее написании и обработке в основном принимали участие профессора, преподаватели и студенты университета, а с 1806 г. и сама типография, выведенная из-под аренды, была подчинена совету университета. Конечно, среди всех изданий типографии нас в первую очередь будут интересовать те, которые характеризуют основные черты учебного процесса в университете, жизнь и деятельность его ведущих профессоров и некоторых замечательных университетских воспитанников. Среди таких изданий мы можем назвать появляющиеся в рассматриваемый нами период университетские учебники: как оригинальные, авторами которых были сами профессора (Гейм, Двигубский, Рейнгард, Страхов, Цветаев, Шлецер и др.), так и переводные, издание которых также осуществлялось с помощью профессоров, адъюнктов или магистров университета. Представление о развитии университетской науки дают ежегодно публикуемые речи профессоров, которые они произносили перед московской публикой на торжественном акте. Важные сведения о научной жизни университета содержались в журналах его ученых обществ, а также в двух изданиях, выпускаемых профессором И. Т. Буле, — «Московских ученых ведомостях» и «Журнале изящных искусств» — первых образцах научной публицистики в Москве. Большое количество профессоров и студентов сотрудничало, кроме научных изданий, в литературных журналах и альманахах (например, профессор М. Т. Каченовский издавал «Вестник Европы», П. А. Сохацкий — «Новости русской литературы», X. Рейнгард и Я. Десанглен — «Аврору», М. Г. Гаврилов — «Исторический, географический и политический журнал»; студент К. Андреев — «Весенний цветок» и т. д.). В отдельную группу мы можем выделить литературные альманахи, выпускаемые благородным пансионом («Утренняя заря» и др.). Опираясь на статьи в такого рода изданиях, можно извлечь интересную информацию не только об авторах, но и об их мировоззрении, характере, образовании, круге чтения, увлечениях, которая будет важна при описании университетской среды в целом.
Наконец, наиболее полными, многогранными источниками, рассказывающими о внутренней жизни Московского университета и его роли в русской общественной жизни, являются воспоминания, дневники и переписка тех лиц, которые служили, преподавали, учились в университете или тесно соприкасались с университетскими кругами. В силу особого положения Московского университета в русском обществе и в жизни Москвы к ним относятся почти все мемуары, в которых рассказывается о допожарной Москве, а также известные нам дневники и корреспонденция литераторов и общественных деятелей, связанных с Москвой в рассматриваемый нами период времени. Наиболее интересную картину университетской жизни дают, конечно, воспоминания самих воспитанников Московского университета тех лет — это мемуары А. Д. Боровкова, М. А. Дмитриева, С. П. Жихарева, В. И. Лыкошина, В. А. Сафоновича, И. М. Снегирева, Н. В. Сушкова, Е. Ф. Тимковского. Мемуаристы с разной степенью подробности останавливаются на своих университетских годах: если Дмитриев и Жихарев упоминают о своей студенческой жизни мельком, то записки Снегирева и особенно насыщенный собственными воспоминаниями труд Сушкова специально посвящены истории Московского университета, академической гимназии и благородного пансиона. Портретами профессоров, яркими картинами университетских лекций наполнены записки Д. Н. Свербеева, и поэтому, хотя мемуарист поступил в университет уже после пожара, в 1813 г., эти воспоминания также правомерно использовать при характеристике отдельных персонажей и элементов студенческой жизни.
При анализе мемуаров важно помнить, что они создавались в различное время, возможно, не вполне независимо друг от друга, и память мемуариста часто освежалась им при помощи уже опубликованных трудов. Характерны с этой точки зрения воспоминания М. П. Третьякова, занимавшего с 1799 г. должность писца в университетской канцелярии. В них автор иногда почти дословно цитирует положения устава 1804 г. и другие документы, регулировавшие внутреннее устройство университета, а при упоминании целого ряда фактов чувствуется взаимосвязь его воспоминаний с мемуарами И. М. Снегирева (полемика М. П. Третьякова и И. М. Снегирева началась еще до опубликования их записок, в 1854 г., по поводу выпуска Снегиревым истории университетской типографии).
С этой точки зрения наиболее осторожного подхода требуют записки С. П. Жихарева. Озаглавленные в своей первой части «Дневник студента», они поданы автором в виде дневниковых записей, обращенных к его другу. Однако при ближайшем рассмотрении в них обнаруживается большое количество мелких неточностей, которые никак не могли бы возникнуть в настоящем дневнике, современном описываемым событиям. (Самая грубая из его ошибок — неоднократное упоминание о смерти в 1805 г. профессора X. А. Чеботарева, который на самом деле продолжал работать в университете и скончался только 10 лет спустя.) Несомненно, что в основе записок Жихарева лежали его подлинные дневники (так до сих пор и не обнаруженные), однако ошибки определенно доказывают, что на стадии подготовки к публикации записи подверглись автором серьезной литературной правке, касавшейся как стиля, так и самих излагаемых событий. По верному замечанию исследователя, «записки оказались не только очень содержательным мемуаром, но и произведением, стоящим на границе художественной литературы, чем они и отличаются от массы обыкновенных бытовых дневников»[4]. Последнее утверждение можно наглядно проверить, если сравнить «Дневник студента» с другим современным ему произведением — дневниками еще одного воспитанника университета Н. И. Тургенева за 1806–1808 гг. Его дневники не предназначались для печати и поэтому сохранили характерные особенности и «неправильности» стиля автора, которые и составляют ощущение подлинности, а главное, искренние страстные размышления об окружающей жизни, что делает дневники Тургенева уникальным источником для исследования формирующегося мировоззрения молодого человека поколения декабристов. Напротив, у Жихарева стремление к литературности во многом сгладило стиль дневников, а необходимость связывать отдельные куски, заполнять образующиеся пустоты, заново датировать некоторые записи приводила к ошибкам.
Кроме уже упомянутых воспоминаний и дневников, различные подробности об отдельных персонажах университетской жизни, а также в целом о картине допожарной Москвы, в которой разворачивалась эта жизнь, мы находим в записках Ф. Ф. Вигеля, И. А. Второва, С. Н. Глинки, братьев А. Н. и Н. Н, Муравьевых. Об удивительных приключениях недавно закончившего университет молодого офицера в охваченной пожаром Москве рассказывают нам записки В. А. Перовского. Среди опубликованной переписки того времени наше внимание прежде всего привлекают письма к попечителю М. Н. Муравьеву находящихся за границей или возвращающихся оттуда молодых ученых, которых попечитель предназначал для занятия университетских кафедр. Для характеристики молодого профессора того времени также интересны несколько опубликованных писем А. Ф. Мерзлякова к В. А. Жуковскому, относящиеся к 1803–1804 гг.; ценные сведения содержит и переписка Жуковского с М. Т. Каченовским (1810 г.). Очень содержательным источником, раскрывающим внутренний мир молодых людей, обучающихся в университете или только что его закончивших, является опубликованная в 1859 г. корреспонденция Н. Ф. Грамматина, переписывавшегося с Д. В. Дашковым и М. В. Милоновым, а также с некоторыми университетскими профессорами. В 1880 г. А. Васильчиков в составе своей книги «Семейство Разумовских» издал большой массив писем, адресованных попечителем университета П. И. Голенищевым-Кутузовым министру народного просвещения гр. А. К. Разумовскому. Помимо яркого изображения личности самого попечителя, эти письма содержат многочисленные, хотя и отрывочные, сведения о внутренней жизни университета в 1810–1812 гг.
Общественную и культурную жизнь Москвы тех лет будет невозможно себе полностью представить без обращения к огромному корпусу переписки К. Н. Батюшкова с Н. И. Гиедичем. Сам Батюшков вырос в семье попечителя М. Н. Муравьева и во время пребывания в Москве сохранил близость к университетским литературным кругам. В своей речи «О влиянии легкой поэзии на язык» он дал прекрасную оценку роли М. Н. Муравьева в отечественной литературе и просвещении; кроме того, Батюшкову принадлежит хрестоматийно известная «Прогулка по Москве» (1811 г.) — бесценный источник сведений о быте и нравах столицы перед Отечественной войной. Среди других известных документов эпохи, в которых мы находим упоминания о связанных с университетом сюжетах, — письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу, корреспонденция П. Я. Чаадаева, эпистолярное наследие Грибоедова и Якушкина.
Начало исторического изучения деятельности Московского университета относится как раз к рассматриваемому нами периоду, т. е. к первому десятилетию XIX в., и связано, подобно многим университетским новшествам этого времени, с именем попечителя М. Н. Муравьева. По его желанию, закрепленному в уставе 1804 г., секретарю совета университета вменялось в обязанность вести университетскую историю, основываясь на тех документах (журналах, протоколах, списках), которые находились в его распоряжении. С 1806 г. на торжественном акте секретарь зачитывал «Краткую историю университета» за прошедший год (к сожалению, все ее экземпляры за 1806–1812 гг., видимо, сгорели при пожаре). К этой работе следует добавить деятельность архивариуса совета, должность которого состояла в наблюдении за университетским архивом и в разборе документов прошлых лет, для того чтобы в будущем составить из них полную университетскую историю.
После пожара университета систематическое изучение его истории приходилось начинать практически с нуля, причем основываясь большей частью на случайно уцелевших материалах и воспоминаниях тех его членов, которые работали еще до 1812 г. Важно отметить, что такая работа началась довольно рано, уже в начале 1820-х гг., в связи с подготовкой И. М. Снегиревым вместе с И. И. Давыдовым и П. В. Победоносцевым сборника речей профессоров, произнесенных ими на торжественных актах, куда составители решили поместить биографические справки о самих профессорах. В ходе работы ими было собрано большое количество сведений, устных и письменных, по истории допожарного университета, и этот материал, несмотря на его несовершенство, стал хорошей базой для дальнейшей разработки, которая началась спустя несколько десятилетий, при подготовке к празднованию 100-летнего юбилея университета.
100-летний юбилей послужил естественным поводом для создания нескольких исследовательских работ, заложивших основы историографии Московского университета. До этого к истории университета несколько раз обращались в журналистской публицистике — так, обзоры, посвященные современному состоянию и истории университета и благородного пансиона помещал, например, издатель «Отечественных записок» П. П. Свиньин; в 1830 г. со статьей «Об участии Московского университета в просвещении России» выступил М. А. Максимович; с началом своей журналистской деятельности в «Московском вестнике», а затем в «Московитянине» регулярно публиковал отрывочные заметки из университетской истории М. П. Погодин, собрав за это время большую коллекцию рукописей и документов из прошлого университета. Однако при подготовке к юбилею впервые был создан большой коллектив исследователей под руководством С. П. Шевырева (в его составе были такие ученые, как, например, К. Ф. Рулье, Г. Е. Щуровский, С. М. Соловьев, П. Ил. Страхов) для составления трех основных трудов: собственно истории Московского университета и двух биографических словарей — университетских профессоров и их воспитанников. Последнему из названных изданий — словарю воспитанников — не повезло: к юбилею был подготовлен только один том, посвященный выпускникам университета первых десяти лет его существования, а дальше работа прекратилась. Издание же «Биографического словаря профессоров и преподавателей» и «Истории императорского Московского университета», написанной С. П. Шевыревым, было выполнено полностью.
«История» Шевырева представляла собой прежде всего систематическое изложение основных событий и законодательных актов, связанных с деятельностью университета за прошедшие сто лет, не ставя перед собой задачу их критического осмысления и анализа. Концепция автора была простой и заключалась в доказательстве постепенного и непрерывного расцвета Московского университета вследствие мудрых попечений правительства и царствующего монарха на ниве народного просвещения. Периодизация истории строилась относительно последовательности царствований, а внутри них — в соответствии со сменой кураторов (затем — попечителей) университета. Нельзя не отметить тщательность подбора автором фактов, характеризующих деятельность того или иного куратора (разумеется, с подчеркиванием ее положительных сторон) и определенную широту в использовании источников, куда, кроме опубликованных документов Министерства народного просвещения, периодических изданий, книг, выпускаемых университетом, вошли многие рукописные материалы (например, бумаги М. Н. Муравьева, собранные Погодиным). Опираясь на объявления о преподавании в университете, Шевырев перечисляет предметы университетского курса и состав ученых за каждый период, а также называет некоторых упомянутых в периодике того времени выпускников университета. Особое его внимание уделено, конечно, монаршим милостям, наградам профессоров, высочайшим посещениям, а также отношению публики к университету, богатым пожертвованиям в пользу просвещения от московского дворянства.
С фактологической точки зрения, гораздо больший интерес, нежели «История» Шевырева, вызывает «Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета». Следует подчеркнуть, что единственный раз за его историю в университете была проделана работа такого масштаба, призванная собрать жизнеописания всех без исключения ученых, работавших во всех отраслях университетской науки за прошедшие сто лет. Авторы статей в словаре представляли различные факультеты и могли с должным основанием судить не только о преподавательских заслугах, но и о научном вкладе ученых. В каждой статье была собрана возможно полная библиография трудов данного профессора. Биографические данные извлекались не только из опубликованных источников, но большей частью из рукописных воспоминаний или устных рассказов современников и учеников этих профессоров и поэтому во многом приобрели теперь для нас характер первоисточника. Из жизнеописаний ученых, работавших в рассматриваемый нами период университетской истории, можно особенно выделить несколько статей о деятельности немецких профессоров, подробно составленных Н. С. Тихонравовым на основании иностранных научных изданий и периодики, интереснейшие воспоминания П. Ил. Страхова о своем дяде, профессоре физики П. И. Страхове, обстоятельную биографию А. А. Прокоповича-Алтонского, написанную С. П. Шевыревым. В целом, оценивая фактический материал, собранный в биографическом словаре и «Истории» Шевырева, следует заметить, что эти издания не потеряли своей ценности и сейчас, являясь необходимым пособием на начальном этапе изучения истории Московского университета.
После 1855 г. развитие исследовательских трудов, касающихся истории Московского университета, шло двумя путями. Во-первых, продолжалась работа по изучению отдельных составляющих университетской внутренней жизни и научной деятельности, истории его ученых обществ, некоторых замечательных профессоров. В печати появляются обзорные статьи, посвященные Обществу любителей российской словесности (М. Н. Лонгинов), Обществу истории и древностей российских (О. Бодянский), Физико-медицинскому обществу (А. Тарасенков). Можно особенно выделить активность ОИДР в разработке сюжетов, связанных с историей университета: так, например, в 1862 г. в «Чтениях в ОИДР» появляется биография талантливого университетского филолога К. Ф. Калайдовича, содержавшая богатый фактический материал о допожарном университете, а в начале 1880-х гг. председатель ОИДР Н. А. Попов подготавливает подробную историю общества, в первом томе которой приводит множество интереснейших архивных документов, рассказывающих о первых годах его существования, дает живые портреты основателей и активных членов общества, попечителей и профессоров университета того времени. Среди трудов других ученых обществ назовем речь, произнесенную в ОИП профессором Г. Е. Щуровским и посвященную основателю общества Г. Фишеру фон Вальдгейму и его вкладу в российскую науку.
Одновременно история Московского университета затрагивается исследователями как часть институциональной истории системы народного просвещения в России. В 1865 гг. появляется очерк М. И. Сухомлинова «Материалы для истории образования в России в царствование Александра I», где автор впервые пытается проследить процесс развития российского просвещения в целом, эволюцию взглядов правительства в этом вопросе, историю основных документов, в частности университетского устава 1804 г., его преемственность, с одной стороны, от существовавших постановлений французских и немецких университетов, а с другой стороны, от проектов, разрабатывавшихся еще во времена Екатерины II. Сравнение деятельности университетов в разные периоды их существования стало темой замечательного обзора В. С. Иконнинова «Русские университеты в связи с ходом общего образования» (Вестник Европы, 1876). В своих «Очерках по истории русской цензуры» к истории Московского университета неоднократно обращался А. М. Скабичевский. На рубеже XIX–XX вв. выходят капитальные, насыщенные фактами труды С. В. Рождественского «Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения» и Н. Н. Булича «Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в.» Либеральная публицистика (В. Е. Якушкин, Б. Б. Глинский), останавливаясь на проблеме эволюции основных положений, регулировавших университетскую жизнь, показывала, как многие из так называемых «университетских свобод», дарованных уставами, на деле оказывались фикцией, а полоса либеральных реформ в области народного просвещения быстро сменялась торжеством реакции; правительство, даже имея благие намерения по отношению к университету, часто нарушало собственные постановления и тем сводило на нет университетскую автономию. В связи с этим возникал вопрос, как вообще следует оценивать попытку введения «университетских свобод» в России, и, например, П. Н. Милюков (статья «Университеты в России», Брокгауз-Ефрон, т. 64) утверждал, что сама идея таких свобод, заимствованная в начале XIX в. из Германии, была ложной, обреченной на провал при существующем в России государственном строе. Другой активно обсуждаемой в 1900-е гг. проблемой стал сословный вопрос в русских университетах, причем интерес опять-таки привлекал именно первый университетский устав 1804 г., в котором была открыто заявлена всесословность высшего образования. В связи с активным студенческим движением на рубеже веков в нескольких журналах появились статьи по истории студенческих кружков и обществ в университетах, затрагивающих и период начала XIX в.
Вторую линию дореволюционной историографии, касавшейся Московского университета начала XIX в., представляют работы, выходившие не в связи с институциональным изучением университета, подчиненных ему и начальствующих над ним структур, а исследовавшие различные персоналии и факты культурной жизни, в особенности литературного процесса, которые неотъемлемой частью входили в историю университета. Именно с последней трети XIX в., одновременно с публикацией большого количества мемуаров, начинается серьезное изучение биографий многих государственных деятелей, поэтов и литераторов, живших в 1800–1810 гг. Впервые появляются публикации, упоминающие об университетских годах Грибоедова, Чаадаева. Подробное описание молодых лет графа М. Н. Муравьева-Виленского дает его биограф Д. А. Кропотов. Выходят статьи, посвященные «забытым литераторам»: А. Ф. Мерзлякову (РС, 1879), М. Т. Каченовскому (Библиографические записки, 1892), М. Н. Муравьеву (ЖМНП, 1894). В 1880 г. А. А. Васильчиков, получивший доступ к богатейшему архиву семьи Разумовских, пишет исследование, значительную часть в котором составляет биография графа А. К. Разумовского, описание и оценка его деятельности на посту попечителя Московского университета и министра народного просвещения. Особой вехой в развитии литературоведения становится выход в 1885 г. собрания сочинений К. Н. Батюшкова с обширными комментариями Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова, где впервые были собраны сведения о всех упоминаемых Батюшковым именах его друзей и знакомых, в т. ч. московских литераторах, многие из которых были связаны с университетом. Перед исследователями реально встала задача полного освещения культурной среды российского общества, которую пытались решать в своих словарях С. А. Венгеров и А. А. Половцов, но, к сожалению, ни одна из этих работ не была завершена.
150-летний юбилей университета, приходившийся на 1905 г., по понятным причинам не мог быть отмечен широко и не сопровождался крупными историческими публикациями. Отчасти этот пробел был восполнен во время другого юбилея — праздновавшегося в 1912 г. 100-летия победы в Отечественной войне. В этот год, наряду с множеством впервые опубликованных архивных материалов и исследований, посвященных различным эпизодам войны, вышли и работы, вводившие в оборот новые документы, связанные с отъездом университета из Москвы, пожаром здания и гибелью его имущества (К. Военский, В. Эйнгорн), а также обобщающая статья ректора университета М. К. Любавского «Московский университет в 1812 г.» (Чтения в ОИДР), вкратце излагавшая историю допожарного университета, останавливавшаяся на именах и характеристиках его замечательных профессоров первого десятилетия XIX в. и рассказывавшая о трагических событиях конца августа — начала сентября 1812 г.
В послереволюционный период традиция историографического описания Московского университета была прервана и не восстанавливалась в течение нескольких десятилетий. После прекращения деятельности ОИДР из всех научных обществ при университете только Общество испытателей природы чувствовало преемственность своей истории от времени начала XIX в. К своему 135-летнему юбилею ОИП выпустило книги С. Ю. Липшица «Московское общество испытателей природы за 135 лет», «Г. Ф. Гофман и его ученик Л. Ф. Гольдбах» и Б. М. Житкова «Г. И. Фишер», рассказывавшие об основателях общества и первом периоде его существования. Одновременно с этими работами большой коллектив историков подготовил серию статей под названием «Очерки по истории Московского университета», вышедшую в свет в юбилейном 50-м выпуске ученых записок МГУ. «Очерки» представляли собой первую попытку построения концепции университетской истории в советской историографии. В целом придерживаясь распространенного в то время социологического подхода, они рассматривали университет в качестве выразителя интересов господствующего дворянского класса, верного помощника правительства в борьбе с революционными идеями. В то же время некоторые объективные положения, перенесенные авторами из дореволюционных работ, делали концепцию несвободной от противоречий, за которые их резко критиковали в последующие годы: так, I очерках был сохранен тезис о положительном значении для университете либеральных реформ Муравьева, а в более раннем периоде подчеркивался позитивный просветительский характер деятельности И. Шварца и возглавляемого им Дружеского ученого общества.
Настоящее складывание новой концепции истории университете относится ко времени выхода двухтомной «Истории Московского университета», приуроченной к его 200-летнему юбилею. Статьи в этой работе, посвященные рассматриваемому нами периоду, написаны М. В. Нечкиной — наиболее крупным послевоенным советским исследователем, занимавшимся проблематикой общественной и культурной жизни начала XIX в. в целом. На примере ее глав в «Истории Московского университета» мы можем увидеть как наиболее сильные, так и слабые стороны нового концептуального подхода. Дело в том, что этой работе предшествовали два капитальных исследования М. В. Нечкиной, тематически связанные с периодом начала XIX в., — «Грибоедов и декабристы» (1-е изд., 1947 г.) и главы о допожарной столице в 6-томной «Истории Москвы» (1954 г.). Из этих трудов видно, какую огромную работу проделала исследовательница, собирая различные источники, опубликованные и неопубликованные, анализируя воспоминания современников, периодическую печать, следственные дела декабристов и т. д. В книге «Грибоедов и декабристы» ею нарисована широкая панорама студенческой жизни Московского университета, выявлен широкий круг университетских знакомых Грибоедова, составлявших студенческие кружки начала XIX в., рассказано о влиянии университета на формирование мировоззрения молодых людей, характерных деталях их повседневной жизни. Главы, посвященные началу XIX в. в 3-ем томе «Истории Москвы», показывают нам богатую яркими красками картину московской культурной жизни, в которой Московский университет занимал одно из центральных мест. Эти работы до сих пор остаются одними из лучших памятников советской историографии для рассматриваемого нами периода.
К сожалению, соответствующие части «Истории Московского университета» не дают такой насыщенной фактами и цельной картины. В фактологическом отношении «История» уступает не только труду Шевырева, но, как ни странно, местами даже «Очеркам» 1940 г. Автор искусственно суживает охватываемые им явления, руководствуясь двумя основными положениями, которые красной нитью должны пройти через всю историю университета: 1) о непрерывно возрастающей роли отечественных ученых в Московском университете, борьбе прогрессивных русских профессоров за утверждение материалистических идей против враждебно к ним настроенных представителей западной науки; 2) о значении университета как огромного революционизирующего центра, в недрах которого постоянно зреет сопротивление царскому режиму, с которым сражаются многие выпускники университета (от декабристов, Герцена и Огарева до бунтующих студентов 1905 г.).
В соответствии с этим особое значение приобретала не мирная, созидательная жизнь университета, а конфликты внутри него: столкновения русских профессоров с иностранцами, выражения студенческого протеста. Научный вклад того или иного ученого оценивался в зависимости от соответствия его работ «материалистическим идеям»; напротив, подвергались остракизму религиозно-мистические увлечения, даже в рамках просветительской программы (за что и был осужден профессор Шварц). Реформы Муравьева и либеральный устав 1804 г. не могли быть оценены положительно, т. к., по мнению авторов, представляли собой только уловки правительства, причем всячески подчеркивались его возможности нарушать сверху университетскую «автономию». Значение деятельности М. Н. Муравьева для университета умалчивалось, и роль приглашенных им немцев (за исключением, может быть, уже устоявшейся, благодаря МОИП, репутации Г. И. Фишера фон Вальдгейма) оценивалась негативно. Фактическое наполнение глав сводилось к перечислению имен и заслуг русских профессоров: Страхова, Мерзлякова, Мудрова и др., а также к рассказу о достижениях университетских научных обществ. Хотя университетские историки А. И. Гурьянов, В. В. Сорокин, И. А. Федосов проводили архивные поиски материалов по истории университета, результаты их работы почти не были отражены в юбилейном издании. Среди упомянутых авторами студентов акцент был сделан на будущих декабристах и их предполагаемых конфликтах с профессорами (диспут о республике на этико-политическом отделении в 1813 г. и т. п.). В целом следует признать, что такое изложение сильно искажает картину университетской жизни, а обеднение фактического материала в угоду концепции практически обесценивает это издание на том этапе, когда необходимо глубокое изучение истории Московского университета.
200-летний университетский юбилей сопровождался лавиной публикаций, в которых авторы, представляющие различные отрасли науки, ставили задачу показать вклад Московского университета в соответствующую область научных знаний. К сожалению, не все эти работы одинакового качества, по крайней мере по отношению к рассматриваемому нами периоду. Наряду с основательными работами, написанными с использованием архивного материала и широкой научной эрудицией (например, А. Ф. Кононков. «История физики в Московском университете, 1755–1859»), определенное количество авторов ограничивались цитированием «Биографического словаря» и сборников речей профессоров, а то и того меньше. Авторами плохо учитывалась слабая расчлененность науки начала XIX в., необходимость «универсализма» ученых, который часто превратно истолковывался, что отражало вообще слабую разработанность этих проблем в историографии истории отечественной науки.
В специальных исследованиях по истории университета, появлявшихся после 1955 г., также преобладал «отраслевой подход», заложенный в юбилейных публикациях, и, за редкими исключениями, эти работы не затрагивали общих проблем университетской истории в конкретные периоды времени. Только немногие среди них касались периода начала XIX в. Так с достаточной глубиной университетскими библиографами была разработана история формирования библиотеки университета (Н. А. Пенчко, В. В. Сорокин), в нескольких монографиях освещались фигуры замечательных университетских ученых (А. Ф. Коненков «Страхов», Ю. В. Григорьев «Рейсс»). Некоторая активизация исследовательской деятельности наступила на рубеже 1970—1980-х гг. с приближением 225-летнего юбилея: был издан ряд справочников по истории МГУ, выпущена «Летопись Московского университета», собравшая основные факты его истории.
Наряду с работами историков Московского университета в послевоенные годы не менее важную историографическую линию составляли труды по изучению русской культуры XVIII — начала XIX в., которым занималось советское литературоведение, представлявшее, в основном, ленинградскую филологическую школу. В 1950—1960-х гг. в связи с подготовкой ряда сборников, посвященных русским поэтам начала XIX в., возникли новые исследования, которые изучали как биографические подробности их жизни, так и по-новому открывали их место в литературном процессе предпушкинской поры. Тем самым, в поле зрения ученых вновь оказались имена таких поэтов, как М. Н. Муравьев, А. Ф. Мерзляков, 3. А. Буринский, М. В. Милонов и др., и разработка проблем их творчества позволяла заново взглянуть на духовную атмосферу Московского университета того времени. Большое значение здесь имели работы Ю. М. Лотмана, которому принадлежат основополагающие исследования об университетских кружках начала XIX в., Дружеском литературном обществе, творчестве и мировоззрении А. Ф. Мерзлякова. Исследователи творчества Грибоедова также внесли свой вклад в освещение некоторых проблем университетской истории: так, в статье С. А. Фомичева о несохранившейся комедии «Дмитрий Дрянской» разобран эпизод журнальной полемики профессоров и дается подробная характеристика мировоззрения, литературных и политических взглядов некоторых учителей Грибоедова, а статья Л. С. Дубшана «Из московских лет Грибоедова» содержит наиболее полное на нынешний момент описание среды воспитанников Московского университета 1800-х гг. и их возможных дружеских знакомств. Пушкинистов всегда привлекала фигура Н. Ф. Кошанского, учителя русской словесности в Царскосельском лицее, которому посвящен ряд исследований, в том числе и совсем недавних («И в просвещении быть с веком наравне», СПб., 1992). Проблемы жизни и творчества М. Н. Муравьева в целом ряде публикаций разрабатывались JL И. Кулаковой и В. А. Западовым, правда, преимущественно затрагивая ранние годы его жизни. Было подготовлено к печати полное собрание писем М. Н. Муравьева, хранившееся в ОПИ ГИМ, но к настоящему времени оно издано лишь частично («Письма русских писателей XVIII в.», JI., 1980). Наконец, определенным этапом, подводящим итог большому периоду изучения русской культуры, станет завершение публикации биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917» (к настоящему времени вышло 4 тома, от А до П).
Таким образом, нынешнее состояние отечественной историографии истории Московского университета создает хорошие предпосылки для дальнейшего развития проблемных исследований, которые, очевидно, должны сочетать элементы как институционального подхода, развитого в работах прошлого века, так и культурологических методов, активно применяемых в современной исторической науке.
Коротко остановимся на обзоре иностранных произведений, использованных в нашей работе. Специальных монографий по истории российских университетов за рубежом не существует, однако некоторые проблемные работы по русской истории затрагивают исследуемые нами сюжеты. Наибольший вклад сюда внесла немецкая историография, которую уже в течение десятилетий, и особенно в послевоенное время, занимают проблемы русско-немецких культурных и научных связей. Важной и очень ценной для нас особенностью работы немецких историков является то, что они, в малой степени используя русские источники и опираясь лишь на основные труды российской историографии, строят свои исследования, отталкиваясь от источников, находящихся в Германии. Уникальную роль в изучении взаимодействия русской и немецкой культуры первой четверти XIX в., которую здесь играет хранилище документов Геттингенской библиотеки (Staats-und Universitatsbibliotek (SUB) Gdttingen), доказывает то, что первые работы (М. Wischnitzer (1907), W. Stieda (1930)) черпали сведения именно из этого архивного хранилища. Особенно интересна для изучения истории Московского университета начала XIX в. работа В. Штиды, где опубликованы многие письма немецких профессоров, приглашенных в Россию, рассказывается о ходе переговоров с ними, об их впечатлениях от жизни в Москве. В то же время в концепциях обеих работ усматривается чрезмерное преувеличение степени зависимости русского высшего образования от немецкой науки (Вишницер даже выдвигает тезис, что вследствие реформ Муравьева «Московский университет представил собой своего рода русскую копию Геттингена»[5]).
После войны изучение деятельности немецких ученых в России и их влияния на русскую науку в западной Германии ведет известный исследователь русской истории Э. Амбургер, а в восточной — группа историков из научных институтов по изучению СССР и стран народной демократии (Mohrmann, Mühlpfort, Winter). Труды Амбургера богаты фактическим материалом и интересными замечаниями, в то время как статьи берлинских историков, относящиеся к 1950–1960 гг., выдержаны в строгих рамках классового идеологического подхода и, как правило, не выходят за пределы обзора советских работ. Но неожиданный взлет интереса к российско-немецким культурным связям наступает в первые годы перестройки: в Мюнхене выходит сборник «Россия и немцы. Тысячелетнее соседство» (Tausend Jahre Nachbarschaft. RuBland und die Deutsche. München, 1989), а уже после объединения двух германских государств появляется серия «Россия и русские: взгляд с немецкой стороны» (под редакцией Л. Копелева), где в томе, посвященном XIX в., вновь продолжается рассказ о немецких профессорах Московского университета, с публикацией новых документов из Геттингенского собрания (RuBen und RuBland aus deutscher Sicht. München, 1992; автор статьи H. Müller-Dietz).
Английские и французские историки также внесли свой вклад в изучение российского высшего образования, однако их отличает хотя и интересный концептуально, но поверхностный и не подкрепленный знанием источников взгляд на его развитие. Автор капитальных монографий «История русской образовательной политики» и «Русская традиция в образовании» Н. Ханс, в фактическом отношении основываясь на трудах Рождественского, тем не менее склонен считать главным двигателем александровских реформ высшего образования российских масонов. По его мнению, именно масонская идеология обосновывает в это время национальное возрождение государств. В России император Александр, полностью разделявший масонские взгляды и даже входивший в одну из лож (sic!), сознавал необходимость синтеза европейской университетской традиции с национальным характером его страны; таким образом, его реформы должны были послужить ступенью общеевропейского возрождения и приветствовались масонами всего мира (например, Т. Джефферсоном).
Впрочем, более взвешенную оценку образовательных реформ находим мы в других работах (М. Raeff — о Сперанском, A. Koyré — о развитии философских идей начала XIX в., где большое место уделено изучению позиции H. М. Карамзина). Интереснейшее произведение Э. Омана (Е. Haumant) посвящено исследованию русского просвещения как сферы приложения французской культуры. Определенное место посвятили университетским преобразованиям исследователи государственной деятельности Александра I (H. Troyat, С. de Grunwald). Важный для университетской истории анализ взглядов на народное образование в России Ж. де Местра и его переписки с А. К. Разумовским находится в книге Р. Триомфа (R. Triomphe).
Наконец, особо отметим недавнюю книгу американского историка Джеймса Флинна (J. Т. Flynn) «Университетские реформы Александра I» — единственную специальную работу в зарубежной историографии по теме, близкой к проблемам нашего исследования. Автора отличает хорошее знакомство с трудами отечественных историков, ясность композииции и концептуальных подходов. Однако в целом по уровню обсуждаемых проблем изложение не выходит за рамки труда С. В. Рождественского, что легко объясняется отсутствием у автора возможности ознакомиться с документальной базой, находящейся в России.
Часть источников, использованных в этой работе, как опубликованных (например, письма немецких профессоров), так и архивных, никогда ранее не переводилась на русский язык. Везде, если это специально не оговорено, документы приводятся в нашем переводе.
Глава 1
Реформы Московского университета 1803–1806 г. и его первый попечитель М. Н. Муравьев
1. Университет на рубеже XVIII–XIX веков
В начале XIX в. Московский университет переживал период обновления, резкой перестройки своей административной структуры, системы преподавания. Оживилась его научная деятельность. Университет объединил вокруг себя ученых в нескольких научных обществах, объявлял конкурсные задачи, публиковал собственные исследования и переводы иностранных трудов. Изменилась и общественная роль университета: благодаря публичным лекциям, которые открылись с 1803 г., сюда стекались различные слои московского общества, тянувшиеся к знаниям, увлеченные новейшими философскими учениями. При университете работал музей натуральной истории, ставший после щедрых пожертвований одной из крупнейших научных коллекций Москвы, доступной для людей всех чинов и званий. Для широкой публики университет был местом, где выпускались ее любимые журналы. Количество периодики, выходившей в университетской типографии в 1803–1807 гг., значительно выросло по сравнению с концом XVIII в., здесь впервые появилось несколько специализированных научных изданий. О Московском университете заговорили за границей, ставя его в один ряд со знаменитыми университетами Европы и предсказывая ему блестящее будущее[6].
Этому замечательному взлету предшествовал трудный в университетской истории период, охватывавший последнее десятилетие XVIII в., конец правления Екатерины II и царствование Павла I. К январю 1803 г., времени начала преобразований, в университете насчитывалось 64 студента[7]. Университетское образование не было распространено среди дворянства, предпочитавшего военную службу: для них открывалась дорога в кадетские корпуса и подобные им учебные заведения. С другой стороны, дети священников, мещан и купцов, желавшие получить образование, как правило, поступали в духовные семинарии. Правда, большой популярностью в Москве пользовалась гимназия при университете, дававшая многим разночинцам и детям небогатых дворян начальное образование, необходимое для будущих служебных занятий. В университетской гимназии к началу XIX века обучалось более тысячи учеников, однако дальше, в университет, переходили единицы, и хотя уровень знаний, необходимых для поступления в университет, был невысок, даже это не способствовало притоку студентов.
Университет, стоявший тогда особняком в общественной жизни Москвы, не всегда мог привлечь к себе внимание яркими личностями преподавателей или глубоким содержанием лекций. Как раз такой период оскудения университета мы наблюдаем с начала 1790-х гг. Уже прошло время Дружеского ученого общества, сложившегося в университете в 1782 г. вокруг профессора И. Шварца, при поддержке М. М. Хераскова и Н. И. Новикова, которое притягивало молодое поколение московского дворянства новизной философско-мистических идей, возвышенной атмосферой нравственного поиска и заслужило смелостью своих педагогических и филантропических проектов неприязнь правительства. С разгромом кружка Новикова университет вступил в полосу обскурантизма — неизбежного состояния в эпоху общественного страха перед событиями Великой французской революции. Императрицей и ее ближайшим окружением владела мысль о том, какой опасностью для существующего строя может быть свободное развитие наук, которое они теперь старались всеми силами ограничить, поставить под свой контроль. Искоренить «злоупотребления ума» европейских философов, которые, как полагали, ложными теориями развращали народ и ввергали страну в пучину революции, призвано было новое направление университетского преподавания. Как теперь формулировали, просвещение человека состоит в науках, «касающихся особенно до его сердца и нравственности, а не до разума и остроты»[8]. Университет «одушевляется, вообще, некоторым, так сказать, практическим духом, который все, касающееся до наук, склоняет ко всеобщей пользе и выгоде; те бесполезные спекуляции, которые ни к чему другому не служат, как только к замешательству и отягощению головы, совершенно изгнаны из училищ наших»[9].
Эти настроения, распространившиеся в последние годы екатерининского царствования, еще больше усилились после вступления на престол Павла I. Директором Московского университета был назначен возвращенный из ссылки И. П. Тургенев, член кружка Новикова, принесший с собой дух московских мартинистов конца 80-х гг. Воспитание в университете и, особенно, в благородном пансионе приобрело однобокий нравственно-религиозный характер, естественно-научные, исторические и политические предметы преподавались мало. Правда, И. П. Тургенев, по отзывам современников человек добрый, честный и справедливый, поощрял литературные занятия воспитанников, хлопотал о средствах для посылки наиболее талантливых продолжать обучение за границей, где тесные связи сближали директора с Геттингенским университетом. Именно благодаря хлопотам Тургенева в Геттингене уже в первые годы александровского царствования образовалась корпорация русских студентов, которой покровительствовал знаменитый историк А. Л. Шлецер и откуда вышла впоследствии целая плеяда замечательных общественных деятелей России[10]. Однако директор не мог преодолеть одного из наиболее существенных недостатков университета — слабости его материальной базы и нехватки квалифицированных профессоров. В январе 1803 г., по сведениям семидневных рапортов, в университете на трех факультетах — философском, юридическом и медицинском — было 9 ординарных профессоров (т. е. тех, которые занимали университетскую кафедру) и 4 экстраординарных, причем если сравнить их с упомянутым выше числом студентов, то получится, что на одного профессора приходилось по пять студентов. Университету недоставало учебников, он не мог приобрести учебных пособий, оборудования для физической и химической лабораторий, астрономических наблюдений, занятий медициной. Ограничения на ввоз книг, введенные Павлом I, не позволяли закупать новые европейские издания, также не хватало средств и на выпуск собственных книг, а типография не давала стабильного дохода и отдавалась на откуп. Все это проистекало из отсутствия у правительства Павла I малейшего желания поощрять университетское образование, как не приносящее, в его понимании, непосредственных выгод государству. Поэтому возникали проекты «военизировать» обучение в университете, а благородный пансион превратить в кадетский корпус. Эти идеи исходили от куратора университета П. И. Голенищева-Кутузова и вызывали даже у благонамеренного Тургенева крайне отрицательную реакцию[11].
Мы еще остановимся подробно на характеристике личности и взглядов П. И. Голенищева Кутузова в следующих главах, а пока отметим, что это был человек непомерного самомнения и крайней нетерпимости к другим, почитал себя одной из крупнейших фигур московского масонства и выдающимся поэтом и люто ненавидел своих противников в обеих этих сферах — и литераторов, и масонов, приверженцев противоположной ему школы Н. И. Новикова. На рубеже XVIII–XIX в. он был од ним из четырех кураторов университета (наряду с престарелым М. М. Херасковым, князем Ф. Н. Голицыным и М. И. Коваленским) и к тому же претендовал на главенство среди них, что чрезвычайно усложнило управление университетом и взаимоотношения между кураторами и директором (появилось даже предложение создать совет кураторов в качестве коллегиального органа руководства университетом). В этом свете более понятным должен показаться документ, обнаруженный нами среди бумаг И. П. Тургенева, — черновик письма неизвестного куратора, в котором угадывается П. И. Голенищев Кутузов, адресованного министру народного просвещения графу П. В. Завадовскому вскоре после учреждения министерства, видимо в начале 1803 года.
Как пишет куратор, уже в предыдущем своем рапорте «представил я частию непорядки Правления здешнего места ученого, вред от того ныне происходящий и опасности, могущие последовать. Исправить сии, и множайшие, трудно и неудобно, потому что основание правления, состоящее в Директоре, испорчено, ослабло, повредилось. Упрямство, непокорность, самство во всех видах Корпуса ощутительны. Толк Мартын (т. е. „мартинизм“. —А. А.), которого он ученик и учитель, вкоренил в нем и в круге его дух независимости, равенства, свободы так глубоко и сильно, что он почел за доблесть подвергнуть себя гневу покойной Императрицы Екатерины Великия, жертвовать своим спокойствием, честию, благоденствием своим, чем отменить принятые им от Новикова правила». Что до самого университета, то в нем, по мнению куратора, процветает воровство и злоупотребления, казенных студентов и учеников содержат из рук вон плохо, «учение так слабо и упало, что, как я уже докладывал, лучшие лекции не преподаются, а нижние слабыми учителями за дешевую цену»; равно и в благородном пансионе «содержание пристрастное, учение слабое, и для вида только, нравственность не в лучшем состоянии: многих отцы и родственники жалуются»; библиотека университетская, в которой хотя и насчитывается 6000 томов, «в прежалком состоянии», без каталога, составление которого еще семь лет тому назад было поручено X. А. Чеботареву, «ленивейшему из профессоров, но находящемуся под покровительством директора»[12]. Судя по тому, что текст этого рапорта, более напоминающего донос, найден в архиве И. П. Тургенева, тому было известно его содержание, что лишь увеличило напряженность его отношений с кураторами.
Ссоры между кураторами и директором, продолжившиеся в первые годы после воцарения Александра I, дали дополнительный импульс к подготовке реформ Московского университета.
2. Первые шаги университетских реформ
Необходимость преобразований в области народного просвещения была вполне ясна той небольшой группе либерально настроенных дворян, которая сплотилась вокруг престола в первые годы царствования Александра I. Реформы должны были стать неизбежным продолжением политики Петра I и Екатерины II, направлявшей Россию в лоно европейской цивилизации. Одним из первых указов нового императора было восстановлено свободное общение с Западной Европой. Провозглашалась верность принципам просвещенного абсолютизма екатерининских времен. Проекты либеральных реформ привлекли на сторону императора общественное мнение дворянства, успокоили недовольство, вызванное деспотическим правлением Павла I. Они предназначались для решения многих административных и хозяйственных проблем России, вели к установлению в ней порядка, основанного на верховенстве закона. Для воплощения этих проектов был необходим целый слой новых, образованных людей, способных осознанно и последовательно защищать интересы реформ от косности крепостнической России. Молодое поколение нужно было освободить от духа рабства, пронизывающего крепостную систему. Отмена рабства, крепостного права, необходимая России для ее экономического и политического движения вперед, осознавалась молодыми друзьями царя как цепь последовательных преобразований, ведущих к постепенному освобождению народа через развитие в нем самом духа просвещения. Как подчеркивает воспитатель царя, швейцарец Цезарь Лагарп, в послании к Александру от 16 октября 1801 г., перед Россией стоят две насущные реформы — просвещение народа и разработка гражданского уголовного уложения, причем гражданская свобода может быть лишь следствием успехов просвещения и связанной с ними ликвидации рабского состояния в народе[13].
Для проведения в жизнь такой политики у правительства возникает новый инструмент — учрежденное 8 сентября 1802 г. Министерство народного просвещения. Но еще до создания министерства преобразования в области просвещения разрабатывал учрежденный в Петербурге 18 марта 1802 г. Комитет для рассмотрения новых уставов Академии наук, Российской академии и Московского университета. В него вошли сенаторы М. Н. Муравьев и граф Северин-Потоцкий, академик Н. И. Фус, профессор Московского университета Ф. Г. Баузе, письмоводителем комитета был назначен В. Н. Каразин. Комитету было велено, «сообразив их (уставы. — А. А.) с намерениями сих учреждений и с истинным средством расширения пользы их и действия на народное просвещение, сравнить с лучшими в сем роде иностранными заведениями и по сему сравнению сделать надлежащие перемены или дополнения, какие к лучшему устройству могут быть нужными»[14].
Результаты работы этого комитета были им изложены в докладе, поданном на высочайшее имя 8 августа 1802 г. (см. Приложение 1). Большая часть доклада посвящена преобразованию Академии наук, новый проект которой, представленный на рассмотрение императора, датирован тем же числом. Однако комитет счел необходимым, основываясь на той информации, которую мог ему предоставить профессор Баузе, и, вероятно, других сведениях, которыми обладали члены комитета, в самых общих чертах обрисовать текущее положение и возможности для улучшения деятельности Московского университета, заложив, таким образом, первые основания готовящейся университетской реформы. «Что касается до Московского Университета, то для доставления ему всей деятельности и влияния, каковых он может быть способен, Комитет устремил все свое внимание как на рассмотрение недостатков, препятствовавших ему доныне исполнить совершенно назначение свое, так и на приискание истинных способов увеличить приносимую им пользу. С одной стороны, усмотрели мы, что первоначальное начертание его было чрезвычайно ограничено и малым числом, и содержанием Профессоров, и скудным иждивением, употребляемым на студентов, которые ожидали нетерпеливо времени оставить Университет, не окончив полного учения. Гимназия, смешанная с университетом, занимала главное внимание как начальников оного, так и публики, налагая некоторое неуважение на самой Университет… Публика не могла судить о нем выгодно, видя толпы отроков скудно призренных, которые наполняли большую часть его зданий».
Если проблему взаимоотношений гимназии и университета, по мнению комитета, можно преодолеть, разделив их здания и приобретя соседний с университетом Пашков дом, то вопросы внутреннего переустройства можно разрешить лишь составлением нового устава университета, в рассмотрение которого комитет не входил, оставляя это его непосредственным попечителям. Тем не менее, комитет приводит несколько конкретных мер, послуживших бы к улучшению состояния университета. Так, сообразуясь с необходимостью расширения преподавания предметов, предлагается преобразовать юридический факультет в политико-юридический или «отделение гражданских познаний», где преподавали бы уже не одно «познание Римских прав, не сходных с нашими законами, и самих сих законов, не приведенных еще в систему», а современные науки, такие как коммерция, сельское домоводство, технология, статистика, политическая экономия.
Для улучшения финансового состояния университета, не прибегая к существенному увеличению расходов на его содержание, в докладе возникает идея взимать плату (!) со всех его воспитанников (кроме 60 казенных учеников, переведенных в студенты из гимназии, а также 250 студентов, которые представят справку из Приказа общественного призрения о недостаточном состоянии их семей), что не только приносило бы доход университету, но и избавило бы его от праздных слушателей. Однако нельзя не заметить, что введение такой платы, хотя и небольшой (как планировалось, 10 руб. в гимназии и 25 руб. в университете в год) и с названными выше оговорками, серьезно бы нарушало заложенные М. В. Ломоносовым и И. И. Шуваловым принципы доступного для всех, всесословного и бесплатного высшего образования в России, отпугивая вовсе не праздных слушателей, которых в эти годы попросту не было, а стремившихся к научным знаниям выходцев из беднейших слоев русского общества.
На заключительных страницах доклада комитет выдвигал меры по незначительной демократизации управления университетом — так, директора, по его мнению, лучше было бы не назначать от правительства, а выбирать на общем совете профессоров из трех предложенных правительством кандидатур, а также некоторые права предоставить избираемому профессорами правлению из трех человек. Наконец, члены комитета подчеркивали необходимость единых требований, программ и методов преподавания, единого органа для сообщения между всеми учебными заведениями, что с неизбежностью вело к учреждению Министерства народного просвещения.
Первые месяцы работы нового министерства оказались плодотворными. Разработка мер по реформированию системы образования была тесно связана с обсуждением политических реформ в Негласном комитете. Но вместе с осознанием глубины других государственных проблем управления Россией образовательные реформы отходят здесь на второй план. Таким образом, они преимущественно создавались вне Негласного комитета, хотя некоторые его члены активно работали в области общественного просвещения[15]. Наиболее значительную роль в подготовке реформ сыграли барон Ф. И. Клингер, князь А. Чарторижский, В. Н. Каразин и М. Н. Муравьев. В результате уже 24 января 1803 г. были приняты Предварительные правила Министерства народного просвещения, содержавшие основы структуры образовательных учреждений в России.
Согласно Правилам, все народные училища делились на четыре группы: 1) приходские училища, 2) уездные, 3) губернские или гимназии, 4) университеты. Приходские училища устраивались по одному на 1–2 прихода, уездные — в каждом уездном городе, гимназии — в каждом губернском городе. Для осуществления высшего управления училищами первых трех групп вводились шесть учебных округов, во главе которых ставились университеты. Университет был призван не только выполнять свою непосредственную функцию обучения, но и контролировать и укреплять преподавание в рамках всего округа. Кроме уже существовавших трех университетов (в Москве, Вильне и Дерпте) учреждались три новых — в Казани, Харькове и Санкт-Петербурге, а также для университетов предназначались города Киев, Тобольск, Устюг Великий и «другие, по мере способов, какие найдены будут к тому удобными»[16]. Каждый университет имел собственное правление и совет (общее собрание членов университета), состоявший из профессоров всех факультетов. Связь между учебным округом и министерством осуществлял попечитель университета, а совет попечителей и других высочайше назначенных лиц составлял Главное правление училищ.
Новая система, по существу, впервые в истории России вводила внутреннюю автономию университетов. Вместо прежнего поста директора, назначаемого сверху, была установлена новая должность — ректор, избираемый общим собранием университета и представляемый Главным правлением училищ через министра народного просвещения на высочайшее утверждение. Ректор возглавляет правление университета и одновременно, через посылаемых им профессоров ежегодно обозревает состояние училищ своего округа, получает донесения от гимназий по учебной и хозяйственной части, о которых докладывает попечителю. В правление университета также входят деканы, выбираемые профессорами по каждому отделению (факультету). Звание профессора устанавливает общее собрание университета по большинству голосов, и далее его утверждает министр по представлению попечителя. Университет получает право присваивать ученые степени, каждая из которых соответствует определенному классу в Табели о рангах. (Кандидаты — 12 класс, магистры — 9 класс, доктора — 8 класс). 8 класс также получали адъюнкты университета, ординарные профессора числились в 7 классе, а ректор, во время пребывания в должности, в 5 классе. Студенты которые по окончании курса наук не получили диплома ученой степени, принимались на службу 14 классом.
Для подготовки учителей приходских и уездных училищ при каждом университете учреждался педагогический институт, куда вступали казеннокоштные студенты, получая степень кандидата; там они совершенствовали свои знания, а затем обязаны были в течение по крайней мере 6 лет прослужить в звании учителя. Университету предоставлялось право суда над подчиненными ему лицами. Важным новшеством, увеличивавшим общественную роль университета, явилась передача ему всех прав цензуры на книги, печатаемые в губернии, где он находится.
Таким образом, принятые правила заложили основу развития системы народного просвещения, поставив ее под четкий государственный контроль, но и наделив значительной внутренней свободой. В соответствии с ними составлялись уставы отдельных университетов, положения гимназий и других училищ, созданием которых занимались попечители учебных округов. Предварительные правила Министерства народного просвещения были разработаны людьми, непосредственно связанными с образовательными учреждениями и заинтересованными в из развитии. Так, Адам Чарторижский, представитель самой влиятельной фамилии в Литве и куратор Виленского университета, желал укрепления и расширения возможностей этого учебного заведения; барон Клингер, друг юности и постоянный корреспондент И. В. Гёте, назначенный куратором в Дерпт, заботился о распространении просвещения в областях с традиционным преобладанием среди образованных слоев остзейских немцев, В. Н. Каразин, будучи сам помещиком Харьковской губернии, явился инициатором создания университета в Харькове, организовав для этого значительные пожертвования местного дворянства. Сановным покровителем Московского университета стал его бывший воспитанник, сенатор М. Н. Муравьев.
3. М. Н. Муравьев и его роль в создании университетского Устава 1804 г
Михаил Никитич Муравьев — одна из самых замечательных фигур начала александровского царствования. Учитель великих князей Александра и Константина по русской словесности и нравственной философии, поэт-сентименталист, литературный предшественник Карамзина, отец двух декабристов Никиты и Александра, родной дядя Лунина, воспитатель Батюшкова и покровитель Жуковского, Муравьев оставил о себе удивительно единодушную память среди современников, почитавших его доброту, честность, верность какому-то особому гуманистическому идеалу человека внутренне свободного и думающего только о благе других, который он выработал в течение всей своей жизни. Так, бескорыстной помощи Муравьева была обязана своим появлением «История государства Российского», ведь именно он выхлопотал для Карамзина звание историографа и возможность свободной работы с источниками. При попечителе Муравьеве Московский университет вступает в полосу расцвета.
М. Н. Муравьев родился в 1757 г. в Смоленске. Детство он провел в Оренбурге, где его отец, Никита Артамонович, был вице-губернатором, а затем вслед за отцом, как того требовала его служба, много ездил по России. С 11 лет он живет в Москве, учится в университетской гимназии, а с 1770 г. — в университете, где находится в числе самых прилежных учеников. С большим интересом слушает Муравьев знаменитые тогда в Москве лекции профессоров Барсова, Шадена, особенно увлеченно изучает классическую литературу, античную поэзию. Близкая дружба, со школьных лет и на всю жизнь, связала его с И. П. Тургеневым. Из стихотворного послания Муравьева к нему мы узнаем об окружавшей их атмосфере «храма науки», проникнутой искренним стремлением к знаниям, просвещению:
Подробности об университетской жизни Муравьева находим мы в воспоминаниях его неизвестного товарища по учебе (подписавшегося инициалами Н. Р.), которые тот изложил в письме к вдове Муравьева, Екатерине Федоровне, по ее просьбе вскоре после кончины попечителя. По приглашению Никиты Артамоновича Н. Р., сам будучи казеннокоштным студентом, а по возрасту пятью годами старше своего соученика, поселился у них в доме, чтобы заниматься с юным Муравьевым. «Почему и ездили мы в университет вместе с М<ихаилом> Н<икитичем>: в университете же обучались мы французскому, немецкому, латинскому языкам, истории, географии и математике; дома же заданные уроки повторяли. Итак, извольте из сего усмотреть, что я не столько был учителем М<ихаила> Н<икитича>, сколько сотоварищем в учении. При сих наших домашних упражнениях весьма часто изволил бывать и слушать покойный родитель Н<икита> А<ртамонович>, и сколько мог я приметить, он был оными весьма доволен. У нас время текло так, что мы не знали ни малейшей скуки. В учении Михайла Никитич, будучи еще дитя, шел как исполин; он не доволен был классическими книгами, но старался разбирать труднейшие сочинения особливо в латинском языке… Он был кроток и смирен; приятелями он имел одного или двоих одинаких лет и одинаких нравов; был весьма добродетелен: ибо ежели из бедных просил кто у него милостыни, то отдавал он все, что у него было. В университете пробыл Михайла Никитич не более 3 или 4 лет»[18].
Кумиром, нравственным примером, точкой отсчета для Муравьева, как в литературе, так и в жизни, с университетской поры становится Ломоносов. Особенно обогатила его представления об этой личности поездка на север, которую он предпринял вместе с отцом в 1770–1771 гг. Муравьев увидел Архангельск, Холмогоры и Куростров, его переполняло восхищение перед гражданским подвигом Ломоносова, желание следовать его примеру, которое он сохранит на много лет. Вынужденный жить в провинции, Муравьев беспокоится, как бы уровень его образования не упал, продолжает самостоятельно заниматься. Постепенно молодым человеком осознается его литературное призвание — поэзия:
С 1772 г. Муравьев переезжает в Санкт-Петербург, где поступает в лейб-гв. Измайловский полк. Свободное время он тратит на литературные упражнения и пополнение своего образования, посещает лекции профессоров Академии наук, учит языки. К двадцати годам он свободно владел французским, немецким, итальянским, латинским и греческим языками, читал по-английски. Его любовью остается древняя филология, и латинский язык он знает настолько хорошо, что даже переводит на него с русского языка поэму Ломоносова «Петр Великий». Среди знакомых Муравьева по военной службе и светским салонам — известные русские писатели того времени, которые благосклонно принимают ученика; вскоре его поэтические произведения, куда входили басни, оды, эклоги, прочие стихотворения, становятся известными в петербургском обществе. Зимой 1777 г. в первый раз со времени окончания учебы посетив Москву, Муравьев избран членом Вольного собрания любителей российского слова при университете, которое желало поощрить молодого поэта. Там же он знакомится с Новиковым и Херасковым, и Новиков приглашает поэта к сотрудничеству в журнале «Утренний свет»[20].
Картину мировоззрения М. Н. Муравьева нам позволяют увидеть его дневники и записки (изданные лишь частично). Это небольшие зарисовки, созданные автором в результате наблюдений над самим собой, своего рода «беседа в уединении», которая, по мнению Муравьева, более полезна, чем беседа в обществе. Перед нами портрет личности цельной, глубоко нравственной. Главное в ней — верность добродетели, т. е. стремлению делать другим добро, в котором и заключены все наслаждения человека. Наиболее действенное средство для приобретения добродетели — просвещение, причем ценность той или иной науки заключена в мере ее нравственного воздействия, ведущего к усовершенствованию личности. Вся система наук — спокойное убежище от пороков страстей и праздности[21].
Также улучшать человека призвана и литература, и писатель должен быть проповедником истины, моральным примером не только в своих произведениях, но и в жизни. Сам Муравьев мечтает посвятить себя поэтическому творчеству, чтобы научиться полнее выражать собственные чувства и мысли. Способность чувствовать, дорожить любовью, дружбой, сопереживать обидам и несправедливостям в отношении других — вот, по его мнению, черты души истинно просвещенного человека. Черствость души, замечает Муравьев, больший ее недостаток, нежели чувствительность.
Логика творчества Муравьева ведет его к сентиментализму.
Его по-прежнему привлекают античные классики, образцы европейского классицизма: Тассо, Расин, Клопшток, Виланд, Ломоносов, и он по-прежнему стремится создать образцы поэзии истинно высокого рода — эпопею или трагедию. Но наиболее естественным жанром, раскрывающим чувства автора, становятся дружеские послания, элегии. В русской литературе впервые появляется психологически обоснованный индивидуальный портрет стихотворца[22]. Очень характерно при этом отстаивание Муравьевым внутренней свободы своего творчества, достоинства поэта. «Величие мое в душе моей, а не в производстве, не в чинах, не в мнениях других людей… Имя философа знаменитее титла камер-юнкера». Литература есть призвание более высокое, чем офицерское[23].
В 1785 г. Екатерина II искала для своих внуков, великих князей Александра и Константина, наставника в русской словесности, который бы удовлетворял ее требованиям как по уровню знаний, так и по философскому образу мыслей. Ее выбор остановился на Муравьеве. Таким образом, он начал преподавать наследнику престола литературу и, кроме того, нравственную философию и русскую историю, играя тем самым в его обучении роль, сравнимую по значению с ролью главного воспитателя Лагарпа. Важно, что и Лагарп, и Муравьев при воспитании наследника руководствовались сходными принципами, внушая ему те же просветительские идеи, которые после восшествия Александра на престол Муравьев претворял в жизнь на посту попечителя университета. Оставшиеся от этого времени многочисленные исторические очерки и нравоучительные заметки Муравьева были написаны специально для чтения великих князей. Особенно интересны краткие наставления государю в форме афоризмов древних мудрецов, где обрисованы главные черты, отличающие «счастливого правителя»: забота о народном благе, милость и прощение, присутствие бескорыстного друга, который заменял бы толпы ласкателей, пожертвования частными пристрастиями ради общей пользы. Слава народа такого правителя — в развитии письменности и просвещения. Многие из произведений Муравьева этого периода написаны не без влияния идей Руссо, хотя в отличие от него, Муравьев не идеализировал естественное состояние человека и не считал науки препятствием к достижению им счастья. Как прозаик он воспринял традицию изображения сельской идиллии, с ее утопической картиной доброго помещика и его патриархальных отношений с крестьянами («Эмилиевы письма»). Вместе с тем Муравьев резко отрицает «рабское состояние» слуг, которых господин держит ради прихоти, и высказывается в пользу ограничения произвола жестокого крепостника.
Преподаваемое Муравьевым великим князьям «нравоучение» (т. е. нравственная философия) воспринималось им как практическая наука, сила которой в правильном, гармоничном развитии личности. Оно включало в себя естественное право, обязанности граждан, народное право (применительно к международным отношениям). В очерках по истории Муравьев также подчеркивает нравоучительные черты: его интересует не только политическая история, но и развитие культуры, успехи изящных искусств, литературы, просвещения, внутренние условия народной жизни. В курсе словесности понятие хорошего литературного произведения связывается им с его действием на читателя, которое должно увеличивать благородство его души. Таким образом, к лучшим сторонам педагогики Муравьева можно отнести его веру в просвещение, интерес к практическим мерам по нравственному улучшению человека. С другой стороны, его идеализм, часто необоснованный исторический оптимизм, так характерный для эпохи Просвещения, способствовали формированию подобного идеалистического направления в характере Александра I[24].
В годы занятий с наследником престола Муравьев окончательно сформировался как писатель-сентименталист. Форма и язык его произведений — «Эмилиевы письма» и «Обитатель предместья» — предваряют прозу Карамзина. Вместе с великими князьями он путешествует по России, считая путешествия одним из важнейших образовательных средств. В дороге Муравьев ведет путевые заметки, которые хотел позже обработать и издать, предвосхищая знаменитые карамзинские «Письма русского путешественника»[25].
В феврале 1796 г. срок воспитания наследника закончился и Муравьев подает в отставку, находясь к этому времени в чине бригадира лейб-гв. Измайловского полка. Но новый император Павел I с подозрением смотрит на учителя своих сыновей, и Муравьев попадает в немилость. Его переводят в гражданскую службу без повышения чина, однако вскоре все улаживается: в 1800 г. он назначен сенатором, а с вступлением на престол его бывшего ученика начинается новый взлет карьеры Муравьева. С 1801 г. он секретарь при особе государя по принятию прошений на высочайшее имя, с 1802 г. входит в комитет по рассмотрению новых уставов академий и университетов, а после учреждения министерств становится товарищем министра народного просвещения. При слабом и бездеятельном министре Завадовском руководство делами министерства фактически ложится на плечи Муравьева. Кроме того, с 1803 г. после вступления в силу Предварительных правил Министерства народного просвещения, вводивших систему учебных округов, Муравьева утверждают в должности попечителя Московского университета и его учебного округа.
В течение всей жизни М. Н. Муравьев поддерживал связь с Московским университетом. Его товарищами и учителями были Новиков и Херасков, со школьной скамьи не прерывалась дружба с И. П. Тургеневым. С ноября 1796 г. последний стал директором университета, и через его письма Муравьев узнавал о текущем состоянии дел и университетских проблемах. Его возмущали интриги кураторов, запущенность российского «храма науки». И когда по инициативе самих профессоров, сделавших новому императору представление о необходимости изменения прежних университетских законов, в 1802 г. начинается работа над проектом устава Московского университета, Муравьев активно в нее включается и занимает одну из ведущих ролей. И современники, и позднейшие исследователи единодушны в том, что Муравьев как воспитанник Московского университета ближе к сердцу принимал свое поручение, теснее вникал в его проблемы и насущные нужды.
Одной из главных задач Муравьева на первых порах явилась реабилитация наук и научного знания в глазах правящих слоев. Вопрос, поставленный Великой французской революцией: почему Франция, достигшая первых во всей Европе успехов просвещения, первой была ввергнута в революционный водоворот — требовал разрешения. В докладе комитета по рассмотрению уставов, в который входил Муравьев, после высокой оценки роли Петра I и начальных лет царствования Екатерины II в развитии системы образования в России говорится: «Но напоследок — потрясение славного просвещением государства… к несчастью слишком приписываемое философам и писателям, послужило, кажется, к остановлению сей монархини посреди ее таковых подвигов. С тех пор науки и произведения их представляются в некотором противуположении с общественным благосостоянием. Они понесли наказание за употребление их во зло несколькими извергами». В докладе подчеркивается необходимость свободы для ученых: «Дарование во все времена ненавидело принуждение. Самая тень унижения для него несносна. Подчинять его своей власти — все равно, что истреблять его»[26].
Просветительские взгляды Муравьева нашли отражение в Предварительных правилах, а также в Уставной грамоте и Уставе Московского университета, утвержденных 5 ноября 1804 г., в создании которых, как мы увидим ниже, он принимал непосредственное участие. Однако составление этих основных документов проходило в ходе обсуждения различных мнений членов Главного правления училищ, учитывало накопленный в этой области опыт как России, так и европейских стран. Можно определенно утверждать, что на содержание Предварительных правил повлияли проект Кондорсе (1792 г.), вводивший новую французскую систему образования, и материалы Эдукационной комиссии в Польше (в ее работе участвовали Чарторижские).
Также определенную роль сыграли мнения иностранных корреспондентов. Муравьев, знаток древней филологии, почетный член Виленского университета и Лейпцигского общества латинской литературы, вел обширную заграничную переписку. За советами по преобразованию Московского университета он обратился в Геттинген к профессору Мейнерсу, автору книг по эстетике и теории изящных искусств, который приобрел известность в России благодаря своему труду по истории немецких университетов[27]. Вот его основные мысли, вызвавшие живой отклик у Муравьева: свободное преподавание без опеки сверху, диктующей характер и методы изложения предмета, участие профессоров в составлении устава (по настоянию Муравьева в состав комитета по рассмотрению уставов был включен профессор Баузе). Попечитель не должен постоянно находиться в одном городе с университетом, что утвердит его роль беспристрастного арбитра и не позволит подпасть под влияние партий среди профессоров и пристрастно вмешиваться во внутренние дела университета, (Так, согласно Предварительным правилам, попечителю был назначен лишь срок для обязательного посещения округа — один раз в два года, и действительно, Муравьев во время пребывания в должности большую часть времени жил в Петербурге, где его удерживали обязанности товарища министра.) Профессора и преподаватели своим примером должны оказывать нравственное влияние на воспитанников; прививая любовь к ученым занятиям, они сохраняют нравы юношества в наибольшей чистоте. Разумная свобода студентов, не ограниченная принуждением и посторонним вмешательством, благотворнее действует на их развитие, чем строгая дисциплина (как видим, эти идеи созвучны педагогике Муравьева). Попечитель разделял также мнение Мейнерса о необходимости глубокого изучения в университете основных новых и древних языков, из которых латынь должна быть разговорной — для диспутов и защиты диссертаций. И Муравьев, и Мейнерс полагали, что ограничения по возрасту не могут служить преградой для поступления в университет и единственным критерием является достаточный уровень предварительной подготовки (что и было закреплено в уставе).
С другой стороны, ряд мыслей Мейнерса Муравьев отверг, так как они не подходили к условиям молодого российского университета. В уставе не было предусмотрено соперничество профессоров в рамках одного предмета (такой конкуренции и не могло еще возникнуть в этот период). Если Мейнерс выдвигал принцип углубленного преподавания теоретических знаний, несколько в ущерб практике, даже на медицинском отделении, то характер преподавания в Московском университете в первые годы после реформы и, например, деятельность замечательного врача М. Я. Мудрова, к советам которого Муравьев охотно прибегал, свидетельствуют о грамотном сочетании практических и теоретических занятий, насколько те соответствовали состоянию наук, и медицины в частности, в России. Мейнерс опасался, что принцип баллотировки на выборах в правление университета приведет к тому, что пассивное большинство профессоров будет подчиняться определенной партии из меньшинства, но опыт показал, что при небольшом общем числе профессоров — участников выборов — и при относительной активности в последующие годы нескольких их групп выбор ректора и деканов, как правило, оправдывал себя и преобладающего влияния какой-либо партии не было[28].
Другим важным источником, откуда черпались подготовительные материалы для нового университетского устава, был т. н. «план университета», составленный по инициативе Екатерины II комиссией по учреждению училищ в феврале 1787 г. (На необходимость учесть опыт этой комиссии указал в своем докладе еще комитет 1802 г. по рассмотрению уставов.) В намерения императрицы входило открытие нового университета (предлагались города Псков, Чернигов, Пенза). Комиссия, в состав которой входили такие деятели екатерининского царствования, как П. В. Завадовский, будущий министр народного просвещения, должна была составить план этому университету и гимназиям, руководствуясь в общих чертах австрийской системой учебных заведений при Марии-Терезии и Иосифе II. В ходе работы обсуждались предметы и учебные программы. Важным достижением, зафиксированным в окончательном плане, был принцип свободы преподавания. К лекциям получали доступ все любознательные посетители, студенты и посторонние. Замечательно было подтверждение в плане принципа всесословности образования. Именно этот принцип, не имевший аналогий в Европе, активно защищал Ломоносов, и комиссия осталась верной ему, указывая на пример Ломоносова как доказательство того, что даже «люди самого низкого состояния приобрели себе науками бессмертную славу»[29].
О ходе работы М. Н. Муравьева над текстом устава Московского университета мы можем судить по трем его проектам, которые были уложены попечителем в особую папку с надписью «Бумаги, оставленные для Никитеньки» (т. е. Н. М. Муравьева, сына попечителя) и, видимо, по мнению отца, представляли главные итоги его трудов в сфере народного просвещения[30]. Подробный анализ этих трех проектов и их сравнение с окончательным текстом устава чрезвычайно интересны и раскрывают многие характерные черты представлений того времени об идеальной системе высшего образования и организации научной деятельности; мы приведем здесь их основные результаты.
Прежде всего остановимся на взаимосвязи этих проектов между собой. Первый из них, самый ранний, черновики которого мы находим в записной книге Муравьева за 1803 г.[31], представлен здесь беловым писцовым экземпляром с многочисленными собственноручными поправками, включающими изменения и добавления отдельных статей[32]. Все эти исправления учтены в другой беловой рукописи без правок (проект № 2), которая, таким образом, является окончательной авторской редакцией университетского устава, принадлежащей Муравьеву, и датируется первой половиной 1804 г. (судя по упоминаемым в ней пожертвованиям П. Г. Демидова). Все общие контуры здания «ученой республики» уже содержатся в этом проекте Муравьева, но стиль его и многие конкретные статьи сильно отличаются от окончательного текста устава. Напротив, третий проект, хотя и не представляет собой законченного текста, по структуре глав и общему стилю изложения близок к завершающей редакции устава. Этот документ в большей своей части дает сводку статей уже утвержденных уставов Виленского и Дерптского университетов, в их общей части примененимых к Московскому (скорее всего, его автором был не М. Н. Муравьев, а другой член Правления училищ, возможно, участвовавший в обсуждении проектов устава В. Н. Каразин[33]).
При сравнении первых двух проектов, принадлежавших самому Муравьеву, обращает на себя внимание то разнообразие в построении факультетов, которое они предлагали. Перед глазами Муравьева было несколько европейских моделей преподавания. Сначала он копирует геттингенскую модель, устанавливая в университете пять факультетов: богословский, медицинский, философский (нравственных и градоправительных наук), который бы включал в себя юридические предметы, философию, политическую экономию, технологию и статистику (вспомним доклад комитета 1802 г.!), физико-математический факультет и факультет словесных наук. Но во второй редакции он возвращается к более привычной для Московского университета (и восходящей еще к средневековой традиции) схеме, где юридические и философские предметы существуют отдельно, при этом к последним присоединяются и естественные науки, а физико-математический факультет исчезает. Таким образом, в авторском тексте его устава 5 факультетов идут в таком порядке: богословский, гражданских наук (юридическо-политический), медицинский, умственных и естественных наук (философский), словесных наук (факультет свободных искусств). Характерно присутствие в обоих проектах богословского факультета из трех кафедр: «1) догматического богословия, гомилетики и катехитики; 2) ерменевтики и эксигетики; 3) церковной истории и чтения святых отец»[34]. Профессора этого факультета должны были назначаться Святейшим синодом из лиц духовного звания и не могли занимать должность ректора, а его выпускники получали свидетельство, открывавшее им дорогу к получению прихода. Видимо, лишь на последней стадии обсуждения устава из него был исключен богословский факультет (его введение вряд ли было бы одобрено Синодом, поскольку нарушало сложившуюся структуру духовного образования) и восстановлены по немецкому образцу предметы четырех других факультетов.
Расположение факультетов Муравьев увязывал с общим ходом обучения студентов в университете. Так, в первом проекте он писал, что студенты, сначала поступая на словесное или физико-математическое отделение, приготовляются к слушанию градоправительных или врачебных наук, а для студентов, переведенных из семинарии, словесный факультет послужит подготовительным к богословскому. Таким образом, Муравьев стремился выровнять уровень подготовленности студентов и способствовать их энциклопедическому образованию. Хотя эти положения не были закреплены в университетском уставе, на практике именно ими руководствовалось начальство университета, назначая студентам на первом году обучения общеобразовательные лекции сразу нескольких отделений. Срок обучения в проектах Муравьева был установлен в три года для всех факультетов, причем студенты, с успехом учившиеся в течение двух лет, могли требовать у ректора (после небольшого испытания в присутствии профессоров) выдачи им свидетельства об учебе для поступления на гражданскую службу в соответствующем студенческому званию 14 классе. Остальные же студенты, полностью окончившие курс обучения, производились в ученые степени, причем звание кандидата Муравьев первоначально закреплял лишь за казеннокоштными воспитанниками педагогического института, а своекоштные студенты могли требовать экзамен на степень магистра или доктора.
Много места во второй редакции своего устава Муравьев уделяет формулировке общих принципов, на которых должна строиться жизнь университетской корпорации. Эти принципы, давно признанные в Европе, теперь только утверждались в России и были призваны закрепить здесь дух высокой научной этики, стремления к глубоким, целенаправленным ученым поискам в атмосфере равноправия, взаимоуважения и терпимости. Цель обучения в университете — «распространение знаний, возвышающих общее благоденствие и составляющих истинного гражданина, и неразлучное с оным распространением исправление нравов. Университету принадлежит согласовать беспрестанно нравственную пользу слушателей своих с просвещением разума и соединить благоразумную свободу размышления с почтением к законам и положением общества. Нетерпение мнения, порицание варварских времен столько же мало прилично сему знаменитому сословию, сколько дух своеволия, неверноподобных утверждений и бесполезного прения… Университету должно прилагать к тому все старания, чтоб быть всегда наравне с состоянием наук в других странах Европы и приобщать к курсу учения все новые откровения, получившие одобрение ученых. С другой стороны, должен он блюсти внимательно, чтобы не вкрались в него ложные умствования, которые вместо просвещения омрачают разум и развращают сердце». Но, как бы то ни было, мнения о науках никогда не должны служить поводом к гонениям. К сожалению, именно этим положением проекта Муравьева, не включенным в окончательный текст устава, в университетской истории очень часто пренебрегали.
Из вышесказанного ясно, что во многих местах второго проекта ярко проявился идеализм Муравьева, столь свойственный его творчеству и мировоззрению. Попечитель мечтал, что благородные принципы эпохи Просвещения будут пронизывать всю деятельность университета. Так, например, взаимоотношения ректора и студентов представлялись ему в том духе, что «ректор облечен отеческой властью в рассуждении учащихся и должен растворять строгость снисхождением, рассуждая, что суду его подвержены будущие члены гражданского общества, над коими увещания более наказания действуют. Во всякое время должен он склонять сердца их к добру, воспрещая развратникам обольщать их неопытность, удерживая их от расточения и имея неусыпное наблюдение над всеми поступками их, когда они наименее того опасаются». Соответственно и наибольшим наказанием для студента может быть «внушение ему от ректора оставить университет или отсылка от оного, из коих последнее подтверждается общим собранием, по Предложению ректора». За меньшие проступки, которые давали надежду к исправлению виновника, предполагалось его заключение в университетскую темницу, которое «не должно содержать в себе ничего вредного здравию учащегося, но оно предполагает совершенное уединение и более одного виновного не может быть в одном месте».
В этом аспекте третий проект, который рассматривал Муравьев, был гораздо более практическим и конкретным по духу, и окончательный устав возник в результате их синтеза, при котором сохранились отчасти и благородный, идеалистический дух первых проектов, и деловая направленность третьего варианта. Из положений последнего, не вошедших в завершающую редакцию, отметим, что, с одной стороны, его авторы заботились о расширении связей университета с Европой, предлагая беспошлинный ввоз всех учебных пособий из-за границы, облегченный въезд и выезд из России иностранных профессоров; с другой стороны, выдвинули несколько жестких статей: об университетской полиции, об обязательной цензуре, которую должны проходить все книги, выписываемые для университетской библиотеки и частных собраний профессоров и адъюнктов. Особая статья посвящалась порядку «состязания», которое должен выдержать желающий получить ученую степень, и мерах, позволивших бы избежать пристрастие к нему со стороны профессоров отделения, на котором он учился. Впрочем, третий проект не закончен, поэтому судить о полной программе его составителей довольно трудно.
Подготовка университетского устава Муравьевым и обсуждение его Главным правлением училищ проходило в течение полутора лет, и 5 ноября 1804 г. он был подписан Александром I и провозглашен от высочайшего имени. Университету даровалась Уставная грамота, над составлением которой также трудился Муравьев[35]. Следуя его тексту, император торжественно заявлял: «Обращая особенно внимание Наше на Московский Императорский университет, который через полвека имел столь великое участие в образовании людей способных для Государственной службы, в распространении знаний и наипаче в усовершенствовании отечественного языка, рассудили Мы за благо изъявить через сие торжественную признательность Нашу сему первому в России высшему Училищу, даровав оному новые права и преимущества, более сообразные с просвещением текущего времени». В грамоте подтверждались основные принципы университетской автономии, установленные Предварительными правилами. Император даровал пенсии вдовам профессоров и их детям; особыми льготами пользовалось звание заслуженного профессора. Грамота устанавливала ежегодную сумму, отпускаемую на нужды университета, в 130 тыс. рублей[36]. Существование Московского университета торжественно подтверждалось Александром I «за Нас и преемников Наших»[37].
По уставу (общая часть которого относилась к трем университетам: Московскому, Харьковскому и Казанскому) в состав университета входят профессора — ординарные и экстраординарные, разделенные по факультетам (отделениям), а также адъюнкты, магистры, учителя «языков, приятных искусств и гимнастических упражнений» и студенты. Ординарные и заслуженные профессора под председательством ректора образовывали университетский совет, который управлял учебной частью университета и его округа. В правление, занимавшееся хозяйственной частью, входили ректор, деканы факультетов, а также непременный заседатель, назначаемый туда попечителем из числа ординарных профессоров, «ближайший к ректору помощник в делах к правлению и университетскому суду принадлежащих», который обеспечивал преемственность дел правления после его перевыборов. Для обязательного участия в университетском суде из своей среды профессорами избирался ученый-законовед под названием синдика. Каждый университет должен был иметь педагогический институт, а также медицинские — клинический, хирургический и повивальный институты, типографию, был наделен правом цензуры. В уставе Московского университета при нем были предусмотрены подготовительные учебные заведения — академическая гимназия и благородный пансион, ученые общества; поощрялись благотворительные пожертвования от московского дворянства.
Новый устав строго упорядочивал систему преподавания и учебный план университета. Вводились 4 факультета: 1) нравственных и политических наук; 2) физических и математических наук; 3) врачебных или медицинских наук; 4) словесных наук. Вместо прежних 10 кафедр возникло 28, каждая из которых соответствовала одному преподаваемому предмету. Среди новых предметов, введенных уставом, умозрительная и практическая философия, дипломатика и политическая экономия, ботаника, минералогия, технология и науки, относящиеся к торговле и фабрикам, восточные языки. Личные симпатии попечителя Муравьева к античной культуре и древностям выразились в создании в Московском университете отсутствовавшей в других уставах кафедры теории изящных искусств и археологии. Устав устанавливал, что во главе каждого факультета стоял декан, ежегодно избираемый членами совета и представляемый попечителем на утверждение министра. И деканы, и ректор избирались сроком на 1 год, за 2 месяца до окончания курсов, с тем чтобы передача прав происходила на торжественном собрании университета в начале июля. В течение года два раза предусматривались каникулы: летом с 30 июня по 17 августа и зимой с 24 декабря до 8 января.
Автономия университета распространялась на тяжбы между членами его корпорации, при которых первую инстанцию составлял ректор; в сложных случаях и для апелляций собиралось правление, а высшей инстанцией с правом обжалования решений только для особо важных дел, через Сенат, являлся совет университета. Таким образом, университет в административном и судебном отношении был независим от местных правительственных учреждений. Согласно уставу, студенты по всем важным вопросам своей жизни должны были обращаться в правление университета. Для приема воспитанника оно рассматривало свидетельство о его успехах в гимназии или ином заведении или, если юноша обучался дома, назначало комитет для его испытания. Правление определяло студенту необходимые предметы, а по окончании курса, когда декан отделения и несколько профессоров принимали у студента (по его желанию) экзамен на получение диплома кандидата, присваивало ему эту ученую степень. Студент, не подвергающийся испытанию, пройдя курс обучения, получал от правления аттестат о прослушанных предметах и свидетельство о своем поведении. Срок обучения определялся уставом в 4 года для медиков и 3 года для остальных факультетов. Им предусматривались также публичные экзамены, диспуты на латинском языке при защите диссертаций на ученые степени (которые, впрочем, в первые годы слабо практиковались). В зависимости от того, содержался ли студент во время учебы на свой счет, дома, или за счет государства, разделялись своекоштные и казеннокоштные студенты, но обучение для всех было бесплатное (лишь учителя «языков, приятных искусств и гимнастических упражнений», как записано в уставе, должны были получать от своекоштных студентов умеренную плату по назначению совета). Казеннокоштные студенты пользовались бесплатным питанием и общежитием. Над ними осуществлял надзор особый инспектор из ординарных профессоров и его помощники из кандидатов и магистров, живших вместе со студентами.
Для поощрения научной работы ежегодно совет, «следуя обряду, в иностранных Университетах и Академиях установленному», объявлял награду за решение определенной задачи, «служащей к распространению наук», однако и размер вознаграждения, и задача утверждались министром народного просвещения. Из выделяемых университету средств некоторая сумма отводилась для двухлетних заграничных путешествий лучших магистров (по 2 человека каждый год).
В штате университета были зафиксированы годовые оклады всех его членов: ординарных профессоров — 2000 руб., экстраординарных — 1200 руб., адъюнктов — 800 руб. и т. д. За исполнение обязанностей ректора, директора педагогического института, инспектора, деканов, синдика полагались надбавки от 600 руб. (ректор) и ниже.
Одновременно с уставом университетов 5 ноября 1804 г. был издан и устав подведомственных им учебных заведений.
Таким образом, оценивая устав 1804 г., подчеркнем, прежде всего, его главное достоинство: он придавал Московскому университету статус европейских высших учебных заведений, наделял его широкой автономией, создавал условия для его превращения в очаг просвещения, быстрого развития в нем науки. По сравнению с попытками других либеральных преобразований в царствование Александра I именно реформы университетов и системы народного просвещения зашли дальше всех, имели наиболее прогрессивный характер и глубокие последствия. Причину их успехов можно видеть в относительной легкости их проведения, отсутствии сопротивления косных элементов, потому что здесь впрямую не затрагивались основы крепостнического строя. Однако нельзя не заметить, что российская бюрократическая система наложила свой отпечаток и на устав университета, который во многих шагах был ограничен необходимостью их утверждения наверху и, главное, не был гарантирован от вмешательства государства в лице попечителя и министра народного просвещения в саму его внутреннюю жизнь, что, как мы убедимся, вскоре стало обыденным явлением. Составителю устава М. Н. Муравьеву, вопреки его желанию, не удалось в полной мере провести университетские свободы, и в его рукописях отразилась некоторая неудовлетворенность итогом преобразований. В уставе трудно было провести границу между благожелательной опекой над университетом со стороны попечителя (несомненно необходимой, особенно в тот период его становления в новом качестве, который мы рассматриваем) и произвольным вмешательством в его внутренние дела. Слишком многое для университета определялось личностью попечителя и министра, и если эти должности занимали люди с консервативными и, тем более, реакционными взглядами, это тут же сказывалось на атмосфере Московского университета, что и показывает его дальнейшая история.
4. Просветительская политика М. Н. Муравьева на посту попечителя Московского университета
С 1803 по 1807 г., в период попечительства М. Н. Муравьева, Московский университет уверенно вступил на путь поступательного развития. Годы жизни выработали в Муравьеве не только кристально честную и высокогуманистическую личность, но и породили огромную энергию, жажду деятельности на общее благо, которую он направлял ради будущего процветания университета. Его действия рисуют нам контуры широкой просветительской программы. В ее центре, как и у Ломоносова, — идея создания самобытной русской образованности, развития русского языка и письменности в рамках того пути, который уже прошла к этому моменту европейская культура, но в соответствии с национальными особенностями России. Для этого Московский университет, как это уже было при Новикове, должен собрать вокруг себя все научные, литературные силы, не ограничиваясь учебной деятельностью и преодолев свою обособленность, превратиться в источник общественного просвещения, через который публика будет знакомиться с новейшими достижениями науки и искусства. Тем самым, он сможет на равных соперничать с европейскими университетами: «Может быть, со временем приедут шведы учиться в Москве!» — восклицает Муравьев[38].
В первую очередь попечитель обращает внимание на слабую материальную базу университета. 17 марта 1803 г. по его настоянию выходит указ о выплате ежегодного содержания в размере 130 тыс. рублей. Полученная сумма позволяет ему устроить покупку книг и учебного оборудования (конструкции известных европейских фирм и ученых). В отчете министру народного просвещения за 1803 г. Муравьев пишет: «С давнего времени библиотека оставалась в скудном состоянии, и университет лишен был единственного способа соразмерять постепенные успехи свои с распространением наук в Европе. Я не преминул препроводить в библиотеку новейших великих писателей, которые распространили в краткое время пределы человеческих знаний в химии, высокой геометрии и экономии политической. Астрономия преподавалась единственно в теории… поэтому доставил я в университет удобный для больших наблюдений Грегорианский телескоп Кериевой работы, выписал из Лондона Арнольдов хронометр и заказал у Верже, искусного художника астрономических орудий, большой регулатор и полный круг, величиною три фута в диаметре». Возникает химическая лаборатория, расширяется физический кабинет: «Препроводил я в оный галванический аппарат, Гюйтонову переносную лабораторию и Атвудов снаряд для показания ускорительного падения тел»[39].
Немаловажным успехом нового попечителя становится привлечение внимания к университетским реформам богатых московских дворянских фамилий, вызвавшее их щедрые пожертвования, которые сами по себе отражают восторженную атмосферу «дней Александровых прекрасного начала». В 1803 г. известный миллионер и предприниматель П. Г. Демидов подарил большой капитал и доход от нескольких тысяч крестьян на создание народного училища в Ярославле (которое было названо Демидовским лицеем), а еще 100 тыс. руб. поступают от него в Московский университет, с тем чтобы проценты с их оборота тратились на содержание казенных студентов и гимназистов. По его же инициативе в университете появилась не предусмотренная штатом, но содержавшаяся на его пожертвования кафедра натуральной истории, для которой Демидов подарил «кабинет натуральной истории» — собрание минералов, растений со всего мира, других редкостей. Кроме того, он передал университету минц-кабинет (коллекцию монет и антиков) и ценнейшую библиотеку, некоторое время спустя — оборудование обсерватории и еще несколько коллекций, а в июле 1804 г. в Большой университетской аудитории, где проходили торжественные акты, появился купленный Демидовым орган[40].
Минералогический кабинет и собрание мозаик преподнес университету князь Урусов, а свою библиотеку и кабинет натуральной истории он подарил создаваемой Московской губернской гимназии. В мае 1807 г. от княгини Дашковой в университет перешла коллекция редкостей, собранных ею за 30 лет во время путешествий по всей Европе, включавшая подарки австрийского императора, короля Швеции, саксонского курфюрста, герцога Тосканского и других знатных дворов. Уникальное собрание книг профессора Шадена, скончавшегося в 1797 г., передала его вдова; впоследствии многие иностранные профессора, приглашенные в Москву, присоединили свои книги к библиотеке университета. К собранным богатствам, хранившимся в библиотеке и открывшемся в 1805 г. университетском музее, получала свободный доступ московская публика.
Более высокий уровень преподавания требовал расширения университетского хозяйства. После учреждения кафедры ботаники, 1 апреля 1805 г. университет покупает ботанический сад площадью 8 десятин на большой Мещанской улице, за Сухаревой башней. Сад был основан при Петре I и принадлежал хирургической академии, выращивавшей там лекарственные травы, почему и назывался Аптекарским. В саду была устроена оранжерея с залой для лекций, домик профессора, теплица. Практические занятия по медицине велись в организованных при университете в соответствии с уставом в 1805–1806 гг. хирургическом, клиническом и повивальном институтах.
Другая сторона укрепления материального благосостояния университета проявилась в возможности пригласить в Москву большое количество иностранных профессоров. После обскуранта ого состояния, в котором университет находился в конце XVIII в., ему просто необходимы были талантливые, энергичные профессора, стоявшие на передовых научных позициях, как для привлечения студентов, так и для подготовки новых русских преподавателей. Впрочем, сама идея приглашения профессоров из-за границы не сразу утвердилась среди университетского начальства: так, еще в докладе комитета по рассмотрению уставов 1802 г. говорилось, что перераспределив расходы университета, увеличив количество казеннокоштных студентов и кандидатов, которые бы сразу включались в преподавание, можно обойтись без выписки иностранных ученых[41]. Но уже весной 1803 г., когда был утвержден новый штат университета, включавший 28 кафедр, Муравьев отмечал в записной книге, что, поскольку сейчас профессоров в Москве только 14, то половину можно вызвать из Европы[42].
Вступив в переписку с профессорами Мейнерсом из Геттингена и Шицем из Иены, попечитель преследовал двойную цель — он получал не только советы по реформированию структуры университета, но и рекомендации своих корреспондентов, кого из ученых полезнее и удобнее пригласить в Россию. В течение 1803–1804 гг. он добился согласия на приезд в Москву 11 профессоров ведущих университетов Германии, и среди них было несколько имен европейского масштаба. Муравьев зовет их для преподавания предметов, которые пользуются особенной популярностью в европейских училищах и оказались совершенно запущенными в Москве, — это практическая философия и народное право, теория изящных искусств, статистика, высшая математика. Кроме того, он приглашает специалистов по химии, астрономии, ботанике, натуральной истории, древним языкам.
Основную часть переговоров добровольно взял на себя профессор Мейнерс, который, по собственным словам, готов был отдать все силы ради до того, чтобы улучшить ученые учреждения и распространить полезные знания в такой огромной империи, какой является Россия. 11 марта 1803 г. Муравьев писал Мейнерсу: «Московский университет, особенное попечение о котором поручил мне Его Величество, будет обязан Вам своим возрождением. В нем были с момента основания в 1755 г. несколько хороших профессоров, которые привнесли в него из немецких университетов просвещение и превосходные методы преподавания. Их труды были плодотворными. Множество молодых людей получили здесь полезные знания. Наша литература приобрела от этого свои выгоды. Но из-за особых обстоятельств, в результате несовершенной организации, первые успехи были остановлены.
Потери, понесенные университетом, не восстанавливались, их место замещали посредственности. Все эти злоупотребления сейчас устраняются…
Нам остается только желать надежного проводника, чтобы вызвать из-за границы подходящих людей для распространения Просвещения»[43].
Из обширной переписки Мейнерса с Муравьевым мы узнаем о непростом ходе переговоров с немецкими профессорами, выдвигаемых ими условиях (среди которых были: возможность в любой момент беспрепятственно покинуть Россию, выплата пенсий их семьям, деньги на переезд и пр.). В это же время в Москве университет по представлениям Муравьева заранее включил в свой состав несколько десятков ученых из Германии, надеясь на их прибытие. Многие профессора сразу отклоняли предложения, но бывало, что и достигнутая уже договоренность срывалась в последний момент (так, внезапно отказался ехать доктор натуральной истории Леман, перед самым отъездом в Россию скончался медик Каппель), прибытие других затягивалось на несколько лет. Однако успех приглашения немецких профессоров в Россию официально зафиксировали «Геттингенские ученые ведомости», поместив в 1804 г. заметку, где, в частности, говорилось: «Нашему Отечеству делает честь приглашение такого количества немецких ученых; еще более почетно то, что наша родина может отдать столько подающих надежды или уже заслуженных ученых без особого ущерба для собственного образования»[44].
Заботясь о приезде европейских ученых, попечителю приходилось быть особенно деликатным, потому что он задевал честолюбие некоторых их московских коллег. Одним из первых оскорбился приглашением иностранцев престарелый профессор хирургии Керестури, который когда-то сам был вызван в Москву из-за границы; он счел их приезд «ко вреду его знаний и заслуг». Муравьеву приходилось терпеливо налаживать отношения между новыми и старыми членами университетской корпорации: полтора года спустя он должен был уверять профессора Политковского, что определение профессора Фишера фон Вальдгейма на кафедру естественной истории «не оскорбляет его благородное честолюбие», но попечитель желал бы, чтобы Политковский посвятил свое искусство единственно врачебной науке[45].
Но особенно Муравьева волнует подготовка отечественных профессоров. Для этого он устанавливает связи с молодыми русскими учеными, находящимися в России или обучающимися за границей, и заботится о новых учебных поездках в Европу. «Иначе нельзя завести своих профессоров, как посылая в чужие край, чтобы они выучились там своим правам, трудолюбию и должностям». С уехавшими воспитанниками Муравьев поддерживает переписку[46]. Среди неопубликованных писем привлекает внимание ответ молодого врача, будущего профессора И. Е. Грузинова, отправленный в декабре 1805 г. на английском языке из Лондона. Сообщая о ходе своей учебы, прослушанных им лекциях, Грузинов пишет: «Верьте мне, что мое постоянное стремление — выполнить ваше желание, которое было при отправке меня в Англию, и насколько в моей власти доказать это пользой для моей страны»[47].
Большое внимание Муравьев уделял воспитанию молодых ученых и в самом Московском университете: здесь он чувствовал себя настоящим «попечителем», ответственным за судьбы тех талантов, которые ярко проявлялись в студенческой среде и требовали необходимой поддержки для своего развития. Муравьев никогда не оставлял их заботой и вниманием, особенно покровительствуя их литературным занятиям. Так, например, узнав о поэтических способностях студента 3. Буринского (мы еще встретимся с ним в гл. 4), попечитель спешит написать к ректору письмо, в котором предлагает ободрить юношу в его наклонностях к стихотворству, просит пересылать его новые опыты, так же как и произведения других воспитанников, к нему, а сам предлагает Буринскому заняться стихотворными переводами античных классиков[48]. Впоследствии по просьбе Муравьева Буринский перевел капитальные исторические труды Гиббона и Геродиана; попечитель ходатайствовал о его награждении от высочайшего имени, присвоении ему ученых степеней и серьезно готовил его к занятию кафедры всемирной истории (чему помешала ранняя смерть Буринского в 1808 г.). Подобным же образом Муравьев покровительствовал, судя по его переписке, по крайней мере двум десяткам воспитанников, и даже если не мог кого-то отметить в личной беседе, обязательно удостаивал письмом с ободрением в научных занятиях.
Особой проблемой после приглашения заграничных ученых стал выбор языка преподавания в университете. Дело тут не только в незнании иностранными профессорами русского языка, но и в трудностях (на данной ступени его развития) изложения по-русски текстов определенного научного содержания. В своеобразном разделении функций языков, существовавшем в русской культуре начала XIX в., научно-философские тексты безоговорочно относились к сфере французского и, в меньшей степени, немецкого языка (который был слабее распространен в обществе). С другой стороны, Карамзин в 1803 г. в статье «О верном способе иметь в России довольно учителей» писал, что «университет всегда славился русскими профессорами, которые, преподавая науки, в то же время образовывали и язык отечественный»[49]. Разделяя точку зрения Карамзина, Муравьев стремился к всестороннему развитию русского языка и желал, чтобы он завоевывал все новые области. «Университет ободрит как сочинение, так и переложение на русский язык систем учений в разных науках». Для ускорения процесса попечитель давал задания адъюнктам, магистрам и кандидатам перевести 1–2 книги по своей специальности, чтобы «упражнением достигли они некоторой силы в искусстве писания, заблаговременно приучились к сочинению нужных для учения книг»[50]. И пока прибывающие иностранные профессора начинают чтение лекций по-французски, по-немецки или на латыни, то, как Муравьев полагает, «со временем лекции всех наук будут преподаваться на природном <русском. — А. А.> языке»[51].
Веря, что в основе гармоничного развития национальной культуры и языка лежит глубокое усвоение античных памятников, Муравьев разрабатывает обширную программу переводов классических текстов. «Мечты возможностей. Наши молодые ученые переведут Илиаду, Одиссею… Мы увидим в русской одежде Геродота (Ивашковский), Ксенофонта (Кошанский), Фукидида (Тимковский). Буринский переведет Геродиана, Болдырев Феофраста и т. д. Спешить не надобно. Пусть десять, двадцать лет жизни употребят на сию работу полезную». Таким образом, намеченные Муравьевым меры открывали путь к быстрому развитию научной мысли на отечественном языке.
Если преподавание науки в России невозможно без развитого языка, то достижение достаточно высокого уровня русского языка невозможно без развития русского читателя и, шире, русской публики. Поэтому значительное место в просветительской программе Муравьева занимает создание для Московского университета нового положения в обществе — положения его культурного центра. Вместо дворянского мира салонов, замкнутого рамками узкого дружеского кружка, университет демонстрировал новое, более широкое просветительское направление, поддерживаемое образованной частью дворянства и разночинской средой, из которой происходило большинство профессоров. Прибывшие немецкие ученые, близкие к передним рубежам немецкой культуры, принесли с собой новые европейские веяния, философию Канта, Фихте, раннего Шеллинга. Контакт между элитарным дворянскими миром и университетскими кругами призваны были осуществлять публичные лекции, открывшиеся в университете с 1803 г. Их читали профессора Фишер, Шлецер, Рейсс, Рейнгард, Сохацкий, Гейм, Иде, Страхов, Политковский. Профессора показывали пестрой московской публике, где были и мелкие чиновники, и члены самых знатных фамилий, новейшие достижения физики и химии, знакомили с трудами философской и исторической мысли. Ученые, приехавшие из Германии, старались выбирать для чтения французский язык, более распространенный, чем немецкий, в русском обществе. Большой успех публичных лекций говорил о верно угаданной потребности в такого рода зрелищах, назревшей в московском обществе, которое, с одной стороны, тянулось к современному уровню научных знаний, а с другой — рассматривало их как элемент светской жизни, «модное» времяпровождение.
Едва ли не самым внимательным слушателем лекций был Н. М. Карамзин, оставивший нам о них несколько откликов. Так, 23 декабря 1803 г. он пишет Муравьеву: «Ваша милостивая ко мне доверенность обязывает меня быть искренним: тем приятнее мне сказать, что мысль ваша имеет уже счастливое действие, что публичные лекции вообще имеют успех, и что слушателей бывает довольно. Лекции г. Страхова, имея в предмете любопытную часть физики, нравятся более других. Не только многие благородные молодые люди, но и лучшие здешние дамы слушают его с удовольствием; он же говорит ясно и с довольною приятностью. Молодой Шлецер обещает быть достойным сыном отца своего. Жаль только, что у нас немногие знают немецкий язык, но те, которые слушают и разумеют его исторические лекции весьма ими довольны. Мне остается выдать еще одну книжку вестника: я с сердечным удовольствием скажу в ней несколько слов о сей новой пользе Московского университета, в надежде на благосклонное ко мне расположение публики, с которою мне должно проститься на долгое время, а в некотором смысле и навсегда»[52]. (Действительно, статья Карамзина о публичных лекциях появилась в последнем изданном им номере «Вестника Европы» за 1803 год.) В другом письме он горячо благодарит Муравьева за покровительство, которое тот оказывает российской науке и, в частности, его историческим изысканиям. «Другого человека я не обременил бы такою просьбою, но вас знаю и не боюсь показаться смешным. Вы же наш попечитель. Господин Чеботарев, ректор, предложил мне быть почетным членом Московского университета — честь, которой я вам обязан, и за которую изъявляю искреннюю благодарность. Университет оживился. Публичные лекции привлекают многих слушателей и без сомнения распространяют вкус к наукам»[53].
Введение званий почетных членов и корреспондентов Московского университета также представляло собой новую форму связи между университетом и обществом. В почетные члены избирались известные литераторы и ученые, вельможи-меценаты, покровители наук, не только из России, но со всей Европы. Московскому университету делает большую честь утверждение 21 ноября 1804 года почетными членами «Веймарского двора советников» Иоганна Вольфганга Гёте и Фридриха Шиллера, о чем им были высланы соответствующие дипломы[54].
Подобно публичным лекциям, немедленный общественный отклик встретило желание Муравьева активизировать ученые труды университета в новой форме научных обществ широкого состава, не ограниченных только университетской средой. Фактически у этих обществ была двоякая цель: они отвечали растущим потребностям развивающейся российской науки и одновременно осуществляли ее популяризацию, организуя открытые заседания, выпуская книги, журналы и т. д. Ученые занятия обществ, по мысли Муравьева, должны были сочетаться с просветительской деятельностью, способствующей формированию научных интересов московской публики: попечитель настаивал, чтобы существование обществ постоянно ознаменовывалось какими-нибудь извещениями для публики[55], той же цели служили и ежегодно обнародуемые от лица обществ конкурсные ученые задачи. В 1804–1805 гг. последовательно открылись общества: истории и древностей российских, испытателей природы, соревнователей медицинских и физических наук. В планах Муравьева особо важное значение имело открытие Общества истории и древностей российских, призванного подготовить исправленное и комментированное издание летописей для составления в будущем полной российской истории. При этом Муравьев мечтал соединить изучение русских и античных древностей, думал о создании Латинского общества, по его инициативе вышел сборник «Эфемериды»[56] и другие публикации, содержавшие новые тексты и переводы римских и греческих авторов. Такой интерес Муравьева в конечном итоге не случаен, потому что отражает проникновение в Россию из Европы нового научного подхода к изучению античности, связанного с работами немецкого ученого И. Винкельмана.
Можно заметить, что планы Муравьева в отношении университетских научных обществ были очень обширны и не все успели осуществиться за короткий срок его попечительства. Так, не воплотился в жизнь замысел Латинского общества, не долго просуществовало Статистическое общество под председательством профессора российской истории, статистики и географии И. А. Гейма, которое должно было заниматься исследованиями современного состояния населения России.
Университет оказывал влияние на общество не только посредством публичных лекций или через деятельность ученых обществ. При попечителе Муравьеве открывается новый период в истории московских журналов, выпускавшихся в университетской типографии[57]. Начиная с 1803 г. здесь появляется ряд новых изданий, призванных восполнить недостаток научно-просветительской литературы на русском языке. Основная идея, объединявшая эти журналы, заключалась в том, чтобы дать русскому читателю разностороннее представление о современной европейской культуре, регулярно знакомить его с новинками отечественной литературы и искусства, поощрять создание новых произведений. С этой точки зрения, они продолжали дело, начатое Карамзиным. В университетской типографии по-прежнему выходил основанный им «Вестник Европы» (в 1804 г. его выкупил П. Сумароков, а затем М. Т. Каченовский), издаются профессорами Московского университета журналы: «Новости русской литературы» (проф. П. А. Сохацкий), «Политический журнал» (проф. М. Г. Гаврилов). Под редакцией профессора И. Т. Буле с 1805 г. издаются «Московские ученые ведомости», с 1807 г. — «Журнал изящных искусств», выходят новые журналы, в составлении которых принимали участие профессора и другие сотрудники университета: «Периодическое издание о полезных изобретениях, ремеслах и художествах» (Дружинин), «Друг просвещения» (Голенищев-Кутузов, Салтыков, Хвостов), «Аврора» (Рейнгард, Десанглен), «Журнал Отечественной музыки» (Кашин), литературные альманахи благородного пансиона[58].
Среди открывшихся журналов появляются специализированные издания, направленные к определенной профессионально заинтересованной группе читателей. Постепенно уходит традиция «журналов одного лица», резко увеличивается число авторов и публикуемых ими статей по разным научным предметам. Замыслы Муравьева касаются и воспитания детей, для которых он открывает журнал «Друг юношества», поручив его выпуск новому начальнику университетской типографии, сподвижнику Новикова М. Невзорову. Новый уровень, на который выходит университетская журналистика, потребовал изменений в организации типографского дела: по мнению профессоров, выгоднее было теперь не отдавать типографию на откуп, а подчинить ее правлению университета, причем все ее доходы поступали бы также в распоряжение правления. Эта реформа была закреплена новыми «Правилами для производства дел в университетской типографии», одобренными попечителем и утвержденными 11 октября 1806 г. В первый же год сумма дохода позволила целиком окупить содержание академической гимназии. Через несколько месяцев вслед за этим новые постановления получили также академическая гимназия и благородный пансион.
Надо сказать, что, заботясь о благосостоянии московских учебных заведений, Муравьев не оставлял вниманием и нужды всего учебного округа. В 1803–1804 гг. он объехал подчиненные ему губернии, следил за подготовкой учителей и открытием там народных училищ. Среди них особо выделим основанный в 1804 г. в Ярославле на пожертвования московского миллионера Демидовский лицей.
Преобразования университетского благородного пансиона были последними в череде реформ, связанных с деятельностью попечителя М. Н. Муравьева. Разъезды, хлопоты подточили его здоровье. В конце февраля 1807 г. в Петербурге умер И. П. Тургенев, и на похоронах своего друга Муравьев простудился и серьезно заболел. По семейным преданиям, тяжелый приступ болезни вызвали у него известия о поражении русских войск под Фридландом и о Тильзитском мире[59]. 28 июня 1807 г. он скончался.
«Муравьев, как человек государственный, как попечитель, принимал живейшее участие в успехах Университета, которому в молодости был обязан своим образованием. Под руководством славнейших профессоров московских, в недрах своего отечества приобрел он сии обширные сведения во всех отраслях ума человеческого, которым нередко удивлялись ученые иностранцы: за благодеяния наставников он платил благодеяниями сему святилищу наук; имя его будет любезно сердцам добрым и чувствительным, имя его напоминает все заслуги, все добродетели, — ученость обширную, утвержденную на прочном основании, на знании языков древних; редкое искусство писать он умел соединить с искренней кротостью, с снисходительностью, великому уму и добрейшему сердцу свойственною», — так писал о Муравьеве К. Н. Батюшков, выросший и получивший образование в его доме, а затем служивший в канцелярии попечителя[60]. Единодушные восторженные отзывы о нем оставили другие современники, среди которых Н. М. Карамзин, С. Н. Глинка, В. А. Жуковский. Муравьев привлекал неповторимым обаянием своей личности, простотой, отзывчивостью, которые сохранял, несмотря на близость к высшим государственным сферам, благодаря выработанному годами чувству внутреннего достоинства, огромной душевной свободы.
Как вспоминал Вигель, «М. Н. Муравьев был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасною истиной; кроткую душу его возмущало слово тиранство»[61]. В 1807 г. у него подрастал сын Никита, и отец начинал обучать его основам наук, тем идеям века Просвещения, философии Руссо, которыми руководствовался всю жизнь (сохранились конспекты его лекций сыну)[62]. Никита вырастет и станет одним из руководителей Северного общества декабристов, автором проекта России ской конституции. Как замечала позже правнучка М. Н. Муравьева, «эта философия Руссо… не помешала Михаилу Никитичу быть государствен ным деятелем, товарищем министра народного просвещения, веселым и милым светским человеком; но та же философия, пересаженная на душу его сына, привела последнего к каторге и ссылке. Различные поколения воспринимали ее различно»[63].
Глава 2
Развитие университетского самоуправления в 1803–1812 гг
1. Университетская «ученая республика»
Согласно п. 1 университетского Устава Московский университет представлял собой «вышнее ученое сословие, для преподавания наук учрежденное». Выделяя профессоров, преподавателей, чиновников университета в особую корпорацию, либеральные реформы Александра I даровали ей права и свободы, уникальные в самодержавном государстве. Они по существу основывали (по словам И. А. Гончарова) «ученую республику», в значительной степени не зависимую от других государственных учреждений империи, пользующуюся внутренним самоуправлением и автономией. Основным органом этой «республики» было общее собрание или совет университета, а главой — избираемый ежегодно голосованием на совете ректор; исполнительная власть принадлежала правлению, судебная — университетскому суду. Естественно, что само существование такой республики немедленно вступало в конфликт с основными принципами самодержавной Российской империи, всеобъемлющим государственным контролем. Идейная основа устава 1804 г. была противоречива, так как пыталась совместить республиканские мечтания первых лет александровского царствования, идеальные конструкции, образцами которых служили западноевропейские общественные институты, с реальной практикой управления делами в России, где решающую роль играли чиновники, сложившийся в последней четверти XVIII в. бюрократический аппарат, по своей природе враждебно настроенный к проявлению независимости в какой-либо части государственного механизма.
Одним из таких чиновников, включенным в структуру соответствующего министерства, устав 1804 г. делал попечителя университета. Ни одно сколько-нибудь значимое решение по университету (назначение профессоров, выборы ректора, определение лекционных курсов и учебных программ и т. д.) не могло получить законную силу без его подтверждения попечителем, а иногда и министром народного просвещения, должность же ректора требовала ее утверждения императором. Правда, попечитель формально имел довольно ограниченные возможности влиять на ход университетской жизни. Об этом позаботился один из авторов устава — М. Н. Муравьев, чувствовавший двойственное положение университетской республики и желавший укрепления ее самостоятельности. По его рекомендациям попечитель не должен был непосредственно вмешиваться в университетские дела, избегать влияния какой-либо партии из среды профессоров, а для этого жить, по большей части, в Петербурге. Для Московского университета, привыкшего к бдительной опеке И. И. Шувалова, И. И. Мелиссино, М. М. Хераскова, такое положение куратора было в новинку. Сразу после преобразования университета среди студентов складывается «Жалобная песнь», обращенная к покойному И. И. Шувалову. В ней студенты, вспоминая «отеческую заботу» прежних кураторов, довольно едко упрекают Муравьева за отступление от традиций:
После смерти Муравьева традиция берет свое. Новые попечители университета, сперва граф А. К. Разумовский, затем П. И. Голенищев-Кутузов, постоянно живут в Москве. В своей роскошной усадьбе Горенки граф Разумовский принимал избранный круг профессоров, которому и покровительствовал как попечитель. Вмешательство Голенищева-Кутузова окажется еще сильнее: он прославился тем, что собственными стараниями удалил из университета четырех неугодных ему профессоров. Все это доказывало, что либеральные намерения, заключенные в уставе 1804 г., не могли в полной мере воплотиться в жизнь и нисколько не препятствовали наступлению реакции. Сама по себе университетская республика еще была слишком слаба: если за короткий срок попечительства Муравьева она только формируется, причем на этом пути не обходится без злоупотреблений, неудач, то в дальнейшем ее самостоятельность развивается с большим трудом, а яркие личности, способные вести за собой других профессоров, открытые к восприятию нового, желающие продвижения вперед науки и преподавания, в конце рассматриваемого нами периода уходят со сцены. Таким образом, хронологические рамки от 1803 до 1812 г. заключают в себе события от становления и короткого расцвета университетской республики (1805–1807 гг.) до ее угнетенного состояния при попечителе Голенищеве-Кутузове и драматических происшествий, связанных с отъездом университета из Москвы за сутки до вступления туда войск Наполеона, после чего начинается новый период университетской истории.
Университетское самоуправление определялось, прежде всего, деятельностью совета университета как его «высшей инстанции по делам учебным и судебным». Совет собирался один раз в месяц, хотя в чрезвычайных случаях ректор мог собрать совет в любой день, оповестив о этом заблаговременно его членов. С 1805 г. заседания совета проходил: в специально отведенном для него зале — его открыл ректор Страхов освободив большую часть бывших покоев директора университета. Членами совета были только ординарные и заслуженные профессора, таким образом, экстраординарные профессора, адъюнкты, доктора, магистры прочие служащие были лишены права голоса в университетской республике. Количество членов совета не превышало числа университетских кафедр и в разные годы, по мере заполнения кафедр или выбытие профессоров, колебалось от 17 до 27 человек (см. Приложение 3). Hа заседаниях председателем был ректор или лицо, его заменяющее, без присутствия которого заседание не могло начаться. Ректор определял кворум, для которого было необходимо, чтобы на совет пришла по крайней мере половина от наличного состава ординарных профессоров, и объявлял обсуждаемые вопросы. Поскольку совет совмещал в себе прерогативы высшей законодательной, судебной и контрольной власти, то к его ведению равно относились, во-первых, избрание ректора, профессоров, адъюнктов, почетных членов, обсуждение учебного плана и расписания, выработка мер по улучшению преподавания наук в округе; во-вторых, рассмотрение судебных тяжб, перешедших из правления университета; в-третьих, ежегодная проверка счетов правления, составление отчетов и ведомостей по университету и округу, направляемых попечителю и министру. Обсуждение проходило под руководством председателя, который поочередно спрашивал мнение каждого из членов совета о данном вопросе. После этого согласованное мнение большинства заносилось в «дневную записку» — журнал заседаний совета, куда профессора могли также вписать особые мнения за собственной подписью. Журнал заседаний вел секретарь совета, к ведению которого относилась вся переписка совета, его архив, составление копий журнала, посылаемых попечителю. На основании «дневных записок» секретарю, согласно уставу, вменялось в обязанность «сочинять историю университета»[65].
Зафиксированное в журнале заседаний решение должны были подписать все присутствовавшие члены совета, после чего оно вступало в силу (если не требовало утверждения начальства). Только в двух случаях уставом была предусмотрена процедура тайного голосования — при избрании в какое-либо звание или должность и при определении особо выдающегося сочинения для чтения в Торжественном собрании или публикации за счет университета. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежало ректору.
Летом (обычно в конце июня — начале июля) после завершения годового курса лекций в Большой аудитории происходило торжественное заседание совета университета (называемое иначе университетским актом). Оно проводилось очень пышно: приглашались музыканты, пели лучшие усадебные капеллы, принадлежавшие московской знати, от которых не отставал и собственный университетский хор под руководством талантливого музыканта и композитора из крепостных Данилы Кашина. Университет гордился тем, что после принятия нового устава и великолепно отпразднованного полувекового юбилея (30 июня 1805 г.) его акты начали собирать цвет московской публики. Множество вельмож и фаворитов предыдущих царствований, которыми богата была Москва того времени, вместе со своими семьями становились зрителями представления, которое разыгрывали перед ними профессора и студенты университета. Звучали имена новых студентов, которым ректор вручал шпаги. Окончившие учебу получали дипломы ученых степеней; за отличные успехи в овладении науками полагались награды. Прежний ректор передавал своему преемнику большую университетскую печать. От имени ученой корпорации университета совет присуждал премию за решение задачи, поставленной на конкурс в течение этого года. Важной частью торжественного акта были речи профессоров, посвященные определенной научной проблеме. Они отличались от обычных научных выступлений тем, что ораторы обращались к широкой публике, старались донести до нее в сконцентрированном виде суть проблемы, передать основную идею простыми и ясными средствами и одновременно блеснуть красноречием и эрудицией. С преобразованием университета характер и содержание речей изменились в лучшую сторону, что отмечали современники. Ярким оратором показал себя замечательный поэт, переводчик, преподаватель, любимый студентами, Алексей Федорович Мерзляков[66]. Свои впечатления о разговоре ректора Страхова и других профессоров незадолго до акта 1806 г. оставил С. П. Жихарев: «Страхов спрашивал Буле и Двигубского, готовят ли они что-нибудь к торжественному акту. Буле отвечал, что намерен написать диссертацию о лучшем способе сочинять историю народов, населявших Россию прежде IX века, а Двигубский объявил, что будет говорить о нынешнем состоянии земной поверхности. Слава Богу! это уже не прежние сухие рассуждения, никого не интересующие, следовательно, на акте будут говорить и слушать дельное»[67].
Кроме общего собрания в университете проходили также частные собрания профессоров и адъюнктов — по факультетам, под председательством декана. Их основной целью было составление порядка и системы лекций на факультете, прием экзаменов у студентов, желавших получить степень кандидата, рассмотрение магистерских, докторских диссертаций, конкурсных задач, а также сметы факультетских расходов. Частные собрания, как и общие, проходили раз в месяц, если только ректор или декан не собирали внеочередное заседание. Секретарь собрания факультета, избираемый ежегодно из адъюнктов, вел журнал заседаний[68].
Повседневная жизнь профессоров в значительной степени зависела от совета. Через него шли их просьбы о назначении и увольнении от должности. Профессор не имел права надолго отлучаться от работы — в учебное время он был занят чтением лекций, во время каникул — инспектировал по назначению совета подчиненные университету училища и мог рассчитывать не более чем на 28-дневный отпуск по уважительной причине, который утверждал тот же совет. В крайних случаях совет обладал властью удалять профессора из университета, правда, для этого требовалось 2/3 голосов и одобрение начальства.
Самым напряженным временем работы совета становились любые выборы: принятие новых людей в свою корпорацию, повышения в звании и особенно выборы ректора. Здесь возникала почва для столкновения различных интересов, для конфликтов — среди профессоров или с начальством в лице попечителя. По воспоминаниям современника, близко знавшего университетскую жизнь, уже в первые годы существования «ученой республики» среди профессоров «завелись партии, интриги»[69]. К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточного количества источников, которые позволили бы непосредственно воссоздать деятельность совета тех лет. Поэтому, чтобы представить себе взаимоотношения профессоров, их группировки, столкновения мнений, атмосферу заседаний совета, мы должны прибегать к реконструкции на основании той информации, которую содержат самые различные источники о каждом из членов университетский корпорации. Биографические данные, воспоминания современников дают массу сведений о характере, привычках, круге знакомых, взглядах на жизнь и науку того или иного профессора, по которым можно попробовать воссоздать «партии» в их среде. Например, с первого взгляда ясно, что по интересам, глубине познаний, способу преподавания русские ученые отличались от немцев, старые профессора, работавшие в университете еще до его преобразования, отличались от молодых, призванных туда Муравьевым. Но, нисколько не умаляя индивидуальности каждого профессора, из этих же данных следует выделить и сходные черты, которыми равно обладали все профессора. Такой подход позволит лучше увидеть профессорскую корпорацию в целом, понять, что объединяет и что разделяет в ней профессоров, проникнуть в их психологию, обуславливающую характерные особенности их поведения, отношение к ним со стороны московского общества и студенчества. Подчеркнув эти общие черты, мы тем сильнее оттеним яркие индивидуальности ученых, составляющих гордость Московского университета.
1.1. Ученое сословие и общество
В 1803 г. Карамзин в своей статье указывал на одну из главных заслуг университета: «Ему мы обязаны тем, что ученое состояние (несмотря на малые свои доныне выгоды и весьма ограниченный круг действия) не погасло в России»[70]. Слова о «малых выгодах» ученого состояния нуждаются в пояснении. За первые 50 лет существования университета его профессора не имели официально закрепленного статуса, их чин определялся выслугой лет и, по существовавшей практике, был довольно высоким. С введением устава 1804 г. за каждым ученым званием закреплялся определенный класс в Табели о рангах, для ординарных профессоров это был 7 класс (надворный советник), дававший право на потомственное дворянство. Однако между профессорами и остальными «природными» дворянами существовала резкая граница. За единичными исключениями, все ученые, имевшие в первом десятилетии XIX в. профессорское звание, были выходцами из неблагородных сословий: духовенства, купечества и пр. Дворянское общество не принимало их в свою среду, жестко противопоставляло себе. Приведем только несколько высказываний. В 1793 г. автор брошюрки «Мысли беспристрастного гражданина о буйных французских переменах» опасался воздействия революционных идей на «народ, состоящий из попов, стряпчих, профессоров, бродяг…»[71] Парадоксально, но с такой крайней оценкой смыкается будущий декабрист Н. Тургенев: в июле 1807 г. он записывает в дневнике свежие впечатления от посещения Благородного собрания: «Было очень много купцов… Но это ничего, что были купцы: много было и хуже их дворян: например, университетские студенты, профессорские дети, сами профессора, канцелярские служители: всех сих скотов я не променял бы ни на одного порядочного купца»[72].
Именно в Благородном собрании яснее всего видно было отличие новоиспеченных дворян — выходцев из разночинцев от их собратьев — дворян по рождению. Разночинец, воспитанный в принципиально других условиях, тяжелый, неловкий, не владеющий своим телом, культурой жеста и позы, всем тем, что называлось светскими манерами, ни в каком случае не мог осознаваться представителями дворянской культуры как «свой»[73] и естественно получал наименование скота, т. е. существа, не знающего языка светского общества, допускающего в своем поведении отклонения, не свойственные «культурному» человеку. Привычки, образ жизни, манера разговора и поведения дворянина никогда не могли быть усвоены ученым-разночинцем, потому что вырабатывались с раннего детства, под руководством учителей и гувернеров, и совершенствовались в течение всей жизни. Напротив, «тогда между учеными велось какое-то юродство в странности обхождения, в небрежности платья и в образе жизни; казалось, они этим щеголяли друг перед другом и хотели отличаться от неученых»[74].
Между профессором и любым его студентом из дворян существовала, таким образом, непреодолимая пропасть, которую оба ощущали. С типично аристократическим снобизмом насмехается тишком над своими университетскими учителями С. П. Жихарев, цитируя фразу доброго благонамеренного «Никифора Евтропиевича» (Черепанова), в котором все — и имя-отчество, и внешность, и неуклюжая речь выдают бывшего семинариста: «Оное Гарнереново воздухоплавание не столь общеполезно есть, сколько финнов Петра Великого о лаптях учение есть»[75]. Вся студенческая жизнь Жихарева проходит между обществом профессоров в университете и актерами в театре, и в восприятии читателя он словно намеренно сближает оценки этих социальных групп, которых роднит и презрительное отношение к ним со стороны аристократии, и принципиальная невозможность для природного дворянина выбрать обе эти профессии. Стать актером и пойти в ученые равно означает для дворянина понижение его социального статуса, падение в глазах общества. Этим определяется и отношение молодого дворянина к учебе — он просто не может серьезно посвятить себя научной деятельности, чтобы не прослыть педантом, или того хуже, составить о себе в глазах света невыгодное мнение как о человеке, не способном к прохождению дворянской карьеры, несению традиционных служебных обязанностей, желающем от них уклониться, т. е. лентяе, увальне, странном человеке. Десятилетием позже это формулировали еще резче:
Однако именно такой углубленный интерес к наукам (особенно к истории) становится одной из знаковых черт декабристского поколения. Без сомнения, она уже проявилась в студенческие годы будущих декабристов, в частности в Московском университете в рассматриваемый период.
С другой стороны, учитывая все вышесказанное, тем интереснее для нас те редкие исключения, когда профессором становился именно дворянин. Он может избрать для себя разные варианты поведения. В одном случае такой профессор будет играть роль разночинца, при этом создавать нарочито неправильное представление о своем происхождении и воспитании, своими выходками в общении со студентами стремиться вывернуть ситуацию наизнанку, поменять стереотипы поведения студентов разных сословий. За такой раздвоенностью обычно скрывается личная драма человека, сломанная судьба. На другом полюсе антитезы «профессор — дворянин» будет находиться декабристский идеал человека, способного исполнять любую должность, не теряя при этом врожденных благородных качеств (подобно декабристу И. И. Пущину в роли надворного судьи). Поясним наши рассуждения одним характерным примером.
С 1811 г. кафедру гражданского и уголовного судопроизводства Российской империи занимал профессор Н. Н. Сандунов. Один из его учеников, Д. Н. Свербеев, так о нем вспоминает: «Он был человек необыкновенной остроты ума, резкий, энергичный, не подчиняющийся никаким приличиям (впрочем, до известной черты осторожного благоразумия), бесцеремонный и иногда бранчливый со студентами, которые, однако, все его любили и уважали… Не знаю, где и в каком заведении воспитывался сам Сандунов и какого он был происхождения, — не думаю, чтобы он был дворянин, — но он был и не из духовного звания. Выходящие из семинарии, а особливо люди с дарованием, носят на себе отпечаток науки; в нем была видна одна начитанность; едва ли знал он по-латыни, но много читал по-немецки; брат его был актером и любимцем московской публики»[77].
Самое интересное, однако, что вопреки мнению мемуариста Николай Николаевич Сандунов, так же как и его брат, известный московский актер Сила Николаевич Сандунов, был потомственным дворянином, выходцем из грузинского рода Зандукели. Николай учился в дворянской гимназии при Московском университете, затем стал студентом университета, окончил его в 1787 г. с золотой медалью, преподавал в той же дворянской гимназии. За несколько лет ему удалось сделать успешную карьеру. Сначала куратор университета М. М. Херасков взял понравившегося ему молодого человека, любителя театра, начинающего литератора, к себе в секретари, затем Сандунов, не без помощи Хераскова, становится секретарем генерал-губернатора присоединенных польских губерний Тутолмина. Во второй половине 90-х гг. его карьера достигает апогея: Сандунов переезжает в Петербург, где поступает в канцелярию по составлению свода законов, сближается с молодым и честолюбивым М. М. Сперанским; ему покровительствует фаворит Павла I князь А. Б. Куракин. Но неожиданно какая-то неизвестная нам причина ломает его продвижение по службе: с 1798 г. Сандунова переводят в Москву, в 6-й департамент Сената, где он 13 лет подряд занимает одну и ту же должность обер-секретаря. Его биограф пишет: «Может быть, долговременное общение Сандунова с уголовными делами участвовало в мрачном настроении его души. Оригинально резкий и неуступчивый характер Сандунова, сколько мы могли понимать, мог образоваться только при сильной раздражительности темперамента, при страшных неудачах жизни»[78].
Среди московского общества Сандунов пользуется доверием как искусный юрист-практик, знаток законов, неподкупный, в отличие от многих своих собратьев, и независимый от начальства. К его советам прибегают знатные московские фамилии. Прежней остается его страсть к театру, где с огромным успехом выступает его брат Сила Сандунов, ставший актером вопреки своему положению дворянина и отстаивающий достоинство своей профессии в многочисленных конфликтах с театральной дирекцией. Николай Сандунов пишет и переводит пьесы для театра университетского благородного пансиона и сам же участвует в их постановке. Кроме того, оба брата Сандуновы — известные московские острословы. Образец их разговора, дающий представление об отношении братьев к своим профессиям, приводит Жихарев: «Кстати о Сандунове. Намедни повстречавшись на вечеринке у Павла Андреевича Вейделя с старшим братом своим, известным переводчиком Шиллеровых „Разбойников“ и сенатским обер-секретарем, таким же остряком, как и он сам, они о чем-то заспорили, а как братья ни за что не упустят случая попотчевать друг друга сарказмами, то старший в пылу спора и сказал младшему: „Тут, сударь, и толковать нечего: вашу братию всякий может видеть за рубль“ — „Правда, — отвечал актер, — зато вашей братьи без красненькой и не увидишь“»[79].
В 1805 г. сенатором в 6-й департамент, где работал Сандунов, был назначен бывший куратор Московского университета П. И. Голенищев-Кутузов. Обер-секретарь сумел расположить к себе нового сенатора, скорее всего, своими литературными пристрастиями: в ноябре 1805 г. из письма И. И. Дмитриева к Жуковскому мы узнаем о намечавшемся сотрудничестве Сандунова в журнале «Друг просвещения», одним из издателей которого был Кутузов[80]. И когда в 1810 г. тот, наконец, добивается возвращения на пост попечителя университета, он приглашает Сандунова занять должность университетского синдика и одновременно профессора практического законоискусства. Таким образом, Сандунов снова оказывается в университете, с которым был более или менее тесно связан в предшествующие годы. Но если раньше он имел дело со средой дворянской гимназии, благородного пансиона, то теперь его аудиторией становится пестрая толпа студентов университета, разного происхождения, образования, способностей.
Интересно его поведение на лекциях, о котором рассказывает Д. Н. Свербеев. Однажды для чтения сенатской записки им был вызван казеннокоштный студент «лет около 25, с небритой бородой, в голубоватом фризовом сюртуке… Взяв толстую тетрадь в руки, он сейчас замялся, кое-как пробормотал длинный приказной период; никто его не понял; профессор спросил, понимает ли сам чтец. Громкое „нет“ было ответом. Последовал хохот, которому поддался и сам наставник, любивший насмешку, часто самую ядовитую. Приказано читать следующему, т. е. мне; я прочел целую страницу отлично, с чувством, с толком, с расстановкой. „Как твоя фамилия?“ — спросил профессор, несмотря на то, что знал меня очень хорошо. Я назвал себя. „Сколько тебе лет?“ — „Шестнадцать“. — „Ты из каких?“ — „Дворянин“. — „Твой отец?“ Я сказал, что мой отец умер, что он был статский советник. „Есть у тебя какое-нибудь состояние?“ Я отвечал, что есть. „Какое?“ Я объяснил. Заметьте, что все это очень хорошо было известно профессору. „Ну а ты, батенька, — обратился он к первому чтецу, — из каких?“ — „Из духовного звания“. — „Который тебе год?“ — „24-й“. — „А твоя фамилия?“ — Семинарист назвал какую-то из двунадесятых праздников от богоявленского до рождественского включительно. „Состояние есть?“ — „Никакого“. — „Ну уж, батенька, ты шалопай — есть нечего, бороду бреешь, а читать не умеешь!“»[81]
Комизм ситуации, который Сандунов стремился продемонстрировать перед аудиторией, заключался в том, что состоятельный студент-дворянин умел читать сенатскую скоропись гораздо лучше, чем казеннокоштный студент, бывший семинарист, без всякого состояния, для которого от этого умения зависело в будущем продвижение по службе, возможность заработать на жизнь. Служебная карьера дворянина в очень малой степени вытекала из его образованности, несмотря на все усилия правительства (указ 6 августа 1809 г. — о нем см. ниже). Она определялась его сословно-корпоративными, семейными связями, покровителями и во многом волей случая, что на себе почувствовал Сандунов. В рассматриваемом же примере он провоцирует ситуацию, в которой представители сословий меняются местами: роль «ученого студента» получает дворянин Свербеев, а «беспечного шалопая» — бородатый попович.
Как уже подчеркивалось, для людей недворянского звания ученая карьера была одним из немногих способов приобрести твердое положение в жизни, изменить свой социальный статус, получить дворянство. Продвижение по этому пути зависело только от их личных способностей, привычки к усердным занятиям, трудолюбия. И овладение наукой, и ее применение имело для этих людей чисто практический смысл, что сближало их с положением ремесленников-профессионалов: художников, архитекторов, актеров, скульпторов, музыкантов. Поэтому отличительным качеством профессора университета до его преобразования было утилитарное отношение к преподаваемым дисциплинам. При этом вопрос о развитии науки как таковой не ставился. (Интересно, что Мейнерс в переписке с Муравьевым предлагал, наоборот, перенести все внимание на развитие чистой науки, как это делалось в некоторых немецких университетах.) Иногда и плохое преподавание можно было простить профессору за его умение применить предмет на практике. Например, законовед Горюшкин, прежде чем вступить на университетскую кафедру, почти 30 лет проработал в сыскном приказе и коллегии юстиции, помнил застенки и дыбу, начинал службу в канцелярии московского воеводы, а заканчивал в уголовной палате при главнокомандующем Москвы князе А. А. Прозоровском, с которым спорил по делу Новикова[82]. Профессор Харитон Андреевич Чеботарев, преподававший российскую словесность и историю, с 1783 г. по поручению Екатерины II разбирал летописи, делая выписки о древней истории, «наипаче касающейся до России»[83]. Математик Панкевич, часто темный и непонятный в изложении предмета, следил за новыми результатами, появлявшимися в Европе, причем старался сам повторять их вывод. Гуляя по Москве, он иногда останавливался у строящихся домов, давал советы строителям; его ценили как механика.
Поскольку большая часть профессоров (не считая медиков) нигде кроме университета не служила, жалование ученого являлось для них основным средством к существованию, а наука была ремеслом, с помощью которого они зарабатывали на жизнь. И наоборот, сквозь призму своего ремесла воспринимались ими элементы повседневной жизни, формировались привычки, совершенно отличные от привычек дворянского общества. Так, любимым занятием того же Панкевича было наблюдение за разгрузкой барж у пристани на Москве-реке. Адъюнкт чистой математики Перелогов в свои ежедневные прогулки обязательно включал посещение паровой водоподъемной машины села Алексеевского[84]. Вообще, повседневное поведение профессоров содержит массу характерных деталей, врезавшихся в память мемуаристов, прочно стяжавших ученым репутацию московских чудаков, «оригиналов»[85]. Происхождение некоторых особенностей их поведения находится, видимо, на ранних этапах становления их мировоззрения, в период воспитания и образования. Интересно узнать, как и откуда выходили люди, ставшие впоследствии профессорами Московского университета. Рассматривая с этой точки зрения биографии «старых» профессоров, начавших преподавание в XVIII в., можно сделать несколько общих замечаний.
1.2. Старшее поколение профессоров
Отметим, во-первых, что большинство ученых старшего поколения (10 из 13) родились в провинции, далеко от обеих столиц Российской империи: трое из профессоров (Чеботарев, Брянцев, Черепанов) — уроженцы русского Севера, шестеро — малороссияне и один (Гаврилов) — из черкасов (украинских уроженцев) Орловской губернии. Можно отметить любопытный факт: Чеботарев, Брянцев, а впоследствии и замечательный врач Мудров провели детские годы в Вологде (там же, где в юности жил М. Н. Муравьев!) и учились в местной семинарии. Андрей Михайлович Брянцев отправился в Москву пешком, по пути Ломоносова, а через несколько лет, с 25 копейками в кармане и старой фаянсовой чашкой без ручки (с ее помощью можно было пить воду из придорожных ручьев) этим же путем пройдет и Мудров. По большей части наши будущие профессора происходили из семей бедных священников и других церковнослужителей. Если старший сын в такой семье мог рассчитывать, что после смерти отца получит его приход или должность, то младший не надеялся на это, не мог он претендовать и на долю отцовского наследства, и без того скудного. Единственное, что ему оставалось — рано покинуть семью и уйти в город, рассчитывая самому устроиться в жизни. Чтобы получить хоть какое-то образование, где-нибудь обосноваться на первое время, проще всего ему было поступить, по рекомендации отца, в местную семинарию или, еще лучше, в духовную академию, бурсу. Из шестерых профессоров, уроженцев Малороссии, четверо (Панкевич, Прокопович-Антонский, Сохацкий и Барсук-Моисеев) попали таким образом в Киевскую академию. Известно, что дружба Панкевича и Прокоповича-Антонского началась именно на ее скамьях. Свою первую фамилию Ф. И. Барсук-Моисеев придумал в годы учения в академии из слова «бурсак». Среди оставшихся двух малороссиян Ф. Г. Политковский воспитывался в Черниговской семинарии, а о начальном образовании киевлянина В. К. Аршеневского мы не имеем сведений. Что касается троих москвичей, то о 3. А. Горюшкине, происходившем из обнищавшей дворянской семьи и еще ребенком вынужденном поступить на службу, не зная толком русской грамматики, мы уже говорили. М. М. Снегирев, преподаватель философии и церковной истории, родился в Александровой слободе и обучался в Троице-Сергиевой лавре под руководством митрополита Платона. Только П. И. Страхов сразу был определен в гимназию Московского университета.
В итоге почти все профессора старшего поколения получили начальное образование в духовных училищах, и, как пишет наблюдательный мемуарист, «в некоторых из них очевидно отражался дух кельи и лампады, как на языке, так и на одежде и самом образе жизни»[86]. Добавим к этому, что малороссияне выделялись своими характерными словечками, манерой речи[87].
Пройдя начальный курс образования, все будущие профессора продолжали обучение в Московском университете (кроме одного Горюшкина, нигде не учившегося и поэтому так и не получившего профессорского звания, хотя с 90-х гг. он занимал кафедру российского законоведения). Это было им тем легче сделать, что в 70-е гг. практиковались переводы в Московский университет, которому в то время очень не хватало студентов, воспитанников Киевской академии и других духовных училищ. Чуть позже, в 1782 г. П. А. Сохацкий в числе лучших учеников Киевской академии переводится в Москву, где по инициативе Дружеского ученого общества должна была открыться филантропическая семинария, а после ее неуспеха остается в студентах при университете. Брянцев попадает в университет из Славяно-греко-латинской академии, Снегирев поступает в студенты из Троице-Сергиевой лавры. В зависимости от возраста молодые люди определяются или сперва в воспитанники разночинской гимназии, содержавшейся на казенный счет, или сразу в казеннокоштные студенты. Здесь возникают дружеские связи, сохранившиеся между профессорами на всю жизнь. Так сложилась дружба Гаврилова и Аршеневского, Брянцева и Страхова.
Годы учебы будущих профессоров в университете совпадают с периодом расцвета Дружеского ученого общества, тесно связанного со студенческой средой. При помощи куратора Хераскова общество имело возможность материально поддерживать подающих надежды студентов, оплачивать их образовательные поездки за границу. «Биографический словарь» позволяет установить, что с кругом Хераскова и Новикова были связаны Чеботарев, Страхов, Прокопович-Антонский, Гаврилов, Аршеневский. В 1781–1783 гг. в заграничную поездку (Лейденский университет — Париж) для изучения естествознания отправляется Политковский, а в 1785 г. путешествие через Францию и Германию совершает Страхов, чтобы, по поручению Хераскова, изучить состояние заграничных университетов и их достижения, которые можно было бы применить в России. Поездка Страхова, видимо, сопровождалась выполнением и некоторых масонских поручений и финансировалась Дружеским ученым обществом (Страхов получил степень мастера в университетской масонской ложе)[88]. Несомненно, что заграничные путешествия имели огромное значение для формирования мировоззрения молодых ученых. В Европе они соприкасались с представителями передовой мировой науки, приобрели бесценный научный опыт. Ф. Г. Политковский защитил в Лейденском университете диссертацию на степень доктора медицины, в Париже мог слышать лекции Лавуазье и Ламарка. Страхов, готовившийся во время своей поездки к преподаванию риторики, вез рекомендательные письма к русским вельможам, жившим за границей (Разумовским, Голицыным), открывавшие ему двери салонов культурной элиты европейского светского общества: например, в Париже он слушает известного физика и красноречивого оратора Бриссона, знакомится с аббатом Бартелеми, автором знаменитого «Путешествия Анахарсиса», книги, на которой не одно поколение молодых людей знакомилось с основными идеями века Просвещения (эту книгу Страхов переведет, вернувшись в Россию). Из путешествия Страхов вынесет свое представление о «европейском» типе ученого, которому постарается следовать всю жизнь.
Итак, поколение русских профессоров, преподававших в Московском университете к началу преобразований, своим формированием во многом обязано деятельности Дружеского ученого общества, усилиям Хераскова, Шварца, Новикова. К началу XIX в. полученный импульс уже в значительной степени затухает. Профессора, средний возраст которых приближался к 50 годам, доживали свой век, хотя московские студенты еще восхищались отдельными яркими личностями — Страховым, Политковским. Образ жизни, который вело большинство профессоров, не отличался яркими красками. Круг их общения не выходил за пределы университета, все они образовывали дружескую компанию, возникшую еще в молодости и резко отделенную от остального общества. Члены этой компании — Страхов, Панкевич, Антонский, Политковский, Сохацкий, Брянцев, Гаврилов, Аршеневский, Снегирев — обычно обедают вместе в доме у одного из друзей. Они часто отправляются вместе гулять: их любимые прогулки — в Измайлово, вдоль Москвы-реки, по Калужской дороге к Донскому монастырю. В Донском монастыре архимандритом служит брат профессора Прокоповича-Антонского Владимир. На обедах у него бывал Н. Н. Сан д у нов, еще служивший в Сенате, X. А. Чеботарев, некоторые студенты. Эти обеды не слишком отличались монастырской сдержанностью. «Посреди высоких лип, пьяных монашеских, Харитона Чеботарева лиц и бонмо обер-секретаря Сандунова приносил я чистую жертву Бахусу прекрасным пуншем, пивом и Венгерским», — пишет в дневнике студент Н. Тургенев[89].
Здесь нужно отметить, что пристрастие к спиртному не миновало многих профессоров университета и эта черта ничем не выделяла их из рядов неблагородного, «пьющего» сословия российских жителей. Нужны были почти героические усилия, чтобы расстаться с привычками молодости. Например, профессор Панкевич еще со студенческих лет сильно пил, но его вылечил Политковский, поставив Панкевичу фонтанель на левую руку, которую тот с тех пор постоянно держал за пазухой, так что во всем обходился без ее помощи, даже когда лечение кончилось, за что и прослыл одноруким. Ему пришлось поменять и другие привычки: он отвык от табака настолько, что не терпел и запаха его в комнате, где кто-нибудь курил. Хорошо помнивший Панкевича И. М. Снегирев ставил его в пример как человека честного и прямодушного, победившего свою натуру. Панкевич жил один, сам себе готовил и прибирал, всегда ходил пешком, даже отправляясь в далекий Донской монастырь, который очень любил. Чтобы не тратиться на извозчика и вместе с тем побороть дорожную скуку, он брал с собой мешочек каленых орехов; это называлось у него «ехать на орехах». В городе он никому не кланялся, не делал визитов, сам принимал гостей изредка и тогда допускал единственную роскошь — поил их самым лучшим, дорогим чаем[90].
Фигура Панкевича, действительно, типична, если мы говорим об образе жизни московских профессоров старшего поколения. Их неизменными чертами были скромность, бережливость, некоторая замкнутость, застенчивость. Не посещая ни званых вечеров, ни светских развлечений, они ограничивались народными гуляньями под Новинским или на Пресненских прудах, где попадали в среду таких же простых людей, какими чувствовали себя сами; регулярно ходили в церковь, а по праздникам в Успенский собор. Неуютное чувство, ощущение неловкости заставляло их избегать светского общества. Однако настоящей душой всей компании профессоров был человек неординарный, выделявшийся из общей среды, о котором современники оставили совсем иные воспоминания, — П. И. Страхов.
«Редко увидишь такого человека — статного без принуждения, величавого без напыщенности, красивого без притязательности, вежливого без манерности. Сам вид его внушал уважение»[91]. Петр Иванович Страхов родился в семье священника, выходца из дворян, и своим дворянскими корнями очень гордился. С ранних лет поступив в гимназию университета, он окунулся в атмосферу новиковского кружка. В 20 лет он — личный секретарь Хераскова, талантливо играет в пансионском театре, под руководством Новикова занимается переводами, в том числе трудов Сен-Мартена, давшего название московским мартинистам. В 26 лет он отправляется в Европу, откуда возвращается сложившимся ученым, готовым занять кафедру российского красноречия. Но эта кафедра за время его отсутствия оказалась занята, и на несколько лет он получает должность инспектора университетской гимназии, а с 1789 г. после смерти профессора Роста вступает на освободившуюся кафедру опытной физики. Всесторонняя образованность и талант оратора позволили Страхову за несколько лет вывести свой предмет в число самых популярных в университете. Его лекции сочетали красноречивое изложение материала и интересные опыты. Из аудитории до квартиры профессора провожали толпы слушателей, которым он дорогой давал ответы на вопросы. Благодаря своему приятному голосу Страхов не только сам с блеском выступал в публичных собраниях, но и читал речи за других профессоров — Брянцева, Панкевича, Чеботарева — так, что последний плакал при этом. Необыкновенная память его поражала воспитанников университета — за 25 лет инспекции над гимназией он помнил всех ее учеников по именам[92].
Страхов был в полной мере светский человек, любил театр, который, как он считал, учит светской благопристойности. Особое уважение к Страхову чувствовал М. Н. Муравьев, между ними существовало полное взаимопонимание относительно целей и средств университетских реформ. Именно в ректорство Страхова созданная Муравьевым ученая республика достигает расцвета.
Не меньшую симпатию испытывали к нему его друзья-профессора. Особенно дружил Страхов с профессором философии Брянцевым, жившим вообще очень уединенно и почти нигде не бывавшим. Снегирев вспоминает, что вне университета Брянцева можно было увидеть только в Успенском соборе, вместе со Страховым, всегда у одной и той же колонны. Брянцев сопровождал Страхова в Нижний Новгород, когда они спасались от французов в 1812 году. Из других его коллег назовем X. А. Чебота рева, с которым Страхова связывало давнее масонское товарищество. Многие соседи Страхова по университетским квартирам пользовались его прекрасной библиотекой, как передают, одной из самых богатых в Москве, содержавшей, кроме книг, собрание летописей, писем, монет — богатство, равное целому музею университета. Все эти коллекции погибли в московском пожаре, так же как и библиотеки многих других профессоров, известных в Москве библиофилов. Там же сгорели и дневники Страхова, в которых он описывал свою жизнь в университете и путешествие по Европе — уникальный исторический источник!
Благодаря выдающемуся положению среди профессоров Московского университета Страхов и в университетском совете играл особую роль — как во время своего ректорства, так и после этого. Его биограф пишет, что половина профессоров (как мы теперь понимаем, это именно те старые профессора, о которых мы только что говорили) не подписывали журнал совета, прежде чем его подписывал Страхов. В его отсутствие откладывалось решение важных проблем[93]. Таким образом, те профессора, которые по складу своего характера не слишком активно участвовали в делах университетской республики, делали Страхова выразителем своих интересов, представителем, может быть, самой крупной партии в университетском совете.
1.3. «Молодые» профессора
При проведении университетских реформ одной из главных целей Муравьев ставил воспитание нового поколения русских профессоров. По его мнению, это можно было сделать, не иначе как посылая талантливых молодых ученых за границу, где бы они сознательно готовились к вступлению на университетские кафедры. В бумагах Муравьева есть список студентов, готовых для отправки в Европу, с обозначенными предметами, которые они будут изучать там: «Тимковский — греческая литература, Кошанский — археология, теория изящных искусств, Чеботарев — технология, Буринский — история, Болдырев — языки восточные, Жуков — высокая геометрия, Озеров — лесоводство, Смирнов (Петр) — философия… Всех сих ученых по приезде можно сделать адъюнктами и профессорами экстраординарными»[94]. Как мы увидим, планы Муравьева осуществились лишь частично.
С другой стороны, попечитель вступает в переписку с молодыми учеными, уже находившимися в зарубежных университетах. Дело в том, что усилиями И. П. Тургенева, стремившегося возродить некоторые традиции Дружеского ученого общества, в 1801–1803 гг. на учебу в Европу выехало несколько молодых людей, близких к семье Тургенева, кругу И. П. Лопухина (среди них, например, были Александр Тургенев и Андрей Кайсаров). Нас интересуют те из них, которые в будущем станут профессорами Московского университета.
В 1802–1804 гг. вместе с А. И. Тургеневым и А. С. Кайсаровым в Геттингенском университете учились будущие профессора И. П. Воинов и И. А. Двигубский. Последний из них окончил Московский университет в 1794 г., получил звание адъюнкта, преподавал физику в благородном пансионе, в 1802 г. защитил в университете диссертацию на звание доктора медицины и был послан за границу. Из Геттингена он переехал в Париж, откуда переписывался с новым попечителем Муравьевым, прося предоставить ему кафедру[95]. После возвращения в 1806 г. Двигубский становится первым в России профессором технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам.
Одновременно с Двигубским в 1803 г. в Геттингене оказывается и М. Я. Мудров. Он поступил в Московский университет в 1796 г. и, женившись на дочери профессора Чеботарева, вошел в круг московских масонов. Ему покровительствовали И. П. Лопухин и И. П. Тургенев.
Мудров дружил с его сыном Андреем Тургеневым, вероятно, знал Мерзлякова, Кайсарова, Жуковского — членов Дружеского литературного общества, кружка молодых университетских литераторов, возникшего в январе 1801 г.[96] Окончив медицинский факультет с золотой медалью, Мудров должен был в 1801 г. отправиться в Европу, но на год задержался в Петербурге, где работал в морском госпитале. Его маршрут включал посещение многих городов и университетов, проходил через Берлин, Геттинген, Вену. На 4 года Мудров остается в Париже, слушает лекции по врачебному искусству в Сорбонне, живет у кн. Голицыных М. Я. Мудров в качестве домашнего медика. Заочно в Москве по ходатайству Муравьева ему присвоены звания доктора и экстраординарного профессора. Муравьев зовет его в Москву. Мудрое с радостью принимает приглашение занять университетскую кафедру. В своих письмах к попечителю он говорит о необходимости улучшения преподавания у нас медицины по примеру учебных заведений Франции и Германии[97].
Еще одним будущим профессором, начавшим обучение за границей до преобразования университета, был JT. А. Цветаев, близкий друг Мерзлякова и Мудрова. В 1795 г. он был переведен в студенты из Славяно-греко-латинской академии. В путешествие по Европе он отправился в 1802 г., сопровождая одного из кураторов — Ф. Н. Голицына. Цветаев посетил лучшие университеты Германии, в Геттингене стал доктором философии, как и его товарищи, долгое время жил в Париже, где его профессиональное внимание как юриста привлекала французская энциклопедическая школа юриспруденции. В 1804 г. Цветаева выбрали членом Парижской Академии законодательства. Вернувшись в 1805 г. в Россию, Цветаев получил должность экстраординарного профессора права, и его лекции высоко оценивались студентами[98].
Таким образом, уже к тому времени, когда Муравьев был назначен куратором, в Европе обучалось несколько молодых людей, способных занять профессорские кафедры. За четыре года своего попечительства Муравьеву удалось отправить за границу еще четверых: Р. Тимковского, А. Болдырева, И. Грузинова и А. Чеботарева. Здесь нужно отметить возникшие объективные трудности — разворачивающиеся в Европе военные действия. В 1803 г. французы занимают Ганновер, где находился Геттингенский университет, а с осени 1805 г. на территории Германии идут почти непрерывные войны, затронувшие многие университетские города. Студенты терпели лишения вместе с местным населением. Например, посланные в Галле летом 1806 г. Болдырев и Тимковский нашли университет разрушенным, провинцию охваченной голодом и были вынуждены пешком пробираться в Лейпциг, а оттуда в Геттинген. Учившийся в Кенигсберге Андрей Чеботарев из-за приближения войны к границам Восточной Пруссии должен был, не закончив курс обучения, в январе 1807 г. вернуться в Москву. Проезжавший в начале 1807 г. через Польшу в Россию М. Я. Мудров был задержан в Вильне при русской армии, где крайне не хватало врачей.
По тем же причинам некоторые студенты так и не выехали за границу. Характерна история одного из любимцев Муравьева — Н. Ф. Кошанского[99]. Он успешно окончил Московский университет, преподавал риторику в пансионе, в 1805 г. защитил магистерскую диссертацию по словесным наукам. Кошанский интересовался широким кругом научных проблем: мы встречаем его статью в журнале Общества испытателей природы, где он описывает опыты по электричеству профессора Страхова. Попечитель выбрал Кошанского для преподавания археологии и теории изящных искусств на новой кафедре, которая существовала только в Московском университете и соответствовала стремлениям Муравьева развивать в России изучение классических древностей и античной эстетики как основания всех современных наук. Со временем Кошанский должен был заменить профессора Буле, приглашенного попечителем на эту кафедру из Геттингена. В 1805 г. Кошанский вместе с Муравьевым едет в Петербург, чтобы отправиться в Германию, но начавшаяся война мешает этому. Ожидание отъезда длилось два года, в это время Кошанский изучал древности в эрмитажных коллекциях. Вернувшись в Москву, он получил степень доктора, помогал Буле выпускать «Журнал изящных искусств» и «Московские ученые ведомости», но смерть Муравьева лишила молодого ученого необходимой ему поддержки. Без продвижения по службе (которому особенно препятствовал попечитель П. И. Голенищев-Кутузов[100]), в ожидании вакантной кафедры он оставался при университете до середины 1811 г., пока ему не удалось устроиться в открывавшийся Царскосельский лицей, где Кошанский стал первым преподавателем российской словесности у юного Пушкина.
Муравьев намеревался отправить за границу и А. Ф. Мерзлякова — самого яркого профессора нового поколения. Любимец студентов, поэт, ученый, критик, «Колумб российского гекзаметра» (по выражению М. А. Дмитриева), он сыграл огромную роль в развитии преподавания российской словесности в университете и в формировании нового облика университета в обществе. Его лекции привлекали всю образованную Москву. Вокруг Мерзлякова собирались молодые студенты, литераторы, на складывание мировоззрения которых он оказал определяющее воздействие.
А. Ф. Мерзляков родился в Перми и из местного училища благодаря рано проявившемуся поэтическому таланту был переведен в Москву, в университетскую гимназию, а затем перешел в университет. В конце 90-х гг. Мерзляков попадает в тургеневский кружок, в 1801 г. вместе с Жуковским, Андреем Тургеневым, Кайсаровым и Воейковым основывает Дружеское литературное общество. Его стихотворения и переводы регулярно появляются в московских журналах и университетских изданиях. Мерзляков — активный участник литературных споров того времени[101]. В 1804 г. он получает степень магистра и направляется Муравьевым на кафедру российского красноречия и поэзии, которую оставил избранный ректором X. А. Чеботарев. Зимой 1804–1805 гг. попечитель везет Мерзлякова в Петербург. Это было «драгоценнейшее время» в его жизни, как вспоминал поэт впоследствии. Недели проходят в дружеском общении с петербургскими литераторами, радостно встретившими новый талант. Среди его друзей — писатели из Вольного общества любителей словесности, в доме Муравьева он знакомится с молодым Батюшковым. Муравьев хлопочет о служебном продвижении любимого ученика и даже рекомендует его в наставники великих князей Николая и Михаила, но без успеха. В 1805 г. Мерзляков возвращается в Московский университет, где утвержден в степени доктора, становится адъюнктом, с 1807 г. — экстраординарным, а с 1810 г. — ординарным профессором. В эти годы Мерзляков — центр кружка литераторов, куда входят многие студенты, магистры, кандидаты. Среди его друзей — 3. А. Буринский, Н. Ф. Кошанский, Л. А. Цветаев, Р. Ф. Тимковский, М. В. Милонов[102]. Деятельность кружка, хорошо освещенная мемуаристами, дает яркое представление об университетской атмосфере того времени (см. гл. 4). Лекции Мерзлякова, по общему признанию, одни из самых интересных в то время, были основаны на глубоком знании как античной, так и новой литературы, учили критическому разбору отечественной поэзии. Муравьев поощрял занятия Мерзлякова античной поэзией, заказывал ему переводы «Эклог» Вергилия и других стихотворений.
Мы видели, что вступив в должность попечителя, Муравьев познакомился с лучшими воспитанниками, в основном принадлежавшими к окружению его друга и бывшего директора университета И. П. Тургенева, и способствовал быстрому получению ими звания профессора, как правило, после обучения за границей. Тогда как раньше между окончанием университета, получением ученой степени магистра (если ее вообще присваивали выпускнику) и занятием кафедры проходило 10–15 лет, теперь было достаточно трех лет (Мерзляков), а вернувшимся из-за границы профессорское звание давалось сразу. Конечно, речь не идет о снижении уровня знаний профессоров, наоборот, из молодых людей быстро вырастают европейски образованные ученые. Муравьев распределяет молодых профессоров по новым кафедрам, введенным уставом 1804 г., и по его плану они должны через некоторое время полностью заменить иностранных ученых, которых попечитель пока что пригласил на вакантные места. Питомцы Муравьева обучают таким новым предметам, как восточные языки (Болдырев), технология (Двигубский, Чеботарев), военная медицина и гигиена (Мудров). Из 13 человек, призванных Муравьевым преподавать в Московский университет, 8 прошли курс европейских университетов, all получили профессорское звание до 1812 г. За границей не были лишь Мерзляков и молодые врачи — И. Ф. Венсович, приглашенный из Военного госпиталя, и выпускники медицинского факультета В. М. Котельницкий, С. А. Немиров, Н. Г. Щеголев.
Все профессора молодого поколения окончили в свое время Московский университет. Поэтому можно говорить о продолжении ими университетской традиции. Что же нового они внесли в его развитие? Во-первых, они принесли с собой новое отношение к науке, характеризующееся более глубоким изучением теоретических основ предмета в сочетании с практикой. Критические разборы Мерзлякова, курсы Цветаева, Двигубского были вкладом не только в развитие преподавания, но и в отечественную науку, формировали новое научное мировоззрение у студентов. Университет объективно способствовал распространению идей просвещения, которыми была пропитана Европа после Французской революции и которые передавала российским ученым. Наука должна была теперь учить не только как исполнять служебные обязанности, но и как преобразовать жизнь в целом, и недаром именно этот аспект науки, ее актуализацию, восприняли будущие декабристы.
Во-вторых, молодое поколение профессоров показало пример новых отношений со студентами. Большое значение имел здесь кружок Мерзлякова. В нем студенты, магистры, адъюнкты, профессора чувствовали себя собратьями, там не было учеников и учителей, разделенных служебными, сословными перегородками, всех объединяло общее увлечение поэзией, литературой. Дружеская беседа плавно переходила в веселое застолье. Характерно, что, например, С. П. Жихарев, не считавший профессоров вообще людьми своего круга, проводит тем не менее свои дни рождения в кружке Мерзлякова, среди собратьев-литераторов. Университет был пронизан дружескими объединениями, формальными и неформальными, но важно, что они являлись продолжением культурной жизни Москвы, не отделялись от дворянского общества. Споры переходили из светских салонов на университетские кафедры и наоборот. Профессор Каченовский, обязанный своим появлением в университете уже не Муравьеву, а следующему попечителю — графу А. К. Разумовскому, издавал один из ведущих литературных журналов Москвы «Вестник Европы», вызывавший иногда бурную полемику в среде писателей. Мерзлякову заказывали торжественные оды по случаю московских праздников. Свое характерное место в литературных кругах занимал третий попечитель университета П. И. Голенищев-Кутузов. Университет 1800-х гг. уже никак нельзя назвать замкнутым учреждением: он получает свое место в культурной жизни, а многие профессора достигают общественного признания. Одна из причин этого — появление молодого поколения профессоров.
Соответственно изменяется и образ жизни ученых. Гораздо меньше среди них людей, удаленных от света. Они хорошо известны Москве, выступают в журналах переводят книги, издают учебники, дают частные уроки. Доктор Мудров консультирует как знатных вельмож, так и простых горожан, члены Общества испытателей природы выполняют картографирование Москвы и уезда по заказу правительства и т. п. — тем самым, существование университета наглядно оправдывает себя в глазах общества.
Нужно, однако, заметить, что в рассматриваемый период молодые ученые еще только начинают свою работу в университете. Их деятельность продолжится после 1812 г., когда поколение, порожденное реформами Муравьева, вступит в зрелый возраст. До начала 1810-х гг. оно слабо представлено в совете университета, куда только в 1808 г. входят Венсович и Двигубский, в 1809 — Мудров, в 1810 — Мерзляков, в 1811 — Грузинов вместо умершего Венсовича, Цветаев и Тимковский. С 1809 г. Двигубский занял должность секретаря совета, заменив скончавшегося профессора Сохацкого. Некоторые профессора (Мудров, А. X. Чеботарев) находятся в коротких отношениях с профессорами старшего поколения, другие держатся независимо. Из всех молодых профессоров только Мудров в 1812 г. достигает поста декана. Однако к рубежу 1812–1813 гг., когда по разным причинам университет покинули 9 профессоров из числа служивших до начала реформ, можно говорить, что смена поколений совершилась.
1.4. Профессора-иностранцы
Отдельную группу в университетской ученой корпорации образовывали иностранные профессора. В «Былом и думах» Герцена мы находим следующую характеристику, отнесенную к «патриархальному периоду Московского университета», как автор называет время до 1812 г.: «Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильтебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей»[103].
Герцен застал в университете уже очень немногих немецких профессоров из допожарного поколения. Его слова, как мы увидим, не вполне справедливые, нужно рассматривать как отражение тех рассказов и историй, которые оставили после себя немецкие профессора того времени, действительно осознававшегося москвичами как особый период в истории университета, хотя бы потому, что немцы-ученые, специально приглашенные в Россию, составляли около половины всех профессоров и в определенной мере определяли облик университета в глазах общества.
Иностранные профессора появились в университете с момента его основания. Молодое российское учебное заведение испытывало острую нужду в преподавателях высокого класса, и куратор Шувалов заботился о том, чтобы пригласить в Москву, по возможности, наиболее талантливых европейских ученых. И действительно, в первые годы существования в университете подобрался сильный коллектив иностранных профессоров (как правило, из Германии), таких как Шаден, Дильтей, Маттеи и др., которые оказали большое влияние на развитие университетской науки. К началу 1800-х гг. это поколение практически исчезло, а новых профессоров в условиях изоляции России от Европы в последнее десятилетие XVIII в. не приглашали. Когда Муравьев начинал реформы университета, здесь работало всего 5 профессоров-иностранцев. Старейшим из них был хирург Керестури, выпускник Пештского университета (Венгрия), приглашенный в Московскую медико-хирургическую академию еще в 1762 г. За свою долгую практику он прославился в Москве как искусный врач, лечил директоров университета и с помощью одного из них обосновался на кафедре хирургии медицинского факультета. С 1796 г. в должности экстраординарного профессора французский язык и словесность в университете преподавал аббат Авья де Вате (Aviatde Vatay), служивший до этого воспитателем в доме кн. Репнина. Профессор Гейм, окончивший Геттинген, также отправился в Москву домашним учителем и прошел в университете путь от лектора немецкого языка до профессора истории, статистики и географии Российской империи, а впоследствии — ректора университета. Ф. Г. Баузе, уроженец Саксонии, попал в Россию в поисках счастья и долгое время преподавал в лютеранском училище в Петербурге, пока не был обвинен своими коллегами в каких-то нарушениях, и в 1782 г. перешел в Московский университет, где после смерти Дильтея занял кафедру римского права. Надо отметить, что и Гейм, и Баузе по своему положению в университете в 1800-е гг. были близки к группе старых профессоров и за долгую жизнь в России породнились со страной, ставшей их новым отечеством. Гейм преподавал русскую статистику и географию, читал лекции на беглом, хотя не вполне правильном, русском языке, его часто можно было видеть в обществе профессоров Антонского, Страхова и др. Верность новой родине Гейм доказал и своим поведением во время эвакуации университета в 1812 г., когда занимал пост ректора. Баузе прославился прежде всего своей богатейшей в Москве коллекцией русских древностей, которую он собрал за 30 лет. В его библиотеке находились летописные повести XIII в., Библия Ф. Скорины и другие редкости[104]. Как вспоминает И. Снегирев, ему случалось видеть профессора Баузе с Анненским орденом в петлице на «толкучке» между букинистами, торгующего какую-нибудь ветхую книгу. Свои находки Баузе с детской радостью показывал на лекциях студентам[105]. В 1811 г. коллекцию Баузе хотело приобрести университетское Общество истории и древностей российских, но, к сожалению, сделка не состоялась, и дальнейшая ее судьба неизвестна: считается, что это уникальное собрание погибло в пожаре 1812 г.
Еще одним профессором немецкого происхождения, начавшим преподавание в 1790 г., был В. М. Рихтер. Правда, формально его нельзя отнести к иностранцам, поскольку Рихтер родился в Москве в семье лютеранского пастора и учился на медицинском факультете Московского университета. 4 года он провел в Германии, где получил звание доктора медицины. В Москве он занял кафедру повивального искусства и впоследствии активно участвовал в деятельности университетских ученых обществ и повивального института. Его главной работой стала «История медицины в России», первая часть которой появилась перед Отечественной войной.
В 1801 г. после долгого перерыва И. П. Тургенев пригласил в Москву нового иностранного ученого, X. А. Шлецера — сына знаменитого историка. В это время Тургенев налаживал связи с Геттингеном, где преподавал Шлецер-отец, и приглашение его сына воспринималось как проявление уважения к этому имени. X. А. Шлецер начал чтение лекций по всемирной истории и политике.
Таким образом, к 1803 г. еще нельзя говорить о существовании какой бы то ни было группировки иностранных профессоров в Московском университете. Работавшие здесь немцы не играли самостоятельной роли в преподавании и управлении университетом и (за исключением Шлецера) типологически были близки к старшему поколению русских профессоров. За следующие несколько лет ситуация резко изменилась. В 1803–1805 гг. Муравьев пригласил в Москву 11 ученых из Германии. Прибытие новых профессоров обычно происходило следующим образом: ответив на письмо Муравьева положительно, ученые, по представлению попечителя, зачислялись на русскую службу, и им выделялось жалование. Муравьев посылал каждому из ученых определенную сумму денег (до 2 тыс. руб.) на путевые расходы — эти деньги также помогали профессорам завершить все дела, удерживающие их в Германии (например, издание своих печатных трудов и т. д.). Приехавшие в Москву профессора немедленно получали свое жалование, накопившееся со времени поступления на службу, что давало им начальные средства на обустройство в Москве. Этот порядок, заведенный Муравьевым, был выгоден иностранным ученым, но вызывал в дальнейшем нарекания со стороны Министерства народного просвещения и в конечном итоге был отменен, и даже покидающих Россию прежде двух лет службы профессоров обязывали возвращать путевые деньги, что было им весьма затруднительно[106].
Новые профессора, заметно отличаясь от уже работавших в Московском университете иностранцев, обладали определенными общими чертами: все они принадлежали к единой германской научной школе, сложившейся в это время и имевшей своими центрами Геттинген, Лейпциг, Виттенберг, Кёльн, Галле, Иену и другие университетские города. В таком выборе профессоров сказались симпатии Муравьева к научной среде протестантской Германии, давшей образец и для университетского устава 1804 г. Четверо приглашенных преподавали в Геттингене, многие другие учились там — что неудивительно, поскольку основным посредником Муравьева на переговорах с учеными был геттингенец Мейнерс. Следует, однако, задаться вопросом: насколько оптимальным был выбор Муравьевым иностранных профессоров? В какой степени этот выбор оправдал себя впоследствии? Существует, например, такой отзыв Николая Тургенева, сначала учившегося в Московском университете (1807–1808 гг.), а затем оказавшегося в Геттингене и имевшего возможность сравнить уровень преподавания. Восхищаясь лекциями своих любимых геттингенских профессоров политической экономии и истории, он восклицает: «Ах, когда бы вместо Штельцера, Гофмана и им подобных выписали к нам Геерена, Сарториуса и подобных им\ Тогда бы можно было Муравьеву похвастаться своим выбором. Но… к ним также бы (мало) ходили слушатели». По его мнению, на одну вводную лекцию Геерена, посвященную русской истории, можно променять все лекции его пансионского учителя профессора Черепанова. «Говорят, что Сарториуса приглашали к нам в Москву — какая разница, если бы вместо Шлецера имели мы Сарториуса»[107].
Конечно, наивными кажутся надежды Тургенева на то, что в Москву переехали бы ведущие профессора Геттингенского университета. Напротив, Мейнерс даже советовал Муравьеву приглашать скорее талантливых молодых преподавателей, которых легче склонить оставить Германию, чем маститых профессоров. Множество препятствий удерживало ученых от путешествия в Россию, и главное — очень смутные представления об этой стране, ее народе, обычаях, уровне просвещения, даже у весьма образованных людей. Н. Тургенев передает свой разговор с историком Геереном: «Я начал с ним говорить и между прочим о собрании редкостей нашего Баузе; от него перешла речь к Гейму; я сказал ему, что он читает на русском языке. Геерен, как будто удивившись, спросил у меня: Ist es erlaubt Russisch zu Iesen?[108] Трудно или и невозможно вообразить себе вопрос смешнее этого, тем более от человека, который, как видно, хорошо знает русскую историю и статистику. (Иные спрашивают, можно ли писать на русском стихи, иные с утвердительным тоном говорят: In Russland ist ailes Catholisch[109]; иные спрашивают, есть ли какая-нибудь разница между греческою и магометанскою религиями!) Вообразите себе при этом спрашивающего немца, тон его, с каким он спрашивает, и тогда можете представить себе мою досаду при этом»[110].
Тем не менее, и среди немецких ученых находились энтузиасты, желавшие распространять просвещение в России. Едва получив приглашение Муравьева и самым первым дав на него положительный ответ, этой идеей загорелся профессор Грелльман, преподававший в Геттингене всеобщую статистику и историю, и даже склонил своих товарищей Буле и Гофмана отправиться с ним вместе. Грелльман ехал в Россию с обширными планами научной работы, но преждевременная смерть его не позволила им осуществиться[111].
Неправильно было бы думать, что Муравьеву не был важен уровень приглашаемых ученых. О каждом из них он старался получить объективную информацию, и его источниками были не только рекомендации Мейнерса. Многие подробности о жизни германских университетов попечитель узнает из писем студентов, путешествующих за границей[112]. Кроме того, почти все ученые, выбранные Муравьевым, имели опубликованные труды, и попечитель мог непосредственно оценить их научные возможности.
В результате его усилий в Москву на самом деле приехало несколько ученых европейской величины: Гофман, Буле, Фишер фон Вальдгейм, Маттеи. Директор ботанического сада в Геттингене Георг Франц Гофман, уже в 22 года получивший звание профессора и доктора медицины, прославился своим описанием германской флоры, подробнейшим гербарием, собранным во время многочисленных путешествий по Европе.
Молодой профессор Г. Фишер фон Вальдгейм окончил знаменитую Горную академию во Фрейбурге, где подружился с А. Гумбольдтом, изучал в Париже под руководством Кювье ботанику и зоологию и за применение его теории при описании дыхания животных получил степень доктора в Лейпцигском университете и прозвище «немецкого Кювье». Несколько лет он провел в Майнце, где руководил музеем натуральной истории, что предопределило выбор Муравьева, искавшего директора для университетского музея в Москве. Филолог и прекрасный знаток греческих рукописей, Христиан Маттеи уже преподавал с 1772 по 1784 г. в Московском университете. За это время он описал все греческие списки, хранившиеся в библиотеке Синода и Синодальной типографии, и познакомил с ними Европу. Своим неутомимым трудом он снискал себе известность и уважение как в ученом мире Европы, так и в России, и с радостью откликнулся на предложение Муравьева вернуться в университет и продолжить разыскания.
Особый интерес питал Муравьев к работам профессора Буле, одного из ведущих геттингенских ученых, товарища Грелльмана, Августа Шлецера, Геерена. Иоганн Теофил Буле вырос в семье придворного хирурга Брауншвейгского герцога, получил прекрасное воспитание в придворном гимназическом Коллегиуме, с 16 лет писал стихи, в 19 лет опубликовал свою первую научную статью. Молодому человеку с прекрасными манерами, умом и талантом доверили обучение юных принцев Англии и Ганновера. (М. Н. Муравьев мог найти здесь параллель со своей биографией.) Но больше, чем придворная жизнь, молодого Буле привлекала наука и литература. Он изучает труды античных философов и классиков нового времени. В период некоторого упадка интереса к античности своими работами он стремился к его пробуждению: в течение нескольких лет Буле публикует все сочинения Аристотеля. С 1787 г. он на полтора десятилетия становится профессором философии в Геттингене, активно издает научные работы, участвует в различных журналах. Его опыт и научные интересы как нельзя лучше соответствовали желаниям Муравьева ввести широкое изучение античного наследия в России, развить у московской читающей публики художественный и научный вкус. Буле не сразу согласился на приглашение Муравьева, но, прибыв в Москву, стал одним из самых деятельных его помощников. Настроения Буле в это время хорошо выражает письмо, посланное им Мейнерсу 19 декабря 1804 г.: «Когда я сравню свое нынешнее положение с геттингенским, то мне кажется, что до сих пор я был связан по рукам и ногам. Теперь чувствую я себя свободно. Каждую неделю подвигаемся мы вперед, и от того, что мы делаем, иногда даже и от одного письма, зависят в будущем большие свершения этой великой нации»[113].
Справедливости ради укажем, что подобные мысли владели не всеми немецкими учеными. В конце 1805 года в Москву, последним из немецких ученых, прибыл профессор уголовного права Христиан Штельцер. Сразу же после приезда начал сказываться характер профессора, вечно неудовлетворенный, видевший вокруг себя только плохие черты, что выразилось в том, что Штельцер (единственный из немцев!) посылал в Геттинген письма с бесконечными жалобами и даже просил ходатайствовать о том, чтобы его отозвали назад в Германию. В восприятии университета и его недостатков у Штельцера всячески подчеркиваются худшие стороны. «У нас 50 студентов и никто и понятия не составил, что такое уголовное право. Дети знати стыдятся учиться там, где почти все студенты из мещан и на казенном счете». В университете не понимают ни латыни, ни немецкого, никто не желает идти на юридическую службу, а хотят только на военную и придворную, причем «азиатское высокомерие заходит так далеко, что они хотят знать все, а не знают и того, что известно немецкому школьнику» (письмо от 1806 г.)[114].
В другом письме Штельцер высмеивает преподавание русских законов в виде «комедий». Его отношение к России и настроения здесь ярко рисует следующая фраза из письма к Мейнерсу (1807 г.): «Я не могу и не буду здесь оставаться, среди варварства без границ, среди общего отупления благородных чувств, среди полного удушения всего доброго, среди вечных мечтаний без реальности, среди поступков без цели». Во цвете лет человек здесь ощущает себя погребенным в гробу, заключает профессор[115].
В целом нам представляется, что выбор попечителем иностранных профессоров для Московского университета нельзя назвать неудачным. Другое дело, насколько полно были реализованы их возможности, какой реальный вклад они внесли в университетскую науку. Судьбы немецких профессоров в России сложились по-разному. Не успев начать преподавание, умер Грелльман; прослужив чуть больше года, скончался математик Иде[116], выбыл из университета в Ярославский Демидовский лицей адъюнкт права Турнейзен. Для многих ученых, освоившихся в Москве, пик научной деятельности падает на 1805–1810 гг. В это время регулярно выходят ученые прибавления на латинском языке к объявлениям об университетских лекциях, где свои новые находки и исследования публикуют Маттеи и Буле. Буле включается в программу Муравьева по изданию научных журналов. Под его редакцией выходят «Московские ученые ведомости» и «Журнал изящных искусств», еще один литературный журнал издает профессор Рейнгард, приехавший из Кёльна. Публичные лекции заполняются слушателями, на некоторое время наука и немецкие профессора входят в моду. Но после смерти попечителя публичные лекции прекращаются, журналы исчезают. Без поддержки университетского начальства Буле не может найти достаточное количество подписчиков, а увлечение наукой в светском обществе, которое пробудил Муравьев, проходит. Устойчивым покровительством пользуются лишь ученые-натуралисты, знатоки ботаники, садоводства — наук, относящихся к традиционным дворянским интересам. Так, например, граф А. К. Разумовский приглашает профессора Гофмана и еще нескольких ученых для работы в своем обширном саду в Горенках, где составляется как бы отдельное «горенское» научное общество. Напротив, все проекты, которыми занимался профессор астрономии Гольдбах, так и не были закончены. Гольдбах, профессор Лейпцигского университета, картограф, астроном, сотрудник составителя лучших астрономических таблиц того времени Боде, был вызван специально для руководства будущей университетской обсерваторией. Под ее постройку уже была выделена смета, определено место, но по неясным причинам с лета 1806 г. работа замирает. За это время Гольдбах, проводя наблюдения из окна своей квартиры, фиксирует лунное затмение, определяет широту и магнитное склонение Москвы. Его опыт в картографии хотят использовать для составления карты Московской губернии, плана Москвы, каждое лето вместе с коллегами из Академии наук и Депо карт Гольдбах ездит по центральной России, производит измерения, но проекты и здесь неожиданно прерываются. Не успев добиться существенных практических результатов в России, Гольдбах умирает в 1811 г.
Недостаток практической научной работы профессора стремятся скомпенсировать более тесным общением со студентами. В первом десятилетия XIX в. параллельно с университетскими лекциями возникает система частных уроков, на которых те же университетские преподаватели объясняют материал более подробно, при непосредственном общении с учениками, поэтому и польза от этих занятий больше. Профессоров приглашали к себе аристократические московские семьи; а некоторые ученики из провинции переходили к ним на пансион, т. е. жили и обучались на квартире у профессора — такой способ для их родителей предпочтительнее, чем определение детей в гимназию или благородный пансион[117]. Успех частных занятий свидетельствовал о появившемся спросе в дворянском обществе на серьезных, европейски образованных учителей, и их влияние на формирование мировоззрения учеников, среди которых будущие декабристы, велико. Грибоедов в следственном деле указывает, что «воспитывался частию дома, частию в Московском университете под надзором профессора Буле»[118]. Грибоедов посещал частные уроки Буле вместе с братьями Чаадаевыми и кн. И. Д. Щербатовым. Известно, что в годы учения в университете он написал стихотворную пародию «Дмитрий Дрянской», в которой изображал ссору немецких и русских профессоров и особенно высмеивал М. Т. Каченовского, злого и мелочного критика, который активно боролся против Буле и, в конце концов, занял его кафедру; очевидно, в этом споре симпатии Грибоедова были на стороне его учителя[119]. В доме профессора Рейнгарда жил и учился декабрист А. З. Муравьев, а лекции Рейнгарда высоко ценили Николай Тургенев и Никита Муравьев. О лекциях Буле любил вспоминать Чаадаев, который также «особенно почитал память Баузе и Шлецера-сына»[120].
Благодаря большому количеству учеников немецкие профессора не были так удалены от светского общества, как их русские коллеги старшего поколения. С помощью рекомендаций Муравьева профессора Буле, Рейнгард, Шлецер были вхожи в салоны московских литераторов, впоследствии Буле сблизится с кружком Карамзина. Нужно отметить «благородное» происхождение некоторых профессоров (Рейсс, Фишер фон Вальдгейм, Буле), ценившееся русским обществом. Пользуясь знакомством с немецкими учеными, аристократы приглашали их как специалистов для описания своих библиотек (например, каталог библиотеки А. К. Разумовского издал профессор Гейм).
С другой стороны, маленькая корпорация немецких профессоров сохраняла свою замкнутость. Внутри ее оставались дружеские связи, родившиеся еще в Германии. Между собой дружили геттингенцы Буле, Гофман, Рейсс, Иде, Грелльман. Профессора Иде, Рейнгард, Рейсс и Керестури породнились семьями. Многих ученых объединяла любовь к музыке венских классиков, еще слабо распространенной в России. У Баузе и Гофмана устраивались домашние концерты. В 1806 г. в Большой университетской аудитории был установлен орган, на котором мастерски играл Баузе, бывший органистом еще в петербургском лютеранском училище, а в Москве продолжавший играть на богослужениях в местной церкви. Многие профессора были весьма набожны: так, о Рейнгарде говорили, что он служил пастором в Ростоке[121], а химик Рейсс исполнял в Москве обязанности старосты в евангелической церкви.
Уже в России немецкие ученые узнали об оккупации войсками Наполеона германских княжеств. Их антифранцузские настроения, естественная реакция на порабощение родины, отмечались современниками и находили отклик в патриотически настроенных сердцах русских слушателей, которые не хотели мириться с постыдными условиями Тильзитского мира. (Так, например, П. Я. Чаадаев летом в деревне, во время торжеств по случаю мира, «ушел на целый день в поле и забился в рожь, а когда его там отыскали, то с плачем объявил, что домой не вернется, что не хочет присутствовать при праздновании такого события, которое есть пятно России и унижение государства»[122].) После заключения договора с Наполеоном такая позиция немецких профессоров ставила их в оппозицию к правительственному курсу. У того же П. Я. Чаадаева, например, на руках находилась запрещенная в Москве реляция о невыгодно закончившемся для французов сражении при Асперане, и возможно, этот документ попал к нему от учителей или, по крайней мере, обсуждался с ними. Можно добавить, что учитель Чаадаева профессор Буле хорошо знал одного из руководителей антинаполеоновского движения в Германии барона Штейна.
Таким образом, немецкие профессора нового поколения составляли в университете отдельную группу ученых с иным научным кругозором, иным образом жизни и политическим мировоззрением, нежели у русских профессоров. Степень участия немцев в университетском самоуправлении менялась — если сначала их число в совете достигало половины, то затем оно сокращалось. Во время попечительства Муравьева между немецкими и русскими учеными, вместе работающими над преобразованием университета, не было явных противоречий, но впоследствии, с изменением отношения к иностранцам со стороны новых попечителей, возникают и конфликты. Наибольший вес в «немецкой партии» имел И. Т. Буле с его пятнадцатилетним опытом участия в совете Геттингенского университета. Буле считал себя ответственным за продолжение развития университета в рамках замыслов Муравьева, поэтому именно против него были направлены интриги М. Т. Каченовского и доносы П. И. Голенищева-Кутузова (см. ниже).
Велика была роль иностранцев в советах отдельных факультетов. Почти целиком из немцев состояло нравственно-политическое отделение, более сбалансированы были физико-математический и словесный факультеты, и только у медиков число русских профессоров преобладало. Но, как уже подчеркивалось, такое состояние мыслилось как временное, пока не будут подготовлены новые кадры русской профессуры: по плану Муравьева, Маттеи должен был сменить Тимковский, Буле — Кошанский, Шлецера — Чеботарев-младший и т. д. Много иностранцев и среди деканов за 1804–1812 гг.: Гейм, Маттеи, Буле — на словесном факультете, Баузе, Рейнгард, Шлецер, Штельцер — на этико-политическом, Гильтебрандт — на медицинском. В 1808 г. Рейнгард избирается инспектором казеннокоштных студентов. Наконец, двое немцев становятся и ректорами университета, правда, оба они (Баузе и Гейм) принадлежали к дореформенному поколению профессоров.
2. Внутренняя жизнь университета в 1803–1812 гг
2.1. Ректорство Х. А. Чеботарева и П. И. Страхова
Подводя итоги процессу формирования профессорской корпорации Московского университета после утверждения его нового устава, нужно отметить, что именно здесь более всего чувствуется роль попечителя Муравьева в складывании университетской республики. С одной стороны, эта республика была его детищем, с другой стороны, он не хотел, чтобы его вмешательство нарушало принципы устава, превращалось в постоянную мелочную опеку. Поэтому Муравьев заботился о главном — о подборе кадров, которые бы позволили университетской республике развиваться самостоятельно, без его помощи, в демократическом направлении. С этой точки зрения руководящую роль Муравьева на начальном этапе реформы нужно оценивать безусловно положительно. К сожалению, двух с половиной лет его попечительства, прошедших с момента утверждения устава, оказалось недостаточно, чтобы республика окончательно укрепилась, почувствовала себя уверенно и профессора не смогли воспрепятствовать проведению другими попечителями иного, консервативного курса.
Чтобы исследовать, насколько сами профессора усваивали намерения Муравьева, рассмотрим деятельность ректоров университета в 1803–1807 гг. Полномочия ректора по сравнению с прежними правами директора университета были гораздо скромнее: фактически, это был первый среди равных ему профессоров, председательствующий в совете и имевший право решающего голоса. Но поскольку ректор руководил правлением, то именно на его плечи ложился груз всех хозяйственных забот.
Первый ректор университета появился в 1803 г. Еще до принятия университетского устава, в соответствии с Предварительными правилами Министерства народного просвещения, в феврале 1803 г. было образовано правление университета, куда вошли деканы, избранные от трех факультетов: философского — X. А. Чеботарев, юридического — Ф. Г. Баузе и медицинского — Ф. Ф. Керестури[123]. В мае того же года состоялись и первые выборы ректора, в результате которых «четырнадцатью избирательными голосами против одного не избирательного удостоен в Ректоры коллежский советник, философского отделения декан и профессор ординарного красноречия и нравоучения Харитон Чеботарев»[124] (а его место декана занял П. И. Страхов).
Научная и преподавательская деятельность X. А. Чеботарева началась в 1770-е гг. и была связана с Дружеским ученым обществом; Н. И. Новиков считал его своим другом. После наступления репрессий 90-х гг. Чеботарев демонстрирует свою верность правительству, выступая с похвальным словом Екатерине II, где осуждает Французскую революцию и подготовившие ее труды просветителей: «Наилучшее из всех, свойственнейшее существу обширных областей и выгоднейшее правление государством есть правление самодержавное… Развратные, льстивые лжемудрецы, сколь ни старались рассыпать поддельные цветы свои для обманчивой прикрасы толико хвалимого ими и одним только наружным видом блестящего, общенародного правления… но обнажает сама История, что их республики имели величайшие недостатки, что между прочими злоупотреблениями в оных утеснялась также и в них добродетель, честность и даже самая любовь к отечеству»[125].
В своих лекциях Чеботарев выступал как педагог-моралист, культивировавший «внутреннее христианство» в его масонском понимании. Долгое время он оставался единственным в университете преподавателем российской истории и словесности, но так и не создал цельного курса, хотя пытался написать руководство по русской истории. В 80-е гг. его лекции пользовались успехом, их даже посетил приехавший в Москву под именем графа Фалькенштейна австрийский император Иосиф II[126]. К безусловным заслугам Чеботарева относится издание им в 1777 г. одного из лучших российских учебников XVIII века по географии, выпуск в 1787 г. первого путеводителя по Москве и ее окрестностям.
Но к началу XIX в. лучшие времена для Чеботарева давно миновали. До нас дошел интересный документ, свидетельствующий о восприятии студентами нового ректора — т. н. «Жалобная песнь студентов», обращенная к покойному куратору И. И. Шувалову. Авторы песни враждебно относятся как к своему попечителю Муравьеву (а также к его другу И. П. Тургеневу), так и к ректору и высмеивают их недостатки:
Манеры Чеботарева действительно представляли резкую противоположность с учтивой, светской вежливостью Муравьева. Чеботарев «был росту среднего, костист, худощав, лицо имел цвета светлорусого, продолговатое, румяное, ясное, которое, говоря, выставлял, грудь широкую, голос звонкий, басисто-бронзовый, речь твердую и гладкую, походку мерную, осадистую, обращение резкое, тон замашистый. Часто к слушателям повторялось: Др-рузья мои! и со всеми легко, с разностию тона переходил он на прямое и ровное: ты»[127]. «Он не носил ни пуклей, ни косы, не пудрился, голова у него была гладко острижена; в поставе его выражалась самоуверенность. Всем он говорил ты; зная его, никто на это не сердился. Обхождение его могло показаться грубым, если б оно не было выражением добродушия; почти всех он называл по имени, а не по отечеству, говорил отрывисто, но когда был в ударе, речь его лилась рекою»[128].
Довольно ядовитые намеки здесь обращены в адрес Муравьева-литератора, достается от студентов попечителю, «который тьму набрал сверх силы должностей», и за исполнение обязанностей секретаря по принятию прошений на высочайшее имя. С другой стороны, подчеркивается узаконенная при новом ректоре Чеботареве практика приема в студенты дворянских детей без ограничения возраста (например, в 11 лет стали студентами А. Н. Раевский, В. М. Прокопович-Антонский, А. И. Лыкошин — брат упомянутого мемуариста и, по-видимому, А. С. Грибоедов)[129].
Ректор Чеботарев «нередко впадал в некоторую слабость и вел жизнь беспечную. Не странно ли было смотреть на почтенного ректора, когда он часов в семь после обеда, одетый в длиннополый сюртук, обутый в спальные сафьяновые сапоги, имея на голове треугольную шляпу с плюмажем, а в руках длинную натуральную трость, посещал студенческие комнаты. Мог ли начальник в таком наряде снискать себе должное уважение подчиненных?»[131] Тот же портрет находим мы у Снегирева, который замечает, однако: «Никто при виде Харитона Андреевича не смел улыбнуться, а тем паче засмеяться и зашикать. Так уважали его»[132].
По-видимому, несмотря на уважение к былым заслугам Чеботарева, нужно признать, что выбор ректора был неудачен. «Знал ли он сколько-нибудь хозяйственную часть и канцелярский порядок? Смело отвечаю — нет, не знал. В то время заседания в правлении университета происходили два раза в неделю; в промежуток этого времени секретарь правления Тимонов, получая от ректора разные входящие бумаги, заготовлял по ним резолюции и составлял журнал для наступавшего присутствия. Ректор, прибыв в назначенный день в правление и потолковав кое о чем с деканами, обращался к секретарю с вопросом: „готов ли журнал?“ Тогда опытный секретарь представлял ректору изготовленный заранее журнал и делу конец!»[133] К худшим качествам Чеботарева относилось частое пренебрежение своими учебными обязанностями: в упомянутом нами рапорте П. И. Голенищева-Кутузова от 1803 г. тот пишет, что Чеботарев «едва в месяц раза четыре бывает в классе своем», так что «за леность и нерадение по должности И. И. Шувалов хотел совсем выгнать его из Университета, как сказывал мне г. Херасков»[134]; в следующем году Чеботарев уже совершенно прекратил преподавание.
В период ректорства Чеботарева реальным управлением университета занимались, как и раньше, чиновники реорганизованной канцелярии директора, причем сам Чеботарев поселился в директорских покоях и, видимо, полагал себя преемником этой должности. Такой порядок вызывал неудовольствие и у многих профессоров, и у Муравьева, которым нужны были явные результаты реформ. Поэтому на новых выборах ректора в мае 1805 г. кандидатуру Чеботарева не поддержали и ректором был избран П. И. Страхов. После сложения ректорских полномочий Чеботарев, «яко таковой Чиновник, который через целые пятьдесят лет пребывал неисходно в Университете, быв определен для воспитания при самом его основании»[135], оставался в правлении на месте непременного заседателя, которое занимал до своей смерти в 1815 г.
30 июня 1805 г. университет праздновал свой 50-летний юбилей. «Торжество великолепное, при многолюдном стечении знаменитостей московских, украшенное стройными хорами Данилы Кашина, кои превосходно пели университетские певчие с аккомпанировкою прекрасной музыки графа Ал. Кир. Разумовского, все это восхитило меня до небес», — пишет очевидец[136]. 28 июня, предварительно, разослано было напечатанное на латинском и русском языках приглашение к любителям наук, чтобы те приняли участие в полувековом юбилее университета. Сочинял его профессор Буле. 30 июня утром в 8 часов члены университета собрались в большой аудитории, откуда всем корпусом пошли в университетскую церковь. Пополудни в 5 часов «Хором благодарных Московских Муз к Августейшим своим Питателям и Покровителям», которого музыку сочинил Кашин, а слова Буринский, открылся торжественный акт юбилея. За хором ректор Чеботарев сказал посетителям приветствие. Следовало шесть речей от всех четырех отделений (Рейнгард, Цветаев, Гольдбах, Фишер, Венсович, Мерзляков; говорил отдельную речь и секретарь совета Сохацкий как «один из достойных питомцев и наставников»). После речей в заключение торжества провозглашены были производства в ученые достоинства и степени. Чеботарев передал ректорство свое новоизбранному ректору Страхову. В 10 часов вечера горела иллюминация. Пылали 6 пирамид.
Между ними видна была прозрачная картина, изобретенная славным живописцем Тончи. Здесь Елизавета I, в образе Минервы, попирала косу Сатурнову, с изображением на ней XII Jan. MDCCLV как настоящего дня основания Московского университета.
Гений Александра I подавал масличную ветвь России в знак мира, а Минерва указывала ей на вензель Императора[137].
Действительно, атмосфера праздника была приподнятая, надежды многих связывались с проведением университетской реформы в жизнь, профессора готовы были отдавать этому все свои силы. Ближайшие два года показали, какие возможности открывала перед университетом новая организация; начались перемены. Прежде всего, они коснулись непосредственно университетского самоуправления. Заслуги совета университета, которые позволяют говорить, что именно в эти годы ученая республика переживает расцвет, заключались в его умении быстро и самостоятельно решать возникающие проблемы, выбирая путь, выгодный университету в целом, а не удовлетворяющий личным интересам ректора, попечителя или иного начальства. Первый важный шаг был сделан ректором Страховым сразу после вступления в должность. Страхов поставил на совете вопрос о новых лекционных помещениях — этого, очевидно, требовало возросшее число студентов и кафедр, необходимы были помещения для лабораторий, библиотеки, музея, которые значительно расширились. Для этого ректор предложил освободить директорские покои, в которых было поселился Чеботарев, для себя же Страхов оставлял квартиру в небольшом домике во дворе университета, где также жили еще несколько профессоров, — с тех пор домик получил название «ректорского». В результате в главном здании появилось 5 новых аудиторий, свои залы приобрели совет и канцелярия. Этим решением Страхов еще более укрепил свой авторитет среди профессоров и студентов и заслужил от попечителя Муравьева «особое благоволение». Если раньше реформы Муравьева шли исключительно сверху вниз, то теперь инициатива их проведения переходит к самой университетской корпорации, возглавляемой ректором, что как нельзя лучше соответствовало замыслам попечителя.
В конце 1805 г. проходили очередные торги университетской типографии. По сообщению автора биографии Страхова, наибольшую сумму в 11 тыс. руб. предложил на торгах Н. И. Новиков (!). Но ректор, произведя некоторые вычисления, объявил о своем решении принять типографию в распоряжение правления, причем сумма дохода от типографии при этом должна была в несколько раз превысить арендную плату[138]. Решение, одобренное советом, поступило на утверждение Муравьеву, который с ним согласился. Были изданы Правила для производства дел в типографии, по которым она подчинялась правлению, назначавшему в свою очередь директора типографии и его помощников. Первым директором типографии был назначен М. И. Невзоров — близкий друг Новикова, ревностный масон, известный в Москве своим редким бескорыстием, независимыми и честными суждениями. Надо отметить, что иногда закрытие торгов 1805 г. трактуют как сознательный акт университетского начальства против Новикова, но это навряд ли обстояло так: и Страхов, и Невзоров были настолько близки с Новиковым, что преобразование типографии скорее всего совершилось по взаимному согласию. Престарелый Новиков, чувствующий недоброжелательство к себе московских властей, согласился уступить типографию своим ученикам, уверенный в том, что они будут продолжать его дело.
Дела типографии, действительно, пошли так успешно, что позволили Страхову предпринять еще одну реформу. В 1806 г. решался вопрос об академической гимназии. В новой системе народных училищ она оказалась за штатом, т. е. без средств к существованию. Будучи инспектором гимназии в течение 15 лет и зная всех ее воспитанников в лицо, Страхов близко к сердцу принимал ее заботы и как никто другой понимал, какую огромную роль играла гимназия при университете, помогая детям из неблагородных сословий, москвичам и особенно провинциалам, подготовиться ко вступлению в университет. Достаточно вспомнить, что почти все русские профессора, окончившие университет, прежде чем стать студентами, прошли гимназический курс. Поэтому Страхов твердо решил сохранить академическую гимназию, так же как попечитель и А. А. Прокопович — Антонский были заинтересованы сохранить благородный пансион. Чтобы найти необходимые деньги, ректор обратился к П. Г. Демидову, и тот совершил новое пожертвование — капитал, проценты от которого шли на содержание гимназистов. Со своей стороны ректор выделил на гимназию пятую часть доходов университетской типографии. Уже в первые полгода эти доходы превысили 30 тыс. руб., что целиком окупало не только расходы по типографии, но и содержание гимназии. Такое положение было официально закреплено постановлением об академической гимназии, утвержденным попечителем в октябре 1806 г.
Успехи университетского самоуправления подали Муравьеву мысль перевести в непосредственное распоряжение университета и благородный пансион, но попечителю помешала болезнь. В то же время ухудшается и здоровье П. И. Страхова, и когда 27 апреля 1807 г. он третий раз подряд избирается ректором, то настоятельно просит освободить его от этой должности. В мае 1807 г. тяжело больной Муравьев, сочувствуя состоянию Страхова, удовлетворяет его просьбу и ходатайствует перед министром об утверждении ректором профессора Ф. Г. Баузе, «равного в чине со своим предшественником, и на коего пало после него большее число баллов с двумя другими его товарищами»[139]. Баузе был известен Муравьеву по участию в комитете по рассмотрению уставов, к тому же был одним из старейших профессоров, деканом этико-политического отделения и директором Педагогического института, что, вероятно, и повлияло в этом случае на выбор попечителя.
Деятельность совета университета в 1805–1807 гг. не ограничивалась описанными преобразованиями. Расцвет ученой республики затронул все сферы: выходили журналы, публиковались научные работы, все это проходило через совет, обсуждалось и оценивалось в нем. Активно работало самое мощное ученое общество при университете — Общество испытателей природы. Обществу покровительствовал московский вельможа граф А. К. Разумовский, избранный его президентом, а среди учредителей и неизменных участников был ректор Страхов. (В первом номере журнала, издаваемого обществом, была опубликована статья о его физических опытах.) К сожалению, незаконченным остался одобренный советом проект создания истории ученой российской словесности, для чего в 1805 г. был создан комитет из профессоров Страхова, Антонского и Баузе. В феврале 1806 г, Баузе в отчете попечителю упоминает, что члены комитета решили разработать подробно план истории словесности за период от Петра I до Екатерины I и для этой цели читают и делают извлечения из отечественных и иностранных писателей[140]. Однако никаких материалов от этого проекта не сохранилось.
2.2. Изменение университетской атмосферы при попечителе графе А. К. Разумовском
М. Н. Муравьев скончался 28 июля 1807 г. в возрасте 50 лет, еще совсем не старым человеком, прослужив на посту попечителя Московского университета только 4 года. За этот малый срок его преобразования дали сильный импульс развитию этого организма, и теперь от других попечителей и от самих ученых зависело, сохранится ли переданное могучей рукой движение.
Нового куратора выбирал сам Александр I. Вторая половина 1807 г. была тяжелым временем в жизни царя: после Тильзитского мира от него отворачиваются ближайшие друзья из Негласного комитета, повсюду в дворянском обществе проявляется недовольство поражением в войне, новой политикой на сближение с Наполеоном, носятся слухи о готовящемся заговоре против императора. В этих условиях Александру важен контакт с интеллектуальной элитой русского общества, поэтами, писателями на правительственных должностях, которые могут оправдать его политику в глазах общественного мнения.
На месте ушедшего Муравьева он хочет видеть его друга, поэта И. И. Дмитриева. 10 сентября 1807 г. министр народного просвещения граф П. В. Завадовский от имени императора предлагает Дмитриеву должность попечителя Московского университета и его учебного округа. Но, как рассказывал позже сам И. И. Дмитриев, он отказался, «не признавая себя достаточно ученым для этого звания»[141]. В архиве Министерства народного просвещения сохранилось подлинное письмо Дмитриева, в котором он отвечает министру на предложение стать попечителем. «С душевным усердием готов бы я был посвятить себя столь почтенной и лестной деятельности, к которой Его Императорское Величество всемилостивейше благоизъявляет предназначать меня, если бы одно усердие могло заменить те сведения и дарования, коих оная требует. Но честь и совесть обязывают меня, вопреки собственных выгод моих, искренне представить вашему Сиятельству, что я с тринадцати лет начав служить рядовым солдатом, не мог получить основательного понятия о науках, что я не знаю не токмо ученых языков, даже и новейших, кроме французского, но и на оном не могу изъясняться. А по сим причинам, равно как и по давней моей дряхлости, не нахожу в себе достойной способности быть деятельным и достойным попечителем Московского университета и всех подведомых ему Училищ»[142].
Слова о «необразованности» в устах маститого литератора, который затем несколько лет исполнял должность министра юстиции, звучат довольно странно; возможно, у Дмитриева были свои причины отклонить предложение императора. Так или иначе, вместо него 2 ноября 1807 г. попечителем Московского университета был назначен граф А. К. Разумовский.
Государь не был коротко знаком с Разумовским. Граф мог быть известен императору как меценат, покровитель Общества испытателей природы при Московском университете. Близость графа к университету, возможно, повлияла на выбор его попечителем. В рескрипте на имя Разумовского от 14 апреля 1808 г. сказано, что граф принял должность исключительно из угождения к воле государя[143]. Правда, некоторые факты заставляют нас сомневаться в этом. У графа была и личная заинтересованность стать попечителем — в это время в университете учились его сыновья, кроме того, Разумовский имел собственную партию профессоров из числа тех, что подвизались в его доме на Гороховом поле и при ботаническом саде в Горенках. К тому же, видимо, с самого начала Разумовский включился в борьбу за пост попечителя — его влиятельные друзья (кн. Н. Г. Репнин и И. С. Гагарин) попросили его ходатайствовать о возвращении в университет прежнего куратора П. И. Голенищева-Кутузова, и, выполняя обещание, граф, вероятно, увидел, что сам может занять эту должность[144].
Граф Алексей Кириллович Разумовский родился 12 сентября 1748 г. Он приходился племянником всемогущему елизаветинскому фавориту, брат которого Кирилл Григорьевич Разумовский, перенесенный из малороссийского захолустья в столицу, сделался президентом Академии наук и украинским гетманом. Своим сыновьям он постарался дать самое лучшее образование. В его дом на 10-й линии Васильевского острова для обучения детей приходили ведущие профессора Академии наук: Шлецер, Румовский и др., которых в шутку прозвали «Академия 10-й линии». В 1765 г. Разумовский отправил сыновей в Страсбургский университет. На следующий год Кирилл Григорьевич навестил юношей и, найдя их образ жизни там слишком легкомысленным, решил поискать другое место, поспокойнее, а пока взял старшего сына Алексея с собой в Италию, где оставил его на попечении у И. И. Шувалова. В 1769 г. все сыновья Разумовского съехались в Лондоне, некоторое время вместе жили и путешествовали по Англии. После возвращения в Россию Алексей Кириллович был зачислен в придворную службу камер-юнкером, а вскоре женился на самой богатой в то время невесте в России, красавице В. П. Шереметевой. Но Разумовский не прижился при дворе, в 1778 г. вышел в отставку в чине камергера и поселился в Москве. Здесь он отстраивал свой дом и две наследственные усадьбы — Перово и Горенки. В 1784 г. граф разъехался с женой; его новый, не признанный обществом союз с М. М. Соболевской оказался устойчивым — у них родилось 5 сыновей и 5 дочерей, воспитывавшихся в Малороссии и получивших фамилию Перовских. Разумовский еще раз возвращался на службу, в 1786 г. назначен сенатором, но из-за конфликта с Екатериной II с 1795 г. вновь оказался в отставке и уже безвыездно жил в Москве.
В отцовском доме и во время заграничных путешествий граф А. К. Разумовский получил прекрасное образование. «Лучшего воспитания нельзя было придумать, и несмотря на все это, цель воспитания далеко не была достигнута. Из трех Разумовских старший Алексей и меньшой Андрей несомненно обладали блестящими способностями, а все-таки из них не вышло того, чего так желал отец, именно — полезных сынов отечества»[145]. В Разумовском жил вывезенный из Европы вольтерьянский дух скептицизма, помноженный на сановную спесь. В повседневной жизни граф отличался высокомерием, капризным характером, хозяйственные дела вел из рук вон плохо. О его московском периоде хорошо пишет Ф. Ф. Вигель: «В подмосковном великолепном имении своем Горенках, среди царской роскоши, граф Алексей Кириллович заперся один со своими растениями… Из познаний своих он сделал то же употребление, что из богатства: он наслаждался ими без всякой пользы для других… Все сыновья гетмана воспитаны были за границей, начинены французской литературою, облечены в иностранные формы и почитали себя русскими Монморанси, они были любезные при дворе и несносные вне его аристократы»[146].
Редкое сочетание самых неуживчивых качеств характера, привычка во всем противоречить двору привели Разумовского в среду масонов. Здесь он попал под сильное влияние О. А. Поздеева, идейного руководителя консервативного направления в масонстве, настороженно относящегося к последователям Новикова — розенкрейцерам. Масоны подталкивают Разумовского к возвращению на службу, надеясь, что он сможет выполнять роль посредника между ними и правительством. Их особенно волновал контроль над сферой образования и цензуры, где недавние либеральные преобразования могли слишком способствовать распространению недопустимых вольностей, и поэтому, например, один из самых ревностных масонов, ненавистник Карамзина и новой литературы П. И. Голенищев-Кутузов так настойчиво добивался поста попечителя. Но сам А. К. Разумовский, хотя и выполнял советы своего духовного наставника Поздеева, был слишком холоден к исполнению какой-либо должности: с его приходом в Московский университет связан поворот к консервативной политике в области просвещения в ее умеренном варианте.
Сразу же после назначения попечителем Разумовский добился меры, льстившей его честолюбию и укрепившей его престиж в университете. Московское общество испытателей природы, президентом которого был граф Разумовский, именным указом провозглашалось императорским[147]. Вследствие этого увеличивались расходы на его содержание. Летом 1808 г. попечитель добивается присылки из Петербурга 5 тыс. рублей для проведения обществом систематического описания Московской губернии. Во время каникул 1808 и 1809 г., по личным указаниям Разумовского, для исследования почв, растений, животных, геодезических измерений в экспедиции по губернии отправились профессора Гольдбах, Фишер, Гофман и др. Благодаря своей работе в ОИП эти профессора пользовались расположением нового попечителя, нередко обедали у него в доме. Постоянное пребывание Разумовского в Москве нарушало рекомендации устава, а поскольку попечитель редко бывал в университете (только в дни торжественных собраний), то центр его общения с профессорами переместился в его дом и усадьбу Горенки.
Как замечает мемуарист, возможно, гордость Разумовского не смирилась бы с необходимостью обедать в компании профессоров, если бы в это время трое его сыновей Перовских не учились бы в университете[148]. Старший из них Алексей жил на пансионе у Фишера фон Вальдгейма и, окончив университет в 1807 г., в течение трех лет получил степени кандидата, магистра и доктора; двое других — Василий и Лев — были переведены в 1808 г. в студенты из благородного пансиона. Однако не следует думать, что Разумовский покровительствовал профессорам только из корыстных побуждений: он отличал всех ученых, чей вклад в естественные науки был неоспорим. Так, например, попечитель очень уважал П. И. Страхова, и с 1808 г. по его просьбе Страхов каждый день производил для Общества испытателей природы метеорологические наблюдения, которые с 1810 г. регулярно публиковались в «Московских ведомостях»[149].
Хотя попечитель редко посещал университет, его влияние в правлении и совете постоянно ощущалось. Так получилось, что после смерти Муравьева и ухода Страхова с поста ректора механизмы ученой республики затормозились и снова требовались сильные руки, чтобы привести их в действие. С августа 1807 г. в должности ректора был утвержден престарелый Ф. Г. Баузе. Документы создают у нас противоречивый образ этого профессора в последние годы его жизни. С одной стороны, это был, без сомнения, человек острого ума и глубоких познаний (об этом свидетельствует его оживленная и содержательная переписка с Муравьевым в 1804–1807 гг.[150], участие в работе над историей российской словесности и т. п.; даже последний из сохранившихся документов его рукой — письмо министру от 1810 г.[151] — написан на прекрасной латыни безупречного стиля), с другой стороны, как сообщает его биограф, в последние годы жизни профессор был подвержен «различным болезненным припадкам»[152]. Лишенный всякой церемонности П. И. Голенищев-Кутузов в 1810 г. жаловался Разумовскому, что Баузе «дома пьет мертвую чашу и разные производит в университете сцены, кои мирить и успокаивать весьма трудно»[153]. А весной 1812 г., вспоминая отправленного им в отставку профессора, он же пишет с явной неприязнью: «Баузе известен вам самим как горький пьяница и теперь по улицам пьяный валяющийся»[154]. Острая нужда в деньгах, вероятно, толкнула Баузе на продажу своей бесценной коллекции, что и обусловило ее дальнейшую гибель.
Неудивительно, что и в 1807–1808 гг. дела в университетском правлении велись очень плохо. Третьяков вспоминает, что декан Панкевич доносил попечителю Разумовскому о беспорядке в правлении. Хотя мемуарист не называет при этом ректора, но из сопоставления времени, когда Панкевич был деканом, ясно, что речь идет о Баузе. Поэтому и попечитель Разумовский принял некоторые ответные меры.
В 1808 и 1809 г. два раза подряд ректором избирается Иван Андреевич Гейм, кандидатура которого, безусловно, очень устраивала Разумовского. Мы встречаем имя Гейма среди тех, кто регулярно посещает дом попечителя. В течение нескольких лет Гейм, хорошо знакомый с библиотечным делом и работавший хранителем университетской библиотеки, составлял каталог собрания книг Разумовского. Эта работа продолжалась и после перезда графа в Петербург, и Разумовский, поддерживая с ректором личную переписку, часто интересовался ходом его изысканий[155].
Высокий авторитет Гейма в университете подкреплялся его ровными дружескими отношениями со всеми коллегами. Как уроженец Брауншвейга (и родственник профессора Буле!), он никогда не терял контакта с немецким ученым миром. Среди его постоянных корреспондентов были такие уважаемые профессора Геттингенского университета, как X. Гейне и А. Л. Шлецер, большой известностью в Германии пользовался его единственный в своем роде трехъязычный немецко-французско-русский словарь (как писал несколько высокопарно И. М. Снегирев, Гейм «познакомил просвещенную Европу с русским языком»[156]). С другой стороны, Гейм был в прекрасных отношениях с большинством русских профессоров, дружил со Страховым и Антонским и за долгие годы пребывания в России привык считать ее своей второй родиной.
Во время своего ректорства Гейм не проявлял большой инициативы, стараясь поддерживать хорошие отношения с начальством. Кроме того, внутренние университетские споры с этого времени оказались под присмотром, исходившим от самого Разумовского. Дело в том, что, согласно уставу, с 1804 г. при попечителе университета существовала канцелярия и теперь именно этот инструмент кажется Разумовскому наиболее удобным для контроля над ходом дел в университете. Значение канцелярии попечителя (не игравшей никакой самостоятельной роли во времена Муравьева и находившейся при нем в Петербурге) резко возрастает, сюда переходит центр тяжести при решении всех вопросов. «Бдительным оком» попечителя, строго и по-своему благоразумно утверждавшим порядок в университете, становится правитель канцелярии М. Т. Каченовский[157].
У этого человека причудливая судьба. В 1801 г. московскому вельможе А. К. Разумовскому свои услуги в качестве секретаря и библиотекаря предложил один начинающий литератор, происходивший из харьковских греков, Михайла Качони (именно так первоначально писалась его фамилия, измененная во время учебы в Харькове на «Каченовский»). До этого он перепробовал уже множество занятий: был казачьим урядником, чиновником в канцелярии Харьковского магистрата, сержантом Таврического полка, квартирмейстером Ярославского полка, расположившегося в Москве. На последней должности Каченовского постигла неудача: открылась кража пороха, причастность к которой он, впрочем, отрицал. Когда он оказался под следствием на московской гауптвахте, то познакомился там с одним из охранявших его офицеров, С. Н. Глинкой, который нашел в молодом человеке сходные взгляды на литературу, предложил ему свою дружбу и пропуск в круги московских литераторов. Благополучно избежав суда, Каченовский подает в отставку и решает заняться журналистикой. Поддержка Разумовского оказалась ему очень кстати. В 1805 г. он выкупает «Вестник Европы», одновременно устраивается преподавателем в университетскую гимназию (своему секретарю и правителю канцелярии граф без экзаменов выхлопотал степень магистра). Вот как описывает его первое появление И. М. Снегирев: «Инспектор ввел к нам в класс молодого человека лет 30, в очках, худощавого, бледного и смуглого, с костылем, на который он опирался по болезни в ногах, которую нечаянно получил в прогулке на Пресненских прудах с бывшим своим приятелем князем Шаликовым. Типическая его физиогномия походила более на греческую, чем на русскую; она носила на себе отпечаток холерического темперамента. Черные волосы у него на голове коротко были острижены; приемы его были угловаты, но смелы и обличали в нем что-то военное. Холодно раскланявшись с нами в классе, он с какою-то уверенностью сказал: „Господа, по возложенной на меня от университетского начальства обязанности, мы займемся с вами риторикой…“»[158]
В ряду московских журналистов Каченовский сразу же занимает заметное место. Не имея ни настоящего литературного таланта, ни глубокого образования, он применяет прием очень эффективный для привлечения публики: его критика, изобилующая мелкими нападками и лишенная какой-либо цельной позитивной программы, не щадила никаких авторитетов, даже священных в то время имен Карамзина и Дмитриева. Маститые авторы пытались первое время отвечать на злобные выпады Каченовского, но затем перестали обращать внимание на «завистливого зоила», которого метко охарактеризовал кн. П. А. Вяземский: «Всегда он ближнего довольством недоволен // И, вольный мученик, чужим здоровьем болен» («Послание к М. Т. Каченовскому», 1821).
По мнению Снегирева, «в его критике выразился его подозрительный характер». Именно такой характер, видимо, подходил Разумовскому для управления университетом. Его протеже в течение одного года без защиты диссертации получил степени магистра и доктора, с 1808 г. стал адъюнктом, но отсутствие вакансии мешало ему занять должность профессора. Предмету преподавания Каченовский не придавал особого значения: он начал с риторики, затем читал русскую историю и, наконец, остановился на археологии и теории изящных искусств. Выбрав кафедру, Каченовский борется за то, чтобы освободить себе место и вытолкнуть оттуда профессора Буле. Одним из эпизодов борьбы было появление в «Вестнике Европы» (1809, № 22) статьи, грубо задевающей достоинство Буле как ученого, которая вызвала негодование в околоуниверситетских кругах. П. А. Вяземский писал: «Ученый Буле, коего Европейская знаменитость служила украшением Московского университета, был в сем журнале нагло выставлен на посмеяние, конечно, не ему обратившееся в бесславие»[159]. Показательно, что Каченовский сражался за кафедру археологии — творение Муравьева — с ее «законными» наследниками, и, несомненно, именно он преградил путь Н. Ф. Кошанскому, который, отчаявшись получить должность, в 1811 г. покидает университет. Поведение Каченовского настраивает против него многих профессоров, которых раздражает его особая роль в университете, претензии на власть, стремление к преобразованиям на свой лад. Вся корреспонденция в совет и правление от попечителя составлялась Каченовским как правителем его канцелярии. От имени Разумовского он писал предложения, производившие в старых профессорах, привыкших к прежнему порядку, не совсем благоприятное впечатление[160].
Тем не менее, оценивая время, когда за делами университета присматривал Каченовский, следует сказать, что порядка в них прибавилось. Это важно учесть, поскольку в 1809 г. случилось событие, повлекшее увеличение учебной и бюрократической нагрузки на университет и, одновременно, изменившее и его общественное положение.
2.3. Указ 6 августа 1809 г. Проблемы дальнейшего развития университетских реформ
6 августа 1809 г. был принят указ об экзаменах на чин. Согласно ему, ни один человек, находящийся на государственной гражданской службе, не мог получить чин коллежского асессора (8 класс), дававший право на потомственное дворянство, и чин статского советника (5 класс), не имея аттестата о выдержанном экзамене по установленной в указе программе. Программа включала основы всех наук, преподаваемых в высших учебных заведениях (кроме медицины), и выдача аттестатов возлагалась правительством на университеты[161].
Необходимость такого указа предусматривалась еще Предварительными правилами народного просвещения, где говорилось: «Ни в какой губернии, спустя пять лет по устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании сих правил училищной части, никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище»[162]. Включение этого пункта в Предварительные правила прежде всего должно было побудить дворянство воспользоваться новой системой училищ, но эти надежды не оправдались. По-прежнему в университеты и гимназии приходили, в основном, выходцы из низших сословий, а общее число студентов было невелико. Правительству необходимо было принять меры для наполнения пустующих училищ, поскольку страна нуждалась в квалифицированных специалистах в разных областях гражданской службы, особенно из среды дворянства, традиционно служившего «опорой престолу».
Все это понимал М. М. Сперанский, новое доверенное лицо императора, подготавливая очередной этап государственных преобразований; он желал видеть в России людей, готовых к восприятию реформ. В 1808 г. Сперанский составляет для императора записку «Об усовершенствовании общественного народного воспитания», где пишет, что корень зла, т. е. непросвещенности России, в существующей системе чинопроизводства, при которой чины определяются только по выслуге лет и не требуют никакого образования[163]. По его мнению, необходимо было «побуждение» людей к наукам, которым и явился указ 6 августа.
По своей сути этот указ ограничивал одну из главных привилегий дворянства: продвигаться по служебной лестнице благодаря своему социальному статусу, связям и протекциям, а не личным способностям. Теперь все сословия оказывались в отношении служебной карьеры в равных условиях, т. к. все должны были сдавать экзамен. Более того, в тексте указа, составленного Сперанским, дворян упрекали в нерадивости, уклонении от предоставленной государством возможности получить высшее образование. «К вящему прискорбию Нашему, Мы видим, что Дворянство, обыкшее примером своим предшествовать всем другим состояниям, в сем полезном учреждении менее других приемлет участия»[164].
В широких дворянских слоях указ породил недовольство и ненависть к его автору — «поповичу» Сперанскому. По их мнению, у дворян отнимали исключительное его право — доказать свою верность престолу безупречной службой, отделяли от государя чиновниками-разночинцами, которые будут принимать экзамены. По своему моральному воздействию на привилегированное сословие этот указ можно было сравнить с произошедшей 120-ю годами раньше отменой местничества. Однако наиболее дальновидные из недовольных понимали также и бесполезность, практическую невыполнимость указа в условиях бюрократической России того времени: «Отныне… у нас председатель Гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойства оксигена и всех газов, вице-губернатор — пифагорову фигуру, надзиратель в доме сумасшедших — римское право, или умрут коллежскими и титулярными советниками. Ни сорокалетняя деятельность государственная, ни важные заслуги не освобождают от долга узнать вещи, совсем для нас чуждые и бесполезные»[165].
Цель указа могла быть достигнута только в идеальной стране, тогда как в реальной России уже прикидывали, сколько будет стоить желанный аттестат. Услышав об экзаменах, Н. Тургенев писал из Геттингена: «Растолкуйте мне, сделайте одолжение, ваши экзамены; кто экзаменует? За аттестатом дело не станет: от Сарториуса возьму преогромный, если надобно. Уведомьте меня подробнее об этом, мы ничего здесь не знаем. От кого это вышло, почему и каково приводится в исполнение? Неужели надобно было и вам брать теперь аттестат? Но по крайней мере много чести: подписано „самим“ Ректором! Сами профессора, я разумею наших, не могли бы выдумать для себя ничего лучше этих экзаменов. Немцы или и другие будут набивать карманы, а наши Матадоры (Харитон и т. п.) Московского университета будут довольствоваться хорошим завтраком и дюжиною вина. Просвещение и вместе жрецы оного покровительствуемы со всех сторон!»[166]
За указом 6 августа во всех университетах последовало учреждение подготовительных годичных курсов для чиновников, желающих сдать экзамен на получение чина коллежского асессора и статского советника. В Московском университете надзирателем курсов для чиновников был секретарь совета И. А. Двигубский. На курсах читали лекции те же профессора, что и в университете, но по облегченной программе. Министерство народного просвещения, желая контролировать обучение чиновников, 26 апреля 1810 г. издало распоряжение, по которому университеты в начале каждого курса должны представлять списки слушателей, с указанием чинов и мест, разделяя их на два разряда — те, которые посещают лекции постоянно и получают свидетельство об окончании курсов, и те, которые ходят непостоянно. Соответственно, контроль за посещением также ложился на университет. Поэтому после указа 6 августа поток документов в университете, в связи с введением курсов и самим приемом экзаменов, возрастал, а при этом эффективность обучения чиновников была очень мала. Посещавший в 1810/1811 г. эти лекции Третьяков пишет: «Нас собралось около ста человек из разных присутственных мест, большей частью бедняков». Занятия проходили во второй половине дня, когда чиновники освобождались от службы, должны были спешить в университет, усталые и голодные, и оставаться там до шести часов вечера. Многим чиновникам для понимания лекций не хватало начальной подготовки. Хотя всем посетителям курсов по окончании были выданы свидетельства, никто из них так и не решился подвергнуться экзамену[167].
Указ 6 августа формально был отменен только в 1834 г., но фактически возможности обойти его нашлись уже через несколько лет. Как показала история указа, проекты Сперанского плохо сочетались с российской действительностью. Вместе с тем, уже само его появление свидетельствовало о кризисном состоянии реформ Александра I в области просвещения. Активное противодействие указу сделало очевидным эфемерность идеального здания народного образования, построенного Муравьевым и его сподвижниками и державшегося усилиями нескольких энтузиастов, в пустоте, без массовой поддержки. Эту горькую истину лучше всего выразил Карамзин в «Записке о древней и новой России»: «У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли. В Германии столько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! — наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут, а выгоды ученого состояния в России так еще новы, что отцы не вдруг решаются готовить детей своих для оного»[168].
Таким образом, к началу 1810-х гг. встает вопрос о поисках выхода из наметившегося кризиса в системе образования. Осознавала ли этот кризис ученая корпорация университета? Полагаю, что хотя бы часть профессоров, отрешившись от эйфории муравьевских времен, когда все росло и все получалось, и холодно взглянув на состояние вещей, понимала это. С другой стороны, свой взгляд на проблему показывал и попечитель Разумовский. Суть конфликта мы можем уяснить на примере указа 16 сентября 1809 г., которым вносилась первая поправка в университетский устав 1804 г.
Издание этого указа было вызвано предложением попечителя изменить срок, на который выбранный университетским советом ректор занимал свою должность. Еще 15 апреля 1808 г. Разумовский предложил министру Завадовскому сделать ректора бессменным или по крайней мере проводить его выборы раз в несколько лет. Утвердить решение в министерстве оказалось нелегко: в частном письме к Разумовскому министр пишет: «Я не стану объяснять, сколь нелегко отменить штат устава, вчера, так сказать, изданного. Может быть, вы и поверили бы моим о том изъяснениям. Но, наконец, по многим прениям уже решено избирать ректора в Московском университете на трех лет (sic!)»[169]. Спустя некоторое время трехлетний срок ректорства был введен и в других университетах. В постановлении от 16.09.1809 говорится: «Попечитель Московского университета д. т. с. граф Разумовский представляет, что ежегодная перемена ректоров в сем университете сопряжена с великими неудобствами; что должность сия требует неусыпного попечения, занятия множеством подробностей, строгого наблюдения и взыскания учащих и учащихся, на всех чиновников, по хозяйственной части употребляемых, к чему не инако достигнуть можно как опытностью, при частой же перемене ректора едва успеет он, так сказать, приглядеться ко всему, как уже наступает срок его смены… Опасаясь оскорбить того, кто вскоре заступит его место, он предпочтет снисхождением своим обрести и для себя подобное снисхождение. Наконец, долговременная привычка подчиненных видеть над собою одного и того же начальника усугубляет уважение к нему и повиновение»[170].
Однако мотивировка, предложенная Разумовским, не вполне согласуется с реальной ситуацией в Московском университете. Действительно, за 6 лет здесь сменилось 4 ректора. Но двое из них — Чеботарев и Баузе — не получили достаточного «уважения и повиновения» вовсе не потому, что занимали свой пост короткое время, а вследствие упомянутых нами особенностей своего характера и поведения, несовместимого с руководством университетом. Когда же ректорами становились люди работоспособные — Страхов, Гейм, то совет предпочитал продлить их полномочия: Страхов избирался ректором 3 раза и в последний раз отказался от должности, два раза профессора избирали Гейма. Причину инициативы Разумовского следует искать в конкретной обстановке в университете в 1808–1809 гг., потому что за его предложением скрывалось вполне четкое желание отодвинуть следующие выборы ректора на неопределенный срок. Вероятно, выборы 1809 г. прошли весьма напряженно; вспомним, что именно к этим годам относится фраза Третьякова об «интригах и партиях» внутри университета. Разумовский не был уверен в успехе устраивающей его кандидатуры Гейма на выборах в следующем году и хотел их перенести, чтобы выиграть время, которое бы укрепило позиции ректора.
Наши предположения находят полное подтверждение в обнаруженном нами (собственноручном!) письме Разумовского министру от 19 апреля 1809 г., в котором он объясняет истинные мотивы своего желания изменить устав. «Обстоятельства представляют мне необходимость повторить вам мою просьбу о продолжении Ректорства. В уставе университетском есть положение, чтоб за два месяца до окончания курсов он был избран. По сему на будущей неделе следовало бы уже приступить к сему действию; и я обыкновенному ходу сего дела дал бы течение, если бы не уверен был, что в собрании гг. Профессоров избран будет другой ректор, а чрез то, вместо дальнейшего успеха в восстановленном с немалым трудом порядке, нашел бы я себя опять в том же положении, в каком за год тому находился; и тоже если утверждение трехлетней бытности ректора дошло бы сюда уже по избрании нового: в таком случае, я должен бы опять бороться целые три года с беспорядками, на какую бедственную работу и веку моего не станется. К тому же смело уверить вас могу, что из нынешних профессоров ни одного нету, имеющего столько способностей к сей должности, как нынешний ректор профессор Гейм. В таком неприятном положении решился я остановить выборы, в надежде, что не замедлите, м. г. мой, доставить мне столь нужное и желаемое пособие, к пользе здешней учености, которая истинно грозила уже совершенным падением»[171].
Однако Разумовскому не удалось в этот раз дождаться желанного постановления: 16 июня оттянутые им на два месяца выборы все же произошли и закончились победой Гейма (видимо, с минимальным перевесом), а уже на следующий день Разумовский вновь повторяет свое представление министру, намекая на «обстоятельства» в Московском университете и грозя, что иначе «уступит место попечителя другому», и теперь, наконец, получает требуемое одобрение Главного правления училищ[172].
С чем же была связана такая напряженная университетская атмосфера? Кто мог быть соперником Гейма и Разумовского? Попытаюсь дать свое объяснение событий.
В 1809 г. престарелый граф П. В. Завадовский начал помышлять об отставке, и Александр I подыскивал ему преемника. Его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна представила императору Карамзина, ее любимца, часто бывавшего в Твери и читавшего ей там первые тома своей Истории. Император принял историографа благосклонно, и с этого момента Карамзин надолго становится одним из реальных претендентов на кресло министра народного просвещения. Даже в марте 1811 г., когда новым министром уже был назначен Разумовский, а Карамзин ехал в Тверь для свидания с государем и вручения ему «Записки о древней и новой России», попечитель университета Голенищев-Кутузов пишет министру о слухах, распространявшихся среди знакомых Карамзина, «что Вы будете перемещены в другое министерство, что я буду отставлен, что Карамзин будет министром просвещения, а Буле попечителем, и что Карамзин именно за тем позван, что государь будет к сему склонен великою княгиней!»[173]
Упомянутый Кутузовым профессор Буле входил в число московских друзей Карамзина, о чем Кутузов часто говорит в переписке с Разумовским. О тесной дружбе Буле с Карамзиным свидетельствует, например, такой факт: почти немедленно после знакомства Карамзина в 1809 г. с вел. кн. Екатериной Павловной Буле был вызван ею в Тверь для работы в дворцовой библиотеке и других поручений, очевидно, по рекомендации историографа. В июне 1810 г. Кутузов пишет: «Г. Буле, будучи употребляем Ея Императорским Высочеством для ея библиотеки и для других комиссий, в течение сего года весьма мало давал лекций»[174]. С кругом Карамзина были связаны и другие профессора университета, например, отец и сын Чеботаревы. Надеясь на будущее назначение Карамзина министром, в 1809 г. в университете возникла группировка профессоров, неприязненно относившихся к Разумовскому, недовольных засилием Каченовского в правлении. Можно предположить, что во главе этой партии встал, как наиболее авторитетный профессор, И. Т. Буле, претендовавший, таким образом, на пост ректора. В 1808 г. совет избрал Буле директором Педагогического института (вместо заболевшего Баузе), что придавало ему еще больший вес в университете. Из наших предположений вытекает, что в 1809 г. основным соперником Гейма являлся Буле, и именно он имел хорошие шансы победить на следующих выборах, если бы они вскоре состоялись. Поэтому Разумовский и хотел отодвинуть время их проведения. Как впоследствии оказалось, расчеты Разумовского оправдались. Ситуация изменилась, и на следующих ректорских выборах 1812 г. в университете уже не было ни самого Буле, ни многих других профессоров, которые могли бы его поддержать. (Заметим, что на прошедших 1810 г. и 1811 г. выборах деканов Буле был избран деканом словесного отделения, что еще раз подтверждает его высокий авторитет в это время.)
Какая же программа стояла за университетской партией Карамзина, как она оценивала состояние общественного образования в России, и конкретно, в Московском университете, результаты реформ и дальнейшие меры в этой области? Если мы примем версию Кутузова о том, что в марте 1811 г. Карамзин едет в Тверь, действительно ожидая своего назначения министром народного просвещения, то ответ на эти вопросы нужно искать в «Записке о древней и новой России». Эта записка, как программный документ, отразила размышления Карамзина за несколько последних лет, впечатления его бесед с профессорами и студентами, из которых он черпал информацию о состоянии Московского университета и его округа. Карамзин видит, что благородная, идеальная система народного просвещения, разработанная его другом М. Н. Муравьевым, не работает, ее выгоды оборачиваются другой стороной, не приносят настоящей пользы. Поэтому основные мысли Карамзина диктуются желанием наполнить систему Муравьева реальным содержанием, которое сама структура, ориентированная на Европу, не могла получить в условиях России без предварительной подготовки.
«Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру — зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук… Вместо 60 профессоров, приехавших из Германии в Москву и другие города, я вызвал бы не более 20 и не пожалел бы денег для умножения числа казенных питомцев в гимназиях; скудные родители, отдавая туда своих сыновей, благословляли бы милость государя, и призренная бедность чрез 10, 15 лет произвела бы в России ученое состояние. Смею сказать, что нет иного действительнейшего средства для успеха в сем намерении. Строить, покупать домы для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов — есть пускать в глаза пыль»[175].
Исследователи уже давно заметили, что настоящей мишенью, в которую бьют упреки Карамзина, был не Сперанский или другие либеральные реформаторы начала царствования, а сам Александр I. Нападая на недостатки реформ Муравьева, Карамзин видел в них прежде всего отражение духа идеализма, стремления к внешней красоте реформ на бумаге, неумения и нежелания приспособить их к конкретным условиям, а поэтому неспособности в целом принести пользу государству, характерных для самого императора. Рассматривая университетское самоуправление, Карамзин подчеркивал, что множество дополнительных обязанностей профессоров мешают преподаванию наук: «Заметим также некоторые странности в сем новом образовании ученой части. Лучшие профессора, коих время должно быть посвящено науке, занимаются подрядами свеч и дров для университета! В сей круг хозяйственных забот входит еще содержание ста, или более, училищ, подведомых университетскому совету. Сверх того, профессора обязаны ежегодно ездить по губерниям для обозрения школ… Сколько денег и трудов потерянных! Прежде хозяйство университета зависело от его особой канцелярии — и гораздо лучше. Пусть директор училищ года в два один раз осмотрел бы уездные школы в своей губернии; но смешно и жалко видеть сих бедных профессоров, которые всякую осень трясутся в кибитках по дорогам! Они, не выходя из совета, могут знать состояние всякой гимназии или школы по ее ведомостям: где много учеников, там училище цветет; где их мало, там оно худо; а причина едва ли не всегда одна: худые учителя». Видимость реформ без соответствующей деятельности по их дальнейшей реализации — вот что возмущает Карамзина: «Вообще, министерство так называемого просвещения в России доныне дремало, не чувствуя своей важности и не ведая, что ему делать, а пробуждалось, от времени и до времени, единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя»[176].
Карамзин готов «разбудить» Министерство народного просвещения. Система Муравьева была взята из Европы и поэтому не годится для России, но образование в России можно и нужно поднять до европейского уровня, и тогда эта система заработает. Распространение просвещения необходимо начать снизу, от гимназий и училищ, в которых постепенно вырастет ученое сословие, которое оживит университеты, пустующие в настоящее время. Исходя из российских условий в устав 1804 г. должны быть внесены коррективы для его усовершенствования. Но, отметим, Карамзин никоим образом не затрагивает в своей критике основные принципы университетской республики, идеи выборности должностей, всесословности образования (ученое состояние, по его мнению, возникнет из беднейших слоев населения) — подразумевается, что, поскольку эти положения устава 1804 г. работают в Европе, они пригодны и в России, только нужно активно действовать, а не «пускать пыль в глаза».
Главным соперником Карамзина при выборе министра народного просвещения был граф А. К. Разумовский, за которым стояла другая, консервативная, программа выхода из кризиса, пересматривающая либеральные основы университетской реформы. Элементы этой программы Разумовский продемонстрировал во время пребывания на посту попечителя, а в полной мере она выразилась в деятельности нового попечителя Московского университета П. И. Голенищева-Кутузова. Исходный пункт этой программы был тот же, что и у Карамзина: европейская система общественного образования непригодна для России в ее нынешнем состоянии. Поэтому все атрибуты европейских университетов — самоуправление, автономия, свобода преподавания — не приносят в России никакой пользы. Контроль за просвещением должен целиком принадлежать государству, и система образования должна укрепляться не снизу вверх, как у Карамзина, а сверху вниз. Опека кураторов над профессорами, а профессоров над студентами резко возрастет. Попечитель будет входить во все детали управления университетом и контролировать их, устраняя неугодные ему тенденции, и прежде всего, европейское влияние на Россию, «якобинство», свободомыслие, идущие из протестантской Германии. Чтобы противодействовать ему, в университете должен усилиться русский национальный характер преподавания, но не как следствие естественного процесса роста самосознания, а как директивная государственная мера. Разумовский противится принятию иностранцев в Московский университет, против немцев — учителей выступают и масоны поздеевской школы, враждебной философско-мистическим исканиям в масонстве Германии того времени (все эти новые враги получают название «иллюминатов»).
Такие настроения Разумовского сближали его с позицией иезуита графа Жозефа де Местра, который в своих письмах-наставлениях Разумовскому обосновывал идею российского своеобразия и делал из нее соответствующие выводы для народного просвещения: «Или русские не созданы для науки вообще и каких-нибудь отдельных наук в частности. Тогда они никогда в них не преуспеют… Или же русские созданы для науки, и тогда с ними будет то, что было со всеми народами, которые отличились на этом поприще, например, с итальянцами XV в. Искра, перенесенная извне в благоприятное время, зажжет светоч науки. Все умы обратятся в эту сторону. Ученые общества образуются сами собою, и все участие правительства ограничится оформлением и узаконением их. До тех пор, пока не замечено будет внутреннее брожение, которое поразит всех, всякая попытка ввести науку в Россию будет не только бесполезна, но даже опасна для государства, так как попытка эта только помрачит здравый смысл народный»[177].
Адепты католической пропаганды в России, подобные де Местру, утверждали, таким образом, что система народного просвещения не нужна этой стране. Образование должно быть элитарным, доступным для немногих, сосредоточенным в руках одной группы, например, иезуитов, а университеты просто не требуются. «В России не только не надо расширять круг познаний, но напротив, стараться его суживать»[178]. Отражение этих одиозных идей мы находим в политике министра Разумовского: именно при нем вводятся первые ограничения доступа податных сословий в университеты.
Итак, на рубеже 1810-х гг. перед Министерством народного просвещения стояли два пути: активизация достигнутых преобразований, расширение массы образованного населения и воспитание потребности общества в высших учебных заведениях — и отход от осуществленных реформ, ужесточение государственного контроля, ограничение университетских свобод, доступа к образованию из низших сословий, стремление к элитарности, сделавшей бы университеты в конечном счете ненужными. Выбор между этими путями, т. е. Карамзиным и Разумовским, принадлежал Александру, но император колебался.
Зимой 1809 г. Александр I отправился в Москву, и 11 декабря впервые за всю историю университета царствующая особа удостоила его своим посещением. Университет понравился Александру. Он побывал в церкви, музее и в Большой аудитории, где состоялось торжество в его честь[179]. Воспитанники благородного пансиона и студенты читали стихи, профессора говорили приветственные речи и преподносили императору в подарок свои ученые труды; Александр беседовал с некоторыми из них.
Разумовский был в восторге от визита государя. В тот же день он заехал домой к профессору Страхову и осмотрел его уникальную библиотеку, о которой упоминал в разговоре император (раньше гордый попечитель никогда не позволял себе наносить визиты профессорам)[180]. Александру также понравился вежливый и обходительный Разумовский. «С моим сердечным удовольствием поздравляю в. с. стяжанием всякой хвалы, которую я слышал от Государя Императора, посещавшего Московский университет, — писал ему Завадовский. — Он отзывался добрым словом о профессорах, коих удостоил своего разговора, о порядке управления, а наипаче о личных ваших качествах»[181]. Сразу после визита император одобрил давнее прошение Разумовского перевести университет в другое здание — Екатерининский дворец в Лефортове, чего попечитель добивался еще с 1808 г., считая существующее здание тесным и неудобным. (Переезд не успел состояться из-за смены попечителя.)
Одновременно, в то же посещение Москвы Александр I знакомится с Карамзиным, которого настойчиво рекомендует ему вел. кн. Екатерина Павловна. Весной 1810 г. вопрос об отставке Завадовского уже решен и император намеревался пригласить на его место Карамзина. По его малому чину он мог занять министерство лишь в должности директора, но здесь вмешался Сперанский, находившийся в зените своей карьеры. Вероятно, Сперанский знал о настроениях Карамзина и чувствовал, что в его лице получит активного соперника своим проектам. Он советует сначала сделать Карамзина попечителем Московского университета вместо Разумовского, который стал бы министром, а затем посмотреть, что будет дальше. Но когда должность попечителя предложили Карамзину, он не согласился принять ее: «Как жаль, что не имею права похвастаться перед тобою своею философическою умеренностью — немногие отказываются, от чего я отказался», — пишет он в это время другу[182]. Карамзина можно понять: чтобы заняться государственной деятельностью, ему пришлось бы оставить работу над «Историей государства Российского». Целью этого труда Карамзина было открыть русским читателям самих себя, просветить их в высоком смысле слова.
Будучи министром, он мог бы продолжать свое благородное служение Отечеству, но пост попечителя университета не стоил такой цены, тем более в подчинении у Разумовского.
2.4. Деятельность попечителя П. И. Голенищева-Кутузова и ее последствия
После отказа Карамзина и назначения 11 апреля 1810 г. графа А. К. Разумовского министром народного просвещения, вопрос о новом попечителе решился быстро. 14 мая им стал тайный советник, сенатор П. И. Голенищев-Кутузов. Н. Тургенев писал брату: «Князь <Н. Г. Репнин. — А А.> рассказывал, каким образом рыжий издатель рыжего журнала сделался куратором Московского университета: когда умер Муравьев, то он вместе с покойным князем Ив. Серг. Гагариным приехал к графу Разумовскому, и оба заставили его обещать стараться о Кутузове. Разумовский обещал, но после сам был сделан куратором и теперь, верно, чтобы исполнить свое слово, выхлопотал Голенищю <так называл его кн. Репнин. — А А.> кураторство»[183]. Кроме того, за Кутузова просили зять Разумовского московский главнокомандующий фельдмаршал Гудович, и, самое главное, Поздеев, который писал министру: «Благодарю вас много за Кутузова, милость ему сделана великая, но сие продолжите тем: исходатайствуйте, чтобы он жил здесь в Москве, что и должно бы; а когда надобно, то призывайте его на время, и еще исходатайствуйте ему столовые деньги, усовершествуйте его наставлениями без бережи, а те, коим вы писали, чтобы они советами ему не оставлять его, беречь, они это будут делать по всей их возможности, и он обещал слушаться»[184].
Павел Иванович Голенищев-Кутузов родился 1 ноября 1767 г. Его отец — известный деятель морского ведомства, любимец Павла I, дружил со многими учеными и художниками того времени. Кутузов в юности вступил на военную службу, участвовал в русско-шведской войне: в 1790 г. во время атаки у него была прострелена нога и разрублен лоб. Благодаря обстановке в доме отца рано начались его литературные опыты. В 90-е гг. одно стихотворение Голенищева-Кутузова было опубликовано в «Московском Журнале» Карамзина, но вероятно, уже в это время зарождается завистливая неприязнь к нему Кутузова, которая будет причиной его знаменитых доносов. Князь П. А. Вяземский рассказывает анекдот из московской жизни Кутузова: его посадили на гауптвахту за появление на улице в маскарадном костюме, в котором он возвращался с бала. В конце 90-х гг. Кутузов оставил военную службу, и в 1798 г. мы уже видим его третьим куратором Московского университета вместе с М. М. Херасковым и Ф. Н. Голицыным. Его назначению помогли связи отца, Кутузов был представлен при дворе. Уже тогда он продемонстрировал худшие качества своего характера: подличание перед начальством, нетерпимость к подчиненным, зависть, злопамятность, склонность к доносам.
Кутузов отправляет императору свой первый донос на Карамзина, который Павел I оставил без последствий, сказав: «Карамзина не знаю, а Кутузова знаю». О его кураторстве Ф. Н. Голицын писал: «Как легко добиться можно должности или места, которое, впрочем, совсем не нужно, да и излишнее. Сверх того, можно испортить учрежденный порядок. Тут вскоре возрастет ненависть, споры, даже жалобы»[185]. В самом деле, деятельность Кутузова и его планы переустроить университет на военный лад вызвали поток жалоб от директора И. П. Тургенева.
Преобразование университета вытеснило оттуда всех прежних кураторов (в 1803 г. их было четверо), и хотя Голенищев-Кутузов просил министра сохранить за ним это звание и при новом уставе, Завадовский ему отказал. Уволенный из университета, Кутузов остается в Москве, поступает в 1805 г. сенатором в 6-й департамент и пытается завоевать себе положение среди московских литераторов. Неутомимо, с огромной быстротой он сочиняет оды, переводит Пиндара, Гесиода, Грея (с французских переложений). Заметим, что одновременно в произведениях Грея находит источник для русского романтизма Жуковский, известность к которому пришла именно после перевода Греевой элегии «Сельское кладбище»; в это же время создает замечательные оды и переложения античных поэтов Мерзляков, поэтому малохудожественные творения Голенищева-Кутузова вызывают у читателей усмешку. В ходе борьбы литературных течений в русской поэзии 1800-х гт. Кутузов оказывается в кругу посредственных поэтов вроде графа Хвостова и Салтыкова, с которыми вместе издает журнал «Друг просвещения». Остряки шутили, что эта троица выпускала собственный журнал, потому что другие их не печатали. О способностях Кутузова слагать вирши по любому поводу дает хорошее представление рассказ Жихарева, в котором тот на спор сочиняет за несколько минут стихи на произвольно предложенные ему, совершенно бессмысленные рифмы[186]. Даже друзья Кутузова по литературной партии, например, адмирал Шишков, часто отзывались о его одах и других стихотворениях весьма отрицательно[187].
Помимо литературных занятий другим ревностным увлечением Кутузова было масонство. Приняв посвящение еще в середине 1780-х гг., в 1803 г. он открывает в Москве тайную ложу «Нептун», заседания которой проходили в его доме. Кутузов обладал довольно независимой позицией в масонстве, но его объединяла с консервативными масонскими течениями, во главе которых стоял Поздеев, общая неприязнь к новым веяниям, идущим из протестантской Германии. Как и Поздеев, Кутузов был недоволен усилившимся иностранным влиянием в литературе, вольнодумством, в котором прежде всего обвинял Карамзина, ослаблением цензуры. Назначение попечителем Московского учебного округа, по рекомендации Поздеева, давало Кутузову возможность начать активную борьбу против этих нежелательных для него тенденций.
Попечительство Кутузова имело несколько особенностей по сравнению с двумя предыдущими. Во-первых, в отличие от Разумовского, прохладно относившегося к своим обязанностям, Кутузов проявил огромную энергию, сравнимую только с работой Муравьева в первые годы реформ. Как видно из его опубликованной частной переписки с министром, которая шла параллельно с официальными донесениями, в первые недели после назначения он отправляет Разумовскому 1–2 письма в день! Наиболее резкие письма, содержавшие выпады против высочайших особ — Екатерины Павловны и даже самого Александра I, Кутузов посылал с оказией через Поздеева. Принцип работы нового попечителя: «все спрашивать, на все требовать согласия», а согласие ему требуется постоянно, потому что Кутузов вникает в дела университета до малейших подробностей и все, что ему не нравится, хочет изменить на свой лад. Его мелочность, пристрастное вмешательство во все дела, упрямство, с которым он добивается от Разумовского одобрения своего мнения, и вместе с тем самоуничижение перед министром поражают. Разумовский едва выносит этот поток кляуз и доносов и жалуется Поздееву, Поздеев старается урезонивать Кутузова и одновременно успокаивает Разумовского: «Это правда, что он (Кутузов) часто ошибается, ибо все судит, и пишет ежели кому, то все по чувствам своим, не подозревая о их ошибочности, чему подвержены все пылкие, склонные к энтузиасму… Во многом, я знаю, что он, как беспокойный и назойливый дитя, чает, что делает дело, по его зрению на вещи, хорошо, а не подозревает, что его зрение разбегается и не далеко видит»[188].
Во-вторых, впервые звание попечителя получил человек, не принадлежавший к аристократическому обществу, с очень скудным материальным положением. Кутузов всегда нуждается в деньгах и одновременно боится, чтобы эту нужду заметили и истолковали против него. Вследствие такого положения Кутузов ощущает себя в постоянной зависимости от начальства и поэтому готов угождать любым просьбам, идущим сверху. По протекциям в университет попадают несколько новых профессоров и адъюнктов: Суворов, Смирнов, Реннер; в соответствии с просьбами Разумовского и других Кутузов пытается влиять на университетские производства в ученые степени и продвижения в чинах.
При этом Кутузов совершенно не считается с мнением самих профессоров. Когда совет университета не хочет производить С. А. Смирнова в адъюнкты, попечитель готов нажимать на него любыми средствами. Он полагает, что все назначения и увольнения профессоров определяются им самим. После ухода Каченовского с поста правителя канцелярии всю делопроизводственную документацию Кутузов ведет сам. Его писец вспоминает: «Кутузов был человек гордый, вспыльчивый, любивший делать все с неимоверной скоростью, часто бестолковою и для исполнения приказаний его невыносимою. Самая канцелярия его была расположена в столовой в беспорядке… Почитая себя за великого и опытного знатока в делах, Кутузов весьма часто сам, как будто вдохновленный какой-либо важной мыслью, принимался за перо и связным почерком сочинял разные представления к министру и другие бумаги. Переписать их набело скоро без ошибок не было для меня никакой возможности; ошибиться — беда, спросить Кутузова — другая беда, ибо он и сам не всегда мог разбирать свое рукописание»[189].
Первым же делом Кутузова на новом месте явилось преобразование университетской цензуры, от которой зависел выпуск книг во всем округе. Надо отметить, что цензурная деятельность в университете часто была предметом споров профессоров и привлекала внимание начальства, потому что тесно была связана с общим направлением правительственного курса. Так, в 1804 г. произошел серьезный конфликт между профессорами Баузе и Шлецером, с трудом разрешившийся вмешательством Муравьева[190]. (Разногласия вызвали враждебные наладки Шлецера на революционную Францию, с которой Россия еще старалась поддерживать спокойные отношения.) В 1807 г. в одном из своих последних распоряжений, последовавших уже после Тильзитского мира, Муравьев предписывал «соблюдать должное уважение к особе Наполеона императора Франции в делах цензуры печатаемых книг». Уникальное секретное дело, открывающее малоизвестные стороны истории цензуры тех лет, датировано 21 марта 1805 г. В нем московский военный губернатор в секретном предписании, переданном университетскому цензурному комитету, «по высочайшей Его Императорского Величества воле, объявленной ему чрез Министра Народного Просвещения, предлагает сжечь чрез Палача прилагаемую при том нечестивую книгу на немецком языке, носящую заглавие Молох Наших Дней, яко содержащую в себе артикулы в поношение христианской веры и оскорбительные лицам державствующим». (Дело было подписано всеми членами правления и хранилось отдельно от остального архива, вместе с университетской казной[191].)
Тем не менее, мотивировка Голенищева-Кутузова к преобразованию цензурного комитета своеобразна: «Можно ли отвечать за такое количество лекторов (т. е. цензоров. — А. А.), из которых некоторые читают так, что ничего не видят и всякую дрянь пропускают, будучи разными парами омрачены»[192]. Поэтому Кутузов предлагает оставить для цензуры только 4 лекторов, которых бы назначал лично попечитель. После того как его проект был осуществлен, потерял силу один из основных принципов устава 1804 г. — цензура выходила из-под контроля совета университета и зависела исключительно от попечителя, который мог подбирать угодных ему цензоров и устранять неугодных. Ужесточение цензуры почувствовали многие московские издания. Кутузов обрушивается на статьи Буле, сочинения Карамзина, препятствует распространению записок А. Л. Шлецера, которые содержат слишком резкие характеристики русского общества середины XVIII в. О научном труде Буле он пишет: «В его истории философии довольно одной статьи, в коей он хвалит учение Спинозы, чтобы извергнуть его из благоустроенного общества». В ноябре 1811 г. по приказу московского главнокомандующего Гудовича из книжных лавок изымают книгу поляка В. Стройновского в переводе В. Г. Анастасевича об условиях договоров помещиков с крестьянами, содержавшую критику крепостного права. «Добрые люди здесь говорят, — пишет Кутузов, — надобно и автора, и переводчика повесить, ибо это зажигатели и враги отечества»[193]. Переписка показывает, что желание усилить цензуру равно исходило от Кутузова, Разумовского и Гудовича: министр несколько раз даже упрекал попечителя за пропущенные книги, на что тот отвечал, что петербургская цензура и не такое пропускает.
Решив осмотреть все части университетского хозяйства, Кутузов вмешивается в дела университетского суда. Здесь его недовольство вызывает синдик Горюшкин, который якобы тянет и запутывает решение простых дел. «Горюшкин есть узел, который надобно развязать, ибо он сам никогда просьбы не подаст, то посему никогда от него не избавимся, а оттого и еще глупейшие процессы будут возникать и запутываться… Одно уже незнание языков и невозможность объясняться с деканами, кои суть немцы, делает его неспособным, а делам и остановку и запутку приключает; а как нам от Горюшкина избавиться — меры и способы предаю вашему прозорливому благоусмотрению», — пишет Кутузов Разумовскому. На место синдика попечитель прочит своего знакомого по 6-му департаменту обер-секретаря Сандунова и в феврале 1811 г. добивается отставки Горюшкина.
Увольнения на этом не кончаются. «В заключение прошу в. с., дабы я не мог ошибиться, дать мне ваше наставление, как поступить с профессорами Баузе и Барсуком-Моисеевым, коих несчастное положение вам известно, и о коих ректор мне уже неоднократно говорит, что нужно нам от них избавиться». О последнем из названных профессоров Кутузов пишет так: Барсук-Моисеев «в безобразном виде шатается по улицам, в университетском мундире ходит по погребам и по кофейным домам и разные смехотворные и шумные производит анекдоты»[194]. Баузе и Барсук-Моисеев покинули университет соответственно в январе и июне 1811 г. С одной стороны, очищение университета от плохо работающих профессоров не может вызвать порицания, но следует отметить, что оно проходило под грубым нажимом попечителя, несправедливо, как в случае с Баузе, которому не хватало одного года, чтобы получить звание заслуженного профессора и полагающуюся ему пенсию. (Правда, по рекомендации профессора Цветаева, поддержанной попечителем, эта пенсия все же ему была предоставлена[195].)
Вскоре недовольство попечителя обращается и на ученых молодого поколения. Он препятствует производству Кошанского и Воинова в следующий чин, а с января 1811 г. начинает преследовать А. X. Чеботарева, прежде всего за его «дерзкий язык». Плохие отношения Кутузова с семьей Чеботаревых определялись их близостью к Карамзину, однако Чеботарев-старший дружил с московским почт-директором Ключаревым — масоном поздеевской школы, и поэтому Поздеев останавливал нападки попечителя. Но особое озлобление Кутузова вызвали слухи о назначении Карамзина министром, которые распространял А. X. Чеботарев в марте 1811 г., после чего попечитель потребовал у Разумовского согласия на его немедленное увольнение за «развратное поведение» (впрочем, определенные «истории» в жизни этого молодого человека действительно имели место).
Однако ни к кому из профессоров Московского университета попечитель Голенищев-Кутузов не испытывал большей вражды, чем к И. Т. Буле. «Какой может быть порядок в службе, где нет повиновения? Какое может быть повиновение, где есть человек толь неистовый и вкупе толь самонадеянный, каков г. Буле, беспрестанно своими поступками и других к неповиновению ободряющий?»[196]
Неприязнь к Буле возникла сразу же: в первом же письме министру (2 июня 1810 г.) Кутузов упрекает профессора за то, что в прошедшем году он читал мало лекций, и говорит, что «теперь, будучи вытребован может быть и надолго опять курс свой прерывает; но лучше бы кажется было, ежели бы его взяли от нас, и мы бы тогда могли дать его место другому достойному человеку». Удар по Буле не был случаен: Кутузов прикладывает все усилия, чтобы избавиться в университете от враждебной ему партии, одной из опор которой являлся профессор археологии и теории изящных искусств. Чтобы опорочить Буле, он не гнушается никакими обвинениями. В лекциях Буле по философии попечитель видит безбожие, иллюминатство, вспоминает прочитанные профессором лекции о ядах и — боится за свою жизнь!
Однако интриги, которые ведет Кутузов против Буле, осложняются вмешательством покровительницы профессора вел. кн. Екатерины Павловны. В своих письмах Разумовскому попечитель впадает в непритворное отчаяние из-за того, что, посетив 2 июля 1811 г. по приглашению великой княгини Тверь, Кутузов, не смея перечить Екатерине Павловне, вынужден был хвалить Буле, а вернувшись в Москву тотчас передал ему благосклонный отзыв великой княгини и даже, «желая угодить Ее Высочеству, написал к нему самую ласковую записку». Эта записка была использована профессором для продвижения вперед своего затянувшегося представления к следующему чину[197] и одновременно противоречила всей прежней интриге Кутузова, так что тот слезно просил министра его «защитить при нужном случае, ежели паче чаяния Буле в дурном запахе в Петербурге, то да не вмениться мне в преступление, что я писал к нему ласковую записку, и что ласково с ним обращался»[198] (а ведь сведения о «дурном запахе» Буле распространял сам Кутузов). О его жалком поведении оставила нам отзыв и сама вел. кн. Екатерина Павловна, так вспоминая в письме Карамзину об их встрече: «Вчера сенатор-попечитель К. обедал у меня, он нашел мою кухню не по вкусу, так как в числе прочего ему были поданы два блюда крайне неудобоваримые для него: ему пришлось выслушать выражение моего мнения о вас и о профессоре Буле, а также о моих чувствах к вам обоим. При этом я имела случай наблюдать, как злые люди подчас себя выдают: его слова шли вразрез с его движениями, и даже выражением его лица. Он много наговорил хорошего о вас обоих, но он сам от природы слишком искренен, чтобы ему удалось кого-либо провести»[199].
В сентябре 1811 г. ситуация, наконец, разрешается: Буле пожаловался великой княгине на попечителя, и та предложила ему 6 тыс. руб. годового жалования, квартиру, стол и пр., после чего профессор подал просьбу об увольнении из университета. Кутузов поспешил ему объявить, что не задерживает его ни на минуту.
Отношение Голенищева-Кутузова к принципам университетской автономии хорошо показывают его действия во время происходивших в мае 1811 г. очередных университетских выборов. Совет избрал деканами профессоров Брянцева, Панкевича, Гильдебранта и Буле, и по уставу попечитель должен был просто передать представление совета на утверждение министру. Однако, сообщая о результатах выборов Разумовскому, он пишет: «Я с моей стороны, не желая моею властию сего представления отвергнуть, осмеливаюсь токмо присовокупить мои на оное замечания. Близ уже года отправляя звание мое со всевозможным вниманием и входя во все подробности течения дел университетских, мог я достаточно заметить, что иностранцам быть Деканами весьма неудобно, как по незнанию языка, так и по недостаточному понятию о наших законах, от чего в правлении происходили частые недоразумения, оканчивавшиеся иногда прениями, кои я должен был миролюбиво прекращать; а по тому выбор в Деканы профессоров Буле и Гильдебранта находя неудобным, осмеливаюсь вместо них представить в Деканы профессоров Черепанова и Мудрова», а что касается кандидатуры Брянцева, то «он при всем усердии и неутешимом рвении по старости лет его, по упадающим силам и по ослабевающему здравию, едва может с похвальнейшим усердием преподавать порученную ему лекцию, на которую еще силы его достаточны, но звание Декана, требующее особливой деятельности, он отправлять не может», поэтому на его место попечитель предлагает назначить Цветаева. Опять-таки мы должны здесь заметить, что даже если ничего пристрастного в замечаниях Кутузова нет (а это не так, в чем мы неоднократно убеждались), и они клонятся к пользе университета, то по существу самую основу самостоятельности — выборность должностей — попечитель тем самым сводит на нет, нимало не считаясь с мнением ученых. К чести Разумовского министр защитил здесь права совета и утвердил избранных профессоров (лишь когда Буле официально был уволен из университета (8 ноября 1811 г.), его место декана занял Н. Е. Черепанов)[200].
Вмешательство попечителя коснулось всех сторон деятельности университета, в т. ч. и ученых обществ. Едва вступив в должность, Кутузов потребовал через совет от каждого общества отчет о проделанной с момента основания работе. Попечитель остался очень недоволен деятельностью Общества истории и древностей российских, возглавляемого его неприятелем X. А. Чеботаревым. Кутузовым были составлены две бумаги, выражающие его претензии обществу, которое «за шесть лет издало всего 80 страниц», одна в совет, а другая министру, и с согласия Разумовского 4 декабря 1810 г. на экстренном заседании попечитель объявил о закрытии общества и об учреждении нового с «деятельными» членами. За месяц Кутузовым был написан устав нового ОИДР и набран его новый состав[201].
В июне 1811 г. Кутузовым был разработан устав еще одного нового общества — любителей российской словесности. По замыслам Кутузова это общество должно было выражать в Москве идеи, созвучные позициям петербургской «Беседы любителей русского слова», также как и кафедра славяно-российской словесности, созданная в это же время по представлению попечителя. Ее возглавил профессор Гаврилов, о преподавании которого сохранились не самые лучшие отзывы, поскольку он обучал, «собственно говоря, церковному нашему языку посредством одного упражнения в чтении божественных книг и преимущественно Четь-Миней; едва ли и сам знал он во всем объеме язык им преподаваемый»[202]. Однако для политики Разумовского, направленной против влияния иностранцев в университете, открытие кафедры имело важное идеологическое значение[203], хотя лишь через два десятка лет кафедра славяно-российского языка перестала вызывать насмешки в «архаизме» и на нее пришли выдающиеся ученые, основатели университетской славистики.
Совет должен был формально утвердить новую кафедру. По словам Кутузова, «сие произвело приятнейшее впечатление во всех наших русских профессорах так, что в совете все изъявили и радость, и благодарность в. с. за таковое патриотическое постановление. Но не скрою и того, что немцы все молчали и хранили благопристойность; единый г. Буле возопиял громко: это не в порядке, это не по уставу! Сей статьи и кафедры там нет, устав высочайше утвержден, и сам министр не имеет права сего делать в отмену устава и проч., при сем крайне горячился, кричал и побуждал других быть с ним одного мнения»[204].
Во время всех преобразований, связанных с деятельностью Кутузова, совет выступает лишь бледной тенью, соглашающейся со всем, не способной выражать собственное мнение. Протест Буле, декана словесного отделения, весьма весомый в обычных условиях, направленный даже не против кафедры, а против политики попечителя и министра в целом, в защиту университетской республики, не был услышан. Сильно одряхлевшее старое поколение профессоров и пожилые немецкие ученые «муравьевского призыва» постепенно сходят со сцены — умирают или покидают университет. С начала 1811 г. до августа 1812 г. из университета по разным причинам выбыли 10 профессоров, в т. ч. 5 немцев, а за время Отечественной войны — еще четверо. Часть освободившихся кафедр попечитель хотел упразднить, например, соединить кафедры астрономии и прикладной математики, латинского и греческого языков, убрать ненавистную ему кафедру археологии и теории изящных искусств, «как путь преподавать всякие вздоры и даже вредное учение» (исключить ее не позволил министр, определив туда Каченовского). В целом соотношение между русскими и иностранными профессорами изменилось в пользу русских, и попечитель видел в этом свою заслугу.
Ужесточение линии руководства просвещением, черты новой политики отразились также в некоторых постановлениях министерства народного просвещения, касавшихся Московского университета. 10 ноября 1811 г. было издано очень важное постановление — первый шаг к отмене всесословного высшего образования в России — по которому люди из податных сословий выключались из оклада не ранее, чем они окончат университет. А поскольку звание действительного студента, относясь к 14 классу Табели о рангах, наделяло его обладателя личным дворянством, правом носить шпагу и не платить налогов, то учащиеся из податных сословий лишались и звания студента и до окончания курса именовались «вольнослушателями». Введение категории вольнослушателей значительно запутало учебный процесс — во многих университетах в них записывались как раз дворяне, не желавшие регулярно посещать лекции и сдавать экзамены. Дискриминация усилилась не только по отношению к ученикам из податных сословий, но и к казеннокоштным студентам. 21 апреля 1811 г. был издан указ об отсылке казеннокоштных студентов за развратное поведение на военную службу. Поскольку понятие «развратное поведение» можно было толковать широко, у правительства появилось теперь мощное оружие, которое можно было использовать против любых проявлений недовольства среди студентов[205].
В заключение обзора 9-летней истории университетской корпорации следует сказать, что реформы Муравьева уже в самом ближайшем будущем привели не совсем к тем результатам, на которые рассчитывал первый попечитель. Университетская республика рождалась при значительной помощи Муравьева. За счет созданного им потенциала в течение нескольких лет происходил бурный рост и развитие корпорации, которая доказывала свое право на самостоятельное существование. Но после смерти Муравьева этот процесс прекратился. Попечители продолжали вмешиваться в жизнь университета, но уже не ради укрепления его самостоятельности, а усиливая контроль и свою личную власть. Это усиление авторитаризма было неизбежно в условиях двойственной политики Александра I, не способного совместить либеральные замыслы с практически выполнимыми, продуманными законами, и достигло наивысшего выражения при попечителе П. И. Голенищеве-Кутузове. При этом еще не окрепшая университетская республика проявила слабость, ее демократические институты, основанные на принципах устава 1804 г., оказались не в состоянии противостоять давлению сверху; зато выявились конкретные недостатки, идеалистичность этого устава. Поэтому к началу 1810-х гг. элементы системы Муравьева начинают рассыпаться — меняется срок ректорства, введены ограничения для учеников из податных сословий, уходит старое поколение профессоров и большинство иностранцев. Правда, эти профессора успели подготовить себе замену, и на многие кафедры вступают молодые русские ученые. Именно им придется восстанавливать университет после войны 1812 г. и в новых условиях бороться за сохранение духа либеральных реформ начала века.
Глава 3
Преподавание наук и научная деятельность Московского университета
Преобразования 1803–1806 гг. открыли широкие возможности для развития университетской науки. Заботясь о народном просвещении в целом и особенно важную роль отводя научным знаниям, которые должны были укорениться на русской почве, правительство Александра I приступило к постройке здания научного образования сверху, с университетов. Образцами для разработки новой системы преподавания послужили высшие учебные заведения Германии и Франции. Университеты здесь выполняли двойную функцию, с одной стороны, являясь образовательными центрами, а с другой — аккумулируя вокруг себя исследования по всему широкому спектру проблем современной науки. Государственные субсидии придавали этим работам стабильность, позволяли исследователям превратить свои занятия в профессию. С профессионализмом ученых сочеталось и общественное уважение к их труду, широкое признание в европейской культурной среде.
Идея ввести в России подобное «ученое сословие» была чрезвычайно смела, и препятствия на пути ее осуществления далеко не сразу осознавались современниками и авторами реформ. Дело тут не только в том, что ученый, который по необходимости должен войти в строгую российскую иерархию чинов и званий, вызывал отторжение у доминирующего служилого сословия — дворянства (некоторые свидетельства об отношении к профессорам на рубеже XVIII–XIX в. мы уже приводили в предыдущей главе). Русское общество начала XIX в. в целом, не сознавая еще потребности в науке, относилось к ней равнодушно, а иногда с боязнью и подозрительностью[206]. Публичные речи профессоров призваны были, прежде всего, объяснять назначение наук, оправдывать их цель. Из такой ситуации следовали недостаток людей, которые могли бы составить ученое сословие, отсутствие школ, соответствующих современному уровню научных требований, и т. д.
Естественный способ, к которому прибегло правительство в данных обстоятельствах, это приглашение ученых и профессоров из-за границы. Число приехавших было довольно велико, потому что условия, предложенные иностранцам, льстили равно их кошельку и их самолюбию, привлекая мыслью участвовать в просвещении страны, дикой и первобытной по европейским понятиям; и главное — эти ученые действительно оставили глубокий след в университетской науке. Некоторые из них надолго задали направление научной деятельности университета, а те факультеты, где они работали, продолжительное время выдавались вперед по сравнению с другими[207].
Иностранные профессора, почти все без исключения прибывшие из Германии, внесли в русскую науку и опосредованно, через своих слушателей, в русскую культуру новый для России круг идей, связанных с быстро развивающейся в то время немецкой классической философией, трудами Канта, Фихте, раннего Шеллинга. Кроме того, сами профессора представляли русской публике новый тип «человека науки», профессионального ученого. Неудивительно, что очень скоро немецкие профессора вошли в моду среди дворянского общества, которое стало посещать их лекции и отдавать своих отпрысков в университет.
В европейской системе образования (особенно в немецких землях), большое внимание уделялось философии как основе наук и естественных, и гуманитарных. Поэтому влияние немецких ученых на преподавание в Московском университете преимущественно сказывалось на этико-политическом отделении, в изучении философии и естественного права, хотя затрагивало при этом основы и методологию всех наук. Эта новая струя в преподавании привлекала интерес студентов, делая, несмотря на языковой барьер при чтении лекций, философию одним из любимейших предметов. Интерес был тем живее, что в конце XVIII в. университет искусственно отгородился от идей Просвещения, видя в них семена революции.
Если иностранные профессора тяготели к философскому направлению, то у русских профессоров преобладали литературные интересы, которые следует рассматривать в контексте бурных литературных споров того времени. Талантливейшим критиком и литератором университета был А. Ф. Мерзляков. В литературном процессе, благодаря университетским изданиям, участвовало большое количество студентов, адъюнктов и профессоров.
Для многих предметов университетской программы история преподавания в начале XIX в. практически исчерпывает историю соответствующей науки в рамках университета. Требовалось время, чтобы с помощью иностранцев ликвидировать наметившееся отставание в ряде предметов: химии, высшей математике, астрономии и др., прежде чем начинать здесь самостоятельные исследования. Собственно научная работа в 1804–1812 гг. сконцентрировалась в научных обществах при университете, из которых наиболее активным было Общество испытателей природы. На его примере можно увидеть характерные черты университетской науки начала XIX в. В Москве она в большой степени зависела от поддержки меценатов, просвещенных вельмож — любителей науки (Демидов, Разумовский), в отличие от Петербурга, где Академия наук пользовалась государственной поддержкой. Пристрастия меценатов определяли и преобладающее направление исследований. С другой стороны, недостаточная расчлененность наук того времени предполагала синкретическое образование исследователей. Например, П. И. Страхов, входивший в качестве действительного члена во все научные общества, учил в Европе риторику, переводил французские романы, а в Москве преподавал физику, вел регулярно метеорологические наблюдения, эксперименты с электрическим током, ртутью, замерзающей водой и т. п. Широта научных интересов была присуща и многим студентам, которые посещали занятия нескольких факультетов, в т. ч. молодому Грибоедову.
Большую поддержку университетской науке оказал за время своего попечительства М. Н. Муравьев, не только сам обладавший глубокими научными познаниями, но и имевший возможность переписываться со многими европейскими учеными сообществами. Одной из его целей было налаживание постоянного научного обмена между Московским университетом и другими странами, которое бы держало его в курсе всех новейших достижений и открытий ученого мира Европы и рассказывало бы ему о состоянии русской науки (в качестве одной из мер он предлагал посылать диссертации новопроизведенных докторов, а также все замечательные произведения, выходящие из стен Московского университета, в Геттинген через знакомого нам профессора Мейнерса). Так, в феврале 1803 г. попечитель отправляет профессору Страхову вместе с новыми приборами для физической лаборатории описание новых экспериментов по гальванизму, произведенных в Туринской академии[208]. О живом интересе Муравьева к современной физике говорит отрывок из письма неизвестному корреспонденту: «Мы некогда учились физике. Но столько времени прошло с тех пор, как мечтали заниматься ею, что теперь остался я совершенным невеждою и потому, что память моя не сдержала того, что дано было ей на сохранение, как потому что наука сделала с тех пор неимоверные успехи. Напрасно я хочу выводить свои предположения, они не находят благосклонного приюта, которого по нашему мнению достойны. Например, утверждаю я, что электрическая сила имеет великое сродство с магнетическою и, может быть, обе они составляют одно и то же, приложением только различествующее»[209]. Однако, несмотря на скромность Муравьева, в его предположении содержится абсолютно правильное понимание единства электромагнитных явлений, признанное наукой только через много лет после смерти попечителя.
Обзор преподавания на университетских кафедрах мы начнем с нравственно-политического отделения, где иностранные профессора составляли большинство, читая соответственно: И. Буле — естественное политическое и народное право, Ф. Баузе — римское право, Ф. Рейнгард — практическую философию, X. Шлецер — политическую экономию, X. Штельцер — общее и уголовное законодательство. Из русских профессоров 3. А. Горюшкин, а затем Н. Н. Сандунов учили правам гражданского и уголовного судопроизводства в Российской империи, А. М. Брянцев — логике и метафизике, М. М. Снегирев — нравственной философии и церковной истории, а Л. А. Цветаев — теории законов.
В преподавании философии в этот период профессора придерживались двух различных линий изложения предмета. Еще со времен Славяно-греко-латинской академии в Москве преподавали схоластику Аристотеля. Положенная в основание философии для духовных заведений, она с течением времени уступила место системе Лейбница-Вольфа, читавшейся по руководствам Баумейстера и Винклера. Именно в таком виде философия перешла в Московский университет вместе с отечественными профессорами, получившими семинарское образование[210].
В начале XIX в. преподавателем, в основе державшимся системы Вольфа, был А. М. Брянцев. Его биограф сообщает, что хотя Брянцев «не удовлетворялся господствовавшей тогда в школах Вольфианской философией, но и не увлекся безотчетным пристрастием к новым системам… Он боролся с трудностями нового немецкого языка, вырабатывал новые русские слова для передачи слушателям новых понятий; но из новых учений принимал и с убеждением передавал другим только то, в чем видел благонадежное средство к утверждению себя и других в чистой истине и доброй нравственности»[211].
С этим сообщением интересно сравнить свидетельство Свербеева: «Ученик Вольфа, соученик Канта, философ Андрей Михайлович Брянцев, чуть ли не 80-летний старик, в голубом своем кафтане, со стоячим воротником и перламутровыми большими пуговицами, с седыми волосами à la vergette, при косе восходил на кафедру ровно в 8 часов утра, следовательно, зимой при свечах, и преподавал нам неудобоисследуемую пучину логики и метафизики. Он всецело принадлежал какому-то допотопному времени, объяснял нам свои премудрости в сухих выражениях, недоступных нашему пониманию. Его ученая терминология была латино-германская; его наука была нещадно сухая и схоластическая; даже русский язык был испещрен какими-то старинными словами, оскорблявшими наш слух». Правда, тут же Свербеев замечает, что «покойный М. А. Дмитриев, занимавшийся целую жизнь философией, говорил о Брянцеве, что сам всеразрушающий Кант не отрекся бы признать в своем соученике брата во философии»[212].
По поручению Муравьева Брянцев перевел в 1804 г. учебник Фергюссона и заслужил за это награду императора. Этот и другие распространенные учебники нравственной философии — Мабли, Демутье, переведенные в 1803–1807 гг.[213], были заметным шагом вперед по сравнению со схоластическим преподаванием конца XVIII в., в основном за счет углубления христианской этики.
Философские взгляды Брянцева характеризует его речь «О всеобщих и главных законах природы», произнесенная в торжественном собрании 1799 г. Он указывает, в соответствии с метафизикой Лейбница, три основных свойства природы: закон непрерывности (отсутствия пустоты), закон бережливости (или полезности всего сущего) и закон всеобщего сохранения, следующий из онтологического доказательства существования Бога. Считая большинство законов природы, как и цель всего сущего, непознаваемыми, Брянцев говорит, однако, что философы должны извлекать эти законы не только из чистого умозрения, но как результат «испытания природы».
Собственно нравственную философию, а также церковную историю в университете читал М. М. Снегирев, воспитывавшийся в Троице-Сергиевой лавре под руководством митрополита Платона, близость к которому он сохранил и впоследствии. Лекции Снегирева были «приятны по ясности и легкости в объяснении»[214], однако это не уберегало его от многочисленных насмешек студентов за его замкнутость и неловкость в поведении. Е. Ф. Тимковский относит Снегирева к тем профессорам, к которым являлись лишь «по долгу учености», и пишет: «Мог ли студент охотно вступить в предмет философии, когда его профессор, в треволнении изъявления предмета не так близко знакомого, опрокинулся со стулом на пол с высокой кафедры при язвительной улыбке слушателей. К сугубому уничижению, на другой день на той же кафедре, к сведению самого г. преподавателя, явилась довольно пошлая эпиграмма в следующих двух стихах: Профессор <Снегирев> философ между нами / Чтоб это доказать, стоял здесь вверх ногами»[215].
В 1807 г., также по инициативе Муравьева, в университетской типографии вышел перевод учебника Ф. Рейнгарда «Система практической философии», отражавший содержание его курса лекций. Занятия у Рейнгарда имели значительное влияние на воспитанников университета. Их с благодарностью вспоминали Чаадаев, Якушкин, Н. Тургенев и многие другие. В 1805–1806 гг. Рейнгард выпускал литературный журнал «Аврора» вместе с Я. Десангленом (в будущем всесильным управляющим делами в Министерстве полиции, который начинал скромным учителем немецкого языка при университете), что позволяет говорить об участии профессора в литературном процессе того времени.
Как сообщает мемуарист, Рейнгард, в отличие от большинства профессоров, читавших лекции в немецкой манере, т. е. не обращая внимания на слушателей и не общаясь с ними, заставлял студентов после каждого занятия делать краткий письменный обзор услышанного, который студенты обсуждали вместе, дома у Рейнгарда. Это отпугнуло многих нерадивых, зато оставшиеся сблизились с профессором еще теснее[216].
Предметом рассмотрения в курсе практической философии Рейнгард считает систему нравственности, которую понимает как основанную «на идее первоначального морального закона, а следовательно… на идее первоначально существующей в человеке законодательной способности, называемой практическим разумом»[217]. Моральный закон у Рейнгарда соответствует кантовскому категорическому императиву. Подобно Канту, он рассматривает общественный порядок как результат противоборства свободной воли и чувственной натуры, отдельного человека и понудительной силы общественных законов. Эти законы должны выводиться с помощью разума посредством морального суждения. На них строится теория права, должностей и общественных учреждений. При изложении материала Рейнгард пользуется различными мнениями философов — от стоиков до Канта и Лейбница. Он присоединяется к распространенному в Германии начала XIX в. критическому взгляду на идеи французского Просвещения, считая, что теория Руссо «сама рушится, как скоро за основание гражданского общества примется идея первоначального закона вместо идеи первоначального договора». Практический характер философии Рейнгарда виден в большом количестве советов, аксиом поведения, которые должен усвоить человек, находясь в обществе, как, например: «каждый из нас должен уважать характер как в самом себе, так равно и в других; с другой стороны, каждый из нас по своей натуре и по моральному закону может требовать от других уважения к своему характеру»[218].
Многие студенты тепло вспоминали и о занятиях с профессором римского права Ф. Баузе, еще до начала его тяжелой болезни. Живя долгое время в России, Баузе, кроме своего увлечения коллекционированием русских древностей и чтения лекций, всерьез занимался историей российского просвещения и словесности. В 1796 г. в торжественном собрании Московского университета он прочел речь о состоянии просвещения в России до Петра I — первый опыт исследования такого рода, который затем несколько раз перепечатывали журналы, предпринятый с целью «избавить Россию от долговременной ненависти и нареканий иноземцев, воздать каждому веку должное по заслугам, наконец, ознакомить с началами Русского просвещения сего времени». Баузе критикует сочинения иностранцев, распространявших в Европе ложное мнение об уровне российского просвещения, как основанное на домыслах: «Я писал, не полагаясь доверчиво ни на кого, все сочинения, которыми я пользовался и которые цитировал, лежали у меня перед глазами». Выделяя начало просвещения на Руси во времена св. Владимира, Баузе подчеркивает преемственность политики сближения с Европой у Петра I от предыдущих царей, в т. ч. Ивана Грозного[219].
Как знаток древнерусской литературы Баузе активно участвовал в созданном Муравьевым комитете для написания истории русской словесности. Не успев опубликовать значительных печатных трудов, Баузе «много собрал и приготовил материалов для больших и важных сочинений. Особенные труды его обращены были на Политическую экономию, Историю литературы, Нумизматику, Дипломатику и Римское законоведение»[220]. Как юрист-теоретик Баузе принадлежал к господствовавшей в XVIII в. немецкой школе и излагал римское право на латинском языке по руководствам, принятым в германских университетах. Юриспруденция в его понимании — это комплексная наука, включающая в общем виде познание «справедливого и несправедливого», для овладения ею нужно пройти весь курс начальных знаний естественных наук и философии, обладать красноречием, знать языки, сочетать практические познания в области права и теорию. К теоретическому (положительному) праву он относит естественное и государственное право, этику и политику, к практическому — гражданское право и все виды приложений положительного права.
Наиболее выдающимся теоретиком права среди русских профессоров был Л. А. Цветаев. В отличие от Баузе, он получил образование в Париже, где стал членом Академии законодательства. Работы Цветаева написаны под влиянием французской энциклопедической школы, к которой принадлежали Монтескье, Пасторе и др., хотя Цветаев отлично знал и немецкое направление законоведения.
После произведения Цветаева в ординарные профессора, в 1810 г. вышел его учебник «Краткая теория законов». Написанная живо, хорошим литературным языком, эта книга показывает, что Цветаев имел незаурядный талант как юриста, так и писателя. Вот как объясняет он цель учебника: «Совет императорского Московского университета, приобщив меня к почтенному сословию ученых мужей, его составляющих, назначил мне преподавать Теорию Законов. Должен будучи по краткости годового учебного курса и по другим уважениям ограничить себя гражданскими и уголовными Законами, я выбрал было на первый раз руководителем себе г. Бернарди, знаменитого наших времен Французского Законоискусника, который не столько отвлечен, как Бентам, и не столько обширен, как Монтескье и Филанжиери; но скоро опыт показал, что он слишком краток, чтоб быть полезным для моих слушателей; зная, что большая часть из них будут исполнителями Законов, а не сочинителями оных, я почел за нужное, чтоб они и в самой Теории нашли некоторую часть практики для ближайшего приспособления правил оной, и чтоб имели полный план Уложения гражданских и уголовных законов. Итак, я решился составить для сего свою книгу по своему плану»[221].
В качестве источников для составления своей теории законов Цветаев берет отечественные законы, римское право, кодекс Наполеона, использует положения работ Монтескье, Филанжиери, Бентама, Беккария, Пасторе и др. В основе его изложения — идеи естественного права и общественного договора (в духе Гоббса) как вручения власти от народа к правительству. Естественные права человека включают прежде всего свободу, которая, однако, ограничена нравственным законом, безопасность (т. е. охрану жизни от посягательств) и довольствие (охрану и приумножение собственности). Важна мысль Цветаева о том, что содержание законов не абсолютно, но зависит от местных и культурных особенностей, религии, способа правления, обычаев, нравов народа, а также от эпохи. «Каждый век приводит с собой новый образ мыслей, новые нравы и обычаи, новые открытия в науках и художествах. Мудрый законодатель должен подданных своих знакомить со всем тем, что из вновь введенного полезно, и остерегать от всего того, что как для частных людей, так особенно для всего государства опасно. (Сие правило внушил мне опыт XVIII в. Если правители народов взяли меры против господствовавшей тогда французской философии, скольких бы зол избавили от себя и подданных своих!)»[222]
Как истинный ученый эпохи Просвещения, Цветаев верит, что общественное зло исправляется постепенным воспитанием. Разбирая вступление в брак, Цветаев ставит на первое место взаимное чувство, как высшую человеческую ценность. «Неравенство состояний и упорство родителей, на предрассудках иногда основанное, не суть непреодолимые преграды к браку, так же как и обряд не составляет сущности брака, но есть только утверждение оного».
В отдельной главе Цветаев исследует происхождение рабства, причем отдельно, как пришедших в рабское состояние от «Воли Государя», он относит к рабам крепостных крестьян России. Такая постановка вопроса в 1810-е гг., когда из печати официально исключалось слово «раб» для обозначения крепостных и власти старались замалчивать злоупотребления и жестокости помещиков, чтобы создать картину «патриархального согласия» между ними, была довольно смелой. Более того, Цветаев акцентирует внимание на обязанностях владельца по отношению к рабу — не убивать или забивать до смерти, оберегать от злоупотреблений властей, держать в довольстве, не умножать без нужды дворовых рабов — и подчеркивает право владельцев отпускать рабов на волю. Молодой Николай Тургенев, может быть, именно из лекций Цветаева вынес стойкую ненависть к крепостному рабству; так, после посещения одной из них он писал в дневнике: «Сегодня по обыкновению был на пяти лекциях. Цветаев говорил о преступлениях разного рода и между прочим сказал, что нигде в иных случаях не оказывают более презрения к простому народу, как у нас в России»[223]. Деятельность Цветаева значительно повлияла на развитие юридической науки в Московском университете, обогатив ее духом французского энциклопедизма и систематизировав изложение предмета.
Курс практического российского законоведения был призван научить студентов ориентироваться в конкретных судебных делах при условии существования целого моря законодательных актов: от Соборного уложения 1649 г. до самых новейших, в том их виде, часто противоречивом и запутанном, в каком они находились до издания Полного собрания и Свода законов Российской империи. Основное внимание оба лектора (Горюшкин, а с 1811 г. Сандунов) уделяли разбору частных примеров, построенному как театральное действо[224]. В особенности Н. Н. Сандунов, обладавший, как и его брат, яркими актерскими дарованиями, отличался страстью к инсценировкам на занятиях. Для этого из Сената он приносил настоящие судебные дела и устраивал в аудитории судопроизводство, с несколькими судебными инстанциями, которые представляли группы студентов, изображавших членов суда, секретарей, поверенных тяжущихся сторон и пр. Наибольшую трудность для студентов составляло чтение сенатской скорописи, но те из них, кому это требовалось в дальнейшем, получали на занятиях необходимый практический навык, для остальных же судебные инсценировки были занимательным развлечением, в котором все участвовали с охотой и возбуждением, так что и университетский экзамен сдавали без труда. «Когда доложили профессору о приближении экзаменов и спросили, что он прикажет приготовить к ним, — Ничего, батиньки, отвечал он, по любимейшей его поговорке, вы будете говорить все, что слышали и делали — и ожидание его с чрезвычайным успехом исполнилось[225].
Преподавание политической экономии, предмета в то время нового и поэтому вызывавшего определенный интерес студентов, вел X. А. Шлецер, сын знаменитого историка. В 1805 г. по поручению попечителя он издал на немецком языке свой учебник — „Начальные основания Государственного хозяйства“, первое в России сочинение такого рода, в котором Шлецер строго придерживался учения Адама Смита. Это первое руководство по политической экономии сыграло свою роль в учебном процессе, поскольку вообще к началу XIX в. еще не сложилось систематического курса по этому предмету. Однако „сухость изложения и сжатая форма гораздо более вредили его распространению и успеху, нежели некоторые неважные ошибки и недостатки предмета“[226]. Студенты хотя и уважали профессора, не очень любили посещать его лекции, где, излагая новый материал, Шлецер с трудом подбирал необходимые термины, несколько раз меняя язык преподавания. Можно вспомнить отрицательную оценку содержания этих лекций таким любителем политэкономии, как Н. Тургенев.
Самой яркой личностью из приглашенных Муравьевым иностранцев, оставившей глубокий след в истории университета, был профессор И. Т. Буле. На его плечи падала огромная учебная нагрузка: в период с 1805 по 1807 гг. Буле каждый день читал по 4 приватные лекции, не считая занятий в университете, работал над изданием „Московских ученых ведомостей“ и „Журнала изящных искусств“; выпускал различные научные статьи, следил за новинками русской литературы и участвовал в обсуждении проблем развития русской исторической мысли и т. д. Можно с определенностью сказать, что Буле был ключевой фигурой в реализации плана Муравьева по перестройке системы образования в Московском университете по европейскому образцу. Приходится только сожалеть, что в капитальной „Истории Московского университета“ (1955) его имя дается лишь в качестве примера того, как профессора-иностранцы „вредили“ развитию отечественной науки, препятствуя в данном случае открытию кафедры славяно-российской словесности. Не говоря уже о том, что выступление Буле против кафедры никак не отражает его истинного отношения к русской культуре — мы уже убедились в предыдущей главе, что в этом конфликте профессор был совершенно прав.
К особым заслугам Буле перед русской наукой следует отнести выпуск им в течение трех лет еженедельной газеты „Московские ученые ведомости“. Необходимость такой газеты для университета указывалась попечителем Муравьевым еще в ранних редакциях устава, где была статья о том, что „при университете издаются два раза в неделю ученые ведомости, содержащие рассмотрение всех новых книг и отправлений почты как в наших, так ri в чужих краях“. Первый номер газеты вышел 7 января 1805 г. Образцом для ее создания послужили имевшие уже полувековую историю „Геттингенские ученые ведомости“ (Göttingische Gelehrte Anzeigen), в сочинении которых Буле также принимал участие. Основные материалы представляли собой критические разборы книг, статей или ученых выступлений, располагавшиеся по разделам, соответствующим их наукам (один разбор часто занимал несколько номеров). К кратким заметкам относились объявления об учении в университете, заседаниях научных обществ, выходящих в университетской типографии книгах, астрономических наблюдениях и пр. Можно смело утверждать, что тонкий научный вкус Буле не упускал ничего из того важного, что появлялось в европейской науке: в газете можно прочесть о выходе полного текста Повести временных лет, выпущенного А. Л. Шлецером, и новом английском издании пьес Шекспира, статьях Шеллинга и Гёте, приборах для измерения магнитного склонения и новооткрытых видах животных. Тем удивительнее, что Буле занимался изданием газеты практически в одиночку; почти все материалы, кроме нескольких статей Гольдбаха, Маттеи, Рейнгарда, Штельцера и Цветаева, были написаны им, а переведены Н. Ф. Кошанским, также вложившим в нее много сил. Особенно яркие разборы Буле посвящены, конечно, греческой филологии: так, желая прокомментировать находку одной греческой надписи в Причерноморье, профессор убедительно опровергает ее неверное прочтение и дает новое правильное истолкование[227].
Тем не менее, профессор не видел заметного отклика на свой труд. Число читателей было невелико, а главное, русские профессора оставались практически безучастны к изданию, хотя на совете Буле неоднократно поднимал вопрос о назначении редактором газеты именно русского ученого[228]. Как известно, после смерти Муравьева лишившись поддержки, Буле вынужден был прекратить издание „Ученых ведомостей“.
Чтобы в полной мере оценить новации, которые Буле внес в преподаваемые им науки, и место, занимаемое им в научной жизни университета, нам необходимо коснуться мировоззрений Буле, философских и этических посылок, которые он передавал своим студентам. (Например, общеизвестно влияние профессора на формирование личности Грибоедова: поэт неоднократно говорил об этом и в беседах с друзьями и на следствии по делу декабристов.) Дело в том, что Буле, являясь одним и; ведущих знатоков античности, рассматривал ее изучение качественнс новым образом. В типологии русской культуры начала XIX в. такоё подход вошел под названием „романтизированной классики“, найдя теоретическое воплощение в эстетических трудах раннего русского романтизма („молодые архаисты“), а равным образом отразившись в бытовом поведении и формирующемся этическом идеале декабристов[229]. Для мировоззрения Буле такое восприятие античности, при котором не первое место ставились проблемы гражданского и нравственного самосознания, было составной частью идей зарождающейся в те годы немецкой философии (Фихте, Шеллинг), имевшей отчетливую национально-романтическую окраску, обусловленную освободительной борьбой Германии против Наполеона. Увлечение античностью как образцом для подражания в жизни и в культуре и, одновременно, стремление подчеркнуть национальное своеобразие, внимание к народу как к источнику национальных черт, его истории и быту — это была основа новой эстетики, которая, возникнув в Германии, получила в России особое развитие во взглядах декабристов (в т. ч. Грибоедова), в соотнесении с той ролью, которую сыграл русский народ в Отечественной войне 1812 г.
Буле читал с университетской кафедры лекции по истории философии, естественному праву, философским системам Канта, Фихте и Шеллинга, логике и опытной психологии (на нравственно-политическом отделении), истории и теории изящных искусств, греческой и римской литературе на словесном отделении. В его „Журнале изящных искусств“ (выходившем в 1807 г.) мы находим как статьи по истории искусства, основанные на трудах немецкого антиковеда Винкельмана, так и теоретические работы, например, обосновывающие восприятие в искусстве исторических сюжетов сквозь призму античности, характерное для русского ампира (статья о проекте памятника Минину и Пожарскому работы Мартоса).
Как философ, по мнению современного исследователя, Буле относился к серьезным, хотя и не оригинальным мыслителям. „Последователь и популяризатор теорий Канта, Буле был одним из первых эклектиков, философом, ищущим утверждения истин критической философии в тех отраслях ее, которые имели прямую связь с реальной деятельностью, с вопросами воспитания человеческой личности. С этих позиций Буле обращался и к Джону Локку, обосновавшему теорию права, идею конституции, и к социальной философии Фихте, и к сенсуалисту Кондильяку“[230]. Название одного из лекционных курсов Буле („Опытная психология“) отсылает нас к книге Дежерандо, последователя Кондильяка, видоизменившего его учение в духе экспериментального метода. Эту книгу, подарок профессора Буле, хранил у себя Грибоедов.
В области теории искусства Буле опирался на работы теоретиков романтизма — братьев Августа и Фридриха Шлегелей, среди которых одной из основных идей было признание полной свободы поэтического творчества. Интересно, что А. Шлегель в качестве одного из спутников госпожи де Сталь в 1812 г. посетил Россию[231] и, зная Буле еще по Геттингену, возможно, познакомился через него с молодым Грибоедовым. Внимание к национальным истокам творчества сближало эстетику Буле с идеями Бюргера — основателя нового направления немецкой поэзии, противопоставившей яркие краски народной фантазии сентиментальной лирике, вокруг которого развернулась полемика „младоархаистов“ (Катенин, Грибоедов) с Жуковским и карамзинистами[232].
Буле не только пропагандировал в России идеи немецкой философии и эстетики, но и желал развития здесь собственной национальной культуры, изучения русской литературы и истории. Как исследователь русской истории Буле углубляет научный подход, впервые по отношению к ней примененный в трудах А. Л. Шлецера, предусматривающий необходимость тщательной публикации и критического анализа источников. Буле обращает внимание на возможность составить историю народов, населявших территорию России до IX в., основываясь не только на Повести временных лет, но анализируя показания античных авторов, Геродота, Страбона и др. В отличие от мнения Шлецера, считавшего эти сведения целиком баснословными, профессор полагает, что если критически рассмотреть их сочинения, восстановить хронологический порядок, опустить мифологическое (т. е. носящее отпечаток традиционной греческой мифологии), то можно получить достоверные сведения. Для этого „должно вникнуть в дух самих писателей, или в источники, из которых они взяли свои сказания; и притом исследовать, были ли они правдивы, или склонны к мелочам, выдумкам и пустым примечаниям, сведущи ли были, или не сведущи, и более или менее способны к исполнению своего предприятия“[233]. По мнению Буле, истинные историки, хотя таковые и редко встречаются, должны „заключать из происшедшего не более и не менее того, что позволяет достоверность свидетелей и строгая истина“[234].
Отношение Буле к процессу становления русской исторической науки и культуры в целом лучше всего характеризует следующий отрывок: „Один только Русский Ученый, или хотя иностранец, но живший долго в России и вникавший в состояние оной, в свойства языка и различных наречий — они одни только могут хорошо написать Историю Российскую и объяснить древности народов, населявших некогда Россию. Если бы почтенный Геттингенский Издатель и Переводчик Несторовой летописи, если бы другие Германцы не жили в России, то едва ли бы Российская История одолжена была им столько, сколько она одолжена в самом деле. Однако ж и они имеют свои недостатки, которые могут исправить одни только Русские Ученые. История, которой Россия ожидает от своего Историографа г-на Карамзина, без сомнения покажет нам, в чем превосходит иностранцев Русский, ищущий сравниться с ними в проницательности ума и глубокой учености“[235]. Следует еще отметить, что свои идеи относительно русской истории Буле хотел применить на практике, издавая Versuch einer Kritischen Literatur der Russischen Geschichte („Опыт критической историографии русской истории“; в 1810 г. успел выйти только один том, посвященный в целом античной историографии Северной Европы)[236].
На словесном отделении, кроме Буле, занимавшего здесь кафедру теории изящных искусств и археологии, преподавали профессора: X. Маттеи — греческий язык и словесность, П. А. Сохацкий — латинский язык и древнюю литературу, а с 1805 г. также курс эстетики, Р. Ф. Тимковский, который после смерти Сохацкого (1809) и Маттеи (1811) вел оба древних языка и комментировал античных писателей; Н. Е. Черепанов — всемирную историю, И. А. Гейм — историю, статистику и географию Российского государства, X. А. Чеботарев (до 1804 г.), М. Г. Гаврилов, а с 1805 г. и А. Ф. Мерзляков — красноречие, стихотворство и язык российский. В 1811 г. Гаврилов стал ординарным профессором на открывшейся кафедре славяно-российской словесности, а на кафедру теории изящных искусств вместо Буле был назначен М. Т. Каченовский. В том же году преподавание восточных языков в университете начал адъюнкт А. В. Болдырев.
Для преподавания древних языков, которым Муравьев уделял значительное место в новой образовательной программе, был приглашен один из лучших знатоков античной литературы, профессор Виттенбергского университета Христиан Фридрих Маттеи, „истинно ученый и просвещенный муж, пользовавшийся величайшим уважением во всем ученом европейском мире“[237]. Профессор уже работал в Московском университете с 1772 по 1784 г., одновременно разбирая, согласно желанию Екатерины II, богатейшие коллекции древних рукописей в библиотеках Св. синода и Синодальной типографии. Это был огромный и уникальный по своему масштабу труд, проделанный одним человеком. Благодаря своим познаниям Маттеи мог свободно читать греческие рукописи всех времен, написанные на различных диалектах, разными почерками и с разными аббревиатурами. В числе рукописей, найденных Маттеи, оказалось много очень важных по своей древности, или по содержанию, или по исправности текста. Неизвестные рукописи были им изданы целиком или в отрывках. Полный каталог античных рукописей, находящихся в московских библиотеках, был закончен и напечатан Маттеи в его второй приезд в Россию в 1804 г. За свои труды профессор неоднократно удостаивался наград от императора.
Ученики, слушавшие лекции Маттеи в 1800-е гг., сохранили образ приветливого, благожелательного, но требовательного профессора колоссальной эрудиции и учености. „В преподавании он старался не о наружном блеске и увлекательности лекций, но о их существенной пользе и достоинстве науки. Избранные им предметы для чтения он сам заблаговременно обсуждал со всею основательностью и подробностью, выписывал замечания и объяснения на оные из других писателей и с благоразумной критикой передавал их своим слушателям“. В отличие от многих профессоров, Маттеи любил сам беседовать с учениками. Боровков вспоминает, что Маттеи „установил, что пред каждою лекциею один из студентов, по очереди, приходил к нему возвестить: domine professor! tempus est eundi in classem. Он собирался медленно, шел тихим шагом вместе с студентом, разговаривая по-латыни, этим способом он знал степень познания каждого студента“[238]. Учившийся в 1805 г. у Маттеи В. И. Лыкошин также тепло отзывался о профессоре: „По отъезде матери перешли мы на пансион к Маттеи, пользующемуся европейской известностью по глубокому знанию греческого языка; этот старик был деканом словесного факультета; весьма добродушный, простой в общении; я, как теперь, вижу его высокую фигуру в колпаке, прикрывающем его лысую голову, его высокий лоб, умные и добрые черты его лица“[239].
Сменивший Маттеи на кафедре древних языков профессор Р. Ф. Тимковский относился к тем незаурядным личностям, которые прославили бы российскую науку, если бы ранняя смерть не пресекла их деятельность. Один из замечательной плеяды братьев Тимковских, путешественников, ученых, писателей, государственных деятелей, оставивших след на самых различных страницах русской истории[240], уроженец деревни Згарь Золотоношского повета Полтавской губернии, Р. Ф. Тимковский родился в семье бедного чиновника и воспитывался у своего дяди в Киево-Печерской лавре. Проявив себя блестящим учеником в Киевской академии, он был переведен в Московский университет, откуда в 1806 г. по распоряжению Муравьева в числе первых студентов отправился продолжать обучение за границей. Испытав ужасы голода в разрушенной войной Германии, Тимковский вместе со своим товарищем А. В. Болдыревым добрался до Геттингена, где влился в шумную семью русских студентов. Даже для будущего декабриста, влюбленного в политэкономию и философию Николая Тургенева, учившегося тогда в Геттингене и разделявшего тамошние студенческие забавы, безупречно строгое поведение Тимковского и его страсть к науке казались чрезмерными.
Научная и литературная деятельность Тимковского началась еще до отъезда за границу, когда в 1803 г. вышел его перевод Оссиана (с немецкого издания). Его магистерская диссертация „О дифирамбах и их употреблении у греков и римлян“ (1806) вызвала благоприятный отклик профессора Буле, который писал: „Рассуждение сие тем большую заслуживает похвалу, чем оно важнее по своему содержанию, относящемуся к такому предмету древней классической литературы, который до сих пор еще не был довольно обработан и объяснен, так как подобные занятия при всей их пользе и необходимости для усовершенствования наук в России очень редки между нашими русскими молодыми людьми; оно может также для прочих служить примером и образцом к подражанию“[241].
Известность и награду монарха принес Тимковскому выполненный им по заказу Муравьева в 1806 г. комментированный перевод Федра, который, впрочем, сам переводчик считал несовершенным, сделанным наскоро перед отъездом в чужие края. Вернувшись в Россию в 1809 г., Тимковский приступает к преподаванию в Московском университете древней литературы и через год становится экстраординарным профессором (в 25 лет!). На разных курсах он объяснял и комментировал практически всех значительных писателей Греции и Рима. „Напитанный чтением классических писателей, он приобрел ту определенность, ясность и порядок, с каким выражался при письме и на словах, и не только на отечественном, но и на латинском языке, который сделался для него как бы природным“. Студент, слушавший его лекции, вспоминает: „При объяснении Древностей охотно раскрывая нам прекраснейшие места из классиков, он, однако, никогда не пускался в эстетический разбор красот их, оставляя слушателям самим их чувствовать. Но из выбора этих мест было видно, что он был проникнут их красотами. Я знаю достоверно, как он восхищался латинскими поэтами и в особенности Овидием в его Превращениях и Фастах… Но еще более увлекали его высокие уроки нравственности, рассеянные в древних писателях. Разговаривая со мной однажды о несчастьях и горестях, сопровождающих жизнь человеческую, он сказал мне: читайте Цицероновы беседы Тускуланские, они много принесли мне пользы и утешения в скорбях моих“[242].
Латинская речь Тимковского о греческих и римских доблестях, произнесенная в торжественном собрании 1811 г., вызвала всеобщее восхищение как образец изящества и простоты латинского стиля. Престарелый Маттеи видел в бывшем своем ученике преемника, который превзойдет учителя.
Талант и увлечения Тимковского касались не только древних языков. Из новых языков он владел немецким, французским, английским и польским, любил философию и не последнее место в своих занятиях отводил истории. По просьбе Общества истории и древностей российских Тимковский начал публикацию Повести временных лет по Лаврентьевскому списку с критическим анализом языка Нестора. Профессор поставил под сомнение распространенное в XVIII в. утверждение, что Нестор является также автором Киево-Печерского патерика, указывая на несходства этих памятников. Тимковскому также принадлежит, к сожалению утраченный, комментарий к „Слову о полку Игореве“. Пример Тимковского показывает нам, каким образом первые специалисты в области изучения древнерусской литературы происходили из филологов-классиков, которым доскональное знание древних языков позволяло лучше понимать свой собственный.
Напряженный труд, ослаблявший зрение, и болезни подорвали здоровье Тимковского, который умер в 1820 г. в возрасте 35 лет, не успев закончить многие из задуманных работ.
П. А. Сохацкий, профессор эстетики и древней словесности до 1809 г., принадлежал к поколению ученых прошлого, XVIII, века. Как знаток античной литературы, он был одним из учителей Тимковского, а в преподавании эстетики сочетал „свои сведения в древней словесности с новейшими взглядами философов и критиков своего времени“, выстраивая перед студентами стройное здание эстетики классицизма, развившегося в конце XVII–XVIII вв. во Франции и обогащенного античными исследованиями и воззрениями Винкельмана. Из новых трудов Сохацкий перевел и издал учебник эстетики Мейнерса, геттингенского корреспондента Муравьева.
Лекции Сохацкого по эстетике привлекали многих студентов. В них профессор доказывал, что „необходимым условием истинно изящного произведения должно быть сочетание внешней прекрасной формы с таким внутренним содержанием, которое в основании своем имеет истину, правильность, благоприличие и благородство“. Источником художественного представления являются идеальные образцы, примером которых для Сохацкого служат творения античности. Соединяя с чувством красоты понятие о стройности, гармонии и спокойствии, Сохацкий тем самым выступает как убежденный критик романтизма, видя в нем „мрачность, какую-то эстетическую темноту“, противостоящую радостной и светлой классике, признак упадка искусств и „изнеможения гения“[243].
С 1793 г. Сохацкий отстаивал свои взгляды в выпускаемом им журнале (имевшем различные заголовки, с 1802 г. — „Новости русской литературы“). Характерно, что Карамзин никогда не принимал участия в журналах Сохацкого и даже был осмеян там в одном из стихотворений, принадлежавшем перу Голенищева-Кутузова. Вместе с Сохацким в 1790 г. начал издавать свой журнал профессор российской риторики М. Г. Гаврилов, бывший до этого преподавателем немецкого языка. В его „Историческом, статистическом и географическом журнале“ помещались в основном немецкие переводы из Гамбургского журнала, а также небольшие сочинения издателя. Лекции Гаврилов читал по руководству Ломоносова.
П. А. Сохацкий вместе с Гавриловым и некоторыми другими профессорами послужил связующим звеном, через которое идеи классицизма в русской литературной критике перешли в XIX век и нашли свое новое яркое воплощение в работах А. Ф. Мерзлякова.
На 1804–1812 гг. приходится наиболее плодотворное в творческом отношении время работы Мерзлякова в Московском университете — годы молодости, литературной славы, популярности в студенческой среде. Его стихи выходят во многих московских журналах. Занимая своего рода официальную должность первого стихотворца Московского университета, Мерзляков одновременно с торжественными одами на заказ пишет стихи совершенно другого характера, переводит античную лирику. В 1810 г. в подмосковном имении своих друзей Жадочи он создает замечательный цикл песен, среди которых прославленный романс „Среди долины ровныя…“[244] Для раннего поэтического творчества Мерзлякова характерно стремление создать образцы русской героической поэзии, приближаясь к духу суровой античной поэзии гражданских подвигов. Интерес к античности, как к подлинному народному миру, переполненному жизненной силы, обусловил в дальнейшем обращение Мерзлякова к русскому национальному стихотворному богатству, когда поэт, развивая идеи Дружеского литературного общества, в публичной речи 1808 г. выдвинул принцип создания национально-самобытной литературы. При этом Мерзляков не принимал как „легкую поэзию“ последователей Карамзина, так и позицию романтического индивидуализма, и в борьбе с ними обращался к традициям XVIII в. Эта тенденция впоследствии отдалила его от новых путей развития поэзии, заставляя видеть в Мерзлякове отпечаток архаизма[245].
С университетской кафедры А. Ф. Мерзляков читал риторику, поэзию, российское красноречие. Руководством по этому курсу служил немецкий учебник Эшенбурга, вышедший в 1822 г. в переводе Мерзлякова под названием „Краткое начертание теории изящной словесности“. Однако эта книга, авторство которой часто ошибочно приписывают самому Мерзлякову, далеко не полностью отражает его эстетические идеи. С одной стороны, в своих критических статьях 1810-х гг., а также в частично опубликованном курсе лекций, которые профессор читал весной 1812 г. в доме кн. Б. В. Голицына, Мерзляков дает наиболее развернутую в русской критике классицистическую концепцию сущности искусства, восходящую к трудам Батте и Буало.
„Разработанные им некоторые общие принципы эстетики как науки, в особенности, решение Мерзляковым проблемы отношения искусства к действительности (где подчеркивался его идейно-воспитательное значение), сохранили свою ценность. Идеи Мерзлякова противостояли некоторым ретроградным сторонам эстетики романтизма как зарубежной, так и отечественной, и в этом отношении он стоял на тех же позициях, что и декабристы“. С другой стороны, „как и всякий переходный этап, эта теория содержала в себе черты и старого, и нового, проистекающие из критики классицистического искусства, которую давал сам же Мерзляков, так что эту критику можно считать самокритикой классицизма, из обобщения опыта классицизма и стремления наметить пути вскрытых анализом несовершенств и пороков, из разработки коренных проблем эстетики“[246]. В качестве лидера передовой русской критики 1810-х гг. Мерзляков являлся непосредственным предшественником декабристов[247].
Письма Мерзлякова к В. А. Жуковскому и другие источники дают нам уникальную возможность проследить, как формировался сам облик профессора от его первого появления перед учениками до завершения преподавательской деятельности. Летом 1803 г. Мерзляков, блестяще окончивший университет, окруженный друзьями по Дружескому литературному обществу (из которых один — Жуковский — живет сейчас в деревне), мечтает о поэтической славе, готовится ехать в Петербург. Однако 24 августа он пишет другу: „Университет, согласно с твоим желанием, не хочет отпустить меня теперь в Петербург. На тебя не могу сердиться за это желание, но университету долго не забуду этого. Сегодня еду в первый раз учить класс Алтонского“. Через некоторое время он делится с Жуковским первыми впечатлениями: „Я пустился во все ученые мытарства. У меня на руках класс Антонского и часть класса Чеботарева. Я для этой каторги еще новичок. Пишу, перевожу, выписываю, составляю, одним словом, хочу быть со временем путным профессором“. Таким образом, первый год преподавания сопровождается добросовестным трудом, искренним желанием Мерзлякова улучшить изложение предмета. Как он сам замечает, „нынешние мои университетские занятия полезны для меня самого. Может быть, никогда не принудил бы я себя столько прочесть, сколько прочитал в эти четыре месяца“. Однако поэт вовсе не думает о профессорской карьере, он полон иных планов, мечтает целиком предаться любимому занятию — стихам: „Ученые Московские живут точно так, как ты, — обращается он к Жуковскому, — и переход в деревню из университета очень недалеко. Я ограничил себя в рассуждении времени, которое должно мне пробыть в университете; года два, не больше, и я вольная птаха“ (7.07.1804 г.)[248].
Два года приносят Мерзлякову и удачу и горе. Состоялась долгожданная поездка в Петербург („это драгоценнейшее время всегда вспоминает он!..“[249]), но обосноваться там надолго не удалось, а затем умирает Муравьев, и с ним все надежды на быстрое продвижение по службе. Профессор должен остаться в университете. Правда, своим обиходным поведением он выделяется из других ученых. Он фрондирует своей поэтической небрежностью, часто не посещает лекции и в быту легко переходит грань, которая отделяет условность ученых манер внутри университета и вне его: Н. Тургенев упрекает Мерзлякова за то, что он „в кофейной говорит как на кафедре“. Поэтическая натура более всего сказывается на лекциях Мерзлякова, где он выступает как вдохновенный импровизатор. Живший на пансионе у профессора Свербеев вспоминает эти занятия в 1813–1815 гг.: „Сколько раз случалось мне, почему-то его любимцу, прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции; тогда второпях начинал он пить из огромной чашки ром с чаем и предлагал мне вместе с ним пить чай с ромом. „Дай мне книгу взять на лекцию“, — приказывал он мне, указывая на полки. „Какую?“ — „Какую хочешь“. И вот, бывало, возьмешь любую, какая попадется под руку, и мы оба вместе, он восторженный от рома, я навеселе от чая, грядем в университет. И что же? Развертывается книга, и начинается превосходное изложение. Какого бы автора я ему ни сунул, автор этот втеснялся во всякую рамку последовательного его преподавания; и басня Крылова, если она подвернется, не мешала Мерзлякову говорить о лиризме, когда в порядке, им задуманном, нужно было говорить о лириках“[250].
Преподавание истории в Московском университете в первое десятилетие XIX в. было довольно слабым. Среди объективных причин, приводивших к этому, можно назвать еще недостаточную разработанность основных тем русской истории, которая фактически только создавалась под пером Карамзина. Профессоров, знавших всемирную историю на достаточно высоком уровне, в университете не было. В 1803–1804 гг. в числе публичных лекций X. А. Шлецер прочитал курс истории европейских народов до Карла V по введению, написанному английским историком Робертсоном к своему труду о Европе XVI в., однако в следующем году эти лекции прекратились. Основным же пособием по истории Европы был немецкий учебник Шрекка „Древняя и новая Всеобщая история“, переведенный и изданный в Москве только в 1814 г. профессором Н. Е. Черепановым. Этот профессор на протяжении двух десятков лет вел занятия всемирной истории в Московском университете и Университетском благородном пансионе, вызывая бесчисленные нарекания студентов за косноязычие и безграмотность в изложении предмета. „Профессор всеобщей истории Никифор Евтропиевич Черепанов был бичом студенческого рода. Он умерщвлял в нас всякое умственное стремление к исторической любознательности, будучи сам воплощенной скукой и бездарностью. И такого-то профессора в коротко обстриженном рыжем парике, в коричневом полинялом фраке, в пестром жилете, в желтых панталонах с пятнами, немытого и с небритой бородой, обязаны мы были слушать в послеобеденное время с 2-х часов до 4-х без перерыва. Такую пытку пришлось мне выдерживать целые два года и прослушать бессвязные его сказания об Ассирийской, Вавилонской, Мидийской и Персидской монархиях с самыми сухими подробностями и в непонятном переводе древних историков“[251].
Преподавание российской истории, географии и статистики с 1786 по 1821 г. вел профессор И. А. Гейм. Его основные интересы также были далеки от истории. Гейм читал курсы коммерческих наук, землеописания (географии), статистики российской и главнейших государств и даже нумизматику (по богатейшей университетской коллекции монет). Свой искренний интерес к экономическим и торговым наукам он умел передать студентам, а в 1815 г. Н. Тургенев прислал Гейму как первому своему наставнику экземпляр напечатанного „Опыта теории налогов“, впрочем не вызвавшего одобрения учителя[252].
Свою лепту в преподавание истории в этот период внес и М. Т. Каченовский, читавший с 1808 по 1810 г. последовательно три периода русской истории (с древности до Ивана III). Оценивая преподавательскую деятельность Каченовского тех лет, не удается отметить в его взглядах оригинальность или последовательность в построении своей системы. За образец для подражания он выбирает труды Шлецера, близко следуя его изложению; в этом же духе написаны и статьи по истории в „Вестнике Европы“. По свидетельству П. И. Голенищева-Кутузова, за буквальное следование Шлецеру упрекал Каченовского И. Т. Буле, всячески подчеркивавший значение трудов „первого и славнейшего из российских историков“ Карамзина. Истоки ревности Каченовского к Карамзину, вызвавшей известные нападки на Историю Государства Российского в „Вестнике Европы“, можно видеть еще в университетском противостоянии друзей и соперников историографа, о котором шла речь в предыдущей главе.
Указанное состояние исторической науки в Московском университете начала XIX в. нашло свое отражение и в характере деятельности Общества истории и древностей российских. Основанное в марте 1804 г., оно стало первым научным обществом при университете. Предыстория его основания такова: в 1802 г. в Геттингене под редакцией A. JI. Шлецера впервые появился в печати основной источник сведений о начальных годах русского государства — Повесть временных лет. Это издание было отмечено благодарным рескриптом Александра I, Шлецер был награжден орденом св. Владимира 4-ой степени, получил российское дворянство и тогда же предложил Александру увековечить свое царствование выпуском полного свода всех сохранившихся древних летописей, чему сам Шлецер готов был оказывать посильную помощь. Идея понравилась императору, и он поручил Завадовскому организовать для этой цели научное общество, а министр передоверил это поручение Муравьеву и находящемуся под его ведением Московскому университету. Если Завадовский, считавший, согласно отзывам современников, что русская история приятна от начала просвещения при Петре I, а до того — скучна и бессмысленна, едва ли подходил для основания такого общества, то в лице Муравьева предложение Шлецера встретило горячего сторонника, искренне интересовавшегося русской историей, сановного покровителя Карамзина. Для Муравьева Карамзин был тем человеком, который пишет историю, а новое общество должно помогать этому процессу, собирая и обрабатывая материал.
Желая придать обществу и его работе значимость, Муравьев поручает его формирование непосредственно совету университета, так что во главе общества оказывается ректор, а среди членов — прочие профессора, заседавшие в совете. От их имени 7 марта 1804 г. ректор Чеботарев благодарит министра за оказанное университету доверие и обещает „употребить всю деятельную ревность“. Почетными членами общества объявили А. Л. Шлецера, А. И. Мусина-Пушкина, Н. Н. Бантыш-Каменско-го, А. Ф. Малиновского и Н. М. Карамзина.
Активное участие в деятельности общества Н. М. Карамзина могло бы определить направление и характер его работы. Чеботарев дружил с Карамзиным и надеялся на его помощь, этого же желал и Муравьев. Однако позиция Карамзина была однозначно им сформулирована в одном из писем к попечителю: „Десять обществ не сделают того, что сделает один человек, посвятивший себя историческим предметам“[253].
На первом заседании, где присутствовали Мусин-Пушкин, Карамзин, профессора Чеботарев, Страхов, Сохацкий, Снегирев и Черепанов (а позже в члены общества вошли Гаврилов, Гейм, Рейнгард, X. Шлецер, А. Чеботарев и др.), была объявлена цель общества, а именно критическое издание русских летописей. Министр предоставил обществу право сличать различные списки, для чего по высочайшему повелению сюда должны доставляться рукописи из архивов, центральных и местных, а из Петербургской Академии Наук Муравьев собственноручно привез в Москву бесценный Кенигсбергский список Повести временных лет, относящийся к XIV в.
К сожалению, эти приготовления оказались напрасными. Уже с самого начала члены общества, поставив себе узкую цель издать один из списков Нестора (Лаврентьевский), над чем работали профессора Чеботарев и Черепанов, превратились лишь в помощников издателей. Заседания проходили нерегулярно; из них замечательно только одно, состоявшееся 21 апреля 1805 г., когда был объявлен конкурс работ с заданием объяснить, „кого имеет в виду Нестор под Волохами, и откуда они происходят“. Через год из 5 поданных решений лучшим был выбран труд, принадлежавший X. Шлецеру. Члены общества решили не присуждать ему награды, как одному из своих товарищей, ссылаясь, при отсутствии собственного устава, на порядок, принятый в иностранных академиях.
За 6 лет существования Общество выпустило 10 листов летописи (все экземпляры, видимо, сгорели в 1812 г.). К 1810 г., когда в университете появился новый попечитель Голенищев-Кутузов, заседания Общества собирались крайне редко и его видимая деятельность не обнаруживалась. Раздраженный таким состоянием дел, Кутузов 14 декабря 1810 г. закрыл Общество, с тем чтобы учредить другое, с более деятельными членами. Помимо очевидных причин определенную роль для Кутузова сыграла близость многих членов Общества к Карамзину, вызывавшему его резкое неприятие.
Активность Кутузова инициировала, очевидно, некоторые ответные действия Карамзина в защиту старого ОИДР и его членов. Вот как излагает это сам Кутузов в письме к министру Разумовскому, одновременно показывая нам реальность дружеских и ученых связей университетских профессоров с Карамзиным. „За нужное почитаю донести в. с., что г. историограф Карамзин сегодня (т. е. 02.12.1810) отправляется в Петербург, и по достоверным известиям, едет именно нарочно для того, чтобы действовать противу вас и, яко депутатом от всего Исторического общества, просит, что они все несправедливо обижены. Между прочим один из его знакомых вопрошал его, зачем он едет, то он ему отвечал: затем, чтобы Разумовский и его все затеи полетели к чорту… Поехал он в Петербург не за добром, а с великими замыслами и интригами, вся его партия здесь уже заранее ему как идолу поклоняется, думая, что он будет случайным человеком. Профессора наши курят фимиам пред ним, и многие были в первый день праздника с визитом, а у меня не были… Историею же своею, коей еще не видал никто, или весьма малое число людей видели, хвастает он заранее, что все наши хроники, все писатели прежде него врали, а он откроет свет в нашей истории!.. Нестор бредит, по его мнению, яко глупый монах, и вот развязка, почему Нестора нарочно в угождение ему Чеботарев не дал издавать, дабы дать время выдать историю и дабы издание Нестора не ускорило и не изобличило бы игривости г. историографа, и не опровергло бы всех его вымыслов и фантазий“[254].
Пристрастный в своих обвинениях Кутузов, не желая того, приоткрывает нам часть причин, обусловивших медленную работу ОИДР по изданию летописей и позволяет несколько оправдать его вялую деятельность в последние годы. По-видимому, углубляясь в работу над Историей Государства Российского, Карамзин все яснее понимал необходимость критического отношения к тексту русских летописей, их подробного комментирования, которое требовало больших затрат сил и времени и не способствовало их быстрой публикации. Вместе с тем, акцент в работе общества перешел на личное общение его членов (в особенности Чеботарева) с Карамзиным, который знакомил их с главами своего труда, обсуждая с ними возникающие проблемы. Желая сохранить людей, с которыми историограф нашел общий язык, его единомышленников, Карамзин и ратовал за сохранение старого ОИДР.
Опасения Кутузова не оправдались: ОИДР было закрыто 14 декабря, а уже через восемь дней попечитель пригласил к себе домой на частное заседание своих друзей и знакомых: П. П. Бекетова, П. И. Фитингофа, П. И. Суворова, И. А. Двигубского, С. Н. Глинку, А. А. Перовского, П. М. Дружинина, Р. Ф. Тимковского и др., с тем чтобы в витиеватой речи, до которых он был охотник, еще раз упрекнув старое общество в отсутствии устава и нерадивости, огласить присутствующим составленные им „правила“ ОИДР. Этот проект устава был единогласно одобрен и подписан для отправления министру, после чего Кутузов, торжествен» но отклонив просьбы гостей об избрании его главой общества, предложил в председатели П. П. Бекетова, писателя, издателя, известного в Москве своим литературными связями, мецената, коллекционера, любителя русской старины. Его ценным свойством было умение сохранять одинаково добрые отношения с людьми различных литературных партий[255]. Новым секретарем общества стал И. А. Двигубский, исполнявший одновременно, как и прежний секретарь общества Сохацкий, обязанности секретаря университетского совета.
Устав расширил программу общества, которое уже не только издавало бы летописи, но и занималось сбором предметов старины, должно было критиковать различные сочинения по русской истории, а главное, ежегодно публиковать одну книгу своих трудов и издавать журнал, куда «будут помещаемы древние анекдоты, трактаты, грамоты, описания древних обрядов, посольств и других происшествий, не напечатанных и в архивах хранящихся». Кутузов требовал в уставе, чтобы за определенное время выходило не менее установленного числа печатных листов летописей и других изданий. Число членов было ограничено тридцатью, и требования к ним были довольно жесткими, что придавало обществу характер «Академии исторических знаний». Кроме действительных членов общество имело благотворителей, соревнователей, корреспондентов.
12 марта 1811 г. в день восшествия императора на престол общество торжественно открыло свою работу. Показательно, что в состав его не были включены все профессора (Чеботаревы, Черепанов, Страхов, Снегирев, Гаврилов), симпатизировавшие Карамзину, а сам историк, хотя формально и оставшийся в списках общества, писал 21 апреля А. И. Тургеневу: «Об Историческом обществе ни слова, кроме того, что я в нем не был и не буду, ибо не люблю пустяков»[256].
Из профессоров Московского университета членами нового ОИДР стали Рейнгард, Цветаев, Мерзляков, Каченовский, Суворов, Двигубский, Сандунов, Тимковский, Котельницкий. В течение полутора лет до начала Отечественной войны общество получило значительные суммы от благотворителей, среди которых выделялись купцы братья Зосимы, приобрело немало книг, рукописей, старинных вещей. Разумовский добился разрешения для общества работать и собирать материалы в библиотеках Синода и епархий, просил содействия от губерний всех учебных округов. Некоторые из книг, подаренных обществу, обратили на себя внимание императора, пожелавшего их увидеть.
Ученая и литературная деятельность общества в 1811–1812 г. освещена в 1-ой книге «Записок и трудов ОИДР», изданных в 1815 г. Наиболее значительные из ее статей — речь Каченовского «О судебных поединках» и выступление Тимковского, исследовавшего Киево-Печерский патерик. Из приложений к «Запискам» видно, что общество вело активный поиск исторических источников, в частности, М. Т. Каченовский зимой 1812 г. осматривал библиотеки нескольких консисторий, выявляя в них хронографы и летописи. В его обязанность входило упорядочивание собраний книг и рукописей. Вскоре Каченовский был назначен библиотекарем общества, а его помощником — другой книголюб из числа московских студентов, К. Ф. Калайдович. Наконец, на торжественном заседании 13 марта 1812 г. общество объявило две конкурсные задачи, касавшиеся упоминаемых Нестором русских городов и сущности «словенского коренного языка».
В целом мы видим, что деятельность общества несравненно более активна, чем раньше, во многом благодаря поддержке государства, опеке Кутузова и Разумовского. Однако обратим внимание, какое большое количество людей откликнулось на брошенный правительством призыв способствовать деятельности общества, оказалось готовым жертвовать своими капиталами и ценностями ради создания русской истории. Это движение, как отметил Н. А. Попов, отчасти предвосхитило патриотический порыв 1812 года. Новое ОИДР начинало свою работу в очень благоприятных условиях, имея много активных сотрудников (Тимковский, Каченовский, Калайдович). К сожалению, весь накопленный потенциал погиб в пожарах войны.
Другое общество, тесно связанное с гуманитарными факультетами университета и частично включавшее членов и соревнователей ОИДР, Общество любителей российской словесности было основано 6 июня 1811 г. также по инициативе П. И. Кутузова, которому принадлежал окончательный вариант устава. Среди учредителей и первых членов ОЛРС были профессора: А. А. Прокопович-Антонский, П. И. Страхов, Н. Н. Сандунов, А. Ф. Мерзляков, М. Т. Каченовский, Л. А. Цветаев, И. А. Двигубский, М. Г. Гаврилов, Р. Ф. Тимковский, а также другие московские литераторы — П. П. Бекетов, Ф. Ф. Кокошкин, В. Л. Пушкин и пр. Согласно уставу, «Общество сие учреждается для того, чтобы распространять сведения о правилах и образцах здравой словесности и доставить публике обработанные сочинения в стихах и в прозе на Российском языке, рассмотренные предварительно и прочитанные в собрании». Параграфы устава, ограничивавшие число членов общества (до 35) и ставившие им условия жить в Москве и активно участвовать в заседаниях общества, напоминали соответствующие места устава ОИДР. Те любители словесности, «которые по молодым летам своим или по роду жизни не могли еще приобрести особливой опытности в Словесных науках, но которые представят сочиненные ими стихи или прозаические статьи, соответствующие намерениям Общества, и изъявят желание трудиться вместе с членами», назывались сотрудниками общества. Таким образом, само общество мыслилось как узкий круг известных литераторов, возвышающий себя над представителями молодой литературы. К. Н. Батюшков в письме к Гнедичу (июль 1811 г.) иронически называет его Пантеоном: «Что мне сказать о Московском Пантеоне? У нас с тобою одна участь, мой милый друг: меня предлагали в члены, и некие мужи отказали»[257].
Разобранные на заседаниях сочинения, переводы, речи и др. общество могло публично оглашать в торжественных собраниях, а также издавать на свое иждивение «под наблюдением одного из членов», т. е. без дополнительного прохождения цензуры. Первая часть трудов ОЛРС вышла в марте 1812 г., за ней еще 3 части, содержавшие устав общества, рассуждения и доклады действительных членов, прочитанные ими на заседаниях. Кроме «Трудов» общество планировало также издать избранные речи профессоров Московского университета с биографическими справками о них (что было поручено Прокоповичу-Антонскому и Гаврилову), а также «Собрание лучших прозаических и стихотворных сочинений» в двух томах — «небольшую, дешевую, но полезную книгу для обучающегося юношества» под редакцией А. Ф. Мерзлякова.
Председателем общества был выбран А. А. Прокопович-Антонский. По свидетельству М. А. Дмитриева, такой выбор возбудил в Москве недоумение, потому что Антонский, профессор сельского хозяйства и минералогии, вовсе не считался литератором. С другой стороны, возглавляя благородный пансион, Антонский поощрял в соответствии с собственной воспитательной программой литературные занятия его учеников, долгое время редактировал пансионские издания и т. д. И в ОЛРС Антонскому быстро удалось стать душой трудов и собраний. «Он умел соединять, умирять, прекращать несогласия и ставить выше всего общую пользу, он умел внушить членам уважение к себе и к своим мнениям, которые всегда были благоразумны и держались средины между крайностей, наконец, он умел из малых денежных средств извлекать многое»[258].
На другие должности в ОЛРС были назначены: секретарем — Каченовский, временным председателем — Мерзляков, временным секретарем — Цветаев. В приготовительное собрание, которое перед заседаниями, проходившими раз в месяц, готовило программу и рассматривало сочинения «в присутствии самих сочинителей», входили Сандунов, Мерзляков, Цветаев и Тимковский. Здесь можно отметить, что все названные лица, кроме Мерзлякова, хотя и участвовали в литературном процессе, не оставили в нем тот след, который подразумевался уставом для «известных литераторов». Этим определяется известная подчиненность ОЛРС по отношению к другим литературным собраниям. ОЛРС не выдвинуло собственной программы и по существу стало московской твердыней «архаического направления», в основном принимая идеи петербургских теоретиков из «Беседы русского слова», восторженным поклонником которых был основатель общества П. И. Голенищев-Кутузов. Трудно представить себе на заседаниях Общества представителей другой партии, например, В. Л. Пушкина, никак не проявившего себя в ОЛРС в этот период.
Такое направление показывает уже речь председателя при открытии общества, в которой он призывает сочинителей представить на русском языке «образцовые творения, какими изобилуют древние и новые просвещенные народы», по канонам Буало и Аддисона, обращаясь для этого как к источнику к «Словенскому языку». Одновременно Алтонский ставит и практические задачи общества: написать систематическую основательную грамматику, словарь, перевести на русский язык сочинения лучших иностранных писателей, создавать ученые книги, «которые обогащали бы нас понятиями и средствами изображать их», и завершает речь призывом любить и изучать родной язык и словесность.
На состоявшихся до начала войны 12 заседаниях общества обращают на себя внимание теоретические сообщения Антонского, Болдырева, Калайдовича по отдельным вопросам русской грамматики, направленные на более глубокое ее изучение. Например, знаток восточных языков, адъюнкт Болдырев, критикуя в своем рассуждении о глаголах спряжения, введенные Ломоносовым и старой Академической грамматикой, делает интересное предложение — заменить спряжения «учением о видах и производстве глагола» (наподобие системы арабского языка).
Особая роль в ОЛРС принадлежала А. Ф. Мерзлякову. Как единственный среди членов общества профессиональный литератор, он регулярно читал на заседаниях свои стихи и переводы. На втором заседании ОЛРС Мерзляков произнес «Рассуждение о Российской словесности в нынешнем ее состоянии» — речь, выражавшую его литературную программу в те годы. Не соглашаясь во многом с архаистами и подчеркивая, что «поздно уже заставлять нас писать языком Славянским», Мерзляков отстаивает необходимость и значение в литературе классических произведений, которых сейчас захлестнула волна романов, путешествий, песенок, мадригалов и пр., так что «нередко переводной Камоэнс, Мильтон, Телемак или Гомер служат оберткой для всяких уродов Дюкредюмениля». Мерзляков мечтает строить литературу на примерах Ломоносова, и именно его выступления определяли в OЛPC «дух непреклонного классицизма»[259].
Таким образом, в деятельности и формах организации OЛPC и нового ОИДР можно отметить определенное сходство. Основанные в одно время при активном попечении Голенищева-Кутузова, эти общества, где сотрудничали одни и те же профессора, были окружены атмосферой литературной борьбы того времени, непосредственно влиявшей на их работу. Оба общества выбрали партию, которая и в литературе и в истории была противоположна кругу Карамзина. Результаты их деятельности должны были сказаться с течением времени, но Отечественная война прервала этот процесс.
Необходимо также остановиться и на проектах ученых обществ с участием профессоров словесного отделения, не получивших дальнейшего развития. В раннем варианте устава попечитель Муравьев писал: «Под председательством декана словесных наук составляется общество Латинское, к которому приглашаются магистры и кандидаты, студенты и сами профессора, предшествуя им примером, и могут показать им путь к образованию себя сочинениями на Латинском языке»[260]. Однако никаких распоряжений о его открытии не последовало. Другое общество — Статистическое — было открыто попечителем в 1805 г. под председательством И. А. Гейма, включало профессоров Черепанова, Цветаева, лекторов и адъюнктов Невзорова, Санглена, Венсовича, Щеголева, Котельницкого, Падерина и имело целью «исследование способов устроения отечественных произведений промышленности, искусств и политической силы Российского государства»[261].
В отчете по университету за 1805 г. говорилось, что «в заседаниях, держанных в сем году, начертан план, по которому каждому из сотрудников положено приискивать источники и собирать сведения, касающиеся до статистики по России». На следующий год отчет также упоминал о существовании Статистического общества, но затем общество (так и не утвержденное министром) не подавало признаков жизни. В этом же отчете за 1806 г. значится «общество для издания словаря естественной науки», учрежденное 21 марта 1806 г. и на своих трех заседаниях «собравшее по алфавиту русские названия вещей естественных», но о дальнейшей судьбе проекта ничего не известно.
Физико-математический факультет, самый крупный в университете, состоял из девяти кафедр. Здесь преподавали: теоретическую и опытную физику — П. И. Страхов, чистую математику — В. К. Аршеневский (до 1808 г.), В. А. Загорский (1808–1809), П. И. Суворов (с 1810); прикладную математику — М. И. Панкевич, И. А. Иде (1805–1806), В. А. Загорский; астрономию — Ф. Гольдбах, химию — Ф. Ф. Рейсс, ботанику — Г. Ф. Гофман, минералогию и сельское домоводство — А. А. Прокопович-Антонский (до 1807 г.), И. А. Двигубский, технологию и науки, относящиеся к торговле и фабрикам — И. А. Двигубский и А. X. Чеботарев. Особую кафедру натуральной истории, учрежденную благодаря пожертвованию П. А. Демидова, возглавлял Г. И. Фишер фон Вальдгейм, к его же ведению относился и университетский музей. Вне структуры университетских кафедр находилось преподавание военных наук, которое вел магистр Г. И. Мягков.
В первое десятилетие XIX в. точные науки — математика, физика, химия — динамично развивались. Характерная особенность этого процесса — возникновение новой научной волны, источником которой был Париж, где после Великой французской революции открылись выдающиеся учебные заведения, и среди них ведущее — Политехническая школа (Ecole Polytechnique). Новая военная техника требовала от офицеров глубокого знания точных наук. Собрав вокруг себя ведущих ученых Франции, наполеоновский режим прежде всего хотел обеспечить подготовку квалифицированных военных специалистов, но одновременно создал идеальные условия для образования научного центра. Работы основателей Политехнической школы, ее профессоров и первых выпускников, многие из которых были членами Французской Академии Наук (О. Коши, С. Пуассон, Ш. Лаплас и др.), придали законченный и стройный вид многим областям математического анализа, гидродинамики, астрономии, теории электричества и т. п. Говоря обобщенно, завершался процесс «демистификации» точных наук, отделения от них философских интерпретаций, свойственных XVII веку, Ньютону и Лейбницу, подведения этих наук под прочный теоретический фундамент на уровне аксиом и базовых теорем (особенно в математике); переход от эмпирических обобщений к цельным теориям различных явлений, допускающим экспериментальную проверку. С этой точки зрения, большое значение имела, например, развернутая Французской Академией Наук дискуссия о природе света, результатом которой был переход к волновой теории, блестяще подтвердившейся после открытия Малюсом поляризации света (1808) и опытов Френеля — Араго (1815)[262].
Русская наука была, к сожалению, далека от этих проблем. Тем не менее, именно начало XIX в. приносит Московскому университету, отчасти благодаря реформам Муравьева, нескольких профессоров, которые смогли поднять уровень преподавания точных наук близко к современному. Самой яркой из этих фигур был профессор опытной и теоретической физики П. И. Страхов. Прекрасный оратор, получивший образование во Франции и Германии, талантливый экспериментатор, он умел привлечь внимание своих слушателей как ясным изложением предмета, так и красивыми и поучительными опытами. На его лекциях, считавшихся одними из лучших в университете, можно было увидеть Карамзина, Дмитриева, Жуковского, светских дам, особенно в 1803–1805 гг., когда публичные лекции были в большой моде. Представление о содержании курса физики дает вышедший в 1810 г. учебник Страхова «Краткое начертание физики», в котором профессор придерживается распространенного в Европе руководства М. Бриссона, переведенного и изданного Страховым в 1803 г., однако сокращает и исправляет в соответствии с новыми открытиями отдельные главы. Для демонстрации опытов в распоряжении Страхова была физическая лаборатория, на оборудование которой по последнему слову науки немало средств потратил М. Н. Муравьев.
Страхов был страстный экспериментатор. Здесь можно сказать, что в отличие от некоторых профессоров, относившихся к своему предмету как к ремеслу, способу зарабатывания на жизнь, Страхов считал физику чем-то большим, искренне увлекаясь ею и приближаясь, тем самым, к идеальному типу ученого, занимающегося наукой ради нее самой. Его биограф рассказывает о наблюдениях, которые Страхов вел годами, над замерзанием воды, испарением ртути, атмосферным электричеством — грозой и молниями. Три раза в день он записывал в журнал состояние погоды и впоследствии, по просьбе Разумовского, публиковал метеорологический дневник в «Московских ведомостях». Особенно замечательным был надолго запомнившийся москвичам удивительный опыт, в котором профессор в окружении учеников и зрителей испытывал действие электрического тока, идущего поперек Москвы-реки в районе Крымского брода. (Следует понимать, что опыты с недавно открытым гальваническим током свидетельствовали о единстве химических и электрических явлений, а еще через десять лет в классических опытах Эрстеда была продемонстрирована связь электричества и магнетизма.) Заметка об этом опыте, появившаяся в «Журнале Общества Испытателей Природы», была написана Н. Ф. Кошанским, который интересовался в те годы, очевидно, не только эстетикой и литературой, но и физикой[263].
Профессор чистой математики В. К. Аршеневский был внешне полной противоположностью своего товарища Страхова, но его заслуги в становлении университетского преподавания математики не менее высоки. В отличие от статного, красивого, изысканно одетого профессора физики с безупречными европейскими манерами, Аршеневский был «росту низкого, плотный телом, а в лице худощав, черноват, но с бледностью, черноволос, напудрен, с косою, лицо плоское и продолговатое, с рябинами, имел необыкновенно широкие и щетинистые брови; жизни строгой, он во всем любил особенно порядок, свойственный Малороссиянам»[264] Он принял свой предмет в конце XVIII в., когда математику в университете едва преподавали на элементарном уровне, и, по словам биографа, «должен был собственными силами, так сказать, создать для себя кафедру». Всю жизнь Аршеневский совершенствовал свои познания в математике. К 1804 г. он смог уже перейти от старого руководства Вейдлера, ученика Хр. Вольфа, к новейшему учебнику Бюржа, по которому излагал начала высшей математики. Их Аршеневский видел прежде всего в высшей геометрии, показывая пользу и употребление дифференциального и интегрального исчислений. В своих научных взглядах Аршеневский придерживался господствовавшего в XVIII в. мнения о преобладающем прикладном значении математики, как науки, возникающей из созерцания природы.
Младший товарищ Аршеневского, адъюнкт Загорский также отличался ясным умом и трудолюбием. Он перевел и издал на русском языке учебный курс, написанный известным французским математиком Безу для Политехнической школы, — достаточно простой и полезный учебник, ставший на долгое время основным для российских любителей математики (например, Грибоедов, находясь под арестом в 1826 г., просил у Булгарина книгу Безу, желая повторить начала математического анализа). Кроме элементарной математики, Загорский читал дифференциальное и интегральное исчисление по учебнику Лакруа.
Светлую страницу в историю университета вписало краткое пребывание в нем профессора Иде. Приглашенный Муравьевым из Геттингена, Иде писал, что «желал бы познакомить Московский университет с новейшим Анализом, небезызвестным впрочем гг. Аршеневскому и Загорскому». В 1805 г. Иде начал преподавание на латинском языке исчисления бесконечно малых, с приложением оного к Высшей Геометрии, динамике и гидродинамике, по руководствам Эйлера и Бюржа, а также читал приватные лекции на французском и немецком языках. Не дочитав двухгодичного курса, Иде скончался от горячки. «Немногие лекции его студенты слушали с большой охотой и дорожили ими». Также Иде принадлежат две критические статьи по математике в «Московских ученых ведомостях», где он, критикуя учебник Лакруа, пропагандирует методические взгляды Био, автора курса аналитической геометрии в Политехнической школе.
Собственно прикладную математику, т. е. механику, оптику, гидравлику, сферическую и теоретическую астрономию и пр., по руководству Вейдлера читал М. И. Панкевич. Уважаемый коллегами и неоднократно избираемый деканом факультета, человек с оригинальным характером (см. гл. 2), он, однако, был старательным, но крайне малоспособным педагогом. «На лекциях бывал он нередко темен и непонятен. А как вообще он был упорен в мнениях и щекотлив, то весьма затруднялся, когда по причине ошибки в выкладке на лекции получал ложный результат. Он этим сильно тревожился и волновался внутренно; а желая поправиться и отыскать свою ошибку, еще более путался и сбивался. Это иногда продолжалось три, четыре часа: потому и время лекций он старался избирать последнее. Если б кто из слушателей вздумал указать ему место ошибки — это значило бы оскорбить Панкевича и потерять его благорасположение»[265].
Профессором астрономии на отдельной кафедре, первым в истории университета (со званием астронома-наблюдателя) с 1804 г. был Ф. Гольдбах. С его именем связана неудачная попытка основания университетской обсерватории. Несмотря на неудачу, Гольдбах делал регулярные, зафиксированные в его журнале наблюдения из окон своей квартиры, определял широту, долготу и магнитное склонение Москвы и пр. С помощью Муравьева ему удалось собрать в университете все необходимые астрономические приборы. Руководством к преподаванию астрономии и математической географии для Гольдбаха служили Вейдлер и Боде, причем последняя книга была действительно лучшим сочинением этого рода в то время. На 50-летнем юбилее университета Гольдбах произнес речь «Об истории математических наук в России», в которой, к сожалению, за пышными французскими фразами оставил этот предмет без исследования, не дав содержательной оценки или критики приводимых им авторов.
По протекции попечителя П. И. Голенищева-Кутузова в 1810 г. в университете на кафедру чистой математики попадает П. И. Суворов. Хотя Суворов и окончил Оксфордский университет[266], знал несколько языков и даже издавал в Лондоне математический журнал, к тому времени уже престарелый ученый (ему было за 60 лет) явно не мог преподавать свой предмет на приемлемом уровне и рассматривал свою должность как синекуру, которую Кутузов выделил своему другу, находящемуся в стеснительных материальных обстоятельствах. Вследствие интриг, Загорский, на которого после смерти Иде и Аршеневского падала вся тяжесть преподавания математики, вынужден был оставить кафедру, и поскольку Суворова едва хватало на прочтение элементарного курса, университет фактически остался без профессора математики[267]. Реакция в самой неожиданной форме не замедлила сказаться: впервые в истории университета была предпринята попытка организовать студенческое научное общество для углубленного изучения предмета — в данном случае математики. Этот пример показывает, насколько возрос уровень требовательности студентов к преподаванию к исходу первого десятилетия XIX в. История общества математиков (см. гл. 4) доказывает, что молодые дворяне, учившиеся в университете в 1810 г. (среди которых и будущие декабристы), уже ясно осознавали круг знаний, которые хотели бы получить, с тем чтобы пользоваться ими в жизни. Математика, не только как атрибут офицера, но и вообще просвещенного человека, безусловно входила в этот круг[268].
Профессор химии Московского университета с 1804 г., отпрыск средневекового дворянского рода из Тюбингена, доктор медицины Геттингенского университета Ф. Ф. Рейсс заслужил вполне несправедливый упрек Герцена в «Былом и думах», что он якобы случайно «попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось, — он отправил вместо себя племянника». На самом деле, еще до приезда в Россию работы Рейсса, известные Муравьеву и определившие его выбор (например, по исследованию химического состава лимфы лошади), получили признание ученых. В Московском университете Рейсс проработал более 35 лет. По мнению исследователя, в его лице «Московский университет получил химика несколько отсталого в теории, но с хорошею практической подготовкой, с разносторонним образованием и превосходного лингвиста»[269] (Рейсс свободно и с изяществом говорил по-латыни). В курсе лекций, который Рейсс читал по своему неопубликованному учебнику, изложение предмета было полным, подробным, с акцентом на практическое применение химии в медицине и фармакологии. Управляя с 1804 г. одной из старейших в Москве аптек (Покровской), Рейсс имел возможность пользоваться ее богатой химической лабораторией, так что первым из профессоров химии вел систематическую научно-исследовательскую работу. Главная область его интересов — электрохимия, где Рейсс в 1807 г. сделал замечательное открытие: обнаружил явление передвижения жидкостей через пористые перегородки в замкнутой цепи, а также движение по цепи взвешенных частиц, под действием электрического тока (электрохимический осмос). Это открытие было опубликовано в трудах МОИП. Всего же в результате своей научной работы в Московских обществах испытателей природы и соревнователей медицинских и физических наук, секретарем, а затем президентом последнего из которых он был, Рейсс опубликовал более 50 работ по физике, химии и медицине[270]. Особой заслугой Рейсса перед Московским университетом был его труд по формированию, упорядочиванию и систематизации университетской библиотеки (с 1822 г.) Как и в уже рассмотренных нами математике и физике, в химии Рейсс столкнулся с необходимостью приспосабливаться к ее быстрым успехам, когда открытия следовали оно за другим, что, например, препятствовало изданию его курса лекций, заставляя совершенно переменять целые главы сочиняемого им пособия.
Кафедру минералогии и сельского хозяйства, а прежде класс энциклопедии и натуральной истории с 1791 г. вел А. А. Прокопович-Антонский. Его воспитанники с иронией относились к ученым способностям Антонского, называя его «профессором энциклопедии» за умение ездить верхом и разговаривать со светскими дамами. Лекции по минералогии Антонский вел по руководству Бомара, но показывал на них все «одни и те же камешки»[271]. С 1807 г. целиком занявшись делами благородного пансиона, он отошел от преподавания.
На смену ему выступил недавно вернувшийся из заграничной поездки И. А. Двигубский — молодой, талантливый и разносторонний ученый. Прибыв в Москву в 1806 г., он был распределен Муравьевым на кафедру технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам, т. к. кафедра натуральной истории, к которой Двигубский готовил себя, разделенная на три части, оказалась занята Антонским, Гофманом и Фишером. В течение 1806 г. им был разработан и подготовлен к печати учебник по технологии — новому предмету, введенному в устав в ответ на растущую роль техники и изобретений в Европе. Тогда же профессор, по просьбам студентов, приступил к чтению русской минералогии. Интерес Двигубского к физике и обширные познания в ней показывает выпущенное им в 1808 г. учебное пособие для благородного пансиона, служившее долгое время руководством не только в Московском университете, но и в других высших учебных заведениях. Неудивительно, что Двигубский после смерти Страхова принял кафедру физики и физический кабинет, где много сделал для восстановления потерь, нанесенных Отечественной войной. Руководства по зоологии и ботанике, написанные Двигубским в 1806–1811 г., показывают его если не оригинальным автором, то примерно трудолюбивым и ученым собирателем[272]. Профессору принадлежит первое в истории университета научное исследование на геологическую тему — «Речь о нынешнем состоянии земной поверхности», произнесенная в торжественном собрании 1806 г. (о ее ценности говорит факт помещения ее в «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения»). Эта речь явилась одним из мостиков, связавших последующие поколения русских ученых с идеями их предшественников, в т. ч. Ломоносова, в области геологии[273].
Профессор ботаники и директор университетского ботанического сада Г. Ф. Гофман и профессор естественной истории, директор музея Московского университета, основатель и первый директор Московского Общества испытателей природы Г. И. Фишер фон Вальдгейм относились к тем иностранным ученым, которые принесли огромную пользу развитию российской науки, открывая в ней до сих пор не разработанные направления, по которым далее шли их последователи из числа русских ученых. Деятельность обоих этих профессоров неотделима от работы МОИП — общества, которое даже за короткий период 1805–1812 гг. сумело значительно продвинуть изучение природы в России.
Г. И. Фишер получил образование в знаменитой Фрейбургской школе, которая в конце XVIII в. была центром геологической науки и воспитала множество ученых — исследователей природы. Вскоре по окончании занятий, вместе со своим другом, в будущем знаменитым путешественником и натуралистом А. Гумбольдтом Фишер планировал отправиться в поездку по Европе и в 1798 г. попал в Париж. «К концу столетия во Франции работы энциклопедистов подготовили перелом в политическом мышлении, труды натуралистов — глубокие изменения во взглядах на строение материи и на пути развития органического мира. Судьбе угодно было сделать Фишера учеником и участником знаменитой школы французских биологов революционного времени»[274]. Личное знакомство с Кювье — основателем сравнительной анатомии и палеонтологии, Ламарком и другими учеными принесло Фишеру громадную пользу и помогло расширить круг его знаний. «С запасом этих сведений и горячей любовью к науке Фишер прибыл в Россию в 1804 г., будучи 33 лет. Это был самый решительный шаг в его жизни. Оставаясь в Германии, он, по всей вероятности, последовал бы своей природной склонности и сделался бы исключительно зоологом, либо исключительно минералогом или геологом, между тем как в России он должен был с самого же начала быть всем, и зоологом, и минералогом, и геологом. Это общая участь ученых, которым суждено действовать в такой стране, где по недостатку людей, занимающихся наукой, еще не существует разделения умственного труда — таково было состояние России в начале XIX в. и долго после»[275].
Среди прочих иностранных профессоров, быть может не уступавших Фишеру по способностям, он выделялся соединением научного опыта и уже воспитанной работоспособности со знанием новейших методов науки. «Привлеченный богатством окружавшего его, вовсе еще не затронутого разработкой научного материала и понимая, что в обстановке тогдашнего естествознания Московского университета еще не было настоящей почвы для разработки задач сравнительной анатомии (которой Фишер увлекся в Париже), он обратился к исследованию фауны России, особенно Московской губернии, которое проводил с большой настойчивостью и последовательностью»[276]. Его труды по энтомографии и ориктографии Московской губернии, подготовленные и задуманные МОИП в рамках образцового статистико-географического описания Московской губернии, были в основном выполнены к 1812 г., но погибли и поэтому закончены лишь к 1830-м гг. Как университетский профессор Фишер издал в 1808–1810 гг. учебники зоологии и минералогии. На своих лекциях Фишер был в числе лучших преподавателей, пользовался европейский методикой; его преподавание шло с параллельными демонстрациями. Большое значение для Москвы имело выполненное Фишером описание московских музеев — университетского, музея при Медикохирургической академии и коллекций П. Г. Демидова (издано в 1807–1808 гг.)
Профессор Г. Ф. Гофман учился в Эрлагенском университете, у Шребера, известного ученого, одного из учеников Линнея, и начал свою научную карьеру именно с прояснения частных вопросов в различных областях Линнеевой системы растительного мира. К моменту отъезда в Россию у него уже имелось несколько десятков работ по ботанике, в т. ч. превосходный трехтомный труд о видах лишайников, с собственными иллюстрациями, показывающими, что Гофман обладал незаурядным дарованием художника-натуралиста. Получив в 1792 г. кафедру и должность директора ботанического сада в Геттингене, он выпустил там высоко оцененный современниками труд «Германская флора». Европейская известность Гофмана привлекла к нему внимание Муравьева. Как пишет исследователь, его приглашение совпало с «золотым веком» русской ботаники, когда «слава Линнея и его пропаганда огромного ее значения для культуры и жизни народов нашли отклик и в тогдашней России»[277].
В Москве Гофман читал курс ботаники, о содержании которого мы отчасти можем узнать из его речи «О ботанических врачебных садах» в торжественном собрании 1807 г. Профессор реформировал или, вернее, организовал вновь из бывшего Аптекарского сада, купленного у Медико-хирургической академии в 1805 г., университетский ботанический сад. В 1808 г. он издал замечательное описание «Hortus Mosquensis» с прекрасными, нарисованными до мельчайших деталей иллюстрациями и цветным планом сада. Гофман также опубликовал несколько систематических работ из области русской флоры. (Любопытно, что один из открытых Гофманом родов зонтичных растений был назван Tourgema, в честь А. И. Тургенева, действительного члена МОИП.) С момента основания Общества испытателей природы Гофман, подписавшийся вторым, вслед за Фишером, в списке учредителей, являлся одним из самых деятельных его сотрудников. По просьбе Разумовского он также работал в Горенском ботаническом саду и участвовал в организации т. н. Горенского фитографического общества, которое, возникнув в 1809 г. под покровительством вельможи-попечителя, после его отъезда в Петербург слилось с МОИП, чтобы не создавать ненужной конкуренции. Интересно, что кроме Гофмана приглашение вступить в Горенское общество приняли европейские ученые — Шребер, Гумбольдт и др.
Основание самого значительного из университетских научных обществ — Общества испытателей природы связано с проектом, который в 1805 г. выдвинул Г. И. Фишер фон Вальдгейм. Идея такого общества понравилась Муравьеву и нашла поддержку у Разумовского, согласившегося быть его покровителем, и 22 марта, получив разрешение попечителя университета, Фишер собрал всех желающих принять участие в его организации на первое заседание. Среди собравшихся основателей общества были профессора Гофман, Двигубский, Политковский, Страхов, Рейсс, Гильтебрант и другие московские натуралисты. Учредителями был одобрен написанный Фишером устав, утвержденный затем в министерстве, так что 18 сентября 1805 г. состоялось первое научное заседание общества. «Главная цель общества, — как записано в уставе, — состоит в том, чтобы 1) усовершенствовать сведения в естественной истории обширной Российской империи; 2) собрать по географическому порядку все произведения России по части минералогии, ботаники, зоологии, земледелия и промышленности; 3) приложить старание к открытию таких произведений, кои могут составить новую ветвь Российской торговли»[278]. В обществе состоят действительные члены, «присутствующие или отсутствующие», которые делают доклады или ведут переписку с обществом, кроме того, каждый член имеет право приводить с собой знакомых ему особ на заседания общества, и даже «общество с удовольствием позволит ходить в собрания его учащимся юношам, имеющим склонности к наукам, в коих оно упражняется». Таким образом, с момента основания МОИП было открытым и доступным учреждением, пропагандирующим науку, и его заседания действительно посещали многие молодые люди, например, Николай Тургенев, Никита Муравьев (с 1810 г. «питомец» общества).
По уставу директором общества, управляющим его научной работой, был директор музея натуральной истории при университете. С 1805 по 1853 г. эту должность исполнял Г. И. Фишер. Но уже в 1806 г. была утверждена почетная должность президента МОИП, которую вручили графу Разумовскому. Нужно отметить, что разнообразная и плодотворная деятельность МОИП в 1805–1812 гг. при сравнении с другими университетскими обществами еще раз показывает, насколько русская наука начала XIX в. зависела от государственной поддержки или покровительства в лице мецената. Разумовский даже совмещал эти роли. Во время своего пребывания на посту президента МОИП, а затем министра народного просвещения он снаряжал на свои личные средства экспедиции, доставал кредиты на исследования Московской губернии, всячески способствовал развитию научной деятельности[279].
В центре начального периода деятельности МОИП стояло предложенное Фишером всестороннее и детальное изучение Московской губернии как образца для описания всей России. Фишер писал: «Простительно ли обществу не начать своих исследований с самого ближайшего, именно, с того округа, к которому оно принадлежит? Москва, эта знаменитая столица, занимающая самый центр России и обладающая многими учреждениями, университетом, медико-хирургической академией, коммерческой академией, многими гимназиями и учеными обществами — Москва и Московская губерния, повторяю, заслуживают по преимуществу нашего исследования и наших забот. Из этого, однако, не следует, чтобы другие губернии не подверглись такой же разработке; напротив, я надеюсь, что со временем мы будем иметь возможность обратиться к каждой из них с должным вниманием»[280]. В программу исследования губернии входило описание рельефа, «статистические сведения находящихся в оной предметов трех царств природы», геодезические измерения и т. д. Каждое лето члены общества отправлялись в экспедиции для сбора материалов. К сожалению, пожар Москвы уничтожил все собранные к тому времени коллекции, рисунки и рукописи. Одновременно, в 1806 г. при содействии Разумовского сотрудники ботанического сада в Горенках — члены ОИП — изучали растительность Сибири, юго-восточных районов европейской России, Кавказ и даже Камчатку.
Результаты экспедиций публиковались в «Трудах МОИП». Корреспонденты общества на местах присылали различные сообщения, наблюдения, экспонаты для музея, где к 1812 г. составилась превосходная коллекция.
Кроме сбора коллекций и описания природы России члены общества не менее активно занимались теоретическими научными изысканиями. Для их публикации в 1805 г. был основан Журнал Общества Испытателей Природы (на французском языке — вышло два сдвоенных номера), преобразованный затем в регулярно издаваемые «Труды МОИП» («Mémoires de la Société dès Naturalistes de l’Université impériale de Moscou»). Статьи членов МОИП привлекали внимание за границей, и издания общества послужили ценным обменным фондом, с помощью которого, а также с участием личных собраний Фишера составилась библиотека общества — одна из немногих уцелевшая при пожаре. Здесь можно было найти много редких книг по зоологии, палеонтологии, геологии и минералогии со всей Европы.
Медицинский факультет с созданными при нем врачебными институтами стоял особняком от университета и был ближе по духу к Медико-хирургической академии, где учились и преподавали многие его профессора. Преподавателями медицинского факультета с 1804 по 1812 г. были: на кафедре анатомии, физиологии и судебной врачебной науки — Барсук-Моисеев, Венсович (1808–1811), Грузинов (с 1811), патологии, терапии и клиники — Политковский, а с 1809 г. Мудров, врачебного веществословия, фармации и врачебной словесности — Щеголев, Котельницкий, Воинов, хирургии — Керестури (до 1805), Гильтебрант, повивального искусства — Рихтер, Данилевский, скотолечения — Андреевский, Реннер (с 1811).
Старейшим и наиболее уважаемым среди этих профессоров был Франц Керестури[281]. За свою 40-летнюю деятельность в университете, начав карьеру с должности прозектора, Керестури закончил ее первым президентом основанного в 1804 г. Общества соревнователей медико-физических наук. В 70—80-е гг. XVIII в. он был одним из ведущих московских врачей. Во время знаменитой чумы 1770 г. профессор активно, с опасностью для собственной жизни помогал больным. Керестури преподавал в Московском университете анатомию по руководству Пленка, «показывая строение тела человеческого над трупами, разнимая и приуготовляя оные искусственным образом. Для рассмотрения же тончайшего строения малейших частей в помощь употреблял он микроскоп». Также на занятиях он показывал случаи, «касающиеся до т. н. судебной медицины»[282]. Долгое время Керестури служил в качестве медика у кураторов и директоров университета. В 1803 г. престарелый профессор заболел и, достигнув 70 лет, вынужден был оставить преподавание.
Биограф отмечает, что Керестури был известен более как практикующий врач, нежели как ученый. В этом усматривается вообще характерная черта медицинского факультета, который, как и Медико-хирургическая академия, призван был обслуживать практические потребности гражданских и военных ведомств в квалифицированных медиках. Единственным возможным исключением, дающим нам пример профессора, равно искусного как оратор, лектор, ученый и медик-практик, можно назвать Ф. Г. Политковского. Обучавшийся в Париже и Лейдене естественной истории, физике и химии и некоторое время преподававший натуральную историю в университете, он соединял глубокие сведения по естественным наукам с искусством врача, причем «свои способы лечения, против многих главных возражений и публикованной диатрибы применял он к личным и народным привычкам. Практику в них имел счастливую, высокую, бедным всегда благодетельную. Искусством и нравом скоро приобрел значительное состояние»[283]. На своих лекциях Политковский не был рабским последователем одной какой-либо из известных систем, но из всех избирал лучшее. На его лекции часто заходили посторонние слушатели и слушательницы, что смущало профессора, заставляя щадить их при выборе предмета занятия. «Соскучившись таким модным ограничением, для устранения его, однажды, при своих милых посетительницах, Политковский начал говорить прямо, хотя и с некоторую пощадою, о действии лекарств на очищение желудка, naturalia non sunt absurda. С тех пор модницы не заглядывали более в класс слишком откровенного профессора»[284].
Талантливым лектором среди других профессоров также называли В. М. Котельницкого. Но никто из них не добился такой любви студентов, привязанности московских жителей самых разных сословий, благодарных за его помощь, как М. Я. Мудров. Необыкновенна судьба Мудрова, сына бедного вологодского священника, пришедшего пешком в Москву, добившегося права учиться за границей, масона, члена тургеневского кружка, друга многих замечательных людей своего времени, который к тому же приобрел заслуженную славу одного из лучших московских врачей. Вклад Мудрова в отечественную медицину велик: он был первым русским профессором, читавшим курс военной гигиены и оценившим в должной степени значение медицинской профилактики. «Ряд положений, выставленных Мудровым, до сих пор не утратил своей свежести и актуальности. Он учил молодых врачей лечить не болезнь, а больного, он боролся с увлечением сложными лекарственными смесями, в которых большинство врачей видело тогда основное содержание терапии, он первый указал на необходимость расширения клинической практики в системе преподавания медицинских наук»[285].
Взгляды Мудрова на медицину формировались в результате наблюдения учебных учреждений Франции и Германии. Обладая ясным умом, Мудров за несколько лет пребывания за границей разобрался в различных распространенных тогда системах, про которые можно было сказать, что они «тиранили головы врачей, а врачи тиранили ими своих больных». От каждой из них Мудров брал объективные и рациональные начала. Его замечательные письма из Парижа к попечителю Муравьеву содержат здравую критику существующего в университете преподавания и полны рекомендаций по его улучшению. Возможностью для проверки своих теоретических знаний стало пребывание Мудрова в действующей армии в Вильне на обратном пути в Россию (1807). Это событие определило то, что в университете Мудров прежде всего занялся военной гигиеной именно как практическим предметом, имея в виду близкое возобновление войн с Наполеоном. Среди учеников Мудрова находился впоследствии и великий русский военный хирург Пирогов. Лекции Мудрова и особенно его публичная речь «О пользе и предметах военной гигиены или науки сохранять здоровье военнослужащим» вызвали широкий отклик в обществе[286]. К 1812 г. Мудров уже был первым медицинским светилом Москвы, что отмечено Л. Толстым в одном из эпизодов романа «Война и мир».
Отечественная война, во время которой Мудров работал в госпитале в Нижнем Новгороде, подтвердила его правоту, став для русских врачей первым экзаменом в широком масштабе как перед русским обществом, так и перед лицом Западной Европы, который они с честью выдержали. В числе участников Отечественной войны были профессора и студенты-медики из Московского университета. Об этом нам, например, рассказывает следующий эпизод. В августе 1812 г. от Кутузова в университет пришло приглашение для врачей поступить в действующую армию. На него откликнулся молодой профессор Грузинов. Ему довелось участвовать в Бородинском сражении, а оказавшись вслед за этим в Москве, он поспешил в университет предупредить своих товарищей об оставлении города. Пройдя с русской армией всю кампанию 1812 г., Грузинов скончался от горячки в начале следующего года.
Все профессора медицинского отделения вошли в открытое в 1804 г. при университете Общество соревнователей медицинских и физических наук. Целью этого общества, сформулированной в его уставе, было «1) распространить в Отечестве всякого рода полезные знания, касающиеся Физической и Врачебной науки; 2) возбуждать, питать и подкреплять упражнение в сих науках как между своими сочленами, так и между прочими соотечественниками; 3) распространять, обрабатывать Естественную историю и медицину и способствовать их усовершенствованию». Профессора медицинских и естественных наук составили ординарных членов этого общества, а адъюнкты, практиканты, главные врачи московских больниц — экстраординарных. Почетными членами были названы такие влиятельные фигуры в государстве, как Завадовский, Кочубей, Новосильцев, Строганов, Демидов и др.; кроме того общество могло иметь иногородних и иностранных членов, а также слушателей из отличных студентов. Каждый из членов общества не менее чем раз в год на заседании должен был изложить историю той науки, которою он занимается, рассказывать о новых открытиях, разбирать выходящие переводы и сочинения и представлять собственные. Особенной целью общества было поставлено описание физической и врачебной истории Москвы и ее окрестностей.
Первым президентом общества (1805–1810) был избран Ф. Керестури. В этот период общество объявило 5 конкурсных задач, за которые полагались медаль от университета в 200 руб. и специальные медали в 175 руб. от членов Антонского, Керестури, Политковского и Рихтера. В июне 1808 г. вышла первая часть трудов общества, а в октябре — первый номер «Медицинско-физическо-го журнала», содержавшего в основном статьи по медицинской биологии, а также описание акушерского института и заметку о врачебных познаниях Петра I. Секретарями общества в этот период были Ф. Ф. Рейсс и И. Ф. Венсович — молодой талантливый врач, известный своей пропагандой предохранительных прививок против оспы. С 1810 г. президентом общества стал В. М. Рихтер, автор капитального труда «История медицины в России». Первая часть этой работы появилась в 1811 г., материал для нее помогали собирать многие члены общества, а деньги на издание дал попечитель университета П. И. Голенищев-Кутузов. Ему же общество обязано появлением своей библиотеки, куда Кутузов и другие меценаты пожертвовали старинные печатные и рукописные книги по медицине. К 1812 г. в обществе также был накоплен материал по истории климата Москвы, влиянию различных ремесел на здоровье людей, велись регулярные метеорологические наблюдения[287].
Подводя итог научной деятельности Московского университета в первое десятилетие XIX в., еще раз отметим, что либеральные реформы открыли новые широкие возможности для развития университетской науки и возникший потенциал она в значительной мере смогла использовать, заложив основы успехов следующих десятилетии. Устав 1804 г. выровнял программу университетского обучения в соответствии с европейским уровнем: были введены новые предметы и расширилось преподавание старых. Профессора и преподаватели перевели ряд новых учебников в различных научных отраслях. Приглашенные из Германии ученые быстро находили в Москве учеников, постепенно сменявших их на кафедрах и образовывавших, таким образом, научные школы. Активно действовали основанные при университете научные общества, из которых по широте и результативности исследований лидировало Общество испытателей природы. Среди университетских ученых выделялись такие яркие фигуры, как П. И. Страхов; И. Т. Буле, А. Ф. Мерзляков, Р. Ф. Тимковский, Г. И. Фишер фон Вальдгейм и др. В то же время в характере университетской науки 1800 х годов была заметна значительная неравномерность, точные науки уступали по уровню гуманитарным предметам философского и литературного цикла, совершенно не развито оказалось преподавание истории. Значительным образом зависело развитие науки и от личных симпатий или антипатий попечителей, определявших ее материальную поддержку. Во многих отраслях научная работа в университете находилась на этапе эмпирического сбора материала и не перешла еще к аналитической стадии, что делало заметным ее отставание, особенно в области точных наук, от передовых исследований, проводившихся в Европе. Тем не менее, возросшие контакты с ученым миром Европы, восстановление единого научного пространства позволяли надеяться на сокращение в будущем этого отставания.
Глава 4
Учеба и быт воспитанников Московского университета в начале XIX в.
1. Подготовка к обучению в университете
Московский университет оказал значительное влияние на воспитание молодого поколения русского общества начала XIX в. В его стенах учились представители всех сословий. Это были большей частью разночинцы (выходцы из семей священников), но также и юные дворяне, дети купцов, чиновников и даже крестьяне. Каждый из воспитанников шел к поступлению в университет своим путем, однако можно отметить, что лишь немногие становились студентами сразу, не проведя хотя бы некоторое время в т. н. «подготовительных» университетских учебных заведениях: академической гимназии и благородном пансионе. Эти училища, где занятия вели университетские преподаватели, придерживаясь программ, соответствовавших лекционному курсу, только в более сжатом изложении, были настолько тесно связаны с университетом, что в сознании московских обывателей практически сливались с ним. Обучение в академической гимназии и благородном пансионе вполне устраивало родителей, которые желали дать своим детям разностороннее образование достаточно высокого уровня, для чего не требовалось поступление в университет. Поэтому число учеников в пансионе и особенно в гимназии всегда в несколько раз превышало количество студентов, что только увеличивало роль университета в глазах общества. (Так, в сентябре 1802 г. в университете при 61 студенте насчитывалось 1140 гимназистов[288].) И если после университетских реформ академическая гимназия была вынуждена сократить свои ряды, то число воспитанников благородного пансиона постоянно росло, а его система воспитания, признанная образцовой, послужила примером при создании Царскосельского лицея. Учитывая то место, которое занимали подготовительные учебные заведения в жизни большинства студентов, мы остановимся на их характеристике подробнее.
1.1. Академическая гимназия
В 1755 г. при Московском университете, одновременно с его основанием, были открыты две гимназии — дворянская и разночинская, что отвечало замыслу Ломоносова, писавшего: «При Университете необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет как пашня без семян»[289]. Проект учреждения гимназий предусматривал в них по 4 школы: российской, латинской словесности, первых основ математики, истории, географии и прочих наук и школу главных европейских языков (французского и немецкого). Каждая школа разделялась на несколько классов: начальные, средние и высшие. Гимназист мог учиться сколько ему угодно тем предметам и в тех классах, которые сам выберет, поскольку, как считали основатели университета, «наука не терпит принуждения».
Хотя в проекте разночинская и дворянская гимназии были отделены друг от друга, на практике все занятия в них происходили вместе, и различия заключались в том, что дворяне жили на отдельной половине, обедали за особыми столами и вносили плату за пансион. В 1779 г. всех дворян-пансионеров перевели из главного университетского здания в особое помещение, положив тем самым начало университетскому благородному пансиону. Разночинская же гимназия, почти не изменяясь, но только увеличивая количество своих воспитанников, просуществовала в том же виде до 1804 г.
Все гимназисты делились на казеннокоштных (штатных), получавших от университета бесплатное жилье, питание, одежду, книги и другие учебные пособия; своекоштных (таких в гимназии было большинство, поскольку штатные места обычно были заняты детьми и родственниками преподавателей университета); пансионеров, получавших содержание за умеренную плату, и сверхкомплектных (детей университетских служителей и беднейших чиновников), которые за счет доходов от университетской типографии и сборов с пансионеров получали бесплатное проживание и стол, но имели собственные книги, платье и пр. Так как после отделения благородного пансиона прибыли гимназии резко сократились, то вскоре при ней был открыт новый «сторублевый» пансион для дворян и разночинцев, которым ведал эконом Крупенников. Пансион Крупенникова располагался в особом корпусе по Никитской улице, и плата в нем действительно была очень скромной — 120 руб. в год.
Во главе гимназии стоял инспектор, назначавшийся из числа профессоров университета. С 1787 г. до принятия нового университетского устава эту должность занимал П. И. Страхов. В роли помощников инспектора выступали два эфора, тоже профессора университета, в обязанности которых входило наблюдение за порядком в гимназии и поведением учеников, а также учет и раздача книг, бумаги, перьев, инструментов и т. п. Последнее преимущественно относилось к ведению профессора A. М. Брянцева, а за поведение воспитанников отвечал профессор B. К. Аршеневский (до 1799 г.), а затем М. Г. Гаврилов (1799–1806 гг.)
Процедура приема учеников в гимназию была проста: инспектор бегло экзаменовал новичка и записывал его в те классы по каждому предмету, которые соответствовали его знаниям. Ученик получал табель, где на одной стороне было напечатано краткое наставление гимназисту, а на другой инспектор указывал фамилии учителей, которых тот должен посещать, там же делались отметки о пропущенных занятиях[290]. Определенная часть гимназистов пополнялась за счет учащихся духовных школ и семинарий, переведенных в университет, поскольку их делали студентами не сразу, а только после некоторого времени обучения в гимназии.
К числу предметов гимназического курса относились: математика, история и география, российская словесность, греческая и латинская словесность, Закон Божий и Священная история, музыка, рисование и чистописание, а также немецкий и французский языки. Каждый класс по этим предметам вело несколько учителей, так что общее их количество достигало 30 человек. Занятия проходили с 8 до 12 ч. утра и с 2 до 6 ч. вечера (кроме среды и субботы, когда вечерних уроков не было). Все ученики объединялись в несколько отделений, которые последовательно сменяли друг друга у своих учителей. (Перемена отделений была в 10 утра и в 4 после полудня.) Урок начинался с переклички и опроса учеников. Их посещаемость и оценки фиксировались аудиторами, назначенными из наиболее прилежных учеников, в особых списках, по которым затем составляли сводную ведомость успеваемости гимназистов, прилагавшуюся для каждого экзамена. Впрочем, любой гимназист мог, по собственному желанию и с согласия инспектора, поменять своего учителя или время посещения занятий.
В конце учебного года ученики сдавали экзамены, сначала приватные, а потом публичные, по результатам которых принимались решения о переводах из низших классов в высшие и о производстве в студенты. Приватные экзамены вел в своем классе сам учитель. Публичные экзамены происходили весьма торжественно, в Большой аудитории, предназначенной для торжественного университетского акта. Учитель приводил в аудиторию всех учеников своего класса, выстроенных в алфавитном порядке, по отделениям. В переднем углу у дверей библиотеки, за большим столом, накрытым красным сукном, сидели директор университета (или, впоследствии, ректор), инспектор гимназии и несколько профессоров. Учитель подавал директору ведомость с полным списком учеников, где отмечалось время их поступления, успехи в учебе и результаты приватного экзамена. Инспектор делал перекличку и усаживал учеников за столы, расставленные по всему залу. На столах не было ничего, кроме бумаги и перьев; пользоваться книгами и тетрадями строго воспрещалось. Затем инспектор диктовал общую для всех задачу, тему для рассуждения или перевод — в зависимости от предмета. Готовые работы направлялись инспектору или другому профессору, который просматривал их и беседовал с учеником. По воспоминаниям бывших гимназистов, отношение экзаменаторов к ученикам было «самое снисходительное и благородное», чему способствовало и такое правило: ученик, недовольный результатом экзамена, мог просить себе другого профессора и даже третьего — такое обращение с детьми, по мнению воспитателей, исправляло их упрямство.
После экзамена инспектор и другие преподаватели выносили окончательные суждения о каждом из учеников и решали вопрос о переводе их в следующие классы (соответственно проявленным знаниям) или о зачислении в студенты, а также о наградах за прилежание. Перед некоторыми экзаменами гимназисты готовили прописи, чертежи, рисунки — самые лучшие и красивые из них отмечались призами, а сами работы передавались в губернские школы в помощь необеспеченным ученикам. Из всех экзаменов особенно увлекательно проходило испытание в музыкальном искусстве, танцах и фехтовании, куда обычно, как на праздник, собирались родственники гимназистов, семьи учителей и профессоров. По установленному порядку ученики нижних классов исполняли симфоническую увертюру, старшие гимназисты — концерты для флейты или скрипки под аккомпанемент фортепиано, затем шли фехтовальные бои на рапирах и эспадронах (заменявших шпаги и сабли), и танцы. По результатам экзаменов за три дня до торжественного акта в сенях университетского здания вывешивали списки награжденных, а само награждение и вручение шпаг новым студентам проходило на акте. Книги и ноты, которые получали ученики, были в одинаковых кожаных переплетах с золотым гербом университета и надписью «за прилежание» (некоторые из них дошли до нашего времени), перчатки, рапиры для фехтования и другие призы имели такие же отметки. Для крепления шпаг будущим студентам перед актом раздавали портупеи.
Хотя, как видно из списков, публиковавшихся в «Московских Ведомостях», в период до преобразования гимназии ежегодно выпускалось в студенты до 30 человек, далеко не все они могли сразу же посещать университетские лекции и получали это право только после нового экзамена. (Это касалось особенно тех, кто был переведен из других училищ). Нередки были ситуации, когда студент одновременно числился в университете и посещал уроки нескольких классов гимназии. Так, например, будущий профессор И. И. Давыдов, обучавшийся в Тверском дворянском училище и приглашенный в университет в 1807 г. лично М. Н. Муравьевым, обратившим внимание на его способности[291], должен был сперва поступить в академическую гимназию (где он заслужил награды по пяти классам!); на акте 1808 г. он был произведен в студенты, но одновременно переведен в высший класс немецкой словесности, который, очевидно, посещал и дальше[292].
К началу XIX в. небольшие доходы от пансиона Крупенникова и откупов типографии уже не давали достаточно средств для содержания гимназии с более чем тысячью учеников. К тому же она не вписывалась в новую структуру народных училищ, согласно которой в Москве должна была открыться губернская гимназия, отделенная от университета. Поэтому попечитель М. Н. Муравьев склонялся к мысли упразднить университетскую гимназию, и с 1804 г. этим непосредственно занялся ректор Чеботарев. Он закрыл «сторублевый» пансион, распустил 2/3 сверхкомплектных и штатных воспитанников, а из своекоштных оставил не более 150 человек. Многие учителя были направлены во вновь открывающиеся губернские гимназии и уездные училища. Сумма на содержание гимназии еще более сократилась за счет расходов на обеды и платья воспитанников. Гимназия готова была сама собой исчезнуть, если бы не избранный в 1805 г. ректором П. И. Страхов, который, исполняя много лет подряд обязанности инспектора гимназии, близко к сердцу принимал все ее нужды и постарался сделать все, чтобы сохранить это училище, сыгравшее столь большую роль в жизни университета. По его инициативе был отменен откуп типографии, которая лишь за один год после этого принесла прибыль в 12 раз больше прежней. Пятую часть прибыли ректор направил на содержание гимназистов. Также значительно помог и пожертвованный П. Демидовым капитал, проценты от которого предназначались казеннокоштным студентам и гимназистам. Попечитель согласился с инициативой Страхова, и 28 октября 1806 г. было принято новое постановление об академической гимназии при Московском университете.
Поскольку академическая гимназия должна была теперь опять войти в новую систему народного просвещения России, в преамбуле постановления заново определялась цель ее существования: «Предмет сего воспитательного и учебного заведения есть двойной: 1-й, чтобы способствовать успешнейшему производству учения в губернских гимназиях Московского округа; 2-й, чтобы быть надежнейшим источником для наполнения праздных мест в числе студентов, кандидатов и магистров университетского казенного содержания, составляя как бы рассадник ученых чиновников Московского учебного округа»[293]. Таким образом, в академической гимназии должны были обучаться преимущественно казеннокоштные воспитанники, с тем чтобы по окончании учебного курса они производились в казеннокоштные студенты, которые, согласно уставу 1804 г., должны были потом отработать 6 лет в пользу университета и его учебного округа. В гимназию допускались и сторонние, т. е. своекоштные, ученики, но в таком количестве, чтобы «не слишком обременять учителей». Число же штатных гимназистов ограничивалось средствами университетского хозяйства, но не должно было быть меньше 60 человек. Постановление фиксировало срок полного обучения в гимназии — 4 года; таким образом, каждый год из гимназии в университет должно было поступать не менее 15 студентов. Постановление также предусматривало, что в академическую гимназию будут поступать лучшие ученики из губернских гимназий, не способные учиться на собственном иждивении.
Принятие нового постановления вызвало некоторые перестановки в руководстве гимназией. Должность эфора теперь не была предусмотрена, хотя, несмотря на это, профессор Брянцев продолжал вести учет и следить за сохранностью книг и инструментов. Новым инспектором гимназии и одновременно инспектором казеннокоштных студентов был утвержден один из прежних эфоров — В. К. Аршеневский, его помощником — адъюнкт Т. И. Перелогов. Своекоштные гимназисты, как и прежде, подчинялись непосредственно ректору. Несколько расширилась учебная программа; туда вошли предметы, включенные в университетский курс вследствие реформ Муравьева: нравственная и политическая философия, начала государственного хозяйства, древности и мифология, краткий курс естественной истории; появились уроки английского языка. В постановлении определялось, что высшие классы по всем предметам должны вести лекторы и адъюнкты университета, а начальные классы — магистры, «с соразмерным облегчением их занятий в университете или с прибавкой жалования». Закон Божий преподавал настоятель университетской церкви (им в это время был протоиерей П. Малиновский). Таким образом, гимназия позволяла большинству молодых ученых, еще не добившихся кафедры, получать жалование от университета и совершенствовать преподавательское мастерство. В программу занятий по-прежнему включались занятия музыкой, рисованием и танцами, усиленное изучение греческого языка, а также развернутый курс математики, вплоть до уравнений третьей степени и конических сечений.
К сожалению, как и некоторые другие университетские начинания, новое постановление об академической гимназии не успело в полной мере воплотиться в жизнь до 1812 г. Штатные воспитанники так и не были полностью укомплектованы, гимназия не давала обещанных 15 казеннокоштных студентов в год. После Отечественной войны 1812 г. многие из рассеянных по России гимназистов уже не вернулись обратно в Москву, и со смертью П. И. Страхова интерес к академической гимназии у университетского руководства пропал. Поэтому в послепожарном университете гимназию восстанавливать не стали, и она прекратила свое существование.
1.2. Университетский благородный пансион
При описании университета в рассматриваемое нами время можно сделать довольно естественную ошибку, заключив, что академическая гимназия в том виде, как она существовала в начале XIX в., была подготовительным отделением к поступлению в университет для разночинцев, а университетский благородный пансион выполнял ту же функцию для дворян. На самом деле, несмотря на то, что статус казеннокоштных воспитанников действительно был ориентирован на представителей беднейших сословий, которые не могли учиться на собственном иждивении, среди учеников гимназии, в том числе и казеннокоштных, были и дворяне (скажем, уже упомянутый И. И. Давыдов; а, например, М. А. Дмитриев вначале учился в академической гимназии, а уже затем был переведен в благородный пансион)[294]. Принципиальное отличие благородного пансиона, однако, заключалось даже не в плате, вносимой за обучение, а в самом характере отношения к воспитанникам. Пансион уже своим названием претендовал на роль элитарного учебного заведения, доступного лишь представителям высшего сословия. Званием воспитанника благородного пансиона нужно было гордиться; его выпускники получали не только разностороннее образование, но и все необходимые знания для выполнения своих сословных функций, навыки светской жизни. Вместе с тем, пансион был вполне доступным училищем для широкой массы служилого дворянства, плата — довольно умеренной, а условия жизни детей удовлетворяли самым придирчивым запросам. Более того, в начале 1800-х гг., когда в России еще не распространились частные пансионы, университетский благородный пансион был едва ли не единственным учреждением такого рода, дававшим воспитанникам светское, а не военное образование. «Что делать небогатому дворянину, желающему дать хорошее воспитание своим детям?» — спрашивал в 1804 г. автор статьи в «Вестнике Европы»[295]. Он видел только один ответ — направить их в Москву, в благородный пансион. Неудивительно поэтому, что его популярность была весьма высока, особенно среди провинциальных дворян, которым представлялась возможность обучать детей в столице, у хороших учителей, не тратя денег на дорогостоящую квартиру. В таком расцвете пансиона огромная заслуга принадлежала его фактическому основателю и руководителю А. А. Прокоповичу-Антонскому.
Антон Антонович Прокопович-Антонский, уроженец Малороссии, был зачислен в студенты Московского университета в 1782 г. из Киевской духовной академии, где он провел начальные годы учебы. Антонскому повезло — с первых лет пребывания в университете он попадает в число воспитанников Дружеского ученого общества, учится на его иждивении, в 1784 г. возглавляет созданное при обществе Собрание университетских питомцев. В кругу Хераскова, Новикова и их сподвижников Антонский проходит посвящение в масонство, активно участвует в университетских изданиях, отражавших мистические, «алхимические» поиски и просветительскую деятельность московских масонов: «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец», «Детское чтение» и др. Масонские взгляды на добродетель и воспитание нравственного совершенства оказали значительное влияние на основные принципы педагогики Прокоповича-Антонского, которые позже он воплощал в благородном пансионе. Его литературные занятия в названных журналах, ориентированных на распространение христианско-мистических идей прежде всего среди молодых читателей, также отразились впоследствии на характере сборников, выпускаемых благородным пансионом, которые были построены по образцам новиковских изданий.
Превосходные рекомендации позволили Антонскому в 1787 г. занять место секретаря по делам университета при кураторе И. Мелиссино. В это же время он начинает вести занятия по натуральной истории в благородном пансионе, который в тот период находился в небольшом доме во дворе главного университетского здания. Заинтересовавшись делами благородного пансиона, Антонский вскоре предпринял шаг, который определил всю его дальнейшую судьбу. В 1789 г. было выставлено на продажу здание межевой канцелярии, находившееся неподалеку от университета, в Газетном переулке, выходившем на Тверскую (который был назван так, поскольку туда переехала арендованная Новиковым университетская типография, где выпускались «Московские ведомости»).
Заручившись поддержкой Дружеского ученого общества, Антонский предложил Мелиссино исходатайствовать разрешение на передачу этого помещения университету, с тем чтобы разместить в нем благородный пансион. Хлопоты куратора имели успех, и Екатерина II подарила дом университету. Прокопович-Антонский, как инициатор переезда, был назначен инспектором благородного пансиона и с 1791 г. непосредственно занялся его организацией на новом месте. Здесь вовсю проявился его практический ум, хозяйственность и распорядительность, которую единодушно отмечали современники. Как писал впоследствии Антонский, «при определении меня инспектором и главным смотрителем бывшего Благородного Пансиона Университетского, я застал дом без ограды и в совершенном упадке. Надобно заметить, что и самый бывший Межевой Канцелярии дом, который назначили в продажу с аукциона за шесть тыс. рублей, по моей заботливости… приобретен университетом. Из суммы, вносимой воспитанниками пансиона, отделан мною в полтораста тыс. рублей архитектором Казаковым так, что в нем были не только удобные классы, спальни и залы, но и театр был весьма удобный и поместительный для публичных представлений… Когда по завладении Французами Москвы дом со всеми заведениями был сожжен… то сначала завел его в наемном доме, в 10 тыс. на год, но потом приступил опять к отделке пансионского дома и устроил его гораздо лучше против прежнего, даже церковь со всею утварью во имя Воздвижения Креста. Все опять на счет суммы, поступившей от воспитанников университета. По упразднении Пансиона, когда я отошел в отставку, и когда Пансион был назван Дворянским Институтом и через несколько лет, в 1843 г. он переведен из Тверского дома на Моховую, дом этот продан слишком за триста тыс. руб., и за все хлопоты мои не сказал никто мне и спасибо»[296]. К этому можно добавить, что за период руководства пансионом сам инспектор скопил себе небольшой капиталец, на который приобрел домик в Москве и имение с несколькими сотнями крестьянских душ. Финансовые дела пансиона всегда содержались им в полном порядке, и получаемый доход позволял ежегодно расширять пансионское хозяйство, территорию и число воспитанников.
Однако, не упуская из виду хозяйственных дел, основное внимание Антонский сосредоточил на создании учебной системы пансиона, которая принесла ему известность среди современников и любовь многих бывших пансионских воспитанников. Вот как формулирует задачи воспитания утвержденное в 1806 г. при непосредственном участии инспектора Постановление об университетском благородном пансионе. Обучение в нем предназначено прежде всего для «сохранения здоровья воспитанников, утверждения ума их и сердца в священных истинах закона Божия и нравственности, обогащения их полезными познаниями и внушения пламенной любви к Государю и Отечеству»[297]. (Этот текст неизменно печатался каждый год при «Объявлениях об учении в благородном пансионе».)
Наиболее подробно Антонский излагает свои педагогические взгляды в речи «О воспитании», произнесенной на пансионском Акте 1798 г. Разбирая их, можно говорить о преемственности масонской педагогики Антонского от идей Новикова, автора самого слова «педагогика» в русском языке, часто обсуждавшего вопросы воспитания детей в своих журналах. Антонский рассматривает предмет образования состоящим из двух частей, соответствующих развитию телесных и душевных способностей ребенка. Обе эти части должны гармонировать, и просвещение ума не может наступить раньше, чем тело получит известную крепость, достигаемую физическими упражнениями, иначе нравственные силы ребенка будут преждевременно истощены. Главное внимание наставникам следует уделить заблаговременному исследованию способностей воспитанников. «Никто не родится в свет, не получив к чему-нибудь способности». Сам процесс обучения должен равно воздействовать на память, рассудок и воображение ученика, и в нем полезный материал необходимо сочетать с приятными развлечениями. Поощряя способности воспитанников к определенным занятиям, не стоит оставлять без внимания и другие предметы, поскольку «не можно достичь совершенства ни в одной науке, не имея по крайней мере общего понятия об остальных». Характерным элементом педагогической системы Антонского было требование общего «энциклопедического» образования, которое, как он считал, более полезно для молодых дворян, чем специальные знания, поскольку удовлетворяет большему числу потребностей, встречающихся в жизни и в службе[298].
Образовательная программа благородного пансиона действительно была довольно широкой. По мысли Антонского, ее основу должно составлять изучение языков, наиболее продуктивное именно в раннем возрасте, которое развивает память, воспитывает вкус и обогащает высокими мыслями (последнее особенно относится к древним языкам). Также важнейшими предметами для воспитания являются история, математика и естествознание, так как они действуют на воображение ребенка; безусловно необходимы в обучении и изящные искусства (музыка, рисование, танцы), которые содействуют «к облегчению и успокоению рассудка». Если мы сравним учебные программы благородного пансиона и академической гимназии в постановлениях 1806 г., то заметим, что программа пансиона перекрывала гимназическую: кроме названных выше предметов туда были добавлены краткая опытная физика, военные науки — артиллерия и фортификация, гражданская архитектура, основы практического Российского законоискусства. Языкам (их изучали четыре — французский, немецкий, английский и латынь, не считая российской грамматики и риторики) и изящным искусствам уделялось в обучении даже большее место, чем основным наукам, причем, например, в 1809 г. на 20 преподавателей наук университетского цикла в пансионе приходилось 30 учителей языков и свободных искусств (правда, некоторые из них вели по несколько предметов различного характера)[299]. Благодаря связям с университетом, Антонскому удалось пригласить для чтения лекций в пансионе почти всех ведущих профессоров, и в дальнейшем он старался привлекать к преподаванию многих талантливых адъюнктов, магистров и кандидатов. Так, в пансионе М. Т. Каченовский провел свои первые занятия по истории, И. А. Двигубский — по физике, Н. Ф. Кошанский, до своего перевода в Царскосельский лицей, обучал античным древностям и мифологии.
Необходимо подчеркнуть, насколько насыщенной была такая учебная программа по сравнению со средним уровнем домашнего образования дворян в начале александровского царствования. М. А. Дмитриев вспоминает, как и чему его учили дома: «Во-первых, по-французски; потом (предмет необходимый) мифологии; наконец, un peu d’histoire et de géographie — все на французском же языке. Под историей разумелась только древняя, а о средней и новейшей и помину не было. — Русской грамматике и Закону Божию совсем не учили <…> Можно себе представить, как трудно было привыкать к основательному учению и к множеству предметов, о которых и не слыхивал!»[300] Но при этом обилие предметов неизбежно приводило к тому, что их изучение было во многом поверхностным, поэтому те из воспитанников пансиона, которые всерьез интересовались наукой, стремились посещать университетские лекции. Сказывались и ограничения, сознательно вводимые А. А. Антонским на преподавание в пансионе философии и наук общественно-политического характера. Многие молодые дворяне декабристского поколения с несравненно большим, чем у их предшественников, кругозором, почерпнутым из прочитанных книг, могли заметить то же, что и Николай Тургенев, который, приступив к изучению философии, писал в дневнике: «Будучи в Пансионе, думал я, что надобно знать только одни языки, и что тот ученый человек, кто знает к тому Историю и Географию; но теперь думаю, что учение пансионское не заключает в себе всего нужного»[301].
В общих чертах, к началу XIX в. в пансионе сложилась следующая схема обучения. В конце каждого года или летом во время каникул родители могли подавать заявки на обучение их детей в пансионе. Форма заявки, подробное расписание занятий, наставления воспитанникам, списки изданной в пансионе учебной литературы и другие необходимые сведения публиковались ежегодно в «Объявлениях о благородном пансионе при Московском университете», выпускаемых университетской типографией. Плата за обучение вносилась всегда вперед, сразу за полгода или год, и не возвращалась, даже если ученик выбывал из пансиона. Все воспитанники делились на пансионеров и полупансионеров; первые жили и питались в пансионе, вторые только приходили на занятия и обедали там. В начале 1800-х гг. пансионеры платили 275 руб. в год, а полупансионеры — 175 руб.; к 1812 г. эти суммы несколько увеличились. Кроме того, для пансионеров предусматривался ряд единовременных дополнительных выплат: за заведение новой кровати для воспитанника, за прислугу, выделяемую от пансиона тем, кто не имел собственной, за обучение игре на фортепиано (уроки скрипки и флейты давались без дополнительной платы), а также за возможность для желающих заниматься верховой ездой в соседнем манеже (со временем пансион предполагал завести собственный). Все родители вносили определенную сумму на покупку пансионом книг и учебных пособий или сами дарили их ему. Однако каждая из этих выплат не превышала 50 руб., так что в целом плата за обучение была вполне приемлемой для средней дворянской семьи и позволяла бережливому Антонскому вести и расширять пансионское хозяйство. Единственным «богатством» пансиона, по выражению Н. В. Сушкова, было столовое серебро, поскольку каждый воспитанник должен был оставить пансиону одну серебряную ложку[302].
В пансион принимались дети не моложе 9 и не старше 14 лет. Здесь они разделялись на три возраста: меньший — от 9 до 12 лет, средний — от 13 до 15, и больший — 16–20 лет. Согласно возрастам воспитанники размещались в комнатах и учились, причем, как и в академической гимназии, каждый предмет был разделен на 6 классов и ученики переходили из класса в класс по каждому предмету независимо. Полный срок обучения в пансионе был, таким образом, 6 лет, но многие ученики проходили программу и быстрее, а некоторые, наоборот, по несколько лет сидели в тех же классах. Распорядок занятий также напоминал гимназический: пансионеров будили в 5 часов утра, в 6 начиналось повторение уроков, в 7 — утренняя молитва и завтрак, с 8 до 12 часов — классы, затем обед, небольшой отдых или летом игры во дворе. Вечерние занятия начинались в 2 часа пополудни и продолжались до 6 часов вечера, когда наступало время полдника, с 7 до 8 ученики повторяли уроки в своих комнатах, затем был ужин, вечерняя молитва и чтение Священного Писания и в 9 вечера пансионеры отправлялись ко сну. За соблюдением распорядка следили надзиратели, которые должны были неотлучно находиться вместе с пансионерами в их комнатах и дежурить в них по ночам. «Надзиратели не всегда отличались примерностью своего поведения; впрочем трудно было требовать совершенства от людей, которые решились принимать на себя такие хлопотливые и мало выгодные в денежном отношении должности. <…> Антонский имел высшую инспекцию. Он не часто показывался воспитанникам и очень хорошо делал: его за то больше боялись и уважали. Он никогда не суетился, всегда шел тихо, редко кричал, при появлении его можно было расслышать жужжание мухи»[303].
Предполагалось, что каждый надзиратель свободно владеет одним из иностранных языков, преподаваемых в пансионе, и в свое дежурство будет требовать от детей, чтобы они разговаривали только на этом языке. Однако эта мера не вполне обеспечивала должный уровень знания иностранных языков. Один из воспитанников вспоминает, что особенно «немецкого языка никто терпеть не мог; считалось даже унизительным русскому дворянину говорить на нем: все колбасники и сапожники говорят по-немецки»[304].
Одним из ключевых педагогических методов Антонского была тщательно разработанная им система наград и поощрений для воспитанников. Она проявлялась и на уроках, и в повседневной жизни учеников, и, конечно, на торжественных пансионских мероприятиях. На уроках отличники занимали первые парты, они могли вести опрос учеников и повторение занятий в классе в ожидании учителя, в комнатах должны были следить за поведением младших учеников и заменять отсутствующих надзирателей. Для особенно прилежных воспитанников были выделены особые комнаты — отличная и полуотличная (к этому числу относили не более 15 человек). Право жить в этих комнатах и обедать за отдельным круглым столом в середине обеденного зала, где подавалось одно лишнее блюдо, было предметом гордости и соревнования воспитанников, чего и добивался инспектор. Впрочем, «некоторые тяготились этими преимуществами; другие напротив, ими величались»[305].
Поэтому и видами наказаний служили перевод ученика на последние парты в классе, лишение сладкого пирожного за обедом и ужином и т. д. Все замечания и проступки ученикам отмечались штрихами в классном журнале; «оштрихованные» несколько раз пансионеры могли получить выговор от Антонского, запрещение в воскресные дни уходить из пансиона к родным или попасть за «ослиный стол» — наиболее позорное наказание в пансионе, заключавшееся в том, что провинившийся должен был стоять в углу у печки перед входом в столовую, на виду у всех воспитанников, которых вели на обед.
Интересно отметить, что, обращаясь с наставлениями к молодым дворянам, Антонский апеллировал к их чувству чести и долга, внушал им необходимость «благородства духа», характерного для их сословия, которое заключалось, в частности, в благонравном поведении и прилежной учебе. В пансионе никогда не применялись телесные наказания, столь распространенные, например, в академической гимназии. С ранних лет пансионеры получали представление о дворянском кодексе чести, о нормах светского поведения. Сознательной подготовкой к светской жизни служили частые торжественные вечера в пансионе, театральные спектакли, маскарады и прочие праздники, куда приезжало множество гостей, среди которых у воспитанников было большое число знакомых.
Иногда пансионское начальство отпускало воспитанников и на московские балы, куда их приглашали некоторые семьи.
Вместе с тем, не меньшую роль в пансионе играло и религиозное воспитание, пронизывавшее все стороны его жизни. Наставления воспитанникам, висевшие в каждой комнате, призывали их задуматься, как «добродетельное дитя должно любить Бога», в пансионе строго соблюдались постные дни, каждое воскресенье пансионеры посещали церковь, чтение вслух Священного Писания после вечерней молитвы воспитанников было привилегией самых лучших учеников. Обе эти стороны педагогики Антонского — светское и нравоучительное направления — ярко проявлялись в деятельности Собрания воспитанников благородного пансиона, литературного кружка, который, с одной стороны, развивая творческие способности детей, привлекал их к литературному процессу того времени, с другой же стороны, согласно общей тематике ученических работ, задаваемой Алтонским, служил их нравственному воспитанию.
«Собрание воспитанников благородного пансиона» было основано в 1799 г., его первоначальный устав подписали такие известные питомцы пансиона, как Жуковский, Андрей и Александр Тургеневы, Андрей Кайсаров и др. Первым председателем собрания был избран Жуковский. Целью собрания провозглашалось «исправление сердца, очищение ума и вообще исправление вкуса» воспитанников[306]. Собрания проходили по средам, раз в две недели, в круглом зале пансиона, предназначенном для торжественных актов. На каждом заседании воспитанники читали свои сочинения и переводы, которые «разбирались критически, со всей строгостью и вежливостью», произносили речи или обсуждали вопросы из области нравственной философии и литературы. Старшим воспитанникам предлагалось сделать критический анализ только что вышедших книг и журналов. На собраниях всегда присутствовал Антонский, «но сидел в стороне и слушал, нисколько не мешая свободе мнений; только, когда случалось, при прениях о вопросе кому-нибудь сбиваться в сторону и выходить из вопроса, он напоминал его и наводил на сущность рассуждения»[307]. От участников требовалось выполнять два условия: «дружество между членами собрания и ненарушимую скромность», которая заключалась в хранении строгой тайны обо всем, что происходило на собрании, и о мнениях его членов. Это масонское правило придавало собраниям в глазах детей некоторое возвышенное значение. Его усиливали посещения собраний известными московскими литераторами Дмитриевым и Карамзиным; последний часто приезжал незваным гостем, возбуждая радость и волнение у воспитанников. Особенно торжественно, в присутствии гостей и профессоров, отмечался день заведения Собрания — 17 марта; так, например, С. Г. Саларев, председательствовавший в одном из таких собраний, часто вспоминал потом об этом как о счастливейшем дне в его жизни[308].
Почти каждый год, под редакцией А. А. Прокоповича-Антонского, Собрание выпускало литературный альманах, состоявший из сочинений воспитанников пансиона. (В 1803, 1805–1808 гг. это была «Утренняя заря» (кн. 2–6), в 1804 г. — «И отдых в пользу», в 1810–1811 гг. — «В удовольствие и пользу» (кн. 1–2).) Трудно говорить о самостоятельности и оригинальности большинства произведений в этих изданиях, хотя среди них помещались и стихи таких блестящих дарований, как Жуковский, Андрей Тургенев, Мерзляков, 3. А. Буринский, М. В. Милонов, скорее здесь отразились вкусы и тематика, определяемая педагогическими задачами Прокоповича-Антонского. Литературные пристрастия Алтонского были ориентированы на сочинения Карамзина, которые, как писал в своем известном доносе П. И. Голенищев-Кутузов, в пансионе сделались классическими («их читают, знают наизусть»). В сентиментальном «карамзинском» стиле учениками Алтонского воспевается дружба, добродетель, благонравие, прилежание и др., среди их переводов преобладают нравоучительные истории из различных эпох, некоторые статьи имеют познавательный характер. Размышления о религии, божестве, постижении истины, столь свойственные масонской периодике конца XVIII в., но не вполне подходящие к юному возрасту авторов, по выражению П. Н. Сакулина, рисовали образ «маленьких старичков»[309]. Читающая публика встречала альманахи без особого энтузиазма, критика была весьма сдержанна, но для многих воспитанников пансиона — будущих литераторов — эти издания послужили открытием их литературного поприща[310].
Занятия словесностью вообще занимали ведущее место в пансионе, так что, как заметил Сушков, «по всей справедливости пансион можно назвать литературным». Огромная заслуга в этом принадлежит преподававшему в пансионе российскую словесность и риторику А. Ф. Мерзлякову, к авторитету которого все воспитанники испытывали большое уважение и даже благоговение. «Живое слово Мерзлякова и его неподдельная любовь к литературе были столь действенны, что воспламеняли молодых людей к той же неподдельной и благородной любви ко всему изящному, особенно к изящной словесности! Его одна лекция приносила много и много плодов, которые дозревали и без его пособия; его разбор какой-нибудь оды Державина или Ломоносова открывал так много тайн поэзии, что руководствовал к другим дальнейшим открытиям законов искусства»[311].
Кульминационным моментом всей жизни воспитанников был Торжественный акт благородного пансиона, проводимый ежегодно в последнюю неделю перед Рождеством. Настроения детей перед актом передает дневниковая запись Н. Тургенева, который ровно через год после окончания пансиона вспоминает учебу и то, как «во все это время сегодняшняя ночь была проводима (по большей части) в размышлениях — в надежде. Еще прошлого года, во время сей ночи, я был в беспокойстве, еще прошлого года думал я об акте пансионском, теперь в таком беспокойстве мои товарищи, оставшиеся в пансионе <…> Завтра буду зрителем там, где за несколько месяцев был действующим лицом»[312].
Акту предшествовали публичные экзамены воспитанников, на основании которых выносились окончательные решения о наградах, переводах в высшие классы и производствах в студенты, поскольку по установившейся традиции пансионеры получали это звание по решению инспектора без дополнительных экзаменов, и не на летнем университетском акте, а зимой, в пансионе, и хотя посещали лекции в университете, продолжали там жить и подчинялись пансионскому начальству.
Перед открытием акта в пансион съезжались почетные гости, профессора и ректор университета, иногда присутствовал и попечитель. Акт открывался речью на русском языке, посвященной какой-нибудь нравоучительной теме, которую произносил один из отличных воспитанников, другой читал французские или русские стихи «образцовых сочинителей», затем несколько воспитанников разыгрывали французский разговор (например, «о важности изучения наук в юности»), а также «судебное дело» из класса Российского практического законоискусства, которым руководил университетский лектор Горюшкин. Затем начинался концерт, в котором исполнялось две-три пьесы или ансамбля на скрипке, фортепиано и флейте, который продолжали показательные фехтовальные бои и танцы. Концерт завершался чтением одним из первых учеников пансиона своих стихов, демонстрацией лучших рисунков и чертежей воспитанников, которые те дарили посетителям. Программа иногда варьировалась, в нее включались немецкие речи воспитанников или несколько «разговоров», кроме того воспитанники торжественно подносили присутствующим начальникам (попечителю или ректору) вновь вышедшие выпуски пансионских альманахов, но в целом она повторялась из года в год без изменения, что вызывало усмешку у некоторых бывалых учеников[313].
Самый волнующий для воспитанников момент наступал в конце акта, когда им объявляли присужденные за этот год награды и призы, распределение которых Антонский хранил в тайне до самого дня вручения. По разработанному инспектором порядку ученики младшего и среднего возраста получали призы — один или несколько, в зависимости от успехов, а старшего возраста — призы, похвальные листы и медали. Призами (как и в академической гимназии) преимущественно служили книги, а также ноты, рапиры с перчатками, эстампы, глобусы и прочие учебные инструменты. Всего во всех возрастах призы получали до 100 воспитанников, откуда видно, что эта награда не означала особых успехов в науке, а служила поощрением, которое Антонский считал первым залогом успешной учебы. Впрочем, в младших возрастах выделялись воспитанники, получавшие три приза, что действительно означало их особое прилежание.
Медали для старших учеников подразделялись на серебряные, серебряные с именем, серебряные с именем и листом и золотые с именем и листом — высшая награда, которая присуждалась двум лучшим воспитанникам года. Они определялись инспектором, но одновременно должны были быть избраны на голосовании отличных воспитанников пансиона. Звание первого воспитанника ученик носил в течение всего года после акта. Кроме того, те из первых воспитанников, которые уже получили звание студента и заканчивали университет, вместе со своими университетскими дипломами получали подарки, одобрительные листы, подписанные попечителем Московского учебного округа, и их имена золотыми буквами запечатлялись на доске, висевшей в зале пансиона, рядом с портретами кураторов университета[314]. Награжденный воспитанник завершал акт благодарственной речью, после чего оркестр играл симфонию и звучал заключительный хор, прославляющий науки и их покровителей в лице кураторов и государя.
Возвращаясь к личности инспектора пансиона Алтонского, мы должны отметить и его отрицательные качества, ускользнувшие от авторов апологетических мемуаров — Н. В. Сушкова и С. П. Шевырева, но не оставшиеся незамеченными другими его воспитанниками. Вот как характеризует некоторые качества характера Алтонского В. А. Сафонович: «С родителями был он до крайности вежлив и внимателен: они были ему признательны и не жалели подарков. При всем недостатке глубокой учености, он далеко превосходил своих товарищей профессоров в знании общества и людей. Ум его был гибкий и изворотливый. Его очень боялись в пансионе. Он умел держать все в должном порядке. Бывали минуты, когда он позволял себе весьма жесткое обхождение с подчиненными и воспитанниками и мало в этом случае церемонился; иногда вырывались у него такие выражения, которые не обличали в нем светского человека, но осуждать его вполне нельзя»[315]. Сушков добавляет, что Антонский поддерживал порядок в пансионе тем, что зимой, уставая посещать классы, посылал в сени свою шинель, которая висела на видном месте, создавая для учителей и воспитанников видимость того, что инспектор ходит где-то рядом. С насмешкой вспоминает выговоры «добродушного хитреца» и С. П. Жихарев: тот готов был простить нерадение Жихарева к учебе и увлечение театром за знание наизусть повестей Карамзина и стихов Жуковского.
Не было секретом среди воспитанников, что представляет из себя Алтонский и как преподаватель. По воспоминаниям Сушкова, из всех воспитанников пансиона только он один и ездил на его лекции. Кроме анекдотов о преподавании Антонекого, которые приводит Жихарев, вспомним о его постоянном прозвище «Профессор Энциклопедии», данном не только потому, что тот вел предмет с таким названием, но и за его стремление подражать светским манерам и вести дворянский образ жизни, занимаясь верховой ездой в манеже, посещая балы, праздники и пр. В общении с представителями верхушки дворянского общества, особенно со своим начальством, Антонский всегда проявлял верх любезности и угождал во всем, так что протекции при учении в пансионе значили очень много, хотя одновременно хорошие отношения с начальством позволяли Анто некому самому успешно хлопотать по многим делам, о которых его просили бывшие питомцы. До конца жизни Антонский поддерживал связь с воспитанниками пансиона и вел тщательные списки тех, кто как-либо отличился в обществе, питая мысль, что в их успехах есть и его заслуга. Между тем пристальный взгляд на судьбу только некоторых из них показывает, как сами воспитанники считали, что строят свою жизнь скорее вопреки наставлениям воспитателя. Это особенно относится, конечно, к будущим декабристам, немало из которых окончили благородный пансион.
Характерна с этой точки зрения семья Тургеневых, из которой все четыре брата в разное время учились в пансионе. Для самого одаренного из братьев, рано умершего поэта Андрея Тургенева, к 1800–1802 гг. «от былого обаяния масонской педагогики Алтонского не осталось и следа»[316]. Он возмущается поступками Алтонского, которые несовместимы с личными представлениями Тургенева о чести и благородстве, его крепостнической расправой над провинившимся слугой. Не без оснований он подозревает бывшего наставника в корыстных видах на состояние семьи Соковниных, дочерьми которых были увлечены оба брата — Андрей и Александр. Друг Тургеневых А. С. Кайсаров пишет об Антонском по этому поводу: «Честный примиритель семейств, утешитель страждущих, благообразный фарисей! И этот человек был моей моделью». Еще одно столкновение случилось у друзей с Антонским, когда он препятствовал постановке в пансионском театре пьесы Н. Сандунова с подчеркнутым антикрепостническим содержанием.
Николай Тургенев, как и его братья, один из лучших учеников пансиона, только что получивший золотую медаль и занесенный на памятную доску, характеризует в дневнике Антонского и его систему воспитания весьма жестко, вспоминая «о всех несчастных жертвах, которых незнающие родители вверяют таковому роду общественного воспитания, каков сей Пансион <…> Как можно оставлять мальчика лет 12 или и более на его произвол? (Конечно, на его произвол, потому что в Пансионе ни к чему принудить не можно.) И как полагаться на надзирание какого-нибудь немца или университетского студента, который только что читает по-русски — как, говорю, полагаться на надзирание такого невежды, как вверять невинных младенцев таким необразованным людям <…> Я сам был лет 8 в сем Пансионе, но не в таком положении — я был полупансионером, это совсем не то. Сам видел несчастных, которые надолго загубили себя. Всех бы (начальника Антонского и надзирателей) не жалко перевешать…»[317] Задания, которые Тургенев получал от инспектора как отличник, тяготили его, так же как и статьи, которые он по требованию Антонского должен был писать для «Утренней зари». Уже посещая университетские лекции, Тургенев был вызван к инспектору и его помощнику для объяснений по поводу дружеской пирушки, которая была накануне, но «почел за нужное уехать домой», поскольку ему «показалось низким идти к этим господам».
В заключение отметим, что, хотя педагогика Прокоповича-Антонского стремилась воспитывать юношей далекими от проявлений вольномыслия и недаром приводила в восхищение столь консервативно мыслящих людей, как Шевырев и Сушков, тем не менее, та относительная свобода, которой были предоставлены воспитанники, скорее вопреки воле наставника, дружеское общение, чтение книг и, наконец, сам «дух времени» способствовали тому, что из стен пансиона вышло немало будущих декабристов[318].
В рассматриваемый нами период с 1803 по 1812 гг. система воспитания в Университетском благородном пансионе претерпела мало изменений. Постановление, принятое 30 декабря 1806 г., которое узаконивало статус пансиона и включало его в структуру Министерства народного просвещения, в отличие от аналогичного постановления по академической гимназии не заключало в себе никаких реформ. В нем подчеркивалась независимость средств и помещений пансиона от университетского хозяйства, и хотя формально «Правление университета располагает его воспитательной частью, а Совет — учебной и нравственной, ближайшее надзирание за Благородным Пансионом вверяется одному из сочленов университетского Совета под названием Инспектора Благородного Пансиона»[319], что фактически сохраняло существующую систему.
К началу 1810-х гг. благородный пансион зарекомендовал себя как одно из ведущих образовательных заведений России для молодых дворян. Неудивительно, что при создании Царскосельского лицея, по своему предназначению элитарного учебного заведения, претендующего на роль лучшего в стране, правительство обратилось именно к опыту московского благородного пансиона. Более того, набирая учеников будущего Лицея, министр Разумовский отправил директиву университетскому начальству, где указывал требования, предъявляемые к лицеистам, и спрашивал: «Сколько воспитанников пансиона на основании данных требований могут поступить в Лицей?»[320] Сафонович вспоминает, что весной 1811 г. из числа лучших воспитанников младшего возраста были отобраны в Лицей 22 человека, среди них и он сам, но смогли поехать только пятеро, причем «сначала потребовали довольно порядочное число воспитанников; потом вакансии быстро наполнялись, и это число было сокращено»[321]. Его сведения подтверждаются списками имен награжденных на акте 1810 г. пансионеров, опубликованными в «Московских ведомостях», и свидетельством Сушкова, в которых мы видим фамилии пяти учеников первого лицейского набора, друзей и однокашников Пушкина, — это В. Вольховский, Д. Маслов, Ф. Матюшкин, С. Ломоносов и К. Данзас. Кроме них в лицей поступили и два пансионских преподавателя: словесник Н. Ф. Кошанский и математик Я. И. Карцев.
Подводя итог описанию учебного процесса в Московском университетском благородном пансионе, мы должны еще раз подчеркнуть ту большую собирающую функцию, которую он выполнял в формировании в России нового образованного поколения русского дворянства и по его конкретной подготовке, и по привлечению его наиболее талантливых представителей в Московский университет.
2. Студенческий состав университета. Учебный процесс
Как мы уже убедились, в рассматриваемый нами период с 1803 по 1812 гг. в жизни университета произошли огромные изменения, определившие на долгое время пути его дальнейшего развития, его значение в качестве образовательного центра, его роль в общественной жизни России. Особенно ярко этот перелом отразился в таких количественных показателях, как численность обучающихся в университете студентов и их социальный состав, показывавших, насколько широко программа, которую правительство стремилось воплотить в области высшего образования, затрагивала различные слои населения страны. Мы должны отметить здесь несколько решающих сдвигов в этих показателях: во-первых, это резкое увеличение количества студентов, более чем в три раза за 10 лет (см. Приложение 3); во-вторых, вовлечение в образовательный процесс большого числа представителей молодого поколения русского дворянства, для многих из которых учеба в университете или его подготовительных заведениях теперь становится необходимым условием для завершения их воспитания и полноправного вступления в общественную жизнь, причем именно студенты-дворяне определяют в этот момент портрет воспитанников университета, как с точки зрения московского общества, так и по их влиянию на русскую культуру.
Решающую роль в притоке в университет студентов сыграли не только успехи реформ Муравьева, развитие здесь науки, повышения уровня преподавания и пр. Не меньшее значение имели и «насильственные» меры правительства, выразившиеся в знаменитом указе 6 августа 1809 г. об экзаменах на чины коллежского асессора и статского советника, соответствовавших университетской программе, которые нужно было сдавать перед комиссией из профессоров университета. Больнее всего указ ударил по чиновникам, еще не достигшим заветного асессорского чина, и дворянским отпрыскам, вступавшим в службу после традиционного домашнего образования, которое не позволяло сдать экзамен, требовавший знания древних языков, основ истории, философии, права и других наук, и естественным выходом из этой ситуации было поступление в университет, что и вызывало недовольство большинства дворян. Одни из них «были не в состоянии отправлять своих детей в Москву; другие пугались премудрости и такому множеству наук, не почитая их для одной головы возможными»; многие удивлялись требованиям указа, т. к. считали, например, латинский язык нужным только для лекарей и семинаристов, да и «самое слово студент звучало чем-то не дворянским»[322]. Тем не менее, необходимо было покориться новому порядку вещей (по крайней мере до тех пор, пока не найдены обходные пути), и российские университеты начали в прямом смысле наполняться студентами. Списки принимаемых студентов в отчетах о торжественных университетских актах (которые ежегодно печатались в первых номерах «Московских ведомостей» за июль) дают нам следующую картину[323]:
Опираясь на эту таблицу, можно сделать несколько любопытных наблюдений. Во-первых, ярко виден всплеск интенсивности принятия студентов в связи с указом об экзаменах на чин, максимум которого пришелся на 1810/11 учебный год, когда количество новопроизведенных студентов (117 человек) было сравнимо с числом уже обучающихся студентов! Мы видим также, как повлиял указ и на положение воспитанников благородного пансиона: до 1809 г. производства в студенты происходили здесь зимой, на пансионском акте и сводились к тому, что ученик получал позволение посещать университетские лекции, оставаясь на иждивении пансионского начальства, поэтому такие зачисления не фиксировались, кроме редких случаев, в отчетах о торжественном собрании (так, например, в «Московских ведомостях» мы не находим известий о зачислении в студенты С. П. Жихарева, Н. И. Тургенева, Н. Ф. Грамматика, хотя они несомненно учились в университете). После 1809 г., из-за необходимости сдавать экзамен, Антонский вносит в список студентов, оглашаемый на летнем акте, большую часть выпускников пансиона за этот год, вероятно, не без согласия родителей, что и отражено в таблице. С другой стороны, после преобразования академической гимназии ее значение при комплектовании студентов резко падает. Если раньше приблизительно постоянное число поступавших за каждый год после университетских реформ студентов почти на половину состояло из выпускников гимназии, то теперь этот процент значительно уменьшается из-за сокращения числа гимназистов (особенно ярко это показывает 1809 г.). Хотя по замыслам университетского руководства ежегодно гимназия должна была снабжать университет определенным количеством казеннокоштных студентов, мы видим, что и это число оказывается небольшим, удерживаясь на уровне конца XVIII в.
Другим важнейшим источником наших сведений о численности и социальном составе студентов является т. н. книга регистрации студентов и вольнослушателей Московского университета за 1810–1815 гг. (хранится в ОРК Научной библиотеки МГУ). Здесь мы находим собственноручные записи своекоштных студентов, а также лиц, получивших письменное позволение от ректора посещать занятия в университете. Появление такой группы учащихся, хотя и предусмотренное уставом 1804 г., также было непосредственно связано с указом от 6 августа. Как мы уже знаем, для подготовки чиновников и прочих лиц, желавших сдать экзамены, в университете были созданы специальные курсы, но занятия там проходили в неудобное время и с очень малой эффективностью, поэтому те, кто решил всерьез готовиться к экзаменам, а с другой стороны, не желал переносить все труды университетского учения, мог попросить у ректора разрешение посещать лекции вместе со студентами, которое тот легко давал. Е. Ф. Тимковский вспоминает, какое «большое различие приметно было между действительными студентами и горделивыми претендентами на чины асессора и статского советника, которых принудили указом, для выдержания экзамена на те чины, посещать университетские лекции»[324].
В этой книге регистрации мы находим фамилии 49 студентов и 100 вольнослушателей, записавшихся в университет в 1810/1811 учебном году, а 181 студент и 90 слушателей расписались в списке на 1811/12 учебный год. Чтобы убедиться, что эти цифры не противоречат сведениям из «Московских ведомостей», сразу оговоримся, что список студентов 1810/11 гг. выглядит незаконченным, прерванным у конца страницы. Возможно, в течение этого года претерпел некоторые изменения и статус вольнослушателей, поскольку очень многие из них в следующем 1811/1812 г. записались студентами университета, что могло каким-то образом отразиться уже в списках принятых студентов, составленных для акта 1811 г. (Среди переменивших таким образом свое положение в университете самое дорогое для нас имя — Александр Грибоедов.) Что касается данных за 1811/1812 г., то они очень близки к тем, которые сообщает отчет по университету (220 студентов), если мы вспомним, что в книге не фиксировались казеннокоштные воспитанники. Таким образом, сложив студентов и вольнослушателей, мы получаем на рубеже 1812 г. весьма значительную цифру, (особенно в сравнении с началом века) — 310 молодых людей, посещающих в этом году занятия в университете.
В отличие от данных о численности студентов, к сожалению, никакими точными сведениями об их социальном составе мы не располагаем и можем судить об увеличении доли дворян в университете (кроме высказанных выше соображений о влиянии на дворянство указа 6 августа) лишь по возросшему вкладу благородного пансиона в формирование студенчества при одновременном уменьшении роли академической гимназии и, конечно, по опубликованным фамилиям самих студентов, которые позволяют определить их сословную принадлежность чисто условно. На помощь нам приходят мемуарные свидетельства; учившийся в 1805–1808 гг. в Московском университете сокурсник Грибоедова В. И. Лыкошин так вспоминает о начавшемся вследствие реформ Муравьева процессе привлечения дворян к высшему образованию. «Мы <В. И. Лыкошин и его брат. — А. А.> были первый образчик дворянских детей, обучающихся не на казенный счет в университете (оба они жили на пансионе у профессора Маттеи. — А. А); да еще в одно время с нами были пансионерами у профессора Фишера Перовский Алексей и Коваленский. Потом по примеру нашему привезли для определения нашего <земляка Лыкошиных по Смоленщине. — А. А.> И. Д. Якушкина и Бунакова, которых пристроили у профессора Мерзлякова. Скоро после того и некоторые из москвичей стали посылать на лекции детей с гувернерами, которые, как и наш Мобер, присутствовали в классах; так приходил с Петрозилиусом на лекции и Александр Грибоедов. <…> Тогда же приходили на лекции кн. Иван Дмитриевич Щербатов и двоюродные братья его Михаил и Петр Чаадаевы с гувернером-англичанином, князья Алексей и Александр Лобановы, два брата графы Ефимовичи и другие»[325].
Таким образом, впервые за 50 лет существования университета, в его стенах появились представители аристократических фамилий русского дворянства, знатных или приближенных ко двору в нынешние или прошлые времена семей. Это подтверждает и книга регистрации студентов, где мы встречаем фамилии князей Трубецких и Волконских, а также Римских-Корсаковых, Аладьиных, Всеволожских, Муравьевых, Оболенских, Раевских и пр. Десяток фамилий принадлежит немецким баронам, которые приехали учиться в Москву из Прибалтики. Кроме самих фамилий в книге регистрации указанием на сословную принадлежность также является чин и место службы, которое должны были сообщить вольнослушатели университета. Среди этих названий чаще всего упоминается два — Архив коллегии иностранных дел, служба в котором была привилегией отпрысков дворянских семей, и Московская славяно-греко-латинская академия, где учились преимущественно дети священников. Большая группа бывших семинаристов, выходцев из духовного сословия, постоянно существовала и среди студентов университета (о них, например, так вспоминает Д. Н. Свербеев: «В наше время можно было разделить студентов на два поколения: на гимназистов и особенно семинаристов, уже бривших бороды, и на нас, аристократов, у которых не было и пушка на губах. Первые учились действительно, мы баловались и проказничали»[326]).
Нельзя сомневаться, что помимо названных нами детей дворян и священников, в Московском университете учились выходцы из всех сословий России, представители разных ее национальностей и вероисповеданий (так, например, кроме уже упомянутых немцев, мы встречаем в списках студентов грузинскую фамилию Церетели). Вообще с момента основания и на всем протяжении своего существования университет выполнял уникальную и совершенно необходимую для русской культуры функцию — служить притягивающим центром для молодых людей со всей России, которые искали свой путь в жизни, мечтали обрести его в овладении знаниями, в глубинах науки, в просвещении, чтобы с его помощью приносить пользу Отечеству. Добираясь сюда, эти люди терпели в дороге нужду, преодолевали препятствия (вспомним о жестяной кружке профессора Мудрова!), повторяя, в той или иной мере, подвиг Ломоносова — основателя учебного заведения, куда они так стремились.
Прекрасным и трагическим примером этого является история единственного крестьянина, учившегося перед Отечественной войной в университете (о ней вспоминает Н. В. Сушков). Как-то раз зимой, приехав в университет из пансиона вместе с Антонским, они встретили в горнице мужика, в тулупе, с черной бородой. «Учиться пришел? — спросил его Антонский, чай издалека, из деревни-то. Милости просим! Садись-ка покуда вот у нас. А ужо поговорим». Пришельцем оказался некий Бугров, из казенной волости. Сушкову было весело встречать мужика на лекциях, где он представлялся ему вторым Ломоносовым. В своих занятиях тот решил посвятить себя астрономии. Среди суматохи 1812 г. Сушков потерял его из вида, но до него доходили слухи, что Бугров воевал в ополчении, а впоследствии «самовольно кончил жизнь»[327].
Упомянем также и о судьбе двух финляндских студентов, обучавшихся в Московском университете. После включения в 1809 г. Финляндии в состав Российской империи правительство обсуждало вопрос о скорейшем налаживании ее культурных контактов с Россией. Как говорилось в письме, полученном министром народного просвещения 21 марта 1812 г. по этому поводу, «между способами к ближайшему соединению Финляндии с Россией признал государь император ученое сношение между обоими краями „более тому споспешествующее“». Для этой цели предлагалось направить за казенный счет двух студентов университета в Або, «по знанию и хорошему своему поведению испытанных», в Московский университет[328]. Приглашенными оказались студенты-шведы Густав Эрстрем и Карл Оттелин. В личном письме ректору Гейму Разумовский просил позаботиться об их плодотворном пребывании в Москве[329]. Подробности их учебы в университете нам известны из чудом сохранившегося дневника Эрстрема[330]. Приехав в Москву в апреле 1812 г., шведы поселились вместе с казеннокоштными студентами на полном содержании. Не зная русского языка, они вынуждены были общаться с товарищами по-немецки или по-французски. Эрстрем слушает лекции профессоров Гаврилова, Гофмана, Рейсса, Тимковского и Фишера, учит русский язык, интересуется русской литературой и особенно Карамзиным. По приглашению Гейма шведы посещают усадьбу Горенки, где осматривают библиотеку Разумовского и его ботанический сад. Однако начало Отечественной войны прерывает их учебу. Вместе с университетом они выезжают в Нижний Новгород, а весной 1813 г., когда до восстановления занятий в сгоревшей Москве было еще далеко, приходит распоряжение о возвращении студентов обратно в Финляндию. Впрочем, пребывание в России не прошло для них даром: оба товарища впоследствии немало сделали для развития просвещения и пропаганды русского языка и культуры в Финляндии[331].
Учеба в университете для всех студентов, не имевших аттестата об окончании какого-либо учебного заведения, начиналась с вступительного экзамена, который они должны были выдерживать перед комиссией, назначенной ректором. Если разночинцам из гимназии для успешного результата, как мы видели, необходимо было выдержать серьезное испытание, то для многих молодых дворян, особенно в первые годы после реформы, экзамен проходил без особых формальностей. «В назначенный день съехались к нам к обеду профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттеи и три или четыре других. <…> За десертом и распивая кофе профессора были так любезны, что предложили Моберу (гувернеру Лыкошиных) сделать нам несколько вопросов; помню, что я довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т. п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату 11 лет»[332]. Практика столь раннего приема в студенты была одной из характерных новых черт реформированного университета (она упоминается и в «Жалобной песни московского студенчества» — см. гл. 2), но для дворянства являлась естественной, исходя из того, что к 16–18 годам молодые дворяне должны были уже быть на службе и находиться не на последних ступенях чиновной лестницы (в связи с этим можно вспомнить распространенный в XVIII в. обычай записывать в полк детей с малолетнего возраста); с этой точки зрения семьям было важно, что принятие их детей в университет приписывало их сразу же к 14 классу, а его окончание в звании кандидата — к 12 классу. В 1812 г. в условиях очевидного наплыва студентов ректор попытался ужесточить условия приема, требуя от поступающих знания латинского языка, но и эта попытка не привела к серьезным изменениям в практике зачисления студентов.
Всю необходимую для поступающих информацию об университете содержали ежегодно издававшиеся в университетской типографии по решению совета «Объявления о публичных учениях в императорском Московском университете», выходившие на русском и латинском языках. В объявлениях указывались по каждому факультету фамилии профессоров, названия курсов, дни недели и время начала лекций, которые они будут читать в этом учебном году. К объявлениям прилагалось краткое расписание занятий профессоров. Кроме того, в них печаталась другая полезная информация об учебе, например, время и темы приватных занятий профессоров, учебники, которыми они будут руководствоваться при чтении курсов, порядок работы университетского музея, библиотеки и ботанического сада, занятия в педагогическом институте, в клиническом, хирургическом и повивальном институтах при медицинском факультете.
Учебный год начинался в университете 17 августа и заканчивался 28 июня, после чего проходили публичные экзамены и торжественный акт. Летом и зимой, от Рождества до Крещения, студенты расходились на каникулы, а профессора отправлялись в инспекторские поездки по училищам своего учебного округа. Перед началом лекций учащиеся должны были получить у ректора список профессоров, занятия которых им необходимо было посещать в этом учебном году. «На право слушания лекций выдавалась каждому на латинском языке табель, в которой по каждому факультету выставлены были с именами профессоров все предметы университетского учения, ректор отмечал в них, по собственному усмотрению, те предметы, слушание которых делалось для снабженного табелью обязательным»[333]. Впрочем, как видно из книги регистрации за 1811/12 г., студенты могли сами выбирать профессоров, составляя для ректора их список[334]. Важно отметить, что судя по спискам в этой книге, а также по тем фамилиям профессоров, которые приводят мемуаристы, большинство студентов посещали занятия сразу нескольких факультетов. Это не обязательно свидетельствовало о личной одаренности и тяге к науке конкретного студента, а просто отражало общий «энциклопедический» характер занятий в университете. Первый год обучения представлял своего рода вводный курс, призванный несколько выровнять уровень знаний учащихся и подготовить их к более специализированным занятиям на своих факультетах, поэтому неудивительно, что сюда включались лекции нескольких отделений, а некоторые предметы, например, всеобщая история, были общими для студентов всего университета. При дальнейшем обучении только студенты-медики, в основном разночинцы, занимались и жили обособленно, в отдельном помещении во дворе университета, в то время как учащиеся остальных отделений — этико-политического, физико-математического и словесного — практически не различались между собой, ходили на лекции вместе, вот почему, например, в показаниях декабристов на следствии, или в других записках, где автор перечисляет своих университетских профессоров, мы почти всегда видим преподавателей всех трех названных факультетов.
Кратко остановимся на самом характере университетских занятий. Как и в пансионе, и в академической гимназии, лекции делились на утренние, с 8 до 12 ч., и вечерние, с 2 до 6 ч. Продолжительность лекции равнялась одному часу. Редко кто из профессоров начинал читать с 8 утра, т. е. зимой еще при свечах; большинство лекций начинались в 9 часов, точно так же из всех профессоров только один Каченовский начинал послеобеденные занятия с двух, а наиболее популярными были часы с 5 до 6 вечера. Лекции проходили в специально предназначенных для них аудиториях главного университетского здания или находившихся рядом корпусов, приватные занятия профессора обычно вели у себя на квартире, которая также располагалась в здании университета или поблизости. Каждый профессор читал лекции, как правило, четыре раза в неделю, и если он объявлял в данном учебном году несколько курсов, то делил эти часы между ними. Часы преподавания были расположены так, что позволяли студентам по своему выбору, без наложения одних занятий на другие, посещать лекции семи-восьми профессоров. Не ко всем лекциям у студентов было одинаковое отношение, и соответственно различалось и их поведение на занятиях: Свербеев вспоминает, что на обязательных лекциях по всеобщей истории, которые читал «бич студенческого рода» Черепанов, «не успеет пройти четверть часа, и уже начинает слышаться сопенье, а потом и храпенье то в том, то в другом углу обширной аудитории, наполненной до тесноты студентами; не засыпали у него только те, которые запасались какой-нибудь книгой». Зато блестящие лекции по физике профессора Страхова с их увлекательными опытами студенты слушали затаив дыхание. Большой проблемой для многих студентов было слушание лекций на иностранных языках. Так, товарищ Грибоедова по учебе В. Шнейдер (будущий профессор Петербургского университета) впоследствии говорил, что «благодаря знанию древних языков, Грибоедов почти один из русских был в состоянии следить за лекциями немецких профессоров, читавших по латыни»[335]. О множестве студентов, не понимавших французских лекций профессора Фишера, пишет в своем дневнике Н. Тургенев. Некоторые профессора, как X. Шлецер, даже по несколько раз меняли язык преподавания.
После завершения учебного года, за 2–3 дня до акта в университете проходили публичные экзамены. Для самих студентов они не имели каких-либо следствий, и являлись скорее формой отчета московских профессоров перед публикой и своим начальством. Свербеев, участвовавший в экзамене 1815 г., говорит о нем, что «публичный наш экзамен, единственный, на котором я по неопытности почел нужным присутствовать, был совершенно бесполезен. Из весьма небольшой кучки студентов спрашивали немногих и не по всем кафедрам». Профессор славянского языка Гаврилов «выработал 25 пошлых вопросов и вместо того, чтобы потребовать от слушателей заучить их, все очень немудреные, назначил по одному каждому, на экзамене же все их перепутал и произвел этим великий конфуз»[336].
Настоящий вес среди студентов, заканчивающих университет, имел экзамен на ученую степень кандидата, к которому они начинали готовиться заблаговременно, едва ли не за полтора года вперед. Успешная сдача этого экзамена требовала знания не только всех учебных предметов своего отделения, но и написания научной диссертации на тему, заданную советом факультета, причем желательно на латинском языке. Хотя в рассматриваемые нами годы публичные диспуты или строгие научные требования при защите диссертации еще не практиковались, количество студентов, получивших звание кандидата, было небольшим, причем особенно ценилось их переводческое искусство (в качестве диссертации мог служить перевод иностранной научной книги, используемой в учебном процессе) и хороший латинский язык. Студент, покидающий университет без экзамена на ученую степень, для поступления на новую службу мог получить у ректора аттестат с указанием прослушанных им курсов, его поведения и успехов в учебе. Для этой процедуры в первые годы не был предусмотрен даже экзамен (официально введенный только в 1813 г.), однако на заре университетских преобразований попечитель Муравьев, ратуя за высокое достоинство студенческого звания, однажды выразил особую признательность профессорам за невыдачу аттестатов двум воспитанникам «по причине незаслуг оных»[337].
Университетский акт, проходивший всегда в торжественной обстановке и являвшийся, по замечанию современника, праздничным событием для всего московского общества, завершал учебный год. Традиция, сложившаяся в XVIII в., требовала его проведения в первых числах июля. Акт открывался музыкой и хором певчих, которым аккомпанировал установленный в Большой аудитории орган. Затем два профессора обращались к собравшимся с заранее написанными и розданными публике речами (обычно на латыни). Секретарь совета объявлял публике имена новопроизведенных в этом году докторов, магистров и кандидатов. Затем те из студентов, диссертации которых были признаны лучшими, получали награды (ежегодно вручались две золотых и шесть серебряных медалей; среди награжденных в эти годы И. М. Снегирев, И. И. Давыдов, К. Ф. Калайдович, В. Шнейдер, Е. Ф. Тимковский и др.) После этого начиналась церемония награждения учеников гимназии и вручения шпаг принятым в этом году студентам. С 1806 г. на каждом акте секретарь совета зачитывал «Краткое начертание истории университета» за год, затем в свои полномочия вступали новые деканы и ректор (если в результате выборов он менялся). Акт завершался краткой благодарственной речью ректора к посетителям, после чего перед публикой открывался для посещения университетский музей.
3. Повседневная жизнь Московского студенчества
Учебный процесс представлял собой лишь одну сторону жизни Московского университета. К другой стороне, не менее важной, но довольно слабо изученной исследователями, относятся все элементы городской среды, окружавшей воспитанников университета за пределами аудитории, бытовые условия их проживания и учебы, характерные детали поведения, привычки и общие интересы студентов, дружеские беседы, круг чтения, отдых и развлечения в свободное время. Реконструировать повседневную жизнь московского студенчества помогают нам различные дошедшие до нас документы, связанные с самими студентами, дневники, переписка, позднейшие мемуары. В результате вырисовывается богатая яркими красками и весьма пестрая картина. Можно сделать общий вывод о том, что условия повседневной жизни в действительности сильно отличались для разных групп студентов. К одной группе мы можем отнести гимназистов и казеннокоштных студентов, преимущественно разночинцев, мир которых ограничивался пределами главного университетского здания, где они жили и учились, и немногими доступными им городскими развлечениями. В другую группу включались воспитанники благородного пансиона, также жившие по строго регламентированному распорядку, но гораздо больше инкорпорированные в общественную жизнь. Наконец, на противоположном полюсе находились своекоштные студенты-дворяне, составлявшие чрезвычайно примечательную группу внутри московского дворянства в целом, наблюдения над повседневным поведением которых позволяют сделать интересные выводы о характерных чертах всего поколения молодых людей, вступавшего в жизнь накануне 1812 г., вынесшего на своих плечах тяжесть Отечественной войны и давшего России освободительное движение декабристов.
Рассмотрение обозначенной нами проблемы следует начать с описания самого университетского пространства, в рамках которого студенты должны были проводить значительную часть своей жизни. Главное здание университета на Моховой и окружавшая его территория, где располагались еще несколько учебных и жилых помещений, вместе составляли целый «университетский» квартал Москвы. Этот участок достался университету не сразу, он собирал его по частям и даже по мелким кусочкам около пятидесяти лет. К 1804 году территория университета уже включала в себя бывшие владения семи барских усадеб, двух церковных погостов с дворами церковнослужителей и один переулок вдоль Моховой улицы, а также занимала всю линию по Тверской между Долгоруковским и Газетным переулками, где размещался университетский благородный пансион.
С последней четверти XVIII века по мере роста владений университета вдоль Моховой сюда из первого здания у Воскресенских ворот на Красной площади постепенно перемещается вся университетская жизнь.
Этот процесс завершается в 1793 году с окончанием строительства главного корпуса, возведенного по проекту архитектора М. Ф. Казакова. Подробные воспоминания о допожарном здании университета оставил И. Ф. Тимковский, учившийся здесь в 1790-е годы, и в приводимом здесь описании мы последуем за его рассказом.
Главное здание университета представляло собой дом в четыре этажа, с передним двором и боковыми корпусами, обращенный к Моховой улице. Передний двор содержался чистым, а у входных ворот стоял караул. Нижний этаж дома занимали службы, погреба, кладовые, кухни и запасы для казенных учеников. Помимо главного парадного входа с колоннами имелось два других — у ворот в боковых корпусах. С задней стороны также был вход в середине и два малых по углам в жилые комнаты учеников и студентов на втором этаже, а центральный вход из больших сеней вел по задним лестницам на третий и четвертый этажи. На третьем этаже в середине над передними сенями находилась круглая двусветная зала для торжественных заседаний (т. н. Большая аудитория), с хорами на четвертом этаже. Направо и налево от залы по фасаду находились в вытянутых галереях университетская библиотека и музей естественной истории. Параллельно этим помещениям с тыльной стороны третьего этажа, окнами на задний двор располагались справа три залы для математики, физики и физического кабинета, а слева — залы для искусств: рисования, музыки, танцев и фехтования. Под этими аудиториями во втором этаже, со входом из больших задних сеней, находились столовые и комнаты для казенных учеников; в четвертом этаже над аудиториями были гимназические классы. При восстановлении после пожара 1812 года расположение Большой аудитории и смежных с ней зал было сохранено, другие же помещения изменили свое назначение.
Боковой вход южного корпуса, протянувшегося вдоль Никитской, вел во второй этаж, где в больших угловых комнатах размещался кабинет директора, а за ним направо по коридору — университетская канцелярия и архив. Весь третий этаж занимала директорская квартира, на четвертом этаже в угловых комнатах жил один из профессоров, а в прочих помещениях — казеннокоштные ученики разночинской части гимназии, попадавшие сюда по задней угловой лестнице. В противоположном северном крыле три угловые комнаты второго этажа принадлежали инспектору гимназии. От них налево по коридору по две комнаты занимали иеромонах и иеродьякон университетской церкви. Сама церковь св. Татианы располагалась здесь же в торце, в два света на третьем и четвертом этажах, на четвертый этаж выходили церковные хоры. Внутри церковь была прекрасно отделана и украшена, ее интерьер в стиле классицизма принадлежал к лучшим творениям М. Ф. Казакова. В убранстве церкви присутствовало несколько превосходных икон старого письма. «Церковь при своей простоте была так изящна и величественна, — пишет современник, — что посетивший ее 6 декабря 1809 г. император Александр I был от нее в восхищении и, не слушая приветственной речи настоятеля Малиновского, воскликнул, обращаясь к сестре, великой княгине Екатерине Павловне: „Ах, как хорошо!“»
За церковью дальше по коридору третьего этажа находились аудитории философского и юридического факультетов, напротив них — зала для посетителей (служившая притвором церкви) и медицинский кабинет с его шкафами. Юридическая аудитория, с настенной росписью и большим портретом императора, имела и другие назначения: в ней собиралась университетская конференция, производились публичные диспуты на ученую степень и другие собрания. Четвертый этаж занимали гимназические классы и комнаты для дворян-гимназистов. Во всех лекционных и гимназических залах стояли длинные столы с подвижными скамьями по обе стороны, на которых сидели студенты и гимназисты; впереди их ставили кресла для профессоров и стулья для учителей. Исключение представляла физическая зала, устроенная тройным амфитеатром с пульпетами[338].
Справа от главного здания, боком к Моховой, стоял деревянный флигель, в котором помещался Педагогический институт, жил его директор и еще несколько профессоров. Позади него располагалась университетская больница, еще дальше, в длинном каменном доме (получившем позже название Ректорского) были квартиры профессоров и университетских чиновников. Неподалеку, в бывшем доме кн. Волконской, помещался анатомический театр, где кроме медиков читали лекции профессора Гольдбах — по астрономии и Рейсс — по химии. В большом каменном флигеле выше по Никитской находился клинический институт с глазной лечебницей. Дом Мосолова на Никитской занимал профессор естественной истории Фишер, здесь была его аудитория и проходили заседания общества Испытателей Природы. Все эти дома, кроме больницы и Ректорского домика, впоследствие сгорели при пожаре.
Конечно, после преобразований университета должны были произойти изменения в распределении помещений главного здания. Они были связаны, во-первых, с упразднением поста директора. Если первый ректор X. А. Чеботарев устроил было здесь в директорских покоях на третьем этаже правого крыла свою квартиру, то сменивший его П. И. Страхов счел более полезным передать эти комнаты для размещения новых библиотечных и музейных коллекций, а сам сохранил за собой квартиру в домике на заднем дворе университета. Во-вторых, в связи с сокращением числа гимназистов и ростом профессорского корпуса часть комнат для учеников четвертого этажа могли переделать в квартиры новых профессоров или учебные классы.
Все студенты университета образовывали две слабо связанные между собой корпорации — казеннокоштных и своекоштных студентов. «Своекоштные студенты были отделены от нас, казеннокоштных, — пишет Е. Ф. Тимковский — временем и пространством». Каждый из своекоштных «являл собою отпечаток состояния и образа жизни в его семействе»[339]; в то же время воспитание и образование казенных студентов, начинавшееся еще с академической гимназии, брал на себя сам университет.
Ученики и студенты, приехавшие из провинции и почти не имевшие родственников в Москве, находились на полном иждивении университета. Они проживали в небольших комнатах по 10–15 человек в каждой, обстановка которых состояла из железных кроватей вдоль стен, разгороженных щитами; возле кроватей стояли тумбочки для белья, а в центре, лицом друг к другу — несколько пульпитров с выдвижными досками для книг и тетрадей, за которыми ученики должны были готовить уроки. Вместе с учениками в каждой комнате жило несколько студентов, служивших одновременно помощниками комнатного надзирателя, которым являлся уже окончивший курс казеннокоштный студент или кандидат. По мысли университетского начальства, совместное проживание студентов и учеников обеспечивало им взаимный надзор друг за другом. Студенты отвечали за то, чтобы во время подготовки уроков в комнатах соблюдалась тишина, они должны были помогать ученикам и взыскивать за провинности (лишением завтрака или обеда).
Поскольку при такой системе добиться полного порядка было трудно, высший контроль за дисциплиной в комнатах принадлежал одному из профессоров, исполнявшему должность эфора. Отношения с эфором у студентов были обычно весьма напряженные, и его появление производило переполох. Профессора Гаврилова, когда тот был эфором, студенты и ученики опасались особенно, «ибо он никому потачки не давал и отличался неусыпной деятельностью и прозорливостью. Не проходило почти ни одного дня без того, чтобы Гаврилов не посетил всех комнат и притом всегда в неизвестное время. Да и ученики, с своей стороны, не зевали и зорко следили за каждым шагом блюстителя нравственности. Слова „Гаврилов ходит по комнатам“ разносились везде с неимоверной быстротою»[340].
И студенты, и ученики должны были строго соблюдать распорядок дня в университете, не находиться в комнатах во время, предназначенное для занятий в классах, и ни в коем случае не отлучаться из университета без письменного разрешения инспектора (без которого их бы не выпустил поставленный у ворот караул), а ночь всегда проводить в своих комнатах. Соблюдение последнего условия проверял урядник — унтер-офицер, обходивший комнаты после отбоя, который для учеников наступал в 9, а для студентов в 10 часов вечера. Конечно, студенты изобретали множество уловок, чтобы обойти эти запреты. Наиболее частой причиной отлучек из университета выставлялась необходимость покупать продукты и обедать вне университета.
Принципиальное отличие между содержанием гимназистов и студентов состояло в том, что первые получали от университета все необходимое, в том числе и еду, а вторым университет платил жалование (150 руб.), на которое те должны были существовать в течение года. (Это не отменяло, впрочем, обычая, по которому некоторые студенты пользовались полным содержанием, занимая в штате места учеников гимназии.) Студенты старались экономить деньги, поэтому начальство отпускало их обедать у знакомых, что приводило к довольно долгим и беспокойным отлучкам. Частенько бывало, что поздней ночью успешно миновавший караулы и уговоривший ночного сторожа отпереть ему двери студент, будучи навеселе, начинал зажигать огонь, курить табак или греть самовар, что строго запрещалось в этот неурочный час, и тем самым вовлекал себя в неприятную историю.
Ученики гимназии и состоящие при них студенты питались за счет университетских запасов в столовых на первом этаже. На завтрак, начинавшийся общей молитвой, каждый получал чай и одну крупенчатую булку. Обед и ужин состояли из трех блюд: одного горячего, жаркого (а в пост — пирогов или калачей) и гречневой каши-размазни. Во время существования дворянской гимназии ее ученики получали на одно горячее блюдо больше и ели из фаянсовой посуды серебряными ложками, в то время как разночинцы — из оловянной посуды. За столом помещалось 14 человек и дежурный студент, который из большой миски раздавал куски мяса, кашу и подливку. В конце обеда он обязательно пересчитывал хлеб и ложки, чтобы ученики не унесли их с собой. Как и в пансионе, для отличившихся гимназистов существовал «прилежный» стол, а для провинившихся — «ленивый». Большим наказанием для ученика было провести весь обед стоя на коленях за скамейкой возле своего стола.
По условиям жизни значительно отличались от казенных учеников гимназии так называемые сверхкомплектные (их число в 1803 году составляло 104 человека), которые все жили в одной казарме в подвальном этаже университета, на нарах и должны были довольствоваться самой скромной пищей. При них находились два студента и надзиратель.
Несмотря на необходимость вести замкнутый образ жизни в пределах одного помещения, гимназисты отличались физической крепостью, редко болели, (университетская больница обычно пустовала). В дневные часы начальство разрешало им подвижные игры на университетском дворе, где начиналась беготня и суматоха. Среди игр особенно популярными были веревочные качели, устроенные на переднем дворе, и игра в солдаты, для которой ребята даже получали деревянные ружья со штыками. Но стремление к забавам и шалостям ученики легко переносили и на процесс самой учебы, чему способствовал и весьма своеобразный характер многих учителей гимназии.
Выдумки шалунов, составлявшие ту атмосферу академической гимназии, о которой любили вспоминать впоследствии ее ученики, были неистощимы и часто оставались безнаказанными, т. к. изловить озорников было очень сложно. Так, Е. Ф. Тимковский, переведенный в гимназию из Киева, пишет: «Учителя гимназические далеко превосходили образованием наставников моих киевских, но не могу утаить, что некоторые из них были с большими странностями, физическими и моральными, служившими поводом к разным проказам на их счет школьников, остряков и шалунов, к числу которых, право, я никогда не принадлежал. Забавно бывало смотреть, как они утром залепливали мягким хлебом внутренности замков у шкафов с глобусами и картами г. Падерина, учителя географии и истории, и как он, являясь в класс после обеда, подчас и навеселе, трудится и потеет над выковыриванием засохшего хлеба из своих замков. Около получаса проходило в сем хлебокопании: а ученикам того и надобно для сокращения двухчасового урока»[341].
Таких историй, по рассказам различных мемуаристов, случалось множество, так что труды эфора Гаврилова и прочих учителей по наведению дисциплины не прекращались, составляя характерный «фон» университетской учебы: «Летнею порой, когда открывались окна в классах и учебных комнатах, часто и подолгу слышались жалобные стоны и болезненные крики; по субботам была расправа с ленивцами, шалунами и нарушителями порядка, которые не скоро забывали это отеческое наставление»[342].
Больше многих наград в академической гимназии ценилась возможность в праздники и воскресенья быть отпущенными из университета к родственникам или знакомым, если те присылали за учениками. Для остававшихся в гимназии сохранялся тот же распорядок, что и в будние дни, с обязательным посещением церкви и повторением уроков. Приятными развлечениями для детей также всегда служили прогулки за город (4–5 раз в год), на Воробьевы горы или к Петровскому замку. В этом случае туда выезжала университетская кухня, чтобы накормить гимназистов обедом. Ребята играли в мяч или в свайку, проходили учения университетского потешного батальона, куда записывались не только казенные ученики, но и своекоштные, жившие на пансионе у университетских профессоров. На святках и масленице в университете шли театральные представления, подготавливаемые под наблюдением профессоров — любителей театра, в столовой зале давались маскарады и музыкальные вечера. Но основной тон в этих развлечениях задавали уже казеннокоштные студенты.
По сравнению с учениками гимназии, жизнь студентов была гораздо более свободной. У них оставалось время для чтения романов, которые покупались в московских книжных лавках на сэкономленные из жалования деньги. Вкус у студентов был разный. Тимковского, например, увлекали немецкие романтические романы, другие предпочитали чтение попроще. Среди пьес, которые студенты знали и ставили в небольшом университетском театре (его сценой служили парадные сени второго этажа), наиболее популярными были произведения А. Коцебу, одного из чрезвычайно плодовитых подражателей Шиллера. Надо сказать, что в университетском театре использовались хорошие костюмы и декорации, которые были сделаны в конце XVIII века, затем проданы публичному театру Медокса, но каждый раз возвращались в университет для представлений. Сам театр Медокса, преобразованный после его пожара в 1805 году в московский казенный театр, переехал в один из домов Пашкова, выходивший на Никитскую как раз напротив университета, так что к нему были обращены окна студенческих комнат. Здесь по вечерам вспыхивали отблески театральных молний и слышались звуки бутафорского грома. Театр представлял собой большую приманку для студентов. Чтобы увидеть спектакли, иные из них уже в 3 часа дня занимали места в партере и выстаивали на ногах до 11 вечера, в такой тесноте, что и повернуться было нельзя.
К другим увлечениям студентов относились занятия музыкой, которые посещались тем охотнее, что университетские учителя — пианист Шпревиц и скрипач Рачинский — были одаренными музыкантами. По субботним вечерам студенты и старшие ученики гимназии разыгрывали квартеты, здесь выступали и некоторые профессора-музыканты, (например, преподаватель курса военных наук Г. Мягков прекрасно играл на арфе). Вообще музыка занимала значительное место в жизни университета, и многие ученые и студенты посвящали ей весь свой досуг. После музыкальных вечеров младшие ученики играли в фанты или представляли тенями различные оперы и комедии, поскольку им ходить в театр не разрешалось.
Посещение театра и покупка книг, другие расходы заставляли студентов прибегать к дополнительным заработкам. Таких заработков в основном было два — частные уроки и переводы иностранных книг. Так, 3. А. Б урине кий, талантливый поэт, живший в университете вначале на положении казеннокоштного кандидата, а затем магистра и преподавателя, часто брал у книготорговца заказ на перевод романа, разрезал его на части и раздавал студентам. Готовую работу он вновь собирал и уже сам несколько сглаживал стиль, после чего возвращал перевод и раздавал полученные деньги поровну. Для многих студентов, не вполне хорошо знавших язык, процесс перевода заключался в утомительной монотонной работе со словарем, и его качество, конечно, было невысоким, но для заработка это не играло практически никакой роли, потому что при покупке рукописи книготорговец платил за количество листов или, проще говоря, по весу. При большом везении студенту удавалось преподнести свой перевод с дарственной надписью какому-нибудь богачу и получить за труды 100 рублей. Частные уроки тоже приносили не слишком большой доход; во многих московских дворянских семьях студентов нанимали в помощь иностранным гувернерам, на роль «Цифиркиных и Кутейкиных», и платили им по 2 рубля ассигнациями за двухчасовой урок. Только немногим талантливым студентам удавалось заслужить высокую репутацию и стабильный доход от уроков.
В 1808 г. новый инспектор Рейнгард предпринял попытку ограничить некоторые студенческие вольности, противоречащие новому уставу, но уже узаконенные обычаем. Прежде всего, он решил бороться с частыми отлучками студентов и для этого постановил, чтобы студенты имели общий стол в университете, за которым бы обедали в складчину. Для наблюдения за дисциплиной он постановил завести специальный журнал, куда его помощники будут заносить все сведения о поведении студентов. Сохранилось обращение инспектора к студентам, в котором он предъявляет к ним следующие требования: обязательное посещение лекций (которое отмечается в журнале), обязательное повторение предметов и письменные занятия в комнатах — с 7 до 12 и с 2 до 6 часов. Помощник должен отмечать, кто из студентов в воскресенье не был в церкви. Инспектор установил строгие промежутки времени для возможных отлучек: в учебные дни — от обеда до 2 часов, в воскресенье — после обедни и возвращение к ужину в 8 часов вечера, причем «пустые поводы» к отлучкам приниматься во внимание не будут. В 10 часов двери университета запираются, а все неночевавшие отправляются на другой день в карцер. На любые отлучки в неурочное время, а также на ведение частных занятий требуется специальное разрешение инспектора[343].
Трудно сказать, насколько эти попытки ужесточить дисциплину оказались успешными: цитируемые документы Рейнгарда относятся только к 1808 г. В находящихся здесь же письмах к попечителю Разумовскому инспектор выражает озабоченность дальнейшей судьбой студентов, заканчивающих университет. Он критикует сложившийся обычай, по которому казеннокоштный студент мог оставаться на жаловании по 6 и более лет, и пишет, что по вступлении в должность отослал старожилов по уездным училищам. С другой стороны, он совершенно верно замечает, что никто еще точно не определил, в чем состоят обязанности студентов по отношению к университету, шестилетний срок выполнения которых предусмотрен уставом. Местным училищам вовсе не требуется ежегодно такое количество учителей, да и притом некоторые студенты совершенно не приспособлены к преподаванию. Оставаясь же при университете, они занимают штатные места, которые не дают возможности доукомплектовать академическую гимназию.
Несмотря на строгие меры, которые пытался предпринять Рейнгард, студенческая вольница продолжала существовать. Ее скрепляли между собой пиры в складчину, по праздникам сборы у одного из товарищей, анекдоты, ученые беседы, общие гулянья на Воробьевы горы, в Сокольники и Марьину рощу и пр. На Неглинной проходили регулярные потехи — кулачные бои, в которых студенты университета, которым помогали местные лоскутники, сражались с бурсаками духовной академии — стенка на стенку, сначала маленькие, затем большие. Посмотреть на это зрелище стекалось много народу. Университетские побеждали чаще и гнали бурсаков до самого здания академии.
«Мы учились как должно, шалили как можно, а о прочем — ни о чем более не думали» — так завершает воспоминания о своей университетской жизни один из казеннокоштных студентов того времени[344].
Расположенный в самом центре Москвы, университет был тысячами нитей связан со всей жизнью города и ее особенным ритмом, характерным только для допожарной столицы. Каждое утро по длинным московским улицам к берегу Неглинной, напротив Кремля, где стоял университет, пешком, на извозчике или в собственных экипажах, неся с собой связку книг и тетрадей или передав ее слуге, гувернеру, а то и вовсе налегке стекались своекоштные студенты. С Троицкой улицы на Самотеке вдоль Неглинной всегда пешком со своим узелком на утренние и вечерние занятия шел Иван Снегирев, делая «верст восемь за день»; в тенистом переулке на Маросейке провожали на лекции Николая Тургенева; из старинной усадьбы у начала Кузнецкого моста, совсем неподалеку от университета, отправлялись на учебу князь Иван Щербатов и братья Петр и Михаил Чаадаевы; с аристократической Старой Басманной в коляске ехали их товарищи братья Перовские, а с противоположного конца города, из своего дома у Новинского предместья выходил Александр Грибоедов. Грибоедова провожал на занятия гувернер Готлиб Ион (когда-то геттингенский, а теперь, как и его воспитанник, московский студент), ученый француз Петра приводил на лекции юного Никиту Муравьева, а из одной из университетских квартир в сопровождении педантичного немца Рейнгарда шел в лекционную залу родственник Никиты и его будущий собрат по тайному обществу Артамон Муравьев, соседом которого, жившим на пансионе у беспечного Мерзлякова, был еще не освоившийся в Москве, застенчивый провинциал Иван Якушкин.
Карта студенческой Москвы охватывает весь город, сходясь лучами в одну точку, где располагается университет. (Интересно представить себе, как изменилась бы эта география, если бы исполнилось желание Разумовского перенести университет на окраину, в Лефортовский дворец!) Ее адреса называют нам самые роскошные улицы, дома и усадьбы дворянской Москвы. Именно здесь мы понимаем, насколько сильно изменился университет за десятилетие реформ, в результате которых он начал наполняться молодыми дворянами, придавшими, благодаря своему социальному статусу и привычкам, новые черты портрету своекоштного студента. По удачному наблюдению Н. К. Пиксанова, «создалось явление, которого не знал старейший русский университет в XVIII в. и какое скоро исчезло: в общей массе бедных студентов-разночинцев, поповичей, появилась блестящая группа представителей знатных, древних, богатых дворянских родов. Гувернеры, приводящие своих аристократических питомцев, просиживающие с ними на лекциях и присутствующие на экзаменах, студенты, для которых из деревни присылаются повар, лакей, прачка — это было оригинальное зрелище в допожарном московском университете»[345].
Таким образом, говоря о повседневной жизни этой группы студенчества, мы должны сопоставить ее с времяпровождением, занятиями и привычками московского дворянства того времени, не забывая, что учеба накладывала на эту жизнь свой отпечаток, в разной мере для разных представителей беспокойного семейства воспитанников университета. Дворянская Москва до Отечественной войны 1812 г. была в полном смысле «барским» городом, противоположностью сановному Санкт-Петербургу. Здесь доживали свой век, удивляя город роскошью своих дворцов, огромными выездами в шестнадцать лошадей, золочеными каретами и проч., опальные фавориты предыдущих царствований. Московские праздники не знали удержу, богатство било через край. «Последние две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званные обеды, гуляния и спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны — четверги у графа Льва Кир. Разумовского, пятницы — у Степ. Степ. Апраксина, воскресенья — у Архаровых и т. д., иные дни были разобраны дважды, а в иных домах принимали каждый день, и часто молодой человек успевал в один вечер на два бала»[346]. Званые обеды начинались в 3 часа, балы между 9 и 10, и только «львы» приезжали в 11; танцы продолжались до утра. «В эти зимы впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ее руку; танцевали экосез-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался à la grecque со множеством фигур, выдумываемых первою парою, и, наконец, беготней попарно по всем комнатам, даже в девичью и спальни»[347].
А вот как выглядел такой бал со стороны, глазами одного из студентов: «Большой бал был у Высоцких. Кузины наши показывали мне свои наряды: кружева, кружева и кружева; есть в четверть аршина шириною. <…> Мы с Петром Ивановичем (магистр Богданов. — А. А.) ездили взглянуть на освещенные окна дома Высоцких. Вся Басманная до Мясницких ворот запружена экипажами: цуги, цуги и цуги. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пенника. Это по-барски. Музыка слышна издалече: экосез и а-ля-грек так и заставляют подпрыгивать»[348]. Наш мемуарист, хотя и не любитель танцев, однажды заглянул на званый вечер, куда явился как полагается в парадной студенческой форме и был очень польщен, когда одна из кузин спросила его, не камер-юнкерский ли на нем мундир — вот замечательная черта облика студента на балу! Кстати сказать, что парадный мундир для студентов (синий с малиновым воротником) и шпага, напоминавшие военную форму, вызывали резкие насмешки у стариков екатерининских времен: один из них говорил Жихареву: «В какой это ты, братец, мундир нарядился? В полку не мешало бы тебе послужить солдатом: скорее бы повытерли».
В отличие от стеснительного Жихарева, другой студент, Петр Чаадаев, в шестнадцать лет «слыл одним из наиболее светских, а может быть и самым блистательным из молодых людей в Москве, пользовался репутацией лучшего танцовщика в городе по всем танцам вообще, особенно по только начинавшейся вводиться тогда французской кадрили, в которой выделывал „entrechat“ не хуже никакого танцмейстера; очень рано, как того и ожидать следовало, принялся жить, руководствуясь исключительно своим произволом, начал ездить и ходить куда ему приходило в голову, никому не отдавая отчета в своих действиях и приучая всех отчета не спрашивать»[349].
Москва гордилась своим расточительным, привольным гостеприимством; всегда был дом открыт для гостей «званых и незваных, особенно для иностранных»; в допожарной Москве можно было бесплатно обедать даже незнакомому человеку, просто переходя из дома в дом. Такое отношение особенно чувствовали студенты-дворяне, приехавшие из провинции, но, конечно, имевшие многочисленных московских тетушек. Один из них, живший на пансионе у университетского профессора, вспоминал впоследствии, что «в первом десятилетии этого века москвичи еще отличались хлебосольством и радушным приемом даже для дальних родных, приезжающих из провинции; бывало, в праздничный день несколько карет приезжало за нами, и нельзя было выбрать, куда веселее ехать»[350].
«Обеды, ужины и танцы» являлись наиболее распространенной формой дворянского времяпровождения в Москве, но они не исчерпывали всех возможностей города. Важной частью московской городской культуры были народные гулянья, куда единой толпой высыпали все ее жители. Приуроченные к различным календарным праздникам гулянья кочевали из одного края Москвы в другой, из Марьиной рощи в Сокольники, на Пресненские пруды, Девичье поле и пр. За один вечер здесь возникали балаганы, где показывали кукольные представления, пантомимы, выступали силачи, фокусники, акробаты, великаны, карлики, «дикие люди», балаганный дед смешил публику острыми шутками. Разноцветными огнями вспыхивал под вечер фейерверк. Центральным событием года было гулянье на масленицу под Новинским предместьем. «В воздухе стон стоял. Во все горло выкрикивали свой товар разносчики; вертелись карусели, лошадки. <…> Стеной стояла чернь, жадно ожидавшая дарового зрелища, но и балаганы были переполнены благодаря дешевым ценам. Сюжеты спектаклей были обыкновенно патриотически-военного характера…»[351] Особый конный праздник — карусель — больше других занимал москвичей, и о нем то и дело упоминают современники — в мае 1811 г. Батюшков пишет другу: «У нас карусель, и всякий день кому нос на сторону, кому зуб вон!»[352]
«Модное гулянье» проходило на Тверском бульваре. «Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. Хороший тон, мода требуют пожертвований: и франт, и кокетка, и старая вестовщица, и жирный откупщик скачут в первом часу утра с дальних концов Москвы на Тверской бульвар. Какие странные наряды, какие лица!»[353] Среди них Батюшков замечает, как «университетский профессор в епанче, которая бы могла сделать честь покойному Кратесу, пробирается домой или на пыльную кафедру». А как же известные нам дворяне-студенты чувствуют себя в этой толпе? Оказывается, Жихарев не пропускает ни одного гулянья и называет их «блистательными». Николай Тургенев, несмотря на свой меланхолический характер, любит потолкаться в толпе с простыми «мужичками», из любопытства заходит в балаган на медвежью травлю, которую подробно описывает в дневнике. На Тверском бульваре он замечает, что иллюминированные вывески украшены стихами, которые по заказу пишет Мерзляков. 14 июля 1807 г. Тургенев посещает Сокольники, «где был общенародный праздник по случаю мира. Все поле было усеяно народом, и изредка были видны шатры, возвышенные места для комедий, где плясали по канату и проч., пели фабричные, цыгане, играла музыка»[354]. Картина восхищает Тургенева; всюду видна неупорядоченность, «приятная пестрота» и свобода, характерные для его восприятия Москвы.
Без сомнения, посещал московские гулянья, ее балы и праздники и студент Александр Грибоедов. Великая комедия, которую он напишет, вся пропитана впечатлениями этой барской, уходящей после 1812 г. Москвы: достаточно заметить, что гулянье под Новинским проходило возле самого его дома. Один из товарищей Грибоедова, В. Шнейдер вспоминает, что накануне Отечественной войны любимым местом их прогулок была Ордынка, где университетскую компанию можно было увидеть почти каждый день[355]. Роль барина-покровителя для молодого Грибоедова взял на себя его дядя, Алексей Федорович, прототип Фамусова, что доставляло юноше немало беспокойства. «Как только Грибоедов замечал, что дядя въехал к ним на двор, разумеется затем, чтоб везти его на поклонение к какому-нибудь князь-Петру Ильичу, он раздевался и ложился в постель. „Поедем“, — приставал Алексей Федорович. „Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал“, — хитрил молодой человек»[356].
Поразительное сближение самых разных персонажей барской Москвы мы находим в письме К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу (февраль 1810 г.). «Сегодня ужасный маскерад у г. Грибоедова <Алексея Федоровича. — А. А.>, вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду <…> Я гулял по бульвару и вижу карету; в карете барыня и барин, на барыне салоп, на барине шуба, и на место галстуха желтая шаль. „Стой“. И карета „стой“. Лезет из колымаги барин. Заметь, я был с маленьким Муравьевым <Александром, братом Никиты и, как и его брат, будущим декабристом. — АА.>. Кто же лезет? Карамзин!»[357]
Вот в таком городе, где можно было пренебречь маскарадом у Грибоедовых, гулять с Муравьевым и случайно повстречать на бульваре Карамзина, жили и учились своекоштные студенты Московского университета. Много ли времени занимала в их жизни учеба? Николай Тургенев пишет, что по обыкновению он посещает в день пять лекций, три часа до обеда и два часа после. В обеденный перерыв Тургенев, как и другие студенты, заходит в близлежащие кондитерские и кофейные дома; его любимая кофейня Мурата находится на полпути между домом и университетом, у Ильинских ворот. Впрочем, он охотно заглядывает сюда и в лекционные часы и здесь же замечает профессора Мерзлякова, который вместо того, чтобы читать лекцию, проводит время в компании своих товарищей. Хорошим обедом в Бацовом трактире между Охотным рядом и университетом заканчиваются «мировоззренческие» ссоры между бойким П. Я. Чаадаевым и его строгим опекуном кн. Д. М. Щербатовым. Кофейные дома и трактиры, примыкавшие к университету, подчас становились местом, где профессора и своекоштные студенты обсуждали различные злободневные проблемы политической и культурной жизни (так, упомянутый нами Мерзляков рассуждал об оратории Гайдна «Сотворение мира», премьера которой в Москве оставила глубокое впечатление у публики). Вообще, судя по дневнику Тургенева, нельзя сказать, чтобы он часто ходил на лекции. Еще более замечателен «Дневник студента» С. П. Жихарева, где о содержании занятий нет ни слова, зато видно, что автор все свободное время проводит в театре, не пропуская ни одного спектакля.
Определенную небрежность в посещении лекций у многих студентов-дворян можно извинить тем, что в отличие от казеннокоштных студентов, они имели возможность пополнять свои знания из широкого круга прочитанных ими книг. Именно в начале XIX века у совсем еще молодых людей, и притом студентов университета, появляются крупнейшие в Москве личные библиотеки (К. Ф. Калайдович, П. Я. Чаадаев). Многие книги молодые люди получают по почте непосредственно из Европы. Петр Чаадаев, «только вышедши из детского возраста, сделался известен всем московским букинистам и вошел с сношения с Дидотом <известный французский издатель. — А А.> в Париже». На московских книжных развалах собирал свою замечательную коллекцию книг и рукописей Константин Калайдович, так что потом мог делать личные дары в библиотеку Общества истории и древностей российских. Заметим, что среди крупнейших библиотек Москвы были и собрания университетских ученых, которыми могли пользоваться студенты: замечательные книжные собрания были у профессоров П. И. Страхова, Ф. Г. Баузе, И. А. Гейма, Р. Ф. Тимковского и др.
Чтение новых книг было одной из существенных сторон образования, которое получали воспитанники благородного пансиона. В самом пансионе была превосходная библиотека, составленная из пожертвований родителей и профессоров; Антонский выписывал для нее несколько литературных журналов (например, «Вестник Европы»), в т. ч. и иностранных («Revue Encyclopédique» из Парижа). Впрочем, он же следил за характером чтения, и обнаруженные в пансионе новомодные романы, которые Антонский считал легковесными, пустыми и портящими нравы, подлежали сожжению. Воспитанники читали за чаем, обедом, ужином; принести за стол книгу даже вменялось в обязанность. «Антонский всегда ходил позади во время нашего обеда. Случалось иногда, что вдруг из-за спины читателя протягивается рука и берет книгу: если это было дозволенное чтение, то книга тут же возвращается; но если это был роман, она исчезала навеки!»[358]
Московские студенты были превосходно знакомы как с новинками книжного рынка, так и с литературной классикой века Просвещения. Степан Жихарев заучивал наизусть новые стихи Жуковского и прозу Карамзина. Николай Тургенев читает в оригинале Делиля, Мольера, Гольдсмита, Попа, «Новую Элоизу» Руссо, популярную книгу Бартелеми «Путешествие молодого Анахарсиса» (из последней книги он делает выписки о сравнении республиканского и монархического строя, которые отвечают на уже тогда волнующие его политические вопросы). Наиболее сильно увлечен он произведениями Вольтера. Среди своих приятелей он в этом не одинок, что показывает упоминаемый им разговор в кофейне о Вольтере, в котором Тургенев защищал французского философа вместе со своими пансионскими друзьями Масленниковым и Дашковым. (Через два с половиной десятилетия, когда приговоренный к смертной казни Тургенев будет жить в эмиграции, оставя почти всякую надежду вернуться на родину, Д. В. Дашков займет место министра юстиции в российском правительстве.)
Для Дашкова сочинения Вольтера с 15 лет были настольной книгой. Среди других его любимых авторов — Расин, Корнель, Шенье. Дашков не ограничивается изучением только новой европейской литературы, летом в деревне он штудирует трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида и кроме того принимается за девятитомную «Естественную историю» Бомера[359]. Эта тяга молодых дворян 1800-х годов к науке и литературе была в определенной мере общей и подготовила, к примеру, взрыв читательского интереса, с которым в следующем десятилетии были встречены тома «Истории государства Российского» Карамзина. Так, корреспондент Дашкова, его пансионский товарищ Н. Ф. Грамматин еще с университетских лет изучает древнерусскую литературу и впоследствии станет одним из первых исследователей «Слова о Полку Игореве». А. С. Грибоедов, по воспоминанию современника, «прилежно занимался русскими древностями; летопись Нестора была его настольной книгой». Начало исторических занятий Грибоедова мы можем смело отнести к студенческим годам.
Многие студенты активно участвовали в деятельности научных обществ при университете: при Обществе истории и древностей российских помощником библиотекаря работал К. Ф. Калайдович, Алексей Перовский делал сообщения на собраниях Общества испытателей природы, на этих же собраниях бывал Н. Тургенев, а тот же Калайдович вместе с директором общества профессором Фишером фон Вальдгеймом в летних экспедициях обозревали окрестности Москвы и даже обнаружили здесь минерал лабрадор и новый сорт глины. Тринадцатилетний М. Н. Муравьев, поступив в университет в надежде усовершенствовать свои познания в математике, через год вынужден оставить его, не удовлетворившись уровнем преподавания, чтобы основать собственное общество по изучению математических наук. Глубокий интерес к философии отличал П. Я. Чаадаева и его друзей. К восемнадцатилетнему возрасту им были прочитаны все основные труды Канта, а И. Д. Якушкин впоследствии в деревне приятно проводил время, читая курс лекций по философии своего университетского профессора И. Т. Буле.
Еще одна черта времяпровождения многих дворян-студентов, связывавшая университет с повседневной жизнью Москвы, относилась к «служебным обязанностям» молодых людей. Дело в том, что многочисленные родственные и приятельские связи позволяли родителям записывать детей в совсем еще юном возрасте на статскую службу в Москве, а именно в московские архивы Сената и Коллегии иностранных дел. Должность при архивах не отнимала у молодых людей много времени, позволяла, например, параллельно слушать лекции в университете и при этом гарантировала своевременное получение чина и легкое продвижение по начальным ступеням служебной лестницы.
Через архивную службу прошли такие воспитанники университета допожарного времени, как Н. Тургенев, Д. Дашков, А. Боровков и др. После указа от 6 августа 1809 года, предписавшего всем служащим чиновникам сдавать университетские экзамены для получения следующего чина, напротив, многие «архивные юноши», желая получить асессорство, потянулись на учебу в университет. Среди москвичей у этой службы была устойчивая репутация «синекуры». Так, когда студент Жихарев приходит к инспектору благородного пансиона А. А. Прокоповичу-Антонскому просить о выдаче ему аттестата, тот немедленно спрашивает его: «Небось туда же в дармоеды-та, в иностранную коллегию?» Другой студент, Грибоедов, по этим же причинам относился к такого рода службе крайне отрицательно (как мы помним, именно в «архивные юноши» зачислил он Молчалина). С ним солидарен Н. Тургенев, который свои нечастые посещения службы сопровождает дневниковыми записями, где возмущается ее неустройством и бессмысленностью: «Вчера был я в Архиве и занимался перетаскиванием столбцев из шкапов в сундуки. Какой вздор!.. Там есть еще переводчики, которые не переводят, а переносят, следственно из переводчиков делаются переносчиками и перевозщиками»[360]. Новое отношение к службе, в которой молодые люди не просто ищут средство для продвижения вверх по чинам, а хотят видеть смысл и пользу (служить «делу, а не лицам»!), также в высшей степени характерно для поколения декабристов.
Таким образом, среди студентов Московского университета начала XIX века мы видим лучших представителей дворянства новой генерации — широко образованных, интересующихся наукой, неравнодушных к судьбе Отечества. Их времяпровождение еще не выходило за рамки общесословного поведения, но новые знания заставляли задуматься и переосмыслить свое положение в жизни[361]. В их формирующемся мировоззрении была создана плодородная почва для патриотического подъема, охватившего молодежь в 1812 года, их неравнодушие к судьбам родины вело их и дальше по пути раздумий, завершившемся созданием декабристских тайных обществ, первоначальные контуры которых уже обозначились во многих университетских дружеских связях.
3. 1. Дружеские собрания и литературные кружки воспитанников Московского университета
Со студенческих скамей допожарного Московского университета вышло немало замечательных людей, оставивших свой след в истории России, будущих писателей, поэтов, деятелей декабристского движения. Их университетские знакомства, общность юношеских устремлений, игравшие более или менее значительную роль в разные моменты истории, до сих пор не разрабатывались подробно исследователями. Между тем верность университетской дружбе многие студенты пронесли через всю жизнь: в 1850 г. П. Я. Чаадаев с радостью откликается на просьбу об услуге от своего «старейшего товарища» Ф. И. Прянишникова, с которым они не виделись 40 лет. Приятельский союз И. Д. Якушкина, братьев Чаадаевых и князя И. Д. Щербатова, перешедший из стен университета в Семеновский полк, положил начало офицерской артели, ставшей ядром одного из первых обществ декабристов[362].
Особой формой объединения студентов были литературные кружки, где юноши пробовали свои силы в изящной словесности. Они составляли еще одну сторону жизни студенчества, связанную с изданием собственных журналов и литературных сборников, творческими поисками при создании собственных произведений, мечтой о поэтической известности, через которую прошли многие воспитанники. Череда их открывается Жуковским и заканчивается Грибоедовым, включая имена хотя и менее крупных, но тем не менее занявших свое место в литературе писателей.
Наиболее значительный литературный кружок в допожарном университете сформировался вокруг поэта А. Ф. Мерзлякова. В течение своей жизни А. Ф. Мерзляков несколько раз оказывался в центре московских кружков, обладавших значительным влиянием на литературный процесс своего времени. В 1801 г. вместе с Андреем Тургеневым и Жуковским он основывает Дружеское литературное общество, деятельность которого была важным в развитии русской поэзии шагом вперед от рубежей, достигнутых в конце XVIII в. Карамзиным[363]. В середине 1805 г. Мерзляков — постоянный посетитель дружеских собраний московских литераторов (например, в доме Воейкова на Девичьем поле), где вокруг него собирается круг единомышленников, которые ориентировались в поэзии на стиль Мерзлякова, сознательно отталкивавшегося от поэтики Карамзина в сторону высоких поэтических жанров, оды и сатиры, с его несколько утяжеленным славянизмами языком, повышенным вниманием к античным и славянским древностям как источнику стиха. Среди этих литераторов можно назвать Н. Ф. Грамматика, Ф. Ф. Иванова, М. В. Милонова, 3. А. Буринского. В равной степени эстетике, исповедуемой в кружке Мерзлякова, было чуждо и формирующееся «ложноклассическое» направление поэзии, намеренно архаизирующее язык, представителями которого в Москве были такие одиозные фигуры, как граф Хвостов и П. И. Голенищев-Кутузов. Таким образом этот кружок придерживался собственной позиции в литературных спорах своего времени, выражая взгляды, характерные для поэтов-разночинцев той поры, идеал которых был по-прежнему связан с именем Ломоносова[364].
Большинство литераторов-мерзляковцев было тем или иным образом связано с Московским университетом. Как мы узнаем из воспоминаний С. П. Жихарева, на университетских квартирах проходили постоянные собрания, где присутствовали многие друзья и коллеги Мерзлякова, объединенные любовью к искусству: магистр П. И. Богданов, адъюнкт военных наук и музыкант-арфист Г. И. Мягков, издатель «Военного журнала», математик и также музыкант П. И. Рахманов, университетский учитель скрипичной игры Рачинский, актер Злов и др. Мерзляков был душою этой компании. После одного из собраний Жихарев записывает: «Алексей Федорович острил беспрестанно. Нет человека любезнее его, когда он нараспашку»[365]. Частыми гостями этих собраний были и студенты университета, которые чувствовали здесь удивительную атмосферу дружбы и равенства всех участников кружка, независимо от чина или заслуг на литературном поприще, и не случайно, что именно в этом кружке Жихарев отмечает два своих дня рождения и устраивает прощание с университетом.
Одним из наиболее талантливых литераторов мерзляковского кружка, близким по складу характера и творчеству к самому Мерзлякову, был поэт Захар Алексеевич Буринский (1784–1808). Родившийся в семье священника из Переславля-Залесского, он некоторое время учился в Московском университетском благородном пансионе, в 1801 г. поступил в казенные студенты, в 1804 г. окончил курс кандидатом по философскому факультету. С 1807 г. Буринский — магистр и адъюнкт философии и словесных наук. Во время учебы в университете он пользовался поддержкой попечителя М. Н. Муравьева, готовившего его для преподавания всеобщей истории. На смерть Муравьева Буринский откликнулся поэтическим посланием, сочувственно процитированным Батюшковым в его программной речи «О влиянии легкой поэзии на язык». В это же время Буринский сблизился с Мерзляковым, поддерживал переписку со своим пансионским товарищем Н. И. Гнедичем. Как и Мерзляков, Буринский отличался веселостью и общительным нравом в компании, притягивал к себе друзей, которые сохранили о нем память как о незаурядном, но нераскрывшемся литературном даровании. «Не забуду и тебя, милый беспечный мой Буринский, будущее светило нашей литературы, поэт чувством, поэт взглядом на предметы, поэт оборотами мыслей и выражений и образом жизни — словом поэт по призванию! — пишет Жихарев, прощаясь с университетом в 1806 г. — Не забуду тебя, скромный обитатель бедной кельи незабвенного нашего поэта Кострова, которого наследовал ты талант, но не наследовал его слабостей»[366]. Николай Тургенев отмечает в дневнике после пансионского акта: «Буринский славно сказывал стихи, но не худо и шалил за ужином»[367]. При этом в нескольких известных нам письмах Буринского он предстает совершенно с другой стороны: человеком чувствительным, ранимым, тяжело переживающим обиды и несправедливости, склонным к глубоким медитативным размышлениям. «Люди нашего состояния живут в рабстве обстоятельств и воли других… Сколько чувств и идей должны мы у себя отнять! Как должны переиначить и образ мыслей и волю желаний и требований своих самых невинных, даже благородных склонностей! — Мы должны исказить самих себя, если хотим хорошо жить в этой свободной тюрьме, которую называют светом. У турок есть обыкновение тех невольников, которым удается понравиться господину, заставлять в саду садить цветы! О! если бы судьба доставляла нам хотя такую неволю!»[368] Последние годы жизни Буринского сопровождали какие-то не вполне ясные нам несчастные события. На его внезапную смерть в мае 1808 г. откликнулись стихами Мерзляков и И. Б. Петрозилиус, немец-гувернер в семье Грибоедовых, очевидно, близко друживший с Буринским, что, как мы увидим ниже, показывает еще одну сторону университетских знакомств создателя «Горя от ума».
Оба поэта — 3. А. Буринский и А. Ф. Мерзляков — тесно соприкасались в своей жизни с университетским благородным пансионом, публиковали стихотворения в его изданиях, и неудивительно, что многих их знакомых мы видим среди членов Собрания воспитанников благородного пансиона. Список авторов «Утренней зари» и других названных выше сборников помогает нам выявить наиболее активных участников этого литературного кружка, и хотя его заседания во многом носили формальный характер, являясь частью воспитательной системы А. А. Прокоповича-Антонского, им сопутствовала иногда и настоящая дружба между членами собрания, о которой мы можем узнать из их личной переписки. За период с начала XIX в. до Отечественной войны в собрании сменилось несколько поколений воспитанников, для каждого из которых характерны свои дружеские связи. Среди старшего поколения, наиболее активно участвовавшего в первых книгах «Утренней зари», мы можем выделить И. А. Петина и Д. В. Дашкова. Ивану Петину, окончившему пансион в 1803 г. в ранге первого воспитанника, посвящено замечательное воспоминание Батюшкова, служившего с ним в одном полку во время похода 1807 г. и финляндской кампании и оплакавшего его смерть на 26 году жизни в «битве народов» под Лейпцигом. «Ум его, — пишет Батюшков, — был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка: вот в двух словах его изображение»[369]. Стихотворные опыты Петина публиковались только в пансионских сборниках, но Батюшков считал, что «несколько басен, написанных им в ребячестве, и переводов из книг математических показывали редкую гибкость ума, способного на многое».
Дмитрий Дашков, в будущем один из основателей литературного общества «Арзамас» и министр юстиции при Николае I, был, так же как и Петин, назван лучшим воспитанником благородного пансиона, и закончил его в 1803 г. До 1810 г. Дашков жил в Москве, числясь, как и многие его сверстники, на службе в архиве Коллегии иностранных дел, что не мешало ему посещать университетские занятия и не терять контакта с пансионским кругом, к которому принадлежали его ближайшие друзья — Н. Масленников, М. Милонов и Н. Грамматин. Именно Милонов и Грамматин, а также С. Соковнин, Н. Тургенев, В. Прокопович-Антонский (племянник инспектора) и несколько других воспитанников задавали тон в пансионских изданиях 1805–1810 гг. Дружеская переписка Грамматина, Милонова и Дашкова этих лет подробно рисует нам взаимоотношения молодых людей, круг их чтения, научные интересы и литературные вкусы, их формирующиеся жизненные устремления[370]. Из трех друзей Дашков отличался наибольшими познаниями в литературе, особенно французской, увлекался философией и естественной историей. Дмитриев пишет, что «в самой молодости, между товарищами, Дашков пользовался уже преимущественным уважением и к своему лицу и к своим мнениям. Он и тогда имел над ними какую-то моральную власть, которой они покорялись, признавая его превосходство перед собою. Его приговор литературным их произведениям почитался важным и окончательным; его насмешка была метка и неотразима, хотя никогда не была оскорбительна. Милонов, а особенно Грамматин, часто бывали предметом его верных замечаний и приятельских шуток, но плохие авторы испытывали всю силу его иронии»[371].
Судьбы друзей сложились по-разному. Николай Грамматин расстался с пансионом только зимой 1806 г., защитив в университете экзамен на степень кандидата словесности, но продолжал ученые занятия и в 1809 г. был удостоен диплома магистра за «Рассуждение о древней русской словесности» — один из первых трудов по древнерусской литературе. Переехав в Петербург (при покровительстве И. И. Дмитриева) он пытался начать служебную карьеру, но неудачно. Все это время Грамматин не переставал писать стихи, сотрудничал в ряде журналов и литературных обществ, причем в поэтических произведениях, как и Мерзляков, искал средств для выражения народного духа, обращался к предромантической европейской поэзии, Оссиану и другим авторам. Сборник его стихов (1811 г.) не вызвал особого отклика у читающей публики, в парнасском адрес-календаре Воейкова он охарактеризован как «ветошник русских писателей, перекраивает новые пьесы из старых лоскутьев и перекрашивает в чужие поношенные стихотворения»[372]. В середине 1812 г. Грамматин уехал в родную Костромскую губернию, где служил директором Костромской гимназии и вышел в отставку в 1818 г.[373].
Михаил Васильевич Милонов, поэт с блестящим сатирическим дарованием, исповедовавший в творчестве высокие принципы Ювенала, но также оставивший превосходные образцы и элегического жанра, и игровой «вольной» поэзии, резко отличался характером и дарованием от своего друга Н. Грамматина. Как пишет М. А. Дмитриев, знавший обоих еще в пансионе, «Милонов известен в нашей литературе своими сатирами; а между современниками славился еще острыми ответами и беззаботною, разгульною своею жизнью, которой он отличался от всех упомянутых мною его товарищей по литературе. Грамматин напротив составлял совершенную противоположность с Милоновым: он был человек тихий, скромный, безобидный, медлительный»[374]. По словам Дмитриева, после Кострова ни о ком из писателей не было столько анекдотов[375]. Карьера Милонова не сложилась; окончив с отличием пансион в 1808 г., а в 1810 г. университет в звании кандидата[376]®, он служит в Петербурге, где стремится, без особого успеха, противостоять рассеянной жизни, которая его затягивает (как это видно из его переписки с Грамматиным[377]). Служба в департаменте не удовлетворяла Милонова, он переходил с места на место, после Отечественной войны вновь оказался в Москве, затем опять в Петербурге, пока наконец, по словам Вигеля, не «потопил свой талант в вине, или лучше сказать, в водке».
К рассмотренному нами дружескому кружку примыкал в период его учебы в пансионе (1799–1806) и в университете (1806–1808) и Николай Тургенев (из его дневника мы узнаем о посещении Тургеневым дружеской пирушки у Милонова, вместе с В. Прокоповичем-Антонским и другими воспитанниками; в другой раз вместе с Дашковым и Масленниковым он вступает в спор о Вольтере; кроме них в дневнике упомянут как приятель Тургенева и 3. А. Буринский), но говорить о их тесном товариществе, видимо, неправомерно. Хотя Тургенев, как и его приятели, писал стихи и даже пытался опубликовать их в «Вестнике Европы», литературные интересы слабо связывали его с пансионским кругом; и вообще, изучив дневник Тургенева, мы едва ли можем назвать кого-либо из упомянутых там молодых людей его близкими друзьями. В характере Тургенева и процессе складывания его мировоззрения еще М. О. Гершензоном, первым из исследователей, подмечены черты, отличавшие дворянского юношу начала XIX в., который впервые столкнулся с противоречиями окружающей жизни и приходит к осознанию необходимости бороться с ними, даже революционными методами. «Дневник молодого Тургенева на всем своем протяжении исполнен такой мрачной меланхолии, какой никто не мог бы предполагать в здоровом и прилежном юноше.
<…> Он часто, особенно в начале, жалуется на скуку… Но скука — не точное слово; его душевное состояние — не скука, а тоска, ипохондрия, наполовину нервного, наполовину философского происхождения, иначе говоря „мировая скорбь“»[378]. Николай Тургенев находится в жестоком разладе с окружающим его миром, прежде всего видя бессмысленность и бесцельность той светской жизни, которую он ведет; некоторое отдохновение он находит только наблюдая во время гуляний простой народ, «русских мужичков» (по замечанию Е. И. Тарасова, «Тургенев вообще друг народа»[379]). Причину своего разлада он объясняет неизбежностью бед и страданий людей вокруг него, которая проистекает из существующей системы отношений между людьми. «Глупые люди, почитающие сей свет лучшим и совершенным, несчастные, зараженные оптимизмом, — станете ли еще утверждать нам справедливость своей системы? Никакой Цицерон, никакой Рафаэль не может изобразить всех бедствий человеческих — труд напрасный. Но, скажет какой-нибудь П англ ос: ты говорил это во время твоего несчастия, послужившего тебе же к пользе, а в веселый час, в иное время станешь говорить противное. — Нет, нет, как бы я ни был весел, как бы ни был счастлив, при сей ужасной мысли о несчастном человечестве сердце мое содрогнется»[380]. Все несчастья людей следуют из того, что их жизнь слишком удалена от «натурального», природного существования. В поисках законов этого природного существования Тургенев подвергает анализу и критике все стороны окружающего его мира. Он замечает глупость, лень, корыстолюбие знакомых ему людей, осуждает безнравственное с его точки зрения пансионское начальство, бесполезность своей службы в архиве и т. д. Характерно, что воспитанный дома и в пансионе на строгих религиозных началах, он в минуты рефлексии испытывает жестокие сомнения в существовании Бога и пытается объяснить его с помощью «просвещенного светом разума и философии, тщательно рассматривающей Природу и ход вещей». В поисках ответа он обращается к книгам, среди которых его особенно привлекает Вольтер с его разрушительным пафосом по отношению к старому миру и надеждой построить новый. «Если злоупотребление утвердилось, то нужен громовый удар, чтобы искоренить его», — в этой цитате из Вольтера в дневнике Тургенева уже проглядывают черты будущего декабриста.
З. А. Буринский, объединявший кружок Мерзлякова с пансионской средой, участвовал и в других дружеских собраниях студентов, среди которых одно вызывает наше повышенное внимание, поскольку именно в нем мы можем отметить зарождение товарищеских связей между несколькими участниками первых декабристских организаций. Речь идет о собиравшемся в доме Щербатовых на Кузнецком мосту литературном кружке студентов Московского университета, куда входили жившие в доме князь И. Д. Щербатов, братья П. Я. и М. Я. Чаадаевы, а также А. С. Грибоедов и некоторые другие молодые люди. Прямым источником наших сведений об этом кружке служит случайно сохранившаяся в архиве Щербатова записка от А. С. Грибоедова, датируемая временем не позже весны 1808 г. (т. е. Грибоедову в это время, по-видимому, было не более 13 лет!). Он пишет: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитывая на вашу любезность, надеюсь, что вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись на мое приглашение, так же как и ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный вам Александр Грибоедов»[381].
Университетская дружба Грибоедова и братьев Чаадаевых хорошо известна по воспоминаниям и подтверждается многими фактами[382]. Буринский также оказался в числе «членов собрания» не случайно: в это время он преподает князю И. Д. Щербатову и его сестрам русскую словесность. К числу других посетителей кружка мы можем отнести, например, В. И. Лыкошина, а также, с большой долей вероятности, земляка Грибоедова по Смоленщине, И. Д. Якушкина. Якушкин был привезен в Москву и определен на пансион к профессору Мерзлякову в 1808 г.[383], благодаря Мерзлякову он начал посещать университетские лекции, сблизился со студенческой средой (возможно, также познакомился с Буринским), хотя формально был зачислен в университет только на акте 1810 г.[384] Вероятно, вскоре после приезда, благодаря своему земляку и родственнику Грибоедову, он попадает и в дом Щербатовых, о чем свидетельствует показание кн. И. Д. Щербатова, что он познакомился с Якушкиным еще будучи в университете, а также признание его сестры Н. Д. Щербатовой, в которую Якушкин был безнадежно влюблен, относившей начало его страсти к 13-летнему возрасту, т. е. моменту непосредственно после приезда Якушкина в Москву[385]. Вместе с братьями Чаадаевыми, Щербатовым и Грибоедовым Якушкин занимался у профессора Буле. Отмечу здесь, что учеба Чаадаевых в университете, куда они были зачислены студентами летом 1808 г., фактически началась раньше, по крайней мере с осени 1807 г.[386]; закончилось же обучение всех друзей (кроме А. С. Грибоедова) в начале 1811 г., когда Якушкин и Щербатов отправились в Петербург для определения в Семеновский полк, а через несколько месяцев за ними последовали и оба Чаадаевых.
Рассматривая круг университетских знакомых Грибоедова, мы не должны оставить вниманием другую замечательную фигуру — Михаила Николаевича Муравьева, одного из основателей Союза спасения, будущего графа Виленского. Об их приятельских отношениях мы узнаем из письма Грибоедова от 6 июня 1826 г.; по его словам, в этот день они оба, после освобождения из-под ареста, были представлены Николаю I во дворце на Елагином острове, куда приехали вместе в коляске Муравьева, которого Грибоедов называет «университетским товарищем, не видевшимся со мной уже 16 лет». В самом деле, встречи Муравьева с Грибоедовым в университете могли происходить именно в 1810 г., когда первый из них был зачислен студентом физико-математического отделения. Однако и до этого Михаил Муравьев, страстно увлекавшийся математикой, собирал у себя дома кружок университетских студентов — знатоков этой науки, среди которых его биограф называет Щепкина, Афанасьева, Андреева и Терюхина (двое из них впоследствии стали преподавателями университета)[387]. Расцвет муравьевского кружка связан с основанием им при поддержке отца, генерал-майора Н. Н. Муравьева, общества математиков, преобразованного после Отечественной войны в московскую школу колонновожатых, из стен которой вышло немало замечательных деятелей декабристского движения.
Душою общества математиков был сам Н. Н. Муравьев-старший, который читал здесь лекции по военному искусству, предоставил в распоряжение слушателей свою богатейшую библиотеку, коллекцию оружия, необходимые инструменты и, главное, разработал основные положения устава и учебной системы общества, которое, благодаря этому, сразу превратилось в одно из самых передовых учебных заведений России. Для занятия общества Н. Н. Муравьев предоставил свой прекрасный дом на Большой Дмитровке, а летом молодые люди отправлялись в арендованное Муравьевыми подмосковное имение Осташево, где учеба продолжалась.
Замечательна была сама атмосфера, сложившаяся в семье Муравьевых. Три брата Муравьевых — Александр, Николай и Михаил — плечом к плечу прошли Отечественную войну (во время которой младшему, Михаилу, только исполнилось 16 лет!), не раз выручая друг друга из смертельной опасности. Двое старших были избраны действительными членами общества математиков, и покровительствовали сложившемуся там студенческому кружку. А. Н. Муравьев, учившийся в Московском университете до 1810 г., поступил колонновожатым в свиту его величества по квартирмейстерской части; после войны, получив звание полковника, основал «Священную артель» и был одним из главных учредителей Союза Спасения, заседания которого проходили в Москве на его квартире в Хамовнических казармах. Н. Н. Муравьев-младший (впоследствии Муравьев-Карский), которого отец в 1811 г. отвез в Петербургское училище колонновожатых, подобно своим братьям демонстрировал прекрасные способности в учебе и одновременно, как следует из его замечательных записок, вдохновенно читал Руссо и мечтал найти свой способ переустроить окружающую его жизнь на более гармоничных началах. Именно Николаю Муравьеву принадлежала мысль создания самого первого, совсем еще детского, тайного общества «Чока» в Петербургской школе колонновожатых, все участники которого (Матвей Муравьев-Апостол, Артамон Муравьев, Василий и Лев Перовские) стали затем деятелями декабристского движения.
Для развития нашей темы важно отметить, что участники петербургского общества «Чока» в основном подружились еще в Москве, посещая занятия муравьевского кружка. Из записок Н. Н. Муравьева мы узнаем, что в 1811 г. слушателями Общества математиков, число которых превышало 16 человек, были А. 3. Муравьев, И. Г. Бурцов, братья Михаил и Петр Колошины — все это воспитанники Московского университета[388]. Артамон Муравьев, принятый в студенты вместе с братом Александром в 1810 г.[389], проживал в университете на пансионе у профессора Рейнгарда. Поскольку лекции Рейнгарда в это время посещал Грибоедов и другие члены щербатовского кружка, а профессор регулярно устраивал проверочные занятия у себя на дому, то личное знакомство их с А. 3. Муравьевым весьма вероятно. Имена братьев Колошиных и Бурцева мы находим среди списка вольнослушателей в книге регистрации за 1810/11 г., через несколько фамилий от имени Грибоедова. Близкая дружба Михаила Колошина и Николая Муравьева, зародившаяся в этот год в Москве, трагически оборвалась в 1812 г., когда ослабевший от ран Колошин скончался на руках Муравьева, в Вязьме, незадолго до Бородинской битвы. Другой брат, Петр Колошин, «душою поэт», особенно сдружился с Михаилом Муравьевым, а после войны вместе с ним и Бурцевым вошел в «Священную артель» и Союз спасения.
Биограф М. Н. Муравьева подчеркивает тесные дружеские связи с муравьевским кружком и трех братьев Перовских, которые также могли посещать лекции в доме на Большой Дмитровке[390]. Старший брат Алексей — одна из замечательных фигур в Московском университете тех лет. Поступив в университет в 1805 г., через три года он был удостоен степени доктора философии. Прочитанные им в университете пробные лекции были изданы отдельным изданием. Уже во время учебы зародился его интерес к литературе. В 1807 г. Перовский выпустил немецкий перевод повести Карамзина «Бедная Лиза», считая ее «восхитительной» по способу изложения. 1808–1812 годы для будущего писателя-романтика, публиковавшего свои сочинения под псевдонимом Погорельский, — это время напряженных жизненных поисков[391]. Он мечтает избавиться от опеки отца-министра, меняет места службы, пытается войти в круг московских литераторов, ищет смысл жизни в учении масонов, которые, однако, по настоянию О. Поздеева, отказывают ему в приеме в ложу[392].
Одновременно он состоит членом почти всех научных обществ при университете, особенно активно участвует в работе ОИП (его заметки опубликованы в трудах этого общества), но постепенно отходит от этих занятий. Неудачей заканчивается его попытка вопреки воле отца поступить на военную службу, и только 1812 год дает возможность его деятельной натуре откликнуться на патриотический порыв и встать на защиту родины.
Обстоятельства жизни перед Отечественной войной двух других братьев, будущих декабристов, Василия и Льва Перовских, известны нам хуже. Оба они вступили в университет в 1808 г. и закончили в 1810 г., т. е. учились одновременно с Чаадаевыми, Щербатовым и другими членами их кружка. Зная о позднейшем знакомстве Перовских с П. Я. Чаадаевым, мы можем предположить, что оно началось еще на студенческой скамье и, возможно, Перовские связывали этих молодых людей с кружком Муравьева. В Петербурге оба брата поступили в колонновожатые, в 1812 г. участвовали в Бородинском сражении. Образ молодого Василия Перовского превосходно обрисован в его записках, где он рассказывает о своих скитаниях в оставленной жителями Москве и пребывании в плену у французов. Оба брата во время учебы опубликовали в университетской типографии по одному переводу с французского, причем книга, выбранная Львом Перовским, явно свидетельствует о преобладании в его характере мистических настроений.
В добавление к уже названным деятелям декабристского движения, учившимся в этот период в университете, мы не можем не назвать Никиту Михайловича Муравьева. Записавшись в конце 1808 г. в университет, он был произведен в студенты на торжественном акте 1809 г. и продолжал учебу до 1812 г. (его имя в книге регистрации студентов за 1811/12 г. — на одном развороте с записью Грибоедова!)[393]. В 1811 г. Михаил Муравьев привлек его к занятиям общества математиков: Никита должен был перевести с французского учебник Лежандра и в дальнейшем, видимо, стать лектором общества. Домашним учителем в семье Никиты был молодой университетский преподаватель, англичанин Эванс, в 1810–1820 гг. приятель Грибоедова и Чаадаева, характерный обитатель грибоедовской Москвы, который, по его собственным словам, лично знал всех персонажей «Горя от ума»[394]. Вместе с семьей Никита осенью 1812 г. попал в Нижний Новгород и там обратился с просьбой к ректору переехавшего туда университета И. А. Гейму с просьбой о его увольнении из университета с кандидатским аттестатом. Ректор удовлетворил его просьбу, зная «известные его дарования и засвидетельствованные профессорами достаточные сведения в науках», и 9 ноября 1812 г. попечитель Голенищев-Кутузов утвердил производство Никиты Муравьева в кандидаты, отметив, что заслуги отца влекут любовь всего университета к его сыну, «обещающему способностями своими, что он некогда заменит своего родителя в службе Государю и Отечеству»[395].
Заканчивая рассмотрение этой большой группы студентов-дворян, объединенных дружескими связями, в которых постепенно вырисовывались контуры первых декабристских организаций, обратимся еще к одному замечательному выпускнику университета того времени, фигура которого наиболее определенно свидетельствует о контактах щербатовского и муравьевского кружков. Речь идет о Дмитрии Александровиче Облеухове, докторе физико-математических наук, имя которого мы находим среди действительных членов Общества математиков.
Личность Д. А. Облеухова, «очень заметного персонажа на интеллигентском секторе московского горизонта десятых и двадцатых гг. XIX в.», до недавнего времени слабо освещалась в работах исследователей[396]. Между тем «Облеухов был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубокость и силу его ума и ясность его фантазии»[397].
Д. А. Облеухов достиг своего первого крупного успеха в 1806 г., еще будучи 16-летним студентом Московского университета. Тогда он перевел и «прибавлением умножил» 4-томный учебник словесности аббата Батте — один их основных для того времени трудов по теории французского классицизма. Замечательная работа заслужила похвалу попечителя М. Н. Муравьева, который, при всей своей занятости, удостоил Облеухова письмом, где просил личного знакомства и предлагал поддержку и покровительство, чтобы тот смог продолжать свои ученые занятия. В 1807 г. Облеухов был произведен в магистры словесных наук. Не довольствовавшись этим, он решает расширить сферу научных интересов, приступает к занятиям математикой и в 1811 г. защищает диссертацию на степень доктора, но на этот раз уже физико-математических наук. «С тех пор почти до самого конца своей жизни, — вспоминает И. В. Киреевский, — Облеухов занимался исключительно и постоянно науками умозрительными. Математика, метафизика и теория языков разделяли почти все его время».
Именно на почве метафизики произошло сближение Облеухова с П. Я. Чаадаевым, как это явствует из письма Чаадаева к Облеухову в марте 1812 г.[398] По мнению Д. И. Шаховского, тесное общение с Облеуховым способствовало развитию у Чаадаева привычки к философским и метафизическим размышлениям и спорам. Впоследствии «мистический» дневник Облеухова, очевидно, повлиял на его друга (поскольку хранился среди его бумаг, так что далее был включен Гершензоном в корпус сочинений самого Чаадаева). Следствием влияния Облеухова на Чаадаева можно назвать и интерес последнего к математике[399]. 8 августа 1827 г. Облеухов писал Чаадаеву: «Еще до нашего расставания в 1812 г. вы мне дали листок из своего альбома для того, чтобы я написал на нем самое краткое и ясное изложение принципов дифференциального исчисления»[400].
Долгие годы Облеухов оставался ближайшим другом не только П. Я. Чаадаева, но и всего щербатовского дома. С теплотой о нем отзывались Якушкин, княжна Наталия Щербатова, а сам князь Иван Дмитриевич в 1821 г. сообщал, что «знаком с Облеуховым с малолетства и почитает его за самого скромного, кроткого, умного и ученейшего человека». Обаяние личности Облеухова и пример его яркой научной карьеры могли оказать воздействие и на выбирающего свой путь Грибоедова[401].
Вне нашего поля зрения остались еще несколько университетских кружков, которые возникали вокруг издаваемых студентами литературных журналов и сборников. В 1807 г. такой кружок возник вокруг альманаха «Весенний цветок» (при покровительстве попечителя Муравьева вышло 3 части, но после его смерти издание прекратилось). Его составителями и основными авторами были московские студенты Козьма Андреев и Алексей Урываев. Свои первые произведения в этом альманахе опубликовали И. М. Снегирев, А. Д. Боровков, В. И. Лыкошин. В своих записках Боровков упоминает среди университетских друзей, кроме Снегирева, еще Е. Ф. Тимковского и И. И. Давыдова. Их объединяла общая судьба небогатых студентов, вынужденных зарабатывать на жизнь переводами и уроками, пировавших и гулявших в складчину. Биограф И. И. Давыдова, рассказывая о его товарищах по учебе, приводит несколько фамилий студентов, в основном казеннокоштных: Никитин, Карасевский, Прянишников, Альфонский, Смирнов. Часть этой дружеской компании серьезно увлекалась литературой: в нее входили С. Д. Нечаев, В. С. Филимонов, связывавшие университетскую среду с журналистским кругом М. Н. Макарова, издателем «Журнала для милых» (1804), «Московского курьера» (1805–1806), «Московского вестника» (1809). (Сам Макаров учился одно время в благородном пансионе, а в 1810 г. посещал университетские лекции вольнослушателем.) Кроме того, И. И. Давыдов называл своим приятелем и Грибоедова, вместе с которым они учились у профессора Буле, а Ф. И. Прянишников — П. Я. Чаадаева.
В «Весеннем цветке» вышли в свет и первые литературные опыты К. Ф. Калайдовича, который оставил след в университетской науке прежде всего как собиратель древностей и исследователь славянских языков. После окончания им учебы (1810 г.) со степенью кандидата словесных наук университет предпочел удержать Калайдовича у себя, поручив ему преподавание истории в академической гимназии и благородном пансионе. Калайдович относился к тем немногим воспитанникам университета, которые активно сотрудничали сразу в нескольких научных обществах. К своим литературным занятиям он относился вполне серьезно: еще будучи в гимназии, Константин и его брат Петр, будущий автор «Словаря русских синонимов», выпускали рукописный журнал «Русская муза», который показывали школьным товарищам, в т. ч. Жуковскому[402]. В 1807–1808 г. они по подписке пытались издавать журнал «Русский критик» (вышел один номер), помогали К. Ф. Андрееву в издании «Весеннего цветка», наконец, в 1808 г. К. Ф. Калайдович выпустил и сборник собственных произведений — «Плоды моих трудов».
Наконец, последним по времени литературным содружеством в университете перед Отечественной войной можно назвать младших участников Собрания воспитанников благородного пансиона, труды которых вышли в двух книгах сборника «В удовольствие и пользу» (1810–1811 гг.). Наиболее деятельным из них был С. Г. Саларев, о котором оставил свои воспоминания И. И. Давыдов[403], сюда же входили лучшие воспитанники этих лет А. Величко, А. Родзянко, сын прославленного генерала Александр Раевский, начинающие свое литературное поприще Н. В. Сушков и М. А. Дмитриев и некоторые другие. Однако можно заметить, что это пансионское товарищество уже не обладало такими яркими фигурами, как предыдущие, и общий уровень сборников был весьма невысок.
Подведем некоторые итоги. Учеба и бытовое поведение питомцев Московского университета в начале XIX в. представляют собой разностороннее явление, которое будет по-разному охарактеризовано в зависимости от того, идет ли речь о казеннокоштных или своекоштных студентах, воспитанниках благородного пансиона и академической гимназии, студентах-дворянах или разночинцах. Последствия университетских реформ, необходимых, по замыслу правительства, для привлечения к высшему образованию дворян как ведущего сословия российского общества, оказывали значительное влияние на формирование студенческого состава. Поэтому наше внимание привлекла во многом уникальная, существовавшая именно в допожарном университете группа молодых дворян из лучших московских семей, искренне увлеченных науками и литературным творчеством, мечтающих найти свой путь, чтобы принести пользу Отечеству; в некоторых из них мы угадываем будущих декабристов. Не менее важным для университета оказался тот перелом в отношении к нему русского общества, вследствие которого всего за несколько лет количество студентов более чем утроилось и университет наконец начал приобретать черты высшего учебного заведения, отказываясь от присущих ему в XVIII в. функций начального и среднего образования. Наконец, в сложившейся к началу 1810-х гг. студенческой среде зарождались многочисленные знакомства и приятельские связи между молодыми людьми, сыгравшими впоследствии значительную роль в истории России. Эти контакты представляют благодатное поле для дальнейших исследований.
Заключение
«Московский университет 1804–1812 гг. в московской общественной жизни играл исключительную роль. Такого важного значения не имел, например, Санкт-Петербургский университет 1819–1825 гг. в петербургской общественной жизни — он только налаживался и скоро подпал реакции — здесь руководство принадлежало несомненно журналистам и будущим декабристам. В Москве времен студенчества Грибоедова вся культурная работа концентрировалась в университете. О нем и о профессорах приходится говорить и по поводу тогдашней школы и по поводу масонства, журналистики, изящной словесности и т. д. После разгрома 1812 г. значение Московского университета сузилось. Но времена Грановского вновь напомнили mutatis mutandis время 1804–1812 гг.»[404]
Так писал замечательный исследователь русской культуры начала XIX века Н. К. Пиксанов. Присоединяясь к его мнению, мы должны отметить точно схваченную историком черту — изменение, подвижность, бурный рост, — характерную для рассматриваемого нами периода университетской истории, и особенно для времени попечительства М. Н. Муравьева. Это благодаря его заслугам университет в 1804 г. получил устав — самый демократичный за всю свою историю. Заботами Муравьева разворачивается выпуск университетских журналов, деятельность научных обществ, растет число студентов и качество преподавания, изменяется роль университета в культурной жизни и отношение к нему русского общества. Именно с этой поры понятие «образованность» в дворянском обществе неразрывно связывается со словом университет, так же как связаны с ним представления о российской науке, литературном процессе.
Последняя связь — между наукой и литературой — особенно важна, ведь вплоть до середины XIX века, да и позднее, развитие общественного сознания шло преимущественно в форме литературных споров. Поэтому успехи науки соизмерялись Муравьевым, сыном века Просвещения, со степенью их воздействия на публику, что было невозможно без постоянного участия университета в общем развитии русской литературы. Не только благородный пансион при университете, благодаря тому значению, которое в нем уделялось изящной словесности, воспитывал будущих поэтов и писателей, но и в университетских аудиториях литературные и научные споры свидетельствовали о присутствии мысли, побуждая студентов думать и действовать свободно и выражать свои стремления не только на бумаге, но и в конкретных поступках и даже жертвах ради Отечества, как доказал 1812 год. И хотя не все поколение декабристов прошло через Московский университет, но его главные черты вообще не могли бы возникнуть без той атмосферы свободы науки и творчества, которую создавали реформы народного просвещения, частью которых было преобразование университета.
Что касается дальнейшего развития положений устава 1804 г., то здесь как нельзя более сказался идеалистический характер реформ, поскольку многие его принципы находили воплощение с большим трудом и за них приходилось бороться на различных уровнях. Устав не был надежной защитой профессоров от произвола начальства, что показали последние годы перед Отечественной войной. Насколько прочной должна была оказаться в этих условиях русская наука? События показали, что европейская модель ее развития достаточно крепко укоренилась в России, и в этом также значение рассмотренного нами периода. Уроки немецких профессоров были не просто усвоены, но теперь появилось новое поколение молодых ученых, которое, несмотря на все утраты, смогло восстановить университет и привести его к новому расцвету. Последующий период университетской истории выглядит гораздо более стабильным. Это означает, что формы, в которых будет существовать университетское образование в России, были найдены успешно, что дальше пойдет их медленный и плавный рост, накопление опыта и знаний.
Наконец, чем вошло это время университетской жизни в сознание общества, чем запомнилось своим будущим студентам? Для воспитанников университета последующих поколений пожар 1812 г. провел черту, отделявшую прежнюю историю университета от современного им времени. Так, например, учившийся здесь двадцатью годами позже Герцен с удовольствием рассказывал студенческие предания о «патриархальном периоде», как он его называет, в жизни Московского университета перед Отечественной войной. Студенты и профессора часто обращались к этой эпохе как потому, что это был блестящий этап университетской истории, с которым связаны имена его замечательных ученых и воспитанников, так и понимая, что именно перед Отечественной войной были заложены основные традиции университетского самоуправления, его ведущая роль в обществе не только как научного, но и культурного центра. С принципами устава 1804 г. — доступностью бесплатного высшего образования для людей всех сословий, званий, любого достатка, свободой в преподавании для профессоров и в выборе наук для студентов, автономией университета — необходимо было считаться авторам последующих университетских уставов, независимо от характера их взглядов; сохраняют они свое значение и поныне. После пожара эти университетские традиции должны были выдержать проверку уже в новых условиях — не реформ или трагических испытаний, а спокойной созидательной жизни, и дальнейший ход истории доказал правильность пути, выбранного российским просвещением, его неизменное и великое стремление, несмотря ни на какие перемены, служить на благо Отечеству.
Приложение 1
Доклад комитета по рассмотрению уставов ученых заведений от 8 августа 1802 г.[405]
Приступив к исполнению воли Вашего Императорского Величества, выраженной в высочайшем повелении от 18 марта сего года, комитет восчествовал с благоговением к доверенности, которою Ваше Величество удостоить его изволил, и важности возложенных на него обязанностей.
Иметь в предмете распространение просвещения, утверждение его в народе на незыблемых началах, обращение его к истинной пользе, не есть ли то же самое, что утверждать навсегда блаженство сего народа, удалять самую возможность к отступлению вспять от достиженного им единожды устройства, удерживая его наравне с просвещением веков, удостоенным содействовать к исполнению благотворных намерений Ваших Всемилостивейший Государь! Сколько побуждений напрягать силы к достижению желаемого конца, но и сколько причин не доверять своим способностям!
Государь Петр Великий, Просветитель пространной Империи сей, водворяя науки посреди своих подданных, начертал устав Академии, когда смерть остановила благотворящую его руку. Первые его преемники обратили начертание сие в закон, и в последствии положили основание другим подобным заведениям, но между толь многих гражданских и военных заведений ученые места не привлекали на себя равного внимания, и может быть одно уважение к памяти и намерениям первого виновника руководствовало последовавшими Государями. Екатерина II в возвышенности своего духа нашла сильнейшие побудительные причины; народное просвещение стало ее страстию. Сияние Академии наук, распространение Академии художеств, основание Российской, введение новых постановлений в воспитательные учреждения, устроение народных училищ ознаменовали разные эпохи во веки незабвенного Ея царствования, невзирая что звук оружия нередко отвлекал Ея попечительность. Но напоследок потрясение славного просвещением Государства, не имеющее примера в летописях народов, распространившее ужас в самые отдаленные страны, к несчастию слишком приписываемое философии и письменам, послужило кажется к остановлению сей Монархини среди Ея таковых подвигов. С тех пор науки и произведения их представлялись в некотором видимом противуположении с общественным благосостоянием. Они понесли наказание за употребление их во зло несколькими извергами. Все учрежденное в их пользу, одни после других, чувствовали сие вредное влияние: может быть конечное падение их было уже близко.
Вам представлено было Государь! вознестись превыше неосновательных страхов; обрести, что истинное просвещение, быв поддерживаемо нравами, руководимо религиею, по самому свойству своему не может иметь другой цели, кроме общественного порядка, что просвещенный токмо народ бывает чистосердечно привязан к законам, единственном основании всякого мудрого правления.
Комитет, начав рассмотрением проекта устава поднесенного Вашему Императорскому Величеству от Президента Академии наук, нашел оный исполненным благонамерения и удаленным от всяких личных пристрастий, почему не мог сделать важных перемен. Приметнейшее состоит в прибавлении к наукам, предмет Академии составляющим, умственной и деятельной философии, политической Экономии, Истории и Статистики. Сии с вспомогательными науками разделили мы между трех Академиков, которыми умножено число, постановленное в проекте. Поныне не было сих познаний в виду, хотя они столь необходимо кажется, подлежат сословию долженствующему разливать в Государстве все оных роды. И действительно, открытия в Физике или Математике, учиненные на брегах Темзы или Сены, не представят для обитателей брегов Невы никакой от места заимствованной разности. Простой переход будет достаточен, чтоб сделать приложение его повсеместно полезным. Но истины, принадлежащие к нравственному наблюдению гражданского общества, или к Политической Экономии очевидно от первых различествуют. Всеконечно основание сих наук повсюду одно, начала их неоспоримы и вечны, но их приложения к нравам и обычаям, народному свойству, образу правления имеют важные между собою, по различию стран, несходства. Чтоб сочинение сего рода было прямо полезным какому-либо государству, может быть потребно, чтоб оно в нем самом произведено было. Если бы предполагаемое нами приращение Академии обратило умы к сему роду познаний, толико необходимому и поныне мало общему в России; если бы природные Локки, Мабли, Смиты, Фергусоны прославили блаженные годы царствования Вашего, Государь! то новость сия принесла бы с собою свое собственное оправдание.
Нет всеконечно ни одного состояния, для которого бы свобода была столько необходима, и вместе столько безопасна, как для состояния ученых. Дарование во все времена ненавидело принуждение. Самая тень унижения для него несносна. Подчинять его власти все равно что истреблять его. Сии то причины, Всемилостивейший Государь! убедили нас дать более места свободе в Академических трудах и заседаниях, не уменьшая однако уложения, справедливо следующего Президенту, и средств, которые он иметь должен к соблюдению порядка.
Что принадлежит до свободы книготиснения, то благотворный для ученых заведений указ февраля 9-го настоящего года не оставил им ничего желать более.
Если помещение членов в каком-либо обществе может быть вверено ему самому и предоставлено его собственной осторожности и беспристрастию, то конечно ученые общества имеют на то наиболее права и польза от сего несомнительна. Они не могут иметь иного величия, иной славы, кроме заимствованных от частной славы членов своих. Итак, мы нужным почли вставить самой Академии право избирать членов в ее сословия, также и чиновников, которым поручать она будет кроме общих, особенные обязанности. Из сего исключили однако Президента. Он, яко посредник между Престолом и вверенным его попечению и защите учреждением, должен пребывать по жизнь в своем звании. Сим образом сливает он нечувствительно свою славу со славою и благосостоянием Академии. Но вице-президент (звание, введенное в начале 1801 года. — А. А.) не что иное есть как первый Академик, и действия его будут преимущественно зависеть от влияния, какое на него иметь сословию его предоставлено. Сверх того опыт доказывает, что долговременное пребывание в должности, требующей, как сия, непрестанной деятельности, по предположению нашему, необходимо притупляет ее. Почему и полагаем мы, чтоб вице-президент избирался каждые три года, бых впрочем весьма удалены от того, чтобы лишить места нынешнего вице-президента пятидесятилетнею полезною службою имеющего несомнительное право на сие отличие.
Недовольно однако избрать мужей достойных, надобно, чтоб нашли они свои выгоды вступить в избравшее их сословие, чтоб состояние их было обеспечено, чтоб оно при посредственности своей становясь выгоднее по мере продолжения трудов, предоставляло им убежище в старости, которая по их роду жизни столько бывает рановременна и исполнена немощей; чтоб обещано было семействам, по смерти их остающимся обыкновенно в нужде и скудости, верное пособие. Мы тщились сие исполнить, подтверждая во-первых, назначение сумм на содержание, кои хотя и превосходнее против прежних, но все еще едва ли соразмерны с нынешними ценами жизненных потреб. 2-е Полагая, вместо прибавления жалования, зависящего от произвола начальников и следовательно подверженного неудобствам, другое, возрастающее со временем службы. 3-е Назначая соразмерные жалованию и продолжению службы пенсионы уволенным академикам, их вдовам и их детям до совершеннолетия. В сем последнем сообразовались мы сколько с проектом Президента, столько с постановлениями двух медико-хирургических Академий, воспитательных домов и Института Ордена Святыя Екатерины. Таким образом надеемся мы убедить иностранцев с достоинствами, оставить отечество и благосклоннейший климат для переселения в Россию, а в соотчичах наших произвести желание предаться сему трудному поприщу, которое ни в одной почти стране не ведет к богатству и честям, у нас же, к сожалению признаться должно, не имеет еще и уважения, ему приличного.
Уважение же, Всемилостивейший Государь! сообразуясь предрассудкам, с которыми безуспешно было бы бороться, положили мы дать, присвоив каждому Академическому званию государственный класс, пристойный степени почтения, какую оно заслуживать должно в обществе. К сему подали нам смелость, и указ 1790 года декабря 16-го определяющий уже государственные классы ученым, и настоящие чины почти всех Академиков, превозвышающие те, которые мы в проекте нашем назначили.
Комитет осмеливается еще представить Вашему Императорскому Величеству о неудобстве, которое не может быть пройдено молчанием. При ученых заведениях, столь удаленных от приказного обряда, с некоторого времени по примеру судебных и правительственных мест учредилась канцелярия, и канцелярия сия наполненная людьми, чуждыми науке, которых вся должность накоплять тысячи номеров бумаг, для учености бесполезных, мало помалу присвоила себе управление. Таким образом и знаменитое сословие Академии наук впало в зависимость от приобщенного хозяйственной его части учреждения. Нынешний Президент предлагал способы освободить его от сей несвойственной зависимости: мы почли себя обязанными истребить зло в самом его корне, удалив из Уставов наших канцелярских чиновников, мы предположили восстановление управляющего и Хозяйственного Комитета из членов самой Академии, каковой существовал в начале.
Должно признаться, Всемилостивейший Государь! что сим единым ознаменовалась наша бережливость. Содержание прибавленных нами трех Академиков, умноженное число и содержание воспитанников, которые поступая в Адъюнкты, назначены для постепенного составления Академии из природных россиян, прибавленное содержание Студентов, которое по ценам в сем городе показалось нам необходимым, награждение достойнейшим из них, прибавление сумм на содержание Химической лаборатории и подобных тому учебных принадлежностей, ботанического сада до ныне бесполезного, но назначаемого нами на испытание присвоения нашему климату чуждых растений, предположение трех тысяч рублей на почтовые издержки и содержание в чужих краях воспитанников отличившихся талантами, прибавление к сумме Академического училища, все сие нечувствительно увеличило сумму, предложенную в проекте Президента до ___ рублей. Но он трудился в первые дни благословенного царствования Вашего Величества и поступив уже на прибавление слишком половины против пятидесяти пяти тысяч рублей с 1747 года до ныне на Академию отпускаемых, должен был с опасением остановиться. Целый год, прошедший с того времени, внушил нам более смелости. Он уверил нас, Всемилостивейший Государь! что строжайшую скромность в иждивениях, касающихся до роскоши, умеете вы обращать в беспредельную щедроту, коль скоро общественное благо предстанет взору вашему, и что следовательно целью для нас быть должно не уменьшение расходов, но предложение токмо таковых, которые обещают прочные выгоды народу, Вашей благотворной попечительности Провидением вверенному. Если мы имели счастие достигнуть до сего в мнении Вашего Величества, то смеем быть уверены, что мы не погрешили.
Российскую Академию нашли мы уже обогащенную от щедрот Вашего Величества, почему сделали маловажные токмо прибавления к суммам, назначенным на ежегодное издание ее трудов и ободрение писателей и переводчиков. Осталось изобрести средства наиспособнейшие к достижению намерений, с которыми основано сие общество в Бозе почившею покровительницею языка и муз российских. Но средства сии, Государь! почти всегда и во всем одинаковы: свобода, возбуждение соревнования и награды, справедливо раздаваемые.
Что до первой принадлежит, комитет осмелился положить, чтоб впредь Академия имела право представлять Вашему Величеству для назначения в Президенты трех кандидатов, избранных ею их почетных членов своих. Нам казалось, Всемилостивейший Государь! что люди, трудящиеся без жалования, целая треть которых под именем почетных членов составлена будет из знатнейших особ в Государстве, заслуживают сие снисхождение. В самом деле, мог ли бы кто принудить их к собраниям, если бы они, не будучи довольны своим начальником (хотя впрочем особою отличных достоинств) стали от него удаляться. Сии же причины и изложенные нами выше, но от свойства сей Академии получающие еще большую силу, побудили нас назначить хозяйственный комитет, представление ежегодных счетов обществу, свободу в рассуждениях и избраниях членов.
Возбуждение соревнования должно быть по нашему мнению двояко: во-первых для публики вообще, посредством медалей и других награждений за достойнейшее произведение в Стихотворстве разных родов, в красноречии, или критике, в Истории или российских древностях. Для отвращения и малейшего подозрения в пристрастии имена сочинителей по обыкновению прочих государств будут присылаемы за печатью и решение следует не иначе, как от целого Академического Сословия, разумея, что в числе сочинителей не будет членов оного.
Важнейшими трудами, как то, словарем языка и постановлением правил во всех родах письмен, займутся конечно большей частью одни Академики. Почему и предстояло нам затруднение, как обеспечить совершеннейшее беспристрастие в определении им награждений, наипаче же золотой медали, назначенной члену, преимущественно потрудившемуся. Не желая отдать сего на произвол одного человека, который может быть предубежден, или предоставит людям, кои находили бы пользу во взаимном назначении себе наград, мы нашли нужным приобщить к Президенту ученый Комитет, избираемый ежегодно, составляемый из трех почетных членов, по положению нашему никогда не участвующих в награждениях и трех действительных членов, которые на тот год должны также отказаться от соучастия.
Увенчанные сочинения обнародуются вместе с рассуждениями Академии в ее периодических записках, кои должны со временем со делаться Летописью российской словесности.
Таковым образом награждения и одобрения, раздаваемые ценителями, которые в пристрастии не могут иметь личной пользы, которых мнение всеконечно гласом общества запечатлется, воспламенят рождающиеся дарования. Отличия, жалуемые иногда Вашим Величеством по представлению Президента, согласному с Академией, поддержат терпение, в сочинениях долговременного труда требующееся.
Мы много ожидаем от всех сих средств, но к ним Комитет осмелился присовокупить еще одно, весьма действительное, как в Академии наук, так и в Российской. Личное присутствие Ваше, Всемилостивейший Государь! которым вы единожды в год удостоить благоволите каждое из обществ. Много дерзновения располагать двумя днями драгоценнейшего времени вашего, но мы думали, что Вы с тем же удовольствием сердца посвятите их на ободрение в столь важной части просвещения отечества, с каковым остальные все посвящаете на его управление, на воинские и гражданские дела. Чего не может произвесть надежда быть провозглашенну победителем, заслужить общую похвалу в присутствии просвещенного, возлюбленного Монарха! Ожидание сего блаженного часа поддержит бодрость ученого в ночных его бдениях. Самое воспоминание о том придает новые силы! Коль ни высоко ценит Комитет каждую минуту Вашего Величества, но он надеется, что минуты, употребленные таким образом, не дадут повода к сожалению.
Что касается до Московского Университета, то для доставления ему всей деятельности и влияния, каковых он может быть способен, Комитет устремил все свое внимание как на рассмотрение недостатков, препятствующих ему до ныне исполнить совершенно назначение свое, так и на приискание истинных способов увеличить приносимую им пользу. С одной стороны, усмотрели мы, что первоначальное начертание его было чрезвычайно ограничено и малым числом и содержанием профессоров, и скудным иждивением, употребляемым на Студентов, которые ожидали нетерпеливо времени оставить Университет, не окончив полного учения. Гимназия, смешенная с Университетом, занимая главное внимание как начальников оного, так и публики, налагала некоторое неуважение на самой Университет. С другой стороны, в проекте, предложенном на рассмотрение Комитета, и бумагах, заимствованных от кураторов, невзирая на некоторое прение противных мнений, не нашли мы средств довольно сильных для отвращения сих неудобностей и для того обратились к плану поднесенному в 1787 году блаженной памяти Государыне Екатерине II графом Завадовским и г-ном Эпинусом с их сочленами, для учреждения Университетов в Пскове, Пензе и Чернигове; к плану, наполненному мыслями благонамеренными и видами колико мудрыми, толико и Патриотическими. Комитет неоднократно им пользовался с истинною признательностью.
За тем первым старанием нашим было сколько возможно отделить гимназию, учреждение совсем постороннее, и по смешению с Университетом служившее к крайнему унижению последнего в глазах публики, останавливающейся обыкновенно на одной наружности. Она не могла судить об нем выгодно, видя толпы отроков, скудно призренных, которые наполняли большую часть его зданий. Почему для совершенного разделения сих двух учреждений нужно, чтобы и самые здания были отделены одни от другого. Предполагаемое приобретение соседственного Пашкова дома представляет к тому великую удобность.
Факультеты хотели мы вначале заменить занятыми из Французского Института отделениями. Но удаляясь от введения новостей без очевидной и преимущественной пользы, мы оставили прежнюю классификацию наук, дав только частям Университета наименования, более соответствующие назначению каждой. Однако ж почли за нужное: Юридический факультет обратить в политико-юридический или Отделение гражданских познаний, присовокупив Профессоров Статистики, Политической Экономии, Технологии, Общих правил камералистики, коммерции и сельского домоводства. Таким образом, ученость оттуда выходящих юношей не будет ограничиваться одним познанием Римских Прав, имеющих мало общего с нашими законами, и самих сих законов, не приведенных еще в систему. Сим станут образоваться люди, способные ко всем местам, ко всем родам гражданской службы, каждый по способностям своим.
К врачебному отделению Университета, которое также устроено, сообразуясь назначению, какое оно иметь должно, присоединили мы класс врачевания животных, часть столько необходимую для городовых физиков и уездных врачей.
Содержание профессоров оставлено то самое, которое согласно назначили как Комитет, занимавшийся прежде штатом Университета, так и Директор. К тому прибавлены пенсионы по примеру назначенных нами в Академии наук.
Наиболее приметная перемена Комитетом сделанная, состоит в том, что обучающиеся должны будут вносить некоторую плату, из чего однако исключаются шестьдесят Студентов, двести пятьдесят воспитанников в Гимназии, и получившие свидетельства от Приказа общественного призрения в том, что состояние их недостаточно. Сколько сие с первого взора ни представляется предосудительным, но Комитету показалось, что он основался на истинах очевидных и неопровергаемых. Правительство не обязано народу безвозмездным воспитанием, но обязано воспитанием, которое бы сопровождаемо и последуемо было возможно величайшей пользою; а для сего должно, чтоб лекции преподаваемы были с рачением, и слушаемы со вниманием. Число же ходящих беспорядочно, праздных слушателей всекодечно уменьшится, но те, которые пожертвовали собственностью, не захотят потерять своего времени. Что причиною цветущего состояния Немецких Университетов, где курсы умножились до того, что в Иене считают их 30 в юридическом, 34 в медицинском и 53 в философском; в Геттингене 45, 35 и 73 в тех же факультетах, и от такого подразделения каждой науки получаются новые средства к совершеннейшему ее исследованию, средства в других местах неизвестные. Счастливое сие расположение имеет единственною причиною ободрение учителей платою, которую дают охотно молодые люди, стекающиеся туда почти со всех стран Европы. Все наши учреждения, где уроки преподаются безденежно, приходят в совершенный упадок, между тем как благородный пенсион Московского Университета привлекает к себе великое стечение учащихся. Таким образом, Комитет основываясь не на умствовании, которое блистало бы одним необдуманным патриотизмом, но на верных вычетах и надеждах, положил: чтоб желающие пользоваться учением в Гимназии взносили на первой случай по десяти, а Университете по двадцати пяти рублей в год. Столь умеренная плата не может быть никому в тягость, кроме самых недостаточных, кои как мы донесли выше, от сего и увольняются. Профессоры тем более будут побуждены наставления свои располагать таким образом, чтоб произвести в слушателях любопытство, привлечь их внимание и навсегда впечатлеть в их памяти преподаваемое. Нельзя думать, чтоб правительство было обвинено в любостяжании. Повсеместно в тех же и подобных учреждениях сияющая щедрота Его будет служить достаточным опровержением.
На сих самых основаниях почли мы полезным умножить не число Студентов, содержимых на Университетской сумме, но их содержание, дабы они не были принуждены прерывать свое учение, так как теперь, для доставления себе способов к жизни, и вместе установить класс Кандидатов Университета, состоящий из разных ученых оного звания, упражняющихся единственно в трудном искусстве преподавания и готовящихся к заступлению как в Университете, так и в других училищах мест. Комитет надеется, что чрез сие простое средство Московский Университет впоследствии не будет иметь ни малейшей нужды выписывать Иностранных Профессоров.
Начала, изображенные выше, побудили нас в ожидании того времени, когда достоинство учености получит должное к себе уважение, присвоить Профессорам седьмой класс, предоставленный им указом 1790 года, адъюнктам и докторам 8-й, магистрам 9-й, Студентам, поступившим в кандидаты, 12-й, а прочим 14-й класс. Сие наипаче казалось необходимым для молодых людей, из которых большая часть с самыми поверхностными сведениями оставляет училище, дабы не умедлить происхождением в чины.
Расходы на канцелярских и других подобных чиновников (всего до пятидесяти человек, действительно служащих или только числящихся) вместе с ограничением числа их и уничтожением канцелярии, весьма уменьшены, равно как суммы на содержание зданий. Но прибавление нескольких профессоров в отделении гражданских познаний, содержание упомянутого класса кандидатов, положение клинического института, толико необходимого дабы опытнейших приуготовлять врачей, приисчисленное в проектах Устава и Штата, нечувствительно заставили нас увеличить сумму, назначенную комитетом, сочинявшим Штат, тринадцатью тысячами тремястами семидесятью пятью рублей. В чем оправдает кроме очевидной необходимости предметов, Штат представленный Директором, где требуется сто пятьдесят тысяч, то есть шестнадцать тысяч с лишком рублей более нашего назначения (133,33 тыс. рублей).
До сего, годичные счеты Университетских сумм представлялись на ревизию в числе прочих государственных расходов. Но Комитет почел за нужное, чтобы они были известны и обществу чрез обнародование. Столь благородная откровенность нечувствительно послужит к слиянию пользы и надежд общества с сим Учреждением и утвердит доверенность тех особ, которые своими благотворениями готовы ему вспомоществовать.
Правление Университета тем паче заняло наше внимание, что оно было поводом к частым взаимным неудовольствиям начальников. Мы почли за нужное постановить прежнюю Конференцию или Собрание всех членов только в важных случаях, каковы годичные испытания, выбор и отрешение ученых чиновников. Но Правление Университета, состоящее из трех избранных к тому Профессоров, будет непрестанно пещись о всех подробностях учения и хозяйственном распоряжении. Председателем оного есть Директор Университета, которому не столько нужно иметь высокое звание, как опытность возвышенных сведений о воспитании и ревность. Для сего мы полагаем дабы он впредь избирался из трех кандидатов, собранием Университета представленных.
Наконец, необходима власть для наблюдения за управляющими, разрешения встречающихся жалоб и несогласий, для исправления злоупотреблений, которые она будет наипаче стараться предупреждать. Нынешний недостаток высшего непосредственного начальства над Университетами убедил нас предоставить ее по прежнему Кураторам; но с тем, чтобы приказания их были отдаваемы от собрания их по большинству голосов и за скрепою их Секретаря, дабы отвратить всякие недоразумения.
Что касается до Гимназии Московского Университета, то сделав ее в сходство изображенного выше мнения, предметом особенного отделения Устава, поручили мы ее под ведение Университетского правления Надзирателю, избранному из Профессоров или других ученых людей, приобретших опытом сведения и навык в воспитании. Правлению же предоставили определить число Учителей и порядок учения. Вообще, в принадлежащем до сего порядка, Комитет не отважился приступить к подробностям, которые в начале могли бы блеснуть со стороны учености, но судя по ежедневному, естественному усовершенствованию всех человеческих познаний, чрез короткое время нашлись бы неудобными, или бы остались препоною к исполнению единственной цели всякого учреждения: быть полезным во всем пространстве возможности. Писав, так сказать, начертание Конституции Университета, мы предполагали, что ученые законы не могут быть иначе составлены, как на основании сей Конституции; но образование их предоставили по времени Управляющей и попечительной власти.
В полном уверении, что добрые нравы суть существеннейшая часть воспитания, мы посвятили постановлениям, до сего относительным, важнейшую часть отделения о Гимназии, умножили число нравственных надзирателей, и полагая, что они будут избраны из пожилых людей с достоинствами, возвысили их звание, открыли им путь к награждениям и обеспечили их старость пенсионами с некоторою выгодою против Учителей.
Таковы, Всемилостивейший Государь! главные черты представляемых при сем всеподданнейшем докладе Проектов, и причины, побудившие нас к некоторому отступлению от проектов, предложенных на рассмотрение Комитета. Единственное намерение было наше следовать в точности началам, одушевляющим все действия Вашего Императорского Величества, началам общественного и отечественного блага. Если более пятидесяти заседаний употребленных на чтение всего, что ни могли мы найти на разных языцах относительного к нашему предмету, на приведение в порядок и исправление собственных соображений наших, могли внушить нам что-либо, могущее сравниться с нашим усердием, то мы ожидаем чувствительного влияния на заведения сии от перемен, которые подносим на Высочайшее Ваше Благоусмотрение. С таковым желанием приступаем мы к рассмотрению и остающихся у нас проектов, кои несравненно менее представляют нам перемен.
Сим образом может быть довольно будет сделать для трех ученых заведений, довольно для образования некоторого числа россиян. Но Комитет счел бы себя недостойным высочайшей доверенности вашей, Государь! счел бы себя виновным, если б не присовокупил здесь, что со всем тем, почти ничего еще не будет сделано для народного воспитания в пространной России.
Пусть будут уменьшены злоупотребления в некоторых Гимназиях, Университетах, Академиях, путь будут по очереди исправлены некоторые части, но если они останутся отделенными одна от другой, если они не к общей и единой цели направлены, и общее средоточие имеют, то одна слабая сторона может все разрушить. Никогда не достигнуть до сего единства в действии, без которого заведения одного роду, тем паче рассеянные по лицу обширной империи, не могут с прочностью и пользой существовать. К чему будут служить Университеты, если в них определяются без надлежащего приуготовления в Губернских училищах. К чему сии последние, если из городских школ входят в оные отроки, не приведенные в состояние пользоваться учением. К чему напоследок училища и воспитательные заведения всякого рода, если профессоры или учители остаются под начальством и надзором людей, едва могущих разуметь их. И что имеет величайшую необходимость в неослабном надзирании, ежели не воспитание, где недостаток возможного благоустройства есть уже само собою столь важное неустройство! Основывается заведение, и воображают, что все сделано, когда изданы уставы и Штаты. Но со временем нечувствительно вкрадываются в исполнение малые отступления: леность с одной стороны, беззаботливость с другой; истинная заслуга перестает быть ободряема, человек с способностями удаляется, дают место его какому-нибудь своему творению, сие отвращает другого, тем лучше, потому что еще место открывается. Все начинает расстраиваться, общество сие видит и остаются дети только тех, кои не в состоянии посылать их в другое место. Злоупотребления умножаются ежегодно, но сколько пройдет времени, прежде нежели накопление сделает их очевидными тем лицам, до которых принадлежит их исправить! Сколько сумм удержано всуе! Потеря денег ничто еще в сравнении с потерею времени. Пройдет целое поколение без малейшей пользы для государства.
Есть ли, Всемилостивейший Государь! печальная сия картина при поразительности своей ни мало не увеличена, естьли должно признаться, что из толикого множества различных воспитательных учреждений по сие время ни одно еще не ответствовало надеждам, ни одно не сохранило общественной доверенности, то не должно ли заключить, что неразлучен с ними какой-либо существенный и коренной недостаток? Не укрылось сие, кажется, от проницания Екатерины II. Кажется, она, видев, что воспитательные учреждения не могут быть подчинены особам, не имеющим между собою определенных сношений по сему предмету, ни общей цели, особам, обремененным другими должностями, что еще менее полезно поручать их государственным чиновникам, в массе попечений коих они могут занимать малейшую токмо часть, и следовательно осужденную на неуважение; видев все сие, она приступила к учреждению Комиссии об училищах. Но сия Комиссия ограничилась начальством над Народными Школами. Корпусы, Университеты и прочие заведения, неизвестно почему, остались вне круга ее действия; и сверх того сия Комиссия не имея ни достаточно власти в Губерниях, чтобы понудить следовать своим приказаниям, ни начальника, приближенного к Престолу, который бы мог придать более силы их представлениям, не была в состоянии отвратить неустройства.
Что же остается сделать? Ничего более, как только дать полезной мысли сколько возможно более пространства собрать разбросанные материалы общественного воспитания, соединить их тщательно наподобие камней свода, друг друга поддерживающих, и сомкнуть напоследок великолепный сей свод средоточным камнем, который один и может удерживать его прочность.
Комитет, соображаясь с новейшими писателями и законодателями о сем предмете, дерзает предполагать, что надлежало бы установить в каждом казенном селении начальные школы, в которых крестьянин мог бы приобретать малое число знаний, для него необходимых, побудить всеми средствами помещиков сделать то же самое в своих деревнях, ввести в уездные города начала познаний, нужных для художника, мастерового и мелочного торговца, учредить, чтоб во всяком губернском городе преподавали бы все, что только прилично знать дворянину, купцу и достаточнейшему мещанину, установить воспитания всех тех, без различия состояний, которым позволяют обстоятельства или достаток, обратить также внимание на пол, определенный природою доставлять государству граждан и в начале детства прилагать об них попечение, оставляющее в них следы добра и зла, почти навсегда неизгладимые. Надлежало бы также, смеем донести, Всемилостивейший Государь! чтоб пределы учения были разделены с великою точностью, так, чтобы другая степень начиналась точно там, где окончилась первая, чтобы все так входило одно в другое, как колеса благоустроенной махины, чтобы спешили воспользоваться малейшими открытиями, малейшими успехами в науках в Германии, Франции, Англии, не забывая однако, что Россия требует не Немцев, не Французов, не Англичан, но Россиян просвещенных, чтобы методы везде были одинаковы, дабы не были принуждены терять времени, учась с изнова тому, чему в другом месте худо научены были, чтобы составилось действительное ученое чиноначалие (иерархия), чтобы всякий со временем подвержен стал суждению своего равного, чтобы каждое губернское училище, руководствуя нижними училищами своего ведомства, было само под наблюдением и руководством одного из Университетов (великая польза, происходящая от такого распоряжения, доказана на опыте в прежних Литовских провинциях), чтобы, наконец, начальствовал над всем Министр общественного воспитания, человек, исполненный ревности к общему благу, ревности, от которой едва ли не все зависит, чтоб Министр сей был вспомоществуем некоторыми просвещенными чиновниками, которые бы непосредственно занимались надзиранием над Университетом и посещением славных училищных учреждений в империи.
Нетрудно доказать, что таковое Отделение государственного правления будет способствовать к сбережению самих доходов, делая сложность прочего несравненно проще. Но естьли бы оно и потребовало издержки, такового ли она роду, чтобы жалеть о ней, когда иностранные дела, доходы, Коммерция, морская сила имеют своих министров, то для чего не иметь оного части едва ли не важнейшей их, ибо она-то снабдит государство людьми, прямо способными к приведению их всех в движение, и к исполнению в точности повелений Начальников, людьми приносящими с собою в круг своих должностей вместо слепого навыка начала светозарные, усовершенствующими все, к чему они не прикоснутся.
Естьли по ныне ни в каком правительстве нет еще таковой особенной части, то по крайней мере общее мнение давно признает ее в просвещенных государствах. И где может быть она нужнее, как не у нас, у которых не только должно еще созидать многое, но и создавши, трудно привесть в движение за тысячи верст от средоточия правления. Что достославнее возвестит Европе о твердых и благодетельных намерениях Вашего Величества относительно просвещения и воспитания, народу вашему совершенно свойственного?
Нам остается только просить Всемилостивейшего прощения в том продолжительном занятии Вашего Величества настоящим донесением и в дерзновении, которое мы имели преступить положенный нам предел. Но кроме того, что предел сей, кажется, рапространен последними повелениями Вашего Величества о пензенском училище, четырехмесячные наши труды, чтения, размышления беспрестанно обращали нас к необходимости сего общего начертания, яко единственного средства произвести в действо что-нибудь прямо постоянное и полезное. Напоследок, ежели говорить истину, говорить ее неограниченно в каком-либо случае, должно почесть обязанностию, то конечно не в ином, как предстоя Государю просвещенному, любящему со всем сердцем и в счастливых обстоятельствах нашего времени, в которое должно надеяться всего, что только может на веки утвердить славу и благоденствие Отечества.
Подписан 8 августа, вместе с Проектом Устава Академии наук.
<приписано рукой М. Н. Муравьева. — А. А>.
Приложение 2
М. Н. Муравьев «Проект Устава Московского Императорского Университета»
Окончательная редакция. Написана, предположительно, в первой половине 1804 г.[406]
Московский Императорский Университет есть сословие ученых людей, которому препоручено как преподавание вышних наук, так и управление подведомственных Училищ, Гимназий, уездных и приходских школ Московского округа.
Он состоит под верховным начальством Министра Народного Просвещения и под беспосредственным надзиранием Попечителя, ВЫСОЧАЙШЕ представленного от ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, который в случаях превышающих власть его, относится к Главному Училищному Правлению или испрашивает разрешение Министра.
Университет имеет над чиновниками своими, учащими и учащимися, так же как и во всех окружных Училищах, внутреннюю расправу, и положения его в делах судебных взносятся на рассмотрение Правительствующего Сената.
Университет имеет пять отделений или факультетов: 1-е отделение Богословских наук (Богословский факультет), 2-е Гражданских (Юридико-политический факультет), 3-е Врачебных (Медицинский факультет), 4-е Умственных и Естественных наук (Философский факультет) и 5-е отделение Словесных наук (факультет свободных искусств).
Каждое отделение имеет определенное число ординарных профессоров, которое избирает между собою ежегодно старейшину или Декана.
Университет производит в Ученые звания по всем отделениям, и сии Университетские степени соединены со всеми присвоенными к оным Гражданскими преимуществами. Произведенные получают патенты на чины, соответствующие степени.
7. Все отделения, вместе соединенные, составляют Общее Собрание Университета, которое имеет ученого Секретаря и большую печать.
8. Общее Собрание избирает пред началом Академического года из среды ординарных членов своих Ректора, который управляет Университетом, по предписанию Устава.
9. Ректор и Деканы отделений составляют Правление Университета, которое имеет своего Секретаря и меньшую печать.
10. Ректор председательствует в Общем Собрании и в Правлении Университетском.
11. Общее Собрание избирает из числа Ординарных Профессоров непременного заседателя, который присутствует в Правлении бессрочно, до тех пор, покуда Начальство признает за нужное предписать новое избрание.
12. Профессоры духовного звания избираются в Деканы своего отделения, но не приемлют Ректорского звания, как соединенного с попечениями и ответственностию, сану их не свойственными.
13. Экстраординарные Профессоры и Адъюнкты в Общем Собрании имеют заседание, но избирательного голоса не имеют.
14. Университет имеет Почетных Членов, или Корреспондентов внутри и вне Государства, из которых по утверждению Министра некоторым может производить пенсию двухсот рублей, за оказанные услуги и препоручения, из Экономической суммы.
15. На упраздненные места Профессоров представляет то отделение, в котором открылось место, посредством Ректора, Общему Собранию, которое баллотированием избирает или отвергает Кандидата.
16. Избрание Кандидата представляет Ректор на рассмотрение Попечителя, который естьли согласен, представляет на подтверждение Министра Просвещения, или в противном случае препровождает обратно, для приступления к новому выбору.
17. Избрание почитается законным, когда соединяет две трети голосов Общего Собрания.
18. Профессор, не исполняющий в должности своей или подвергшийся порицанию со стороны нравственности, может быть предложен от Ректора Общему Собранию к отрешению от места, но не прежде когда три члена Общего Собрания подтвердят предложение ректора. Ежели предложение принято будет единогласно, то представление чинить о том Попечителю, для донесения Министру.
19. Единогласные положения Правления производятся в действо. При разделении на равные стороны, голос Ректора делает перевес. Несогласие непременного заседателя переносит дело к суждению общего Собрания.
20. Правлению принадлежат дела следующего содержания: 1-е внутреннее устройство и благочиние Университета, 2-е переписка с Государственными местами, 3-е надзирание над успехами и порядком учения, 4-е распоряжение доходов и расходов и хозяйственное распоряжение оных и 5-е расправа дел чиновников в первой инстанции.
21. Для сообразования дел, до расправы касающихся, с Государственными законами Синдик, присутствующий в Правлении, имеет советовательный голос и занимается приуготовлением потребных актов.
22. В случае разногласия или по апелляции подсудимого, дело переносится в Общее Собрание, где по краткой выписке рассматривается оно на основании Государственных узаконений; недовольный подписывает апелляцию в Правительствующий Сенат.
23. По уголовным делам Университетское Правление препровождает обвиняемого в общественное Присутственное место, куда следует, при одном члене в качестве Депутата.
24. Правление пред выбором новых членов отдает отчет в годовых расходах Общему Собранию, которое под председательством назначенного Ректора и представляет изображение оных чрез Попечителя в Главное Училищное Правление.
25. Ценсура представляемых к напечатанию Сочинений предоставляется Деканам каждого отделения, к которому сочинение относится. Декан может разделить оныя между Профессоров отделения.
26. Отделения могут иметь особые собрания свои под председательством Декана по делам собственно до них принадлежащим, как то: в представлении Кандидатов на убылое место, в испытании Студентов для произвождения в ученые звания и в положениях, касающихся до успехов наук.
27. Годовые расписания лекций от каждого отделения, через Декана представленные Ректору, подтверждаются Общим Собранием.
28. Торжественное испытание Кандидатов для Магистерского и Докторского достоинства производится в Общем Собрании защищенном представленной от Кандидата Диссертации, под председательством Декана того отделения, в котором Кандидат снискивает степень.
29. Университет дает удостоенному Диплом за подписанием Ректора, Декана и ученого Секретаря.
30. Ректор, имея исполнительную власть в Университете, обязан прилагать неусыпное попечение к сохранению благочиния, безопасности и тишины внутри оного. Все чиновники, принадлежащие к Университету, обязаны повиновением к особе и повелениям Ректора, который с своей стороны, не предаясь ни в чем самовластию, должен поступать по точным словам Устава и Академических законов.
31. Ректор облечен отеческою властию в рассуждении учащихся и должен растворять строгость снисхождением, рассуждая, что суду его подвержены будущие члены гражданского общества, над коими увещания более наказаний действуют. Во всякое время должен он склонять сердца их к добру, воспрещая развратникам обольщать их неопытность, удерживая их от расточения и имея неусыпное наблюдение над всеми поступками их, когда они наименее того опасаются.
32. Желающий быть студентом в Университете представляется Ректору, который по препоручению его испытанию трех Профессоров в начальных знаниях и по удостоению оных вписывает в список Студентов и вручает ему экземпляр Правил благочиния.
33. При Университете сорок студентов пользуются казенным содержанием и состоят под беспосредственным надзиранием одного из Профессоров.
34. При помещении на казенное содержание уважается преимущество представляемого Студента, но наипаче способности и доброе поведение.
35. Те из Казенных Студентов, которые желают посвятить себя ученой службе, по совершению курса и по признанию успехов их, поступают в звание Кандидатов в Педагогический Институт, который препоручен также надзиранию особенного Профессора.
36. Для Студентов величайшее наказание за преступление правил благочиния есть внушение оставить Университет или отсылка от оного, из коих последнее подтверждается общим собранием по предложению Ректора.
37. За вины менее важные Ректор полагает заключение в Университетскую темницу, на двадцать четыре часа, с означением сего в Журнале Правления. Сие заключение не должно содержать в себе ничего вредного здравию учащегося, но оно предполагает совершенное уединение и более одного виновного не может быть в одном покое.
38. Выговор пред Университетским Правлением есть меньшая степень наказания, но и оная вносится в Журнал Правления.
39. Ректор представляет еженедельно Попечителю Рапорт о всех происшествиях, заседаниях Правления и Общего Собрания, числе учащихся, здравии казенных Студентов, состоянии казны и всех заведений, принадлежащих университету.
40. Заседания Университетского Правления полагаются по два раза в неделю, из которых одно для учебных предметов, другое для хозяйственных и расправных дел. Деканы способствуют попечениям Ректора, непременный заседатель наблюдает наипаче сохранение законов и непоколебимость полезных и утвержденных опытом Установлений.
41. Общее Собрание вызывается Ректором для выслушания повелений Начальства, для испытаний к произведению в степени Университетские, для избрания на праздные Профессорские места, для отчету в годовых расходах и для рассмотрения дел, перенесенных из Правления. Ректор извещает каждого члена предварительно, о чем будет предлагаемо в заседании.
2. За два месяца до окончания Академического года избирает Общее Собрание будущего Ректора, который до ВЫСОЧАЙШЕГО подтверждения называется назначенным и может присутствовать в Правлении.
Учение долженствует иметь в виду распространение знаний, возвышающих общее благоденствие и составляющих полезного Гражданина. Университету принадлежит попечение согласовать беспрестанно нравственную пользу слушателей своих с просвещением разума и соединять благоразумную свободу размышления с почтением к законам и положениям общества. Нетерпение мнений, порицание варварских времен столько же мало прилично сему знаменитому сословию, сколько дух своеволия, невероподобных утверждений и бесполезного прения.
Университету должно прилагать к тому свои старания, чтоб быть всегда наравне с состоянием науки в других странах Европы и приобщать к курсу учения все новые откровения, получившие одобрение ученых. С другой стороны, должен он блюсти внимательно, чтоб не вкрались в него ложные и странные умствования, которые вместо просвещения омрачают разум и развращают сердце.
Мнения в науках не должны служить поводом гонений, и естьли какой Профессор обвиняем был паче чаяния вредным и противным мнением, то одно общее собрание имеет право произнести о вредности или безвредности оного и Профессор должен согласиться с положением Собрания или оставить место без малейшего оскорбления прав его, как частного человека.
…Взаимное уважение Профессоров друг к другу долженствует облегчить им способ общего советования в рассуждении ученых трудов своих, которые подвергнут они суду просвещенных товарищей. Почему и может каждый из них при начатии Академического года представить свой образ учения и книги, которым в преподавании намеревается последовать, для сочинения потом общего обозрения лекций.
Ежели общее собрание признает нужным присоединение какого-либо Профессора отменной знаменитости и он будет требовать превосходнейшего против штата жалования, в таком случае может оно чрез Попечителя испрашивать позволения Министра Народного Просвещения.
Академический год начинается с 17-го августа и кончается июня 30-го дня.
7. Профессоры Богословских наук, удостоены будучи в звание сие Святейшим Правительствующим Синодом, последуют в преподавании Догматической и Нравственной Богословии, чтении Святых отец и Церковной истории единственно тем предписаниям, какие получат они от сего высокого Правительства.
8. Три кафедры признаются достаточными к объятию всех Богословских наук: 1-я Догматической Богословии, Гомилетики и Катихетики, 2-я Ерминевтики и Ексигетики, 3-я Церковной истории и чтения Святых отец.
9. Студенты, определяющиеся в духовное звание, могут приуготовиться прежде вступления в Богословское отделение предварительным слушанием Профессоров в отделениях словесных и философских наук.
10. Свидетельства, данные от Университета студентам Богословского отделения, по испытании в знании и нравственности, послужат им препоручением ко преимущественному занятию духовных мест. К сим испытаниям Университет испрашивает присутствия знаменитого духовенства.
11. Отделение врачебных наук имеет шесть кафедр для преподавания всего округа оных, а именно: 1-е Анатомии и физиологии, 2-е Патологии и Терапии, 3-е Материи Медической и фармации, 4-е Хирургии и Повивального искусства, 5-е Диетики и Клиники, 6-е Медицины Советовательной, к которой можно по удобности присоединить и Литературу Учебную.
12. Просектор, имеющий хранение Анатомического театра, и Адъюнкты последуют тщательно лекциям старших профессоров и приуготовляются быть некогда их преемниками, стараются сочинениями своими и изустным повторением лекций наставлять студентов под руководством Профессоров или, по желанию своему и позволению общего собрания, читают экстраординарные лекции в подчиненных ветвях науки.
13. Сочинения профессоров и адъюнктов, рассмотренные Врачебным отделением, могут быть ежегодно издаваемы при Университете на Российском языке на счет Экономической суммы.
14. Студенты, окончившие с успехом курс учения, по строгом испытании производятся по склонности их к роду учения в Магистры и Доктора Хирургии или Медицины. К испытанию и предложению вопросов приглашаются знаменитые врачи, в столице находящиеся. Не защищение одной Диссертации, но самые опыты в клинической больнице, предписания больным и действительные операции должны служить способом к удостоверению в искусстве Кандидата. Здравие и самая жизнь граждан, завися от строгости, с которою производиться будут сии испытания, послужат сильным побуждением к величайшей осторожности в испытаниях.
Те из студентов, которые не удовлетворяют полным образом испытателей, должны слушать снова нужные науки по совету Профессоров.
Слушание врачебных наук требует довольного времени. Не стесняя чрезвычайных дарований, можно предписать вообще трехлетнее продолжение курсов для Магистерской степени и пятилетнее для приобретения Докторского достоинства.
Желающие ограничить себя Аптекарским искусством могут слушать лекции Профессора Материи Медической и Фармации и по испытании получить свидетельство врачебного отделения. Профессоры со Студентами своим могут посещать публичные больницы и родильные Институты.
Те из Магистров медицины, которые посвящают себя Университетской службе, вступают в Педагогический институт и принимаются в Адъюнкты при получении Докторского достоинства.
Отделение Гражданских наук или факультет Юридическо-политический состоит из следующих Профессоров: 1-е Права Естественного и Народного, 2-е Права Римского и Энциклопедии Правоведения, 3-е Гражданского и Уголовного права и Российского Законоведения и Судопроизводства, 4-е Политики и Дипломатии, 5-е Экономии Политической и науки управления доходов, 6-е Технологии и Торговли. Профессоры экстраординарные и адъюнкты могут по желанию своему и с позволения общего собрания читать на Российском языке лекции или в тех же самых науках, или предложив себе некоторую часть оных, с подробнейшим объяснением. Сочинения их, по одобрении отделения, могут быть печатаемы особым изданием из Экономической суммы.
По трехлетнем продолжении курса Студент может предстать к публичному испытанию для получения степени, с которою и поступает в Педагогический институт. — Тот, который желает определиться в Гражданскую службу, может после двухлетнего срока быть экзаменован в присутствии Ректора и Профессоров, и ежели достойным признан будет, получает от Университета свидетельство за большой печатью и подписанием Ректора, Декана и ученого Секретаря, а о произведении его в четырнадцатый класс представляет чрез Попечителя Министру Народного Просвещения.
Профессор Технологии посещает с студентами своими фабрики, рукоделия, общественные заведения и старается доставить посредством моделей ясное понятие о разных родах промышленности.
В отделении умственных и естественных наук преподаются 1-е философия умственная, 2-е философия нравственная, 3-е физика, 4-е химия, 5-е чистая математика и аналитика, 6-е смешанная математика, 7-е ботаника, 8-е общая естественная история.
25. К теории Астрономии присоединяются и практические наблюдения на обсерватории, где и полагается астроном-наблюдатель.
26. Адъюнкты способствуют Профессорам, принимая на себя препоручения по отделению, и упражняются в сочинениях и опытах, которые могут входить в Университетские издания.
27. Для получения ученого звания Студенты последуют во всем предписанному при других отделениях обряду. Желающие могут быть выпускаемы в землемеры, механики, в горную службу и прочие звания четырнадцатым классом.
28. В отделениях словесных наук полагаются Профессоры: 1-е истории и вспомогательных наук, 2-е эстетики, письмен и теории искусства, 3-е древних языков, 4-е красноречия и литературы Российской, 5-е восточных языков.
29. Не воспрещается адъюнктам и магистрам соревновать между собою в преподавании экстраординарных лекций, в истолковании какого-либо избранного классического писателя или истории какого-либо известного народа. Они могут обогатить сочинениями своими Университетские издания.
30. Из отделения словесных наук Студенты могут переходить к лекциям прочих отделений по их желанию, о котором донесут Ректору.
31. Под председательством Профессора древних языков составится Латинское общество, к которому приглашаются Магистры и Кандидаты. И самые Профессоры, предшествуя им примером, могут показать путь к образованию себя сочинениями в искусстве писания на Латинском языке. Председатель может позволить и некоторым из отличнейших студентов пользоваться правом посещения сих заведений, которые иметь два раза в месяц.
32. По желанию студентов и по связи наук, которым они себя посвящают, Ректор может назначить им лекции в разных отделениях таким образом, чтобы расположение часов не было чрез то расстроено. Но те из них, которые содержатся на казенном иждивении, должны последовать предписанному порядку, переходя постепенно из отделений словесных и философских наук в отделения градоправительственных или врачебных по их склонности, или предопределены будучи к ученому званию в словесных или философских науках, ограничат себя пребыванием в оных. — Студенты, посвящающие себя духовному званию, поступая из Семинарий, входят наперед в отделение словесных наук и могут слушать по предписанию Ректора и совету Богословского Декана лекции философии и математики.
33. Кроме публичных лекций Профессоры могут преподавать приватные, объявляемые в каталоге лекции и слушатели могут после давать им плату по особенным соглашениям.
34. Посетители могут иметь вход в публичные лекции с письменным видом Ректора.
35. Диссертации Студентов по заданным программам могут быть рассматриваемы факультетом, к которому принадлежат по содержанию своему, и удостоиваемы быть к получению медали.
36. При начале Академического года бывает публичное торжественное собрание, в котором новый Ректор принимает правление Университета, выходящий из должности представляет происшествия своего года и успехи, в учении учиненные. Приемлющий в краткой речи ободряет юношество к приобретению новых знаний. — Здесь провозглашаются Академические достоинства, по предшествовавшим испытаниям, и ученый Секретарь читает перечнем важнейшие переписки с Университетами и частными Учеными.
37. При Университете издают два раза в неделю ученые ведомости, содержащие рассмотрение всех новых книг и откровений в науках, как в России, так и в чужих краях.
38. Университетская библиотека открыта ежедневно для Студентов в присутствии одного или двух помощников библиотекаря.
39. Желательно, чтобы со временем лекции всех наук преподавались на природном языке, между тем могут Профессоры читать, по приличию наук и желанию своему, на Латинском или тех новейших языках, которые вразумительны слушателям. Университет ободряет как сочинение, так и преложение на Российский язык систем учения в разных науках.
40. Университет обращает тщательное внимание на Педагогический институт, как рассадник будущих ученых, имеющих заступать места Профессоров. Сии последние советами своими руководствуют Магистров и Кандидатов, каждый в своей науке.
41. Находящиеся в Педагогическом институте Магистры посылаются по отличии в иностранные Университеты для усовершенствования в науках, с положенным в штате содержанием, откуда должны присылать ежемесячные донесения свои, подобным образом и Адъюнкты и самые Профессора могут быть представляемы от Университета для предприятия ученых путешествий.
42. Профессор, которому препоручено надзирание Педагогического института, должен совершенно знать дарования, успехи и поведение каждого Кандидата и Магистра и наставлять их в методе учения.
43. Кандидаты и магистры имеют позволение преподавать учение вне Университета. Студентам, не окончившим курсов, преподавание вне оного запрещается.
44. Надзиратель увещаниями своими исправляет нерадивых или вдавшихся в какие-либо рассеяния. Строптивых по представлению его Университетское Правление обращает к долгу или предлагает общему собранию для исключения.
45. Университет приемлет на себя священный долг благодарности в рассуждении тех особ, которые способствовать будут ему благотворениями своими. Студенты, содержимые на иждивение таковых, будут отличаться именем благотворителей и в особый день, благодарности посвященный, один из сих студентов произносит ежегодно похвалу благотворителю. В торжественной аудитории выставляется доска, на которой вырезаны будут имена поревновавших в пользу просвещения. Искусства приглашены будут к учинению памяти их незабвенною.
46. В вечное воспоминание Патриотического приношения статского советника Демидова, облаготворившего науки, Университет имеет содержать Демидовского Профессора Истории Натуральной на жалование из Капитала, им взнесенного, которому препоручается и сохранение кабинета, от сего благотворителя Университету присвоенного.
1. Университетское Правление по предложению Ректора заемлется рассуждениями, по хозяйственной части принадлежащими, имеет необходимую переписку с присутственными местами и получает Указы Правительствующего Сената. Переписка должна быть проста и кратка и сколько можно освобождена от приказного обряда. Секретарь ведет протокол, подписываемый Ректором, Деканами и непременным заседателем. — Повеления присылаются к Кассиру и получаются его паспорты и счеты с расписками об удовлетворении. — Правление дает шнуровые книги Кассиру и приемщику вещей, которые для поверения представляются Правлению ежемесячно.
2. Отпускаемый из Государственных казначейств доход и Экономическая сумма охраняется в Университетском казначействе под печатью Ректора, непременного заседателя и Кассира.
3. Ректор представляет за каждый месяц Попечителю перечневый счет приходов и расходов и по скончании года вносит годовой отчет в Общее Собрание, который препровождается от него Попечителю.
4. Правление выдает из статной суммы, по третям года, жалование сообразно с Штатом всем чиновникам, в оном именованным, и из Экономической суммы тем, которые определены быть могут начальством сверх Штата.
5. Правление не приступает ни к какой чрезвычайной выдаче, в Штате не положенной, и относится к Попечителю, с показанием причин, требующих оной.
6. Остаток, могущий случиться от штатной суммы, за удовлетворением чиновников и разных заведений, сохраняется в Университете под именем остаточной суммы и никуда не употребляется, кроме на пользу и распространение ученых заведений.
7. Каждой месяц свидетельствуется казна штатная и Экономическая тремя членами общего собрания, на то особо назначенными.
8. Сумму, всемилостивейше назначенную быть капиталом для пенсий вдов и сирот Профессорских, имеет Правление в особенном попечении, не смешивая с другими назначениями, и отдает остаток от наличных сумм в обращение в Государственные места, извещая оные по закону, когда надобность востребует возвратить часть сего капитала.
9. В текущих выдачах, превышающих пятьсот рублей, Ректор относится к Общему Собранию.
10. Правление вызывает подрядчиков для разных поставок и строений и заключает с ними контракты, на основании законов, донося о том предварительно Попечителю.
11. Надзиратель казенных студентов должен ходатайствовать о содержании их и ответствует Правлению.
12. Правлению представляет библиотекарь, надзиратели музеев, ботанического сада, лаборатории, клинического института и прочих заведений о всех расходах, для усовершенствования оных необходимо нужных, по которым Правление принимает меры свои или представляет Попечителю.
13. Типография и книжная лавка состоят под беспосредственным ведением Правления, которое снабдит особенною инструкциею находящихся при оных чиновников.
14. Все здания и места, принадлежащие Университету, пользуются преимуществами казенных мест и не несут других повинностей, кроме содержания мостовой и освещения той части улицы, по которой простираются.
15. Здания, целость их и безопасность принадлежат к особливому вниманию Ректора и уважению Правления.
16. Правление может делать из принадлежащих университету мест и зданий хозяйственное употребление, ежели не препятствуют они главному предмету, и доходы вносит в Экономическую сумму.
17. Правление, по предложению Ректора, принимает и отпускает нужных служителей, производя им жалование по условию, и относится о том за известие в Общее Собрание.
18. Строения и починки в университетских зданиях, по смете Архитекторской, рассматривает Правление и по признанной необходимости представляет Попечителю.
19. В управлении доходов не позволяется Университетскому Правлению иметь долгов, ни под каким именованием, и в случае непредвиденных расходов, Университет испрашивает вспомоществования Начальства.
20. Правление распростирает надзор свой над устройством, благочинием и хозяйством Гимназий, Уездных и Приходских Училищ во всех городах, Московский округ составляющих, которые представляют ему счеты свои и в потребностях прибегают к ходатайству оного.
21. Особливым уважением обязан Университет назначенному по желанию Благотворителя в Ярославле Училищу вышних наук, которого Совет во всех хозяйственных делах относиться имеет посредством Московского университета.
1. Для управления подведомственных Училищ общее Собрание избирает ежегодно Училищный комитет, из шести Профессоров состоящий, в котором председательствует того года Ректор.
2. Младший член Училищного комитета сохраняет бумаги его в порядке и держит дневную записку Комитета.
3. Положения Училищного комитета взносятся Ректором в Общее Собрание, где подтверждаются они или опровержены бывают.
4. Ежегодно посылаются обозрители Училищ в Губернии, принадлежащие к округу, по определению Общего Собрания, из всех членов его ординарных и экстраординарных, снабдив их общим, или по случаю и особенным наказами, с выдачей каждому на путевые издержки из суммы, на то назначенной, по исчислению расстояния мест и предварительному подтверждению Попечителя.
5. Обозрители должны свидетельствовать как способности и прилежность Учителей, так и успехи учеников, вникая сверх того в местные причины, способствующие или препятствующие распространению учения, дабы доведя их до начальства, можно было восприять по тому надлежащие меры.
6. Училищной Комитет рассматривает подробно все ведомости и донесения, от Директоров Гимназий получаемые, и представляет заблаговременно о потребностях каждого Училища.
7. Он проверяет счеты, присылаемые от Директоров по хозяйственной части, представляет на рассмотрение общего собрания об испрашиваемых ими новых издержках, сообразно со Штатным положением или по востребованию местных обстоятельств.
8. Комитет рассуждает об удостоении Учителей в Гимназиях и Уездных Училищах и представляет Общему Собранию.
9. Избрание Директоров Гимназий зависит единственно от предложения и удостоения Общего Собрания, на которое возлагается и ответственность за способности их и нравственность. На подтверждение Министра представляются они чрез Попечителя.
10. Все содержатели частных пенсионов и училищных заведений испытываются в Училищном Комитете и представляют начертания заведений своих на рассмотрение оного. — Домашние Учители не прежде получают право исполнять звание свое, как по удостоению Училищного Комитета.
11. Комитет составляет к концу Академического года изображение успехов всех подведомственных Училищ, с подробным именованием Учителей, отличившихся ревностию и способностию, и учеников, которые дарованиями и успехами подают великие надежды. Таковых в Гимназиях, курс учения окончивших, представляет к помещению в Университет Студентами, ежели скажут они свое желание. По достоинству раздает лучшим ученикам гимназий похвальные листы.
12. Училищный комитет не упустит заниматься всем тем, что может служить к приведению в совершенство воспитания и учебного порядка, трудяся в сочинении и исправлении Элементарных книг, в рассмотрении новых способов, с распространением наук в других странах по временам возрождающихся, и представляя об оных Общему Собранию. Всякой новый шаг, в усовершенствовании воспитания учиненный, почтется особою заслугою членов Комитета.
Приложение 3
Состав Московского университета за 1804–1812 гг
(данные по численности за 1804–1811 гг.; приводятся по ежегодным отчетам департаменту Министерства народного просвещения, РГИА, ф. ЗЗ. оп. 95, д.179–186)
Архивные фонды
ф. 221 — Лекции профессоров, научные пособия, рефераты студентов (кон. XVIII–XIX в.)
ф. 247 — И. П. и Н. И. Тургеневы
ф. 292 — Рукописи XVIII–XIX вв. из собрания библиотеки Московского университета
ф. 298 — Н. С. Тихонравов
ф. 398 — А. Ф. и Н. Ф. Грамматины
ф. 406 — О. К. и Т. А. Каменецкие
ф. 418 — Канцелярия Московского университета
ф. 459 — Канцелярия попечителя Московского учебного округа
ф. 279 — И. Д., Е. И., Е. Е., В. Е. Якушкины ф. 1094 — И. П., А. И., Н. И. Тургеневы ф. 1153 — М. Н. и Н. М. Муравьевы
ф. 501 — И. П., А. И., Н. И. и С. И. Тургеневы ф. 1251 — М. Т. Каченовский ф. 1765 — М. Н. Муравьев
ф. 732 — Главное правление училищ
ф. 733 — Департамент народного просвещения
ф. 499 — М. Н. Муравьев ф. 588 — Погодинские автографы ф. 833 — В. А. Цеэ
ф. 413 — П. И. Голенищев-Кутузов
ф. 89 — Ф. П. Аделунг
ф. 260 — Г. И. Фишер фон Вальдгейм
ф. 801, оп. 77/18, д. 24, ч. 3—10 — И. Д. Щербатов
Библиография
Источники
1. «Московские ведомости», 1803–1812, декабрь (отчет об акте в университетском благородном пансионе); июль (отчет о Торжественном собрании Московского университета).
2. Объявление о благородном пансионе, учрежденном при императорском Московском университете. М., 1809, 1810 (ОРК НБ МГУ).
3. Объявление о публичных учениях в императорском Московском университете (на латинском и русском языках), 1803, 1805–1811 (ОРК НБ МГУ).
4. «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения». СПб., 1803–1812.
5. Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1864.
6. Сборник распоряжений по министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1866.
7. Безу Э. Курс математики / Пер. с фр. В. А. Загорского. М., 1806.
8. Буле И. Т. Императорского Московского университета приглашение знаменитых любителей наук к благосклонному соучаствованию в полувековом его юбилее, который имеет быть торжествован в большой аудитории оного сего июня 30 дня, в 5 часов пополудни. М., 1805.
9. «В удовольствие и пользу». Кн. 1. 1810; Кн. 2. 1811.
10. «Весенний цветок». Кн. 1–3. 1807.
11. Гейм И. А. Немецкая грамматика (для гимназии и благородного пансиона). М., 1805.
12. Гейм И. А. Новый российско-французско-немецкий словарь. Т. 1–3. М., 1799–1802.
13. Гейм И. А. Руководство к коммерческой науке. М., 1804.
14. Горюшкин 3. А. Описания судебных действий. Ч. 1–3. 1807–1808.
15. Горюшкин 3. А. Судебное действие, происходившее 22 декабря в Благородном пансионе во время годичного испытания. 1807.
16. Грамматин Н. Ф. Рассуждение о древней русской словесности. М., 1809.
17. Грелльман Г. М. О свойстве и пользе статистики: (вступительное слово к преподаванию). М., 1804.
18. Двигубский И. А. Начальные основы технологии или краткое показание работ на заводах и фабриках. Ч. 1—2. 1807–1808.
19. Двигубский И. А. Таблицы минерального царства; Таблицы растительного царства; Физика — изд. в пользу воспитанников Благородного университетского пансиона. М., 1808.
20. Детский театр, или собрание пиэс, представленных в университетском благородном пансионе / Сост. Н. Н. Сандунов. 1802.
21. «Журнал изящных искусств». Кн. 1–3. 1807.
22. «И отдых в пользу». 1804.
23. Калайдович К. Ф. Известия о древностях славяно-русских и об Игнатии Федоровиче Ферапонтове, их собирателе. М., 1811.
24. Мейнерс А. Г. Главное начертание теории изящного искусства / Пер. с нем. П. А. Сохацкого. М., 1803.
25. Мерзляков А. Ф. Краткая риторика. М., 1809.
26. «Московские ученые ведомости». 1805–1807.
27. Мягков Г. И. Краткое руководство к военной архитектуре или фортификации. М., 1805.
28. Перовский А. Три пробных лекции, читанные в Московском университете. М., 1808.
29. Приложения к «Объявлениям о публичных учениях…»: 1805 — Буле И. Т. О домашних богах или пенатах римского народа; 1806 — Маттеи X. Ф. Греческие письма патриарха Иерусалимского Нектария; 1807 — Буле И. Т. Древнейшая российская живопись; 1808 — Маттеи X. Ф. Краткая, до сих пор еще не изданная, на греческом языке История Животных; 1809 — Буле И. Т. О древнейших географических картах, доныне известных, на коих изображены области Империи Российской; 1810 — Маттеи X. Ф. Неизданный греческий перевод из вступительного слова Максима Плануда.
30. Рейнгард Ф. X. Система практической философии. М., 1807.
31. Речи профессоров Московского университета в торжественных собраниях (ежегодные издания). М., 1805–1812. (ОРК НБ МГУ).
32. Речь, разговор и стихи, читанные в публичном акте в Благородном университетском пансионе. М., 1803–1804, 1806–1811.
33. Стихи, читанные в день заведения Собрания благородных воспитанников при университетском пансионе. М., 1809–1811.
34. Страхов П. И. Краткое начертание физики. М., 1810.
35. Труды Общества любителей российской словесности. Ч. 1–4. М., 1812.
36. «Утренняя заря», 1803, 1805—1808
37. Фергюсон JI. Начальные основания нравственной философии / Пер. с нем. А. М. Брянцева. М., 1804.
38. «Физико-медицинский журнал». 1808–1812.
39. Фишер фон Вальдгейм Г. Исследования об ископаемых в Московской губернии. М., 1812.
40. Фишер фон Вальдгейм Г. Система ископаемых, служащая основанием порядка, в каком расположены они в Музее императорского Московского университета. М., 1811.
41. Хор, петый в торжественном собрании императорского Московского университета 30 июня 1806 г. М., 1806; то же — 1808 г.
42. Цветаев JI. А. Краткая теория законов. Ч. 1–3. М., 1810.
43. Шлецер X. А. Начальные основания государственного хозяйства или науки о народном богатстве. Ч. 1–2. М., 1805–1806.
44. Шлецер Х. А. Начальные основания естественного права. М., 1805.
45. «Эфемериды или Разные сочинения, касающиеся древней литературы, издаваемые при Московском университете, как продолжение трудов Вольного Российского Собрания». Ч. 1. М., 1804.
46. Buhle 1. Versuch einer kritischen Literatur der Russische geschichte. V. 1. М., 1810.
47. Journal de la Société Impériale des Naturalistes. № 1–4. 1806.
48. Hoffmann G F. Hortus Mosquensis, М., 1808.
49. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes. 1806–1812.
50. Stelzer Ch. Jurisprudencia Universalis. М., 1812.
51. Fischer von Waldheim G. Muséum Demidoff ou catalogue systématique… М., 1806.
52. Батюшков К. Н. Сочинения / Под ред. Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова. Т. 1–3. СПб., 1885–1886.
53. Боровков А. Д. Автобиографические записки // PC. 1898. № 9.
54. Вигель Ф. Ф. Записки / Под ред. С. Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1–2.
55. Второв И. А. Москва и Казань в начале XIX в. // PC. 1891. № 4.
56. Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895; Записки о 1812 годе. СПб., 1836.
57. Голенищев-Кутузов П. И. Письма к графу А. К. Разумовскому // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 2. СПб., 1880. С. 288–468.
58. Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988. С. 442, 533.
59. Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869.
60. Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
61. «Жалобная песнь московских студентов в начале XIX в. Послание И. И. Шувалову» // РА. 1886. № 3. С. 387–388.
62. Жихарев С. П. Записки современника. Т. 1–2. Л., 1989; (см также издание под редакцией Б. М. Эйхенбаума. М., 1955).
63. Жуковский В. А. Письма к А. И. Тургеневу. М., 1895.
64. Из неизданной переписки Жуковского (письма к М. Т. Каченовскому) // Ежегодник РО ПД 1980. Л., 1984. С. 89.
65. Карамзин H. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 139–142.
66. Лыкошин В. И. Из «Записок» // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 32–38.
67. Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск. 1986.
68. Муравьев H. Н. Записки // РА. 1885. Т. 3. № 9.
69. Перовский В. А. Записки // РА. 1865.
70. Письма М. Т. Каченовского, H. Н. Сандунова, Д. В. Дашкова, М. В. Милонова, А. Ф. Мерзлякова к Н. Ф. Грамматину // Библиографические записки. 1859. № 8–9.
71. Письма А. Ф. Мерзлякова к В. А. Жуковскому // РА. 1871. № 2. С. 0142–0147.
72. Письма московских профессоров к попечителю М. Н. Муравьеву // Чтения в ОИДР. 1861. Кн. 3. С. 26.
73. Пушкин Е. Письма великой княгини Екатерины Павловны. Тверь. 1888.
74. Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992.
75. Сафонович В. А. Воспоминания // РА. 1903. Кн. 1. С. 118–125.
76. Свербеев Д. Н. Записки (1799–1826). М., 1899. Т. 1–2.
77. Снегирев И. М. Воспоминания // РА. 1866. № 4–5.
78. Сушков Н. В. Московский университетский благородный пансион и его воспитанники. М., 1858.
79. Тимковский Е. Ф. Воспоминания // Киевская старина. 1894. № 3–4.
80. Третьяков М. Т. Императорский Московский университет (1799–1830) // РС. 1892. Т. 75.
81. Тургенев Н. И. Дневники и письма. Т. 1. СПб., 1911.
82. Французы в Москве. 1812 год // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991.
83. Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений. М., 1991. Т. 2 (письма).
84. Эрстрем Э. Г. Для меня и моих друзей // Наше наследие. 1991. № 5. С. 67–80.
85. Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма / Под ред. С. Я. Штрайха. М., 1951.
Литература
86. Андреев А. Ю. К истокам формирования преддекабристских организаций: будущие декабристы в Московском университете // Вестник МГУ. Сер. 8, История. 1997. № 1. с. 21–34.
87. Андреев А. Ю. «Мистический» друг Чаадаева: (Жизнь и творческая судьба Д. А. Облеухова) // Русская литература. 1997. № 2. С. 103–123.
88 .Андреев А Ю. «Я служил городу, а не врагу»: Письмо профессора X. Штельцера ректору Московского университета И. А. Гейму. 1812 г. // Исторический архив. 1997. № 3. С. 44–53.
89. Андреев А. Ю. 1812 год в истории Московского университета. М., 1998.
90. Аристов Н. Состояние образования в России в царствование Александра I // Известия историко-филологического института в Нежине. Нежин, 1879.
91 .Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. 1-я пол. XIX в. Л., 1929.
92. Башнин Ю. Н. Мерзляков и декабристы // Ученые записки Карельского педагогического института. Т. 16. 1964.
93. Бельчиков Ю. А. Общество любителей российской словесности // Русская речь. 1968. № 2.
94. Белявский М. Т., Сорокин В. В. Наш первый, наш Московский, наш Российский… М., 1970.
95. Бессонов П. А. К. Ф. Калайдович: биографический очерк // Чтения в ОИДР. 1862. Кн. 3.
96. Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского Московского университета / Под ред. С. П. Шевырева. Т. 1–2. М., 1855.
97. Богданов А. К. Ф. Рулье и его предшественники по кафедре Зоологии в императорском Московском университете. М., 1885.
98. Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 1869–1871. Т. 1–3.
99. Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. СПб., 1912.
100. Валлоттон А. Александр I. М., 1991.
101. Варсонофьева В. А. Московское общество испытателей природы и его роль в развитии отечественной науки. М., 1955.
102. Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 2. СПб., 1880.
103. Виппер Р. Государственные идеи Штейна // Русская мысль. 1891. № 8.
104. Военский К. Ф. Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г. СПб., 1912.
105. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. М., 1995.
106. Гаврилов А. М. Воспоминания о первом издателе сего журнала // Исторический, статистический и географический журнал. 1829. Т. 1. № 1.
107. География в Московском университете за 200 лет. М., 1955.
108. Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.
109. Глинский Б. Университетские уставы 1755–1884 гг. // Исторический вестник. 1900. № 1–2.
110. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980.
111. Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений / Вступ. ст. и комм. Н. К. Пиксанова. Т. 1–3. СПб., 1911–1917.
112. Гордеев Д. И. Московский университет и его роль в развитии геологической науки. М., 1955.
113. Григорьев Ю. В. Ф. Рейсс. М., 1963.
114. Гудзий Н. К. Изучение русской литературы в Московском университете. М., 1958.
115. 200 лет издательской деятельности Московского университета: Летопись. М., 1981.
116. Давыдов И. И. Воспоминание о С. Г. Салареве. М., 1821.
117. Декабристы в Москве: Сб. М., 1963.
118. Декабристы и их время. Т. 1. М., 1928; Т. 2. М., 1932.
119. Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 58–64.
120. Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX в. // РС. 1898–1899. Т. 96–97.
121. Дубшан Л. С. Из московских лет Грибоедова // А. С. Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989. С. 30.
122. Жинкин И. М. Н. Муравьев // Известия отделения русского языка и словесности Академии Наук. 1913. Т. 18. Вып. 2. С. 273.
123. Житков Б. М. Г. И. Фишер. 1940.
124. Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х гг.: Мемуары современников. М., 1989. С. 48—120.
125. «И в просвещении быть с веком наравне»: Сб. статей. СПб., 1992.
126. Иванов А. Е. Ученые степени и звания в дореволюционной России. М., 1994.
127. Иванов А. Н. И. А. Двигубский и его роль в развитии геологических идей Ломоносова // Труды института истории естествознания и тех ники. Вып. 9. 1957.
128. Из бумаг А. А. Прокоповича-Антонского // РА. 1897. Кн. 2. № 5. С. 113–116.
129. Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX в. М., 1959.
130. Избранные труды по электричеству. М., 1956.
131. Иконников В. С. Русские университеты в связи с ходом общего образования // Вестник Европы. 1876. № 9—10.
132. История Московского университета. Т. 1. М., 1955.
133. История Москвы. Т. 3. М., 1954.
134. История русской литературы. Т. 4. Ч. 2, Л., 1975. С. 454.
135. Истрин В. М. Русские студенты в Геттингене в 1802–1804 гг. // ЖМНП. Т. 28. 1910.
136. Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М., 1991.
137. Каратаев Н. К. Экономические науки в Московском университете. М., 1956.
138. Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г., Филиппов Л. А. Какой России принадлежал А. А. Антонский // Вопр. истории. 1956. № 9. С. 20–25.
139. Каченовский В. М. М. Т. Каченовский // Библиографические записки. 1892. № 4.
140. Каченовский М. Т. Взгляд на Благородные пансион // Вестник Европы. 1804. № 19. с. 233.
141. Киселев Н. С. Дело о должностных лицах Московского правления, учрежденного французами в 1812 г. // РА. 1868. № 6.
142. Клейменова Р. Н. Издательская деятельность Московского университета в первой четверти XIX века: Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 1979.
143. Клейменова Р. Н. Книжная Москва первой половины XIX в. М., 1991.
144. Кононков А. Ф. История физики в Московском университете. 1755–1859. М., 1955.
145. Кононков А. Ф. П. И. Страхов. М., 1959.
146. Критика: Утренняя заря // Вестник Европы. 1806. Ч. 26. № 6.
147. Кропотов Д. А. Жизнь графа М. Н. Муравьева. СПб., 1874.
148. Крылова Л. Р. Издания Московского университета. 1801–1907. Т. 1. М., 1978.
149. Лесохина Э. И. В библиотеке декабриста Н. Муравьева // Книга: Исследования и материалы. 1969. Сб. 18.
150. Летопись Московского университета. М., 1979.
151. Ликин Н. Н. Московский университет в Нижнем Новгороде в 1812 г. // ЖМНП. 1915. № 6. С. 206–218.
152. Липшиц С. Ю. Г. Ф. Гофман и его ученик Л. Ф. Гольдбах. М., 1940.
153. Липшиц С. Ю. Московское общество испытателей природы за 135 лет. М., 1940.
154. Лихолетов И. И., Яновская С. А. Из истории преподавания математики в Московском университете // Историко-математические исследования. Вып. 8. М., 1955.
155. Лонгинов М. Н. Воспоминания о Чаадаеве // Русский вестник. 1862. М 11.
156. Лонгинов М.Н. Общество любителей российской словесности Русский вестник. 1858. Кн. 2. N. 6.
157. Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958.
158 Лотман Ю. М. Мерзляков как поэт Его же. Избранные статьи, Таллинн, 1992. Т. 2.
159 Л тман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начала XIX в.). СПб., 1994.
160. Любавский М. К. Московский университет в 1812 г. Чтения в ОИДР. 1912. Кн. 4. С. 60—115.
161. Майков Л Н. Заметки об А. С. Грибоедове Сборник, издаваемый студентами Санкт-Петербургского университета. Вып. 2. СПб., 1860. С. 235–244.
162 Макаров М Н. Достопамятный благородный спектакль в Москве 1805 г. июня 30 дня Репертуар и пантеон московских театров. 1846 Т. 16. № 10.
163 Максимович М А Воспоминание о Тимковских Киевская стари на 1898 № 11. С. 260–272.
164. Максимович М А. Об участии Московского университета в просвещении России Русский зритель. Ч. 6, 1829 30. N> 21 22.
165. Малеин А И. Н Ф. Кошанский Памяти Л. Н. Майкова СПб, 1902. С. 178.
166 Маслов С. Воспоминания об А. А. Прокоповиче Антоиском Московские ведомости. 1848 № 140.
167. Материалы о профессорах Московского университета в архиае АН СССР (1755–1855) Вестник МГУ. Сер. 9, История. 1961. 1.
168 Мендельсон Н Н Общество любителей российской словесности за 100 лет. М. 1911.
169 Мерзляков А Ф Песни и романсы Вступ ст С. М. Магидсон. М, 1988.
170. Мизко Н. А. Ф Мерзляков (1778–1830) PC 1879 1 С. 115
171 Московский университет в воспоминаниях современников М, 1989
172. «Московский университет за 225 лет» Указатель литературы. М, 1983.
173 Муравьев М Н Полное собрание сочинений Т. 1 3 СПб, 1819 1820.
174. Муравьев М Н Стихотворения Вступ. ст и комм Л И. Кулаковой. Л., 1967.
175 Муравьев Н Н Биографический очерк Современник 1852 Кн 5 С 1—26.
176 Натансон В А. Из музыкального прошлого Московского университета М,1955.
177 Нечкина М В Грибоедов и декабристы М, 1977
178 Никитенко А. В А. И. Гали СПб 1869 С 7
179 Очерки по истории Московского университета Сборник статей Ч. 1 Ученые записки МГУ. История Вып. 50 М 1940
180 Павлова А С Читатели Московского университета первой половины XIX в История русского читателя Труды Ленинградского института культуры Т 25 Вып. 1 Л., 1973
181. Пенчко Н. А. Библиотека Московского университета с основания до 1812 г. М., 1969.
182. Периодические и продолжающиеся издания Московского университета (1756–1970). М., 1973.
183. Петров Ф. А. Из истории Университетского устава // Место, наукам посвященное… М., 1995. С. 41–45.
184. Петров Ф. А. Немецкие профессора в Московском университете. М., 1997.
185. Петухов Е. М. Н. Муравьев // ЖМНП. 1894. № 8. С. 265–310.
186. Пиксанов Н. К. Грибоедов и старое барство. М., 1926. С. 26–48.
187. Попов Н. А. История московского общества Истории и Древностей Российских. Ч. 1. М., 1884.
188. Попов А. Н. Москва в 1812 г. // РА. 1875. № 7—11.
189. Попов А. Я. Французы в Москве в 1812 г. // РА. 1876. № 2–6.
190. Поэты 1790–1810 гг. / Вступ. ст. и комм. Ю. М. Лотмана. Л., 1971.
191. Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М., 1957.
192. Пресняков А. Е. Александр I. Пг., 1924.
193. Профессора Московского университета — масоны // РА. 1901. № 6. С.301.
194. Речи, произнесенные в торжественных собраниях Императорского Московского университета русскими профессорами оного с краткими их жизнеописаниями. Ч. 1–4. М., 1819–1823 (издание Общества Любителей Российской Словесности).
195. Рихтер В. М. История медицины в России. Ч. 1–3. М., 1820.
196. Рогинский В. Дневники финляндского студента // Наше наследие. 1991. № 5.
197. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности министерства народного просвещения. СПб., 1902.
198. Рождественский С. В. Материалы для истории учебных реформ в России // Записки ист. — фил. факультета С.-Петербургского университета. Т. 96. Ч. 1, СПб., 1910.
199. Рождественский С. В. Сословный вопрос в русских университетах в первой половине XIX века // ЖМНП. 1907. Ч. 9. Отд. 2.
200. Рудаков В. Е. Столетие ОЛРС при Московском университете // Исторический вестник. 1911. № 6.
201. Рудаков В. Е. Студенческие научные общества: исторический очерк // Исторический вестник. 1899. № 12.
202. Рожкова Э. Е. Периодические издания Московского университета начала XIX в. // Вестник МГУ. Сер. 8, История. 1986. № 1. С. 51.
203. Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1–4. М., 1989–1998.
204. Русские эстетические трактаты первой трети XIX в. Т. 1–2. М., 1974.
205. Русский биографический словарь. СПб., 1896–1918.
206. Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. 1. Ч. 1.
207. Сватиков С. Студенческая печать с 1755 по 1915 г. // Путь студечества М., 1916.
208. Свиньин 77. 77. Второе письмо из Москвы // Отечественные записки. 1820. Ч. 2. № 3. С. 61.
209. Середонин С. М. К плану всеобщего государственного образования 1809 г. // Сборник С. Ф. Платонову. СПб., 1911.
210. Скабичевский А. М. Очерки по истории русской цензуры. СПб., 1892.
211. Смирнов-Сокольский Н. 77. Русские литературные альманахи и сборники. XVIII–XIX вв. М., 1965.
212. Смотров В. 77. Мудров. М., 1947.
213. Снегирев И. М. Очерк истории типографии Московского университета // Московские ведомости. 1954. N° 111. С. 466.
214. Соловьев В. 77. Декабристы и высшая школа // Сборник трудов Архангельского педагогического института. 1959. Вып. 3.
215. Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. СПб., 1914.
216. Сопиков В. С. Опыт российской библиографии или полный словарь сочинений и переводов, напечатанных на славянском и российском языках до 1813 г. СПб., 1813.
217. Сорокин В. В. Новые сведения о студенческих годах А. С. Грибоедова // Московский университет. 1939. С. 4.
218. Сорокин В. В. История библиотеки Московского университета (1800–1917). М., 1980.
219. Страхов 77. Ил. Краткая история академической гимназии. М., 1855.
220. Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т. 1. СПб., 1889.
221. Тарасенков А. Т. Историческая записка о составе и деятельности Физико-медицинского общества при Московском университете (1805–1855). М., 1856.
222. Тарасов Е. И. Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху. Самара, 1918.
223. Тарасов Е. И. Русские «геттингенцы» первой четверти XIX в. и влияние их на развитие либерализма в России // Голос минувшего. 1914. № 7.
224. Тарасов Б. 77. Молодой Чаадаев: книги и учителя // Альманах библиофила. Вып. 18. М., 1985.
225. Тарасов Б. 77. Чаадаев. М., 1994.
226. Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М., 1992.
227. Федосов И. А. Московский университет в 1812 г. // Вопр. истории. 1954. № 6.
228. Фигуровский Н. А. Химия в Московском университете за 200 лет. М., 1955.
229. Фомичев С. А. Реконструктивный анализ литературного произведения: (Комедия Грибоедова «Дмитрий Дрянской») // Анализ литературного произведения. Л, 1976. С. 214–225.
230. Чернов С. 77. Четыре письма неизвестного к декабристу Якушкину. Саратов, 1927.
231. Шаховской Д. И. Грибоедов и Чаадаев // Литература в школе. 1988. № 4. С. 20.
232. Шевырев С. П. А. А. Прокопович-Антонский: Воспоминания, посвященные воспитанникам университетского благородного пансиона // Московитянин. 1848. № 8.
233. Шевырев С. Я. История имп. Московского университета. М., 1855.
234. Шильдер Я. К. Император Александр I: его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 2.
235. Шишкова Э. Е. Московский университетский благородный пансион (1776–1855) // Вестник МГУ. Сер. 8, История. 1979. № 6. С. 73–90.
236. Штейн в России // РА. 1880. С. 431.
237. Щуровский Г. £. Фишер фон Вальдгейм. М., 1871.
238. Эйнгорн В. О. Московский университет, губернская гимназия и другие учебные учреждения Москвы в 1812 г. // Чтения в ОИДР. 1912. Кн. 4.
239. Юшкевич А. Я. Математика в Московском университете за первые сто лет его существования // Историко-математические исследования. Вып. 1. 1948.
240. Якушкин В. Е. Из истории русских университетов в XIX в. // Вестник воспитания. 1901. № 7.
241. Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, 1875–1910. 56 Bd.
242. Amburger E. Die Anwerbung auslândischer Fachkràfte fur die Wirtschaft Russlands von 15 bis ins 19 Jh. Wiesbaden, 1968.
243. Amburger E. Beitrage zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen. Giessen, 1961.
244. Amburger E. Fremde und Einheimische im Wirtschafts — und Kulturleben des neuzeitlichen Russland. Aufgewàlte Aufsàtze. Wiesbaden, 1982.
245. Amburger E. Geschichte der Behôrdenorganisation Russlands von Peter dem Grossem bis 1917. Leiden, 1966.
246. Austin P. 1812: The March on Moscow. London, 1993.
247. Flynn J. T. The University Reforms of Tsar Alexander I. 1802–1835. Washington, 1988.
248. Grunwald C. de. Alexandre I, le tzar mystique. Paris, 1955.
249. Hans N. History of Russian Educational Policy (1701–1917). London, 1931.
250. Hans N. The Russian Tradition in Education. London, 1963.
251. Haumant E. La culture française en Russie (1700–1900). Paris, 1913.
252. Holzhausen P. Die Deutschen in Russland. 1812. Leben und Leiden aur de Moskauer Heerfahrt. Berlin, 1912.
253. Koyré A. La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX siècle. Paris, 1976.
254. Lauer R. Die Beziehungen der Gôttinger Universitât zu Russland // Gôttinger Jahrbuch, B. 21. Gôttingen, 1973,
255. Malia M. Alexandre Herzen and the Birth of Russian Socialism. London, 1961.
256. Meiners Ch. Ueber die Verfassung und Verwaltung deutcher Universitàten. Gôttingen, 1801.
257. Mohrmann H. Studien iiber russisch-deutsche Begegnungen in der Wirtschaft-wissenschaft (1750–1825). Berlin, 1959.
258. Muhlpfordt G. Zur Rolle der Universitàten Halle und Moskau in den deutsch-russischen Beziehungen seit der Aufklârung // Jahrbuch ftir Geschichte der deutsch-slawischen Beziehungen und Geschichte Ost-Mittel Europas. В. 1. Berlin, 1956.
259. Putter G. Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georgia-Augusta-Universitàt zu Gottingen. Gottingen, 1865.
260. Raeff M. Michael Speransky, statesman of imperial Russia. The Hague, 1957.
261. Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19 Jahrhundert: Von der Jahrhundertwend bis zur Reichsgründung / Hrsg. von Lew Kopelew. München, 1992.
262. A. L. von Schlôzer und Russland / Hrsg. von E. Winter) // Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas. B. 9. Berlin, 1961.
263. Stammler H. Wandlungen des deutschen Bildes von russischen Menschen // Jahrbücher fur Geschichte Osteuropas. B. 5. Berlin, 1957.
264. Stieda W. Deutsche Gelehrte als Professoren an der Universitàt Moskau. Leipzig, 1930.
265. Tausend Jahre Nachbarschaft. Russland und die Deutsche. München, 1989.
266. Triomphe R. Joseph de Maistre: Etudes sur la vie et sur le doctrine d’un matérialiste mystique. Genève, 1968.
267. Troyat H. Alexandre I: Le sphinx du Nord. Paris, 1981.
268. Winter E. Deutsche Gelehrte in Russland und die Befreiungs Kriege (1808–1814) // Zeitschrift fur Slawistik. B, 9. Berlin, 1964.
269. Wischnitzer M. Die Universitàt Gottingen und die Entwicklung der liberalen Ideen in Russland im ersten Viertel des 19. Jh. Berlin, 1907.
Указатель имен