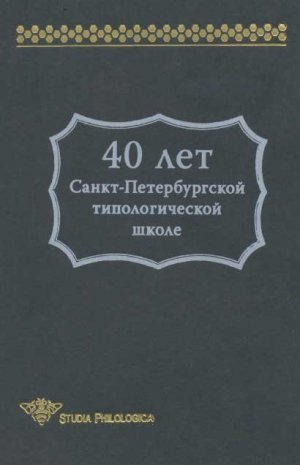
В. С. Храковский
Предисловие
1 апреля 1961 г. в Ленинградском отделении Института языкознания Академии наук СССР была организована группа структурно-типологического изучения языков под руководством проф. Александра Алексеевича Холодовича (1906–1977). Первыми сотрудниками, принятыми на работу в новую группу, были Владимир Петрович Недялков и автор этих строк. С той поры прошло всего каких-нибудь 40 лет. За это время изменилось многое. Самое важное, на мой взгляд, состоит в том, что мы, волей судеб, стали жить в другой стране, а группа превратилась в Лабораторию типологического изучения языков Института лингвистических исследований Российской академии наук.
Прошедшие годы для сотрудников группы (а затем Лаборатории) не всегда были легкими, особенно в советское время, когда в иные дни просто не хотелось ходить в институт, но все эти дни были заполнены интересной работой. Постоянно проводились рабочие заседания, было опубликовано много статей в отечественных и зарубежных журналах, вышло в свет несколько индивидуальных и коллективных монографий, среди которых следует в первую очередь упомянуть «Типологию каузативных конструкций» (1969), «Типологию пассивных конструкций» (1974), «Типологию результативных конструкций» (1983), «Типологию итеративных конструкций» (1989), «Типологию императивных конструкций» (1992), «Типологию условных конструкций» (1998) и «Типологию уступительных конструкций» (2004, в печати).
Работы Лаборатории всегда получали благожелательные отзывы в литературе, а в лингвистическом сообществе сложилось представление о Лаборатории как о ядре школы А. А. Холодовича, или Ленинградской (Петербургской) типологической школы.
Имена многих ученых, которые в разное время и сейчас принимают активное участие в работе Лаборатории, хорошо известны. Это С. Е. Яхонтов, И. А. Мельчук, В. П. Недялков, Н. А. Козинцева (2001), Е. Е. Корди, Г. Г. Сильницкий, А. К. Оглоблин, В. Б. Касевич, В, М. Алпатов, Н. Б. Вахтин, А. П. Володин, Д. М. Насилов, И. В. Недялков. Список можно продолжать и продолжать.
Все это не может не вызывать удовлетворения.
Вместе с тем мне грустно, что прошло уже 40 лет, и те, кто начинал работать в группе со дня ее основания, стали на 40 лет старше. Однако это светлая грусть, потому что за эти годы выросло уже несколько поколений молодых лингвистов, которые знают больше нас, видят предмет лучше и получают интересные результаты. Хочет старшее поколение или не хочет, но для того, чтобы работа в Лаборатории продолжалась так же активно, как и прежде, нам пора подумать о том, чтобы переместиться с авансцены поближе к кулисам, пока мы (в соответствии с одним из законов Мэрфи) не достигли уровня своей некомпетентности.
Мне грустно еще и потому, что уже много лет с нами нет А. А. Холодовича, который создал нашу группу и задал направление наших исследований. О роли личности в истории много спорят. Мне же совершенно очевидно, что если бы не А. А. Холодович, то не было бы нашей группы и не было этого юбилейного сборника.
Об А. А. Холодовиче нужно говорить отдельно. Здесь я скажу о нем всего лишь несколько слов.
А. А. Холодович безусловно был неординарным человеком и ученым, который, как мне представляется, во многом сотворил себя сам, хотя и учился у ряда крупных специалистов, в частности у Н. И. Конрада и Н. Я. Марра. Будучи по образованию японистом, он, вместе с тем, стал признанным специалистом в области корейского, русского и теоретического языкознания. При этом поражает широта его научного диапазона. А. А. Холодовича интересовала не только грамматика, хотя она всегда была ведущей темой в его творчестве, но и история языка, фонология, орфография. Тремя изданиями вышел его «Корейско-русский словарь».
Нельзя не сказать и о преподавательской работе Александра Алексеевича. С 1930 по 1960 г. он читал лекции в Ленинградском университете. Это были лекции и по японистике, и по кореистике, и по общему языкознанию. Он был прекрасный лектор. Мне довелось в 1950 г., когда я поступил на Восточный факультет, слушать его курс «Введение в языкознание», и я помню, как завораживали его лекции, хотя не всегда и не во всем были понятны, особенно в начале курса.
Отдельно следует отметить переводческую, издательскую и редакторскую деятельность А. А. Холодовича. В частности, он перевел корейскую грамматику Г. Рамстеда, «Основы фонологии» Н. С. Трубецкого, редактировал перевод «Принципов истории языка» Г. Пауля, был редактором коллективных монографий «Типология каузативных конструкций» и «Типология пассивных конструкций», наконец, редактировал книгу И. А. Мельчука «Опыт теории лингвистических моделей „Смысл о Текст“». Венцом издательской деятельности А. А. Холодовича следует считать «Труды по языкознанию» Ф. де Соссюра, где он выступил в роли редактора, составителя, автора глубокой вступительной статьи и примечаний. Александр Алексеевич успел подписать выход в свет этой книги, но сами «Труды по языкознанию» вышли уже после его кончины.
В 1961 г. А. А. Холодович круто меняет свою судьбу и переходит из Университета в Ленинградское отделение Института языкознания, где возглавляет группу структурно-типологического изучения языков. Формируя научную программу группы, он, как мне представляется, опирался на щербовское понимание грамматики, согласно которому «вся грамматика в целом фактически со всеми ее разделами мыслится… не как учение о формах, а как сложная система соответствия между смыслами, составляющими содержание речи, и внешними формами выражения этих смыслов, их (смыслов) формальными показателями»[1]. В этом вполне современном определении важная роль отведена понятию соответствия, которое, по словам А. А. Холодовича, в принципе «играет громадную роль в языкознании» и которое является ключевым в его научных разработках тех лет. Добавим к сказанному, что А. А. Холодович был последовательным вербоцентристом, опиравшимся на положение о доминирующей роли глагола в структуре предложения. Если учитывать оба названных обстоятельства, а именно понимание А. А. Холодовичем грамматики как соответствия между смыслами и формами и его представление о ведущей роли глагола и его категорий в структуре предложения, то из них естественно вытекает научная программа, которая заключается в типологическом исследовании грамматических категорий глагола, связанных с синтаксисом предложения. Эту программу Лаборатория типологического изучения языков реализует до настоящего времени и именно этой теме посвящено большинство статей, опубликованных в сборнике.
Статьи, включенные в настоящий сборник, подготовлены авторами на основе докладов, прочитанных на международной конференции «Категории глагола и структура предложения», которая проходила в Институте лингвистических исследований РАН в мае 2001 г. и была посвящена 40-летаю со дня основания группы структурно-типологического изучения языков и 95-летию со дня рождения Александра Алексеевича Холодовича.
Настоящий сборник был подготовлен к печати благодаря гранту Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ. Грант № НШ-2325.2003.6.
А. Богуславский, М. Данелевичова
К вопросу о системе эпистемических предикатов с пропозициональной валентностью: «верить, что» в его взаимоотношениях со «знать, что»
В настоящей работе предпринимается попытка описать семантическую структуру выражения верить, что… с тематическим, т. е. безударным, глаголом.
Может показаться, что перед нами скромная исследовательская задача. Но это единичное выражение одного — русского — языка имеет в некотором смысле исключительный характер. Именно оно призвано канонически вводить идею существования Бога. Оно осуществляет эту свою особую роль как элемент разветвленной системы эпистемических предикатов, с незапамятных времен привлекающих умы философов, теологов и лингвистов. Сложные, нередко ярко контрастные взаимоотношения связывают его с такими единицами, как думать, что…, предполагать, что…у быть уверенным, что…; важнее всего, конечно, его связи с глаголом знать, что…
Мы сталкиваемся здесь с узловыми проблемами гносеологии, примером которых может служить вопрос о рациональности веры. Одновременно мы обращаемся к лексической категории, играющей абсолютно фундаментальную роль в языке как таковом и поэтому имеющей первостепенную важность для общей теории языка.
Что касается того, насколько сложно разобраться и в сущности феномена веры и в разных обстоятельствах ее появления и функционирования, весьма поучительно послушать следующее чрезвычайно показательное признание Чеслава Милоша: «Я был глубоко верующим человеком. Я был совсем неверующим человеком. Противоречие столь большое, что не знаешь, как с ним жить. Я стал подозревать, что в слове „верить“ скрывается какое-то до сих пор не изученное содержание, не изученное, быть может, потому, что это явление, относящееся в большей степени к жизни человеческого общества, чем к психологии личности. Ни язык, употребляемый религиозными общинами, ни язык атеистов не способствовали размышлениям над его смыслом» [Miłosz 1997: 27].
Мы попытались описать глагол верить, что… (в его безударной ипостаси) именно как носитель понятия, используемого всеми членами человеческого общества во всей совокупности ситуаций, для которых оно с точки зрения среднего говорящего как-то годится. Оставляются в стороне философские, логические или идеологические конструкты, которые тоже называют «верой». В качестве примеров таких конструктов можно привести аксиоматические построения в [Hintikka 1962] или в [Lenzen 1978] — для частого словарного английского соответствия верить — believe. Характерной чертой таких построений, кроме всего прочего, является допустимость кореферентной итерации данного глагола [конечно, в его роли условного обозначения вводимых авторами понятий]; это ярко контрастирует с фактами естественного языка, ср. строго аномальное *Он думает, что он думает, что Маша уже не придет или очень странное ?Он верит, что он верит, что его книга будет иметь успех (чтобы избежать недоразумений, добавим, что мы все-таки не решаем здесь окончательно вопроса о возможной итерации естественно-языкового верить, что…, такого, как оно дано в русском языке).
В соответствии с указанной установкой «неизученное содержание» «веры» будет вскрываться путем наблюдений за свойствами обычных контекстов общедоступной речи, в которых наш предикат либо действительно встречается (или может встретиться), либо, наоборот, неприемлем; последняя категория случаев обладает, как известно, особой диагностической силой и благодаря этому регулярно используется в качестве решающего звена семантической аргументации.
Мы считаем предварительно установленным, что одной из подлинных единиц языка (соссюровских entitfis concrètes) является безударное верить, что (именно эта величина участвует в необходимых пропорциях выражений). Этого нельзя сказать о простом верить (если отвлечься от случаев эллипсиса). Выделяются и другие глагольные единицы: подударное верить, что…, верить в…, верить + дат., верить + дат., что…, а также глагол верить в то, что…, который, кажется, не обязательно вполне синонимичен глаголу верить, что. Но их описание представляет собой отдельную трудную задачу, решение которой остается за рамками настоящей статьи.
Одновременно с самого начала отвергается многозначность безударного выражения верить, что: она отличается ничтожной вероятностью. Иначе говоря, нам не представляется возможным, в противоположность мнениям таких авторов, как М. Г. Селезнев [1988: 244–254], И. Б. Шатуновский [1996: 274–277], установление некоторого количества единиц с той же внешней оболочкой безударного верить, что (названные авторы говорят о двузначности — с компонентом положительной оценки и без него). Итак, в предложениях
(1) Я верю, что Бог СУЩЕСТВУЕТ
(2) Наш тренер до последней минуты верил, что мы ВЫИГРАЕМ
(3) Даже его мать не верила, что ему УДАСТСЯ ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ
усматривается один однозначный глагол. Верно лишь то, что подударный глагол верить, что отличается от безударного отсутствием оценочного компонента: пример (2) с заменой выиграем на проиграем приписывает «тренеру» положительную оценку проигрыша, в то время как предложение
(4) Я ВЕРЮ, что наша команда проиграла
допускает как отрицательную, так и положительную оценку возможного факта со стороны субъекта. Это действительно заставляет говорить о двух значениях — но о двух значениях двух, с учетом ударения, словесных оболочек. Второе из них — это значение «доверия» по отношению к источнику получаемой информации (мы эту единицу здесь не будем обсуждать).
С учетом названных предпосылок предлагается следующее семантическое представление как лежащее в основе всех мыслимых употреблений безударного глагола верить, что:
(В) а [а знает, что если р˘, то в отношении того, что а имеет в виду, хорошо, что р˘]
[1] готов сказать, что если кто-то (а. i) знает то, что а знает, (а. ii) знает, что р˘, то кто-то знает что-тоi такое, что (к. i) что-тоi ≠ р˘, (к. ii) что-тоi → р˘
[2] не готов сказать о чем-то, что-тоi не: кто-то знает что-тоi
Объясним выражения и символы, употребленные в (В). [1], [2] — это рема, которая подлежит (как целое) возможному отрицанию; то, что предшествует [1], [2], — тематическая часть, включающая не подлежащую отрицанию пресуппозицию (данную в скобках []). Все слова и символы, в принципе, либо принимаются в качестве экспонентов тех значений, которые с ними связаны доступной всем и действительной для каждого контекста корреляцией, либо принимаются в качестве элемента обычного формального аппарата.
Необходимо, однако, обратить внимание на несколько элементов записи. Символ а подлежит замещению выражением, обозначающим эпистемический субъект. Символ р˘ замещает один из членов пары пропозиций {р,~р}, причем р замещает т. наз. пропозициональный аргумент глагола верить, что; р˘ обозначает тот член пары, к которому относится пресуппозиция. Выражение что-то, не: обозначает логическое дополнение к тому, что следует за двоеточием; не имеет здесь основное, контрадикторное значение отрицательной частицы. Стержнем репрезентации (В) является 4-аргументный функтор знает о…, что…, не:…, который считается неделимым и универсальным семантическим примитивом, или «семой» (ср. Bogusławski 1998]; он представлен, однако, своими вариантами, например, с местоимениями (на месте группы с что..) или же с упрощением, касающимся либо его референтной части (устранение предлога о с сопутствующими синтактико-флективными изменениями), либо его отрицательной части (она может лишь подразумеваться и в самом деле чаще всего подразумевается).
Особое внимание надо обратить на тот факт, что (В) (без отрицания ремы) предполагает всегда «готовность субъекта сказать» в отношении р˘ то, что дано в [1], и вместе с тем отсутствие такой готовности по отношению к ~ р˘, причем в силу истинностной бивалентности (дуальности) это отсутствие равносильно готовности субъекта сказать в отношении ~ р˘ противоположное по сравнению с тем, что он готов сказать в отношении р˘ (т. е. вместо [1] — отрицание [1]). Синтаксически это осуществляется так, что р˘ ставится как после верить, так и после не верить, а дискурсивно заданное ~р˘, т. е. такое р, которое представляет собой логическое дополнение р˘ (не оцениваемое положительно субъектом и не связываемое им с «условной гарантией существования/истинности») и которое выдвигается на первый план контекстом, ставится только после не верить, с тем, что вместо такой конструкции можно употребить и (оценочно положительное) р˘ после утвердительного верить, ср.:
(5) Я не верю, что мой друг ПРЕДАЛ меня/
Я верю, что мой друг не ПРЕДАЛ меня
Важно понимать, что указанное синтаксическое свойство является прямой коммуникативной необходимостью: если бы противоположное по отношению к р˘ содержание могло занимать любое синтаксическое место, нельзя было бы вообще выразить составляющий специфику нашего глагола аксиологический компонент. Описанный выше уклад допускает двойную аксиологическую интерпретацию лишь при не верить и только в исключительных случаях. Итак, герой предложения
(6) Он не верит, что брат ОТКАЖЕТСЯ ПОМОЧЬ ему
теоретически говоря, может оценивать помощь брата как нечто унизительное для себя, т. е. отрицательное, но, к своему огорчению, по всей вероятности неминуемое. Однако, уже контрастный контекст с утвердительным верить разрешает колебание в пользу положительной оценки пропозиционального аргумента при не верить, ср.:
(7) Иван не верит, правда, что с ним в жизни случится НЕСЧАСТЬЕ, однако он твердо верит, что ему по крайней мере придется сильно СТРАДАТЬ
(высказывание (7) было бы даже неприемлемым в случае более естественного предположения о том, что оценки «Ивана» на самом деле отрицательные: тогда корректность требовала бы замены глагола верить, скажем, глаголом думать, во всяком случае на месте выражения твердо верит). Обобщим: отрицательная оценка пропозиционального аргумента при безударном не верить, что встречается только как недвусмысленно маркированный случай и требует яркой контекстной поддержки.
Как мы увидим в дальнейшем, действительное участие отдельных компонентов нашего представления (В) в функционировании предиката верить, что и их предусмотренная в (В) организация подтверждается многими приемлемыми и неприемлемыми контекстами этой единицы языка. Чтобы показать это, мы обсудим важнейшие содержательные аспекты понятия «верить, что», как они отражаются в предложенной записи.
На наличие пресуппозиции, согласно которой эпистемический субъект а имеет в виду ситуацию, обладающую положительной ценностью, указывали многочисленные авторы (ср., среди других: [Арутюнова 2000]). Наше представление (В) содержит пресуппозицию, приписывающую а знание, что данная ситуация хорошая, причем предполагается, что она оценивается таким образом с некоторой, избранной субъектом точки зрения, т. е. она ставится в логическое отношение с избранными субъектом элементами, с одной стороны, знания, а с другой, волитивных установок. В дальнейшем мы коротко прокомментируем предлагаемый нами вид оценочной пресуппозиции веры.
Что касается самого по себе наличия этой пресуппозиции, то оно доказывается тем фактом, что как отрицательная оценка ситуации со стороны а (имплицитная или выраженная вводным оборотом), так и равнодушное отношение а к этой ситуации делают утвердительное предложение с глаголом верить, что неприемлемым, ср.:
(8) *Я верю, что он солгал
[при нормальном понимании глагола солгать]
(9) * Я верю, что Бог, как назло, существует.
(10) *Иван, который считает, что присуждение этой премии Горбачеву было бы серьезной ошибкой, верит, что он ее все-таки получил.
(11) Иван верит, что книг на этой полке около двадцати.
Примечание. (11) требует понимания того, что выражено в придаточном предложении, как оцениваемого субъектом неотрицательно; если он равнодушен к тому же содержанию, что является нормальным случаем, и притом говорящий знает об этом и не хочет вводить слушающего в заблуждение, высказывание некорректно.
(12) *К сожалению, я верю, что мне повезет [при нормальном подходе к удаче].
Обобщенно можно эти наблюдения свести к следующему утверждению о неприемлемости коллокаций:
(13) * а знает, что если р, то в отношении того, что а имеет в виду, плохо (безразлично), что р, и одновременно а верит, что р
То, что интересующая нас тематическая клаузула (В) имеет статус пресуппозиции, явствует из того факта, что ее содержание сохраняется в условиях отрицания и вопросительной конструкции, ср., кроме примеров (5) — (7), следующие предложения:
(14) Было бы хорошо, если бы ее приняли на работу, но я не верю, что ее приняли на работу.
(15) С его точки зрения было бы хорошо, если бы ее приняли на работу, но он не верит, что ее приняли на работу.
Что касается отрицательной оценки ситуации, являющейся предметом пропозиционального аргумента, со стороны говорящего или же его равнодушия по отношению к ней, то они не делают высказывания с глаголом верить, что неприемлемыми, ср.:
(16) Иван верит, что он получит эту никак им не заслуженную премию.
Необходимо подчеркнуть, что наличие желания эпистемического субъекта, чтобы данное положение вещей имело место, недостаточно для того, чтобы о субъекте утверждать, будто он верит, что это положение вещей имеет или будет иметь место. Такое желание достаточно для того, чтобы приписать субъекту надежду, но не веру, ср. предложение
(17) Я надеюсь, что он солгал,
которое, в отличие от (8), вполне приемлемо.
Перейдем к короткому комментарию по вопросу об оценочной пресуппозиции, содержащейся в (В), который мы выше сочли необходимым. Ввиду того, что субъект веры не обязательно готов сказать, что предмет его веры обладает положительным качеством (хотя этот субъект и признает, что он действительно верит, что р истинно), ср.:
(18) Он верит, что Сатана существует.
(19) [Германн] верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь (Пушкин, Пиковая дама, V).
формулировка пресуппозиции, предложенная в (В) и основанная на знании субъекта, может показаться контринтуитивной. Полное изложение доводов в пользу нашего толкования потребовало бы весьма пространного рассуждения, по сути дела представляющего собой своего рода очерк онтологии и гносеологии. Поскольку включение такого рассуждения в текст статьи невыполнимо, ограничимся лишь несколькими указаниями, касающимися узловых положений, которые мы считаем верными и в свете которых надо воспринимать формулу (В).
Во-первых, отношение «знает, что», свойственное как людям и другим лицам, так и неговорящим существам и Богу, несводимо к отношению «готов сказать, что»; люди знают очень многое из того, чего они не в состоянии высказать, в частности, они знают многое в области не вербализуемых ими логических следствий того, что они знают и что они даже могут сформулировать. Во-вторых, принимается следующее положение: то, что с данной точки зрения не заслуживает оценки «плохо», по крайней мере в той степени, в какой в отношении его справедливо отрицание как оценки «безразлично», так и оценки «плохо», и как раз по этой причине, наделено, в конечном счете, качеством «хорошо». В-третьих, все оценки, с которыми мы здесь имеем дело, т. е. «безразлично», «плохо», «хорошо», относительны в следующем смысле: они принимают во внимание довольно сложные отношения, аргументами которых являются, с одной стороны, определенные лица, с другой, определенные предметы знания и воли (подробнее этот вопрос рассматривается в [Bogusławski 1998]).
Сказанное должно объяснять, почему иные предложения с глаголом верить, что, к которым скорее всего неприменимо расширение в виде высказываний типа «а готов сказать, что р хорошо», все же приходится считать вполне приемлемыми, ср. (18)-(19). В частности, нельзя забывать о необходимости учета той релятивизации оценки, на которую мы только что обратили внимание; например, герой (19), по-видимому, усматривает в содержании р нечто вроде «смягчающего (его) вину обстоятельства».
Существенный класс пропозициональных аргументов, который заслуживает упоминания в этой связи, представляют собой предложения, изображающие знание определенной общей регулярности, характеризующей действительность; знание такой закономерности оценивается во всяком случае не отрицательно; ср. возможность приписать Салтыкову-Щедрину веру, содержание которой он и сформулировал (метафорически):
(20) Он верит, что в будущем веке отольются кошке мышкины слезки.
Нужно заметить, что любое общее знание (в отличие от обыкновенного факта, что то или иное выделенное лицо знает определенную конкретную вещь: оценка здесь может быть разной) наделено аксиологическим плюсом. Поскольку же существование лиц или предметов сводится именно к не имеющему частного характера знанию того, что какое-то качество свойственно некоторым объектам, не приходится удивляться, что соответствующие пропозициональные аргументы могут сочетаться с глаголом верить, что, ср. (18) (стоит обратить внимание на то, что придаточное предложение что существует Сатана с фокусированным «сатаной» — в противоположность фокусированному «существованию» — гораздо менее годится для роли аргумента в группе с глаголом верить, что).
Это рассуждение уместно дополнить замечанием, касающимся полулитературной веры в благополучный или, наоборот, неблагополучный исход определенного дела, обусловленный каким-либо в действительности «безразличным» происшествием, например, в виде большей рождаемости (в какой-то период) младенцев мужского, чем женского пола («предсказание» войны в недалеком будущем). Как совместить такое применение слова верить, что с его предполагаемой нами семантической структурой, включающей обсуждаемую оценочную пресуппозицию? Думается, что в обоих имеющихся в виду случаях (речь идет о развязке на «да» и на «нет») субъективная вероятность благополучного исхода в общем не меньше 50 %, т. е. «неплохая». Поэтому понятно, что данная условная связь может естественным образом оцениваться, в конечном счете, положительно. Таким образом, содержащееся в (В) аксиологическое требование, которому удовлетворяет положение «не безразлично и не плохо, следовательно, в той мере, в какой отрицание оценок „безразлично“, „плохо“ верно, хорошо», выполняется также в случае наших специальных высказываний с условным предсказанием. Добавим, что «пессимистические» предсказания как раз особенно легко примиримы с формулой (В): ведь надо учесть, что в обычных суевериях наличие благополучного исхода предполагает, по контрапозиции, в качестве своего необходимого условия нереализованность чего-то, что отличается низкой или даже исключительно низкой вероятностью (например, удача требует, чтобы черная кошка не перебежала дорогу; и вот появление такой кошки в поле зрения людей факт скорее всего редкий).
В противоположность тому, что утверждают многие интерпретаторы веры, считающие веру заведомо иррациональным умственным состоянием (ср., например, [Апресян 1995: 49]; отчасти также: [Шатуновский 1996: 274–277]), предикат верить, что как раз предполагает наличие в сознании эпистемического субъекта определенных истинных суждений. Такие суждения, правда, не обязательно влекут за собой р, но их предметом являются состояния или события, возможно, имплицируемые — вместе с положением вещей р — каким-то более богатым содержанием. Это создает некоторые основания во всяком случае для допущения р (д лущения типа пэрсовской «абдукции»).
Другое дело, что эти основания могут подчас оказываться в действительности или считаться кем-то весьма слабыми, вплоть до того, что данное допущение можно по праву назвать карикатурой веры Для обозначения таких извращенных умственных состояний существуют специальные идиоматические выражения, например, слепая вера; им можно сопоставить явления вроде «ложной дружбы» или «белой лжи», которые на самом деле ни дружбой ни ложью не являются.
То, что от предиката верить, что неотчуждаемо понятие того или другого основания соответствующих суждений или допущений, доказывается неприемлемостью реплик или пополнений типа тех, которые даны под звездочкой в нижеприведенных примерах (в противоположность тем, которые даны или могли бы быть даны с плюсом):
(21) — Я верю, что ее примут на работу.
— *На каком-то основании или без какого бы то ни было основания?
Примечание. Правда, такая реплика неуместна и в контексте других эпистемнческих предикатов, но важно учесть именно тот факт, что предикат верить что в этом отношении не отличается от них.
(22) Я верю что ее примут на работу. *Но тот факт, что я верю, что ее примут на работу, не связан буквально ни с чем из того, что я знаю или о чем я хотя бы догадываюсь/+ Есть что-то, что внушает мне такую надежду.
(23) Я верю, что выздоровею, *хотя я знаю, что это абсолютно невозможно.
Какие элементы представления (В) соответствуют признаку, который мы обсудили в этом пункте? Мы схватываем его с помощью понятия готовности элистемического субъекта сказать о р, что необходимым условием чьего-то (лишь) мыслимого, но все-таки не исключенного эпистемическим субъектом а знания, что р, является чье-то (не обязательно присущее тому же лицу) знание, которое охватывает р (иначе говоря: следствием которого является р). Притом это знание охватывает всю совокупность знаний, которыми обладает а (ср. (а. i) в антецеденте части [1] в (В)). Важно и то, что фактическое наличие такого более широкого знания по крайней мере не исключается эпистемическим субъектом а (ср. [2] в (В)).
Итак, «обоснованность веры» опирается, с одной стороны, на допускаемый эпистемическим субъектом факт, что р коренится в (чьем-то) знании, и, с другой стороны, на то, что такое соотношение представлено как реальное, на то, что субъект готов о нем всерьез говорить (не изображая его как всего лишь предмет своих шатких догадок). (В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что мы пользуемся употребленным в (В) словом говорить/сказать в его основном значении «ассерции», а не в значении простого произнесения или другого способа создания лишь внешней оболочки языкового произведения.)
Семантически вера а, что р, и знание а, что р, не исключают друг друга и не имплицируют ни друг друга ни отрицания другого из них. Тем не менее со знанием согласуется вера, а не неверие. Это связано, в частности, с тем фактом, что необходимым условием словесного (вербализованного) знания является отождествление предметов речи в разных высказываниях. Такое отождествление осуществляется в общем случае и в конечном счете в порядке веры (понимаемой в соответствии с (В)). Дело в том, что строгое, а вместе с тем конечное доказательство тождества предмета речи невыполнимо.
Однако, утверждение о знании а, что р, в нормальных условиях элиминирует утверждение о вере а, что р. Это в свою очередь связано с тем фактом, что вера является понятием производным от элементарного понятия знания. Последнее логически сильнее понятия веры; к тому же оно имеет прагматическое преимущество перед понятием веры. В результате оба они, наряду с другими эпистемическими выражениями, конкурируют друг с другом как орудия описания а.
Вместе взятые, эти положения означают, что локально говорящие выбирают либо глагол знать, что либо глагол верить, что. Но с другой стороны, в особых случаях допустим переход от утверждения о вере а к утверждению о знании а и даже в обратном направлении.
Повторим: знание, что р, не имплицирует отсутствия веры, что р. Автоматически можно лишь перейти от утверждения о чьем-то знании, что р, к высказыванию а ЗНАЕТ, что р, НЕ: ВЕРИТ, что р, т. е. к высказыванию с корректирующим контрастом, подчеркивающим, что выбор выражения знать вполне сознателен. Но в то же время знание не имплицирует и самой положительной веры, что р (оно, как элементарное отношение, вообще имплицирует лишь само себя). Отсутствие такой импликации отражается в подробностях представления (В), среди которых самую существенную роль играет стержневое нефактивное выражение готов сказать и идея лишь предположительного, данного всего лишь в аподозисе условного суждения, более широкого знания, имеющего свойство имплицировать р.
С этими импликационными лакунами связан один довольно своеобразный факт. В весьма специальных случаях заявление о знании (своем или чужом), что р, может сопровождаться риторическим заявлением об отсутствии веры, что р: а знает, что р, но поскольку р идет вразрез со всем остальным из того, в чем он отдает себе отчет, он «не может поверить, что р». Такое совмещение знания и отсутствия веры субъекта а (веры в смысле (В)) преподносится говорящим, безусловно, как парадокс, но оно в тесном смысле не противоречиво и следовательно не страдает элементарной аномалией.
На это обратил внимание Шмелев [Шмелев 1993:164–169]. Заметим, однако, что предложенные им два объяснения риторических оборотов типа «хоть знаю, да не верю» несостоятельны. Во-первых, вопреки тому, что утверждается в статье Шмелева [там же: 168], состояние веры (что р) ничуть не является нормой в отличие от неверия, и уже поэтому отклонение от «стандартов» в случае определенных возможных предметов знания («странных» предметов знания) не может само по себе служить истинной причиной заявлений о том, что кто-то «не верит, хотя и знает». Во-вторых, вера ни в коем случае не результат «свободного выбора субъекта», как утверждает автор [там же 1993: 169]. Например, предложение:
(24) Мне по душе выбрать этот билет, с установкой на то, что он выигрышный, *стало быть, я верю, что он выигрышный.
некорректно.
Как доказываются наши положения, относящиеся к узловому вопросу о соотношении веры и знания? Они подтверждаются наблюдениями, касающимися приемлемости/неприемлемости таких коллокаций, как те, которые иллюстрируются следующими примерами:
(25) *Я верю, что, к счастью, Бог существует.
Примечание. Выражение к счастью, как известно, фактивно: оно имплицирует соответствующее знание говорящего и, в силу переходности «знания», такое же знание вообще. Но именно это несовместимо с ассерцией веры.
(26) *Я верю и знаю, что Бог существует.
(27) Я верю, что Бог существует. В сущности, я это знаю.
Что касается отражения доказываемого таким образом соотношения веры и знания, то оно достигается путем определенного истолкования того, чтб ее субъект готов сказать («установку» веры, так же как и многих других эпистемических состояний [но не знания], мы понимаем именно как «готовность сказать»). Это истолкование, воплощенное в (В), состоит в том, что предметом веры является содержание условной конструкции (причем не «субъюнктивной», т. е. не irrealis'а). Знание, что р, появляется лишь в антецеденте условной конструкции, т. е. оно не преподносится в ассертивном порядке. С другой стороны, относительно условной конструкции в (В) принимается в то же время, что ее антецедент (так же, как и любой вообще антецедент индикативной условной конструкции, ср. [Bogusławski, 1997]) включает пресуппозицию «я не говорю, что неверно, что α' (где α символизирует остальное содержание антецедента).» Вполне очевидно, что при такой интерпретации знание а, что р ив результате этого, конечно, истинность р), только допускается. Однако, это значит одновременно, что знание, что р, в предложении о вере и не исключается.
Данное обстоятельство чрезвычайно важно, так как оно обеспечивает необходимое противопоставление глагола верить, что таким эпистемическим предикатам, как сомневаться в том, что…, догадываться, что…, которые прямо (хотя и в порядке пресуппозиции) выражают незнание субъекта.
Приписывание веры вводит идею знания, которое шире любого ограниченного знания, причем субъект веры изображается как по крайней мере не отрицающий того, что такое знание существует. Это в конечном счете равносильно намеку, со стороны говорящего, на Всеведущее Существо и позволяет понять, почему в одном выражении верить, что совмещаются стихии «житейского» и религиозного. В (В) ответственность за это несут прежде всего клаузулы (к. i), (к. ii) консеквента в части [1], а также часть [2]. Добавим, что отрицательная формулировка [2] необходима: если бы мы предположили, что а готов утверждать, что кто-то знает что-то, то он признавал бы себя просто знающим, что р (в силу импликации в [1], которая охватывает (к. 11)), и тогда все сводилось бы к знанию (вера как состояние, отличающееся от знания, перестала бы существовать).
Что касается веры, предметом которой является существование самого Всеведущего, то она удовлетворяет требованиям формулы (В), так как, по предположению, «кто-то» в консеквенте условной конструкции в [1], т. е., практически, именно Всеведущий, знает, согласно (к. i), больше, чем о своем существовании, т. е. больше, чем о том, что ему просто присуще что-то: Он знает некое более богатое q, которое односторонне влечет за собой тот факт, что Ему «присуще что-то» (и что Он, следовательно, существует).
То, что речь должна идти именно о неограниченном знании, вытекает из следующего рассуждения. Предполагаемое, в ходе мысленного эксперимента, устранение «носителя тайны» в виде что-тоi путем подстановки на его место эксплицитной и, следовательно, конечной (ограниченной) формулировки привело бы к необходимости выбора одного из эпистемических состояний, адекватных данному (на этот раз уже замкнутому) содержанию в его соотношении с субъектом, о котором идет речь. Главными теоретическими кандидатами были бы, с одной стороны, знание, которое, как мы видели в п. 3, имеет преимущество перед верой (если возможна предикация знания, упраздняется предикация веры), с другой стороны — незнание вкупе с разными видами «суждений» (других, чем вера). Однако ни знание, ни (какое бы то ни было) суждение (вроде обычного предположения, допущения и т. п.) не сохраняли бы специфику исходного состояния. Для ее сохранения пришлось бы поставить упомянутую конечную формулировку на место р в (В), заменяя одновременно что-тоi в (B) каким-либо другим что-тоk, отличающимся, однако, теми же свойствами, которые присущи что-тоi в нынешнем (В). Поэтому уйти от мысли о том неограниченном знании, на которое наводит (В), невозможно. (Сказанное здесь представляет более строгое по форме изложение взгляда на феномен веры, который неоднократно встречался в литературе, ср. [Weltе 1982; Рieper 1986].)
Подчеркнем, что (В) лишь формально не исключает тождества «кого-то» в его двух вхождениях в части [1], т. е. в антецеденте и в консеквенте приводимой в [1] условной конструкции; нормально имеется в виду как раз их нетождество (этому соответствует тот факт, что оба вхождения не связаны в записи одним субскриптом). Добавим, что местоимение «кто-то» в антецеденте может естественным образом мыслиться как относящееся к субъекту а, а этот субъект заведомо является конечным существом (Бог — субъект знания, но не веры). (Стоит заметить, что нетождественный субъект в консеквенте явно перекликается с лицом, обозначаемым дательным падежом в родственном глаголе верить кому-нибудь, причем такое материальное соотношение глагольных единиц прослеживается по многим языкам.)
Веским обстоятельством, говорящим в пользу положений, выдвинутых в настоящем пункте, является поведение пропозициональных аргументов аналитического или априорного типа, в том числе аргументов в виде оценочных предложений. В основном они вообще не заполняют валентного места верить, что. Ср. следующие примеры:
(28) Иван *верит/+ знает/+думает, что дважды два четыре.
(29) Иван *верит/+ знает, что если кто-то, кто рискуя собой спас чью-нибудь жизнь, является героем, то Петр, который рискуя жизнью спасал утопающего, герой.
(30) Иван *верит/+ считает, что его младший брат должен получать к завтраку порцию, больше его собственной.
Отчасти этому запрету или ограничению способствует тот факт, что содержание аналитических предложений нормально не является носителем той или иной ценности, в частности, положительной ценности, которая столь существенна в феномене веры (ср. п. 1). Однако в определенных условиях и такое содержание может приобрести, пожалуй, с весьма специальной точки зрения, положительную ценность; и тогда, скажем, предполагаемая априорная истина может стать предметом веры, ср. следующее приемлемое предложение:
(31) Иван верит, что существование Бога все же имеет априорный характер.
Примечание. Если пропозициональный аргумент в (31) истинен, то он истинен a priori.
Более существенным фактором, препятствующим использованию аналитических предложений в качестве пропозициональных аргументов веры (более существенным, чем отсутствие в них положительной ценности), является, по-видимому, тот факт, что в большинстве случаев все релевантные данные находятся в распоряжении эпистемического субъекта а. Это легко проследить по примерам (28) — (30). В такой обстановке единственно естественным является применение на месте верить, что базисного эпистемического предиката знать, что (когда же речь идет о сравнении с некоторыми критериями, которые принимаются субъектом, также предиката считать, что, ср. (30)). В крайнем случае, например в условиях необычных умственных недостатков (эпистемического субъекта или говорящего) или особой сложности принимаемого во внимание содержания, можно прибегнуть к не-фактивному предикату вроде думать, что, ср. (28) или (30) с соответствующей подстановкой на месте слова верит.
Глагол верить, что встречается несколько чаще лишь при таких аналитических аргументах р, которые построены на модальных выражениях и которые намекают на синтетические обстоятельства, исключающие или допускающие что-то (не уточняя их), ср. придется, не может, может. Например, предложение
(32) Я верю, что он был вынужден подписать этот документ
вполне корректно. Но если говорящий знает, что «он» подписал «этот документ» и знает, что если бы «он» не подписал «этот документ», его отец погиб бы, правильным будет высказывание
(33) Я знаю, что он подписал этот документ из-за того, что он предпочел подписать его, чтобы спасти своего отца, и таким образом был вынужден подписать его.
Замена знаю в (33) на верю была бы совсем неуместной ((33), правда, лишено свойственной вере положительной оценки, в противоположность (32), но этот компонент легко восполнить, добавляя к (33), скажем: Это хорошо, что он не руководствовался в своем действии низкими мотивами). Сделанное здесь наблюдение лишний раз подтверждает преимущество глагола знать, что перед глаголом верить, что.
Особое внимание необходимо обратить (еще раз) на то, что эпистемический субъект а, в соответствии со второй частью ремы в (В) ([2]), не исключает того, что кто-то действительно знает что-тоi которое влечет за собой р. Этим он отличается от лица, которое признает, что знание р логически предполагает знание чего-тоi (согласно [1]), но которое тем не менее отвергает знание чего-тоi, а вместе с тем истинность р (как по предположению имплицируемого пропозицией что-тоi). Поскольку такое лицо не удовлетворяет условию [2] в (В), его нельзя описать как верящего, что р. Следовательно, в отношении него необходимо предицировать отрицание веры, ср.:
(34) Иван готов сказать, что если кто-то знает то, что он сам знает, и если притом знает, что ее приняли на работу, то кто-то знает нечто совсем другое, такое, что из него следует, что ее приняли на работу, но все-таки Иван не верит, что ее приняли на работу.
По-видимому, эта недопустимость предицирования веры в (34) соответствует не только формуле (В), но и нормальной языковой интуиции, что, конечно, говорит в пользу формулы.
Вера часто характеризируется как эпистемическая установка на всеобщую и осуществляющуюся в конечном итоге (вопреки разным частным явлениям, которые могли бы противоречить этому) связность и понятность действительности (напомним речение Эйнштейна: «What is incomprehensible is that the universe is comprehensible»). Во всяком случае ее характеризуют таким образом в тех ее аспектах, которые ведут к «хорошему»; «хорошее», согласно этой установке, гарантируется, так сказать, на глобальном уровне (ср. понятие «космического оптимизма» в работе [Селезнев 1988: 251–252]).
Эти, думается, правильные ассоциации, связываемые с понятием веры, имеют свое недвусмысленное отражение в нашем семантическом представлении: это отражение видно в условной конструкции, содержащейся в [1], особенно в ее консеквенте.
С одной стороны, вера является, безусловно, так же как и знание, состоянием, а не действием или событием (в частности, она не является речевым действием или актом речи). Но с другой стороны, она тесно связана с человеческой деятельностью: по-настоя-щему верящее лицо от своего эпистемического состояния переходит к соответствующей активности; в свою очередь, активность требует отсутствия отчаяния, т. е. требует именно какой-то (подходящей) веры.
И эта двойственная истина, столь же важная, сколь и неоспоримая, четко отражается в нашем описании. Ей соответствует, именно, основная формула «готовности сказать». Эта формула обозначает, правда, состояние; но это такое состояние, благодаря которому субъект действует, причем действует отнюдь не просто как говорящее лицо: ведь речь сопутствует всем вообще действиям лиц. И не только сопутствует: она в огромной степени регулирует остальные действия, управляет ими.
Базисному эпистемическому глаголу знать, что, который никак не ограничивается человеческими или личными субъектами (пожалуй, даже подсолнухи знают, где солнце?), противопоставляются предикаты эпистемических состояний, свойственных лицам.
Среди них предикат верить, что занимает совершенно особое место: это конкурент знания, который, однако, как и уверенность, формально не исключает знания (в отличие от целого ряда других эпистемических предикатов, которые попросту исключают соответствующее знание и которые также в иных отношениях куда банальнее веры); с другой стороны, и отсутствие веры, неверие, не исключает соответствующего знания.
Одновременно наш глагол отличается тем, что возможности хотя бы только метафорического распространения его на животных намного более ограничены, чем у других эпистемических предикатов, даже таких, как быть уверенным, считать.
Это, можно сказать, самый человеческий предикат: именно он, как ни один другой, связывает нас с «трансцендентным миром», точнее, с Богом (агностик добавил бы здесь: если таковые существуют). И устанавливает он эту связь не только в минуты нашего озарения религиозными (или антирелигиозными) мыслями. Нет, он это делает всегда.
Апресян Ю. Д. Проблема фактивности: «знать» и его синонимы // Вопросы языкознания. 1995. № 4.
Арутюнова Н. Д. Знать себя и знать другого (по текстам Достоевского) // Слово в тексте и в словаре. Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна / Ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин М., 2000.
Селезнев М. Г. Вера сквозь призму языка // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
Шатуновский И. Б. Семантика предложения и нереферентные слова. М., 1996.
Шмелев А. Д. «Хоть знаю, да не верю» // Логический анализ языка. Ментальные действия / Ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева М., 1993.
Boguslawski A. Grice ftir Konditionalsätze. Von «ich sage nicht, es ist wahr» zu «es ist nicht wahr» // Junghanss U., Zybatow G. (Hrsg.). Formale Slavistik Frankfurt am Main, 1997.
Boguslawski A. Science as Linguistic Activity, Linguistics as Scientific Activity. Warszawa, 1998.
Hintikka J. Knowledge and Belief. An Introduction to the Logic of the Two Notions. Ithaca; N. Y., 1962.
Lenzen W. Recent Work in Epistemic Logic. Amsterdam, 1978.
Miłosz Cz. Piesek przydrożny. Kraków, 1997.
PieperJ. Lieben, hoffen, glauben. Msnchen, 1986.
Welte B. Was ist Glauben? Gedanken zur Religionsphilosophie. Freiburg, 1982.
А. В. Бондарко
Категориальные ситуации в функционально-грамматическом описании
1.1. Вступительные замечания. Тема этой статьи тесно связана с общей проблематикой анализа грамматических категорий на разных уровнях языковой системы. Важные аспекты этой проблематики освещаются в трудах А. А. Холодовича. В его работах описание категорий глагола включает их соотнесение с семантической и формальной структурой предложения (см. [Холодович 1979: 138–160]). Исследование категорий глагола в комплексе «глагольный предикат — предложение в целом» получило дальнейшее развитие в трудах Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН (см. [Храковский, Оглоблин 1991]).
Выход анализа глагольных категорий на уровень предложения влечет за собой обращение к обозначаемой ситуации и ее компонентам. Понятие ситуации используется в работах, посвященных категориям глагола, в частности в теории диатезы и залога (см. [Холодович 1970:4—15; 1979:112–138; Храковский 1970: 27–30; 1974: 6–9; 2001а; Сильницкий 1973: 373–391]), в теории глагольного вида (см. [Сотпе 1976: 44–48; 2001; Мелиг 1985; Mehlig 2001; Барентсен 1995]). Это понятие выступает в лингвистической литературе в различных вариантах (ср. [Алисова 1971: 321; Гак 1973; 1998:252; Берниковская 2001]).
Далее речь идет о той разновидности ситуативного подхода, которая представлена в разрабатываемой нами модели функциональной грамматики (см. [Бондарко 1984; 1999; ТФГ 1987; ТФГ 1990; ТФГ 1991; ТФГ 1992; ТФГ 1996а; 1996б]). В создании шеститомного коллективного труда «Теория функциональной грамматики» участвовали 44 автора, в том числе сотрудники Лаборатории типологического изучения языков (см. разделы, написанные В. С. Храковским, Н. А. Козинцевой, Т. Г. Акимовой, В. П. Недялковым, И. Б. Долининой, А. Е. Корди и Л. А. Бирюлиным). В теоретических основаниях данной модели грамматики важную роль играет понятие категориальной ситуации (оно было введено и охарактеризовано в работах [Бондарко 1983а: 115–200; 1983б; 1984: 99—123]). В настоящей статье обобщаются наиболее существенные признаки, характеризующие это понятие, и высказываются некоторые положения, отражающие современный этап разработки рассматриваемого вопроса.
1.2. Соотношение «семантическая категория — функционально-семантическое поле — категориальная ситуация». Начнем с краткой характеристики трехчленного соотношения, одним из компонентов которого является «категориальная ситуация». Первый компонент — понятие, широко распространенное в разных направлениях лингвистической теории, два других отражают предлагаемую интерпретацию теории функциональной грамматики.
Семантические (понятийные) категории рассматриваются в лингвистической литературе как инварианты наиболее высоких уровней абстракции в сфере мыслительного (смыслового) содержания. Они выступают в различных вариантах, выражаемых различными средствами одного и того же языка и разных языков. Наиболее обобщенные категории представляют собой семантические константы, находящиеся на вершине системы вариативности (ср. такие категории, как время, модальность, качество, количество, пространство, бытийность, посессивность). Вместе с тем могут быть выделены категории, представляющие собой разные уровни вариативности семантической системы (ср., например, такие категории, как футуральность, императивность).
Рассматриваемые категории, с одной стороны, отражают свойства и отношения реальной действительности в восприятии человека, а с другой — имеют опору на язык. Речь идет о потенциальной опоре на всю совокупность возможных средств и их комбинаций в одном языке и в разных языках. Языковая интерпретация семантических категорий влечет за собой определенное преломление категориальных смыслов. Эти смыслы становятся (уже в преобразованном виде) элементами подсистем языка, подвергаются влиянию его строя (о категориях, выделяемых в сфере семантики, см. [Есперсен 1958: 46–61; Мещанинов 1945; Koschmieder 1965: 72–89, 101–106, 159–160, 211–213 и сл.; Кацнельсон 1972: 3—16, 78—127; 2001: 23—548; Яхонтов 1998]). В типологических и сопоставительных исследованиях семантические категории трактуются как некоторые общие и универсальные понятия, рассматриваемые в качестве основания для сравнения разнообразных способов их выражения в языках различного строя (см., например, [Fillmore 1968; Холодович 1970; Храковский 1974]). Наша интерпретация рассматриваемой проблематики изложена в целом ряде работ (см., например, [Бондарко 2002]).
Функционально-семантическое поле (ФСП) — это группировка взаимодействующих средств данного языка, выражающих варианты определенной семантической категории. Речь идет о семантической категории в ее языковом выражении, представленном в системе разноуровневых средств данного языка. Имеются в виду как грамматические (морфологические, словообразовательные, синтаксические), так и лексические средства. Ср. такие поля, как аспектуальность, временная локализованность, таксис, темпорапьность, персональность, залоговость, субъектность, объектность, качественность, количественность. Анализируемые поля — билатеральные единства, включающие план содержания и план выражения. Понятие поля сопряжено с представлением о некотором пространстве. В условном пространстве функций и средств устанавливается конфигурация центральных и периферийных компонентов поля, очерчиваются зоны пересечения с другими полями.
Категориальная ситуация (КС) трактуется нами как базирующаяся на определенной семантической категории и соответствующем поле типовая содержательная структура, варианты которой выступают в конкретных высказываниях. КС представляет собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнификативной (семантической) ситуации. Родовое понятие категориальной ситуации интегрирует видовые понятия — ситуации аспектуальные, таксисные, персональные, квалитативные, локативные, бытийные, посессивные, кондициональные и т. п. Если ФСП является парадигматическим единством, относящимся к языковой системе, то КС представляют собой своего рода проекцию поля на высказывание. Поскольку анализируемые ситуации всегда представлены в высказывании, т. е. выступают в речевой реализации предложения или сложного синтаксического целого, они заключают в своей структуре предикацию. Связь с предикацией — один из постоянных признаков КС.
В работах, посвященных грамматической семантике, в зависимости от их целей на передний план может выдвигаться каждый из компонентов рассматриваемого трехчленного соотношения, однако задачи конкретных исследований языкового материала в любом случае требуют обращения к уровню предложения, к речевым реализациям категориальной семантики в высказывании. Используемые термины различны. Эти различия отражают особенности исходных теоретических принципов и направлений исследований. Так, понятия и термины, представленные в трудах Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН и определяющие названия ряда этих трудов (ср. [Типология результативных конструкций 1983; Типология итеративных конструкций 1989; Типология императивных конструкций 1992; Типология условных конструкций 1998] и др.), связывают категориальный уровень грамматической семантики с уровнем предложения в тех аспектах категориальной семантики и грамматических структур, которые существенны для типологических исследований данного направления. Терминология, используемая нами, соотносит содержание семантических категорий и соответствующих полей с КС как категориальной характеристикой высказывания, существенной для данной разновидности теории функциональной грамматики. В любом случае выход на уровень предложения (в речи — высказывания) оказывается необходимым и существенным компонентом грамматики, строящейся на категориальной семантической основе.
2.1. Варианты категориальных ситуаций. Типовые КС, будучи семантическими инвариантами, реализуются в многоступенчатой и многомерной системе вариативности. Рассмотрим некоторые примеры.
Система вариативности аспектуальных ситуаций, представляющих собой аспектуальную характеристику высказывания, включает соотношение ситуаций тендентивно-предельных и нетендентивно-предельных. Тендентивная предельность характеризуется признаком направленности действия на достижение предела (с потенциальным пределом) и с реальным достижением именно того и только того предела, на который направлено действие (ср. понятие «естественного результата» процессов с «одной степенью свободы» в интерпретации А. А. Холодовича [Холодович 1979: 138–139]). Тендентивно-предельными являются оба члена видовых пар типа добиться — добиваться, вспомнить — вспоминать, исправить — исправлять, наладить — налаживать, киснуть — скиснуть, стареть — постареть. Например: Долго убеждал и наконец убедил. Нетендентивная предельность связана со «скачком в новое» (см. [Маслов 1984: 219]) при отсутствии какого-либо указания на ведущий к этому процесс. Ср., например, видовые пары типа задеть — задевать, заметить — замечать, назначить — назначать, попасть — попадать, похитить — похищать, появиться — появляться, случиться — случаться, а также несоотносительные глаголы совершенного вида типа зашипеть, отшуметь, изголодаться, прильнуть и т. п.
Выделяются две разновидности тендентивно-предельных ситуаций, связанные в русском и других славянских языках с противопоставлением совершенного и несовершенного вида (СВ — НСВ): 1) процессуальная разновидность, характеризующаяся элементом «направленность» (добиваться, уговаривать); 2) результативная разновидность, отличающаяся элементом «достижение» (добиться, уговорить). Существенно соотношение контролируемой и неконтролируемой тендентивности. Контролируемая тендентивная предельность возможна, естественно, лишь при одушевленном субъекте: выращивать — вырастить, изживать — изжить, строить — построить и т. п. Неконтролируемая тендентивность возможна как при одушевленном субъекте (полнеть — пополнеть, стареть — постареть, привыкать — привыкнуть), так и при неодушевленном (блекнуть — поблекнуть, гаснуть — погаснуть).
Варианты КС характеризуются определенным комплексом отличительных признаков. Так, признаками процессных ситуаций, выражаемых в высказывании при участии форм НСВ, являются: а) «срединность» — выделение в действии фиксируемого срединного периода, представление действия как уже начатого, но еще не законченного; например: Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк (Ю. Тынянов); б) перцептивность (наблюдаемость и другие виды восприятия), ср. приведенный выше пример, в котором перцептивность подчеркивается обозначением субъекта и процесса наблюдения (Он смотрел, как…); признак перцептивности отражает изобразительную (описательную) функцию высказывания — его направленность на описание наблюдаемой, так или иначе воспринимаемой ситуации; перцептивность может быть реальной, непосредственной, так или иначе представленной в контексте, например: Посмотри, там кто-то идет, или условной, образной, «литературной», например: «Падение Римской империи» совершалось столетиями, медленно и неуклонно, преисполненное житейской пестроты и сутолоки, как все в мире… (А. Блок); в) длительность;
г) динамичность — выражение динамики течения действия в фиксируемый период вместе с течением времен — от прошлого к будущему; передается динамика переходов от одного состояния в протекании действия к другому, более позднему; в рамках фиксируемого периода моменты t-1, t-2, t-З и т. д. соответствуют разным состояниям (этапам) развертывания процесса, см. [Бондарко 1983а: 116–159; 1983б].
Многоступенчатая вариативность характеризует таксисные (аспектуально-таксисные) ситуации (см. описание вариантов аспектуально-таксисных ситуаций в разделах коллективной монографии [ТФГ 1987], написанных Т. Г. Акимовой и Н. А. Козинцевой: [Акимова, Козинцева 1987а: 257–279; Акимова 1987: 275–280; Козинцева 1987: 280–288; Акимова, Козинцева 1987б: 288–294]; из работ последнего времени см. [Козинцева 2001]). Говоря о таксисных ситуациях, мы имеем в виду типовые содержательные структуры, представляющие собой тот аспект передаваемой высказыванием «общей ситуации», который связан с функцией выражения временной соотнесенности (сопряженности) действий в составе полипредикативного комплекса. Элементы этого комплекса относятся к одному и тому же временному плану (прошлого, настоящего или будущего). Например, в высказывании В то время как я подходил к этой комнате, они уже выходили из нее представлена аспектуально-таксисная ситуация типа «процесс — одновременный процесс».
Таксисные ситуации по своей структуре могут быть двучленными и многочленными. Первый тип является постоянным структурным признаком зависимого таксиса (Войдя в комнату, сосед остановился). В сфере независимого таксиса двучленная структура представлена в сложноподчиненных предложениях (Когда сосед вошел в комнату, он остановился). Двучленная структура таксиса возможна и в конструкциях с однородными сказуемыми (Сосед вошел в комнату и остановился), однако возможна и структура, содержащая более двух членов (Сосед вошел в комнату, остановился и все понял). Таким образом, таксис предполагает временные отношения действий в полипредикативных конструкциях, которые в одних случаях являются бинарными (это существенный структурный признак зависимого таксиса), а в других (в сфере независимого таксиса) могут включать и более двух членов.
Инвариантное значение таксиса (таксисных ситуаций) может быть определено как выражаемая в полипредикативных конструкциях временная соотнесенность действий, соотнесенность в рамках единого временного плана. Это значение выступает в следующих основных вариантах: а) отношение одновременности/неодновременности (предшествования — следования); б) временная соотнесенность действий в сочетании с отношениями обусловленности (причинными, условными, уступительными); в) взаимосвязь действий в рамках единого временного плана при неактуализованности указанных выше хронологических отношений. Например: а) Пока мы усаживались, он перебирал бумаги (одновременность); Как только закончу работу, обо всем поговорим (последовательность); б) Осознав это, он изменил свое решение (отношение предшествования — следования связано с отношением причины и следствия); в) Рассматривая этот вопрос, мы обращаем внимание… (в таких случаях для смысла высказывания существенно не хронологическое отношение одновременности двух действий, а значение сопряженности двух взаимосвязанных компонентов обозначаемой ситуации в рамках единого временного плана); ср. следующие примеры: Весь вечер они пели, танцевали, шумели (А. Чехов); действия в обозначаемой внеязыковой ситуации могут быть отчасти одновременными, отчасти разновременными (возможно, чередующимися), однако хронологические отношения не актуализируются: важно лишь то, что весь вечер был наполнен обозначенными действиями; Сестра вошла в комнату, приказав мне ждать; и здесь собственно хронологические отношения четко не выражены, они не актуальны для смысла высказывания: налицо лишь сопряженность обоих действий (двух компонентов полипредикативного комплекса) в едином временном плане.
Итак, во многих случаях выражается не дифференцированное отношение одновременности/последовательности действий, а лишь их совмещенность в едином «временном пространстве», представленном в высказывании (см. раздел «Замечания об отношениях недифференцированного типа» в [ТФГ 1987: 253–256]). Подчеркивая, что семантика таксиса далеко не всегда заключается в выражении хронологических отношений одновременности/не-одновременности (предшествования — следования), мы исходим из необходимости уделять особое внимание языковой интерпретации исследуемых отношений. Предлагаемая трактовка семантики таксиса включает некоторые коррективы по отношению к ранее вышедшим работам ([Бондарко 1984: 70–98; 1985]; подробнее об этом см. [Бондарко 1999:123–147]). Категория таксиса получает в современной лингвистической литературе различные истолкования, существенно отличающиеся от изложенного выше (ср., с одной стороны, анализ таксисных конструкций в статье Г. А. Золотовой [2001], а с другой — в работах В. С. Храковского [2001б; 2001в]). Значительные расхождения в интерпретации категории таксиса естественны. Они отражают, с одной стороны, многомерность изучаемого объекта, а с другой — различия в направлениях исследования. Думается, что на данной стадии разработки вопроса о таксисе разнообразие концепций, как и в большинстве других случаев, — фактор, способствующий углубленному осмыслению сути изучаемого явления (подробное рассмотрение спорных вопросов может быть темой статьи, непосредственно посвященной проблематике таксиса).
Одним из свойств системы ФСП являются их пересечения (см. [Пупынин 1990; Межкатегориальные связи 1996; Смирнов 1992; 2000]). Они затрагивают как поля внутри определенной группировки (таковы, в частности, пересечения полей аспектуальности, темпоральности и таксиса), так и поля, относящиеся к разным группировкам (ср. взаимные связи аспектуальности и количественности). Пересечения полей находят соответствие в сопряженных КС — аспектуально-темпоральных, аспектуально-таксисных, аспектуально-квантитативных и т. п. Ср., например, аспектуально-таксисные ситуации типа «длительность — наступление факта», реализующиеся в русском языке в таких вариантах, как а) «длительность — неожиданное наступление факта» (ср. конструкции типа НСВ — (и) вдруг СВ; НСВ — как вдруг СВ и т. п.), б) «длительность — сменяющее ее наступление факта» (без элемента внезапности), в) «желание, готовность осуществить действие — наступление факта, препятствующего его осуществлению»: хотел (было)… — но (или как вдруг) СВ; уже готовился… — но СВ; уже собирался… — как вдруг СВ и т. п. (данный вариант включает не только аспектуальные и таксисные, но и модальные элементы),
г) «длительность — наступление факта в один из ее моментов»,
д) «длительность — завершающее ее наступление факта».
КС, выступающие в определенных вариантах, включают все элементы высказывания, участвующие в выражении категориальной семантики. Так, варианты персональных ситуаций передают отношение к лицу, касающееся как субъекта-подлежащего, так и субъекта, выраженного дополнением, а также объекта и атрибута. Например: Это касается вас, а не меня; Рассматриваемое понятие трактуется нами…', Я знал, что мне с этим не справиться. Взаимодействие лексических и грамматических компонентов персональных ситуаций представлено в высказываниях типа Автор благодарит…; Ваша милость об этом и не думает. Одним из лексических средств выражения персональной семантики обобщенно-личного типа (без четкой дифференциации по отношению к неопределенно-личному значению) является лексема человек. Например: Только в одиночестве человек может работать во всю силу своей могуты (А. Герцен).
Понятие ситуации, как известно, широко используется при анализе семантической структуры предложения. Ситуативный подход к этой проблематике возможен и в парадигме КС. Нами используется понятие «субъектно-предикатно-объектная ситуация» (СПО-ситуация). Имеется в виду структура языкового содержания высказывания, включающая то или иное отношение обозначаемой общей ситуации к семантическим категориям «субъект» (С), «предикат» (П) и «объект» (О) в их взаимных связях и в их отношении к структуре предложения. Специфическая особенность СПО-ситуаций заключается в том, что они базируются на целом комплексе семантических категорий, а не на одной категории (как, например, императивные, локативные, посессивные ситуации). Отношение обозначаемой общей ситуации к семантическим элементам С, П и О понимается широко: значащим может быть и отсутствие данного элемента. Так, отсутствие О (в высказываниях типа Он спит) рассматривается как особая разновидность СПО-ситуации (см. анализ СПО-ситуаций в [ТФГ1992]).
Среди КС, совмещенных в составе передаваемой высказыванием общей сигнификативной ситуации, во многих случаях выделяется доминирующая КС — наиболее существенный и актуальный элемент из числа семантических элементов, формирующих смысл высказывания. Остальные семантические элементы составляют «фон». Они могут быть необходимым условием реализации доминирующей КС, но в иерархии актуализируемых элементов содержания высказывания их роль относительно второстепенна, вторична. Например, в высказывании Дай мне ложку! доминирующая императивная ситуация сочетается с дополнительными «фоновыми» элементами темпоральности, временной локализованности, аспектуальности, персональности, субъектности и объектности.
В следующих высказываниях доминирующей является экзистенциальная (бытийная) ситуация: Есть люди, которые бытуют в нашей жизни всерьез, и есть бытующие нарочно (Л. Гинзбург); В доме было тихо. — Есть кто? — крикнул я (Д. Гранин). В приведенных примерах экзистенциальная ситуация выступает как доминанта «общего» содержания высказывания. Ряд других семантических признаков взаимодействует с данной КС, обусловливая конкретные признаки бытия и его отношения к бытующей субстанции. Таковы признаки, относящиеся к сфере темпоральности, временной локализованности/нелокализованности (признак аспектуально-темпоральный), локативности, индивидуализации/генерализации, утверждения/отрицания, вопроса, интранзитивности и непредельности предиката существования. Эти семантические признаки могут интерпретироваться в качестве среды по отношению к доминирующей экзистенциальной ситуации как базисной содержательной системе (о бытийных ситуациях см. [Воейкова 1996]).
Категориальная доминанта высказывания может представлять собой комплекс взаимосвязанных КС. Например: Скажи он мне об этом раньше, я бы уехал. В состав доминирующего комплекса входят следующие КС: а) модальная ситуация предположения, б) сопряженная с ней кондициональная ситуация (в составе комплексной ситуации гипотетического условия), в) таксисная (в варианте последовательности двух предполагаемых действий), г) темпоральная (в варианте общей отнесенности предполагаемых действий к плану прошлого по отношению к моменту речи: к этому же временному плану относятся подразумеваемые реальные действия: «на самом деле он не сказал об этом раньше, и я не уехал»). Эти связанные друг с другом КС выступают на фоне других категориальных признаков, включенных в содержание данного высказывания; таковы: а) персональный признак сопоставления предполагаемых действий лица, о котором идет речь, и говорящего; б) залоговый признак актива; в) аспектуальный признак конкретных целостных фактов; г) признак определенности.
2.2. Категориальные ситуации на уровне целостного текста. Анализ КС может выходить за пределы «элементарного высказывания», соответствующего предложению или сложному синтаксическому целому, и распространяться на более широкие фрагменты текста и на текст как целое. В частности, такой подход оказывается необходимым при анализе того компонента «аспектуально-темпорального комплекса», который я называю, используя термин Г. Рейхенбаха, временным порядком. Имеется в виду отражаемое в высказывании и целостном тексте языковое представление «времени в событиях», т. е. представление временной оси, репрезентируемой событиями, процессами, состояниями, обозначениями моментов времени и интервалов (на другой день, через пять минут и т. п.). Языковая интерпретация временного порядка включает динамичность «наступлений фактов» («возникновения новых ситуаций», смены ситуаций) и статичность «длительностей» («данных ситуаций») в сочетании с обозначением или импликацией интервалов между действиями; рассматриваемым представлением охватывается и отнесенность к определенному моменту или периоду времени, выражаемая обстоятельственными показателями типа с тех пор, с того дня, через месяц и т. п.
Структуру временного порядка в тексте образуют различные комбинации динамичности/статичности. Эта оппозиция строится на основе аспектуальных семантических признаков «возникновение новой ситуации» (ВНС) — «данная ситуация» (ДС) и таксисных признаков последовательности/одновременности. В русском и других славянских языках комбинации указанных признаков выражаются с участием форм СВ и НСВ. Смена ситуаций в структуре временного порядка может подчеркиваться обстоятельствами типа затем, потом и т. п.
Ситуативный подход, реализуемый на уровне целостного текста, используется при анализе КС разных типов (в частности, представляют интерес суждения о текстовых аспектах семантики обусловленности, высказанные в статье В. Б. Евтюхина [2001]). Непосредственное отношение к рассматриваемой проблематике имеют такие понятия, как «темпоральный (модальный, персональный) ключ текста», «ключ временной локализованности/нелокализованности» (см. [Бондарко 1984: 41–42]).
2.3. Универсально-понятийный и конкретно-языковой аспекты понятия КС. В понятии КС могут быть выделены два аспекта: универсально-понятийный и конкретно-языковой. КС в первом аспекте — понятие, относящееся к области универсальных инвариантов. Речь идет о типовых ситуациях, базирующихся на относительно универсальных семантических категориях. Семантика КС на данном этапе анализа трактуется в отвлечении от особенностей языковой семантической интерпретации, связанной со спецификой строя отдельных языков. В принципе возможны гипотетические построения системы аспектуальных, темпоральных, таксисных и т. п. типовых ситуаций, рассчитанные на потенциальные приложения к неограниченному числу языков различного строя. Заметим, что такие построения, универсальные по замыслу, фактически являются результатом обобщения фактов определенного круга учитываемых исследователем языков. При их приложении к другим языкам они неизбежно модифицируются и уточняются. Все это, однако, отнюдь не снимает значимости типологии КС, стремящейся к универсальности. Мы имеем здесь дело с своего рода рабочей гипотезой, необходимой в типологических и сопоставительных исследованиях. Во всех случаях необходимым этапом (аспектом) исследования и описания типовых КС является характеристика особенностей семантической и структурной категоризации ситуаций в анализируемых языках.
Акимова Т. Г. Аспектуально-таксисные ситуации (локализованные во времени) в сложноподчиненных предложениях// Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
Акимова Т. Г., Козинцева Н. А. Зависимый таксис (на материале деепричастных конструкций)//Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987а.
Акимова Т. Г., Козинцева Н. А. Аспектуально-таксисные ситуации, нелокализованные во времени (кратный таксис)// Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987б.
Алисова Т. В. Очерки синтаксиса современного итальянского языка: (Семантическая и грамматическая структура простого предложения). М., 1971.
Барентсен А. А. Трехступенчатая модель инварианта совершенного вида в русском языке // Семантика и структура славянского вида. I / Ред. Ст. Кароляк. Kraków, 1995.
Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983а (2-е изд., стереотип.: М., 2001).
Бондарко А. В. Категориальные ситуации (к теории функциональной грамматики) // Вопр. языкознания. 1983б. № 2.
Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
Бондарко А. В. О таксисе (на материале русского языка) // Zeitschrift für Slawistik. 1985. Bd 30. № 1.
Бондарко A. В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999.
Бондарко А. В.Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. М., 2002.
Берниковская Т. В. Семантика польского предложения: Типовая ситуация с адресатным значением. Минск, 2001.
Воейкова М. Д. Бытийные ситуации // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.
Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики, 1972. М., 1973.
Гак В. Г. Языковые преобразования. М., 1998.
Евтюхин В. Б. Обусловленность в тексте // Исследования по языкознанию. СПб., 2001а.
Есперсен О. Философия грамматики: Пер. с англ. М., 1958.
Золотова Г. А. К вопросу о таксисе // Исследования по языкознанию. СПб., 2001.
Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
Кацнельсон С. Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. М., 2001.
Козинцева Н. А. Аспектуально-таксисные ситуации (локализованные во времени) в полипредикативных конструкциях сочинительного типа // Теория функциональной трамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
Козинцева Н. А. Таксисные конструкции в русском языке: одновременность // V. S. Chrakovskij, М. Grochowski and G. Hentschel (eds.).
Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages: Papers in Honour of Andrzej Boguslawski on the Occasion of His 70th Birthday. Oldenburg, 2001.
Маслов Ю. С. Очерки no аспектологии. Л., 1984.
Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996.
Мелиг X. Семантика предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985.
Мещанинов И. И. Понятийные категории в языке // Труды Военного ин-та иностр. языков. 1945. № 1.
Пупынин Ю. А. Функциональные аспекты грамматики русского языка: Взаимосвязи грамматических категорий. Л., 1990.
Сильницкий Г. Г. Семантические типы ситуаций и семантические классы глаголов // Проблемы структурной лингвистики, 1972. М., 1973.
Смирнов И. Н. Семантика субъекта/объекта и временная локализованность // Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
Смирнов И, Н. Ситуации временной нелокализованности действия и семантика интервала (на материале русского языка) // Проблемы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб., 2000.
Типология результативных конструкций: (результатов, статив, пассив, перфект). Л., 1983.
Типология итеративных конструкций. Л., 1989.
Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
Типология условных конструкций. СПб., 1998.
ТФГ1987= Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуаль-ность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987 (2-е изд., стереотип. — М., 2001).
ТФГ 1990 = Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990
ТФГ 1991 = Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
ТФГ 1992 = Теория функциональной грамматики: Субъектность. Обьектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
ТФГ 1996а = Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.
ТФГ 1996б = Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность. СПб., 1996.
Холодович А. А. Залог. 1: Определение. Исчисление // Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
Храковский В. С. Конструкции пассивного залога: (определение и исчисление) // Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Храковский В. С. Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги. Л., 1974.
Храковский В. С. Концепция диатез и залогов (исходные гипотезы — испытание временем) // Международная конференция «Категории глагола и структура предложения», посвященная 95-летию проф. А. А. Холодовича и 40-летию Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН. Санкт-Петербург. 28–30 мая 2001 г.: Тез. докл. СПб., 2001а.
Храковский В. С. Таксисные конструкции (опыт классификации) // Теоретические проблемы функциональной грамматики: Материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 26–28 сентября 2001 г.). СПб., 2001б.
Храковский В. С. Таксис (история вопроса, определение и типология форм) // A. Barentsen and Y. Poupynin (eds). Functional grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. München, 200 le.
Храковский В. С., Оглоблин А. К. Группа типологического изучения языков ЛО ИЯ АН СССР // Вопр. языкознания. 1991. № 4.
Яхонтов С. Е. Понятийные категории, скрытые категории, таксономические категории // Типология. Грамматика. Семантика. СПб., 1998.
Comrie В. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge etc., 1976.
Comrie B. Some thoughts on the relation between aspect and Aktionsart // Barentsen A. and Poupynin Y. (eds). Functional Grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. München, 2001.
Fillmore Ch. J. The Case for Case // Bach E., Harms R. T. (eds). Universals in Linguistic Theory. N. Y., etc., 1968.
Koschmieder E. Beitrage zur allgemeinen Syntax. Heidelberg, 1965.
Mehlig H. R. Überlegungen zur sog. allgemeinfaktischen Verwendungsweise des ipf. Aspekts im Russischen // Barentsen A., Poupynin Y. (eds). Functional Grammar: Aspect and Aspectuality. Tense and Temporality. München, 2001.
Б. Вимер
Таксис и коинциденция в зависимых предикациях: литовские причастия на — damas
Среди таксисных ситуаций, различающихся выбором глаголов совершенного (СВ) и несовершенного вида (НСВ), выделяются обычно три основных типа: последовательность действий (1), параллелизм (2) и наступление события на фоне процесса (или состояния) (3); ср. следующие стандартные примеры[2]:
(1) Когда Маша помыла посуду, раздался звонок.
(2) Когда Маша мыла посуду, ее сын плескался в ванной.
(3) Когда Маша мыла посуду, раздался звонок.
Существует четвертый тип соотношения ситуаций, который был выделен еще Кошмидером [Koschmieder 1930] и который вслед за ним называется «Koinzidenz» (коинциденция). В русской аспектологии, насколько мне известно, нет устоявшегося термина, хотя, например, Бондарко [Бондарко 1987: 250–253] пишет о явлениях, тесно связанных с коинциденцией, обсуждая «отношения „псевдоодновременности“». Не углубляясь дальше в терминологические вопросы, ясности ради я буду использовать традиционный термин.
Коинциденция не является, по сути дела, разновидностью таксиса, поскольку связь в данном случае сводится не к временнóму соотношению, а к логическому совпадению двух ситуаций. Скорее всего, здесь правомерно говорить о том, что две предикации относятся к одной и той же ситуации, освещая ее лишь под разными углами зрения[3] [Богуславский 1977: 271; Rûžička 1980: 201]. Для иллюстрации посмотрим следующие примеры:
(4) Он выразил свое неудовольствие, хлопнув дверью.
(5) Передав ему письмо, она выполнила поручение друга.
Важно подчеркнуть, что функция коинциденции никак не обусловлена видовой принадлежностью глагола (она вообще не зависит от того, есть в данном языке вид (как грамматическая категория) или нет). Поэтому Леман и его соавторы [Lehmann et al 1993: 162] правы, когда пишут: «Taxische Koinzidenzen sind Instanzen natiirlicher Chronologie». В пользу этого утверждения говорят следующие достаточно очевидные факты:
Коинциденция встречается в языках типа немецкого, в котором нет видовой системы; ср. (5) и (6):
(6) Er übergab ihr den Brief. Damit erfüllte er semen Auftrag
«Он передал ей письмо. Тем самым он выполнил поручение».
Близкородственные языки, в которых имеется система грамматических видовых оппозиций и которые для обозначения этих оппозиций используют одинаковые средства, могут различаться по способу передачи коинциденции, в то время как средства для выражения трех названных выше основных типов таксисных ситуаций являются одинаковыми. Примером могут служить русский и польский языки. В русском языке для выражения коинциденции используются преимущественно деепричастия СВ (на — в(ши)), тогда как в польском языке с этой целью применяются скорее всего деепричастия от глаголов НСВ (на — ąc); ср. переводы русских примеров (4) — (5) на польский язык:
(7) Dal wyraz swemu niezadowoleniu, zatraskając drzwiami.
(8) Wręczajqc mu list, spelniła prośbę przyjaciela.
Такая «замена» деепричастия СВ на деепричастие НСВ (без изменений в семантике) объяснима только как следствие того, что лексическое значение глаголов, создающих видовую пару, становится идентичным в точно определяемых условиях. Эти условия сводятся к так называемым тривиальным критериям видовой парности, которые, в двух словах, заключаются в том, что (а) глаголы СВ, употребленные в прошедшем времени для обозначения однократных действий, обязательно заменяются на лексически идентичные глаголы НСВ, если данный контекст переводится в план наст. вр. (так называемое «настоящее нарративное»); (б) глаголы СВ, обозначающие однократные (локализованные во времени) действия, заменяются на соответствующие глаголы НСВ, если те же действия обозначаются как неограниченно многократные[4]. Поскольку — как было указано выше — коинциденция не затрагивает собственно акциональных свойств лексемы, по которым глаголы видовой пары могут отличаться друг от друга[5], эти отличия отступают всецело на задний план, оставляя, так сказать, место для других функций синтаксически подчиняемой предикации (в том числе для коммуникативных целей, которыми мы здесь заниматься не будем).
Дальнейшее изложение будет нацелено на то, чтобы показать, каким образом в литовском языке коинциденция может выражаться с помощью самого близкого функционального аналога деепричастий, имеющегося в этом языке, т. е. с помощью так называемых «полупричастий» (лит. pusdalyviai). Формальное их отличие от русских и польских деепричастий состоит в том, что полупричастия имеют формы им. падежа (и только его) и склоняются по родам и числам (ср. табл. 1). Факты, выявленные в результате анализа, описанного ниже, служат доводом в пользу того, что в современном литовском литературном языке (лит. lietuvių bendriné kalba), по-видимому, не существует морфологически парных глаголов, которые соответствовали бы тривиальным условиям видовой парности. Иными словами, даже те морфологически парные глаголы, лексическое значение которых максимально сближено, не способны полностью заменять друг друга в условиях коинциденции.
В литовском языке наблюдаются явные зачатки видовой системы, подобной той, которая существует в русском (и в польском) языке, в том смысле, что средства словообразования (аффиксы) используются для расширения глагольных основ, вследствие чего в определенных случаях создаются пары из производящего и производного глаголов, лексически настолько близких, что возникают основания для того, чтобы рассматривать эти пары как видовые. Такая парность характерна не только для суффиксации, но и для префиксации. Последнее имеет место как раз у целого ряда глаголов речи (verba dicendi), а также глаголов, обозначающих ментальные состояния или изменения ментального состояния (verba sentiendi).
Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что необходимым условием для видовой парности является тождество лексических значений производящей и производной основ. Все утверждения, касающиеся глагольных пар, приводимые в этом и следующих разделах статьи, касаются только совпадающих для этих глаголов значений, по которым глагольные лексемы группируются в классы (см. ниже).
Мы можем говорить лишь о явных зачатках видовой системы, но не о грамматикализованной системе видообразования по нескольким причинам[6]:
• Парность в сформулированном выше смысле создается только в рамках определенных лексических и акциональных групп, но во на всем «массиве» глаголов литовского языка, для которых видовые противопоставления были бы в принципе вообразимы (по семантическим соображениям).
• Даже там, где парность является довольно регулярным (частотным) явлением, нельзя, как правило, сформулировать те условия, которые бы однозначно определяли выбор одного из двух (лексически одинаковых) глаголов или, точнее, те контексты, в которых нетривиальные различия между парными глаголами подвергались бы нейтрализации и приходилось бы выбирать только один из них. По крайней мере, до сих пор никому такие условия указать не удалось. Из этого вытекает, что оба глагола в паре не вступают в дополнительное функциональное распределение, т. е. употребление одного глагола вместо другого (в рамках пары) не подвержено четко предсказуемым нелексическим фактором (хотя тенденции этого имеются, см. ниже).
В каких группах признаки видовой парности все-таки проявляются? Перечисляя эти группы, я буду пользоваться одной из тех теорий вида, авторы которых стремятся показать систематическое и типологически значимое взаимодействие между акциональными типами глаголов и видом (как грамматической категорией), а именно, теорией Вальтера Броя под сокращенным названием ILА (Interaktion zwischen Lexik und Aspekt); см. [Breu 1996; 1997; 2000].
Выделить следует, во-первых, глаголы с внутренним «правым» пределом (GTER)[7], типа i¸tikinti «убедить/убеждать», atidaryti (langa) «открыть/открывать (окно)», perrašyti (laiška) «переписать/ переписывать (письмо)». Для них, однако, типична суффиксация, а суффигированные производные таких глаголов (соответственно i¸tikinėti, atidarinėti, perrašinėti) включают, как правило, тот или иной дополнительный дистрибутивный оттенок, отдаляющий их лексически от «своих» производящих основ. Иными словами, в первую очередь они служат не для обозначения предельного процесса, а указывают на тот или иной тип множественности либо одного из партиципантов ситуации, либо самого действия (поэтому глаголам на — inė- часто приписывают какой-то неопределенный «уменьшительный оттенок», лит. mažybinis atspalvis). На самом деле, суффиксальное образование «парных» глаголов в литовском языке весьма продуктивно. Встречается оно и в других акциональных классах. Но эти производные, как правило, факультативны (в том смысле, что на их месте часто можно употребить и исходные основы); вместе с тем они не способны заменить производящие их основы с точно тем же лексическим значением.
Во-вторых, существуют глаголы, обозначающие ситуации с обязательным «левым» пределом, т. е. состояния, предполагающие то или иное естественное начало (класс ISТА). Большинство литовских глаголов этого акционального класса могут обозначать как само состояние, так и переход в это же состояние. Ср., например, sutikti и suprasti, которые вне контекста (и в определенной грамматической форме) акционально двузначны: Jonas sutiko su Onos siülymu может значить либо «Иван согласился с предложением Анны», либо «Иван был согласен с предложением Анны». С логической точки зрения, акт речи, через который выражается согласие, предшествует состоянию «согласия». И действительно, глаголы этого акционального класса часто принадлежат двум лексическим группам одновременно: с одной стороны, они выражают определенный речевой акт, с другой стороны, они служат для выражения соотнесенного с данным речевым актом ментального состояния. Подобным образом, Klausytojai suprato, apie ką kalbėjo pranešėjas может значить либо «слушатели поняли, о чем говорил докладчик», либо «слушатели понимали, о чем говорил докладчик». Среди глаголов, обозначающих речевые акты, соотнесенные с наступающими после них ментальными состояниями, а также среди глаголов, обозначающих ментальные состояния и переходы в них, парность наподобие видовой практически не наблюдается[8]. Среди акционального класса ISTA глагольные пары, которые могли бы стать «кандидатами на видовые пары», относительно систематически образуются только от эмотивных глаголов и глаголов, обозначающих разные виды восприятия (verba percipiendi), например, justi/pajusti «ощущать/ощутить», jausti(s)/pa(si)jausti «чувствовать (себя)/почувствовать (себя)», matyti/pamatyti «видеть/увидеть», girdėti/išgirsti «слышать/услышать». Сюда можно было бы отнести также пару liesti/paliesti, «касаться/коснуться, затрагивать/затронуть».
В-третьих, продуктивно префиксальное образование «пар» от бесприставочных глаголов, называющих непредельные процессы (ACTI); ср. miegoti => pamiegoti, stovėti => pastovėti с их русскими эквивалентами спать => поспать, стоять => постоять. В русской аспектологии видовая парность здесь нередко оспаривается, но Брой и Леман ее принимают [Breu 2000; Lehmann 1999] на том основании, что лексическое значение деривата не отличается от производящей основы, а приставка добавляет всего лишь фазовое ограничение. Мы учитываем такое образование пар прежде всего из-за его высокой частотности в текстах (см. раздел 4).
В-четвертых, глаголы, обозначающие точечные действия, в частности конклюзивные акты, к которым принадлежит прежде всего основная масса глаголов, обозначающих речевые акты; ср. sakyti/pasakyti «говорить (=сказать)», prašyti/paprašyti «просить», klausti(s)/pa(si)klausti «спрашивать», dėkoti/padėkoti «благодарить», sveikintis/pasisveikinti «здороваться», siūlyti/pasiūlyti «предлагать», žadėti/pažadėti «обещать». У глаголов, объединяемых в такие пары (TTER), как лексическое, так и акциональное значения полностью совпадают; это отличает их от пар, относящихся к классам GTER или ISTA[9]. Поэтому можно полагать, что попарное сопоставление глаголов класса TTER, а также глаголов класса ACTI (см. выше), в условиях минимальных пар может выявить определенные различия в их функционировании, которые не сводятся к собственно аспектуальным или, тем более, к лексическим различиям. Литовские полупричастия демонстрируют как раз подобную ситуацию.
Для эмпирического анализа поведения полупричастий были использованы тексты современной литовской художественной прозы и научно-популярной литературы. Данные основываются на выборках из корпуса текстов, который составлен в Лаборатории компьютерной лингвистики Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе[10]. Основную часть выборки составляет связный текст из каунасского корпуса (объем выборки — немногим более 15 Мб). Из анализа были исключены случаи употребления полупричастий с союзными словами типа prieš «перед тем, до того (как)», поскольку такие союзные слова сами по себе «доопределяют» временную функцию причастия. (См. [Богуславский 1977] применительно к русским деепричастиям.)
Если ограничиться попарно сопоставляемыми глаголами, то в нашей выборке насчитывается 413 полупричастий от бесприставочных глаголов, а от приставочных глаголов, образующих с ними пары (почти всегда с приставкой ра-, в единичных случаях также с приставками su-, už-, iš- и pri-), — 81. Оценивая это соотношение, можно сказать, что среди попарно организованных глаголов полупричастия от бесприставочных глаголов встречаются примерно в пять раз чаще, чем от их квазивидовых дериватов с приставками.
Поскольку исходная гипотеза состояла в том, что коинциденция особенно характерна для конклюзивных глаголов, в частности для глаголов, обозначающих речевые акты (см. выше), был задан список из 16 пар глаголов этой лексической группы[11]. Большинство из них относится к классу ТТЕR; исключение составляют только vadinti/pavadinti, vadintis/pasivadinti, относящиеся к группе ISТА, и, возможно, aiškinti/paaiškinti, aiškintis/išsiaiškinti, teisinti/pateinsinti, teisintis/pasiteisinti, которые нужно, скорее всего, отнести к группе СТЕК. Кроме того, было исследовано 27 глаголов неречевых, также принадлежащих к акциональному классу 15ТА, причем 20 из них объединяются в пары (т. е. было 10 пар). Всего исследовано 89 глаголов («парных» и непарных).
Исходная и главная гипотеза заключалась в том, что в морфологических парах глаголов, обозначающих речевые акты, чье лексическое значение, по всей видимости, одинаково, полупричастия приставочного («перфективного») глагола используются прежде всего для обозначения коинциденции (а бесприставочные для подтипов таксиса). Посмотрим сначала результаты подсчетов для 16 пар речевых глаголов (см. табл. 2).
Высказанную только что гипотезу эти данные ни в коей мере не подтверждают. Правда, соотношение между частотой таксисного и коинцидентного употребления полупричастий от некоторых высокочастотных глаголов свидетельствует в пользу выше сформулированной гипотезы. Так, например, соотношение для пары со значением «говорить/сказать (что Р)» таково: sakuti 20: 48, pasakuti 0: 6 (таксис: коинциденция). Но подобные единичные факты статистически не показательны.
В принципе тот же результат мы получим, сопоставив частотность всех глаголов, выступающих в парах. Картина здесь следующая:
Следовательно, гипотеза о том, что среди «парных» глаголов, обозначающих речевые акты, дериваты с приставками чаще используются с целью обозначения коинциденции, на нашем материале не подтверждается.
Из таблиц 2 и 3 вытекает еще и то, что полупричастия от бесприставочных «парных» глаголов речевых актов вообще употребляются гораздо реже, чем от их производящих основ; соотношение примерно 1:9.
В работах, посвященных русским деепричастиям, высказывалось мнение, что функцию коинциденции они выполняют преимущественно в постпозиции по отношению к финитному глаголу, которому они синтаксически подчиняются, см. [Rûžička 1980: 200]. Аналогичная гипотеза применительно к литовским полупричастиям подтверждается, и то на крайне сигнификантном уровне; см. таблицу 4.
Нужно признать, что большинство примеров дала пара rašity/parašity «писать/написать», и столь высокая доля, приходящаяся на данную пару, может легко исказить реальную картину. Но даже если мы вычтем случаи употребления этих двух глаголов и, таким образом, «очистим» данные из табл. 4, разница в распределении все равно удерживается на высоком уровне; тогда χ2 = 7,63 > χ2 0,01; f=1 = 6,64.
После такого отрицательного вывода мы остаемся без ответа на вопрос о том, какую функцию выполняют причастия от приставочных «парных» глаголов. Если верно, что лексически они не отличаются от исходных глаголов (основ), а их приставкам приписывается перфективирующая функция, то как они «согласовывают» эту функцию с (утверждаемой[12]) общей функцией полупричастий указывать на одновременность действий? И нельзя ли все-таки отметить какое-либо распределение функций между полупричастиями обоих глаголов в паре, не сводимое к лексическим различиям?
Посмотрим на следующий пример[13]:
(9) Šio laikotarpio nacionalizmas gavo tradicinio nacionalizmo pavadinimą. Jo būdingas bruožas buvo iškėlimas ir garbinimas monarchistinės praeities ir tradicijų. Tačiau Liudvikas XVHI, Burbonų įpėdinis, užimdamas sostą, jau kreipėsi ne, kaip buvo tradiciniai įprasta, į «mano tautą», bet į «prancūzų tautą», pažadėdamas parlamentarinę vyriausybę ir užtikrindamas «viešas prancūzų teises».
(M. Mackevičius «Atsiminimai»)
«Национализм этого периода получил название традиционного национализма. Его характерной чертой было возвышение и преклонение перед монархическим прошлым и традициями. Однако Людовик XVIII, наследник Бурбонов, заняв/ занимая престол, уже обратился/обращался не к „моему народу“, как велел традиционный обычай, а к „французскому народу“, пообещав/обещая (при этом) парламентское правительство и дав/давая гарантию „всеобщих прав французов“».
Первую форму от глагола класса ISTA (užmdamas) можно заменить на действительное причастие прошедшего времени (uzémçs), тем самым подчеркнув его ингрессивный компонент; в любом случае это полупричастие задает таксисное соотношение. Однако временнóе соотношение собственно интересующей нас формы paŽadėdamas с финитным глаголом kreipėsi остается неопределенным: в принципе оно могло бы обозначить коинциденцию («обратился к народу, обещая/пообещав»), но в данном контексте такое прочтение маловероятно потому, что нельзя обратиться к адресату, одновременно произнося его имя и тем самым обещая ему что-то. Перед нами здесь, скорее всего, последовательность речевых действий: «обратился к народу и пообещал».
Подобные наблюдения можно сделать и на основе многих других случаев, встретившихся при просмотре данных корпуса. Ср. еще один пример:
(10) Ir vis dèlto jie grąžino skundus atgal. Pridéjo kažkoki¸ geltoną lapą ir grąžino. paaiškindami, kad visa tai jis turés perduoti vietinei valdžai (B. Radzevičius «Vakaro saulé»)
«И все-таки они вернули жалобы назад. Приложили какой-то желтый листок и вернули (их), пояснив/поясняя, что все это ему придется передать местным властям».
Следует ли заданное полупричастием paaiškindami (от приставочного глагола paaiškinti <= aiškinti «пояснять, выяснять») и финитным глаголом grçzino соотношение понимать как последовательность («когда вернули… пояснили») или как наступление события «пояснили» на фоне «возвращали»? Ни полупричастие, ни финитное сказуемое[14] не позволяют решить этот вопрос однозначно. Более того, вполне возможно акционально диффузное чтение: «возвращали / вернули…, причем пояснили».
В связи с этим укажем на одно любопытное обстоятельство: полупричастия могут употребляться, подчиняясь финитным глаголам, которые задают замкнутый промежуток времени. Ср. пример (11), в котором полупричастие atsakinédama «отвечая (на разные вопросы)» подчинено сказуемому — форме глагола pasèdèti; этот глагол обозначает непредельный процесс, а приставка разводит лишь внешнее, чисто временнóе ограничение:
(11) <…> Amalija atsega sūnui šiltus marškinius, nutraukia vilnones kojines. — Laikas į lovelę. — Mamyt, vasarą nuvažiuosim prie to kalno? — Žinoma. — Ir tėtis kartu? — Aišku. Amalija paguldo sūnų, valandėlę pasėdi šalia jo lovytės, atsakinėdama į mažiaus klausimus, kai sūnus pasiverčia ant šono, užmerkia akis, Amalija pataiso ant jo pečių antklodę, tyliai grįžta į virtuvę <…> (B. Kmitas «Svajonių vėjai»)
«Амалия расстегивает сыну теплую рубашку, снимает шерстяные носки. — Пора спать. — Мам, летом мы поедем к той горе? — Конечно. — И папа с нами? — Конечно. Амалия укладывает сына спать и сидит недолго у его кроватки, отвечая на вопросы малыша; когда сын поворачивается на бок, закрывает глаза, Амалия поправляет одеяло на его плечах, тихо возвращается на кухню <…>»
Это пример настоящего нарративного, в котором последовательность действий подчеркивается нанизыванием финитных глагольных форм с перфективирующими, по большой части «лексически опустошенными» приставками. Замечательно в этом примере то, что pasėdi «посидит» задает инклюзивный интервал, который, так сказать, заполняется мультипликативными действиями (atsakinėdama). Вместе с тем, трудно представить себе, как замкнутый интервал, который по сути дела мыслится как «нерасщепляемый» на более мелкие интервалы, может допускать при себе подчиненный предикат, который как раз этот интервал расчленяет на такие подинтервалы. Соотношение представимо как: pasėdi… atsakinėdama ≈ «сидит…, некоторое время отвечает на (разные) вопросы». Русские деепричастия подобного (а также обратного, см. ниже) соотношения принципиально не допускают.
Как бы обратную сторону того же явления представляют случаи, в которых сами полупричастия образованы от глаголов с «делимитативной» приставкой pa-. См. пример (12), где идет речь о многократной ситуации с полупричастием глагола pažaisti и в котором этот глагол является приставочным «делимитативом» от žaisti «играть»:
(12) Kartais trumpais teptuko prisilietimais jis dėjo ant kartono storą dažų sluoksnį, pažaisdamas Šviesos efektais, lyg prisimindamas jaunystės bandymus. Koloritas, palyginti su Lietuvos laikotarpio tapyba, tapo šviesesnis. (Z. Žemaitytė «Adomas Varnas: Gyvenimas ir kūryba»)
«Иногда быстрыми прикосновениями кисти он намазывал [букв, „клал“] на картон толстый слой краски, играя/поигрывая световыми эффектами и как будто вспоминая опыты юности. По сравнению с творениями литовского периода колорит стал светлее».
Здесь pažaisdamas — сопровождающее действие, которое происходит каждый раз, когда производится «главное» действие (dėjo «клал»). В этом соотношении можно увидеть коинциденцию, но на нее накладывается обозначение нелокализованного во времени попутного действия («время от времени, иногда»). Здесь можно было бы употребить также полулричастие от производящего глагола žaisti, причем именно в функции коинциденции, но оно уменьшало бы образность рисуемой картины, поскольку утрачивается функция временнóй делимитации, внесенной здесь приставкой ра-. Благодаря ей pažaisdamas, в отличие от žaisdamas, производит эффект «экземплярной наглядности». Этот эффект был бы свойствен и финитной форме того же глагола в наст. вр. (pažaidžia): dėjo… pažaisdamas ≈ «клал/накладывал… каждый раз поиграв». Из такого сопоставления полупричастий обоих парных глаголов вытекает, что в полупричастиях не теряются те функции, которыми характеризуются и отличаются друг от друга соответствующие глаголы в финитном употреблении.
То же различие между полупричастиями от бесприставочного непредельного глагола и от приставочного его «делимитати-ва» можно отметить в следующем примере:
(13) Turi nusipirkęs dešros, duonos ir mineralinio vandens. Paskui atsiguls didžiajame kambaryje į sudedamą lovelę, susikiš rankas po galva ir gulės, galvodamas, kas i galva ateina — gal ką prisimindamas, gal apie ką pasvajodamas — ir klausysis tylos, kaimo tylos, kurios jis taip ilgėjosi gyvendamas miesto blokuose (R. Granauskas «Raudoni miškai»)
«У него уже куплено немного колбасы, хлеба и минеральной воды. Потом в большой комнате (он) ляжет на складную кровать, подсунет руки под голову и будет лежать, думая, что придет/приходит в голову — может быть, что-то вспоминая/вспомнив, может быть, о чем-то мечтая/помечтав — и будет вслушиваться в тишину, в тишину деревни, по которой он так тосковал, живя в городских блочных домах».
Полупричастие от глагола pasvsjoti «помечтать» служит как будто бы аппозитивным уточнением того, что названо финитным глаголом (kas) i¸ galva ateina «(что) приходит/придет в голову». Поэтому можно сказать, что здесь оно выполняет определительную функцию. Но помимо этого, с точки зрения временнóй структуры данного отрывка текста, действие, названное формой pasvajodamas, может лишь чередоваться как с действием, названным в главном предикате, так и с действием другого (синтаксически однородного) полупричастия prisimindamas.
Представленный здесь анализ случаев употребления полупричастий в текстах современной литовской художественной прозы и научно-популярной литературы следует считать весьма предварительным. Тем не менее, подобных случаев можно привести несметное количество. Поэтому наши наблюдения позволяют сделать вывод о том, что полупричастия от «парных» перфективных глаголов вообще не являются специализированными формами для выражения значений таксиса или коинциденции. Вместе с тем, у глаголов, называемых перфективными (лит. i¸vykio veikslo), нет принципиальных ограничений на использование полупричастий, которые по общей классификации принадлежат к причастиям наст, времени и, тем самым, к классу слов, приспособленных для обозначения таксиса одновременности.
Важнее то, что наблюдения, которые мы обсуждали выше, позволяют предполагать, что полупричастия литовского языка «копируют» акциональный потенциал тех глаголов, от которых они образовываются, сохраняя при этом все те различия, которые существенны для взаимодействия с грамматическим временем (особенно с настоящим временем). При этом их акциональные свойства не «нейтрализуются», а лексические отличия, которые приставочные «парные» глаголы обнаруживают по сравнению с производящими их основами, не уходят. Тем самым подтверждается вывод о том, что «выбор глагола из пары производящего — производного продолжает подчиняться практически полностью лексическому потенциалу каждого глагола» [Вимер 2001].
Такой вывод необходимо подкрепить дальнейшими детальными исследованиями, подвергая его, так сказать, верификационным испытаниям. Но уже сейчас можно продвинуться еще на один шаг вперед. В референциально-ролевой грамматике существует понятие «частичной нейтрализации» (restricted neutralization) семантических различий в определенных синтаксических условиях. Нейтрализация эта создает условия для синтаксической связности как на уровне предложения, так и между предложениями на уровне дискурса[15]. Например, если функцию подлежащего могут выполнять также те именные группы, которые не кодируют первый семантический актант сказуемого, то легко реализовать устойчивый топик даже тогда, когда семантический статус соответствующего референта в смежных предложениях меняется. Именная группа, находясь в позиции подлежащего, пользуется своего рода «синтаксическим приоритетом»[16]. Таким образом, пассив превращается в удобное техническое средство для поддержания одного и того же топика в длинных цепочках предложений, даже если он не всегда является первым семантическим актантом предиката (и прямое соотношение, действующее по умолчанию между уровнем семантических актантов и их синтаксической кодировкой, нарушается).
Аналогическое явление мы наблюдаем в области темпоральной (не синтаксической) связности между предложениями, если сопоставим поведение русских видовых пар и их наиболее близких эвкивалентов в литовском языке, выборочно анализированных выше. Критериями, нейтрализующими в четко определенных типах контекстов лексические («нетривиальные») различия между глаголом СВ и глаголом НСВ, вступающими в русском языке в парах, являются тривиальные условия парности (см. Вступление). Результаты анализа поведения литовских глагольных пар показывают, что с ними такой нейтрализации не происходит, т. е. каждый из «парных» глаголов во всех случаях сохраняет свои лексические особенности (какими бы тонкими они ни были), «не снимая» их в каких-либо категориальных условиях. Если в работе [Вимер 2001] это было показано прежде всего для финитных форм литовских глаголов, то результаты данного анализа обнаружили, что лексические и акциональные свойства литовских глаголов, организованных в морфологических парах, сохраняются для каждого также и в полупричастиях в тех условиях, когда их самые близкие русские и польские эвкиваленты, деепричастия, выявляют частичную нейтрализацию для нужд коинци-денции.
Таким образом, нейтрализация лексических («нетривиальных») и акциональных различий между глаголами, соотнесенными как морфологические и семантические производное и производящее, стоит рассматривать как своего рода пробный камень
«Equi-NP deletion», в «контроле» за рефлексивизацией и за одно- или разнореферентностью в сочетаниях с инфинитивными пропозициональными актантами и т. д. См. подробнее [Van Valin, LaPolla 1997:264 ff.].
для проверки грамматикализованное™ видовых оппозиций. Пары в литовском языке условиям подобной нейтрализации, видимо, не удовлетворяют.
Список условных сокращений
TTER тотально-терминальные глагольные лексемы
GTER градуально терминальные глагольные лексемы
ISTА инцептивно-статальные глагольные лексемы
АСТI беспредельно-процессные глагольные лексемы
Богуславский И. М. О семантическом описании русских деепричастий: неопределенность или многозначность?// Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36. № 3.
Бондарко А. В. Таксис // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А. В. Бондарко. Л., 1987.
Вимер Б. Аспектуальные парадигмы и лексическое значение русских и литовских глаголов: Опыт сопоставления с точки зрения лексикализации и грамматикализации // Вопр. языкознания. 2001. № 2.
Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
Коротаева Э. И. Из наблюдений над деепричастным оборотом // Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента АН СССР В. И. Борковского / Отв. ред. Ф. П. Филин. М., 1971.
Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // Очерки по аспектологии. Л., 1984 [репр. ст. 1948 г.: Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. Т. 7. Вып. 4].
Breu W. Komponentenmodell der Interaktion von Lexik und Aspekt // Girke W. (Hrsg.). Slavistische Linguistik, 1995. Milnchen, 1996. (Slavi-stische BeitrSge. Bd 342).
Breu W. Семантика глагольного вида как отвлечение от предельных свойств лексем (иерархическая модель компонентов) // Семантика и типология славянского вида II / Ред. Ст. Кароляк. Krakôw, 1997.
Breu W. Zur Position des Slavischen in einer Typologie des Verbalaspekts (Form, Funktion, Ebenenhierarchie und lexikalische Interaktion) // Breu W. (Hrsg.). Problème der Interaktion von Lexik und Aspekt (ILA). Tübingen, 2000. (Linguistische Arbeiten, 412).
Koschmieder E. Durchkreuzung von Aspekt- und Tempussystem im Prâsens // Zeitschrift ftir Slavische Philologie. 1930. Bd 7.
Lehmann V. Aspekt // Jachnow H. (Hrsg.). Handbuch der sprachwissenschaft-lichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Wiesbaden, 1999.
Lehmann V. & Hamburger Studiengruppe. Interaktion chronologischer Fak-toren beim Verstehen von Erzâhltexten (Zur Wirkungsweise aspektuel-ler anderer und Defaults) Il Kempgen, S. (Hrsg.). Slavistische Linguistic 1992 (Referate des XVIII. Konstanzer Slavistischen Arbeit-streffens Bamberg 14.—18.9.1992). München, 1993. (Slavistische Bei-trâge, 304).
Rüîiâka R. Studien zum Verhâltnis von Syntax und Semantik im modemen Russischen I. Berlin, 1980.
ValeckienèA. Funkcinè lietuviq kalbos gramatika. Vibius, 1998.
Van Valin R. D. Jr., LaPolla R. J. Syntax. (Structure, meaning and function). Cambridge, 1997.
А. П. Володин
Проспект позиционной грамматики[17]
0.1. Базовые понятия морфологического анализа были выработаны в ходе многовековой исследовательской традиции на материале индоевропейских языков. Это прежде всего само понятие морфемы как элементарного (простого, далее неделимого) языкового знака и разного рода классификации морфем. Важнейшими из них являются содержательная классификация морфем (корни и аффиксы) и позиционная классификация аффиксов относительно корня. Эмпирической базой индоевропейских языков были обеспечены такие позиционные группировки аффиксов, как префиксы, инфиксы и суффиксы (или постфиксы); понятия «циркумфикс» (неразрывающая прерывная морфема, представленная и в индоевропейских языках) и «трансфикс» (разрывающая прерывная морфема, характерная для семитских языков) вошли в научный обиход общей морфологии позднее, см. [Мельчук 1963]. Кроме того, традиционная позиционная классификация аффиксов включает еще термин «окончание» или «флексия»— важнейшее понятие для индоевропейской морфологии. По этому параметру индоевропейские языки характеризуются как «флективные» или «флектирующие». Предложенный Э. Сепиром для типологической характеристики индоевропейских языков термин «фузия» [Сепир 1934] до сих пор не стал общепринятым, хотя наименование «фузирующие языки» представляется более адекватным, входя в ряд противопоставлений с языками агглютинирующими и изолирующими.
Функциональная классификация морфем предполагает их деление на разные группы по участию в построении словоформы. По этому параметру аффиксальные морфемы делятся на словообразовательные и словоизменительные (деривационные и реляционные). Эта классификация представляется недостаточной и неполной, поскольку классифицируются только аффиксы. В современной морфологии функциональная классификация морфем предполагает их деление на обязательные и необязательные. В общем случае обязательными морфемами являются корни, аффиксы же могут быть как обязательными, так и необязательными.
0.2. С учетом сказанного предельно обобщенная модель индоевропейской словоформы может быть представлена в следующем виде:
(1) (m)+(r)+R+(m)+F
Нотация: R — корень, F — флексия, тm— аффикс (левее R — префикс, правее — суффикс). Знак (m) предполагает, что в данных позициях аффиксов может быть более одного. Знак (г) отражает наличие в индоевропейской словоформе композитивного механизма, ср. ниже, 0.4. В модели не отражена инфиксация, как не характерная для современных индоевропейских языков.
Прописными буквами выделены обязательный элементы. Модель представляет собой цепочку; тем не менее, индоевропейская словоформа традиционно делится на две части — основу и окончание (флексию). Языки, имеющие флексию и не имеющие ее, противопоставлялись как «органические» и «механические». Этот «лингвистический расизм» был преодолен уже в XIX в., но, тем не менее, еще А. А. Реформатский противопоставлял агглютинацию и фузию как две «тенденцию» морфологического конструирования и различие между ними выражал формулой: фузионная словоформа есть бином, агглютинативная — цепочка [Реформатский 1965].
0.3. Я полагаю, что все языки, имеющие морфологию, могут быть разделены по позиционному параметру на две группы, в зависимости от присущих им моделей словоформы:
(2) R+(m),
(3) (m)+R+(m).
Модель (2) предполагает, что в данном языке слово регулярно начинается с корня. Вся грамматическая информация, передаваемая обязательными аффиксами, располагается начиная с правой границы словоформы. Эта модель распространена в Евразии: тюркские, тунгусо-маньчжурские, монгольские языки, а также японский и корейский. В Америке, кроме эскимосско-алеутских языков, такую же модель словоформы имеет язык кечуа (Боливия, Перу, Эквадор).
Модель (3) не предполагает, что в данном языке слово регулярно начинается с аффикса, но оно может начинаться с аффикса; это модель с нефиксированной позицией корня. Грамматическая информация в языках этого типа предшествует корню в глагольных словоформах (показатели лица, времени и наклонения), а иногда и в именных словоформах (показатели посессивности). Эта модель распространена в Северной и Южной Америке, а также в Африке (языки банту). В Евразии она представлена отдельными островками, специально об этом см. [Володин 2001]. Теоретически возможна модель словоформы
(4) (m)+R,
но вряд ли она реализуется в каком-либо конкретном языке. Корень — слишком важный компонент, чтобы регулярно замыкать словоформу. Есть языки, где корень сдвинут почти к самой правой границе словоформы (таков, например, кетский язык, ср. ниже, 1.3.3.), на уровне непосредственного наблюдения словоформы часто кончаются корнем, но в системе корень всегда «прикрыт» аффиксами. Выражение «префиксальные языки» не является точным термином.
0.4. Весьма существенным представляется наличие в системе языка композитивного механизма, который отмечается, в частности, в индоевропейских языках, ср. (1). Таким образом, вышеприведенные модели могут иметь следующие варианты:
(2а) (r)+R+(m)
(3а) (m)+(r)+R+(m).
Модель (2а) характерна для уральских языков, модель (3а) — для большинства палеоазиатских языков, распространена она и в американо-индейских языках, ср. ниже, 1.3.1–1.3.3. Развитие композитивного механизма может приводить к возникновению инкорпорации, т. е. к формированию организованных как словоформы единиц, которые возникают в речи (устной или письменной) для выражения тех или иных синтаксических отношений. Инкорпорация — не более чем частный грамматический прием, в качестве типологической характеристики этот термин неадекватен.
Инкорпорация представлена, например, в чукотско-корякских языках, она получила заметное распространение в современном финском языке; из числа индоевропейских языков инкорпорация может быть усмотрена в немецком.
0.5. Итак, индоевропейские языки, если рассматривать их с линейной точки зрения, характеризуются моделью словоформы типа (За); их существенное отличие от других языков состоит в том, что они имеют элемент F (флексия), морфему, в которой сосредоточена грамматическая информация. Это предполагает, что префиксы в индоевропейских языках являются деривационными элементами и как таковые относятся к числу необязательных. В агглютинирующих языках, характеризуемых моделями (3), (3а), словоизменительные, обязательные элементы могут располагаться левее корня.
Более точное изображение модели индоевропейской словоформы имеет вид:
(5) (m)+(r)+R+(m)+F+(m).
Некоторые морфемы могут располагаться в линейной цепочке словоформы после флексии; это случай достаточно редкий, но в модели он должен быть учтен. Знак (ш) взят в скобки, т. к. в этой позиции может встречаться боле одной морфемы, ср. русск.:
(6) про-йдь-ом (модель m+R+F) → про-йдь-ом-те (если — ом— окончание, то — те стоит после окончания) → про-йдь-ом-те-сь → про-йдь-ом-те-сь-ка.
Для постфлексионных элементов индоевропейской словоформы Р. О. Якобсоном был предложен термин аннекс, но он не привился. Современная русистика предпочитает термин постфикс.
1.0. Позиционная грамматика (варианты названия: дистрибутивный анализ, ранговый анализ, методика порядкового членения, грамматика порядков) возникла как средство морфологического анализа языков, имеющих ярко выраженную цепочечную структуру (агглютинирующие языки). Прежде чем оформиться в виде строгих моделей, позиционная грамматика должна была пройти неизбежный путь интуитивных догадок и поисковых построений «применительно к данному случаю». Примерами таких эмпирических построений являются работы Г. Алпарова на материале татарского языка [Алпаров 1927], Н. Ф. Яковлева и Д. Ашхамафа на материале адыгейского языка [Яковлев, Ашхамаф 1941], а также И. М. Дьяконова на материале мертвого шумерского языка [Дьяконов 1967]. Во всех перечисленных работах строятся позиционные модели (порядковые таблицы) словоформ описываемых языков. Все авторы обращают внимание на то, что анализируемые цепочки аффиксов упорядочены, «перемещать их бывает невозможно» [Алпаров 1927: 23]; все авторы подчеркивают, что позиция элемента в цепочке стабильна. Ср. в этой связи принципиально важное высказывание об адыгейском глаголе:
Сколько бы префиксов ни было в наличности в данной форме глагола, порядок этих префиксов всегда остается таким же, каким он был бы в максимально возможной, наибольшей по числу префиксов форме. Это позволяет разбирать по приведенным схемам порядок расположения префиксов в любой форме глагола [Яковлев, Ашхамаф 1941: 353].
Это замечание позволило в последствии И. И. Ревзину эксплицитно сформулировать различие между порядком элемента в цепочке (как величиной постоянной) и его квазипорядком (как величиной переменной) и определить порядок элемента как его максимальный квазипорядок относительно точки отсчета. Формализация, предложенная в работе [Ревзин, Юлдашева 1969], хронологически не первая. Ей предшествовала порядковая модель Г. Глисона, обобщающая опыт американских лингвистов, занимавшихся описанием аборигенных языков Америки [Глисон 1959]; но модель Глисона не свободна от некоторых недостатков и уязвима для критики.
Начиная с 60-х годов XX века в советской (впоследствии — в российской) лингвистике появляются работы, главным образом диссертационные, в которых приемы позиционной грамматики или грамматики порядков сознательно используются для описания глагольной морфологии различных языков. Среди них можно назвать работы по ительменскому языку [Володин 1966; 1976] по энецкому [Сорокина 1975], алеутскому [Головко 1984], алюторскому [Мальцева 1994], кетскому [Буторин 1995; Wemer 1997], по японскому [Алпатов 1983] и североамериканскому языку кламат [Стегний 1983]. Элементы позиционной грамматики применительно к материалу тунгусо-маньчжурских языков (эвенкийского и эвенского) использованы в работе [Недялков 1992]. (Список не претендует на полноту.)
Как принципиально новое применение позиционной грамматики следует охарактеризовать использование ее для анализа языков изолирующего типа: языка ниуэ [Полянская 1995], а также кхмерского и лаосского [Дмитренко 1998]. Если в ниуэ наблюдаются еще некоторые признаки агглютинации, то уж в кхмерском и лаосском никакой морфологии нет. С. Ю. Дмитренко исследует позиционное распределение минимальных знаков (аналогов морфем) в составе так называемой «глагольной группы», которая, как и синтетически организованная агглютинативная словоформа, представляет собой сложный знак.
1.1. На современном этапе развития позиционной грамматики ее основные постулаты могут быть сформулированы следующим образом.
1.1.1. Язык по своей природе линеен, поэтому всякий сложный знак есть упорядоченная цепочка простых (элементарных) знаков.
1.1.2. Поскольку цепочка упорядочена — последовательность составляющих ее элементов стабильна.
1.1.3. Если некоторый элемент в цепочке сложного знака отсутствует — его место вакантно.
1.1.4. Для определения значения того или иного элемента его позиция в цепочке может оказаться важнее, чем его экспонент.
Подход к сложному знаку как к линейно организованной цепочке снимает антиномию между языками, имеющими морфологию и не имеющими морфологии. Границы сложного знака определяются в обоих случаях совершенно недвусмысленно: в системе агглютинирующего типа это терминальные (левая и правая) морфемы, составляющие словоформу; в системе изолирующего типа это те же терминальные элементы (имеющие статус служебных слов), между которыми в строго определенной последовательности располагаются все прочие элементарные знаки, составляющие глагольную (или именную) группу. По-видимому, нет принципиальной разницы и между агглютинативной и фузионной системами, поскольку и та и другая имеют линейный характер.
1.2. Итогом позиционного анализа конкретного языкового материала является таблица, включающая полную дистрибуцию всех аффиксальных морфем относительно точки отсчета, которая может быть выбрана произвольно, в зависимости от целей исследования. Позиции (порядки) элементарных знаков обычно нумеруются, получая положительные или отрицательные номера. Если в данной системе любой сложный знак начинается с корня (левая терминальная позиция), то все прочие позиции естественно получают положительные номера. Если же корневой элемент, обычно принимаемый за точку отсчета, занимает в цепочке сложного знака нетерминальную позицию — порядки аффиксальных элементов нумеруются положительно (направо от корня) и отрицательно (налево от корня). Бывают случаи, когда корневой элемент в цепочке сдвинут к правой границе; в этом случае положительную нумерацию могут получать порядки аффиксов левее корня, т. е. те порядки, которых больше. Так сделано, например, для кетского языка, в котором левее корня выделяется 14 позиций, а правее — всего две [Буторин 1995:11] или три [Wemer 1997:155]; последние в обоих случаях нумерованы отрицательно. В позиционной модели кхмерской «глагольной группы» 18 «предкорневых» позиций маркированы отрицательно, а 5 позиций, следующих за нулевой, имеют положительные номера [Дмитренко 1998: 13–14]. Способ нумерации не имеет принципиального значения, ср. ниже, 1.3.2.
Итак, в результате дистрибутивного анализа мы получаем максимальную модель словоформы (или ее аналога в системе изолирующего типа). Не менее важным в позиционной грамматике является понятие минимальной модели.
1.3. Максимальная модель включает в свой состав от 20 до 30 позиций (порядков) — такое усреднение мы получаем, сопоставляя данные различных языков. Вероятно, самоочевидно то, что цепочка такой длины не может быть реализована в речи, тем более что максимальная модель практически всегда содержит взаимоисключающие порядки. В речи реализуются модели меньшей протяженности, из которых минимальными являются такие, которые содержат только обязательные элементы.
В системе изолирующего типа минимальная модель, по-видимому, всего одна — она включает в свой состав элементарный знак нулевого порядка, «ядро группы» [Дмитренко 1998: 14]. Для систем агглютинирующего типа обычно характерно наличие нескольких минимальных моделей словоформы.
Процитирую характеристику минимальной модели, которая, намой взгляд, наиболее адекватно отражает суть данного понятия:
В минимальную структурную модель (МСМ) словоформы входят морфемы обязательных порядков, заполненность которых составляет главное условие существования словоформы. Состав МСМ в значительной степени отражает не только структурные, но и семантические особенности строения языка [Стегний 1983: 13–14], (курсив мой. — А. В.).
Рассмотрим несколько примеров реализации минимальных моделей в конкретных языках. Рассматриваются модели словоформ финитного глагола (подкласс глагольных словоформ, выражающих независимый предикат).
1.3.1. Чукотский язык. В этом языке по способу спряжения различаются моно- и полиперсональные глаголы; следовательно, ожидаемое количество минимальных моделей должно быть не менее двух:
(7) Р+Т /М+R+А+Р/Num.
Такова минимальная модель моноперсонального глагола. Нотация: Р — лицо, Т/М — время-наклонение, А — вид, Num — число. Показатели Р фиксируются как в левой, так и в правой терминальной позиции, но в конкретной словоформе может быть представлена только одна из них — иными словами, эти позиции являются взаимоисключающими.
Для чукотского языка характерна модель (3а), ср. выше, 0.4; но компонент (r) здесь не показан.
Минимальная модель полиперсонального глагола должна иметь специальную позицию для лица/числа объекта (Рob), отдельную от позиции лица/числа агенса (Pag):
(8) Pag+T/М+Рob1 +R+Pob2+A+Pob3+P/Num.
Из (8) видно, что в модели представлено три позиции для показателей лица/числа объекта. Они являются взаимоисключающими, ср. следующие реализации:
В (9а), (9б) морфа — tэk соотнесена со значением агенса и, следовательно, занимает правую терминальную позицию P/Num, ср. 7; в (9в) она соотнесена со значением объекта и занимает позицию Рob3, ср. (8).
Минимальная модель словоформы императива в чукотском имеет следующий вид:
(10) T/M+R+A+P/Num.
Это модель моноперсонального глагола. В модели полиперсонального глагола должны быть добавлены дополнительно распределенные позиции Роb, ср. (8).
Исполнитель в императиве различается во всех лицах/числах:
В чукотском языке, помимо финитных глаголов, независимый предикат могут выражать формы так называемых предикативов, ср. [Володин 2000а]. Минимальная модель этих словоформ имеет следующий вид:
(12) M+R+in(e)+P/Num.
О морфологическом сегменте — in(e) см. ниже, 3.2.
Итак, в чукотском только финитный глагол имеет четыре минимальных модели словоформы. Учет минимальных моделей предикативов, имен и наречий существенно увеличит этот список.
1.3.2. Язык кламат. Этот язык полноценно (на уровне грамматики, словаря и текстов) обследован американским дескриптивистом М. Баркером в 60-е годы XX века. В максимальной позиционной модели насчитывается 25 порядков, маркированных цифровыми индексами слева направо, начиная с № 1 (левая терминальная позиция). Подобный способ нумерации свидетельствует о том, что Баркер (как истый дескриптивист) не был озабочен проблемой поиска точки отсчета в анализируемой системе и устанавливал дистрибуцию морфем, не разделяя их на корни и аффиксы. В модели Баркера выделяется три несмежных позиции, заполненные морфемами, которые могут быть квалифицированы как корневые:
Порядок 4: 91 морфема со значением «типового действия»
Порядок 7: 954 морфемы со значением «действия»
Порядок 10:123 морфемы со значением «направления» (цит. по [Стегний 1983: 18–19]).
Проблема установления минимальных моделей словоформы Баркера не занимала; для этого пришлось написать целую диссертацию, что и было сделано В. А. Стегнием в 1983 г. В этой последней работе установлено 8 минимальных моделей словоформы финитного глагола [там же: 15]. Поскольку в порядке 7 представлено наибольшее количество морфем, то следует ожидать, что именно эти морфемы больше других претендуют на статус корневых и именно порядок 7 должен быть представлен в любой словоформе. Тем не менее, это не так. Морфемы порядка 7 образуют глагольные словоформы (1) самостоятельно (в обязательном сочетании с морфемой порядка 23), (2) в сочетании с порядком 4, (3) в сочетании с порядком 10, (4) в сочетании с обоими названными порядками. Несколько конкретных примеров:
Наряду с этим фиксируются словоформы, не содержащие морфем порядка 7, но включающие морфемы порядков 4 и 10 или только порядка 4:
Ограничимся этими примерами. Они могут оставить невольное впечатление, что наивысшей степенью обязательности обладает порядок 23 — он представлен в любой из приведенных словоформ. Это порядок аффиксальный, но он занят показателями категории Т/М. Следует подчеркнуть, что в этой же позиции в кламат находятся показатели императива, различающие исполнителя второго и первого лица в ед. и мн. числе, ср. выше, (10), (11). Лицо в неимперативе выражается в кламат за пределами глагольной словоформы.
1.3.3. Кетский язык привлекается к сопоставлению отнюдь не по причине наличия в нем большого количества минимальных моделей. Вероятно, их не менее двух десятков (скорее даже более), этот вопрос еще не исследован. В кетском языке, как и в кламат, позиция корневой морфемы — не единственная и не стабильная. В максимальной модели, построенной Г. К. Вернером, таких позиций три: К1 (нулевой порядок, сдвинутый к правой границе словоформы), К2 и КЗ (порядки 12 и 13 соответственно) [Werner 1997:154–155]. Эта тройка составляет так называемую «рамку основы» (Stammrahmen); в максимальной модели С. С. Буторина соответствующие фрагменты определяются как «левое/правое составляющее базы», причем в правом составляющем (нулевой порядок) выделяются подпорядки «корень» и «полукорень». Это весьма существенное уточнение, которое подтверждает нестабильность позиции корня в глагольной словоформе кетского языка. В работе [Максунова 2002], единственной диссертации по кетскому, защищенной носительницей языка, — некритическое следование модели Вернера приводит к прямым курьезам. Например, у глагола «забывать» прерывная «основа» имеет вид эн-/-/-сюк в однократном способе действия и эн-/-/-сёк-н¸-да в многократном способе действия (выделены морфы, которым приписан нулевой порядок). Поскольку по Вернеру нулевая позиция всегда приписана крайней правой морфеме в цепочке «основы», то выходит, что у глагола «забывать» в разных способах действия — разные корни. Этот пример далеко не единственный. Подобные казусы, впрочем, в высшей степени полезны — они определяют направление для дальнейшего совершенствования и экспликации позиционной модели кетского языка. Возможно, для кетского языка, как и для языка кламат, целесообразнее было бы отказаться от идеи нулевого порядка.
1.4. Важным понятием позиционной грамматики является также понятие подпорядка, введенное Ревзиным. Этому понятию дается следующее определение:
Два элемента из одного порядка относятся к одному подпорядку, если в любой последовательности замена х на у и у на х приводит к правильной последовательности [Ревзин, Юлдашева 1969:46].
Далее совершенно справедливо замечено, что система тем проще, чем меньше подпорядков в каждом порядке. В имеющихся позиционных описаниях разных языков максимальная модель включает обычно немного подпорядков. Так, в кетской модели Буторина таких позиций (разделенных на подпорядки) всего 4 из 17 [Буторин 1995], а Вернер обходится вовсе без них [Werner 1997]. Правда, надо сказать, что три из четырех деленных на подпорядки позиций содержат показатели категории числа с нулевым экспонентом ед. числа— деление на подпорядки в данном случае вряд ли оправдано. Весьма продуктивно лишь деление нулевой позиции на подпорядки корня и полукорня, ср. выше, 1.3.3.
В модели алеутского глагола лишь одна позиция (порядок 27) разделена на четыре подпорядка: индикативный, оптативный, императивный и превентивный [Головко 1984: 15]. Подобное членение представляется чрезмерно детализированным. Если для выделения императива в отдельный подпорядок основания есть (собственная структурная модель словоформы), справедливо это и для превентива (специфический выбор показателей лица), то оптатив и индикатив, судя по приведенному материалу, ведут себя как морфемы одного подпорядка.
Модель языка кламат не содержит ни одного подпорядка, хотя порядок 23 явно нуждается в таком делении: помимо ряда морфем, которым вполне можно приписать категориальное значение модальности, есть в этой позиции «суффикс существительного» [Стегний 1983: 19]. Этот показатель, без сомнения, должен быть выделен в собственный подпорядок.
1.5. В модели узбекского глагола, представленной в работе [Ревзин, Юлдашева 1969], напротив, подпорядков излишне много. Они представлены в каждом порядке, даже в таких, как порядок 4, содержащий одну морфему — ма (отрицание). Этот порядок представлен в модели двумя подпорядками: 4.0 (нулевое заполнение — неотрицание) и 4.1 (состав его уже известен). В порядке 3, где представлены «каузативность» (подпорядок 3.1), «взаимность, совместность» (3.2), «пассивность» (3.3.), выделен и подпорядок 3.0, означающий отсутствие вышеперечисленных значений. Ревзин даже указывает, что нулевой аффикс есть в каждом порядке, и специально подчеркивает разницу между, скажем, нулевым аффиксом 3 л. ед. ч. (порядок 6) и большинством других нулей, которые означают лишь отсутствие данного значения. Далее сказано: «Рассмотрение порядков дает возможность внести существенные уточнения в трактовку нулевого знака» [там же: 52].
Предложенный в этой работе способ экспликации позиционной модели не нашел продолжателей. Все авторы, перечисленные выше (ср. 1.0), отдают себе отчет в том, что лингвистический нуль есть не простое, а категориально значимое отсутствие, за нулевым экспонентом всегда стоит совершенно конкретное значение одного из членов той или иной парадигмы. Отсюда следует, что нулевая морфема возможна только в обязательных (реляционных) позициях, а приписывать нули там, где никакого значения нет, а есть лишь его отсутствие, — на мой взгляд, совершенно не нужно.
Следует вообще воздерживаться от соблазна «плодить лишние нули». Например, в чукотско-корякских языках (ср. выше, 1.3.1) левая и правая терминальные позиции в модели глагольной словоформы, занятые показателями категорий Р и Р/Num соответственно, нулевых морфем не имеют, равно как не имеют их позиции, занятые показателями Рob. Личное спряжение в чукотско-корякских языках организовано строго дистрибутивно: маркируется либо левая, либо правая терминальная позиция. Лишь в одной точке парадигмы лицо не выражено вообще никак, ср. чукотск.:
2.1. Согласно постулату 1.1.2 (ср. выше, 1.1), последовательность позиций, составляющих цепочку сложного знака, стабильна. Это значит, что любой элементарный знак в цепочке должен занимать только один, приписанный ему порядок, маркированный определенным цифровым индексом. Знаки с одинаковым экспонентом, занимающие разные порядки, которые не являются взаимоисключающими — могут быть зафиксированы в составе одной конкретной цепочки словоформы, но при этом они будут иметь разные значения. Ср. данные чукотского языка:
Морфа — ra- в обоих случаях занимает один и тот же квазипорядок (ср. выше, 1.0, также ниже, 4.1) как относительно левой границы словоформы, так и относительно корня (морфа — от-), но порядки у морфы — ra- разные. В (16а) она соотнесена со значением футура, в (16б) — со значением дезидератива, который выражается циркумфиксом:
Возможно сочетание этих двух показателей в составе одной словоформы:
Здесь — ra1 имеет футуральное значение, — ra2- дезидеративное значение.
Аналогичная картина наблюдается в ительменском языке:
В данном случае — al1- имеет значение дезидератива, — аl2— футуральное значение. Они разделены показателем имперфективного вида — qz(u) — и не могут, как в чукотском, занимать смежных позиций.
Такого же рода случай обнаруживается в максимальной модели глагольной группы в изолирующем кхмерском языке: элементарный знак nωη в порядке -18 соотнесен со значением футура, в порядке -5.2 тот же по экспоненту знак является «маркером грамматической связи между служебным глаголом и ядром ГГ» [Дмитренко 1998: 10]. Все эти факты трактуются как омонимия и принципа стабильности не нарушают.
2.2. В то же время могут наблюдаться явления, определяемые как «относительно свободный порядок следования морф» [Асиновский и др. 1987: 42]. Этот случай может быть иллюстрирован данными алеутского языка:
(18а) книгиис хила-ака-ма-ку-x¸
«книгу читать-может-тоже-он»;
(18б) книгиис хила-ма-ака-ку-x¸
«книгу читать-такую-же-может-он».
Элементы — ма- и — ака- меняются местами, меняя при этом значение словоформы, в цепочку которой они входят. В алеутском языке это далеко не единственный случай. Как явствует из максимальной модели глагольной словоформы, три порядка (12, 15, 21) могут быть заполнены морфемами со значением фазовости, потенциальности, интенциальности в свободной последовательности, определяемой намерением говорящего, в зависимости от семантического устройства словоформы. Эти факты «дают основания для сближения морфологической структуры слова с семантической структурой предложения» [Головко 1984: 12]. Важно, что значение перечисленных морфем (в (18) их представляет суффикс — ока- «мочь/долженствовать») не меняется с меной их позиции в словоформе. То же можно сказать о суффиксе — л/а-, который в (18а) занимает порядок 22, а в (18) — порядок 9: его значение в принципе инвариантно («тоже», «такой же»), хотя и приобретает в разных позициях собственные оттенки.
И в данном случае, как кажется, можно констатировать, что принцип стабильности в общем не нарушается. «Относительная свобода следования морф» ограничена точно названными участками цепочки, получает разумное и достаточное объяснение. Подобные вещи, по-видимому, возможны только в языках, где слово (а) всегда начинается с корня, (б) композиция запрещена (ср. выше 0.3, 0.4). Подобные языки принято называть «полисинтетическими», но этот термин, как и «инкорпорирующие», типологической характеристикой не является.
3.1. Что касается постулата 1.1.4 (см. 1.1), то его можно переформулировать так: теряя свою позицию, элементарный знак теряет и свое значение, которое он имел в данной позиции. Сохранение значения при перемене позиции характерно, как мы видели на примере алеутского языка, только для морфем необязательных порядков. Обязательные морфемы, входящие в минимальную модель словоформы (ср. выше, 1.2), имеют в цепочке словоформы стабильные позиции. Сдвинуться они могут только в одну из необязательных позиций, ср. данные финского языка:
(19а) oike-us «право» →
(19б) oike-ude-n (форма родительного падежа) →
(19в) oike-ude-n-muka-isu-us «справедливость» →
(19 г) oike-ude-n-muka-isu-ude-n (форма родительного падежа).
Морфологический сегмент — n, соотносимый со значением генитива, имеет это значение только в правой терминальной позиции, ср. (19б), (19 г). В композитных словоформах (19в), (19 г) — n, разумеется, генитивного значения не имеет.
Вот еще один пример, из русского языка:
(20) пред1 — у-пред2-и-л-ø.
В словоформе два морфологических сегмента — пред-, но корневое значение имеет один из них, — пред2-. Сегмент — пред1- сдвинулся в необязательную позицию, что позволяет элиминировать его, не разрушая словоформы:
(20а) у-пред-и-л-ø (например: упредил противника).
3.2. Отдельно следует упомянуть случай, когда морфема, квалифицируемая как обязательная, может занимать разные позиции в цепочке и сохранять при этом некоторое общее, инвариантное значение. Такова чукотская морфема ine/ena, которая фиксируется в принципиально разных позициях: как левее корня, так и правее его. Выделение этой морфемы в минимальной модели полиперсонального глагола дает следующую картину:
(21) Раg/ine3+Т/М+ine2+R+Роb2+А+Роb3/ine1 + Рag/Num.
Это — так называемая обобщенная модель, ср. выше (8): в ней присутствуют только обязательные позиции, но поскольку позиция Рob представлена тремя взаимоисключающими квазипозициями, то в конкретной словоформе полиперсонального глагола может наличествовать только одна из этих квазипозиций, ср. (9). Сочетание разнопорядковых те в словоформе современного финитного глагола запрещено. Проблеме морфемы ine/ena посвящена специальная работа, см. [Володин 2000б], где предпринимается попытка диахронического анализа. Цифровая маркировка морфы ine справа налево связана с гипотезой формирования глагольной системы в чукотско-корякских языках. Из (21) следует, что ine3 занимает позицию лица агенса, ine2 и ine1 — взаимоисключающие позиции лица объекта, причем ine2 ассоциирован со значением 1SG (меня), ine1— со значением 3SG/3SG (он-его). В современных чукотско-корякских языках морфы ine3 и ine1 имеют вид соответственно ne-/na- и — nin(e) и обнаруживаются только при диахроническом анализе. В левой терминальной позиции морфа ne-/na- (ine3) ассоциирована со значением прежде всего 3PL (они), но означает не собственно лицо, а то, что агенс ниже пациенса в «иерархии активности» или в «дейктической иерархии», ср. [Comrie 1980; Кибрик 1997]. В этих работах делается синхронный анализ, но тем не менее некоторые выводы имеют важное значение и для диахронии, например: «иногда само значение морфемы кодирует не некоторую семантическую константу, а ее переменный маркированный статус» [Кибрик 1997: 56]; (курсив мой. — А. В.). Однако применительно к ine/ena можно говорить и о некотором семантическом инварианте. М. Фортескью предложил удачную формулировку исходного значения этого элемента: «pertaining to» («имеющий отношение к») [Fortescue 1993:19, footnote 16].
В случае с ine/ena встает вопрос, идет ли речь об одной морфеме или о нескольких омонимичных морфемах, как чукотск. — ra- (ср. (17)) или ительменск. — aj- (18). Я полагаю, что это одна морфема. Специфика ее состоит в том, что, имея своим планом содержания общее указание («имеет отношение к»), эта морфема маркирует те категориальные значения, которые характерны для данной позиции в линейной цепочке словоформы.
4.1. В заключение суммируем основные понятия позиционной грамматики.
Максимальная модель словоформы — полная дистрибутивная развертка элементарных знаков, составляющих линейную цепочку сложного знака. Обычно это словоформа финитного глагола, но возможно и построение максимальных моделей для именных словоформ [Алпаров 1927; Володин 1976; Werner 1997].
Минимальная модель словоформы — модель, состоящая из обязательных элементов данной системы.
Квазипорядок элемента — позиция элемента в словоформе, данная в непосредственном наблюдении, величина переменная относительно точки отсчета.
Порядок элемента — позиция элемента в словоформе, установленная в результате дистрибутивного анализа и маркированная цифровым индексом, величина постоянная относительно точки отсчета.
Подпорядок элемента — ситуация, в которой элементы, занимающие в модели словоформы один порядок, представляют разные (обычно семантически близкие) категориальные значения (примеры см. в 1.4).
Нулевой порядок — позиция элемента, принимаемого за точку отсчета в максимальной модели; это не обязательно позиция корневого элемента, ср. 1.3.2,1.3.3.
Обобщенная модель словоформы — способ представления линейной организации словоформы, учитывающий распределение информации относительно корневого элемента и границ словоформы либо с учетом только деления на корни и аффиксы (примеры предельно обобщенных моделей: (1–4), либо с учетом всех категориальных позиций, примеры (7), (8), (21)).
Термины «позиция» и «порядок» синонимичны не вполне. Словоупотребление «порядок» предполагает упоминание точного числа, присвоенного месту элемента в максимальной модели; для словоупотребления «позиция» это не обязательно.
Алпаров Г. Об агглютинативной особенности татарского языка // Вестник научного общества татароведения. 1927. № 7.
Алпатов В. М. Проблемы морфемы и слова в современном японском языке: Автореф. дис…. докт. филол. наук. М., 1983.
Асиновский А. С., Володин А. П., Головко Е. В. О соотношении экспонента морфемы и ее позиции в словоформе (к постановке вопроса) // Вопр. языкознания. 1987. № 5.
Буторин С. С. Описание морфологической структуры финитной глагольной словоформы кетского языка с использованием методики порядкового членения: Автореф. дис… канд. филол. наук. Новосибирск, 1995.
Володин А. П. Глагол в ительменском языке: Автореф. дис… канд. филол. наук. Л., 1966.
Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976.
Володин А. П. Общие принципы развития грамматической системы чукотско-корякских языков // Язык и речевая деятельность. СПб., 2000а. Т. 3.
Володин А. П. О «блуждающей морфеме» INE/ENA в чукотско-коряк-ских языках (опыт диахронической интерпретации) // Вопр. языкознания. 2000б. № 6.
Володин А. П. Мысли о палеоазиатской проблеме // Вопр. языкознания 2001. № 4.
Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
Головко Е. В. Морфология глагола алеутского языка: Автореф. дис… канд. филол. наук. Л., 1984.
Дмитренко С. Ю. Глагольная группа в языках Юго-Восточной Азии (на материале кхмерского и лаосского языков): Автореф. дис…. канд. филол. наук. СПб., 1998.
Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967.
Кибрик А. Е. Иерархии, роли, нули, маркированность и «аномальная» упаковка грамматической семантики // Вопр. языкознания. 1997. № 4.
Максунова 3. В. Словосложение в кетском языке в сравнительно-историческом освещении: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Томск, 2002.
Мальцева А. А. Морфология глагола в алюторском языке: финитные формы (с применением методики порядкового членения): Автореф. дис…. канд. филол. наук. Новосибирск, 1994.
Мельчук И. А. О «внутренней флексии» в индоевропейских и семитских языках // Вопр. языкознания. 1963. № 4.
Недялков И. В. Залог, вид, время в тунгусо-маньчжурских языках: Автореф. дис…. докт. филол. наук. СПб., 1992.
Полинская М. С. Язык ниуэ. М., 1995.
Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д. Грамматика порядков и ее использование // Вопр. языкознания. 1969. № 1.
Реформатский А. А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965.
Сорокина И. П. Морфология глагола в энецком языке: Автореф. дис… канд. филол. наук. Л., 1975.
Стегний В. А. Морфологическая структура глагола в языке кламат: Автореф. дис…. канд. филол. наук. М., 1983.
Сэпир Э. Язык. М., 1934.
Яковлев Н. Ф. Ашхамаф Д. Грамматика адыгейского литературного языка. М.; Л., 1941.
Сотпе В. Inverse verb forms in Siberia. Evidence from Chukchee, Koryak and Kamchadal // Folia linguistica historica. Acta societatis linguisticae European 1980.1/1.
Fortescue M. The origins of Chukotko-Kamchatkan verbal paradigms. MS, 1993.
Werner H. Die ketishce Sprache. Wiesbaden, 1997.
S. V. Voronin
Towards a phonosemantic typology of rl-multiplicatives (a case study of iconicity in grammar)
The universal functional-semantic category of plurality, or multiplicity [Xrakovskij 1989; cf. Dressier 1968; Maslov 1978] is expressed by a variety of lexical and grammatical means.
One of the best known among these is reduplication (alias doubling, duplication, repetition, multiplication), which has been studied at some length (see e. g. [Brandstetter 1917; Gonda 1959; Uhlenbeck 1953; Yelovkov 1977; Alieva 1980; Morev 1991]). Reduplication as an absolute language universal (cf. [Greenberg 1966]) has long been found to be iconic ([Sapir 1921; Gonda 1940; Makarenko 1970; Jakob-son 1971; Gazov-Ginzberg 1974; Long Seam 1975; Ogloblin 1980]).
There is, however, another universal (albeit, it seems, non-absolute) that, like reduplication, expresses plurality. This is what I call «RL-formatives» [Voronin 1980]: (inter alia) the frequentative English end formatives — er, — le, or Bashkir — yr, — yl, or Indonesian infixal — er-, -el-.
I contend that RL-formatives are, in origin, iconic (cf. [Voronin 1982: 118]). I term multiplicative verbs with RL-formatives «RL-multiplicatives».
The workings of iconicity in lexis and text (especially in poetry) have been studied in extense, whereas its workings in grammar can claim only a limited number of studies. Few grammarians, aware of the importance of iconicity, have accorded the problem its due. Of these few, mention should be made here of A. A. Xolodovič [Xolodovič 1954: 19If], conductive to launching G. A. Pak's dissertation [Pak 1958] on Korean onomatopes and sound-symbolic words, V. S. Xrakovskij [Xrakovskij 1989: 26, 28 n. 19—cf. 1997: 28, 63 n. 19], citing some of the findings of phonosemantics, D. M. Nasilov [Nasilov 1989: 129–133], discussing Turkic aspectology and iconic verbs, and I. B. Dolinina [Dolinina 1989, 1997]. Generally the none-too-numerous attempts to pick up the unorthodox hot potatoes of ico-nicity in grammar were met with hostility, suspicion and inept criticism or were high-handedly bypassed in silence.
Special research has shown, however, that cases of iconicity in grammar are numerous, and they deserve serious consideration. It is no freak of fate that when the issue of «natural classification» (i. a. in grammar) arises, the issue of iconism would be lurking there, waiting to be dealt with. So in the «natural classification» of the system of meanings belonging to the universal functional/semantic category of plurality — a classification evolved by V. S. Xrakovskij and his colleagues in the ground-breaking monograph «Typology of Iterative Constructions» (1989 — in Russian; 1997 — in English).
According to G. P. Melnikov [Melnikov 1989: 19], typological conceptions proclaiming the primate of solely formal or solely conten-sive characteristics are aspectuative, and it is approaches aiming at uncovering the laws of «matching», of interdependance, implicative relations in the system that are conducive to synthesis of newly discovered and earlier amassed knowledge. I hold that ignoring possible iconicity we basically ignore implicative relations, we ignore casuality. Exclude probing iconicity — and you largely exclude in-depth understanding, the cognitive retrospective (casuality) and the cognitive perspective (heuristics).
RL-multiplicatives (i. e. iterative verbs with r or / as for-matives) are a graphic illustration of iconism in grammar [Jespersen 1928; Gonda 1940; Gazov-Ginzberg 1965]. In Modem English, for instance, almost three fourths of its RL-verbs are in origin onomatopoeic or sound-symbolic, and — er, — le are not (contrary to the standard opinion) dead suffixes — they are living suffixes, still fairly productive: witness N. Bartko [2001]. As V. S. Xrakovskij [1997: 28] notes, «One of the universal features of lexical multiplicatives (and semelfac-tives)… is that they are predominantly, if not solely, onomatopoeic by origin…The authors approach this problem from grammatical point of view. Earlier I approached this from a general typological point of view [Voronin 1980; 1982], cf. [Voronin, Bartko 1999]. I now approach this specifically from the vantage point of phonosemantic typology.»
Literary sources usually point out the fact that these formatives are connected with the sphere of onomatopoeia and sound symbolism. Wilmanns [1896: 93,98], for instance, states that German verbs in — em chiefly denote repeated, rapid and brief movements, and aural and visual impressions of such movements, and «a large number of them are onomatopoeic formations [plätschem „splash“, stottem „stutter“, glitzem „glitter“)». Kluge [1913: 10] observes that Old Germanic verbs with the suffix — arôn (as in OHG flogarôn «flutter») always denote movement, noise and light.
The significant role of iconicity in RL-formatives is noted i. a. by Paul [1959: 119,121], Schmidt [1964: 122], Fleischer [1983: 321–322] for German, Hummelstedt [1939: 133], Wessén [Wessén 1970: 110] for Swedish, Rijpma, Schuringa [1971: 147] for Dutch. De Vooys [1967: 247], in his study of Dutch onomatopoeic and sound-symbolic expressivism, writes that «frequentatives» (iteratives) «could have been, from the very beginning… a product of what Paul called Uhrschöpfung».
Thus the sphere of Germanic iterative RL-formatives is vocabulary that in origin is iconic (words like those for sound, movement, light, speech, physical and emotional states are a prominent and universally acknowledged part of the iconic lexis), and the stems of RL-formatives are in origin iconic.
However, the iconic nature of the stem in these verbs is not sufficient ground to pass judgement on the nature and origin of the RL-formatives themselves. Some authors speak of their inherent iconicity. Marchand, for instance, observes: «Words in — er are compounds of several symbolic elements, one of which is final — er» [Marchand 1969:
273]; «Like — er, — le is not a derivative suffix proper from existing roots. <…> Many verbs have probably never had a simple root without the /l/ element…» [ibid: 323].
It is usually noted that modem Germanic RL-suffixes go back to West-Germanic and Scandinavian secondary suffixes (a result of metanalysis) with the determinatives — r-, — l-, OS, OHG — arô-, -aiô-;OIcel — ra, — la Guxman [1966: 201]; it is also noted that determinatives that belong to the compound secondary suffix are, in origin, — and this is important — part of the underlying stem — they actually are its final consonant Belyaeva [1965: 128]. We thus have in evidence two facts of the utmost importance: the iterative RL-formative is, in origin, part of the underlying stem; this stem is iconic in nature.
All this brings us to the conclusion: Germanic iterative RL-for-matives are iconic in origin, and their nature is iconic.
Surprisingly enough, this conclusion, so evident for the unbiased — and objectively the only one feasible — had not been formulated earlier, clearly and unambiguously.
Our conclusion re the Germanic RL-formatives is corroborated by «external» data from various other languages.
The cross-linguistic geography of RL-formatives is indeed impressive, all of them honouring one and the same macropattem.
Ramstedt [1952] stresses the fact that «Word formation in Altaic languages evinces a strong preference for onomatopoeic renderings». Ramstedt cites i. a. verbs in — ra, — la, — kira: Turkic jiltire «to glimmer, flicker», bürkä «to bum», titire «to tremble»; Mongolian burla «grumble»; sis-kire «to whistle» [ibid.].
For Turkish, Dmitriev [1962: 64f] discussed ut/ül/~ ït//il, ur//ür ~ïr//ir (e. g. in zïrïl «the purling or murmur of water» and cigir «the crunching of snow») as — again: nota bene — «final syllables of disyllabic mimemes» (i. e. iconic words. — S. V.). Importantly again, Fazy-lov [1958: 41, 70] for Tajik observes: «In origin, — ar//-ir//-ur are undoubtedly part of the iconic stem» as in guldurif) «rumbling» (with no *guld attested).
In general, it seems that Turkic tradition tends to regard verbs ending in r, / as disyllabic, and essentially underived (see e. g. [Xaritonov 1954: 167; Ščerbak 1987:129]).
For Buryat, Tsydendambayev [1958: 143] stresses that «in onomatopoeic words all endings… act as word-formation suffixes». For Nanaian, Kile [1973: 43] points out: «The interesting feature about the final endings of simple-stem iconic words is that they are as it were prototypes of word-formational suffixes. <…> In the word-formational suffixes — r-r, — ria-a, — riok and — riu-u we see the common element r, spawning all these variants».
In extensive RL adventures across world languages I came across a striking case of the R-formative in Karanga (Shona, a Bantu language). Its continuative verb forms take the suffix — ra/-ira/-era, reduplicated — rara/-irira/-erera: pota «go (in a curve)» — potera «go round» — poter-era «go round and round». The Karanga verb also has a «destructive», or «undoing» form in — ura, — urura: futa «swell» — futura «stretch out», pfura «knock, kick» — pfururura «knock out, scatter». V. Mathesius [1931: 427,432] was of the opinion that intensity may be expressed not only in the force of the action within a given period but also in the duration of the action, whether interrupted or uninterrupted. I would add here this snippet from Marconnes, with his telling examples: «Like the Destructive… the Projective (i. e. Continuative. — S. V.) — aira is intensive, and denotes a very long duration…» (Cf.)pfunda «make a knot» — pfundaira «knit one's brow, frown» — pfundarara «puff out one's cheeks» [Marconnès 1931:198]. The Karanga R-formative — not just the root — thus adopts various guises to suit iconic variation.
Jespersen [1928: 28] paid attention to the extremely important nature of the difference between monosyllabic iconic words, which express single sounds and movements, and disyllabic iconic words, denoting continuous sounds and movements; the latter are very often formed with suffixes — er and — le, employed thus in a multitude of languages, even outside the Aryan world. A similar observation was made, for Yakut, by Xaritonov [1954: 167]: «… in monosyllabic onomatopoeic roots, their very monosyllabism is a form of expression for momentary sounds. <…> Quantative complexity of sound, as well as its arrangement on the time scale, is rendered by augmenting the root». Cf. [Gazov-Ginzberg 1965:159].
Gonda [1940: 20If], in analyzing Malay/Indonesian onomatopoeic and sound-symbolic words with the iterative infixes — er- and — el-, proposes comparison of the latter with English and Dutch formations in, respectively, — er, — le and — eren, — elen.
Ever cautious with regard to the idea of onomatopoeia and sound symbolism, Gonda nevertheless arrives at the conclusion that the Malay/Indonesian — er-, -el- infixes are not grammatical morphemes — they are concomitant to imitating sound or movement, and their source (or at least one of their sources) may be a significant number of iconic words [ibid.].
In Sundanese, RL-formatives are an expression of the category of plurality — for verbs, adjectives, and sometimes nouns: dink «to sit (sg.)» — dariuk «to sit (pi.)», bodo «foolish (sg.)» — barodo «foolish (pi.)», budak «child» — barudak «children».
As I showed earlier, mostly for English, r in the onomotapoeic root is always (no exceptions) iconic, fulfilling onomatopoeic function of rendering «pure dissonance» — vibrating, intermittent sound, i. e. a series of rapid pulses Voronin [1969:1, 394]. A special series of studies on Indonesian onomatopes [Voronin, Bratoes 1976; Bratoes 1976; Bratoes, Voronin 1980] demonstrated i. a. that the same is true for r in the Indonesian root: see the CandPhil by Bratoes [1976: 5] written under my supervision. Data Voronin [1982: 115–118] based i. a. on RL-verb semantics as given in Bratoes [1976], point to the fact that in more than one third of the instances the R-formative fulfils only the above-mentioned one function. E. g. ker(e)tap «report (of a gun), explosion»: one complex sound («vibrant pulse») — the infixal r's function is onomatopoeic, the same function of rendering pure dissonance as that of the root r in e. g. ar «creak; trampling».
In a great number of cases we have the infixal r fulfilling the sound-symbolic function of simple repetition:
Broadening the perspective, it was expedient to gauge the RL situation in some language typologically different from English and Indonesian. Closely linked to a series of typological studies (e. g. [Voronin, Lapkina 1977; Lapkina, Voronin 1979; cf. Voronin, Lapkina 1989]), was the CandPhil by Lapkina [1979], a postgraduate of mine, discussing onomatopoes in Bashkir (as compared to English). As in other Turkic languages, R-formations are a significant part of Bashkir onomatopoeic vocabulary. Usually the R-formative is seen in Turkology as conveying plurality, iteration, intensity (e. g. [Ašmarin 1928; Xaritonov 1954; Sevortian 1962; Xudajkuliev 1962; Išmuxametov 1970; Serebrennikov 1977]), thus imparting to the onomatope only a subsidiary, quantitative characteristic (not unlike the formative in English). Phonosemantic analysis, however, shows that, at least for Bashkir, this sound-symbolic function of r in the formative largely makes way for the qualitative onomatopoeic function of rendering pure dissonance. Consider thus supyr «(dial.) to bubble» denoting essentially an iteration of the instant sound of a stone going plop into the water, the latter rendered by the onomatope sup: the r's function is sound-symbolic; as opposed to this consider typyr in the sense «the rattling sound of machine-gun fire»: the r's function is onomatopoeic (like in tur «vibrant sound», with r part of the root).
Studies in a number of Germanic (English, German, Dutch), Turkic (Bashkir, Kirghiz, Chuvash) languages, as well as Malay/Indonesian, and Samoyed (Selkup) languages demonstrate that these formatives comprise a phonosemantically valid part of iconic word.
The evolution of RL is related to the process of denaturalization (the erosion of iconisity) in RL-formatives. This is best seen in r (the phonosemantically more powerful of the two sonants), discussed in the present paper. In root onomatopoeia, r is an important qualitative feature of the referent; it comes forth as the constituting element of an entire class of onomatopes («frequentatives»), first elicited in Voronin [1969]. It is the qualitative idiosyncrasy/exclusiveness of r that encompasses the very possibility of its development towards an element of nothing more than a quantitative characteristic of the referent: «dissonance, vibration, roughness, staccato nature, intermittence' — „iteration, plurality, prolongation, intensity“. And this possibility is widely used by the most diverse languages. The quantitativeness of the iterative R-affix germinates from the qualitativeness of the r-element in the phonetic structure of the onomatopoeic root word. What happens is the transformation of r from concrete qualitative characteristic of the referent, its „downgrading“ to an abstract quantitative characteristic (a de-qualification of r» s semantics, together with its quantification).
Thus, studies in a typological multeity oflanguages — i.a. Indo-European (notably English, also Tajik), Uralic (Selkup), Turkic (notably Turkish, Chuvash, Bashkir, Yakut), Mongolian (Buryat), Tun-gus-Manchu (Nanaian), Malay/Indonesian (discussed at some length in this paper) — warrant the conclusion that RL-formatives, in origin part of a simple disyllabic iconoc root word, comprise a potent iconic frequentalia in the sphere of expressing verbal plurality (multiplicativity). A detailed phonosemantic typology of RL-formatives is on the agenda.
I now conclude. Typologists have an impressive record of penetrating research in phonetic, semantic, functional-semantic, functional-grammatical typology. I suggest that they no longer turn a blind eye to cross-linguistic grammatical iconicity and phonosemantic typology. Mainstream linguistics will then — I warrant this — encounter a world hitherto unseen — a vast and mysterious world waiting to be unravelled.
Alieva N. F. = Алиева H. Ф. Слова-повторы и их проблематика в языках Юго-Восточной Азии // Языки Юго-Восточной Азии. Проблема повторов. М., 1980.
Ašmarin I. N. = Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Казань, 1928–1929.
Bartko N. V = Бартко Н. В. Английские итеративные RL-глаголы и категория глагольной множественности // Категории глагола и структура предложения: Междунар. конф., посвященная 95-летию со дня рождения проф. А. А. Холодовича и 40-летию Лаборатории типологического изучения языков ИЛИ РАН: Тез. докл. СПб., 2001.
Beliayeva Т. М. — Беляева Т. М. Глагольное словообразование в древнеанглийском языке // Исследования по английской филологии. Вып. 3. Л., 1965.
Brandstetter R. Die Reduplikation in den indianischen, indonesischen und indogermanischen Sprachen. Luzern, 1917.
Bratoes I. В. = Братусь И. Б. Акустические ономатопы в индонезийском языке: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Л., 1976.
Bratoes I. В., Voronin S. V — Братусь И. Б., Воронин С. В. К проблеме типологии звукоизобразительных систем: Индонезийские и английские континуанты // Вестник Ленингр. ун-та. 1980. № 20. История, яз., лит. Вып. 4.
Dmitriev N. К. = Дмитриев Н. К Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 4. Лексика / Ред. Н. К. Дмитриев, Н. А. Баскаков. М., 1962.
Dolinina I. В. = Долинина И. Б. Теоретические аспеты глагольной множественности // Типология итеративных конструкций. Л., 1989.
Dolinina I. В. Theoretical aspects of verbal plurality // Typology of Iterative Constructions. München; Newcastle, 1997.
Dressier W. Studien zur verbalen Pluralität: Iterativum, Distributivum, Dura-tivum, Intensivum in der allgemeinen Grammatik, in Lateinischen and Hethitischen. Vienna, 1968.
Fazylov M. F. — Фазылов М. Ф. изобразительные слова в таджикском языке. Сталинабад, 1958.
Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartsprache. Leipzig, 1983.
Gazov-Ginzberg A. М. = Газов-Гинзберг А. М. Был ли язык изобразителен в своих истоках? (Свидетельство прасемитского запаса корней). М., 1965.
Gazov-Ginzberg А. М. — Газов-Гинзберг А. М. Символизм прасемитской флексии: О безусловной мотивированности знака. М., 1974.
Gonda J. Some Remarks on Onomatopoeia, Sound Symbolism and Word Formation a propos of the Theories of C. N. Maxwell // Tidschrift voor Indische Taal, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschep van Kunsten en W etenschappen 80.1940
Gonda J. Stylistic repetition in the Veda. Amsterdam, 1959.
Greenberg J. H. Language Universals with Special Reference to Feature Hierachies. The Hague; Paris, 1966.
Guxman М. M = Гухман M.M. О единицах сопоставительно-типологического анализа грамматических систем родственных языков // Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966.
Hummelstedt Е. Östsvenska verbstudier. Helsingfors, 1939.
Išmuxametov Z. К. = Иишухаметов 3. К. Звуоподражательные слова башкирского языка: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Уфа, 1970.
Jakobson R. Why «Mama» and «Papa»? // Selected Writings. 2nd, expanded ed. Vol. 1. Phonological Studies. The Hague, 1971.
Jespersen 0. Language: Its Nature, Development and Origin. London; N. Y., 1928.
Kile N. В. = Киле H. Б. Образные слова нанайского языка. JI., 1973.
Kluge F. Urgermanisch: Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte. Strasbourg, 1913.
Lapkina L. Z. = Лапкина Л. 3. Английские и башкирские акустические ономатопы: (Опыт типологического исследования): Автореф. дис…. канд. филол. наук. Л., 1979.
Lapkina L. Z., Voronin S. V. Структурные особенности одного типа английских звукоизображений (в сопоставлении с башкирским) // Структурно-семантические исследования на материале западноевропейских языков. Барнаул, 1979.
Long Seam = Лонг Сеам. Очерки по лексикологии кхмерского языка. М., 1975.
Makarenko V.A. ~ Макаренко В. А. Тагальское словообразование. М., 1970.
Marchand H. The Categories and Types of Present-Day English Word Formation: A Synchronic-Diachronic Approach. Munich, 1969.
Marconnès F. A Grammar of Central Karanga, the Language of Old Mono-motapa, as at Present Spoken in Central Moshonaland, Southern Rhodesia. Johannesburg, 1931.
Maslov Yu. S. = Маслов Ю. С. К основаниям сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978.
Mathesius V. Zum Problem der Belastung- und KombmationsfShigkeit der Phoneme // Travaux de Cercle linguistique de Prague, 4,1931.
Melnikov G. P. = Мельников Г. П. Методология лингвистики. М., 1989.
Morev L. N. = Морев Л. Н. Сопоставительная грамматика тайских языков. М., 1991.
NasilovD. М. =Насилов Д. М. Проблемы тюркской аспектологии. JI., 1989.
Ogloblin А, К. — Оглоблин А. К. Материалы по удвоению в мадурском языке //Языки Юго-Восточной Азии: Проблемы повторов. М., 1980.
Рак G. А. = Пак Г. А. изобразительные слова в корейском языке: Авто-реф. дис…. канд. филол. наук. Л., 1958.
Ramstedt G. J. EinfUhnmg in die altaische Sprachwissenschaft. Helsinki, 1952–1957.
RijpmaE., Schuringa F.G. Nederlandse spraakkunst. Groningen, 1971.
SapirE. Language. N. Y., 1921.
Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. Berlin, 1964.
Ščerbak A. М. = Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: (Наречие, служебные части речи, изобразительные слова). Л., 1987.
Sevortian Е. V = Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке: Опыт сравнительного исследования. М., 1962.
Serebrennikov В. А. = Серебренников Б. А. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация: Общие вопросы. М., 1977.
Tsydendambayev Ts. В. = Цыдендамбаев Ц. Б. изобразительные слова в бурятском языке // Филология и история монгольских народов. М., 1958.
Uhlenbeck Е. М. The Study of Worldclasses of Javanese // Lingua, 1953. Vol. III. № 3.
Vooys C. G. N. de. Nederlandse spraakkunst. Herzien door M. Schönfeld. 1967.
Voronin S. V. = Воронин С. В. Английские ономатопы: типы и строение: Автореф. дис…. канд. филол. наук. Л., 1969.
Voronin S. V — Воронин С. В. Основы фоносемантитки: Автореф. дисс…. докт. филол. наук. Л., 1980.
Voronin S. V = Воронин С. В. Основы фоносемантики. Л., 1982.
Voronin S. V, Bartko N. V= Воронин С. В., Бартко Н. В. Английские RL-глаголы в работах исследователей // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История, языкознание, литература. 1999. Вып. 4. № 16.
Voronin S. V, Bratoes I. В. = Воронин С. В., Братусь И. Б. Типология континуантов в индонезийском и английском языках // Тезисы дискуссии «Типология как раздел языкознания». М., 1976.
Voronin S. V, Lapkina L. Z.= Воронин С. В., Лапкина Л. 3. Типология тоновых инстантов-континуантов в ангийском и башкирском языках: Деп. от 22.02.1977. № 1201/ИНИОН АН СССР.
Voronin S. V., Lapkina L. Z. = Воронин С. B. Лапкина Л. 3. К типологии ономатопического словообразования (тоновые послеударные инстанты-континуанты) // Проблема статуса деривационных формантов. Владивосток, 1989.
Wessén Е. Schwedische Sprachgeschichte. Svensk sprekhistoria. Berlin, 1970. Vol. 1–2.
Wilmanns W. Deutsche Grammatik. Strasbourg, 1896.
Xaritonov L. N. = Харитонов Л. H. Типы глагольной основы в якутском языке. М.; Л., 1954.
Xolodovič А. А. = Холодович А. А. Очерк грамматики корейского языка. М., 1954.
Xrakovskij V S. = Храковский В. С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций. Д., 1989.
Xrakovskij V. S. Semantic types of the plurality of situations and their natural classification // Typology of Iterative Constructions. München; Newcastle, 1997.
Xudajkuliev М. = Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. Ашхабад, 1962.
Yelovkov D. = Еловков Д. И. Очерки по лексикологии языков Юго-Восточной Азии. Л., 1977.
Z. Guentchtéva
Remarks on the interaction between voice and aspect in the slavic domain
Although a number of authors have drawn attention to the correlations between voice/diathesis and aspect [Comrie 1976, 1981; Haspeimath 1994; Siewierska 1984, 1988], apart from an in depth analysis of Russian [Knjazev 1986, 1988; Khrakovskij 1991; Poupynin 1991, 1996, 1999], few linguists have studied the specific interaction of voice and aspect in the Slavic domain.
This paper will not present new data on Slavic languages, but aims at highlighting some correlations between aspect and voice (particularly the passive voice), and at pointing out some leads for an analysis of their interaction. I shall attempt to clarify several points by analysing certain examples where context is important to the semantic interpretation:
1. the reflexive passive voice usually expresses a process (present, iterative or habitual according to context) or an event and encodes a potential/generic agent (explicit or implicit);
2. the periphrastic passive voice having a perfective participle usually expresses a resulting state with stative or dynamic meaning according to the context, whereas an imperfective participle expresses either a process or a complex state, represented as an open class of events.
The analysis of genuine corpora and a thorough study of the Slavic lexicon should help circumscribe the distribution of forms and the meanings encoded in such forms.
1. The structure to be + participle with — n/-t
Diachronically, it is well known that the passive past participle is based on the Indo-European adjective with *-to or *-no, which was originally attached to a root or to a nominal stem. Therefore, these forms were initially independent of the verbal system and served to indicate «a state resulting from the possession of the notion indicated by the noun or of the process expressed by the root» [Meillet 1965: 268]. Their integration into the verbal system is therefore an innovation in Indo-European languages. Concerning the earliest period of common Slavic, forms with *-to or *-no are no longer nominal derivatives but participles, by virtue of their integration in the verbal system. This is why constructions with an — n/-t participle and the auxiliary «to be» first functioned as denoting a state, their actional meaning only appearing later [Maslov 1988: 77].
It is therefore unsurprising that in Slavic languages the interrelation of constructions with — n/-t is organised around a stative reference which, depending on several factors, may or may not imply a preceding event. In fact, certain constructions are conceived as purely stative for two raisons:
1. the participles may sporadically acquire this meaning because, diachronically, they are linked to a root or a nominal theme or because they are semantically removed from the verb (in this case, Khrakovskij [1991:151] speaks of lexicalisation):
Russian(1) Bolšaja čast ee territorii byla pokry-t-a
great part its territory.GEN was cover.PF-PPP-SG.F
lesami
forest.INSTR.PL
«The greater part of its territory was covered with forest».
Polish (quoted by [Siewirska 1988:253])(2) Straty są spowodowane dlugotrwalą suszą
losses are cause.PF.PPP long.term.INSTR drought.INSTR
«The losses have been caused by a long term drought»;
2. the verbs are polysemic and the participles are used in their true sense (3a) or may take on psychological connotations (3b):
Bulgarian(3a) Lodkata beše privărzana do našata ograda
boat.the be.IMPF attach.PF-PPP.SG.F beside our.the gate
«The boat was attached to our gate».
(3b) Deteto e privărzano kăm majka
child.the be-PRES attach.PF-PPP.SG.NEUTER to mother si
REFL.DAT
«The child is attached to his mother».
Only (3a) is open to discussion because, out of context, it may be analyzed either as an objective resultative, as defined by Nedjalkov and Jaxontov [Nedjalkov, Jaxontov 1988: 9][18], or as a passive form, because the perfective participle is bound to the base verb privăr-zvam/privărza «to tie/attach» and the meaning of the construction is thus linked to transitivity and passivization (4a). But this perfective participle is mostly used in a psychological sense (3b) and it is thus semantically bound to the reflexive intransitive verb privărzvam se/privărza se and to (4b):
(4a) Toj privărza lodkata do našata ograda
he attach.PF-AOR-3 SG boat.the beside our.the gate'
He attached the boat beside our gate'.
(4b) Deteto se privărza kăm mene
child.the REFL attach.PF-AOR-3SG to me.DAT
«The child is attached to me».
The literature provides many examples in which the constructions «to be» + — n/-t participles are used with a purely adjectival meaning. They then predicate a property of the entity in the same manner as an adjective:
Bulgarian(5) Šinelite bjaxa tănki i iznoseni, kepetata
coats.the were light.PL and wom.out.PF.PPP.PL kepi.the izpomačkani…
wrink.PF.PPP.PL
«The coats were thin and worn, the kepis (were) wrinkled…».
Removed from any context, one may consider iznoseni «worn-out» and izpomačkani «wrinkled» as resultative participles, since they may be associated with transitive verbs and allow the characterisation of the objects «coats» and «kepis» as affected and changed by a preceding event, but the coordination of the adjective tănki «light» leads to the elimination of the resultative interpretation in favour of an adjectival interpretation. Therefore (5) denotes a state. Syntactically, the construction is predicative for the two following reasons: 1. «to be» does not function as a voice auxiliary because it operates on the past passive participle as it operates on the coordinated adjective tănki «light»; 2. the past passive participle fills the syntactic function of an attribute, and, being a verbal adjective, cannot be treated as a participle oriented toward the patient of the basic transitive verb. More complex is the following Bulgarian example (quoted by [Barakova 1980: 141]):
(6a) Njakoi ot lozjata bjaxa veče obrani i
some of vines be.IMPF.3PL already pick.PF.PPP.PL and pusti
empty.PL
Lit. «Some vineyards were already harvested and deserted».
If one admits that the form bjaxa obrani «were harvested» is resultative because it is formally derived from the verb obiram/obera «harvest, pick fruit» and because it implies a resulting state evidenced by the adverb vece «already», it would be difficult to explain the occurrence of the coordinated adjective pusti «empty». Just as in example (5), the participle is part of the paradigm of adjectives and the utterance denotes a state. As a result, it is impossible to give it either a corresponding active counterpart (6b) or to introduce an agent (6c):
(6b) *Xorata bjaxa veče obrali lozjata i
people.the be.IMPF.3PL already pick.PF.APP.PL vines and pusti empty.PL
Lit. «The people had already picked the grapes and deserted».
(6c) Njakoi ot lozjata bjaxa veče obrani i pusti
some of vines.the were already pick.PF.PPP.PL and empty.PL
*(ot studentite)
*(by the students)
«Some vines were already stripped and deserted».
This analysis shows that the double interpretation which may be assigned to a construction depends on the discursive context. Let us compare the following utterances:
Bulgarian (quoted by [Maslov1988: 77])(7a) Kolata e sčup-en-a / poprav-en-a
cart.the is break.PF-PPP-SG.F repair.PF-PPP-SG.F
«The cart is broken/repaired».
(7b) Toj vidja kolata i razbra, če e
he saw cart.the and understand.PF.AOR that is
sčup-en-a
break.PF-PPP-SG.F (7c) Toj vidja kolata i razbra, če e
He saw cart.the and understand.PF.AOR that is
sčup-en-a i posle poprav-en-a
break.PF-PPP.SG.F and later repair.PF-PPP-SG.F
«He saw the cart and understood that it had been broken and later repaired».
From the preceding examples, it is clear that the aspectual properties of the participle can change according to the construction. Examples (7a) and (7b) are of the descriptive type and code the state of the entity. As in (6a), the participle behaves like an adjective, but of verbal nature, and which with the auxiliary constitutes a syntactic predicate. Thus, it seems difficult to speak of the «orientation» of a participle. On the other hand, (7c) belongs to the domain of passivisation, even though the agent is not specified: the participle is oriented toward the patient of the basic transitive verb. The comparison between examples (7b) et (7c) merits special attention as it shows how the adjunction of a coordinated participle (popravena «(is) repaired») leads to the transformation, as noted by Maslov [1988: 77], of the stative meaning of the completive če e sčupena that we identified in (5a) as «an actional passive perfect» («had been broken and repaired»). Thus, the auxiliary transforms the resultative participle into a verbal unit (a passive verb) which functions as a one-place predicate [Desclés & Guentcéva 1993: 91].
If this type of syntactic condition is not limited to Russian, as Maslov[19] affirmed, the data show that the interpretation of a given construction with — n/-t is always context dependant. This can be illustrated with two Russian examples borrowed from [Knjazev 1988:344]:
(8a) My dvaždyj prošli mimo levogo bašennogo kryla zamka….
Vpervyj raz okna byli zakry-t-y.
windows were close.PF-PPP-PL
«We passed twice by the left tower wing of the castle. The first time the windows were shut».
(8b) Rita noč'ju zatejala ssoru: trebovala zakryt' okno….
Takprepiralis' dolgo, i Rita, razumeetsja, vzjala verx:
okno bylo zakry-t-o.
window was close.PF-PPP-SG.NEUTER
«At night Rita began a quarrel insisting that the window should be shut. They carried on for a long time and it was Rita who had the upper hand: the window was shut».
According to Knjazev, in (8a) the construction okna byli zakryty «the windows were shut» is an objective resultative, whereas in (8b) the construction okno bylo zakryto «the window was shut» is an actional passive. In other words, the construction in (8a) has the meaning of a state and implies: a) on the semantic level, one participant only about which a contingent property is predicated through the past passive participle; b) on the syntactic level, the structure is of the predicative type where the predicate, even though it has the form of a past passive participle, has the status of an adjectival determiner. On the other hand, the construction in (8b) has the meaning of a resultative state having, on the semantic level, three characteristics [DesclSs & GuentcMva 1993: 91]: 1. it implies a preceding event and the existence of an agent (specified or not); 2. it determines a property of the patient; 3. the property is not necessarily contingent upon the implied preceding event. On the syntactic level, the auxiliary operates on the past passive participle, associated with an abstract passive predicate which includes the notion of an unspecified agent, in view of its transformation into a verbal unit [ibid].
The resultative state, which I have just defined, must not be confused with the resultant state. Indeed, in languages such as Bulgarian, where there is an overt expression of the perfect (9b) and of a periphrastic passive (9a), these two notions are clearly distinguished:
(9a) Otvori čekmedžeto i razbra: parite
open.PF.AOR drawer.the and understand.PF-AOR money.PL bjaxa otkradnati.
was steal.PF.PPP
«He opened the drawer and understood: the money had been stolen».
(9b) Otvori čekmedžeto i razbra: bjaxa
open.PF-AOR drawer.the and understand.PF.AOR were
otkradnali parite
steal.PF.APP.PL money.PL
«He opened the drawer and understood: someone had stolen the money».
Although these two forms may appear in the same context, each has its own meaning: (9a) denotes a resultative state as defined above; it permits therefore to draw attention to the patient and to the characteristic which is attributed to it by the passive predicate; if the verbal form is a reminder of the implied event, it is in order to signify that at its origin is an agent. On the contrary, (9b) is an overt expression of the perfect; it denotes a resultant state: that is, a state which is brought about by an event and which is contiguous to this event.
It has often been pointed out that the periphrastic passive tends to be constructed with a perfective past participle, whereas the reflexive passive tends to use the imperfective form. On this subject Siewierska [1988: 247] notes that in Slavic languages, with the exception of Polish, the periphrastic passive including an imperfective participle rarely appears, and quotes Czech and Serbo-Croatian where the constructions are said to be used mainly in scientific texts. This affirmation is not wholly justified. In Russian, the contrast is not any clearer: the constructions with an imperfective past passive participle are sporadically attested [Maslov 1988; Poupynin 1996: 131] and are subject to strong lexical, syntactic and contextual constraints; they are allowed in varying degrees in Czech, Serbo-Croatian, Polish, and above all Bulgarian.
The «be»-perfective passive is claimed to convey both the meaning of a state resulting from a previous action and that of an action. The main argument for justifying such an analysis comes from a distributional property of the form, founded upon the compatibility of the perfective form with localisation markers. According to Khra-kovskij [1991; 151–154] and Knjazev [1988:350–351], the actional passive is compatible with time adverbials and adverbial phrases which are precise indications of the temporal interval relative to the preceding event and place markers ((10), (11)) whereas the resultative state is compatible with those which mark duration (12) or iterativity.
Bulgarian(10) Navremeto toj bil izpraten ot vujčo si <…> da
at time.the he was send.PPP.SG.M of uncle REFL.DAT DA
sledva v Moskva
study.PRES-3SG in Moscow
«At that time, he was sent by his uncle to study in Moscow».
Russian (quoted by [Knjazev 1988: 351])(11) Vsesteny, bojnicy, kryšy,<…> v sčitannye sekundy byli all walls loop.holes roofs in count.PF.PPP seconds were zapolneny soldatami i kazakami
occupy.PF.PPP soldiers.INSTR and Cossacks.INSTR
«Within a few seconds all the walls, loop-holes, roofs, minaret balconies and even the dome of the mosque had been occupied by soldiers and Cossacks».
(12) Vsego 45 minut by I vključe-n teleskop,
in total 45 minutes was switch.on.PF-PPP telescope
a podgotovka к eksperimentu potrebovala vos'mi časov.
«It was only for 45 minutes that the telescope was switched on, whereas the preparation for the experiment had taken about eight hours».
It is well known that Polish is the only Slavic language which has two auxiliaries to form the periphrastic passive voice: the zostać passive which imposes a perfective participle and whose meaning is characterised as «actional», and the «be»-passive, which allows both the perfective participle and the imperfective and which, depending on the context, may take on either a so-called stative meaning or a so-called actional meaning:
(13a) Pokój został pomałowany w zeszłym roku /*dva razy
room became paint.PF.PPP.SG.M in last year/ two times
«The room was painted last year».
(13b) *Pokój został małowany w zeszłym roku
room became paint.IMPF.PPP.SG.M in last year
(13c) Pokój bił pomałowany w zeszłym roku / dvarazy
room was paint.PF.PPP.SG.M in last year / two times
«The room was only painted last year» / «The room was painted last year twice».
(13d) Pokój bił małowany w zeszłym roku
room was paint.IMPF.PPP.SG.M in last year
«The room was painted last year».
Siewierska [1984: 129, 1988: 251] notes that recourse to (13c) implies that the room needs repainting, whereas (13a) does not. If one admits that the passive resultative state determines a property of the patient while at the same time implying a preceding event, and if one takes into account the meaning of zostać «to become», one easily understands that such inferences may be made. Zostać directly links the resultative state to the event serving to highlight the transitional character of the event and to state that the patient's property has been acquired prior to the act of speaking; the adverbial expression is therefore taken as included in the transitional event, which would explain why the periphrastic construction with zostać is incompatible with dva razy «two times», mnogo raz «many times», etc. On the other hand, the «be»-passive with a perfective verb gives priority to the resultative state by only referring to the implied event, leading to ambiguity as to whether the resultative state belongs to the patient (meaning a resultative state) or whether the resultative state only serves to hark back to the event at the origin of the patient's affectation. The adverbial phrase in (13a) is presented as incident to the event, which allows one to understand why iteration is permitted.
The contrast we have just evidenced between these two types of constructions clearly appears in the following two examples, in which the adverbial phrase denoting duration is only allowed in the «be» — passive:
Polish(14a) Pies pzrez cała noc byl uwiązany na łańcuchu
dog through all night was attach.PF.PPP.SG.M on chain
«All night long the dog was (stayed) attached to a chain».
(14b) Pies zostal uwiązany na łańcuchu
dog became attach.PF.PPP.SG.M on chain
«The dog was attached to the chain».
(15a) Nieprzyjaciel jest pokonany
enemy is defeatPF.PPP.SG.M
«The enemy happens to be/is defeated».
(15b) Nieprzyjaciel został pokonany
enemy became defeatPF.PPP.SG.M
«The enemy was defeated» (lit. became defeated).
Let's go back to examples (13). The comparison between (13c) and (13d) reveals another meaning held by the «be» — passive. Only (13d) allows one to consider the situation as a statement about a general resultative state based upon a process which was simply accomplished in the past; it does not allow the iterative meaning possible in (13c). I shall come back to this point with examples taken from Bulgarian.
The classic Russian example dom postroen, which can be transposed into other Slavic languages (Bulgarian, Polish, Czech or Serbo-Croatian), will allow us to show how the distribution of the participial form is partly governed by the opposition between a stative situation and a dynamic situation and partly by the notion of completion, which is conveyed exclusively by the perfective form:
Russian(16a) Dom postroen iz kirpiča
house.NOM built.PF.PPP.SG.M of brick.GEN
«The house is made of brick».
(16b) Dom *(do six por) postroen iz kirpiča
house.NOM (until now) built.PF.PPP.SG.M of brick.GEN
Lit. «The house is still built of brick».
(16c) Bol'šinstvo domov do six por postroe-n-o
most house.GEN.PL until.now built.PF-PPP-SG.NEUTER
iz kirpiča
of brick.GEN
«Most houses are still made of bricks».
(16d) Dom postroen v prošlom godu
house built.PF.PPP.SG.M in past year
«The house was built last year».
In spite of the form postroen «built», which one can consider resultative because of its derivational history, (16a) denotes a permanent state through the specification of a property attributed to the entity (iz kirpiča «of brick»). The construction therefore enters into the adjectival paradigm as confirmed by the adverbials of duration test in (16b). To explain the grammaticality of (16b), following Knjazev [1988: 351] advances the argument that adverbials of duration are incompatible with resultatives denoting irreversible states, but that these adverbials may appear with resultatives «under special conditions» as for example in (16c) where the subject would be plural. Let us note however that the grammaticality of (16c) evidences the interesting problem of the interaction between quantification and aspect which deserves more study. The comparison between (16a) and (16d) shows that the occurrence of the temporal expression allows one to retrieve the event which is at the origin of the resultative state: (16b) is the expression of an actional perfect passive [Maslov 1988: 66].
As mentioned earlier on the subject of Polish, the «be» — passive may be constructed with an imperfective participle; if the verb has an imperfective derivative, two constructions are possible:
Bulgarian(17a) Trevata e/beše okosena *(mnogo păti)
grass.the is/was mow.PF.PPP.SG.F (many times)
(ot studentite)
(by students.the)
«The grass was mowed» (by the students).
(17b) Trevata e/beše kosena (mnogo păti)
grass.the is/was mow.IMPF.PPP.SG.F (many times)
(ot studentite)
(by students.the)
«The grass has been mowed» (many times) (by the students).
(17c) Trevata e/beše okosjavana mnogo
grass.the is/was mow.IMPF.PPP.DERIVATE.SG.F many
păti/vsjaka godina (ot studentite)
times/every year (by students.the)
«The grass is/was mowed many times/every year (by the students)».
In (17a) the meaning is clealy that of a resultative state having its origin in a completed event. As opposed to (17a), in (17b) the resultative state has its origins in an interrupted event; the process is thereby highlighted and means «has been mowed (by someone)» or «has been mowed (by someone)»; Maslov terms this «actional passive present» and «actional passive perfect» respectively. However, according to the tense of the auxiliary and the discourse context, the resultative state may be related to past or future situations.
(18) Ništo za otbeljazvane, osven ednapodrobnost, kojato săšto ne e osobeno ljubopitna: sleden săm. Ne tvărde
follow.IMPF.PPP.SG.M am
nastojčivo i ne osobeno grubo, no săm sleden (B. Rajnov).
am follow.IMPF.PPP.SG.M
«Nothing to report except one detail which is not particularly strange: I'm being followed. Not really regularly, nor brutally, but I'm being followed».
(19) A xlabăt beše pečen <…> po star whereas bread.the was cook.IMPF.PPP.SG.M according old bălgarski običaj
Bulgarian tradition
«Whereas the bread was baked <…> following some old Bulgarian tradition».
(20) Toj znaeše, če osemdeset dekaraniv <…> bjaxa
he knew that eighty acres fields were
kupuvani obsto, no slučajno v prodavatelnija
buy.IMPF.PPP.PL in.common but by.chance in of.sale
akt bjaxa pisani samo na imeto na Valčana.
act were write.IMPF.PPP.PL only at name.the of Valchana
«He knew that eighty acres of field <…> had been bought in common, but that, by pure chance, in the sale document, they had been registered under the sole name of Valchan».
With some merely interrupted processes, the construction becomes compatible with adverbs such as mnogo păti «many times» or često «often». The adverbial form is thus incidental to the event and leads to an iterative interpretation. In other words, in the iterative sense, the event is presented as an open class of events in which neither a first nor a last occurrence may be isolated and the resultative state refers to the general result of all these occurrences.
Going back to example (17c), the participle is derived from a secondary imperfective verbal base, and such forms demand an iterative context; the construction thereby denotes a resultative state which originates from an event presented as a closed class of events which has a first and a last occurrence, even though their number is not always specified.
Due to the verb prefix, each event included in the series is analysed as a completed process. The following two examples make apparent the opposition between this meaning (17a) and that of a resultative state (17b):
(21a) <…> ot dva i polovina veka knjažeskijat dom be
of two and half century of.prince.the house was
opožarjavan mnogo păăti
burn.IMPF.PPP.SG.M several times
«<…> over two and a half centuries the princely residence has been set on fire several times».
(21b) <…> knjažeskijat dom be opožaren predi dva i
of.prince.the house was bum.PF.PPP.PL before two and
polovina veka *mnogo păti
half century several times
«<…> two and a half centuries ago the princely residence was set on fire».
The other Slavic languages have apparently not developped such a mechanism. Yu. Maslov [1988: 79] points out a few scarce examples such as the following in Polish which does not seem to belong to a paradigm as do those in Bulgarian:
(22) Wqgiel jest wydobywa-n-y
coal is mine.IMPF-PPP-SG.M
«Coal is (being) mined»
Descriptions of Serbo-Croatian show the first two variations pointed out for Bulgarian: (23a) and (24a) refer to the resultative state of an accomplished and completed process; (23b) and (24b) refer to the resultative state of processes which is a simply accomplished, apparently barring iteration:
(23a) Travaje/bila pokošena (*seljakom)
grass is/was cut.PF.PPP.SG.F (peasant.INSTR)
«The grass has been cut».
(23b) Trava je košena jutros (*seljakom)
grass is cutlMPF.PPP.SG.F morning (peasant.INSTR)
«The grass is cut in the morning (by the peasants)».
(24a) Kuća je gradena dva mjeseca (*ljudimi)
house is build.IMPF.PPP.SG.F two months
«The building of the house lasted two months».
(24b) Kuća je/bila sagradena za dva mjeseca (*ljudimi)
house is/was build.PF.PPP.SG.F for two months
«The house was built in two months».
In Russian, the constructions with — n/-t are strongly related to aspect. As rightly stated by Poupynin [1990: 11], the periphrastic passive with an imperfective participle bears very specific aspectual meanings («aspectual particular meaning», [ibid: 131]), due to very specific conditions of syntactic order, lexicon and context. Being unable to convey the notion of process, which is specific to the passive reflexive, an utterance such as (25a) combines two semantic values according to the author [ibid.: 11—2]: that of experience («experiential action») and that of resultant state («resultant state»).
But the use of the reflexive perfective passive such as (25b), which is infrequent and often deemed familiar, is due to «its ability to express the so-called potential contextual meaning» of the perfective which is interpreted as a quality of the subject [Poupynin 1990: 11–12' 1996: 131]:
(25a) Koni byli kovarty tol'ko na perednie nogi
horses were shoe.IMPF.PPP.PL only on of.front legs'
The horses had shoes only on their front legs', (lit. the horses were only shod on their front legs) (A. N. Tolstoj).
(25b) Vaša kniga pročitaet-sja s
your.NOM book.NOM read.IMPF.PRES-REFL with
udovol'sviem
pleasure-INSTR
«Your book can be read with pleasure».
The meaning of passive process, i. e. one which occurs simultaneously with the speech act, may be conveyed by the reflexive passive. However, this meaning always appears in a marked context and usually has a generic interpretation:
Bulgarian(26) Mašinite se remontirat v momenta
machines.the REFL repair.IMPF.PRES.3PL in momentthe
«The machines are being repaired right now».
While both passive constructions may be used with the same verb root, their aspectual meaning is different. Thus, in Bulgarian, for example, the construction with the perfective participle expresses a resultative state ((27a), (28a)) and stands in sharp contrast with the notion of event conveyed by the reflexive aorist passive ((27b), (28b)); whatever the lexical meaning of the verb, the aorist does not imply a resultative state.
Bulgarian(27a) Vinoto beše izpito (ot tvoite prijateli)
wine.the was drink.PF.PPP.SG.NEUTER (by your.the friends)
«The wine was drunk by your friends».
(27b) Vinoto se izpi (ot tvoite prijateli)
wine.the REFL drmk.PF.AOR.3SG (byyour.the fnends)
«The wine was drunk by your friends».
(28a) Xljabăt beše izjaden s udovolsvie
bread.the was eat.PF.PPP.SG.M with pleasure
«The bread got eaten up with pleasure».
(28b) Xljabăt se izjade s udovolsvie
bread.the REFL eat.PF.A0R.3SG with pleasure
«The bread got eaten up with pleasure».
Those oppositions must be kept, as illustrated by such verbs as svarja «cook, boil». (29a) is more appropriately analysed as a construction in which the resultative participle functions as a predicate; (29b) in turn shows that the reflexive aorist denotes a completed process, i. e. an event:
(29a) Supata bešesvarena na fix ogăn
soup.theWas boil.PF.PPP on low fire
«The soup is being cooked over slow heat».
(29b) Supata se svari *(ot decata)
soup.the REFL boil.PF.AOR.3SG (by children)
«The soup is cooked»
In Serbo-Croatian, the aspectual difference is not very strong. Yet, (30a), unlike (30b), does not express a resultative state, but refers to an interrupted process bounded by the adverbial time limit «two months»:
(30a) Kuća se gradila dva mjeseca (*ljudimi)
house REFL built.PAST.3SG two months (people.INSTR)
«The house was built in two months».
(30b) Kuća jegradena dva mjeseca (*ljudimi)
house is built.IMPF.PPP two months (people.INSTR)
«The construction of the house lasted two months».
In the following example, the aspectual constraints are context sensitive; the context does not allow the use of the periphrastic passive, only the reflexive passive:
Bulgarian(31) V kăsti nastana panika. Točexa se
happen.PF.AOR spread dougb.[MPF.IMP REFL
banici, varjaxa se pileta, dve-tri kokoški s otsečeni
pastry boil.IMPF.IMP REFL chicken
glavi se vărgaljaxa sred dvora
REFL lie.IMPF.IMP
«Panic spread in the house. Pastry was being made, chickens were being boiled, two or three hens lay, with their heads cut, right in the middle of the yard».
In (31) the perfective aorist denotes an event. The three reflexive imperfects occur within the boundaries of this event: the first two točexa se and varjaxa se both express iteration (an open class of events), the third se vărgaljaxa refers to a stative situation (a descriptive state). The iterative interpretation is selected by various factors: the presence of a perfective aorist, some nominal groups without any determination marker, the semantic properties of the verbs in the imperfect form.
I leave aside the impersonal reflexive passive constructions which imply various modal shades of meaning (32a) and the impersonal constructions with — no/-to (neuter) participle associated with an intransitive verb (32b):
Bulgarian(32a) Po trevata ne se xodi
on grass.the NEG REFL walk.PRES
«One doesn't walk on the grass».
(32b) Po trevata estxodeno
on grass.the is walk.IMPF.PPP
«One walked on the grass».
I have tried to show that the differences between the periphrastic passives and the reflexive passives is mostly aspectual; the use of the periphrastic passive is more constrained than that of the reflexive passive, since its value is based on the notion of resultative state. The interpretation of the periphrastic passive, as either a resultative state or a dynamic event, depends on various factors: 1. the aspectual properties of the participle (since it is derived from a verbal lexeme, the — n/-t participle inherits the aspectual characteristics of the lexical type of the verb); 2. the temporal paramétré borne by the auxiliary; 3. the construction of the predicate; 4. the adverbial phrases licensed in the construction; 5. the discourse context of the utterance, by which the speaker may chose to highlight one of the possible representations of a referential situation.
Barakova P. Semantika i distribucija na pasivnite konstrukcii v săvremennija bălgarski knižoven ezik // Izvestija na Instituta za bălgarski ezik. 1980. № 24.
Comrie B. Aspect, an introduction to the study of verbal aspect and related problems. London; N. Y., 1976.
Comrie B. Aspect and voice: some reflections on perfect and passive// Ph. J. Tadeschi, A. Zaenen (eds). Tense and Aspect N. Y. etc., 1981. (Syntax & Semantics, 14).
Desclés J.-P. & Guentchéva Z. Le passif dans le système des voix du français // Gross G. (éd.). Sur le passif. Langages 109. Paris, 1993.
Khrakovskij VS. — Храковский В. С. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
Haspelmath М. Passive Participles across Languages // В. Fox, P. J. Hopper (eds). Voice, Forme and Function. Amsterdam; Philadelphia, 1994.
Knjazev J. P. Resultative, Passive and Perfect in Russian // V. P. Nedjalkov (ed.). Typology of Resultative Constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
Maslov Y. S. Resultative, Perfect and Aspect // V. P. Nedjalkov (ed.). Typology of Resultative Constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
Meillet A. Le slave commun. 2 éd. revue et augmentée. Paris, 1965.
Nedjalkov V P. & Jaxontov S. Je. The Typology of Resultative Constructions // V. P. Nedjalkov (éd.). Typology of Resultative Constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
Poupynin Yu. A. — Пупынин Ю. A. Функциональные аспекты грамматики русского языка // Взаимосвязь грамматических категорий. Л., 1990.
Poupynin Yu. А. = Пупынин Ю. А. Активность/Пассивность во взаимосвязях с другими функционально-семантическими полями // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.
Poupynin Yu. A. Central and Peripheral Connections between Aspect and Voice in Russian // Folia Linguistica XXX/1—2.1996.
Poupynin Yu. A. Interaction between aspect and voice in Russian. München, 1999.
Siewierska A. The Passive. A Comparative Linguistic Analysis. London; Sydney, 1984.
Siewierska A. The passive in Slavic // M. Shibatani (ed.). Passive Voice. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
Е. Ю. Калинина
Выражение предикативных категорий и место связки в структуре именного предложения[20]
В языках среднеевропейского стандарта глагол-связка, сопровождающий именное сказуемое, является обязательным. Финитный глагол, выражающий различные значения грамматических категорий времени, наклонения и лица, в индоевропейских языках бесспорно является конституирующим элементом независимого предложения (см., например, [Ries 1931]). Существительные и прилагательные, которые не обладают способностью выражать значения данных категорий, не могут самостоятельно выступать в позиции сказуемого независимого предложения, требуя присутствия финитного глагола-связки. Например, в предложениях древнегреческого языка εγω ειμι αλφα και ωμεγα, εγω ειμι πρωτοζ και εσχατοζ «Я есмь альфа и омега, Я есмь первый и последний» глагол-связка ειμι выражает категории времени, наклонения и лица (настоящее время, изъявительное наклонение, первое лицо). Эта особенность оформления предложений с именным сказуемым в языках Европы легла в основу той концепции глагола-связки, которую можно назвать глаголоцентричной. Эта концепция может быть изложена в следующих положениях:
1) предикативные категории лица, времени и наклонения должны быть выражены в любом предложении;
2) имя не может самостоятельно выражать данные категории, эта прерогатива принадлежит глаголу;
3) поэтому глагол-связка обязателен в предложениях с именным сказуемым.
Задачей настоящей статьи является а) анализ применимости этой концепции к более широкой типологической выборке; б) при необходимости ее корректировка и выработка типологически более адекватного подхода к описанию предложений с именным сказуемым.
2.1. Выражение предикативных категорий без участия связки.
2.1.1. Отсутствие связки. Исследование, выполненное на материале около 50 языков, показало, что ситуация выглядит несколько иначе с точки зрения типологии. Во-первых, предикативные категории могут выражаться и без участия связки[21]. Например, связка может просто отсутствовать. Данная ситуация имеет место, к примеру, в аварском и бенгальском языках. В аварском языке бытийный глагол имеет полную парадигму форм; тем не менее, в настоящем времени он, как правило, опускается:
Отсутствие связки в аварском языке невозможно признать случаем нулевой связки, подобной той, которая постулируется в русском языке. Нулевая связка в русском языке всегда имеет значение настоящего времени и таким образом является заместителем формы настоящего времени глагола «быть». В аварском языке невозможно приписать нулевой форме значения определенных категорий; кроме того, при попытке ввести нулевую связку в парадигму глагола «быть» у него окажется на одну форму больше, чем у остальных глаголов.
В бенгальском языке связка в предложениях с именным сказуемым вообще не требуется — в том числе и в предложениях, относящихся к прошедшему времени. Время в таких предложениях выражается с помощью наречий (как в (2)) или за счет контекста:
(2) kuber takhan chota
Кубер тогда маленький
«Кубер тогда был маленьким» [Быкова 1960: 54].
В [Stassen 1997] отмечается, что нулевая стратегия оформления предложений с именным сказуемым (в том числе и в прошедшем времени) может быть характерна для целых лингвистических ареалов. Например, это стандартная стратегия в языках Папуа Новой Гвинеи:
асмат (Папуа Новая Гвинея)(3) no ow akat
я мужчина красивый
«Я — красивый мужчина, я был красивым мужчиной» [Stassen 1997: 69].
2.1.2. Присоединение показателей предикативных категорий непосредственно к именному сказуемому. В предыдущем разделе была рассмотрена нулевая стратегия оформления предложений с именным сказуемым — одна из возможностей выражения предикативных категорий без участия связки. С другой стороны, показатели лица, времени и наклонения могут сами, без посредничества связки, присоединяться к сказуемому-имени. Например, в ненецком именное сказуемое получает показатели и лица, и времени:
(4) мань хасаванэ нися-ни ню-дам-зь
1SG мужчина отец-GEN. 1 DU сын-1SG-РSТ
«Я, мужчина, был сыном своего отца». [Терещенко 1973:154]
Присоединение к именному сказуемому показателей наклонения — более редкое явление, но и оно встретилось в языках выборки. В кабардинском языке именное сказуемое может быть оформлено показателем условного наклонения:
(5) улI-мэ, уи куэпкьыирсъэ-мкIэ кьеуэ!
мужчина-COND твой верхняя. часть. бедра-INSTR отбивать. IМР
«Если (ты) мужчина, (удары. — Е. К.) верхней частью бедра отбивай!» [Яковлев 1948: 366]
Таким образом, с точки зрения типологии, выражение категорий лица, времени и наклонения возможно не только с помощью глагола: данные категории могут быть выражены за счет контекста, а также при самом именном сказуемом.
2.2. Другие категории, выражаемые связками. Помимо того, что выражение предикативных категорий происходит без участия связки, в языках выборки оказалась возможной и другая ситуация: присутствие связки никак не связано с выражением времени и наклонения. В ряде языков связка при именном сказуемом выражала совсем другие категории — относительного времени, коммуникативной структуры и иллокутивной силы.
2.2.1. Относительное время. В ряде языков — в частности, в хакасском примере (6) — глагол-связка, используемый при именном сказуемом, сам имел форму причастия.
Парадоксальным в данном случае является появление связки в причастной форме: причастие, являясь именной репрезентацией глагола[22], так же, как и имя, должно требовать связки для выражения предикативных категорий. Появление связки в причастной форме труднообъяснимо, так как ожидается, что именная репрезентация глагола потеряет свойство выражать предикативные категории (время). Еще более труднообъяснимыми выглядят хакасские аналитические образования из двух причастных форм, так как в данном случае особенно очевидным является то, что и смысловой, и вспомогательный глаголы имеют одинаковый потенциал в плане выражения финитных предикативных категорий:
(7) хыс-тар иб-зер наннап-чатхан
девушка-РL дом-АLL, расходиться-РАRТ.IРР
пол-fан-нар
быть-РАRT.РF-3РL
«Девушки <…> расходились домой» [Грамматика 1975:225–226].
Однако анализ других форм с глаголом «быть» в хакасском языке показывает, что перфектное причастие данного глагола является маркером не абсолютного, а относительного времени, т. е. формы с этим причастием обозначают действие, совершившееся или совершающееся относительно некоторого момента в прошлом, и употребляются в контексте, «который предполагает другое прошедшее, более близкое к моменту речи» [Грамматика 1975: 222]. Это иллюстрируется в примере (8), где аналитическая форма состоит из двух перфективных причастий (одно из них — от глагола «ходить»). Более близкое к моменту речи действие обозначается в этом примере словоформой «вылез».
Рассматриваемая аналитическая форма обозначает действие («ходили за вениками»), предшествующее по отношению к действию в следующем предложении («вылез»). В цитируемой грамматике отмечается, что все формы с перфектным причастием от глагола «быть» предполагают наличие некоторой точки отсчета в прошедшем, не совпадающей с моментом речи, относительно которой происходит временной дейксис. А поскольку формы относительного прошедшего времени импликативно выражают и абсолютное время (например, английский плюсквамперфект назван в [Comrie 1985] абсолютно-относительным временем), становится возможным объяснить появление глагола «быть» в форме перфектного причастия — показателя относительного времени — и при именном сказуемом.
Итак, в хакасском языке предикативной категорией является не абсолютное, а относительное время. Момент речи по умолчанию является той точкой отсчета, относительно которой определяется темпоральная локализация события. Форма глагола «быть» вводит новую точку отсчета в прошедшем, отличную от момента речи. Это и позволяет употреблять в качестве связки причастную форму, которая выражает не абсолютное, а относительное время.
2.2.2. Категории коммуникативной структуры.
2.2.2.1. Фокус. В цахурском языке имеется специальный фокусный показатель wo-CL, который не является элементом парадигмы бытийного глагола. Цахурский глагол ixes «быть», как и любой другой глагол, имеет три основных формы — потенциалиса (ixes), перфекта (ixa) и имперфекта (ejxe). Показатель wo-CL, во-первых, с точки зрения фонемного состава отличается от форм бытийного глагола; во-вторых, добавление его в парадигму бытийного глагола малооправдано еще и потому, что в этом случае глагол быть будет иметь больше форм, чем остальные глаголы. Маркер wo-CL обозначает фокус — «элемент предложения, который… выделяется как сообщающий наиболее значимую информацию» [Кибрик 1999: 582]. Хотя в цитируемом описании данный фокусный маркер назван связкой, он отличается от европейской связки в первую очередь тем, что используется одинаково в именных и глагольных предложениях, тогда как европейские связочные глаголы употребляются только при именном сказуемом и нефинитных формах глагдла. В примере (9) фокусный маркер употребляется сперва при именном сказуемом, а во второй части предложения — при финитном глаголе:[23]
2.2.2.2. Топик. В языках выборки оказалась возможной и иная ситуация: формально маркировался не фокус, а топик предложения. Например, в монгольском языке элементы, называемые показателями подлежащего, так же как и фокусный маркер в цахурском, употребляются и в глагольных (10), и в именных (11) и (12) предложениях:
(10) Цэрэн бол//нь Доржи-йнд очи-в
Цэрэн быть[24]//3SС.РOSS Доржи-DАТ ИДТИ-РSТ
«Цэрэн отправился домой к Доржи» [Санжеев 1960: 87].
(11) хонь бол яман-ас тарган
овца быть коза-АDEL жирный
«Овца жирнее козы» [там же: 87].
(12) яв-сан нь Дамдин-ы эцэг
уходить-РАRT.РF 3SG.РOSS Дамдин-GEN отец
«Ушедший (есть) отец Дам дина» [там же: 88].
Характерно, что монгольский глагол «быть» также имеет полную парадигму форм, однако не он употребляется в предложениях с именным сказуемым, а показатели подлежащего, не являющиеся финитными глаголами. Этот факт говорит о том, что в монгольском языке (равно как и в цахурском) категории коммуникативной структуры обладают приоритетом по отношению к прочим предикативным категориям, выражаемым финитным глаголом. Употребление показателей коммуникативной структуры в цахурском и монгольском языках оказывается достаточным условием для того, чтобы сочетание двух именных групп стало предикативной единицей — предложением.
2.2.3. Категории иллокутивной силы. В качестве примера языка, в котором связка выражает категорию иллокутивной силы, в данном разделе рассматривается багвалинский. В багвалинском языке дистрибуция связки также отличается от среднеевропейского стандарта: связка (13) опускается при наличии в предложении вопросительных частиц (14), вопросительных слов (15) и модальных глаголов (16):
Для сравнения можно привести английские примеры, в которых связка, чьей функцией является выражение времени (а также лица-числа и наклонения), сохраняется в вопросительных предложениях (Who are you?), а также при модальных глаголах (It must have been love). Багвалинский же материал наглядно демонстрирует, что связка наряду с вопросительными элементами и модальными глаголами входит в парадигму средств маркирования иллокутивной силы и используется в индикативных ассертивных предложениях (см. также [Калинина 1999]). Показательно, что таким же образом в багвалинском выражается иллокутивная сила и в предложениях с аналитическими формами глагола: связка также опускается при наличии одного из вышеупомянутых элементов. В примере (17) это вопросительное слово:
(17) den heL'i: «he-b-i-Rë du-ha
lSG.ERG сказать что-N-Q-QUOT 2SG.OBL-DAT
q'oča-m-о?»
хотеть-N-CONV
«Я сказал: „Что ты хочешь?“». [Кибрик 2001:428]. Ср.:
(18) о-ra paruz-abi q'oča-n-о ek¸'a
этот-OBL.HPL.DAT папироса-PL хотеть-NPL–CONV есть
«Они хотят сигареты».
Выражение категории иллокутивной силы часто бывает возможным только в главном предложении в составе сложноподчиненного. Поэтому в багвалинском языке связка как правило отсутствует, когда именное предложение является сентенциальным актантом матричного предиката. В этом случае сказуемое именного предложения оформляется особой частицей — маркером подчинения (она же оформляет и глагол в том случае, если вставленное предложение является глагольным):
Приведенные факты различных языков говорят о том, что в типологии глаголоцентричная схема предложений с именным сказуемым, действующая в языках среднеевропейского стандарта, не является стопроцентно применимой. Во-первых, предикативные категории времени, лица и наклонения могут быть выражены и без участия связки (см. 2.1). Во-вторых, связки могут выражать и другие категории — относительного времени (см. 2.2.1), коммуникативной структуры (см. 2.2.2) и иллокутивной силы (см. 2.2.3). Более того, категории коммуникативной структуры и иллокутивной силы в некоторых языках имели приоритет по отношению к прочим предикативным категориям: появление показателей топика (монгольский), фокуса (цахурский), вопросительного слова или вопросительной частицы (багвалинский) делает излишним присутствие связки, выражающей время. Все эти факты свидетельствуют в пользу того, что типология предложений с именным сказуемым не может быть основана на представлении об обязательности (глагольной) связки в таком предложении. Новый принцип рассмотрения предложений с именным сказуемым в типологии можно сформулировать следующим образом: сочетание двух именных групп должно быть оформлено как предложение с помощью тех средств, которые участвуют в формировании предложения в данном языке. А это, в свою очередь, требует разработки типологии предикативности, включающей следующие параметры: а) набор обязательных предикативных категорий в данном языке (с учетом категорий коммуникативной структуры, иллокутивной силы и относительного времени); б) иерархия предикативных категорий, их ранжирование относительно друг друга (например, категории коммуникативной структуры могут обладать приоритетом по отношению к категории времени); в) средства выражения данных категорий (глагольная морфология, контекст или уровень синтаксических составляющих — например, в сказуемом независимо от его частеречной принадлежности).
Говоря о поверхностных средствах выражения обязательных предикативных категорий, необходимо учитывать возможность эллипсиса. В каждом языке есть контексты, в которых поверхностное выражение той или иной обязательной категории может варьировать. Например, в русском языке в предложениях Ваш выход! или Пожар! интонация, а не глагол, выражает предикативную категорию наклонения. Варьирование средств оформления в других языках возможно для других категорий и в других контекстах. Рассмотрим несколько примеров.
В древнерусском языке на определенном этапе происходила «конкуренция» именных предложений со связкой и без, однако прослеживается тенденция опускать связку тогда, когда в предложении есть выраженное местоименное подлежащее, и наоборот, в отсутствие местоимения употреблять связку. Ср.:
Днесь есми былъ пьян
(Сатиры о пьянстве [Сравнительно-исторический синтаксис… 1981:5]).
Язъ вашъ царь
(Синодальный список I Новгородской летописи, л. 134, 12 [Ломтев 1954:43]).
Еще более четко данная тенденция проявлялась в древнегреческом языке (см. [Kahn 1973]). В примере (20) присутствует местоименное подлежащее; в примере (21) оно отсутствует, а глагол-связка имеет соответствующую форму — 2 лица множественного числа:
Таким образом, даже в языках Европы, где связка является обязательной, она могла опускаться, когда предикативная категория лица выражалась другими средствами — например, в личном местоимении-подлежащем.
В современном иврите связка является маркером топика и также считается обязательной при сказуемом-имени. Однако в некоторых примерах она может отсутствовать. Ср. (22а), где связка не может быть опущена и (22б) — в нем связка может отсутствовать:
(22а) znut hi/*Ø mikcóa
проституция СОР профессия «Проституция — это профессия».
(22б) znut (hi) mikcóa atik meod
проституция (COP) профессия очень древний
«Проституция — это очень древняя профессия». [Berman & Grosu 1976: 270].
Объяснение состоит, на мой взгляд, в следующем. Тот факт, что в иврите, как и в монгольском, именное предложение имеет маркер топика, говорит о том, что приоритетной предикативной категорией в современном иврите является коммуникативная структура. Именно выраженность коммуникативной структуры превращает сочетание двух именных групп в предикативную единицу — предложение. Однако маркер топика — это не единственное средство экспликации коммуникативной организации. Из сравнения примеров (22а) и (22б) становится ясно, что коммуникативная структура предложения (22б) оказывается более прозрачной за счет распространенного сказуемого, тогда как предложение (22а) имеет большее сходство с именной группой. Аналогичным образом, в цахурском языке, где актуальное членение предложения также имеет приоритет над другими категориями (см. 2.2.2.1), показатели фокуса в именном предложении могут отсутствовать в контексте вопроса «Что такое X?». Действительно, в этом контексте коммуникативная структура ответа легко восстанавливается, что и объясняет отсутствие других средств маркирования предложения в ответной реплике диалога (23):
Привлечение данных различных языков позволяет предложить типологически адекватную схему описания предложений с именным сказуемым в рамках типологии предикативности. В основе этой схемы не должно лежать представление об обязательности глагола-связки. Предлагаемая типология предикативности включает три параметра. Во-первых, это набор предикативных категорий, которые должны быть выражены в независимом предложении. В европейских языках это в первую очередь время, наклонение и лицо-число субъекта. В других языках к этому набору добавляется регулярное выражение относительного времени, иллокутивной силы и коммуникативной структуры. Второй параметр — это их иерархия или ранжирование предикативных категорий друг относительно друга. Третьим параметром являются средства выражения предикативных категорий. Некоторые из них могут выражаться в глаголе, и тогда присутствие глагола-связки является обязательным, как в европейских языках; некоторые — наоборот, в сказуемом независимо от его частеречной принадлежности. Ряд категорий выражается с помощью специальных показателей, которые в описаниях называются связками, но на мой взгляд, неоправданно. Наконец, данные категории могут выражаться контекстом или интонацией, а иногда наблюдается варьирование средств выражения той или иной категории.
Иными словами, предложения с именным сказуемым не должны рассматриваться как принципиально отличный тип предложения. Предложение с именным сказуемым маркируется с помощью существующих в языке средств оформления предикативных единиц, которые могут быть достаточно разнообразными.
Быкова Е. М. Подлежащее и сказуемое в бенгальском языке. М., 1960. Грамматика хакасского языка. М., 1975.
Калинина Е. Ю. Типологическое объяснение фактам наличия/отсутствия связки (на материале багвалинского языка) // «Диалог 99» — международная конференция по компьютерной лингвистике и ее приложениям / Ред. А. С. Нариньяни. Таруса, 1999.
Кибрик А. Е. (ред.). Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
Кибрик А. Е. (ред.). Бапвалинский язык: Грамматика. Тексты. Словари. М., 2001.
Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1954.
Санжеев Г. Д. Современный монгольский язык. М., I960. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков: Члены предложения. М., 1982.
Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков. JL, 1973.
Яковлев Н. Ф. Грамматика кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948. Berman R., Grosu A. Aspects of copula in Modem Hebrew // Studies in Modem Hebrew Syntax and Semantics. Amsterdam, 1976.
Comrie B. Tense. Cambridge, 1985.
Kahn Ch. H. The Verb «Be» in Ancient Greek. Dordrecht, 1973.
Ries J. Was ist ein Satz? Prag, 1931.
Stassen L. Intransitive Predication. Oxford, 1997.
С. Кароляк
О зависимости между видом глагола и определенностью имени
1
Предметом настоящей статьи является обзор значимостей позиций (синтаксических мест), открытых глаголом для имен, находящихся в рематической части предложения, в принципе, позиции у в пропозициональной функции Р(х, у). Речь пойдет о значимостях, релевантных для определенности/неопределенности имен, заполняющих эту позицию. Чтобы предвосхитить возможные недоразумения, уточним, что обзор ограничен бесконтекстными именами, т. е. именами, экстенсионал (денотация) которых предопределен только их интенсионалом и значимостью заполненной ими позиции, открытой глагольным предикатом, употребленным в функции сказуемого. Так как видовая семантика является неотъемлемым компонентом значения глагола, вид соучаствует в определении названной значимости.
Цель обзора — попытка привести доказательства в пользу адекватности гипотезы о том, что взаимодействие значимости позиций и значений имен носит не частно-языковой, а общий характер (it is a general necessity imposed by the structure of facts), и что оно предопределяет в обязательном порядке выбор артиклей в рамках свойственной отдельным языкам формальной стратегии, показывающей, как общее проявляется в частном.
Обзор проводится в рамках семантической грамматики (или комбинаторики понятий), следовательно, вид и определенность/неопределенность истолковываются как понятийные категории. В частности, определенность понимается как достаточность интенсионала для точного определения его объема в данном сочетании, а неопределенность, соответственно, как недостаточность интенсионала. В случае сочетаний глагола с именем, заполняющим объектную позицию (позицию у), значение определенности/неопределенности — это равнодействующая импликации подчиняющего глагола, т. е. значимости открытой им объектной позиции, и подчиненного ему простого или сложного имени. Она проявляется в совпадении или несовпадении (включении или пересечении) объемов, предопределенных содержанием подчиняющего и подчиненного понятий.
Для обзора взяты два артиклевых языка, французский и болгарский, т. е. языки, имеющие явные знаки, отражающие значимость позиции с наложенным на нее семантическим ограничением, представленным в форме зависимого имени.
Два примера дадут представление о релевантности видовой семантики глагольного контекста для исчисления возможных заполнений объектной позиции с точки зрения понятия определенности. Во французском варианте пропозициональной функции Р(х, у) — х а canonisé у — глагольная форма passé composé a canonisé со свойственной ей результативной конфигурацией видов, предопределяет значимость аргументной позиции у как позиции, предназначенной для закрытых множеств объектов. В структуре естественных языков эта позиция может быть заполнена именем в ед. или во мн. числе. Если для ее заполнения используется общее имя в ед. числе, т. е. имя с бесконечным объемом (денотирующее открытое множество объектов), возникает ситуация недостаточности его интенсионала для выделения закрытого множества и, как ее следствие, несовпадение объемов, точнее, несовпадение между значимостью позиции, открытой глаголом, и значением имени. Формой ед. числа можно в данном случае выразить лишь факт отбора одного из объектов, принадлежащих к денотируемому именем открытому множеству, т. е. факт неопределенности. Такая комбинация смыслов отражается в артиклевых языках употреблением неопределенного или нулевого артикля (в зависимости от избранной данным языком формальной стратегии), например,
фp. Le pape Boniface VIII a canonisé un roi de France,
болг. Папа Бонифатий VIII канонизирап (един) френски крал.
Если для заполнения объектной позиции используется мн. число с бесконечным объемом, возможна та же комбинация смыслов со сходной формой ее отражения в артиклевых языках, например,
фр. Les terroristes ont pris des otages,
болг. Терористите взеха заложницы.
2
Обзор начнем с предложений, конститутивный член которых — глагол с результативной или инхоативной (ингрессивной) конфигурацией видов, т. е. двувидовой (сложный по виду) результативный или инхоативный глагол. Во французском языке этот сложный совершенный вид однозначно отражают формы passé composé/passé simple, в болгарском языке — формы аориста результативных/инхоативных глаголов или формы результативного перфекта.
Объектная позиция (позиция у), открытая результативными/инхоативными глаголами, обозначающими многозначные (одно-многозначные и много-многозначные) отношения, имеет многозначный характер, и она предполагает закрытые множества объектов, в том числе одноэлементные множества. Если ее заполнить экстенсионально многозначным исчисляемым именем в ед. числе, т. е. именем, объем которого — открытое (бесконечное) множество объектов, имя, естественно, становится неопределенным по вышеупомянутому принципу недостаточности иненсионала для точного выделения единичного объекта из множества.
Формальное правило французского языка требует сочетания данного имени с неопределенным артиклем. Параллельное правило в болгарском языке требует нулевого или факультативно неопределенного артикля. Примеры:
фp. Les terroristes ont pris un otage.
On a détruit un monument historique.
Le juge a condamné un innocent.
Un passager a agressé une conductrice.
Suzanne Mayoux a traduit un roman anglais.
Pierre a trouvé un collaborateur de qualité,
болг. Терористите взеха/са взели заложник.
Тука сьбориха/са съборили (един) исторически паметник.
Съдиата осъди/е осъдил невинен човек.
Един пытник нападна/е нападнал шофьор.
Тя преведе/е превела (един) английски роман.
Петър намери/е намерил качествен сьтрудник.
Во мн. числе закономерности употребления общих имен с результативными/инхоативными глаголами сложнее: здесь наблюдаются ограничения, не существующие в ед. числе. Общие имена допускаются в объектной позиции только теми глаголами, в сочетании с которыми они имеют партитивную интерпретацию, т. е. когда они обозначают закрытые неопределенные подмножества открытых множеств. Это в принципе глаголы, которые могут образовывать трехвидовые предельные дериваты, с которыми общие имена во мн. числе обозначают закрытые коллективные множества. Их неопределенность обозначается во французском языке неопределенным, а в болгарском языке нулевым артиклем, например,
фр. Ona découvert des manuscrits d'un nécromancier.
Les terroristes ont pris des otages.
Sa réputation lui attira des disciples.
La vieille a fricassé des poulets pour le dîner.
Nous avons allumé des bougies.
On a inventé des subterfuges pour refuser l'invitation.
Pierre m'acheté des fleurs,
болг. Откриха/открыли са ръкописи на един чернокнижник.
Терористите взеха/са взели заложницы.
Славатаму привлече/е привлекла към него ученици.
Старата жена изпържи/е изпържила пилета за вечерята.
Запалихме/запалили сме свещи.
Те измислиха/са измыслили хитрини за да избегнат поканата.
Петър ми купи/ми е купил цветя.
Закрепи се Тонката, създаде си купувачи, напьлни дюкана със стоки.
Запазихме/запазили сме плодове за зимата.
Не вступают в сочетания типа выше приведенных результативные/инхоативные глаголы, обозначающие действия, производимые на дистрибутивных объектах. Это в принципе глаголы, от которых могут быть произведены более сложные в видовом отношении мультипликативные дериваты. Они предполагают полные закрытые множества и требуют от имен либо количественной определенности, обозначаемой сочетанием имени с количественным числительным, либо определенного мн. числа. Определенность имен, обозначающих открытые множества, в сочетании с названными глаголами может быть получена лишь в результате семантического согласования с языковым или прагматическим контекстом. Примеры:
фр. Il a lu deux romans policiers.
Elle a traduit plusieurs romans anglais.
Ils ont mangé un kilo de cerises.
II a tourné trois films d'aventures.
L'ingénieur Dupont a construit deux ponts sur la Vistule.
Elle a cassé les verres.
II a sauvé les enfants d'un incendie.
Ils ont détruit les idoles.
Ils ont empoisonné les invités/leurs invités.
II a envoyé les lettres.
Ils ont mangé les cerises,
болг. Той прочете/e прочел два криминални романа.
Тя преведе/е превела няколко английски романа.
Те изядоха/с изяли три килограма черешни.
Той сне/е снел пет приключенчески филма.
Инженерът Тошев построй/е построил два моста на Висла.
Тя изтроши/е изтрошила чашите.
Той спаси/е спасил децата от пожара.
Те събориха/са сьборили идолите.
Те ompoeuxa/ca отравили гостите.
Те изядоха/са изяли прасковите.
Согласно этому правилу, неверны в результативном/инхоативном прочтении предложения французского языка с неопределенным мн. числом, например,
фр. Georges a écrit des livres sur l'article.
Il a sauvé des enfants d'un incendie.
Elle a traduit des romans anglais.
Il a défendu des coupables.
Ils ont indentifié des voleurs.
Ils ont mangé des kiwis.
Nous avons cueilli des fraises.
Ils ont brisé les idoles.
Il a tourné des films d'aventures.
L'ingénieur Dupont a construit des ponts sur la Vistule.
Чтобы избегнуть недоразумений, уточним, что приведенные предложения грамматически правильны, но в другом значении, т. е. тогда, когда глаголы в сказуемом обозначают не результативную, а лимитативную конфигурацию видов. В отличие от французского языка, в болгарском языке употребление аориста или результативного перфекта с неопределенными именами во мн. числе в принципе грамматически неправильно, за исключением случаев генерализации типа Той е спасип деца (а не старци), например,
*Изядохме/изяли сме круши.
*Той прочете/е прочел вестници.
*Тя прев еде/е превела английски романи.
*Жорж написа/е написал книги за члена.
*Те откраднаха/са откраднали коли.
*Той сне/е снел приключенчески фильмове.
*Тя изтроши/е изтрошила чаши.
*Инженерът Тошев построй/е построй мостове.
*Бомбардировките разрушихи/са разрушили градове.
3
В предложениях с трехвидовыми предельными глаголами, семантически производными от результативных/инхоативных глаголов, которые в обоих языках, французском и болгарском, имеют в этом значении формы настоящего времени и имперфекта, действует в ед. числе то же правило, что и в предложениях с их деривационными основами, т. е. с результативными/инхоативными глаголами. Общие имена, которые в сочетании с предельными глаголами обозначают единичные неопределенные объекты, требуют во французском языке неопределенного артикля, в болгарском же языке употребляются с нулевым артиклем, например,
фp. Georges écrit un livre sur l'article.
Une entreprise française construit un pont sur la Vistule.
Un groupe de manifestants saccage un bureau.
On tournait içi un film d'aventures.
Pierre cherchait un collaborateur de qualité.
La vieille fricassait un poulet pour le dîner,
болг. Жорж nuшe книга за члена.
Една френска фирма строи мост на Висла.
Една група манифестанты ограбва учреждение.
Тука снемаха един приключенчески филм.
Петър тьрсеше качествен сьтрудник.
Старата жена пържеше пиле за вечерята.
Во мн. числе общие имена могут употребляться с предельными глаголами только тогда, когда они обозначают закрытые коллективные множества, т. е. когда действие производится на множестве объектов в одном и том же временном интервале. Это имеет место в тех случаях, когда их деривационные основы допускают сочетаемость с неопределенным мн. числом, обозначающим — при единичном субъекте — коллективное множество. В данной комбинации понятий действует то же правило недостаточности интенсионала, отражаемое в поверхностной структуре французского языка неопределенным артиклем, а в болгарском языке нулевым артиклем, например,
фр. Il achète des livres.
La vieille fricasse des poulets pour le dîner.
Elle me donne des pommes.
Pierre cherche des collaborateurs de qualité,
болг. Една млада мома кьса цветя.
Той яде череши.
Старата жена пьржи пилета за вечерята.
Тя ми дава ябълки.
Петър търси качествени сътрудници.
Исключаются сочетания предельных глаголов с общими именами во мн. числе со значением дистрибутивных множеств. Глаголам несовершенного вида, образующим грамматически правильные предложения в сочетании с неопределенным мн. числом, свойственна мультипликативная конфигурация видов, например,
фр. Elle éteint des bougies/des lampes.
Elle casse des verres/des tasses.
Elle mange des pommes/des pêches,
болг. Тя гаси/запалва свещи/лампи.
Тя чупи съ до ее/чаши.
Тя троши стъкла/чаши.
На то, что данным глаголам свойственна не предельная конфигурация видов, а конфигурация мультипликативная, предполагающая закрытое дистрибутивное множество объектов, указывает косвенно неестественность сочетаний, содержащих имена числительные как компоненты названий коллективных множеств, например,
фp. Elle casse trois tasses/deux lampes (!)
Elle éteint cinq bougies (!)
П détruit cinq immeubles (!)
Il vole cinq icônes (!)
болг. Тя троши три чаши/чупи две лампи (!)
Тя гаси пет свещи (!)
Той събаря пет сгради (!)
Той краде пет тони (!)
4
Выше мы приводили примеры предложений с французскими формами passé composé и passé simple в сочетании с неопределенным мн. числом, которые не имеют результативного прочтения. Они обозначают лимитативную конфигурацию видов, для которой в славянской аспектологии употребляется термин общефактическое значение, например,
фр. Georges a écrit des livres sur l'article.
Elle a traduit des romans anglais.
Le juge a défendu des coupables et a condamné des innocents.
Nous avons mangé des kiwis.
Ils ont brisé des idoles.
Il a tourné des films d'aventures.
В болгарском языке в этом значении употребляется т. наз. экзистенциальный перфект от глаголов несовершенного вида, показывающий ярче, чем эквивалентные французские формы, семантическое отличие лимитативности от результативности, например,
Чел съм криминални романы.
Ял съм маслины.
Той е снемал прилюченчески филмове.
Той е спасявал деца от пожари.
Тошев е строил мостове в Полша.
Те са тровили деца.
Този човек е убивал невинни хора.
Той е крал коли.
Переводы с французского на болгарский язык показывает, однако, что употребление форм с общефактическим значением в этих языках неодинаково. В качестве эквивалента общефактического passé composé/passé simple употребляется, наряду с экзистенциальным перфектом, также имперфект. Последний встречается даже чаще, например,
Du temps de la guerre sale <…> les militaires ont volé des enfants à leurs familles (Le Figaro).
По време на мрьсната война <…> военните крадяха деца от семействата им.
Les membres de la junte ont assassiné des parents, puis ont tué l'identité des enfants (Le Figaro).
Членовете на хунтата убиваха родители, а след това унищожаваха идентичността на дената.
«Justes» sont ces prêtres qui ont donné aux Juifs des certificats de bâpteme pour les aider.
Праведни са онези свещеници, които са издавали кръщелни свидетелства на евреите, за да им помогнат.
5
В отличие от упомянутых выше актуальных форм настоящего времени и имперфекта, неактуальные формы, которые в обоих языках обозначают действия, выполняемые в несмежных временных интервалах на единичных предметах, принадлежащих к открытым множествам, не имеют ни предельного, ни мультипликативного прочтения. Они обозначают узуальную (хабитуально-потенциаль-ную) конфигурацию видов с длительной доминантой и подчиненной ей результативной конфигурацией. Разница по видовой структуре глагола видна при противопоставлении ед. и мн. числа:
фр. Il lit un roman policier.
Il lit des romans policiers.
Elle traduit un roman anglais.
Elle traduit des romans anglais,
болг. Той чете криминален роман.
Той чете криминални романи.
Тя превежда (един) английски роман.
Тя превежда английски романи.
Имя, употребляемое в открытой узуальными глаголами объектной позиции, имеет форму мн. числа с генерическим значением. Во французском языке действует относительно строгое правило детерминации. В случае узуального варианта, т. е. тогда, когда имеется в виду узуальная реализация действий, требуется неопределенный артикль. В случае же потенциального варианта, который обозначает предрасположение к действию или предназначение к нему, требуется определенный артикль. Если глагол может иметь оба прочтения, при нем наблюдается чередование обеих форм с разными импликациями, например:
Mon père collectionne des tableaux.
Mon père collectionne les tableaux.
Ce commerçant trompe des clients.
Ce commerçant trompe les clients.
Однако в предложениях с явно выраженной диспозитивной интенцией мена форм невозможна: употребляется только имя с определенным артиклем, например,
Ce commerçant trompe les clients, comme d'autres respirent.
Elle [Adèle, dans le film «La fille sur le pont»] collectionne les catastrophes et les échecs, ce qui ne l'empêche pas d'etre enthousiaste… (Le Figaro).
Примеры с узуальным значением:
Georges écrit/ecrivait des livres sur l'article.
Elle traduit/traduisait des romans anglais.
L'ingénieur Dupont construit/construisait des ponts sur la Vistule.
II volait des icônes/des voitures de luxe.
Du haut de sa chaise, il prêche des mensonges.
Ce magistral condamnait des innocents et acquittait des coupables.
La société fait des lois pour se préserver.
Il [Kologrivov] cachait des proscrits dans sa maison, il fournissait des avocats aux accusés politiques, et, disait-on en plaisantant, il sapait lui-même sa situation de propriétaire en organisant des grèves dans sa propre usine (Pasternak).
Примеры с диспозитивным значением:
Les députés font les lois.
II ne supporte pas les humiliations et les plaisanteries.
Don Quichotte voulait être un chevalier, défendre les faibles et pourfendre les méchants (Maurois).
La loi de Moïse ordonne de lapider les adultères.
В болгарском языке положение несколько сложнее: употребление определенного или нулевого артикля не так строго нормировано, как во французском языке. Можно лишь сказать, что имеется тенденция к употреблению определенного артикля в диспозитивных глагольных контекстах, но нередко в них допускаются оба варианта. Сравним:
Gardez-vous des flatteurs et des faux prophètes.
Пазете ce от ласкатели/ласкателите и от фалшиви/фалшивите пророци.
Le barbare n'est pas seulement l'envahisseur qui enfonce les portes à coup de crosse et viole les femmes.
Варварин не e само нашественникьт, който разбива врати/аратите с удар на приклад и изнасилва жени/жените.
Il ne supporte pas les plaisanteries.
Той не понося шеги/шегите.
Il faut concevoir la grammaire comme un mécanisme qui engendre les phrases en plusieurs étapes.
Граматиката трябва да ce разбира като механизъм, който генерира изречеиня/трсчспията па няколко етапа.
L'Italie est le pays des complots. On y empoisonne les papes.
Италия e страна на заговорите. Там тровят nanulnanume.
В нижеследующих предложениях с диспозитивным значением требуется употребление определенного артикля:
болг. Народното събрание приема законите.
Дон Кихот искал да защитава слабите и да наказва лошите.
Моисеевият закон налога убиване на блудниците.
Държавният глава назначива посланиците.
Течащата вода изтрива отпсчатъците от пръсти, премахва следите от коси или перченцата тъкан, който биха могли да представляват веществено доказателство.
Ласкае се, чеумее от място да разобличава хипокритите.
Човек трябва да избягва прибързаните заключения.
В случае предложений с узуально-потенциальным значением преобладает нулевой артикль. Он появляется систематически в предложениях с модальными словами, обозначающими возможность — може, способен е и др., например,
…ако човек непоколебимо вярва в това, че е способен да пренася планини, действително ще може до го стори? (Моъм).
Охотно признаваха превьзходството на човека над животното, превъзходство, състоящо се в способността на човека да създава точны теориы (Райл).
Една ненавременна усмивка, един поглед, чието изражение не е каквото тряба, може да събуди подозрения и да стане повод за опасни упреци (Милош).
Кароляк С. К вопросу о понятиях и терминах славянской аспекгологии // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. Iss. I.
Imbs P. L'emploi des temps verbaux en français moderne. Paris, 1953.
Karolàk S. Le statut de l'article dans une syntaxe a base sémantique // Actes du colloque «Détermination: syntaxe et sémantique» (Metz 6–8 décembre 1984). Metz, 1986. (Recherches Linguistiques XI).
Karolak S. Remarques sur la sémantique de l'aspect // W. Smoczynski (éd.). Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz dicata. Cra-coviae, 1995.
Kleiber G. Qu'est-ce qui est indéfini? // Faits de langues, 1994. № 4.
Wierzbicka A. On the Semantics of Verbal Aspect in Polish // To Honor Roman Jacobson. Vol. Ш. The Hague; Paris, 1967.
В. Б. Касевич
Знаки языка и знаки речи?
Принято считать, что существуют две основные теории знака: унилатеральная и билатеральная. Унилатеральная трактует знак как материальный объект, с которым связано определенное значение. Последнее именно связано со знаком (природа этой связи — отдельный вопрос, ср. ниже), но не является компонентом знака; значение не «встроено» в знак. Например, знаки дорожного движения: с точки зрения унилатеральной теории, именно «кирпич» или перечеркнутая буква Р на определенном фоне, указывающая на запрещение парковки, и являются знаками. Они сообщают тому, кто знаком с соответствующей кодовой системой, информацию, которая выступает в качестве значения.
Билатеральная теория, канонизированная Соссюром, но известная в достаточно разработанном виде по крайней мере со времен стоиков, исходит из понятия знака как сочетания материального означающего и идеального означаемого — значения. В этом случае значение есть абсолютно необходимый компонент знака, без которого соответствующий материальный объект просто теряет свою семиотическую природу, выводится за пределы культурных ценностей. Именно это, вероятно, имел в виду Аристотель (хотя и применительно к другой ситуации — эрозии семантики слова), когда говорил, что слова «крылаты и склонны улетать, когда они не отягощены значением».
Кажется, большинство лингвистов и семиотиков придерживаются билатеральной теории знака. Это представляется естественным: «нечто» материальное становится знаком только в том случае, когда в нем незримо присутствует определенная «добавка», делающая данный объект чем-то бóльшим, нежели совокупность его материальных признаков (сколь угодно богатых) за счет включения в систему ценностей, в некоторое информационное пространство. Здесь можно видеть аналогию между так понимаемым знаком и категорией системы. Набор элементов, объектов тоже ведь обнаруживает атрибут системности, когда в нем можно усмотреть некоторый незримо присутствующий «объект-связь» [Смирнов 1978], делающий систему системой; без этой «добавки» набор равен самому себе, тогда как с ней система-целое, по известному замечанию, восходящему к Аристотелю, оказывается больше суммы ее элементов-составляющих. Как знак, так и система обладают свойством неаддитивности.
В то же время билатеральная теория знака порождает проблемы, пути решения которых не вполне очевидны. Главная из них — это вопрос о том, каким образом достигается единство знака как особой целостной сущности, если его составляющие столь разнородны: материальное означающее и идеальное означаемое. Грубо говоря, как соединяются означающее и означаемое, «где» надо искать результат этого соединения — в мире материального или идеального[25]? Вероятно, указанный вопрос пересекается с более общей проблемой соотношения физического и психического: как происходит переход от воспринимаемого физического сигнала к его психическому (идеальному) представлению в ментальных механизмах человека (или иного живого существа, обладающего психикой)[26], но специфика проблемы применительно к природе знака кажется очевидной.
В существующей огромной литературе, посвященной категории знака (мы вынуждены отвлечься от ее рассмотрения ввиду ограниченности объема статьи), обычно не обращается внимания на то, что указанная проблема фактически не существует для Соссюра — наиболее известного из авторов теории билатерального знака. Дело в том, что Соссюр абсолютно ясно и недвусмысленно отвечает на поставленный выше вопрос о том, «где искать» билатеральный знак как единую сущность, как целостность: этот знак принадлежит психике человека (или, в других терминах, ментальным механизмам человека). Снятие проблемы осуществляется за счет «ментализации» означающего, которое, по Соссюру, есть не материальный объект, но «образ» этого последнего. Предоставим слово самому Соссюру: «Этот последний (акустический образ означающего как компонент знака. — В. К), — прямо говорит Соссюр, — является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звука, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств; акустический образ имеет чувственную природу, и если нам случается назвать его „материальным“, то только по этой причине, а также для того, чтобы противопоставить его второму члену ассоциативной пары — понятию, в общем более абстрактному» [Соссюр 1977: 99]. При таком подходе, когда означающее и означаемое «равно психичны» (также слова Соссюра), их объединение в рамках знака становится вполне органичным — как объединение двух единоприродных сущностей. Более того: это даже не объединение, а взаимопроникновение, что прекрасно иллюстрируется знаменитой метафорой Соссюра, который уподобляет связь между означающим и означаемым отношению между двумя сторонами листа бумаги — невозможно разрезать одну сторону, не затронув одновременно другую. Сущность знака во многом и определяется неразрывностью связи между означаемым и означающим; соответственно, изучая структуру означающего, лингвист ищет, что в ней отвечает в структуре означаемого и наоборот. Не случайно Блумфилд определил грамматику как исследование соотношения между звучаниями и значениями.
Между тем закрыв одну проблему, Соссюр оказывается перед другой — ничуть не менее сложной, что позволяет говорить о «парадоксе соссюровского знака» [Касевич; в печати], или семиотическом парадоксе Соссюра. Дело в том, что представления о знаках как орудиях коммуникации, о том, что мы почти буквально обмениваемся знаками в процессе речевой деятельности, о том, наконец, что язык есть система знаков и основная функция этой системы — коммуникативная, укоренены в науке едва ли не в большей степени, чем теория билатеральности знака. Разумеется, возможны оговорки (наподобие не очень ясного тезиса о том, что языковые знаки — это знаки «особого рода»); еще более очевидно, что не всё в языке исчерпывается его семиотической природой и коммуникативной направленностью. Но вряд ли кто-то будет отрицать одновременно знаковую природу и коммуникативную функцию языка.
Проблема, не замеченная, похоже, Соссюром и всей позднейшей традицией, состоит, однако, в том, что соссюровский билатеральный, двуединый знак, не имеющий существования за пределами ментальных механизмов носителя языка, не может быть средством коммуникации, ибо ментальные сущности как таковые некоммуницируемы и невоспринимаемы (если только мы не настаиваем на том, что коммуникация в основе своей телепатична, а та, которую мы реально — в определенных пределах — наблюдаем, лишь вторична и «сопроводительна»). Чтобы обмениваться знаками, надо эти знаки воспринимать, а это значит, что знаки должны содержать материальный компонент не в соссюровском толковании, когда мы имеем дело не с материальностью означающего, а с «образом» материального экспонента знака — они, знаки, должны приобрести материальность в самом прямом смысле слова: должны быть доступны восприятию органами чувств. Как говорит А. А. Зиновьев, «знаки, которые невозможно увидеть, услышать и т. п., — нонсенс. Знак всегда есть нечто ощутимое, а не идеальное» [Зиновьев 1971: 34]. Но именно таковым — т. е. нонсенсом — и является соссюровский знак, ибо, как все ментальные сущности, его нельзя воспринимать органами чувств.
Многие авторы как до Соссюра, так и после него ощущали, вероятно, некое концептуальное неблагополучие в теоретической трактовке знака вообще, основного языкового знака — слова и всего семейства сопряженных понятии. Это можно видеть в высказываниях, которые в описании соответствующих понятий акцентируют то одну их сторону, то другую. Например, в знаменитой французской «Энциклопедии» в статье «Грамматика» (1757, т. 7) говорится: «Значимость (valeur) слов заключается в совокупности идей, которые употребление связывает со знаками» (цит. по: [Ору 2000: 275]). Из приведенной цитаты следует, что «совокупность идей» — т. е. означаемое знака — в сам знак не входит, его компонентом не является, а только лишь «связывается» со знаком. Запомним, что связь эта осуществляется ассоциативно — за счет употребления, к чему мы еще вернемся. Пока отметим, что энциклопедисты, похоже, придерживались унилатеральной концепции знака и при этом не игнорировали вовсе вопрос о том, как же унилатеральный знак оказывается соотнесен со значением.
Несколько веков спустя М. Томаселло полемизирует с теоретическими постулатами генеративной грамматики и утверждает, что последняя в действительности является не чем иным, как своего рода математикой, математическим описанием языка.
Как везде в математике, генеративная лингвистика начинает с абсолютного разграничения синтаксиса — абстрактных формул, которые оперируют лишенными значения символами переменных, соотнесенных с определенными категориями (category labels for variables), и семантики, которая выступает как интерпретация этих формул в тех случаях, когда переменные наполняются значением (are insubstantiated) [Tomasello 1998: xi].
Можно заметить, что формулы математики, строго говоря, не лишены значения. Они указывают на соотношения между соответствующими объектами, количественные и/или качественные, только математические соотношения, как правило, распространяются на чрезвычайно широкие классы объектов, часто бесконечно широкие. Эти соотношения и выступают значением математической формулы; лингвист сказал бы, что такого рода значение отличается высокой степенью абстрактности (возможно, и полисемичности[27]); логик, вероятно, скажет, что для значения математической формулы характерен широкий экстенсионал и узкий интенсивная (т. е. это в логическом смысле слова бедное значение, но никак не отсутствующее, вопреки Томаселло). Языку такие значения также отнюдь не чужды. Ими обладают, например, шифтерные категории или, иначе, индексальные знаки. Так, значение формы настоящего времени — это, как известно, указание на то, что ситуация, описываемая глаголом, имеет место тогда же, когда произносится глагольная словоформа настоящего времени[28].
Томаселло прав, однако, в том отношении, что Хомский заимствовал свою идею описания языка из теории формальных систем, где понимание семантики — следовательно, и значения — не вполне совпадает с лингвистическим: в рамках этой теории семантическая интерпретация придается «готовым» чисто формальным конструкциям, формулам[29] (см. об этом: [Касевич 1977; McMahon 1977; Bellatti, Rizzi 2002]). Возражая против такого подхода к языку, Томаселло пишет: «Основная оппозиция… имеет место не между формальным синтаксисом и семантикой, а между языковым (linguistic) символом и его коммуникативной значимостью; между означающим и означаемым, формой и функцией, символом и значением» [Tomasello 1998: xi], и далее: означающее, форма, символ составляют один полюс, означаемое, функция, значение — другой.
Однако в рамках когнитивно-функционального подхода, который защищает Томаселло, полярность, оппозитивность не означают разобщенности и даже, возможно, сколько-нибудь выраженной самостоятельности. «Не существует языковых структур, которые функционировали бы независимо от значения…» [Tomasello 1998: xi]. В отличие от генеративистов с их квазиматематическим подходом, для Томаселло «…NP — это наделенная значением категория», а не просто «category label» [Tomasello 1998: xi]. И, шире, на следующей странице той же статьи: «…Все абстрактные языковые структуры (schemas) обладают значением, относительно независимым от лексических единиц, потенциально ассоциированных с ними (involved)».
Подход Томаселло и других когнитивистов безусловно более привлекателен, нежели генеративистская парадигма. Но он — по крайней мере в программной статье Томаселло, цитированной выше, — также оставляет незатронутыми важные вопросы теории знака. Можно согласиться со значимостью формы, о чем говорит Томаселло (хотя как быть с собственно фонологическими структурами — правилами фонотактики, например?), но как, «где» все-таки осуществляется соединение формы и значения, означающего и означаемого?
Частичный ответ на этот вопрос (который Томаселло в сущности даже не ставит) можно найти у другого автора — Р. Лангакра, одного из ведущих авторитетов в области когнитивной лингвистики, одного из зачинателей этого направления. Лангакр [Langacker 1998:2] говорит о «символьных (=знаковых) структурах» как о соединении формы и значения (form-meaning pairings). После чего следует чрезвычайно важный пассаж: «С точки зрения базовых представлений когнитивной семантики <…> [языковые] выражения вызывают значения (а не содержат их), что осуществляется в рамках сложного процесса конструирования значения с привлечением всех доступных ресурсов — языковых, психологических и контекстуальных» [там же: 3]; выделено полужирным нами. — В. К).
Правда, на следующей странице той же статьи автор делает знаменательную оговорку. «Возможно, — говорит он, — было бы разумным разграничивать вызванные (evoked) значения и кодированные, при этом семантическая структура принадлежала бы только к области последних». Оговорка приводит к мысли, что «вызванные» значения все-таки не принадлежат языковой системе знаков (что, вообще говоря, хорошо согласуется с одним из центральных постулатов когнитивной лингвистики о принципиальном отсутствии водораздела между языковыми и общекогнитивными механизмами человека). Если это так, то вопрос, заданный в связи с анализом некоторых утверждений Томаселло, остается без ответа и в работе Лангакра.
В то же время сам тезис о «вызванных» значениях имеет широкое (и давнее) хождение и за пределами когнитивной лингвистики. Но прежде чем говорить об этом, кажется необходимым внести некоторую ясность в соотношение понятий «форма» и «означающее»; максимальное их сближение, доходящее до отождествления, можно обнаружить у многих авторов, в том числе и у тех, чьи взгляды анализировались в предыдущем изложении. Означающее знака безусловно правомерно считать его формой, но всякую ли форму уместно трактовать как означающее? Например, порядок слов несомненно является формой, которой соответствует (может соответствовать) вполне определенное значение. Однако стóит ли порядок слов считать означающим? Не все лингвисты согласны трактовать предложение как знак, но в любом случае порядок слов в предложении — не означающее предложения-знака, а лишь атрибут, а, точнее, структура означающего. То же самое относится к таким операциям, как редупликация или конверсия: это безусловно элементы формы, но, опять-таки, не означающие знаков, а операции над знаками. Упрощая, можно сказать, что форма в языке — это всё то, что передает значение; значение может передаваться (1) данной структурой конкретных фонологических единиц (фонем, слогов), (2) трансформацией этих структур: (2.1) с помощью чередований и прочих значимых преобразований, (2.2) аффиксацией, (2.3) операциями над целостными знаками (редупликация, конверсия, изменение порядка слов и др.), (3) использованием супрасегментных фонологических единиц (ударение, тон, интонация). Вполне уместно, как представляется, подвести все эти случаи под канонизированный структурной лингвистикой термин «план выражения». Но только тип (1) из перечисленных выше соответствует тому, что в соссюровской традиции принято называть означающим. Означающее знака, иначе, частный случай плана выражения. Говоря о знаке, означающем в его соотношении с означаемым, мы имеем в виду именно данное, узкое понимание соответствующих категорий.
Мы оставим в стороне — очень важные — вопросы о «тесноте» связи означающего и означаемого (см. об этом, например: [Anderson, Lightfoot 2002; Касевич; в печати]), равно как и проблемы асимметричности знака и его иконичности. Вернемся к понятию «вызванных» значений.
Одна из ранних формулировок, содержащая понятие вызванного значения, принадлежит аббату Жирару в его труде «Vrais Principes de la Langue Française» (1747): «Сущность слова заключается в его голосовом звучании, способном вызывать в уме представление…» (цит. по: [Ору 2000: 276–277]). Совершенно очевидно, что слово для Жирара — унилатеральная единица. Означающее и означаемое (если эти термины здесь вообще применимы) «разнесены» по принципиально разным сферам: означающее («голосовое звучание») принадлежит к сфере материального и, по-видимому, означающее здесь следует приравнять слову, в то время как означаемое отнесено к сфере ментального.
О вызванных (вызываемых) значениях (мыслях) говорит и Хомский в своей недавней монографии. По его словам, «при обычном использовании языка <…> вызываются мысли, которые мог бы выразить слушающий» [Chomsky 2002: 17]. Способность слушающего выразить мысли, которые доносит до него говорящий, вероятно, не следует понимать слишком буквально: вполне очевидно, что даже в пределах обыденного языка далеко не всякий способен и сам выразить мысль, сформулированную специалистом (или «просто» глубоким мыслителем), — и даже понять таковую. Речь здесь, скорее, идет о том, что понимание текста связано со встречной активностью слушающего, который строит гипотезы относительно содержания и формы воспринимаемого высказывания и в этом смысле, базируясь на той же языковой системе и частично совпадающих фоновых знаниях, моделирует предъявленное ему высказывание под «собственное разумение».
Для нас в данном случае важна возвращающаяся в разные эпохи и в разных контекстах идея о вызванных, вызываемых значениях. Не в ней ли возможность решения семиотического парадокса Соссюра?
В самом деле, трудно подвергнуть сомнению реальность соссюровского знака с его не просто билатеральностью, но «биментальностью». Столь же трудно отрицать, что как раз «биментальность» препятствует признанию данного объекта знаком. Не спасет ситуацию и попытка достаточно традиционного снятия парадокса, когда мы постулируем, что соссюровский «знак» есть психологический коррелят языкового знака — в духе традиции искать психологические корреляты фонем, дифференциальных признаков и пр. Приходится признать, что в языке как собственно лингвистической системе (несколько подробнее об этом понятии см. ниже) просто нет такого объекта, где каким-то образом (вне человека и его психики?) соединялись бы материальное означающее и идеальное означаемое. Равным образом не имеет реальной объяснительной силы возможное предположение о том, что «соссюровский знак» есть знак абстрактный, а в речи и в речевой деятельности представлены конкретные экземпляры знака. Причина практически та же: специфичность соссюровского знака именно в его «биментальности» — следовательно, и базой для абстрагирования должно быть множество объектов, обладающих тем же признаком и, наряду с ним, какими-то еще, которыми мы жертвуем при конструировании абстрактного объекта. Но «биментальность» не имеет выхода в речь и речевую деятельность, где только и может обретаться искомое множество объектов — база для появления объекта абстрактного.
Тогда и остается примирить две реальности и две теории — унилатеральности и билатеральности, связав их понятием «вызывания». Коль скоро билатеральные объекты, о которых говорит Соссюр и вся последующая традиция, не существуют вне ментальных механизмов человека и в силу этого являются некоммуницируемыми, мы должны либо отказать им в статусе знаков, либо ввести особое понятие «знак языка», где мы имеем дело с «одним словом» — знак-языка, т. е. составляющая «знак» просто семантически не выделяется. Фактически это делается для сохранения традиции в словоупотреблении — чтобы не пришлось дезавуировать привычные определения, согласно которым язык есть система знаков.
Заметим, что принятое соглашение не распространяется на более широкое понятие языка в его психолингвистической трактовке: мы «не обязаны» приходить к заключению, что и язык как таковой не является средством коммуникации, раз его единицы, знаки языка, не могут непосредственно вовлекаться в коммуникацию. Язык является системой знаков, но он не сводится к системе знаков; язык также предоставляет в распоряжение говорящего/слушающего механизмы коммуникации, механизмы речевой деятельности. Именно в этом смысле мы бы понимали высказывание Хомского о том, что «язык встроен в речевую деятельность (I-languages are embedded mperformance systems)» [Chomsky 2002: 34].
Что же тогда непосредственно используется в общении, в речевой деятельности? Очевидно, это знаки речи и речевой деятельности (для краткости — «знаки речи»), которые являются унилатеральными сущностями. Знак речи конструируется говорящим по правилам языка и с параметрами, которые определяются эталонами-фреймами, входящими в данные подсистемы языка. Упомянутый эталон-фрейм есть не что иное, как знак языка в том смысле, который представлен в рассуждении выше. Знак речи вызывает активацию соответствующего знака языка в ментальной системе слушающего. Определение «соответствующего» в последнем высказывании надо понимать в прямом смысле: между ментальными механизмами говорящего и слушающего, между их системами знаков языка и конкретными знаками должно существовать соответствие (хотя и не полное совпадение), иначе общение, естественно, будет невозможным.
Нельзя не задать еще один вопрос: остается ли в рамках настоящей системы представлений место для языка в «собственно лингвистическом» смысле? Приходится признать, что с развитием наук о языке защищать автономность лингвистики и ее основного объекта становится всё труднее. Ниже мы, в сущности, воспроизведем незначительно модифицированную точку зрения, которую мы высказывали еще в работах 70-х гг. [Касевич 1974; 1977].
Отправляться будет естественно от реального исследовательского процесса, которым занят предполагаемый «чистый» лингвист. Лингвист работает прежде всего с текстом и по данным текста реконструирует систему, которая этот текст породила. Текст, как сказано выше, составлен из знаков речи, унилатеральных единиц. Лингвист в то же время исходит из презумпции осмысленности текста. В данном случае это означает, что существует семантическая структура, соотнесенная со структурой текста, и что существует система, устанавливающая соответствие между структурой текста и семантической структурой. Такую систему уместно считать фрагментом системы языка в собственно лингвистическом смысле.
Ключевой вопрос здесь — в понятии семантики. В контексте обсуждения нашей проблемы семантика не равна значению; семантика здесь выступает как формальный (модельный) аналог значения, которое как таковое неразрывно связано с ментальными механизмами человека, но от последних лингвистика, стремящаяся сохранить автономность, поневоле отвлекается. Как в теории формальных систем, мы можем говорить об интерпретации «высказываний», или разрешенных последовательностей (односторонних) знаков, из которых слагается текст, с помощью некоторых других формальных средств.
Если мы захотим установить интерпретацию второго порядка, соотнеся семантические структуры со структурами значений как ментальных категорий, мы автоматически перейдем от лингвистики к психолингвистике.
«Чистая» лингвистика тем самым оказывается предельным и в известном смысле вырожденным типом науки о языке. Она отвлекается от носителя языка, принципиально исключая его из рассмотрения. В этом смысле она идет дальше той сферы лингвистики, объект изучения которой — мертвые языки. Специалист по мертвому языку не может непосредственно обращаться к исследованию речевого поведения носителя языка, не может экспериментировать с языком, он вынужденно ограничивается текстами. Но он явно или неявно исходит из того, что за изучаемым текстом — носитель языка с присущими ему ментальными механизмами. Постулируемый же «чистый» лингвист даже такую минималистскую (не в смысле Хомского) предпосылку вынужден элиминировать. Для него система, породившая исследуемый им текст, может быть любой — компьютерной программой, например. На алгоритмы работы системы также не налагается никаких ограничений; единственное к ним требование — порождать текст определенного вида, не допускать того, что в данной системе рассматривается как ошибка.
Разумеется, мы описываем некую идеализацию. В «беспримесном» виде не существует ни «чистой» лингвистики, ни «чистых» лингвистов. Но такова логика теории знака, если мы будем развивать ее достаточно последовательно.
И еще одно замечание. Эта логика парадоксальным образом приводит нас к тому, что постулируемая «чистая» лингвистика ближе всего оказывается к лингвистике прикладной. Действительно, именно в сфере прикладной, инженерной лингвистики не важно, например, распознает ли аппаратно-программный комплекс естественную речь так же, как это делает человек, используются ли при этом «человеческие» перцептивные стратегии или какие-то иные: важен лишь результат (ср.: никто не требует от компьютера, чтобы он умножал, делил числа так, как это делает человек, — существенна лишь точность результата).
Представляется, что изложенное в этой статье можно рассматривать как попытку разработки начал металингвистики — науки, которой до сих пор не существует.
Ветер Л. М Психические процессы. Т. 1. Л., 1974.
Зиновьев А. А. Логика науки. М., 1971.
Касевич В. Б. Проблема предмета языкознания // Вестник ЛГУ. 1974. № 14.
Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977.
Касевич В. Б. Можно ли единожды войти в одну и ту же реку? (в печ.).
Ору С. История, эпистемология, язык. М., 2000.
Смирнов Г. А. К определению целостного идеального объекта // Системные исследования: Ежегодник 1977. М., 1978.
Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
Anderson S. R., Lightfoot D. W. The Language organ: Linguistics as Cognitive physiology. Cambridge, 2002.
Langacker R. W. Conceptualization, symbolization, and grammar // Tomasello M. (ed.). The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Mahwuah, N. J., 1998.
Chomsky N. New Horizons in the Study of Language. Cambridge, 2002.
McMahon W. E. A Generative model for translating from ordinary language into symbolic notation // Synthèse. 1977. Vol. 35.
Tomasello M. Introduction: A cognitive-functional perspective on linguistics// Tomasello M. (ed.). The new psychology of language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Mahwuah, N. J., 1998.
Bellatti A., Rizzi L. Editors' introduction // Chomsky N. On Nature and Language. Cambridge, 2002.
Ю. П. Князев
Материалы к типологии многозначности: связь неопределенности с отрицательной оценкой
Известно, что, хотя в русском языке нет грамматических средств, предназначенных для выражения различий по определенности/неопределенности, их отсутствие «компенсируется богатейшей системой средств выражения артиклевых значений, пронизывающих самые разные уровни и участки языка» [Крылов 1984: 124]. К ним, помимо фразового ударения и порядка слов (ср.: К нам пришли гости — неопределенность, но Гости разошлись — определенность), относятся также: а) местоименные детерминативы; б) падеж; в) число и г) вид. Примечательно, что все те именные и глагольные лексико-грамматические средства, которые используются в русском языке для выражения неопределенности, могут служить также и для передачи отрицательного отношения говорящего к сообщаемому.
Термин «неопределенность» понимается в данной работе в расширительном смысле: как охватывающий и неиндивидуализированность объекта — неспецифицированную неопределенность, нереферентность (кто-нибудь, кто угодно), и неизвестность объекта слушающему или говорящему и слушающему специфицированную, конкретно-референтную неопределенность, т. е. собственно неопределенность (кое-кто, некто, кто-то). Вместе с тем различение этих двух разновидностей неопределенности во многих случаях оказывается существенным. В свою очередь, среди семантических разновидностей нереферентности особую роль играет значение «произвольного выбора» (free choice), которое может выражаться как неопределенными, так и универсальными местоимениями и считается одним из семантических «мостов» между ними [Vendler 1967: 80; Haspelmath 1997: 48–52, 154–156; Татевосов 1999:443–446].
Способность многих русских неопределенных местоимений выражать отрицательную оценку уже давно замечена [Шелякин 1978: 21; Вольф 1985: 131; Николаева 1985: 88; Кузьмина 1989: 171–177]; ср.:
(1) Да кто он, этот Алехин?! Какой-нибудь выдвиженец — наверняка из деревни! — с пятью, максимум семью классами образования!.. (В. Богомолов. Момент истины);
(2) Каждую неделю Дмитрий Сергеевич печатал в местной районной газете «Знамя труда» маленькие статьи о целебной силе растений — какого-нибудь подорожника или табачного гриба (К. Паустовский. Мещерская сторона);
(3) Он уехал в какое-то Пересветово по Горьковской дороге на двенадцать дней (Ю. Трифонов. Долгое прощание).
Как показывают приведенные примеры, отрицательная оценка может выражаться местоимениями, выражающими и неспецифицированную (-какой-нибудь), и специфицированную (какой-то) неопределенность. При этом референциальные различия между ними не исчезают. Так, в примере (1), называя выдвиженца ка-ким-нибудь, говорящий выражает пренебрежительное отношение ко всем выдвиженцам в целом, а если бы он назвал его каким-то (что также возможно в этом контексте), такая оценка относилась бы только к данному конкретному человеку. Аналогичным образом, в примере (3) местоимение какое-то в сочетании с собственным именем Пересветово выражает пренебрежительную оценку конкретного населенного пункта, тогда как замена его на какое-нибудь (ср.: Он готов уехать в какое-нибудь Пересветово, лишь бы ее не видеть) повлекла бы за собой распространение такой оценки на все потенциальное множество населенных пунктов, которые могли бы носить это имя; ср. реальный пример:
(4) Появление подставного лица в суде какого-нибудь Царевококшайска — и, разумеется, взятка судье — давали возможность безнаказанно парализовать работу самого крупного АО в любой угодный нападающим момент (Эксперт 15.10.2001).
Помимо «канонических» (учитываемых в описательных грамматиках) неопределенных местоимений, в русском языке функционирует множество более или менее устойчивых местоименных сочетаний, выражающих различные типы неопределенности и обобщенности, которым в еще большей степени свойственно выражение пренебрежительной оценки: Болтает бог весть на каком наречии; Он приводит в дом кого попало; Ест что придется; Наговорил невесть что; Ходит черт знает где; Она готова помогать кому угодно [Янко-Триницкая 1971: 73; Князев 1996: 63–65; Ермакова 1996:197–200].
Способность неопределенных местоимений выражать оценочные значения не является чертой, специфичной только для русского языка. Так, например, сходное совмещение функций свойственно и французскому местоимению n'importe quoi, употребляющемуся преимущественно в значении «произвольного выбора»: «все равно что, что бы то ни было». В качестве иллюстрации можно привести следующий фрагмент из романа А. Жида «Фальшивомонетчики» («Les faux-monnayeurs») в переводе А. Франковского, из которого видно, что французский язык позволяет даже в большей степени, чем русский, обыгрывать семантическую двойственность местоименных детерминативов (в скобках указано местоимение, использованное в оригинальном тексте):
(5) — Я поставил твою фамилию рядом с моей в содержании… Можно будет немного подождать, если надо… Все равно что, но дай что-нибудь (n'importe quoi; mais quelque chose)… Ты же обещал…
— Мне очень не нравится твое предложение прислать «что-нибудь» (n'importe quoi). Не хочу я писать «что-нибудь» (n'importe quoi).
— Я сказал «что-нибудь» (n'importe quoi), потому что отлично знаю, что все тобою написанное будет всегда превосходно (que n'importe quoi de toi, ce serait toujours bien)…, что оно никогда не окажется «чем-нибудь» (que précisément ce ne serait jamais n'importe quoi).
Согласно наблюдениям М. Хаспельмата, существует подтверждающееся типологически соответствие между основным референциальным значением неопределенного местоимения и полярностью выражаемого им оценочного значения: положительную оценку (appréciative meaning) выражают референтные (spécifié) местоимения, а нереферентные местоимения (non-specific) выражают отрицательную оценку (depreciative meaning): «non-specific indefi-nites are apparently never used appreciatively, but tend to have depreciative meaning» [Haspelmath 1997:188]. Именно поэтому русские неопределенные местоимения с элементом — то могут выражать и положительную оценку; ср. следующее толкование предложения В нем что-то есть: «В нем, в его личности, есть что-то особенное, своеобразное, может быть, незаурядное» [Арутюнова; Ширяев 1983:172]. На этом же, видимо, основывается различие в полярности оценочных значений, выражаемых сериями неопределенных местоимений с элементами some- и апу- в английском языке или между сериями с элементами — s и — kolwiek в польском [Haspelmath 1997:187; Blaszczak 1999:55–56]; ср.:
(6а) There's something in whathe says
«В его словах есть что-то (важное, интересное)»;
(6б) We don't eat just anything
«Мы не едим что попало»;
(7а) On byl kiedys сzyms, ale dzis jest niczym
«Раньше он был что-то, а теперь он никто»;
(7б) Ewa nie zaprasza kogokolwiek
«Ева не приглашает кого попало».
Вместе с тем неопределенные местоимения, выражающие нереферентные значения, не обязательно приобретают способность выражать оценочные значения. Так, по данным Р. Ницоловой, в болгарском языке функционируют два ряда неопределенных местоимений, способных выражать значение произвольного выбора: местоимения типа кой даеи който и да е. Различие между ними состоит в том, что при употреблении местоимений типа кой да е выбор производится только среди элементов «низкой и средней стоимости», а у местоимений типа който и да е этот оценочный семантический компонент отсутствует [Ницолова 1992:415–416]; ср.:
(8а) Той не се съветваше с кого да е, а само с най-добри адвокаты
«Он советовался не с кем попало, а только с лучшими адвокатами»;
(8б) Той не се съветваше с когото и да е
«Он не советовался ни с кем».
Кроме того, разные местоимения одной и той же серии могут характеризоваться несовпадающими сопутствующими оценочными значениями. Так, местоимение некто может отличаться от кто-то прибавлением «к смыслу „неизвестный субъект“ неодобрительной оценки», тогда как употребляя для обозначения объектов место-имение нечто (вместо стилистически нейтрального что-то), говорящий, напротив, «оценивает их как важные и значительные» [Кузьмина 1989: 215]; ср. приводимый ею в этой связи пример из русской разговорной речи: Это еще не нечто, но уже что-то. Другой пример — соотношение между английскими неопределенными местоимениями someone и somebody. По мнению О. Н. Селиверстовой, в тех случаях, когда эти местоимения взаимо-заменимы, somebody избирается для того, чтобы «подчеркнуть небрежное или даже пренебрежительное отношение к участнику события» [Селиверстова 1988: 117].
Референциальные различия между винительным и родительным падежами прямогодополнения наиболее отчетливо проявляются в соотношениях типа Я хочу попросить у него денег (неопр.) — Деньги (опр.) я ему вернул, где родительный падеж выражает неспецифицированную неопределенность, а винительный падеж — определенность [Пешковский 1956: 299; Гладров 1992: 254–255]. В свою очередь, определяя прагматические различия между падежными формами прямого дополнения в русском языке в предложениях типа Я не проверял эту работу и Я не проверял этой работы, Ю. Д. Апресян приходит к выводу, что «в самом общем виде и чисто метафорически» винительный падеж может быть охарактеризован как «уважительный», а родительный падеж как «пренебрежительный». Причину этого он видит в следующем: «в пользу винительного падежа действует представление о количественно нечленимом определенном объекте, наделенном автономной волей, а в пользу родительного — представление о количественно членимом неопределенном объекте, не наделенном автономной волей. Тот или иной падеж тем уместнее, чем отчетливее представлен в высказывании соответствующий комплекс идей» [Апресян 1990: 54].
Показательно, что и глаголы кумулятивного способа действия, выделяющиеся среди глаголов совершенного вида несовместимостью с референтным определенным прямым дополнением и регулярным использованием родительного падежа вместо винительного в этой позиции [Birkenmeier 1979], используются преимущественно в тех случаях, когда говорящий неодобрительно относится к описываемой ситуации. Об этом свидетельствуют как иллюстрации, приведенные в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова: Просидел целый час, наболтал всякой чепухи; Набрал уроков, а потом не знал, как справиться; Навалили на меня кучу забот; Извольте меня отпустить, а то я еще бед наделаю; Натворили мерзостей, пакостники, и торжествуют, так и современные употребления таких глаголов; ср.:
(9) Монахов же в этот момент затеял рассказывать что-то из тех невероятностей, что нарассказал ему отец, из тех, что он слушал так пренебрежительно (А. Битов. Улетающий Монахов);
(10) Более того, у меня возникло ощущение, что он локти себе кусает — зачем в прошлый раз наговорил мне лишнего (В. Богомолов. Момент истины);
(11) — Это идеология? — Это демагогия. Такого рода заявлений мы наслушались с разных сторон и по разным поводам (Известия 11.10.2001);
(12) —Да разве ж это драка? — переспрашивает Андрей у меня позже. — Ну, потолкались немного, дело житейское. А в газетах понаписали… (Известия 16.1.2001).
Связь форм числа существительного с референциальными противопоставлениями наиболее отчетливо проявляется в бытийных предложениях: «когда некоторый род вещей вводится в рассмотрение (в интродуктивных предложениях), он является неопределенным множеством» [Шатуновский 1996: 157]. При этом, если в силу различных прагматических факторов существенно лишь само его наличие или отсутствие в данном месте («фрагменте мира»), у форм множественного числа существительных возможен семантический сдвиг от количественного значения «более, чем один» к экзистенциальному значению «по крайней мере один». Подобное употребление форм множественного числа особенно характерно для вопросительных и отрицательных бытийных предложений: У тебя здесь есть друзья? (хотя бы один); У меня здесь нет друзей (ни одного), но возможно и в высказываниях других типов; ср.:
(13) Та (кондукторша. — Ю. К.), только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала: «Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!» (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
Одним из первых на это обратил внимание И. И. Ревзин, утверждавший, что в славянских языках «значение форм числа складывается не только на основе противопоставления MULT — NonMULT (множественности — немножественности), но и на основе противопоставления Indeterm (неопределенность) для множественного числа и Determ (определенность) для единственного числа» [Ревзин 1969: 74]. К аналогичному выводу, но уже в качестве универсальной закономерности, приходит и Т. Гивон: «Plurality is thus not only a semantic feature increasing the number. It also decreases referentiality» [Givón 1984:413].
Сходный семантический эффект наблюдается также в широко употребительных обобщающих высказываниях с формами множественного числа, в которых обобщение основывается на единичном реальном случае [Булыгина, Шмелев 1995:132–133]; ср.:
(14) Глянул на нее Володя Золотушкин еще раз и прямо обалдел. — Господи, думает, какие бывают миловидные барышни в трамваях (М. Зощенко. Свадебное происшествие);
(15) В ту минуту я об этом не подумал, но вообще подобные истории бывали. Поговаривали, например, что было что-то между красавицей пионервожатой Зоей и Владиком Фигурновским из того десятого, о котором я рассказывал (М. Рощин. Воспоминание).
Помимо этого, форма множественного числа может служить и средством выражения различных отрицательных эмоций: «упрека, порицания, общего неприятия» [Арбатский 1972: 93], что особенно заметно в ситуациях, где для ее использования нет непосредственных денотативных оснований: Мы дома сидим, а ты по театрам ходишь! Не устраивай истерик! Не лезь со своими советами! И чему тебя только в университетах учили! Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иваныч, очень спешивший, махнул рукой и сказал: — Некогда нам с чаями и сахарами! (А. Чехов. Степь).
Показательны также примеры, собранные Е. Н. Прокопович [Прокопович 1968: 156–157]:
(16) Другому тоже некогда. У него в руках большой фикус в вазоне. <…> — Ах, боже мой, еще и фикусы с собой возят (В. Катаев. Время, вперед!);
(17) В комендантской говорят ему: — На Дальнем Востоке и в Манчжурии белогвардейские восстания, товарищ. Мы не имеем времени отправлять какие-то экспедиции с буддами (Вс. Иванов. Возвращение Будды) — имеется в виду одна экспедиция, везущая одну статую Будды.
«Пейоративное» употребление форм множественного числа характерно прежде всего для разговорной речи, однако и за ее пределами у числовых форм отдельных слов отмечается сходный оценочный ореол. Так, по мнению В. А. Плунгяна, форма множественного числа времена (от отличие от единственного числа время) используется преимущественно именно по отношению к «сложным», «проблемным», «негладким», «превратным» периодам времени, и, таким образом, преобладающим является противопоставление хорошего времени (ед. ч.) — плохим временам (мн. ч.) [Плунгян 1997: 166]. В. М. Мокиенко вообще считает, что «синкретизм понятий малоценности и множественности — одна из семантических универсалий поля квантитативности» [Мокиенко 1995:7].
Русский глагольный вид двояким образом связан с идеей определенности/неопределенности. С одной стороны, переходные глаголы совершенного вида (СВ) тяготеют к определенному или хотя бы конкретно-референтному объекту, а глаголы несовершенного вида (НСВ) — к неопределенному или нереферентному объекту [Guentchéva 1978; Chvany 1990:218–219]; ср. приводившиеся для иллюстрации этой связи пары типа Вы уже переводили (НСВ) французские стихотворения? (неопр.) — Вы уже перевели (СВ) французские стихотворения? (опр.). С другой стороны, в толкование СВ в его основном событийном (точечном) значении (Ребенок выздоровел) и НСВ в «интратерминальном» актуально-длительном значении (Немешай, я работаю) включается семантический компонент «в определенный момент времени», тогда как общим признаком общефактического и других «ретроспективных» значений НСВ (Ты читал эту книгу?) считается неопределенность момента или периода времени, когда обозначаемая ситуация имела место [Гловинская 1982: 120–127; Падучева 1996: 41; Шатуновский 1996:322].
При этом именно ретроспективным употреблениям НСВ, когда обозначается ситуация, которая уже не имеет места, очень часто сопутствует выражение оценочных значений. Так, «настоящее интерпретационное», представляющее единичное событие прошлого как проявление определенного типа поведения, обычно сопровождается его оценкой, причем «почти всегда отрицательной» [Падучева 1996: 149]; ср.:
(18) [Таисия Петровна]. Без нас ты бы мигом пропал. [Николай]. Вот тут ты ошибаешься. Я не пропаду никогда и нигде (Л. Петрушевская. Уроки музыки);
(19) [Соня]. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым, а когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека (А. Чехов. Дядя Ваня).
Другой пример — глаголы НСВ в высказываниях, имеющих форму выяснения различных обстоятельств осуществления действия, но употребляемые обычно тогда, когда «говорящий считает ненужным, нецелесообразным совершение действия» [Рассудова 1968: 42] и поэтому фактически служащие в этом случае косвенным способом выражения недовольства, порицания или упрека [Chaput 1990: 303; Падучева 1996: 57]: Ну, для чего ты брал у него словарь, ведь дома есть точно такой же; Кто варил этот суп? Он пересолен; Кто покупал тебе эти туфли? Они же тебе малы!
Круг подобных явлений можно расширить. Так, сравнивая пары предложений типа Есть о чем рассказать! — Есть о чем рассказывать!; Есть за что полюбить! — Есть за что любить!; Есть о ком подумать! — Есть о ком думать!; Есть чему у него поучиться! — Есть чему у него учиться! Д. Н. Шмелев заметил, что различие видов в них сопровождается «модальным сдвигом»: для предложений с глаголами СВ, по его мнению, наиболее естественным является буквальное, утвердительное понимание, тогда как предложения с глаголами НСВ служат опорой для «экспрессивно-иронического отрицания»: не о чем рассказывать, не за что любить, нечему учиться и т. п. [Шмелев 1976: 139–140].
Наконец, отрицательный оценочный ореол может быть присущ и глаголам НСВ в неограниченно-кратном значении [Князев 2000:254–262]. Об этом писал и Ю. К. Щеглов, отмечавший, что в художественной литературе многократный НСВ («хабитуалис») может не только выражать многократное повторение ситуации, но создавать и дополнительный эффект уничижительности, безнадежности и зацикливания [Жолковский, Щеглов 1996: 174, 186].
Хотя, на первый взгляд, между неопределенными местоимениями, родительным падежом, множественным числом и несовершенным видом мало общего, их способность выражать неодобрительную оценку явно имеет единый когнитивный источник. Так, в формировании оценочного компонента высказывания Ходят тут всякие! произнесенного по отношению к одному только что ушедшему нежелательному посетителю, совместно участвуют НСВ, множественное пейоративное и местоименный детерминатив, употребленный «не на своем месте». В свою очередь, множественное число, «превращающее имя индивида в имя массы», способствует генитивному оформлению актанта глагола [Падучева 1997: 112]. Примечательно также, что Ю. Д. Апресян уподоблял использование множественного числа при описании единичного факта или события в примерах типа Я университетов не кончал употреблению НСВ во фразах типа Зачем людей толкать? Зачем вы людей толкаете? «произносимых в ситуации, когда говорящего или какое-то третье лицо толкнули (только что) один раз» [Апресян 1995: 231].
Среди рассмотренных выше явлений способность выражать отрицательную оценку чаще всего отмечалась у неопределенных местоимений и множественного числа существительных, причем как не связанные между собой свойства.
По отношению к местоимениям источником отрицательной оценки называют прежде всего значение неизвестности. Так, Е. М. Вольф, анализируя примеры типа Был тут один; Приходил тут какой-то, высказала предположение о существовании особой «модальности незнания»: «неизвестный, значит, скорее плохой» [Вольф 1985: 131]. Аналогичной точки зрения придерживается и О. П. Ермакова, по мнению которой «в местоимениях и их составных эквивалентах значение отрицательной оценки вырастает из значения неизвестности» [Ермакова 1996:202].
В свою очередь, М. Хаспельмат, учитывая, что выражение отрицательной оценки (depreciative uses) в наибольшей степени характерно для нереферентных неопределенных местоимений, объяснял это их свойство отрицательным отношением к отсутствию избирательности: «non-specific indefinites, especially free-choice indefinites, refer to an arbitrary element to their class. Given that all people are choosy <…>, it is normal that hearers should expect the worst if they are told that the referent has been selected randomly» [Haspelmath 1997: 190].
Действительно, безразличие к возможным конкретным особенностям обозначаемой ситуации легко влечет за собой готовность удовлетвориться даже самым худшим вариантом развития событий, лишь бы оно имело место. Это особенно отчетливо проявляется в сочетаниях неопределенных местоимений с частицей хоть или при их употреблении в градационном ряду, отражающем уменьшение требований к избираемому объекту; ср.:
(20) Короткий язык — хоть какой-то залог покоя и личной безопасности (В. Богомолов. Момент истины);
(21) Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта. Если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску (К. Симонов. Живые и мертвые).
Что же касается форм множественного числа, то их способность выражать отрицательную оценку связывается с идеей деиндивидуализации: «качественная ущербность объекта является важной предпосылкой для его „деиндивидуализации“; совокупность плохого легко образует особое качественное единство и не вызывает искать отличия между отдельными его элементами» [Плунгян 2000: 280]. Следует, впрочем, заметить: речь в подобных случаях должна идти не столько о фактических свойствах обозначаемого объекта, сколько о способе его обозначения, что уже не раз отмечалось: «регулярна окраска пренебрежения, когда один определенный предмет представляется как неопределенный, невычлененный из множества» [Красильникова 1983: 118]; «множественное число может „принижать“ значимость единичного объекта, как бы утрачивающего свою индивидуальность» [Руденко 1996:209].
Кроме того, существенно, что формы множественного числа чаще всего выражают отрицательное отношение не к тому объекту, который обозначен этой формой, а к адресату сообщения; ср. типичный пример:
(22) — Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? — спросил меня Леонтий Назарович <…>. —Прошлой осенью. — Что же это вы? — сказал с упреком Леонтий Назарович. — Знаменитых своих земляков забываете (К. Паустовский. Уснувший мальчик).
Если же искать связь между всеми этими значениями, то можно заметить, что их объединяет идея множественности или повторяемости, которая лежит и в основе неопределенности: «неопределенным объект является тогда, когда имеется ряд объектов одного рода и неизвестно (чаще всего потому, что неважно), о каком именно объекте из этого ряда идет речь. Таким образом, неопределенность объекта предполагает, что имеются и другие объекты того же рода» [Шатуновский 1996: 158]. Сходным образом формулирует общее значение немецкого неопределенного артикля В. Я. Пропп, по мнению которого он «обозначает предмет на фоне множества равных ему» [Пропп 1951: 219], а Т. Гивон, объясняя широко распространенное преобразование числительного один в интродуктивный неопределенный артикль, писал, что в этом случае предмет определяется как «one member out of many within the type» [Givón 1984:434].
По-видимому, именно высокая оценка уникального, «единственного в своем роде» объекта и, напротив, сниженное, пренебрежительное отношение к тому, кто (что) является всего лишь одним из «множества равных ему», лежат в основе возможности противопоставления именных групп с определенным и неопределенным артиклями в следующих примерах из французского и английского языков, которое не может быть адекватно передано в переводе на русский язык:
(22) Lamartine n'est pas un poète, mais le poète [Николаева 1985: 46] «Ламартин был не просто поэт, но Поэт с большой буквы»;
(23) — Tu veux dire que ce serait le bonheur? — Le bonheur?… enfin un bonheur [Гулыга 1996: 81] «Ты хочешь сказать, что это будет счастье? — Счастье?… в конце концов хоть какое-то счастье».
(24) In contrast to Perfect and Future, until very recently the category Past has been considered almost unanimously as a (of even the) tense category [Thieroff 1994: 3] «В отличие от перфекта и будущего времени, прошедшее время до недавних пор почти единодушно рассматривалось как временная категория и даже как время в собственном смысле слова».
Таким образом, точки соприкосновения между значениями неопределенности и сниженной оценки (связующим звеном между которыми является, по всей видимости, невыделенность из «множества равных»), наблюдаются во многих языках. На этом фоне русский язык интересен тем, что здесь совмещение этих значений распространилось на все средства выражения неопределенности и приобрело характер регулярной грамматической многозначности.
Апресян Ю. Д. Языковые аномалии: типы и функции // Res philologica. М.; Л., 1990.
Апресян Ю. Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. М., 1995.
Арбатский Д. И. Множественное число гиперболическое // Рус. яз. в шк. 1972. № 5.
Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение: Бытийный тип. М., 1983.
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. «Правда факта» и «правда больших обобщений» // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М., 1985.
Гладров В. Семантика и выражение определенности/неопределенности // Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность. СПб., 1992.
Гловинская М. Я. Семантические типы видовых противопоставлений в русском языке. М., 1982.
Гулыга О. А. Средства коммуникативного выделения во французской речи// Фунциональная семантика: Оценка, экспрессивность, модальность. М., 1996.
Ермакова О. П. Составные местоимения в русском языке // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.
Жолковский А. К, Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
Князев Ю. П. Устойчивые сочетания в составе функционально-семантических полей // Фразеологизм и слово. Новгород, 1996.
Князев Ю. П. Видо-временная структура нарратива как средство выражения этической оценки // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000.
Красильникова Е. В. Некоторые проблемы изучения морфологии русской разговорной речи// Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983.
Крылов С. А. Детерминация имени в русском языке: теоретические проблемы // Семиотика и информатика. Вып. 23. М., 1984.
Кузьмина С. М. Семантика и стилистика неопределенных местоимений // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. М., 1989.
Мокиенко В. М. Идеография и историко-этимологический анализ фразеологии // Вопр. языкознания. 1995. № 4.
Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании: На материале славянских языков. М., 1985.
Ницолова Р. Прагматический аспект неопределенной референции // Études de linguistique romane et slave. Kraków, 1992.
Падучева E. В. Семантические исследования. М., 1996.
Падучева Е. В. Родительный субъекта в отрицательном предложении: синтаксис или семантика? // Вопр. языкознания. 1997. № 2.
Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.
Плунгян В. А. Время и времена: к вопросу о категории числа // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997.
Плунгян В. А. Общая морфология. М., 2000.
Прокопович Е. Н. Изменения словоизменительных значений // Русский язык и советское общество: Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М. 1968.
Пропп В. Я. Проблема артикля в современном немецком языке // Памяти академика Льва Владимировича Щербы. Л., 1951.
Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке. М., 1968.
Ревзин И. И. О иерархии грамматических категорий славянских языков (на примере категорий имени существительного) // Сов. славяноведение. 1969. № 3.
Руденко Д. И. Количественность и семантика имени// Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. СПб., 1996.
Селиверстова О. Н. Местоимения в языке и речи. М., 1988.
Татевосов С. Г. Семантическое пространство квантификации: в поисках ориентиров // Типология и теория языка: от описания к объяснению. М., 1999.
Шатуновский И. Б. Семантика предложения и нереферентные слова. М., 1996.
Шелякин М. А. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 442. Семантика номинации и семиотика устной речи. Тарту, 1978.
Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976.
Янко-Триницкая Н. А. Местоименные слова со значением неопределенности // Рус. яз. в шк. 1971. № 1.
Birkenmeier W. Artikelfunktionen in einer artikellosen Sprache. Studien zur nominalen Determination im Russischen. München, 1979.
Blaszczak J. -kolwiek pronouns in Polish: negative polarity items or free choice items or both // Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. Bd. 2. München, 1999.
Chaput P. Temporal and semantic factors affecting Russian aspect choice in questions // N. B. Thelin (ed.). Verbal Aspect in Discourse. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
Chvany C. Verbal aspect, discourse saliency, and so-called «perfect of result» in modem Russian // N. B. Thelin (ed.). Verbal Aspect in Discourse. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
GivónT. Syntax: a functional-typological introduction. Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984.
Guentchéva Z. Specifité de l'aspect en bulgar: intéraction entre aspect et détermination // Revue des études slaves. 1978. T. LI, fasc.l—2.
Haspelmath M. Indefinite Pronouns. Oxford, 1997.
Thieroff R. Inherent verb categories and categorizations in European languages // Tense Systems in European Languages. Tübingen, 1994.
Vendler Z. Linguistics in Philosophy. Ithaca, 1967.
Б. Комри
Супплетивизм по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе «дать»
Согласно [Bybee 1985:23,93], супплетивизм по отношению к грамматическому лицу — самая редкая разновидность супплетивизма в глагольном спряжении[30]. Примеры этого явления безусловно встречаются в языках мира (в том числе и в европейских), но такой супплетивизм либо характерен для очень частотных глаголов, в спряжении которых и без того обычна высокая доля супплетивизма (напр., английская связка: am (1 л. ед. ч.), is (3 л. ед. ч.)), либо соответствует неправильности в других глаголах. Пример второй возможности демонстрирует спряжение французского глагола aller «идти»: vais (1 л. ед. ч.), vas (2 л. ед. ч.), va (3 л. ед. ч.), vont (3 л. мн.
ч.), но allons (1 л. мн. ч.), allez (2 л. мн. ч.).
Разные основы в этом случае соответствуют разнице между ударением на основе и ударением на окончании, ср. чередование гласного у глаголов vouloir «хотеть», pouvoir «мочь», mourir «умирать», напр, в соответствующих формах глагола «хотеть» veux, veux, veut, veulent, voulons, voulez.
На этом фоне оказывается неожиданным, что в целом ряде языков мира фиксируются случаи супплетивизма глагола «дать» в зависимости от грамматического лица реципиента.
В § 2 нашей статьи приводятся данные из различных языков, иллюстрирующие описываемое явление. В § 3 выдвигается возможное объяснение этого явления. В § 4 рассматриваются явления, на первый взгляд связанные с супплетивизмом, но диахронически отличные от него.
С явлением, которому посвящена эта статья, я впервые столкнулся в начале 80-х годов, когда вел курс методики полевых исследований на материале языка малаялам. Уже выяснив у носителя языка перевод предложения типа Я дал ему книгу, я решил изменить грамматическое лицо местоимений, чтобы выяснить перевод предложения типа Он дал мне книгу (в языке малаялам нет других случаев глагольного согласования по лицу). Мне не удавалось самому построить соответствующее предложение на малаялам, и, когда я попросил носителя языка дать правильный перевод, он, к моему удивлению, употребил совершенно другой глагол! С тех пор (особенно на протяжении последнего года) я собираю примеры этого явления из различных языков мира. Некоторые из собранных данных я приведу в этом параграфе.
Надо подчеркнуть, что выборка языков, рассматриваемых в статье, является случайной, хотя и включает языки, относящиеся к различным языковым семьям и ареалам. Грамматики многих из тех языков, о которых мне известно, что в них данное явление встречается, часто не упоминают о нем вовсе, возможно, по той причине, что само явление относится скорее к лексике, а число языков, для которых имеются подробные двуязычные словари с переводными эквивалентами на русском, английском или другом широко распространенном научном языке, к сожалению, невелико.
Таким образом, примеры данного явления часто оказывались у меня случайно, либо непосредственно, либо благодаря указаниям коллег. Поэтому цель настоящего параграфа состоит скорее в том, чтобы показать, что рассматриваемое явление широко распространено среди языков мира; никаких более общих выводов относительно его частоты или географического распределения из приведенных данных извлечь нельзя.
Далее рассматриваются следующие случаи супплетивизма:
п. 2.1: 3-е л. реципиента — 1-е и 2-е л. реципиента (супплетивизм между не-участниками и участниками речевого акта).
п. 2.2: 1-е л. реципиента — 2-е и 3-е л. реципиента (супплетивизм между говорящим и не-говорящим).
Примеры супплетивизма между 2-м л., с одной стороны, и
1 и 3-м л., с другой стороны, нам до сих пор не встретились.
2.1. 3-е л. в отличие от 1 и 2 л. В языке малаялам (дравидийская семья; штат Керала, Индия) употребляются совершенно разные глагольные корни для понятия «дать» с реципиентом 3-гол. (koTukkuka) (заглавные буквы здесь обозначают ретрофлексные согласные) и с реципиентом 1 или 2-го л. (taruka/tarika) [Asher, Kumari 1997: 348][31]. Разные корни употребляются также в юкагирских языках (северо-восточная Сибирь), например, в колымско-юкагирском языке: tadi:- «дать (3-му л.)», kej- «дать (1/2-му л.)» [Maslova 2003]. В языке лепча (тибето-бирманская семья; штат Сикким, Индия, и соседние территории) различаются byî «дать (3-му л.)» и bо «дать (1/2-му л.)» [Mainwaring 1876:127–128][32].
Это же явление встречается в некоторых папуасских (неавстронезийских) языках Новой Гвинеи, напр, энга (западно-центральная подгруппа внутри группы восточных новогвинейских гор) maingi «дать (3-му л.)», dingi «дать (1/2-му л.)» [Lang 1973: 17, 62], здесь с суффиксом имперфекта — ngi; то же самое в другом языке подгруппы энга, ипили mai «дать (3-му л.)», gi «дать (1/2-му л.)» [Frances Ingemann, личное сообщение]; а также в языке ке-ва, тоже относящемся к западно-центральной группе: kala «дать (3-му л.)», gi «дать (1/2-му л.)» [Franklin 1978: 135, 145]. В языке Хамтай (Капау), относящемся к группе анга в провинции Моробе, имеется — i- «дать (3-му л.)» (всегда с префиксом косвенного дополнения 3 л.,т. е. w-i-), täp- «дать (1/2-мул.)» [Oates, Oates 1968:23].
Немного более сложный пример обнаруживается в языке салиба (океанийская ветвь австронезийской семьи; провинция Милн-Бей, Папуа-Новая Гвинея), где встречаются формы mose-i «дать (3-му л.)», le «дать (1/2-му л.)» [Margetts 1999: 304–308]. В глаголе mose-i — i- является аппликативным суффиксом, но этот глагол никогда не встречается без данного суффикса. В отличие от всех других языков, о которых у меня есть данные, в языке салиба эти два глагола обладают разными аргументными структурами. В языке салиба глагольная морфология может относиться не более чем к одному дополнению, так называемому «примарному дополнению». В случае глагола mose-i возможны две аргументные структуры: в первой структуре дополнение, к которому относится глагольная морфология, является реципиентом, а пациенс кодируется как вторичное дополнение (т. е. без послелога и также без кодирования в глагольной морфологии); во второй структуре глагольная морфология кодирует пациенс, а реципиент выражается послеложной группой. В случае глагола 1е глагольная морфология кодирует только пациенс, а реципиент, если вообще выражается, кодируется послеложной группой; этот глагол требует, однако, одного из двух направительных суффиксов, — mа «навстречу говорящему» или — wa «навстречу слушающему»; в § 3 мы вернемся к вопросу о такого рода взаимосвязях между реципиентом и дейксисом.
В некоторых (но не во всех) сапотекских языках, относящихся к отомангской семье (штат Оахака, Мексика), имеется интересное явление. В этих языках различаются корни для понятия «дать» в третьем и в не-третьем лицах, при этом сами конкретные формы этих глаголов в разных языках разные [Smith Stark, в печати]. В сапотекском языке селения Саниса встречаются формы zed «дать (3-му л.)», bij «дать (1/2-му л.)» [Natalie Operstein: личное сообщение]. В языках отоми, также относящихся к отомангской семье, имеется сходный супплетивизм, например, в языке селения Сан-Ильдефонсо uN- «дать (3-му л.)» (где N обозначает носовую архифонему) в отличие от ra- «дать (1/2-му л.)» [Enrique L. Palancar, личное сообщение][33]. В языке мискито, относящемся к мисумальпской семье (Никарагуа), различаются yâb-aia «дать (3-мул.)» и ai-k-aia «дать (1-му л. экскл.)», mai-k-aia «дать (2-му л.)», wan-k-aia «дать (1-му л. инкл.)»; в формах не-третьего лица первая морфема относится к реципиенту, в форме третьего лица глагольная морфология не кодирует реципиент [Ken Hale, личное сообщение].
В данных, которые приводились до сих пор, корни, употребляющиеся в соответствии с разницей в грамматическом лице, совершенно разные, и можно было бы сделать вывод, что мы имеем дело с двумя разными глаголами, а не с супплетивными формами одного и того же глагола (в п. 3.3 мы вернемся к этому вопросу). В некоторых языках, однако, обе формы глагола явно связаны, по крайней мере этимологически. Например, в цезском языке (нахско-дагестанская семья; Республика Дагестан) встречаются формы телI- «дать (3 л.)», нелI- «дать (1/2 л.)». Эти формы включают два этимологически отделимых дейктических префикса, т- и н-, хотя неясно, отделимы ли эти префиксы синхронно (они отделимы, по крайней мере, не во всех говорах)[34].
В отношении некоторых других языков можно предположить этимологическую связь обоих корней, хотя имеющиеся доказательства не совсем убедительны и опираются на поверхностное сходство. Так обстоит дело в языке манамбу (семья нду; провинция Восточный Сепик, Папуа-Новая Гвинея), в котором встречаются формы kwiy «дать (3 л.)», kwatay/kwatiy «дать (1/2 л.)» [А. Ю. Айхенвальд, личное сообщение]. В языке найди, одном из языков календжин (нилотская семья, западная Кения), различаются формы ki:-ka:-ci «дать (3 л.)», ke:-ko: n «дать (1/2 л.)» [Chet A. Creider, личное сообщение]. В первой форме — ci представляет собой дативный/аппликативный суффикс, кодирующий наличие реципиента; без этого суффикса данный глагол не встречается. Ввиду того, что дополнения третьего лица никогда не кодируются в глаголе языка найди, нет возможности кодирования лица/числа реципиента с этим глаголом; как во всех финитных глагольных формах, префиксы кодируют лицо/число подлежащего. Что касается глагола, употребляющегося с реципиентом первого или второго лица, в финитных формах, как при всех переходных глаголах, префикс кодирует лицо/число подлежащего, а суффикс слитно выражает подлежащее и дополнение не-третьего лица; в случае глагола ke:-ko: n это дополнение — реципиент.
Последний пример может относиться либо к этому пункту, либо к п. 2.2. В говоре монгсен языка ао (ветвь куки-чин-нага тибето-бирманской семьи; штат Нагаленд, Индия) различаются в повелительном наклонении, и только здесь, khi-ang33 «дать (3 л.)», kh-ang33 «дать (1 л.)» (надстрочные цифры обозначают тоны) [Alexander Robertson Coupe, личное сообщение]. Ввиду того, что повелительное наклонение с реципиентом второго лица мало вероятно, если не исключено, эта система занимает промежуточное положение между системами, рассматриваемыми в п. 2.1 и 2.2.
2.2.1-е л. в отличие от 2 и 3 л. Хотя примеров такого случая у меня меньше, чем в п. 2.1, они представляют языки трех материков.
Совершенно разные корни встречаются в языке кенузи-донгола (нубийская ветвь восточно-суданской семьи; Судан и Египет), где отличаются формы tír «дать (2/3 л.)», dεn «дать (1 л.)» [Armbruster 1960: 315].
В языке маори (полинезийская подгруппа австронезийской семьи; Новая Зеландия) разница выражается посредством употребления различных дейктических суффиксов: — atu «не по направлению к говорящему» в отличие от — mai «по направлению к говорящему», т. е. ho-atu «дать (не по направлению к говорящему)», ho(o)-mai «дать (по направлению к говорящему)». Ввиду того, что эти дейктические суффиксы очень продуктивны, возникает вопрос о том, имеем ли мы в действительности с супплетивизмом в этих формах в языке маори. Все же существует одна неправильность в сочетании второго суффикса с корнем ho, а именно, факультативное удлинение корневого гласного. Язык маори близок к разделительной черте между супплетивизмом и небольшой неправильностью; мы вернемся к этому вопросу в п. 3.3.
Третий язык, приближающийся к противопоставлению между говорящим и не-говорящим по отношению к понятию «дать», — это японский язык. В японском языке встречаются два разных корня или, скорее, два множества корней; внутри каждого множества различаются две формы по отношению к относительному общественному статусу дающего и получающего: yaru/ageru «дать (по направлению от говорящего в социальном смысле, „наружу“ от говорящего)», kureru/kudasaru «дать (по направлению к говорящему в социальном смысле, „внутрь“ к говорящему)». Отметим, что в японском языке это противопоставление не сводится к разнице в грамматическом лице реципиента. Формы kureru/kudasaru употребляются во всех случаях, если предмет дается по социальному направлению к говорящему, например, если учитель что-нибудь дает брату говорящего (потому что подарок все-таки перемещается «извне внутрь» с точки зрения говорящего, хотя грамматически реципиент здесь относится к третьему лицу). Японская система широко рассматривается в специальной литературе, и возникает вопрос, не обнаружатся ли при более подробном исследовании подобные отклонения от строгой системы, опирающейся на грамматическое лицо, и в других приведенных языках. Этот вопрос требует дальнейших исследований.
Ввиду того, что супплетивизм по отношению к грамматическому лицу так редко встречается в языках мира, возникает вопрос, не лучше ли искать другое объяснение (либо синхронное, либо диахроническое) распространенности супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента глагола «дать». Это тем более обоснованно, если принять замечание о том, что в некоторых (не всех) языках, приведенных в § 2, нет другого согласования с реципиентом (например, в цезском языке) или даже вообще нет согласования по лицу (например, в языке малаялам) и что такой супплетивизм ограничивается грамматическим лицом и не распространяется, например, на грамматическое число, хотя лицо/число широко представлено как единый согласовательный параметр. В этом параграфе выдвигается гипотеза о том, что диахронический источник супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе «дать» надо искать в области дейксиса, хотя по меньшей мере в большинстве случаев, рассматриваемых в § 2, такой дейксис грамматикализован в зависимости от грамматического лица реципиента.
3.1. Дейктические оппозиции в лексике. Дейктические оппозиции, соответствующие (по крайней мере, приблизительно) оппозициям в грамматическом лице, широко представлены в языках мира. В некоторых семантических областях, напр, «идти», даже чаще встречается такое деистическое противопоставление в лексике, чем его отсутствие. В английском языке разница между come и go соответствует приблизительно противопоставлению по грамматическому лицу: соте обозначает движение по направлению к говорящему или к слушающему, а §о обозначает движение по направлению к третьему лицу, как в (1а)-(1в). Это соответствует противопоставлению между участниками и не-учасгниками речевого акта, которое рассматривалось по отношению к глаголу «дать» в п. 2.1.
В испанском языке «переводные эквиваленты» venir «come» в отличие от ir «go» различают скорее движение по направлению к говорящему от движения по направлению к слушающему или третьему лицу, так что испанский перевод английского предложения I'm coming! — это ¡voy! «иду!», 1 л. ед. ч. неправильного глагола ir «go». Таким образом, в испанском языке имеется параллель противопоставлению говорящего и не-говорящего (см. п. 2.2).
Даже близкородственные языки могут отличаться в том, имеется ли дейктическая оппозиция при глаголах в общей семантической области «идти», а в случае, если имеется, в точной природе этой оппозиции (ср. глаголы «дать» в дравидийских языках в § 2). В английском языке, например, имеется дейктическая оппозиция в случае глаголов take/bring, как в (2а)-(2в).
(2а) I am taking the book to him.
«Я несу ему книгу».
(2б) He is bringing the book to me.
«Он несет мне книгу».
(2в) I am bringing the book to you.
«Я несу тебе книгу».
Немецкие переводные эквиваленты bringen/nehmen — первый даже представляет точное этимологическое соответствие английского глагола — не дейктические, так что в немецком переводе предложения (2а) тоже встречается глагол bringen, как в (3).
(3) Ich bringe ihm das Buch.
Третью возможность представляют такие языки? как, например, русский, в которых нет дейктических оппозиций в семантической области «идти», как в (4а) и (4б), ср. англ. Go to the store! и Come here[35]!
(4a) Иди в магазин!
(4б) Иди сюда!
Хотя имеется высокая корреляция между, с одной стороны, выбором членов таких дейктических пар, как соте и go, и, с другой стороны, грамматическим лицом, к которому направлено движение, эта корреляция не абсолютна, так как всегда можно выбрать дейктический центр, отличающийся от hic-et-nunc, как, например, в (5), в котором референт местоимения 1 л. движется по направлению к дейктическому центру Ксанаду.
(5) And finally, we came to Xanadu.
«И мы наконец приехали в Ксанаду».
Иначе говоря, такие дейктические оппозиции в лексике обычно не грамматикализованы как индикаторы грамматического лица. Но именно такая грамматикализация характеризует супплетивизм по отношению к грамматическому лицу реципиента в случае глагола «дать».
3.2. Дейксис и глагол «дать». Взаимодействие дейксиса и реципиента глагола «дать» ясно проявляется в целом ряде языков, в том числе и в некоторых из языков, рассмотренных в § 2, за пределами супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента, а также в ряде других языков. Укажем на несколько релевантных явлений, уже упомянутых в § 2. В языке салиба, при реципиенте первого или второго лица обязательно включение в морфологию глагола «дать» дейктического суффикса, обозначающего направление к говорящему или к слушающему. В языке маори разница по отношению к грамматическому лицу реципиента выражается в первую очередь посредством дейктических суффиксов со значением «по направлению к говорящему» и «не по направлению к говорящему». В цезском языке начальный согласный, различающий два глагола «дать» — по крайней мере этимологически — относится к дейктическому префиксу. Согласно Армбрустеру [Armbruster 1960: 315], начальный t глагола tir является «указательным или дейктическим [словом] не по отношению к говорящему».
Чтобы пояснить взаимодействие между дейксисом и грамматическим лицом реципиента независимо от супплетивизма, можно привести примеры еще из двух языков. В английском языке глагол give, за исключением некоторых ограниченных употреблений, требует эксплицитного выражения как пациенса, так и реципиента. Таким образом, возможно предложение (6а), но не (6б).
(6а) Give it to Mary!
«Дай это Мэри!»
(6б) *Give it!
«Дай это!»
Однако с подразумевающимся реципиентом первого лица можно, по крайней мере в разговорном языке, употреблять вместо местоимения первого лица дейктическое наречие места here, как в (7а).
(7а) Give it here!
«Дай это сюда!»
(7б) *Give it there!
(букв.) «Дай это туда!»
Невозможность (7б) показывает, что в английском языке нет общего правила, допускающего употребление дейктических наречий вместо личных местоимений реципиента, а есть специфическая возможность для реципиента первого лица.
Более сложный пример дает язык ик (семья кулиак; северо-восточная Уганда). Примеры (8а)-(8ж) взяты из работы [Serzisko 1988]. Употребляются следующие сокращения: AND — андатив, GOA — цель, PRF — перфект, SG — единственное число, VEN — венитив; заглавные буквы обозначают абруптивные смычные.
(8а) ma-ida-ka.
дать-2SG-PRF
«Ты дал (ему)».
(8б) me-et-ida-ka.
дать-VEN-2SG-PRF
«Ты дал (мне)».
(8в) maa-ka.
дать-PRF
«Он дал (кому-то)»
(8 г) maa-Kota-ka.
дать-AND-PRF
«Он дал (кому-то)».
(8д) me-eta-ka.
дать-VEN-PRF
«Он дал мне».
(8е) me-et-ia lotoba bi-ke.
дать-VEN-lSG табак 2SG-GOA
«Я дал тебе табак».
(8ж) maa-Kot-ia rag nа bien-e.
дать-AND-lSG бык DET 2SG-GOA
«Я дал тебе этого быка».
Хотя этих примеров недостаточно для полного анализа затрагиваемых здесь вопросов — они приводились автором в несколько другом контексте — можно отметить существенную разницу между суффиксами венитива — et(a) и андатива — Kot(a), соответствующими, как свидетельствует «итальянообразная» терминология, разнице между английскими глаголами соте и go. В случае реципиента первого лица употребление суффикса венитива, кажется, обязательно, см. (8б) и (8д). Что касается реципиента третьего лица, то употребление суффикса андатива, кажется, факультативно, если подлежащее тоже относится к третьему лицу, см. (8в) и (8 г), а исключается, если подлежащее относится к второму (или, предположительно, первому) лицу, см. (8а). В случае реципиента второго лица имеется, кажется, выбор между суффиксами венитива и андатива, см. (8е) и (8ж), по крайней мере, если подлежащее относится к первому лицу. Как минимум, очевидна разница между реципиентами первого и третьего лица и промежуточное положение второго лица.
Данные японского языка (см. п. 2.2) теперь приобретают дополнительное значение. Как уже говорилось в п. 2.2, в японском языке противопоставление является в первую очередь противопоставлением по дейксису (по направлению к говорящему или от него, в социальном смысле), а не соответствует точно грамматическому лицу, так что в предложении с реципиентом второго или третьего лица можно употреблять оба множества глаголов. Кроме того, возможно даже использование глаголов, обозначающих реципиент вне группы говорящего, вместе с реципиентом первого лица, если выбирается специфическая дейктическая перспектива [Shigeko Nariyama, личное сообщение]. Таким образом, японский язык не принадлежит, собственно говоря, к группе языков, в которых супплетивизм соответствует грамматическому лицу реципиента. Дело скорее в том, что релевантные пары японских глаголов отличаются друг от друга непосредственно с точки зрения дейксиса. Насколько мне известно, это не относится к другим языкам, о которых здесь идет речь. Нужно, однако, отметить, что только в незначительной части этих языков данное явление исследовалось столь же подробно, как и в японском языке. Вполне возможно, дальнейшие исследования покажут, что и в этих языках мы имеем дело не с супплетивизмом, обусловливаемым в строгом смысле грамматическим лицом реципиента. В качестве же предварительного заключения можно подтвердить, что в этих языках более древние дейктические противопоставления — в некоторых случаях засвидетельствованные (напр., в цезском языке), в других случаях предполагаемые — грамматикализованы как оппозиция, опирающаяся только на грамматическое лицо реципиента.
3.3. Оставшиеся вопросы. В этом пункте будут рассмотрены некоторые вопросы, которые возникают при исследовании ранее приведенных данных.
В п. 3.2 было выдвинуто диахроническое объяснение наличия супплетивизма при глаголе «дать» по отношению к грамматическому лицу реципиента. Но при этом возникает вопрос о том, почему именно реципиент обусловливает такой супплетивизм. Можно отчасти ответить на этот вопрос, ссылаясь на дейктические противопоставления, которые выражаются посредством лексических оппозиций или дейкгических частиц. В этой области основная разница имеется именно между действиями, направленными к дейктическому центру, и действиями, направленными от дейктического центра. Это относится к глаголу «дать» не меньше, чем к глаголам come/go «идти» или к другим парам глаголов в отдельных языках.
Последнее, конечно, не исключает возможности существования языка, в котором супплетивизм при глаголе «дать» был бы ориентирован на пациенса, особенно при наличии более общей системы супплетивизма в зависимости от черт пациенса. В юто-ацтекском языке уичоль (штаты Наярит и Халиско, Мексика), например, глагол «дать» характеризуется супплетивизмом для черт пациенса, как в примерах (9) из говора селения Сан-Андрес Коамиата [Gomez 1999].
(9) kwei-tïa-rika «дать (длинный предмет)»
'li-tïa-rika «дать (плоский предмет)»
huri-tïa-rika «дать (предмет без постоянной формы)»
hani-tïa-rika «дать (предмет с ручкой)»
tui-tïa-rika «дать (громоздкий предмет)»
Но эти черты как раз являются теми чертами, которые вообще релевантны для глаголов языка уичоль с супплетивизмом по отношению к пациенсу. Кроме того, все глаголы, приведенные в (9), с точки зрения морфологии суть каузативные формы (с продуктивным суффиксом каузатива — tia), образованные от монотранзитивных глаголов со значением «брать»; эти монотранзитивные глаголы тоже характеризуются супплетивизмом по отношению к тем самым чертам пациенса, т. е. «брать (длинный предмет)» и т. д.
Другой важный вопрос состоит в том, являются ли феномены, рассматриваемые в § 2, на самом деле примерами супплетивизма. При другом анализе можно было бы утверждать, что мы имеем дело с двумя разными лексическими единицами, как в случае английских глаголов соте и go. Этот вопрос особенно важен с точки зрения общей теории супплетивизма [Mel'cuk 1994], но, по-моему, не так важен для целей настоящей статьи. Даже если исходить из того, что мы имеем дело с разными лексическими единицами, скорее чем с супплетивизмом, все-таки надо отметить, что примеры пар отдельных лексических единиц, отличающихся друг от друга только грамматическим лицом одного из аргументов, — весьма редкое явление среди языков мира, если оно вообще встречается. Даже при таком анализе надо было бы только слегка переформулировать вопрос: почему именно в случае понятия «дать» встречаются разные лексические единицы (в отличие от разных форм одной и той же лексической единицы) в зависимости от грамматического лица реципиента? Но возвращаясь к вопросу
о том, имеем ли мы дело с супплетивизмом, можно применить тесты, со всеми сопутствующими проблемами, чтобы решить, одна перед нами лексическая единица или нет. Например, если на одном из языков, упомянутых в § 2, ставится вопрос «кому Коля дал книгу?» с глаголом, уместным для реципиента третьего лица, возможен ли без противоречия пресуппозициям вопроса ответ «мне»? По крайней мере, в некоторых из языков, упомянутых в § 2, дело обстоит так, а к другим языкам еще нужно применять этот тест. Это можно сопоставить с английским глаголом massacre, который не является факультативной супплетивной формой глагола kill, употребляющейся с пациенсом во множественном числе, потому что ответ «опе» «одного» невозможен на вопрос «how many people did they massacre?» «сколько человек они перебили?» при сохранении пресуппозиций вопроса.
С другой стороны, можно ставить вопрос, представляют ли все примеры, приведенные в § 2, супплетивизм, а не какие-то менее крайние типы отношений внутри морфологической парадигмы. В § 2 было отмечено эксплицитно, что в одних случаях употребляются совершенно разные корни, т. е. самый сильный тип супплетивизма, а в других случаях имеется по меньшей мере сходство между корнями; при этом язык маори и (по крайней мере для некоторых носителей языка) цезский язык употребляют один и тот же корень но с разными аффиксами. Однако более слабая характеристика супплетивизма описывала бы как супплетивизм все случаи, в которых отношение между вариантами уникально в данном языке. В цезском языке только у глагола «дать» есть синхронные рефлексы дейктических префиксов т- и н- в языке маори, который больше всего приближается к случаю, в котором можно говорить об одном и том же корне с разными продуктивными дейктичесшми суффиксами, все-таки наблюдается факультативное уникальное удлинение корня перед дейктическим суффиксом — mai. Таким образом, широкому понятию супплетивизма удовлетворяют все примеры, рассмотренные в § 2.
Имеется ряд других явлений, которые, по крайней мере на первый взгляд, можно сопоставить с типами супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента, но которые или синхронно или диахронически представляют собой отдельные явления. Ниже рассматриваются два таких примера.
4.1. Более богатые супплетивные системы по лицу/числу. В некоторых языках встречаются на первый взгляд гораздо более богатые системы супплетивизма по отношению к реципиенту, чем в языках, рассмотренных выше. Например, в языке амеле (мадангская семья; провинция Маданг, Папуа-Новая Гвинея) имеются формы глагола дать, приводимые в форме инфинитива в (10), в зависимости от лица/числа реципиента [Roberts 1987: 279,386–387,390].
(10) ut-ec «дать (3-мул. ед. ч.)»
ih-ec «дать (2-му л. ед. ч.)»
it-ec «дать (1 — му л. ед. ч.)»
al-ec «дать (2/3-му л. дв. ч.)»
il-ec «дать (1-му л. дв. ч.)»
ad-ec «дать (2/3-му л. мн. ч.)»
ig-ec «дать (1-му л. мн. ч.)»
В этих формах — ес — суффикс инфинитива для данного глагольного класса. Однако при более внимательном наблюдении оказывается, что первая морфема каждой из этих форм тождественна аффиксу, выражающему данное сочетание лица и числа реципиента в глагольной морфологии; см. (11).
(11) — ut «глагольный суффикс для реципиента 3 л. ед. ч.»
— ih «глагольный суффикс для реципиента 2 л. ед. ч.»
— it «глагольный суффикс для реципиента 1 л. ед. ч.»
— al «глагольный суффикс для реципиента 2/3 л. дв. ч.»
— il «глагольный суффикс для реципиента 1 л. дв. ч.»
— ad «глагольный суффикс для реципиента 2/3 л. мн. ч.»
— ig «глагольный суффикс для реципиента 1 л. мн. ч.»
Это говорит о том, что формы глагола дать на самом деле не супплетивны, а содержат нулевой корень и соответствующий суффикс реципиента. Такие нулевые корни встречаются и в других случаях в папуасских языках. Даже в языке амеле имеется еще один нулевой корень со значением «брать», отличающийся от глагола «дать» тем, что принадлежит к другому спряжению (с инфинитивом на — ос).
Можно было бы, однако, представить себе превращение такой системы в систему с более богатым супплетивизмом, и подобное превращение, кажется, осуществилось в языке уаскиа, тоже входящего в мадангскую семью. В уаскиа встречаются формы:
(12) tuiy- ~ tuw- «дать (3-му л. ед. ч.)»
kisi- «дать (2-му л. ед. ч.)»
asi- «дать (1-му л. ед. ч.)»
idi- «дать (любому лицу мн. ч.)» [Ross, Paol 1978:43].
Согласно Россу (личное сообщение), эти формы, по-видимому, включают этимологические маркеры реципиента, хотя формы не так прозрачны, чтобы допустить точную реконструкцию. Поскольку синхронно в языке уаскиа вообще нет согласования с дополнением, данные в (12) представляют собой как будто бы систему с супплетивизмом по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе «дать», но с источником, полностью отличным от источника примеров, рассматриваемых в § 2 и § 3[36].
4.2. Супплетивизм по лицу и вежливость. Еще один возможный источник супплетивизма по лицу — вежливость. В русском языке, например, кроме нейтрального глагола есть, имеется также вежливый глагол кушать, выражающий вежливость по отношению к подлежащему. В литературном языке этот глагол не употребляется в первом лице единственного числа. Можно представить себе превращение такой системы в случай супплетивизма по лицу, хотя у меня нет ясных примеров такого развития. Японский язык дает пример выражения вежливости по отношению к реципиенту глагола «дать». Грубо говоря, глаголы agent и kureru употребляются в случае реципиента, социально более высокого чем дающий, а уаги и kudasaru в обратном случае, но это противопоставление пересекает дейктическое противопоставление.
Данные этой статьи должны показать, что явление супплетивизма по отношению к грамматическому лицу реципиента при глаголе «дать» — хотя на него почти совсем не обращали внимания в типологических и других лингвистических исследованиях — представляет собой тему, достойную подробного исследования. Если эта статья позволит обнаружить рассматриваемое явление в других языках и особенно если она послужит стимулом для лучшего объяснения синхронной функции подобного супплетивизма и его исторического развития, я буду считать свою задачу выполненной.
Armbruster Ch. Н. Dongolese Nubian: A grammar. Cambridge, 1960.
Asher R. E., Kumari Т. C. Malayalam. London, 1997.
Burrow Т., Emeneau М. B. A Dravidian Etymological Dictionary. 2nd ed. Oxford; N. Y., 1984.
Bybee J. Morphology: A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.
Franklin K. J., Joice F. A Kewa Dictionary with Supplementary Grammatical and Anthropological Materials. Canberra, 1978.
Gomez P. Huichol de San Andres Cohamiata, Jalisco. Mexico, 1999.
Kimball G. D. Koasati Grammar. Lincoln, 1991.
Lang A. Enga Dictionary with English Index. Canberra, 1973.
Mainwaring G. B. A Grammar of the Rong (Lepcha) Language, as It Exists in the Doijeling and Sikim Hills. Calcutta, 1876.
Margetts A. Valence and Transitivity in Saliba, an Oceanic language of Papua New Guinea. Nijmegen, 1999.
Maslova E. A Grammar of Kolyma Yukaghir. Berlin; N. Y., 2003.
Mel'ćuk I. Suppletion: Toward a logical analysis of the concept // Studies in Language 18.1994.
Oates, W., Oates L. Kapau Pedagogical Grammar. Canberra, 1968.
Roberts J. R. Amele. Beckenham, 1987.
Ross М., Paol John Natu. A Waskia Grammar Sketch and Vocabulary. Canberra, 1978.
SerziskoF. On bounding in Ik// Brygida Rudzka-Ostyn (ed.). Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam, 1988.
Smith Stark Т. C. Supletivismo segun la persona del receptor en el verbo «dar» de algunas lenguas otomangues. Caravelle 76; [в печати].
Z'graggen J. A. A comparative Word List of the Northern Adalbert Range Languages, Madang Province, Papua New Guinea. Canberra, 1980a.
Z'graggen J. A. A Comparative Word List of the Mabuso Languages, Madang Province, Papua New Guinea. Canberra, 1980b.
Е. Е. Корди
Сложноподчиненные предложения с придаточным времени как ядро категории таксиса во французском языке[37]
Целью настоящей работы является характеристика сложноподчиненных предложений (СИП) с придаточными времени, которые мы рассматриваем как ядро категории таксиса (или относительного времени). Р. О. Якобсон, который ввел в употребление термин «таксис», дал этой категории следующее определение: «Таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения» [Якобсон 1972: 101]. Именно такое грамматическое значение присуще СПП с придаточными времени: в них сопоставляются во временном плане два сообщаемых факта, и таким образом, можно считать, что эти предложения являются прототипическим средством для выражения таксисных значений.
Мы считаем, что термины «таксис» и «относительное время» синонимичны. Тогда как значения абсолютного времени — настоящее, прошедшее и будущее — имеют своей точкой отсчета момент речи, грамматическими значениями категории таксиса являются одновременность, предшествование и следование одной ситуации относительно другой.
С помощью СПП с придаточным времени можно выразить одновременность двух ситуаций (выраженных в главном и придаточном предложениях), предшествование или следование одной из ситуаций по отношению к другой [Grevisse 1949; Grammaire Larousse 1964]. Таксис во французских СПП всегда выражается совместно с абсолютным временем и аспектуальными значениями. Значения этого комплекса являются для рассматриваемых предложений основными, что отличает эти предложения от других типов СПП, где также выражаются таксисные значения, но не как основные, а как второстепенные, попутно с прототипическими значениями. Сравним в этом плане СПП с придаточным причины (1) и с придаточным времени (2):
(1) Alain est parti, parce qu'il avait reçu l'invitation au congrès des biologistes.
«Алэн уехал, потому что он получил приглашение на конгресс биологов».
(2) Alain est parti, après qu'il avait reçu l'invitation au congrès des biologistes.
«Алэн уехал, после того как он получил приглашение на конгресс биологов».
В примере (1) прототипическими являются значения причины/ следствия, связывающие две сообщаемые ситуации, при этом таксисные и аспектуальные значения выражаются попутно, так же как и значения абсолютного времени, в глагольных формах. В примере (2) прототипическим является таксисное значение предшествования, выражаемое союзом après que в совокупности с формой плюсквамперфекта (plus-que-parfait) в придаточном предложении, а также время и аспекту альные значения, которые выражаются в глагольных формах. Из всех СПП только для временных таксисное значение является прототипическим.
Характеристика СПП с временными придаточными дается в грамматиках [Grevisse 1949; Grammaire Larousse 1964; Grammaire méthodique 1994] и в работе [Sandfeld 1965]. Для маркировки таксисных отношений в рассматриваемых предложениях используются союзы, вводящие придаточное предложение, и глагольные формы. Временные союзы очень разнобразны: так, союзы quand и lorsque «когда» имеют общее временное значение, поэтому предложения с этими союзами могут выражать и одновременность, и предшествование в зависимости от видовременных форм глагола, употребляемых в предложении. Если в главном и придаточном предложениях употребляются два презенса или имперфекта (imparfait), они выражают одновременность и вместе с тем повторяемость или узуальность двух сопоставляемых ситуаций (3), (4):
(3) Quand un passant attardé, un couple, des noctambules <…> le croisaient, il sifflotait Le Gars de la Marine pour se donner du courage… (R. Sabatier)
«Когда запоздалый прохожий, парочка влюбленных, загулявшие любители выпить <…> шли ему навстречу, он насвистывал песенку про моряка, чтобы приободриться».
(4) Aline reprend d'une voix aigre: «<…> Vous connaissez mon sentiment: on ne se sépare pas quand on a des enfants». (H. Bazin) «Алина продолжает сварливо: „<…> Мое мнение вы знаете: когда имеют детей, не разводятся“».
Употребление имперфекта в одной из частей предложения и простого прошедшего (passé simple) в другой передает значение неполной одновременности из-за различных видовых характеристик этих форм: имперфект выражает длительное действие, а простое прошедшее — точечное действие, которое имело место в один из моментов этого длительного действия:
(5) Vers huit heures du matin, Arsène aiguisait sa faux lorsqu'il aperçut à quelques pas de lui une vipère (M. Aymé)
«Около восьми утра Арсен точил свою косу, как вдруг заметил в нескольких шагах от себя гадюку».
Такое же грамматическое значение имеет сочетание имперфекта и сложного прошедшего (passé composé).
Наконец, в предложениях с союзами quand и lorsque может быть выражено грамматическое значение предшествования зависимой ситуации по отношению к главной. В этом случае предшествование обычно выражается сложными формами глаголов, употребленных в придаточных предложениях:
(6) Quand la partie comestible de la pomme eut disparu, il garda les déchets en main…(R. Sabatier)
«Когда он съел мякоть яблока, сердцевинка осталась у него в руках…»
(7) — Vous croyez que les projectiles ont traversé le corps?
— Je vous dirai cela quand je l'aurai retourné… (G. Simenon)
«— Вы считаете, что пули прошли навылет?
— Я скажу вам это, когда переверну тело».
В (6) предшествующее прошедшее (passé antérieur), а в (7), ближайшее будущее (futur antérieur) в придаточном выражают действия, предшествующие действиям главного предложения, выраженным соответственно формами простого прошедшего и простого будущего.
Специализированные временные союзы (в сочетании с определенными глагольными формами) маркируют либо одновременность (comme «тогда как», pendant que, tandis que «пока», «в то время как»), либо разновременность двух ситуаций (après que «после того, как», avant que «перед тем, как», jusqu'à ce que «до того, как»). Так, в (8) союз pendant que в сочетании с двумя имперфектными формами в главном и придаточном предложениях маркирует одновременность двух действий:
(8) Pendant qu'elle frottait, Olivier s'asseyait sur le bord du trottoir… (R. Sabatier)
«Пока она стирала, Оливье садился на край тротуара…»
Для союзов, маркирующих разновременность, характерна следующая особенность: они обозначают временное отношение между двумя ситуациями с точки зрения ситуации главного предложения. Так, в (9) союзом après que и формой прошедшего предшествующего (passé antérieur) маркируется предшествование ситуации придаточного предложения по отношению к главному, где употребляется простое прошедшее:
(9) Après qu'il eut terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix saccadée… (G. de Maupassant)
«После того, как умолкла барабанная дробь, глашатай объявил надтреснутым голосом…»
В (10) союз avant que маркирует следование ситуации придаточного предложения по отношению к ситуации главного. После этого союза в придаточном употребляется презенс сюбжонктива. Сюбжонктив не имеет будущего времени и не может выразить значение следования:
(10) Avant que М. Joseph s'impatiente, Maigret sortit les photographies… (G. Simenon)
«Прежде чем месье Жозеф потерял терпение, Мегрэ вынул фотографии…»
Кроме основных значений одновременности, предшествования, следования, в порядке субкатегоризации, при помощи временных союзов можно выразить также значение минимального интервала между ситуациями или значение «быстрой последовательности действий» («la succession rapide») [Grammaire Larousse 1964: 131]. Так, сема минимального или нулевого интервала входит в значение союзов dès que, aussitôt que, sitôt que «как только», à peine que «едва»:
(11) Dès qu'elle fut partie, il prit son chapeau et son pardessus et sortit (G. de Maupassant)
«Как только она ушла, он взял шляпу и пальто и вышел».
(12) A peine eut-il jeté sa lettre à la boîte qu'il eut la terreur de ce qu'il avait fait (R. Rolland)
«Едва он опустил письмо в ящик, как ужасно испугался того, что сделал».
В (11) и (12) предшествование маркируется не только союзом, но и употреблением в придаточном предложении прошедшего предшествующего. Но временные союзы могут выразить разновременность двух действий и минимальный интервал между ними даже без опоры на значения глагольных форм, когда и в главном, и в придаточном предложения употребляется одно и то же время (12), (13):
(13) Jet' expliquerai mes motifs aussitôt que j e te verrai (H. de Balzac)
«Я объясню тебе мои цели, как только я тебя увижу».
(14) Dès que tu as le dos tourné, elle en profite pour entrer dans ta chambre.
«Как только ты отворачиваешься, она пользуется этим, чтобы войти в твою комнату».
В (13) союзом aussitôt que маркируется отношение контактного предшествования. Употребление простого будущего в обеих частях предложения ничего не говорит о последовательности действий. В (14) отношение контактного предшествования выражено союзом dès que. Употребление презенса индикатива в главном и придаточном предложениях служит для маркировки итеративности этой таксисной ситуации.
Даже в предложениях с общевременным союзом quand может быть выражена последовательность действий, при употреблении в обеих частях предложения одних и тех же форм времени. См., например:
(15) — Mais quand tu seras libéré, que feras-tu si tu n'as pas d'argent de côté? (H. Troyat)
«— Но когда ты будешь освобожден, что ты станешь делать, если у тебя не будет отложено денег?»
В придаточном союз quand в сочетании с формой будущего времени страдательного залога, имеющей значение перфективности, маркирует ситуацию, предшествующую той, которая названа в главном предложении. Таким образом, мы видим, что временные союзы могут выражать таксисные значения с опорой или без опоры на глагольные формы.
Что касается маркировки таксиса в глаголах, надо заметить, что именно в придаточных времени употребляется большое количество специальных форм, которые могут маркировать предшествование одного действия другому и не встречаются в придаточных предложениях других типов. Так, только во временных придаточных употребляется форма прошедшего предшествующего (passé antérieur): См. (9), (11), (16):
(16) Dès que maman fut sortie, Sylvie entraîna Martine dans la salle de bains… (H. Troyat)
«Как только мама вышла, Сильви потащила Мартину в ванную комнату…»
Прошедшее предшествующее в придаточном предложении сочетается с простым прошедшим в главном. Форма ближайшего будущего (futur antérieur) употребляется в придаточных времени для маркировки предшествования по отношению к будущему действию. При этом в главном предложении может употребляться либо простое будущее, либо императив:
(17) — Bien entendu, dès que nous serons rentrés… j'espère qu'on te verra à la maison (H. Bazin)
«Разумеется, как только мы вернемся, я надеюсь, мы увидим тебя у себя в гостях».
(18) — N'oubliez pas de me téléphoner dès que vous serez rentrés (P. Gamarra)
«— Не забудьте позвонить мне, как только вы вернетесь домой».
Реже встречается форма passé surcomposé «прошедшего сверхсложного» в придаточном, сочетающаяся с passé composé «прошедшим сложным» в главном:
(19) Quand ils ont eu fini, ils se sont assis sur le divan pour se reposer
«Когда они закончили, они сели на диван, чтобы отдохнуть».
Придерживаясь теории Э. Бенвениста о системе глагольных времен французского языка [Бенвенист 1974], мы считаем, что все временные формы глаголов должны быть отнесены к одному из двух языковых планов: к плану исторического сообщения (повествования) или к плану разговорной речи. Формы простого прошедшего и предшествующего прошедшего (passé simple и passé antérieur) относятся к историческому плану. Формы презенса, перфекта, футурума, простого и сложного, а также сверхсложные формы относятся к речевому плану. Этим может объясняться редкая встречаемость форм сверхсложного прошедшего в художественных текстах, поскольку эта форма принадлежит исключительно разговорной речи.
Система таксиса в СПП с придаточными времени получила наибольшее развитие по сравнению с системой таксиса других видов СПП.
С точки зрения семантики, помимо значений одновременности, предшествования и следования, в темпоральных СПП может выражаться также значение контактного предшествования.
С точки зрения выражения таксисных значений, только в темпоральных СПП используется большое количество временных союзов как общевременного значения, так и специфических значений одновременности, предшествования, следования, и внутри значения предшествования может маркироваться также значение контактного предшествования.
Таксисные значения могут выражаться также системой видовременных форм глагола, причем именно в темпоральных СПП употребляются несколько таких форм, которые не встречаются в других типах предложений. Все сказанное подтверждает нашу оценку темпоральных СПП как ядра категории таксиса.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
Grammaire Larousse du français contemporain Z Chevalier J.-C. et autres. Paris, 1964.
Grammaire méthodique du français / Riegel M. et autres. Paris, 1994.
Grevisse M. Le bon usage. Grammaire française. 4éme éd. Gembloux; Paris, 1949.
Sandfeld Kr. Syntaxe du français contemporain. Les propositions subordonnées. Genève, 1965.
С. Г. Крамарова
Конструкции с семантикой цели в индонезийском языке
Конструкции со значением цели в индонезийском языке (ИЯ) рассматриваются в руководствах по грамматике [Алиева 1972; Mees 1955, Slametmulyana 1956–1957; Fokker 1951; Alwi 1998]. В этих руководствах, как правило, перечисляются возможные средства маркировки целевого значения и описываются некоторые из разрядов целевых конструкций. Для значения цели это сложноподчиненное предложение и простое распространенное предложение с зависимой частью (34), представляющей собой предикативную группу. Более подробно целевые конструкции рассматриваются в работе [Оглоблин 1998], где они анализируются по следующим двум признакам:
1) форма глагола (актив и два вида пассива — неличный (для третьего лица) и личный (для не-третьего лица) [там же]);
2) кореферентность партиципантов (субъектов и объектов) при обоих глаголах.
Автор отмечает, что как базовый, так и целевой глаголы могут иметь все три названные формы, а выбор формы целевого глагола связан с кореферентностью субъектов и объектов действия, предполагаемых значением как целевого, так и базового глаголов. В статье проводится также исчисление конструкций по данным признакам.
Ниже мы намереваемся рассмотреть целевые конструкции исходя из следующих формальных критериев:
1) разряд конструкции, т. е. тип синтаксической единицы, в которой представлены целенаправленное действие и сама цель;
2) маркирующие средства;
3) относительная позиция главной части (ГЧ) и 34 конструкции.
Мы разграничиваем служебные и вспомогательные слова. Под последними понимаются знаменательные слова, способные выполнять служебную функцию. Для удобства как служебные, так и вспомогательные слова именуются далее служебными словами.
Вспомогательные и служебные слова могут выполнять функцию: а) предлога, б) союза, в) предлога и союза одновременно (далее мы будем условно называть такие служебные слова «предлого-союзами»).
Некоторые предлоги могут вводить только существительные, другие — как существительные, так и предикативные группы. Вспомогательное слово hendak вводит только предикативные группы.
Для маркирования значения цели употребляются служебные слова и деривационный аффикс (префикс).
Служебные слова, являющиеся маркерами цели, делятся на две семантические группы:
1) со значением собственно цели — предлоги untuk «для; чтобы», akan, hendak «для», союзы agar, supaya, agar supaya «чтобы», предлого-союзы guna, buat «для; чтобы»;
2) со значением единственно важной цели — «предлого-союз» demi «ради; во имя того, чтобы».
Рассматриваемые служебные слова находятся в начале 34 конструкции. Слово hendak является вспомогательным. Оно имеет значение модального глагола «желать». В служебной функции hendak акцентирует целенаправленность действия глагола ГЧ конструкции и следует за другим глаголом (или за предикативной группой — memandang mukanya «посмотрел ему в лицо» в следующем примере).
(1) Saya memandang [meN-pandang] muka-nya itu hendak
я АСТ-смотреть лицо-его этот желать
menerka [meN-terka] maksud-nya (FI: 122)
АСТ-отгадывать замысел-его
«Я посмотрел ему в лицо, чтобы (букв, желая) отгадать его замыслы».
Одним из основных значений служебного слова akan является значение предстоящего действия/состояния. Употребляясь как маркер целевого значения, akan акцентирует фактор ожидаемости в будущем действия, состояния, выражаемого в 34 конструкции.
(2) Baginda menyuruh [meN-suruh] perdana1 menteri2
государь АСТ-приказывать премьер-министр1,2
berlengkap akan meng-hantarkan anakanda
готовить PREP АСТ-сопровождать сын
baginda (M: 260)
государь
«Государь приказал премьер-министру приготовиться сопровождать государева сына».
К морфологическому средству маркировки относится особая форма глагола — супин (с префиксом peN-). Эта форма является производной от глагола действия. Наиболее часто префикс peN- используется для образования существительных со значением исполнителя действия (meneijemahkan «переводить» → penezjemah «переводчик»). Образует этот префикс также существительные со значением орудия, средства (mengangkat «поднимать» → pengangkat «средство для подъема»).
В связи с семантической близостью значения цели и значения предназначения, а также использованием в ряде случаев одних и тех же средств маркировки мы рассматриваем эти значения вместе.
Ниже приводится классификация конструкций с семантикой цели в ИЯ, основанная на последовательно примененных критериях, перечисленных в п. 1.
2.1. Сложноподчиненное предложение. Конструкция с семантикой цели может реализоваться в виде сложноподчиненного предложения, 34 которого вводится «предлого-союзами» guna, buat «для; чтобы», demi «ради; во имя того, чтобы» и союзами agar, su-paya, agar supaya «чтобы». Употребление этих служебных слов в конструкции обязательно.
(3) Akuharus meng-gosok kaki-ku, supaya dapat bergerak
я должен АСТ-чистить нога-мой чтобы мочь двигаться
lagi (В: 25)
опять
«Я должен вымыть ноги, чтобы быть в состоянии двигаться дальше».
Порядок частей не фиксирован — в (3) порядок частей ГЧ — ЗЧ, в (4): ЗЧ — ГЧ.
(4) Dan agar kuda saya tidak terganggu apapun, kuda
и чтобы лошадь я не нарушенный что PTL лошадь
itu sayaperintah untuk tidur tidak jauh
этот я PASiHUM-приказывать чтобы спать не далекий
dari pohon (Dr: 24)
PREP дерево
«И чтобы моей лошади ничего не помешало, я приказал спать (ей) недалеко от дерева».
2.2. Простое распространенное предложение. Конструкция с семантикой цели может представлять собой простое распространенное предложение. 34 таких конструкций выражена группой с глаголом (2.1.1), супином (2.2.2) или предложной группой существительного (2.3.3). В предложении 34 выполняет синтаксическую функцию обстоятельства.
2.2.1. ЗЧ распространенного предложения может быть представлена группой с глаголом, которая вводится предлогами untuk (5), (6), akan (2), hendak (1) или присоединяется к ГЧ без помощи предлога (11), (12).
(5) Khow mem-bungkukkan badan untuk dapat
Хау АСТ-склонять тело чтобы мочь
menangkap [meN-tangkap] kata-kata-nya (ТА: 76)
АСТ-усльппать слово. Pl-его
«Хау наклонился, чтобы услышать его слова».
(6) Untuk meng-ubah suasana ku-beranikan
чтобы АСТ-менять обстановка мной-РАS: ним-отваживаться
diri-ku memulai (ТА: 74)
сам-мой начинать
«Чтобы изменить обстановку, я сам решил начать».
Порядок ГЧ и ЗЧ не фиксирован — в (1), (2), (5) порядок частей ГЧ — ЗЧ, в (6) ЗЧ — ГЧ.
Для этой конструкции релевантной является также форма глаголов (актив, пассив), употребленных в ГЧ и ЗЧ. Возможны четыре варианта.
a) Глаголы ГЧ и ЗЧ находятся в активной форме или являются непереходными (5). В этой конструкции совпадают субъекты глаголов ГЧ и ЗЧ.
b) Глагол ГЧ находится в активной форме или является непереходным, глагол ЗЧ — в пассивной форме (7). В этой конструкции совпадают объект ГЧ и субъект ЗЧ.
(7) Bahkan mereka sempat mengirim [meN-kirim]
даже они иметь. возможность АСТ-послать
anak itu untuk di-titipkan pada keluarga lain
ребенок этот чтобы РАS:3-отдавать PREP семья другой (PWT: 134)
«У них даже есть возможность отослать этого ребенка, чтобы его приняли в другой семье».
с) Глагол ГЧ находится в пассивной форме, глагол ЗЧ — в активной форме или является непереходным (8). В этой конструкции совпадают либо субъекты ГЧ и ЗЧ (8), либо объект ГЧ и субъект ЗЧ конструкции (9).
(8) Ku-kerahkan gendangkuping untuk men-dengar
мною напрягать барабанная. перепонка чтобы АСТ-слышать
lebih baik (ТА: 58)
более хороший
«Я напряг слух, чтобы лучше слышать».
(9)…aku di-kirim oleh Mama danMinke untuk
я PAS:3-посылать PREP мама и Минке чтобы
mengawal [meN-kawal] dan menemaninya [meN-temani-nya]
АСТ-быть. рядом и АСТ-сопровождать-ее (ТА: 26)
«Меня послали мама и Минке, чтобы быть рядом и сопровождать ее».
Как нам кажется, выбор партиципанта (субъекта или объекта) ГЧ, кореферентного субъекту ЗЧ, зависит от того, чем выражен объект ГЧ. Если объект ГЧ представляет собой неотъемлемую часть субъекта ГЧ, то в качестве кореферентного выбирается субъект ГЧ. Если объект ГЧ является самостоятельным по отношению к субъекту ГЧ, то чаще всего выбирается объект ГЧ (хотя и здесь возможна кореферентность субъектов ГЧ и ЗЧ).
d) Глаголы ГЧ и ЗЧ находятся в пассивной форме. В этой конструкции совпадают объекты ГЧ и ЗЧ.
(10) Semua penumpang di-perintahkan hadir untuk
все пассажир PAS:3 — приказывать присутствовать чтобы
di-periksa (инф.)
PAS:3 — осматривать
«Всем пассажирам было приказано присутствовать для осмотра (букв, чтобы быть проверенными)».
В том случае, если ГЧ представляет собой глагол движения (pergi «идти», keluar «выходить», datang «прибывать, приходить») и т. п., две предикативные группы могут соединяются и без служебных слов. Порядок частей фиксирован: ГЧ — ЗЧ.
(11) auahnua datang minta obat (81, V. 1:153)
отец-его приходить просить лекарство
«Его отец пришел просить лекарство».
В этой конструкции факультативно могут употребляться предоги со значением цели (чаще всего используется предлог untuk).
(12) Setiap tiga hari se-kali Darsan masih
каждый три день один-раз Дарсан еще
mtmtrlukan [meN-perlukan] datang pada-ku untuk
АСТ-считал. нужным приходить РКЕР-мне чтобы
belajar (ТА:73)
учиться
«Каждые три дня Дарсан еще считал нужным приходить ко мне учиться».
2.2.2. ЗЧ целевой конструкции может представлять собой особую форму глагола — супин. Эта форма образуется с помощью префикса реN-.
(13) Сеlаk-nya riang-gembira hibur-menghiburkan pelupakan
смех-их веселый развлекать-REC забывать lelah (G: 98)
усталость
«Они весело смеются, развлекая друг друга, чтобы позабыть об усталости».
В конструкции с супином порядок частей фиксирован (ГЧ — ЗЧ). ЗЧ чаще примыкает к ГЧ конструкции, как в (13), (15) но может также и вводиться служебными словами (14).
(14) Lama-kelamaan perahu-perahu itu hanya
постепенно корабль. PL этот только
dipakai untuk penghubungkan pantai-pantai
РАS:3-использовать для связывание побережье: PL
yang dekat (G:122)
REL близкий
«Постепенно эти суда стали использоваться для связывания близких прибрежных районов».
(15) Uang itu di-pergunakan-nya penolong sahabat-nya
деньги этот РАS3-использовать-им помощник друг-его (FI, 156)
«Эти день он использовал для помощи своему другу».
2.2.3. ЗЧ может быть представлена существительным со значением ситуации. В этой конструкции ЗЧ вводится предлогом untuk «для, чтобы» и «предлого-союзами» buat, guna, «для, чтобы», demi «ради». Относительный порядок частей в такой конструкции не фиксирован: в (16) порядок частей ЗЧ — ГЧ, в (17): ГЧ — ЗЧ.
(16) Tentai saja2 untuk se-buah diplomasi yangbaik Rebecca конечно1,2 для SG-CLF дипломатия REL хороший Ребекка harus me-relakan diri-nya di-panggil Rebecca saja. должен АСТ-позволять сама-ее АСТ:3-звать Ребекка только (SD: 19)
«Конечно, в интересах хорошей дипломатии Ребекке пришлось позволить называть себя просто Ребекка».
Употребление служебных слов в начале ЗЧ этой конструкции обязательно.
(17) Aku men-coba men-cari pikiran ара harus aku я АСТ-пробовать АСТ-искать мысль что должен я perbuat untuk kebaikan Mevrouw Annelies (ТА: 32) РАS: НUM-делать для благо госпожа Аннелис
«Я пытался придумать, что я должен сделать для блага госпожи Аннелис».
2.3. Конструкция с ЗЧ — определением к существительному.
Конструкция с семантикой цели может представлять собой конструкцию с ЗЧ — определением к существительному. Существительное в предложении является подлежащим или дополнением.
(18) Usaha mem-perkuat hubungan-nya tidak bersukses (инф.).
усилие АСТ-укреплять связь-их не иметь. успех
«Усилия по укреплению связи между ними не имели успеха».
Порядок частей фиксирован: ГЧ — ЗЧ, что объясняется правилами грамматики ИЯ: определяющее всегда находится в постпозиции по отношению к определяемому.
В такой конструкции ЗЧ может вводиться предлогом (чаще всего используется предлог untuk «для»).
В той же конструкции ЗЧ может выражать значение предназначения. ЗЧ в этой конструкции представляет собой супин с префиксом peN-. Порядок частей в этой конструкции фиксирован: ГЧ — ЗЧ. ЗЧ чаще примыкает к ГЧ конструкции.
(19) uang pembayar utang (FI: 217) деньги то. чем. уплачивают долг «деньги для уплаты долга».
2.4. Простое предложение с предложной группой в функции сказуемого. Особый тип образуют конструкции, в которых ЗЧ (сказуемое) оказывается синтаксически главным по отношению к ГЧ (подлежащему) конструкции. Это отличает данную конструкцию от прочих, где ЗЧ (обстоятельство, определение) синтаксически зависима от ГЧ. Формально ЗЧ таких конструкций может представлять собой группу «предлог + глагол» (20) или «предлог + существительное» (21), (22). Порядок частей в таких конструкциях фиксирован: ГЧ — ЗЧ. В ЗЧ обязательно употребление служебных и вспомогательных слов со значением цели: untuk, hendak, akan (с глаголами) и untuk, buat, guna, demi (с именем).
(20) Partisipasi pria justru untuk mem-buat sang
участие мужчина как. раз чтобы АСТ-сделать ART
wanita hebat (CN: 27)
женщина замечательный
«Участие мужчин как раз имеет целью сделать женщин выдающимися».
(21) Kedatangan-ku justru untuk kepentingan istri-ku (ТА: 13)
приход-мой именно для интерес жена-моя
«Я пришел именно в интересах своей жены».
Для ИЯ характерно четыре разряда конструкций, имеющих значение цели — сложноподчиненное предложение, простое распространенное предложение с ЗЧ в функции обстоятельства, группа существительного с определением и простое предложение с предложной группой в функции сказуемого.
Самыми частотными маркерами значения цели являются служебные слова, наиболее распространенным из которых является предлог untuk. Помимо служебных слов для маркирования значения цели используется также специальная глагольная форма — супин (отметим, что супин используется достаточно редко).
Порядок частей конструкции фиксирован: 1)в конструкции «группа существительного с определением», что объясняется характерной для ИЯ фиксированной постпозицией определения по отношению к определяемому (ГЧ — ЗЧ), 2) в конструкции «простое предложение с предложной группой в функции сказуемого» (ГЧ — ЗЧ), 3)в конструкциях, где в начале ЗЧ отсутствуют служебные слова со значением цели — простое распространенное предложение с ЗЧ, представляющей собой предикативную группу (ГЧ — ЗЧ),
4) в конструкциях с супином — простое распространенное предложение и группа существительного с определением (ГЧ — ЗЧ).
ART артикль
CLF классификатор
PAS: HUM личный пассив
PAS:3 неличный пассив
PREP предлог
PTL частица
REC реципрок
REL относительное служебное слово
PL множественное
SG единственное число
В Bobo 1988 (детский журнал).
Dr Budidarmo. Derabat // Derabat Nurhan К. ed., Jakarta, 1999.
FI Fokker A. A. Inleiding tot de studie van de Indonesische syntaxis. Groningen; Djakarta, 1951.
N Nurlina. Beberapa kata tugas dalam bahasa Indonesia yang berfungsi ganda // Widyaparwa (Y ogyakarta). 1998.
M Mees C. A. Tata bahasa Indonesia. Djakarta, 1955.
PWT Putu Wijaya. Teror. Jakarta, 1990.
SD Sugiharto M. Sang diplomat. Jakarta, 1994.
ТА Toer P. A. Anak semua bangsa. Jakarta, 1980.
Алиева Н.Ф. и др. Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
Оглоблин А. К Целевые конструкции и формы глагола в индонезийском языке // Востоковедение. 1998. № 20.
Alwi Я. et al. Tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jakarta, 1998.
Fokker A. A. Inleiding tot de studie van de Indonesische syntaxis. Groningen; Djakarta, 1951.
Mees C. A. Tata bahasa Indonesia. Djakarta, 1955.
Slametmulyana. Kaidah bahasa Indonesia. Vol. 1,2. Djakarta, 1956–1957.
С. А. Крылов
Семантическая роль как элемент метаязыков общей и специальной типологии
В настоящей работе сделана попытка наметить реалистический путь решения вопроса о критериях оптимальной дробности при выделении семантических ролей и при проведении различия между элементарной и обобщенной семантической ролью (в других терминах, гиперролью).
Как известно, партиципантов можно классифицировать (и называть) по их семантическим ролям. Так, в статье И. А. Мельчука и А. А. Холодовича о залоге [Мельчук, Холодович 1970] говорится: «участники ситуации — это, например, субъект, объект, инструмент, исходная точка, конечная точка, адресат и т. д.»; далее упоминаются также такие роли, как причина и место. В других работах дается несколько иной (хотя тоже небольшой) список ролей. Так, у
В. Г. Гака [Гак 1969] выделяется субъект, объект, адресат, орудие/причина/инициатор, пространственный конкретизатор, временной конкретизатор и обладатель/целое (обратим внимание на то, что время, место и причина в концепции Гака причисляются к актантам). В ряде работ наблюдается тенденция к отказу от понятий субъекта и объекта (канонически отражаемых в системе членов предложения как подлежащее и прямое дополнение) в пользу более тонких понятий. Так, у Ч. Филлмора, У. Чейфа и др. вместо понятия субъекта предлагается ряд более дробных (агенс, бенефициант и экспериенцер); вместо объекта предлагается тоже ряд более дробных понятий (собственнно объект/объектив, факгитив/результат).
В ранних версиях падежной грамматики появляется датив, который вскоре распадается на более дробные понятия (объект, цель, пациенс/экспериенцер). В разных вариантах филлморовской концепции фигурируют также другие роли: это непременно инструмент/инструменталь, место/местоположение/локатив; а в более поздних вариантах также: контрагент, комитатив, исходная точка/источник, конечная точка/цель. Система ролей У. Чейфа близка к филлморовской, но вместо пациенса/экспериенцера вводится несколько более тонких ролей: пациенс, экспериенцер (носитель чувства), бенефициант (владелец имущества), а фактитив получает наименование комплемента. Ряд других теоретиков падежной грамматики считает возможным выделение других ролей. Так, Р. Стокуэлл, П. Шахтер и Б. Парти выделяют нейтраль (близкий к филлморовскому объективу или к абсолютиву у Н. Хомского); темпораль/временной конкретизатор; направительный падеж (который можно истолковать через конечную точку и местоположение); эссив (роль предикативной именной группы). Р. Хадцльстон выделяет также «силу» (неодушевленный каузатор). В концепции «семантических валентностей» Ю. Д. Апресяна [1974] субъект остается нерасщепленным, зато типы валентностей, соответствующих косвенным дополнениям, разбиваются на более дробные подклассы, чем у вышеупомянутых авторов. Это проявляется, во-первых, в расщеплении некоторых похожих типов ролей на две или более различных: так, в этой концепции проводятся различия между адресатом и получателем, между источником и начальной точкой, между целью и конечной точкой, между средством и собственно инструментом (которого обычно не проводят сторонники Филлмора); во-вторых, здесь появляются такие роли, как глава, содержание, посредник, маршрут (два последних отличаются, в частности, одушевленностью); способ, условие, мотивировка, причина, аспект, количество и срок. В общей сложности выделяется 25 типов ролей. Еще больше ролей (т. н. семантических отношений) выделяется в работе [Леонтьева 1968], где их полсотни.
Разные авторы выделяют от 2 до 50 типов семантических ролей. Разнообразие концепций связано с объективной сложностью самого языка. Остается открытым вопрос о том, какие критерии удерживают лингвистов от дальнейшего дробления и, наоборот, какие критерии заставляют лингвистов не ограничиваться малым числом ролей, вводя более тонкие их разновидности. Эксплицитного ответа на этот вопрос в литературе не содержится. Правда, иногда высказываются соображения, что оптимальное число ролей не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким; однако такие соображения не носят характер эксплицитно заданных критериев.
Есть точка зрения скептиков (согласно которой семантические роли не нужны — ни в типологии, ни в описательной грамматике), но ее несостоятельность легко продемонстрировать, сославшись на лингвистическую практику широкого использования понятия семантической рож. Заметим попутно, что семантические роли, образно выражаясь, «не нами заведены, не нами и кончатся». Они изобретены не во второй половине 60-х гг. XX в., а гораздо раньше: достаточно вспомнить классификацию падежных значений в традиционных грамматиках латинского и других падежных языков, понятие «кагака» у Панини и проч., чтобы увидеть, что подобный скептицизм означал бы отказ не только от современных версий «падежной грамматики», но и от всей предшествующей традиции.
Таким образом, нечеткость методологических основ выделения ролей — не повод для отказа от этого понятия; наоборот, это повод для того, чтобы такие критерии поискать, найти, эксплицировать и формализовать.
Отмечалось (например, В. А. Успенским), что выделение семантических ролей основано на подобии внешней формы. Это мнение совершенно справедливо, но высказано лишь мельком и нуждается в уточнении и экспликации. Если принимать этот тезис слишком буквально, то мы должны были бы получить, во-первых, не универсальный, а лингвоспецифичный инвентарь ролей (вопреки исходному замыслу топологов), а во-вторых, для одного языка мы бы пришли к такому инвентарю ролей, который бы полностью совпал с инвентарем падежей и предложно-падежных форм изучаемого языка (что также не входило в исходный замысел не только типологов, но и создателей описательной грамматики одного языка с использованием понятия семантической роли: в самом деле, налицо было бы нежелательное умножение сущностей).
Между тем в 1978 г. появилась работа С. Е. Яхонтова, в которой было предложено классифицировать семантические актанты на основании следующего принципа: «сравнивая языки разного строя, можно выяснить, какие семантические различия между глаголами или между актантами разных глаголов существенны хотя бы для части этих языков» [Яхонтов 1978: 102]. Главный тезис С. Е. Яхонтова состоит в том, что «при сравнении разносистемных языков семантические актанты двухактантных глаголов разных классов должны трактоваться раздельно (т. е., например, субъект глаголов физического действия, глаголов чувства, глаголов движения — все это разные типы партиципантов); семантические различия между ними существенны хотя бы для части языков мира. Актанты трехактантных глаголов могут быть сведены к актантам двухактантных через посредство каузативного значения» [там же: 107]. Под существенностью семантических различий С. Е. Яхонтов подразумевает влияние этих различий на модели управления глаголов. Варианты моделей управления С. Е. Яхонтов называет диатезами.
В работах А. Е. Кибрика (см., например, [Кибрик 1992]) высказывалась мысль вместо единого понятия семантической роли использовать два взаимосвязанных понятия: элементарные (примитивные) роли и гиперроли. Элементарными ролями считаются, например, агенс непереходного глагола (AgVi), пациенс непереходного глагола (РtVi), агенс переходного глагола (АgVt) и пациенс переходного глагола (РtVt). На более поверхностном уровне мы имеем дело с гиперролями. Так, в эргативных языках происходит как бы «склеивание» в одну гиперроль элементарных ролей
АgVi, РtVi и РtVt; такая гиперроль именуется фактитивом (и канонически выражается номинативом-абсолютивом). В аккузативных (традиционное название: номинативных) языках происходит, напротив, «склеивание» в одну гиперроль элементарных ролей АgVt, АgVi и PtVi такая гиперроль именуется актором (и канонически выражается номинативом-субъективом). Если отвлечься от того, что подлежащее в подлежащных языках обычно нагружено не только ролевой семантикой, но и коммуникативной (подлежащее представляет собой как бы грамматикализованную или морфологизованную тему), то именно гиперроль актора выражается подлежащим в аккузативных языках. Хотя концепция А. Е. Кибрика может интерпретироваться как теория, в которой элементарные роли понимаются как когнитивные данности, однако объективно в ней содержатся некоторые положения, которые можно переинтерпретировать и иначе — как попытку наметить коитуры концептуального аппарата для решения проблемы тем методом, который был предложен в 1978 г. С. Е. Яхонтовым: а именно, построить процедуру выделения семантических ролей, опирающуюся на сходства и различия тех грамматических форм, которыми в изучаемом языке (или в изучаемых языках) эти семантические роли выражаются. Я пытаюсь, исходя из процитированных идей С. Е. Яхонтова, понять, какое место в концептуальном аппарате такой типологии могут занимать понятия элементарных ролей и гиперролей, предложенные в работах А. Е. Кибрика.
Как осуществляется выделение семантических ролей в некотором языке Li?
Пусть нам мысленно дано представительное множество Аi; абстрактных ситуаций (по Успенскому). Пусть нам дано множество правильных фраз языка Fi (см. [Апресян 1967: 45]). Пусть известно соответствие между множествами Аi и Fi (иначе говоря, на множестве предложений задано отношение синонимии).
Пусть для каждого предиката известна его модель управления. Способы оформления валентной связи можно, вслед за С. Е. Яхонтовым, называть падежами (в широком смысле слова, то есть включая в это понятие предлоги, послелоги, аналитические средства и, добавлю от себя, также скрытые средства типа западнокавказских ролевых показателей в глагольной словоформе). Выразителями одного и того же синтетического падежа считаются флексии, выбор которых зависит от словарных характеристик имени или от его таких ненадежных грамматических характеристик, как число, тип референции и т. п. Та же процедура отождествления применима к показателям аналитических падежей. Поэтому выбор предлога в сочетаниях типа в Крыму, в Молдавии, но на Кавказе, на Украине будем считать словарно обусловленным выбором граммемы локализации, а выбор предлога в конструкциях типа на столе, в столе, под столом уместно считать семантически обусловленным выбором, а именно, свободным (словарно не закрепленным) выражением значения категории локализации. Все три предлога выражают один и тот же двигательный падеж — эссив, так как отвечают на один и тот же вопрос: где?.
Пусть известно, какие из моделей управления являются регулярными, а какие — индивидуальными, свойственными ничтожному числу предикатов. Такого рода выделение произведено, например, в работе [Апресян 1967]. Выделение типовых ролей производится лишь на множестве регулярных моделей управления.
Семантические закономерности падежного оформления апеллируют к некоторым семантическим признакам ситуаций. Дальнейшее рассуждение возможно лишь при условии, что нам заранее ясно, какие из этих признаков являются модальными и референциальными, а какие — диктальными. Формального определения нельзя дать, но по примерам ясно, что имеется в виду. Примеры влияния модальных факторов на управление: постановка подлежащего в дательном падеже в конструкциях типа Ему завтра дежурить, постановка подлежащего в родительном падеже в конструкциях типа Писем не приходило, постановка дополнения в родительном уз. винительном падеже в конструкциях типа выпить воды vs выпить воду и проч.
Синтаксические роли актантов остаются неизменными при изменении значений модусных категорий предложения, хотя падежное оформление синтаксических ролей может меняться.
Семантические роли суть результат абстракции отождествления над множеством лексических партиципантов.
Имя лексического партиципанта может быть образовано от наименования ситуации путем юнкции над соответствующим высказыванием по соответствующей валентности. Самый регулярный способ образования имен лексических партиципантов — это придаточное относительное, вводимое коррелятивным оборотом типа тот, кто… или то, что… (например, для предиката арендовать возможны лексические партиципанты тот, кто арендует; то, что арендуют; тот, у кого арендуют', то, почем арендуют; то, на сколько арендуют, и т. п.). Во многих языках есть более компактные способы обозначения лексических партиципантов — причастия (напр., арендуемое, идущий) или отглагольные существительные актантного типа (напр., арендатор, преподаватель), иногда супплетивные образования (лечить — пациент, покупать — цена). Далеко не для всех предикатов возможно словообразовательное обозначение лексического партиципанта, часто это невозможно. Даже причастные формы образуются не всегда (напр., не существует причастий *тошнимый, *знобимый, *трясомый, *лихорадимый, *мутимый), однако грамматическую юнкцию можно образовать всегда: ср. правильные (и единственные) обозначения лексического партиципанта тот, кого тошнит', тот, кого лихорадит, и т. п. Лексические партиципанты выделить относительно просто; проблема теории семантических ролей состоит в том, чтобы свести их к небольшому обозримому числу классов. Эти классы и называются семантическими ролями. Какие же лексические партиципанты объединяются в одну семантическую роль?
Рассмотрим сперва отдельно взятую абстрактную ситуацию. Предложения, с помощью которых она может быть обозначена, образуют один трансформационный ряд. В рамках одного трансформационного ряда, по-видимому, действует следующее правило: одну и ту же семантическую роль выполняют партиципанты, семантически соответствующие друг другу в рамках одного трансформационного ряда. Поэтому, например, члены пар типа тот, кто нарисовал картину и тот, кем была нарисована картина; тот, кто видит берег и тот, кому виден берег; то, что намазали на хлеб и то, чем намазали хлеб; тот, кому пожаловали шубу и тот, кого пожаловали шубой выполняют одну и ту же семантическую роль. Более того, в случае полного или частичного супплетивизма членов трансформационного ряда (что обычно бывает при употреблении лексических конверсивов) семантические роли партиципантов также остаются неизменными (у лексических партиципантов тот, кому нравятся фиалки и тот, кто любит фиалки одна и та же семантическую роль). Единственная оговорка, которую здесь следует сделать, состоит в том, что при расщеплении валентностей меняется синтаксическая организация семантических ролей. При трансформациях т. н. «актантной деривации» (таковы каузативная, перцептивная и когнитивная трансформация, а также трансформация «косвенного затрагивания обладателя») один партиципант может играть сдвоенную семантическую роль, то есть выполнять несколько разных семантических ролей относительно разных предикатов. Но это не изменение семантических ролей, а изменение их синтаксической организации (таким образом, перед нами разновидность диатетического преобразования).
Автор не только не настаивает, но даже и не утверждает, что соответствующие предложения (или словосочетания) синонимичны. Утверждается лишь, что представление о семантической роли, которое автор пытается уточнить, осмысленно лишь в рамках представления о том, что существуют трансформационные ряды и что в рамках этих трансформационных рядов семантические роли партиципантов остаются неизменными. Безусловно, трансформации определенным образом затрагивают смысл, но семантических ролей они при этом не затрагивают. Этот принцип представляет собой утверждение не о языке, но о метаязыке лингвистического
описания. Если семантическая роль меняется, то перед нами — не трансформация вообще; если перед нами безусловная трансформация, то значит, семантические роли по определению сохраняются, Из данного принципа никоим образом не следует пересмотр каких-либо утверждений о том, какую из возможных трактовок конкретных примеров следует выбирать.
Правила управления (падежного оформления семантической роли) могут апеллировать к разным факторам. Апелляция к словарным характеристикам отдельных глаголов принадлежит скорее словарю, а не грамматике и потому в данном случае нас интересовать не будет. Апелляция к модусным значениям означает, что перед нами не правила выбора диатезы, а правила падежного оформления одной и той же синтаксической роли. Наконец, остается апелляция к диктальным значениям. Здесь возможны два случая.
В первом случае выбор диатезы происходит из множества диатез, принципиально возможных в данном языке, но этот выбор апеллирует (а) к семантическим классам предикатов; (б) к тому, какая семантическая роль из набора ролей, возможных при любом из предикатов данного класса, подлежит оформлению в виде той или иной синтаксической роли; (в) к релевантным (для выполнения роли) свойствам партиципанта. Все значения такого рода относятся к «отражательным» (в том смысле, который вкладывает в этот термин А. В. Бондарко), а не к «интерпретационным».
Так, (а) в грамматиках эргативных языков говорится о том, что при переходных глаголах физического воздействия (употребляемых в немаркированной диатезе) субъект ставится в эргативе, при переходных глаголах чувства субъект ставится в дативе, а при непереходных глаголах их субъект ставится в номинативе (абсолютиве). Налицо апелляция к семантико-синтаксическим классам предикатов.
(б) Правило управления может апеллировать и к детализации самой семантической роли, партиципанта. Так, в русском языке роль сопроводителя (в отличие от английского языка) выражается (аналитическим) комитативом (идти с ножом), а роль инструмента — инструменталем (резать ножом).
(в) Правило управления может апеллировать и к релевантным (для выполнения роли) свойствам самого этого партиципанта. Так, в русском языке роль транспорта выражается у названий видов транпорта суперэссивом (приехал на поезде) или инструменталем (приехал поездом), но у названий животных роль транспорта может быть выражена только суперэссивом (прискакал на лошади, но не *прискакал лошадью).
Такие факторы (мотивы) выбора диатезы можно назвать синтагматическими, собственно ролевыми или позиционными.
Во втором случае происходит выбор одной диатезы из набора возможных для данного предиката диатез. Этот выбор апеллирует к таким мотивам, как актуальное членение, как желание подчеркнуть контролируемость или намеренность действия (так, взаимный поцелуй может быть предпринят по инициативе одной из сторон, и в таком случае именно эта сторона воспринимается как протагонист действия; объект может восприниматься как играющий периферийную роль и потому оформляться инструментальным дополнением — ср. бросать камнями вместо бросать камни).
Такие факторы (мотивы) выбора диатезы можно назвать парадигматическими или оппозитивными.
Парадигматический выбор апеллирует к таким компонентам смысла, которые могут быть вовсе недоступны носителю другого языка. Вообще говоря, они могут во многих случаях оказываться непереводимыми, т. е. принадлежать к тем компонентам смысла, которые в концепции А. В. Бондарко трактуются как интерпретативные (в отличие от отражательных).
Но главное свойство парадигматических мотивов — в том, что они описывают ситуацию, где выбор между диатезами в принципе возможен несмотря на то, что сам предикат уже выбран.
Замечу в скобках, что подразделение партиципантов на облигаторные (актанты) и факультативные (сирконстанты) меня в данном случае не интересует вообще, так как оно не имеет прямого отношения к затрагиваемой проблематике. По крайней мере все факультативные партиципанты автор рассматривает, вслед за работами В. Г. Гака и Ю. С. Мартемьянова, как полновесную разновидность участников ситуациии, поэтому все приводимые рассуждения применимы к ним тоже.
Перейдем к проблеме классификации семантических ролей партиципантов. С выделением лексических ролей (ролей лексических партиципантов) особых проблем как будто не возникает. Проблемы начинаются там, где мы пытаемся отождествить друг с другом семантически роли разных лексических партиципантов. Все известные примеры типовых семантических ролей представляют собой результат абстракции семантического отождествления над множеством лексических ролей.
Самым естественным представляется такой подход: в одну типовую роль объединяются такие лексические роли, которые выражаются одинаково (у разных предикатов). На это уже указывал
В. А. Успенский в своих статьях о диатезе [Успенский 1977]. С другой стороны, оборотной стороной любого отождествления является различение, и в данном случае принцип различения был сформулирован С. Е. Яхонтовым: семантические роли различаются у тех классов предикатов, которые отличаются друг от друга именно по способу падежного оформления актантов (то есть управления).
Что же такое «выражаются» одинаково? На первый взгляд, это кажется интуитивно очевидным. Но следует сделать две оговорки.
Во-первых, различия в управлении могут быть средствами выражения значений из области модусных категорий высказывания, актуального членения, стилистических характеристик и проч.; управление может также участвовать в выражении референциальных статусов именных групп. Такие различия должны приниматься во внимание лишь в той мере, в которой соответствующие рекционные потенциалы оказываются различными у разных типов семантических ролей. Например, различие между номинативным и генитивным оформлением субъекта в русском языке (деньги есть vs. денег нет\ письма пришли vs. писем не пришло) — факт в данном случае релевантный, но отнюдь не для того, чтобы противопоставить личную и безличную конструкции друг другу, а для того, чтобы противопоставить роль пациенса (допускающую использование безлично-генитивной конструкции в противоположность лично-номинативной конструкции для выражения неопределенной референции имени) как единое целое другим семантическим ролям, в частности, роли агенса, не допускающей такого использования (нельзя сказать певцов не выступало, танцоров не плясало именно потому, что здесь субъект выполняет роль агенса, а не пациенса).
Во-вторых, рекционные различия, вызванные парадигматическим (оппозитивным) выбором одной из диатез, также не должны считаться основанием для разграничения семантических ролей. А учитываться они должны лишь в той мере, в которой соответствующие трансформационные потенциалы различны у разных семантических ролей. Например, различие между номинативным и дативным оформлением экспериенцера в русском языке (мне хочется vs. я хочу, мне слышится vs. я слышу) — факт в данном случае релевантный, но отнюдь не для того, чтобы противопоставить аффективную и активную диатезу друг другу, а для того, чтобы противопоставить класс аффективных предикатов как единое целое (в трансформационный потенциал которых входит парадигматическая оппозиция между аффективной и активной диатезами) классу активных предикатов как единому целому (в трансформационный потенциал которых аффективная диатеза не входит, но зато входит противопоставление активной и пасссивной диатезы, ср. я прослушал симфонию vs. мной была прослушана симфония) и, соответственно, для проведения семантического различия между субъектом аффективных предикатов (экспериенцером) и субъектом активных предикатов (агенсом).
Выделение типов семантических ролей именно на основании формы (а не смысла) является единственно возможным способом избежать бесконечного дробления ролей на их разновидности.
Каждая роль характеризуется уникальным (присущим только ей одной), трансформационным потенциалом, т. е. набором возможных в изучаемом языке средств выражения, и идентифицируется именно на основании единства этого потенциала.
Как при выделении семантических ролей ограничиться небольшим их количеством? Ведь так хочется всегда иметь обозримый инвентарь! Такой вопрос неизбежно встанет, так как разнообразие типов трансформационных потенциалов в рамках любого языка достаточно велико, что было показано в работе [Апресян 1967] (о русском глагольном управлении).
Во-первых, зададимся вопросом: а, собственнно, необходимо ли такое ограничение инвентаря ролей? Ведь нас не пугает то обстоятельство, что набор типов склонения или спряжения конкретного языка может оказаться весьма велик (для русского он заведомо приближается к числу порядка тысячи типов, по крайней мере нескольким сотням наверняка, учитывая большое число типов непродуктивных). Почему бы не предположить, что число семантических ролей столь же велико?
Во-вторых, зададимся вопросом о целях ограничения: зачем нужно этот инвентарь ограничивать? На него можно ответить так:
(1) так практически удобнее студенту, изучающему синтаксис родного языка;
(2) так практически удобнее иностранному учащемуся, изучающему данный язык;
(3)так практически удобнее типологам, строящим модели сопоставления языков и использующим инвентари семантических ролей в качестве семантического метаязыка сопоставления.
Каковы же методы сокращения инвентаря ролей?
(а) метод словарный: измеряется словарная продуктивность соответствующих моделей управления;
(б) текстовый метод: измеряется текстовая употребительность соответствующих моделей управления.
В обоих упомянутых случаях исследователь некоторым волюнтаристским методом проводит границу между основными (центральными) моделями управления и периферийными (второстепенными, дополнительными).
Все периферийные модели управления просто не принимаются во внимание.
Если выбирать из этих двух подходов — словарного и текстового — я безусловный сторонник текстового. Как отмечает
С. Е. Яхонтов в указанной статье, диатезы глаголов типа быть и иметь должны в любом случае приниматься во внимание, даже если они составляют ничтожную часть словаря: просто потому, что они очень употребительны в тексте.
И, наконец, самое интересное — разграничение элементарных ролей и гиперролей. Здесь необходима некоторая логическая экспликация самого разграничения.
Гиперроль — это множество ролей, выражаемых в некотором языке одним и тем же способом. Фактически это и есть синтаксическая роль (или падеж в широком смысле слова, т. е. включая аналитические и скрытые падежи: под скрытыми падежами я понимаю падежи, выраженные в составе глагольной, а не именной группы, как это имеет место в абхазском и вообще в западнокавказских языках, или падежи местоименных клитик в романских языках, или падежи ролевых клитик в чукотско-камчатских языках). В первом приближении: сколько в данном языке падежей, столько и гиперролей. Однако тут есть некоторое тонкое различие. Термин «падеж» (и вся номенклатура падежей) — скорее элемент метаязыка монолингвального описания, а гиперроль — понятие скорее типологическое. К тому же при выделении гиперролей мы можем столкнуться (и чаще всего сталкиваемся) с тем, что они состоят из семантических ролей, выделенных не на полном множестве предикатов данного языка, а лишь на представительной его части (а именно, на множестве предикатов с высокоупотребительными моделями управления). Между тем процедура выделения падежа в любом языке претендует, безусловно, на получение полного инвентаря падежей; соответственно, инвентарь падежей будет считаться неполным, если в тексте встретится именная словоформа, не относящаяся ни к одному из выделенных в описании падежей. А с ролями это вполне возможно.
Кроме того, во многих случаях в одну гиперроль объединяются актанты с различными падежными характеристиками, так как падежное оформление не есть единственный грамматически релевантный признак, на основании которого лексические партиципанты объединяются в гиперроли.
Гиперроли, так же как и элементарные роли, суть результат проведения абстракции отождествления на множестве лексических ролей (ролей лексических партиципантов).
Элементарная (в данном языке) роль — это максимальное (для данного языка) множество лексических партиципантов, члены которого не отличаются друг от друга по набору возможных для них (в данном языке) типов грамматического поведения (включая в грамматическое поведение выбор предложно-падежной формы, типовую диспозицию, трансформационный и дистрибутивный потенциал, контрольные способности). Например, в русском языке лексические партиципанты «тот, кого знобит»; «тот, кого лихорадит»; «тот, кого тошнит»; «тот, кого трясет» и пр. принадлежат к одной элементарной роли, так как трансформационные и дистрибутивные потенциалы этих партиципантов совпадают друг с другом.
Обобщенная (в данном языке) роль (или «гиперроль») — это максимальное множество лексических партиципантов, члены которого обладают хоть какой-нибудь общей чертой, характеризующей их грамматическое поведение (в указанном смысле).
Таким образом, при определении элементарной роли в нее объединяются лексические партиципанты, сходные по своему грамматическому поведению во всех отношениях. Между тем при выделении гиперроли (обобщенной роли) в нее объединяются лексические партиципанты, сходные по своему грамматическому поведению хотя бы в каких-нибудь отношениях.
Из сформулированных определений следует, что понятие элементарной роли можно отличить от понятия гиперроли на том же основании, на каком квантор общности отличается от квантора существования.
А что включать в релевантные черты грамматического поведения, в значительной мере зависит от степени тщательности описания. Тот факт, что в русском языке субъект непереходного глагола обладает некоторыми чертами, отличающими его от субъекта переходного глагола (как показал И. Ш. Козинский [Козинский 1983], сюда относятся: трансформируемость в субъектный генитив, контроль согласования сопредикатных полупредикативных прилагательных при глаголах типа считаться, называться…, селекция множественого числа при коллективном значении предиката; трансформируемость в родительный под отрицанием; трансформируемость в агентивное дополнение и трансформируемость в именной корень при субстантивно-глагольном основосложении), многими авторами просто не замечался или настолько не считался грамматически релевантными, что это не мешало им выделять (семантический) субъект в качестве семантической роли, неразлагаемой далее на более дробные (более элементарные) роли. Вместе с тем сходство субъекта непереходного глагола с объектом переходного по всем указанным параметрам оказалось опять же настолько незамечаемым или же сознательно игнорируемым явлением, что идея о выделении в русском языке гиперроли фактитива не вызвала сочувствия теоретиков. Причина очевидна: все эти свойства были сочтены несущественными.
Между тем вопрос о том, как доказывать грамматическую существенность тех или иных свойств, во многом остается открытым.
Здесь, однако, можно использовать такой критерий грамматической существенности языковых правил: мера грамматической релевантности (существенности) некоторого правила тем выше, чем чаще встречены в корпусе текстов такие предложения, при построении которых это правило было употреблено. Если принять эту меру релевантности, то сами собой отпадут вопросы о том, какие критерии в грамматике более существенны, а какие менее. Достаточно измерить употребительность соответствующего правила в реальных текстах. Это, разумеется, процедура трудоемкая, однако нетривиальные результаты всегда даются нелегко.
Вполне естественным и уместным является перенос различения элементарной и обобщенной роли из монолингвального описания в типологическое.
Однако тут встает важнейший методологический вопрос. Он связан с проблематикой, обсуждавшейся С. Е. Яхонтовым в связи его с разграничением грамматических и таксономических категорий. Имеет ли различение элементарной роли и гиперроли в метаязыке типологии тот же смысл, что и в метаязыке описательной (монолингвальной) грамматики?
Мне кажется, что на этот вопрос следовало бы ответить отрицательно.
Типология бывает специальная (контрастивная) и общая (универсальная).
Специальная (контрастивная) типология работает всегда со строго ограниченным набором сопоставляемых языков — чаще всего с парой языков, реже с тройкой-четверкой языков. Но это множество языков при контрастивном исследовании заранее задается эксплицитно. Будем называть его контрольным перечнем интересных языков.
Некоторые понятия определимы лишь на контрастивной основе. Помимо трансформационных рядов и сентенциальных парадигм, которые заданы исследователю отдельного языка и принадлежат описательной (монолингвальной) грамматике, контрастивный типолог должен иметь в распоряжении заранее данное отношение «быть переводом для», задаваемое на множестве текстов на тех языках, которые входят в контрольный перечень «интересных» языков.
Межъязыковые роли могут быть заданы лишь на основе абстракции отождествления на множестве межъязыковых лексических ролей (т. е. ролей межъязыковых лексических партиципантов). Межъязыковой лексический партиципант — это набор лексических партиципантов всех языков, входящих в контрольный перечень интересных языков и соответствующих друг другу при переводе с языка на язык.
Элементарной ролью считается такое множество межъязыковых лексических ролей, которое при отображении на любой язык, входящий в контрольный перечень интересных языков, дает набор лексических ролей, в составе которого нельзя выделить двух подмножеств, отличающихся друг от друга способами падежного оформления.
Гиперролью, аналогично, следует считать такое множество лексических ролей, которое хотя бы в одном из языков, входящих в контрольный перечень интересных языков, обнаруживает единообразное оформление ролей (то есть члены которого ведут себя в этом языке сходно, в отличие от членов других множеств лексических ролей, не являющихся подмножествами данного).
Имеют ли смысл понятия гиперроли и элементарной роли за пределами контрастивного исследования — в общей типологии и универсалистике?
Инвентарь гиперролей в универсалистике тривиально выводится из инвентаря контрастивных типологий: это такой набор межъязыковых лексических ролей, который хотя бы в одном из изученных сегодня языков оформляется единообразно.
Однако понятие элементарной роли в общей (универсальной) типологии оказывается сугубо относительным. Ведь если определять ее как множество межъязыковых лексических ролей всех изученных языков, отображение которого на любой из этих языков не расщепляется присущими данному языку семантическими правилами управления, то, во-первых, надо сперва суметь эксплицитно задать это множество «всех изученных языков» (а этого не может никто); а во-вторых, учитывать, что множество изученных языков растет постоянно. Множество гиперролей будет расти и расти (и это бы еще полбеды), но ведь множество элементарных семантических ролей потеряет всякую определенность. В универсальной типологии его нельзя задать никаким конструктивным образом, поэтому оно будет непредсказуемо менять свои очертания. То, что мы считали вчера ролью элементарной, завтра будет объявлено гиперролью, расщепляемой на две более элементарные. Между тем никакая универсалистика не может апеллировать к понятиям с неясными очертаниями. Для решения этой проблемы как раз и вводится понятие волюнтаристски задаваемого множества — контрольного перечня интересных языков. Но коль скоро такой перечень задан, то описание будет не общетипологическим, а контрастивным.
Проверка «элементарности» на множестве «всех языков», очевидно, является делом неосуществимым (практически и теоретически). Из этого следует, что экстенсионал понятия элементарной семантической роли в рамках общей типологии (разумеется, если не отождествлять ее с философской «спекулятивной» грамматикой) является пустым.
Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974; 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.
Гак В. Г. К проблеме синтаксической семантики // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения / Ред. Н. Д. Арутюнова. М., 1969.
Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.
Козинский И. Ш. Некоторые грамматические универсалии в подсистемах выражения субъектно-объектных отношений: Автореф. дис…. канд. филол. наук. М., 1980.
Козинский И. Ш. О категории «подлежащее» в русском языке // Предварительные публикации ПГЭПЛ. Вып. 156. М., 1983.
Леонтьева Н. Н. Семантический анализ и смысловая неполнота текста: Автореф. дис…. канд. филол. наук. М., 1968.
Мельчук И. А., Холодович А. А. Залог (Определение. Исчисление) // Народы Африки и Азии. 1970. № 4.
Успенский В. А. К понятию диатезы II Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
Яхонтов С. Е. Классы глаголов и падежное оформление актантов // Проблемы теории грамматического залога / Отв. ред. В. С. Храковский Л., 1978.
G. Lazard
Qu'est-ce qu'un verbe transitif?
Qu'est-ce que la transitivité? Cette question n'a guère de sens, pas plus que des questions comme: qu'est-ce qu'un objet? qu'est-ce qu'un sujet? Transitivité, sujet, objet sont des notions traditionnelles élaborées par les grammairiens du passé observant leurs langues et s'efforçant de systématiser leurs observations. Ces notions assurément ne sont pas creuses, mais elles sont obscures parce qu'elles sont confuses. La question que doit se poser le linguiste d'aujourd'hui n'est pas: qu'est-ce que la transitivité? mais: quels faits observés par nos prédécesseurs les ont conduits à élaborer la notion de transitivité? Pourquoi a-t-elle été et est-elle encore si généralement utilisée dans la description des langues les plus diverses? Garde-t-elle une pertinence dans la perspective de la linguistique moderne, et, si oui, quelle définition peut-on en donner?
Deux évidences s'imposent à qui s'adonne à l'étude du langage. L'une est qu'il porte du sens: on parle pour dire quelque chose. L'autre est que les seuls faits observables avec précision sont les formes. Comme a fort bien dit mon maître E. Benveniste, «les manifestations du sens semblent aussi libres, fuyantes, imprévisibles, que sont concrets, définis, descriptibles, les aspects de la forme» [Benveniste 1974: 216]. C'est donc sur la forme qu'il faut s'appuyer pour saisir comment la langue structure le contenu de pensée. Nous le savons aujourd'hui, surtout grâce aux instruments intellectuels que nous a légués le saussurisme, notions d'arbitraire du signe, de signifié et de signifiant, de pertinence, etc. Ils nous permettent de serrer de plus près les réalités linguistiques que les grammairiens anciens percevaient intuitivement et confusément.
Nous savons qu'il ne suffît pas de définir un verbe transitif, en termes sémantiques, comme un verbe indiquant qu'une action émanée d'un sujet passe (transit) sur un objet, mais qu'il faut, dans chaque langue, chercher des critères morphosyntaxiques, c'est-à-dire de forme, distinguant les verbes transitifs de ceux qu'on dénomme intransitifs. Et cependant, comme nous le verrons, la sémantique reprend inévitablement ses droits quand on passe de la description des langues, prises individuellement, à leur comparaison, en vue d'apercevoir ce qu'elles ont de commun et qui explique et, dans une certaine mesure, justifie Vidée traditionnelle de transitivité. Cette recherche implique une démarche complexe: sémasiologique, de la forme au sens, dans la description de chaque langue, puis onomasiologique, du sens à la forme, au départ de la comparaison des langues, puis de nouveau sémasiologique dans la quête de l'universel. Nous l'esquissons très sommairement dans ce qui suit.
Dans la description d'une langue donnée, il est toujours possible de choisir un critère morphosyntaxique pour définir un verbe transitif. En latin, par exemple, et en général dans les langues où existe une flexion nominale, un verbe transitif est un verbe qui régit un «objet direct» à l'accusatif. En français, langue sans déclinaison, un verbe qui régit un terme nominal sans préposition en position postverbale est dit «transitif direct». Mais beaucoup de grammairiens admettent aussi des verbes «transitifs indirects», régissant des objets «indirects», c'est-à-dire prépositionnels, comme obéir à qqn.
Cette notion de transitivité, qu'elle soit «directe» ou «indirecte», n'est pas très claire. Elle recouvre des faits qui s'expriment mieux en termes de valence. La distinction principale est entre actants etcir-constants, fondée sur des critères morphosyntaxiques. Les circonstants sont étrangers à la valence du verbe; leur forme ne dépend aucunement du choix du lexème verbal. Les actants, au contraire, sont d'une forme déterminée par le choix du verbe: ce sont des termes régis par celui-ci. Certains actants sont en outre obligatoirement présents avec un verbe donné: par exemple, rencontrer ne peut s'employer sans un objet direct (rencontrer un ami, rencontrer des difficultés)', recourir ne peut s'employer sans un complément introduit par la préposition à (recourir à un expédient). Ces actants sont dits «requis». Il existe donc des actants simplement régis et des actants régis et requis [Lazard 1994: 70,1998a: 68; 1998b: 16–17].
Ce sont ces distinctions qui, plus ou moins clairement, sont sous-jacentes à la notion traditionnelle de transitivité. Pour les grammairiens du français qui admettent la transitivité indirecte, un verbe transitif est un verbe qui peut ou doit être accompagné d'actants (directs ou indirects). Pour ceux qui définissent la transitivité par la présence possible d'un objet direct, un verbe transitif est un verbe qui peut ou doit être suivi d'un actant sans préposition.
Ajoutons que certains linguistes pensent que la notion de transitivité est inutile et qu'on peut s'en dispenser (ainsi [Gross 1969]). Il soutiennent que celle de complément d'objet est vaine et qu'il suffît de décrire avec précision les faits de valence, c'est-à-dire de classer les verbes selon le nombre et la forme des compléments qu'ils admettent ou exigent.
Transitivité directe ou indirecte, transitivité réduite à la construction directe, abandon de la notion de transitivité, les trois positions sont légitimes, pourvu que, dans le cadre choisi, les faits soient décrits exactement.
Il reste cependant que la notion de transitivité est employée très largement et étendue à de nombreuses langues, y compris des langues ergatives où la forme de la construction dite transitive est totalement différente de celle qu'elle a dans les langues accusatives. Cette persistance appelle une explication. L'examen de la question en perspective interlinguistique en suggère une.
Les critères défmitoires de la transitivité dans des langues particulières ne sont guère généralisables.
Si l'on retient celui des grammairiens du français qui admettent une transitivité indirecte, transitivité signifie purement et simplement présence possible d'un ou plusieurs actants («actant» étant défini par opposition à «circonstant»). La distinction entre verbe transitif et verbe intransitif coïncide alors avec celle qu'on fait entre actant et circonstant. Elle peut être généralisée, mais elle n'est pas très intéressante.
La plupart des linguistes, dans la plupart des langues, définissent la transitivité par la présence (possible) d'un objet direct. Mais qu'est-ce qu'un objet direct? En latin ou en russe un terme à l'accusatif; en français et d'autres langues d'Europe occidentale, un terme suivant le verbe sans préposition; en tahitien, langue polynésienne, un terme prépositionnel d'un certain type (v. plus bas, § 5). Dans les langues erga-tives, on considère généralement comme transitive une construction comprenant un terme à l'ergatif et un autre à l'absolutif (cas zéro), et c'est ce dernier qui correspond à l'objet direct des langues accusatives. Chacun de ces critères est propre à des langues particulières et incapable de fournir une définition de la transitivité en perspective intérim-guistique. Il n'y a pas de critère morphosyntaxique de la transitivité valable pour toute langue.
Cette difficulté n'est qu'un cas particulier du problème général et fondamental que pose la comparaison typologique des langues. Toute comparaison demande une base de comparaison. Sur quelle base va-t-on comparer les langues? Les formes des langues étant d'une variété pratiquement infinies, elles ne peuvent former une base de comparaison. En revanche, comme toutes les langues sont en principe propres à exprimer les mêmes contenus de sens, c'est aux contenus de sens qu'on doit faire appel pour fonder la comparaison. La difficulté est que, comme nous avons vu, les seules données observables objectivement en linguistique sont les formes, c'est-à-dire les signifiants. Quant aux signifiés qui sont exprimés par les signifiants, ils ne se définissent eux-mêmes que par leur place dans le système qui est propre à la langue. Indépendamment de cette structure imposée par la langue, les contenus de sens n'ont pas de structure saisissable objectivement, c'est-à-dire autrement que par l'intuition, qui est inévitablement subjective. Le linguiste est alors en face d'un dilemme. Il voit d'un côté des formes saisissables objectivement, mais indéfiniment variées, de l'autre un univers de sens «libres, fuyants, imprévisibles», comme dit Benveniste.
Dans ces conditions, il n'a d'autre solution que de «se donner», c'est-à-dire choisir, des cadres conceptuels qui lui serviront de base de comparaison [Lazard 1999: 99-103, réimpr. 2001: 28–39]. Ces cadres conceptuels sont arbitraires, en ce sens qu'ils ne résultent pas d'un raisonnement rigoureux ni d'une observation systématique, mais d'une décision méthodologique. Ils sont fondés sur l'intuition et peuvent surgir de toute espèce d'expérience, sens commun, connaissance du monde en général, convictions philosophiques, suggestions tirées de la psychologie. En particulier et tout particulièrement, le linguiste tire parti de sa familiarité avec des langues diverses. Ces cadres conceptuels sont évidemment conjecturaux, puisque purement intuitifs, mais ce ne sont pas des hypothèses au sens scientifique du terme.
Ils ne sont pas vérifiables par l'examen des données offertes à l'observation. Ce sont des instruments de la recherche, en l'occurrence des moyens utilisés pour comparer les langues. Leur valeur réside dans leur fécondité. Il n'y a pas lieu de se demander s'ils sont justes ou faux, mais s'ils sont productifs ou non. S'ils permettent de découvrir des relations intéressantes commîmes à des langues diverses, ils ont rempli leur fonction. S'ils n'aboutissent pas à des découvertes, il faut les abandonner et en construire d'autres.
Pour l'étude de la transitivité nous choisissons comme point de départ, c'est-à-dire comme cadre conceptuel, la notion d'«action prototypique», que nous définissons de la façon suivante:
(1) Définition: Une action prototypique est une action réelle, complète, discrète, volontaire, exercée par un agent humain bien individué sur un patient bien individué qui en est affecté réellement.
On admettra facilement que toutes les langues ont le moyen d'exprimer un procès ainsi défini. Autrement dit, il existe dans toutes les langues une construction employée pour exprimer une action prototypique. Cela ne signifie pas que, dans toutes les langues, cette construction sert exclusivement à cela. Bien au contraire, dans beaucoup de langues, et même probablement, dans la plupart, elle peut servir à exprimer autre chose, actions non prototypiques ou même procès qui ne sont pas des actions. Mais c'est cette construction qui est employée lorsqu'il s'agit d'exprimer une action prototypique, c'est-à-dire possédant les caractéristiques indiquées dans la définition (1). Nous l'appelons «construction biactancielle majeure» (sigle: CBM).
(2) Définition: La construction biactancielle majeure (CBM) est, en toute langue, celle qui sert à exprimer l'action prototypique.
Cette construction prend, selon les langues, des formes variées. Elle peut être accusative ou ergative, comporter ou non des indices actan-ciels (marques personnelles ou autres) dans la forme verbale, mettre en jeu ou non des marques casuelles dans les termes nominaux, impliquer un ordre des mots obligatoire ou préférentiel, etc. Quelles que soient ces formes, elles ont toutes en commun d'être susceptibles de dénoter un même type de contenu sémantique, à savoir des actions prototypiques.
Nous disposons ainsi, pour la comparaison des langues, d'un point fixe, qui consiste en deux éléments corrélés:
— sur le plan du contenu de sens ou, en termes saussuriens, des signifiés, la notion d'action prototypique,
— sur le plan morphosyntaxique ou des signifiants, la construction biactancielle majeure, qui assume des formes différentes dans les diverses langues.
Nous avons donc à la fois, d'une part, un contenu de sens bien défini commun à toutes les langues et, d'autre part, des formes différentes exprimant ce contenu de sens dans les langues différentes. Nous sommes dès lors en mesure de comparer légitimement ces formes différentes sur la base du contenu de sens commun. Nous pouvons aussi comparer l'extension sémantique que prend, différemment dans les différentes langues, l'usage de la CBM, c'est-à-dire examiner, dans une perspective comparative, quels sont les sens qu'elle peut exprimer, dans chaque langue, en plus de l'action prototypique. Nous verrons que ce champ de recherche ne manque pas d'intérêt.
Ce qui précède (§ 4) constitue la première étape de la démarche: nous avons élaboré un cadre conceptuel pour servir de base à la comparaison des langues, c'est-à-dire un instrument de travail choisi librement. La deuxième étape consiste à former une hypothèse vérifiable par l'observation. Notre hypothèse est que la notion traditionnelle et confuse de transitivité est fondée sur l'idée implicite d'action prototypique.
(3) Hypothèse: La CBM est, en toute langue, la construction transitive.
Cette hypothèse est assez facile à vérifier. La CBM, c'est-à-dire la construction utilisée pour décrire une action prototypique, est, en français et dans les langues voisines, celle qu'on appelle ordinairement transitive, avec un objet direct En latin et autres langues du même type, c'est celle qui comporte un objet à l'accusatif.
Dans les langues ergatives, c'est aussi celle que l'on qualifie habituellement de transitive. Par exemple, le tcherkesse a des constructions biactancielles de deux types différents [Paris 1991: 34]. Toutes deux incluent un terme au cas direct et un préfixe actanciel coréférent de ce terme et placé en première position dans la forme verbale. Mais l'autre terme est différent dans les deux constructions. Dans l'une, c'est un terme nominal au cas oblique qui généralement n'est pas en tête de phrase et qui est coréférent d'un préfixe verbal dit de «deuxième série» ou de «deuxième position» (ex. 4).
Dans l'autre, c'est un terme également au cas oblique, mais qui figure le plus souvent en tête de phrase et qui est coréférent d'un autre préfixe verbal dit de «troisième série» ou de «troisième position» (ex. 5).
Dans (4), — ye est un préfixe de deuxième série; dans (5), — yэ est un préfixe de troisième série. C'est la construction du type de (5) qui s'emploie dans le cas d'une action prototypique. Et c'est aussi celle-ci que déjà Dumézil, parlant des langues caucasiques du nord-ouest en général [Dumézil 1932: 156] ou de l'oubykh [Dumézil 1975: 9], appelle transitive en justifiant ce choix par l'intuition des locuteurs.
Une autre langue ergative, d'un type un peu différent, le lez-ghien, a plusieurs constructions biactancielles. L'une d'elles, qui comporte un terme à l'ergatif et un autre à l'absolutif, ex. (6) [Haspelmath 1993: 289], sert à exprimer l'action prototypique. C'est aussi celle qui est décrite comme transitive.
(6) ajal-di get'e xa-na
enfant-ERG pot casser-AOR
«L'enfant a cassé le pot».
Citons un dernier exemple dans une langue accusative où tous les compléments du verbe sont prépositionnels, le tahitien. Dans une phrase comme (7), la construction comprend un complément introduit par la préposition multifonctionnelle i, qui s'emploie dans beaucoup d'autres compléments; mais une certaine propriété transformationnelle qui ne peut être décrite ici (v. [Lazard & Peitzer 2000: 63–64]), fait que cette construction est analysée comme transitive. Or c'est précisément celle qui sert à exprimer l'action prototypique: cette construction est donc dans cette langue la CBM.
(7) 'ua hâmani te tâmuta i te fare
ASP fabriquer ART charpentier PREPART maison
«Le charpentier a construit la maison».
On pourrait multiplier les exemples avec toujours le même résultat. Ils confirment l'idée que la notion d'action prototypique est à la base de la notion traditionnelle plus ou moins intuitive de transitivité. L'attachement des grammairiens à cette notion et l'usage étendu qu'ils en font suggèrent que la notion d'action prototypique a une importance particulière pour les humains en tant qu'êtres parlants: elle semble bien jouer le rôle de modèle de tout procès impliquant deux participants. Avec, corrélativement, les constructions qui l'expriment (les formes de la CBM), elle occupe une place centrale dans la syntaxe de toutes les langues. On est ainsi conduit à penser qu'elle appartient, d'une certaine manière au noyau central de la représentation du monde dans l'esprit des hommes. Cette considération ouvre une perspective intéressanté sur les processus cognitifs. On saisit ici un exemple des contributions que l'étude comparative des langues, faite avec une méthode suffisamment rigoureuse, peut apporter aux sciences cognitives.
Les considérations qui précèdent permettent de construire une intéressante typologie des langues. Nous avons dit que, dans la plupart des langues, la CBM, que nous pouvons désormais appeler tout simplement la construction transitive, n'est pas limitée à l'expression de l'action prototypique. Mais les langues diffèrent considérablement quant à l'extension qu'elles lui dorment.
En français la construction transitive s'emploie pour exprimer quantité d'actions non prototypiques, comme peuvent l'illustrer les exemples suivants.
(8a) Le jardinier a tué le lapin.
(8b) Le jardinier a tué un/des lapins.
(8c) Le jardinier tuait des lapins.
(9a) La foudre a tué le jardinier.
(9b) L 'émotion a tué ce malheureux.
(10a) Le jardinier a vu le lapin.
(10b) Le jardinier aime ses lapins.
(8a) exprime une action prototypique: le sujet désigne un humain défini, donc bien individué; l'action est réelle, discrète, complète; l'objet désigne un être défini, qui est assurément affecté par l'action. Dans tous les autres exemples, la même construction est employée pour décrire des actions qui, toutes, par un trait ou un autre, s'écartent du prototype. Dans (8b) le patient est moins individué, car indéfini; il l'est encore moins s'il est pluriel. Dans (8c) l'action n'est pas discrète ou n'est pas complète, car l'imparfait dénote un procès habituel ou en cours. Dans (9a) et (9b) le sujet ne désigne pas un humain, mais une force naturelle ou un état psychique. Dans (10a) et (10b), il n'y a pas d'action du tout, mais une perception et un sentiment. Le maximum d'écart par rapport à l'action prototypique se rencontre dans des phrases comme (11), où il n'y a ni action ni agent ni patient: le verbe exprime une localisation, le sujet et l'objet désignent des choses inanimées, dont ni l'une ni l'autre n'est affectée par le procès[38]. Et cependant la construction est toujours la même que dans (8a).
(11) L 'école jouxte la mairie.
Le français est donc une langue où la construction transitive a une très grande extension. 11 en va de même en général dans les langues indo-européennes d'Europe occidentale. Il semble même qu'en anglais la construction s'étende plus loin encore qu'en français. En revanche, en rosse l'emploi de la construction transitive est sensiblement plus limitée. Beaucoup de procès ou de relations qui s'expriment en français et d'autres langues d'Europe occidentale au moyen de la construction transitive sont rendus en russe au moyen d'autres constructions, ex.
(12) et (13).
(12) U menja est ' kniga.
«J'ai un livre».
(13) V komnate paxnet jablokami.
«La chambre sent la pomme».
(12) illustre un type d'expression, où «avoir» s'exprime par le tour inverse, «être à/chez». Ce type est répandu dans de nombreuses langues: ce sont plutôt les langues possédant un verbe «avoir» (transitif), qui paraissent exceptionnelles. Quant à (13), c'est une construction sans sujet au nominatif comme il y en a différentes sortes en russe (v., p. ex., [Guiraud-Weber 1984]). Cette langue fait partie de celles qui limitent ou tendent à limiter la construction transitive à l'expression de procès agentifs.
L'emploi de la CBM peut en principe se trouver, dans certaines langues, strictement borné à l'expression d'actions prototypiques. Les langues caucasiques du nord-est ne sont pas loin de ce cas limite. Le lezghien, par exemple, a de nombreuses constructions biactancielles. La construction transitive est caractérisée par le module actanciel ERGA-TIF — ABSOLUTIF (v. ci-dessus, § 5), augmenté éventuellement d'un troisième cas dans les constructions transitives «élargies»[39]. A côté de cette construction, il en existe une série d'autres, dites intransitives, définies par divers modules actanciels: ABSOLUTIF — DATIF, ABSOLUTIF — ADESSIF, ABSOLUTIF — ADELATIF, ABSOLUTIF — POSTESSIP, DATIF — ABSOLUTIF, ERGATIF — DATIF, etc. [Haspelmath 1993:269,280, 284], utilisées pour l'expression de diverses sortes de procès qui s'écartent peu ou prou de l'action prototypique. La construction transitive est limitée à celles des actions qui sont conformes au prototype ou qui s'en rapprochent.
On peut ainsi dresser une échelle typologique, sur laquelle les langues, selon qu'elles donnent plus ou moins d'extension à la construction transitive, se situent à différents niveaux entre un minimum, dont le lezghien est proche, et un maximum relatif, représenté par les langues d'Europe occidentale (cf. [Lazard 1997: 252–255; réimpr. 2001:282–285]). Il y a là matière à une étude extensive.
La problématique et la méthode exposées ci-dessus ouvrent encore des perspectives sur d'autres points, que je ne peux pas développer ici: je me contenterai d'esquisser très brièvement deux d'entre elles.
7.1. La zone objectale. La conception traditionnelle de la phrase transitive inclut les notions de sujet et d'objet. Ces notions sont aussi confuses que celle de transitivité, mais ne doivent pas plus qu'elle être regardées comme dépourvues de sens. Il y a au contraire lieu de penser qu'elles recouvrent des phénomènes importants, qu'il importe de mettre au clair. Je laisserai ici de côté celle de sujet, qui met en jeu un ensemble complexe de faits dont une partie déborde le cadre de la phrase simple (cf. [Lazard 1994: 100–122; 19986: 97—118]), pour ne considérer que celle d'objet.
A partir des prémisses que nous avons adoptées il est facile de définir l'objet. Quand la CBM (ou construction transitive) exprime une action prototypique, les deux actants désignent l'un un agent, l'autre un patient. Nous appellerons objet celui qui représente le patient, et aussi tout actant traité de même quand cette construction exprime un procès autre qu'une action prototypique.
(14) Définition: L'objet est, parmi les deux actants de la construction biactancieîle majeure (ou construction transitive), celui qui désigne le patient quand cette construction exprime une action prototypique.
L'objet est une entité morphosyntaxique. Il est donc défini en termes morphosyntaxiques (c'est l'un des actants d'une certaine construction), mais à partir d'un ancrage sémantique qui permet de l'identifier en toute langue.
Il y a cependant des cas problématiques. En voici quelques-uns:
a) Marquage différentiel de l'objet, ex. (15) en persane:
(15a) ketâb-râ xând-am
livre-OBJ lire-lSG
«J'ai lu le livre».
(15b) ketâb xând-am
«J'ai lu un/des livres».
Nous avons ici deux formes d'objet, l'une marquée par un morphème spécifique (la postposition râ) dans (15a), l'autre non marquée dans (15b). C'est la première qui répond à la définition, car l'objet y est défini, donc mieux individué que dans la seconde. Dans les phrases exprimant des actions prototypiques, l'objet est marqué par râ. Il y a donc deux types d'objet dans cette langue (et beaucoup d'autres): l'un marqué, qu'on peut appeler «objet prototypique», l'autre non marqué.
b) Deux objets dans la même proposition, ex. (16) en persan aussi:
(16a) ketâb-râ motâlee kard-am étude faire-lSG
«J'ai étudié (litt. fait étude) le livre».
(16b) ketâb motâlee kard-am
«J'ai étudié un/des livre(s)».
(16a) comprend un objet prototypique et un autre, (16b) comprend deux objets non prototypiques.
c) Dans certaines langues on trouve, avec des verbes classés comme intransitifs, un terme nominal sans marque qui ressemble à un objet, ex. (17b) en wargamay, langue ergative:
(17a) rjad'a wagun ganda-Hu
lsg: ERG bois brûler-PERRTRANS
«J'ai brûlé le bois».
(17b) rjayba mala ganda-gi
lsg: NOM main brûler- PERF:1NTR
«Je me suis brûlé la main».
Dans (17a), la construction est la CBM, avec un premier actant à l'ergatif représentant un agent, un objet prototypique à l'absolutif et un verbe morphologiquement marqué comme transitif. Dans (17b), le verbe est morphologiquement intransitif, le premier actant est à l'absolutif, et il y a en outre une sorte de quasi-objet à l'absolutif également.
Ces faits et d'autres conduisent à poser, à côté de l'objet prototypique, des actants qui en sont grammaticalement voisins, quoique distincts, c'est-à-dire à concevoir une «zone objectale», qui comprend l'objet prototypique et aussi, au voisinage de celui-ci, d'autres sortes d'objets ou quasi-objets [Lazard 1994: 84—100; 1998a: 80–96].
7.2. La transitivité généralisée. En considérant l'existence d'objets non-prototypiques, ainsi que d'autres faits qui ne peuvent être examinés ici, on est amené à concevoir la transitivité, non plus comme un propriété qu'un verbe (ou une phrase) possède ou ne possède pas, mais comme une grandeur graduelle. Cette notion a été aperçue et abondamment documentée par Hopper et Thompson [1980], mais par une démarche intuitive, plus suggestive que démonstrative. On peut la fonder en théorie par une recherche menée selon une méthode plus rigoureuse [Lazard 1994: 244–260; 1998a: 232–245; 19986; réimpr. 2001: 299–324].
Cette conception est parfaitement compatible avec celle que nous avons développée ci-dessus[40]: elle n'en est qu'un élargissement. Dans la perspective de la transitivité graduelle, les verbes (ou phrases) que nous avons définis comme transitifs, c'est-à-dire ceux qui admettent la CBM, deviennent les plus transitifs, et, parmi les verbes considérés comme intransitifs, certains, lorsqu'ils sont accompagnés de deux actants, se laissent analyser comme seulement moins transitifs, ils désignent des procès à deux participants qui s'écartent plus ou moins de l'action prototypique.
La transitivité morphosyntaxique varie d'un maximum (la CBM et les verbes qui y entrent) et un minimum (la construction uniactan-cielle). Corrélativement, la transitivité sémantique varie d'un maximum (l'action prototypique) à un minimum (les procès à un seul participant).
Les variations sont elles-mêmes variables selon les langues: au sein du tableau général, dont les grandes lignes sont communes à toutes les langues, chacune a son propre choix de variations morphosyntaxiques et sémantiques, c'est-à-dire sa propre échelle de transitivité.
Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1974.
Dumézil G. Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du nord-ouest. Paris, 1932.
Dumézil G. Le verbe oubykh. Etudes descriptives et comparatives. Paris, 1975.
Gross M. Remarques sur la notion d'objet direct en français II Langue française. 1969. № 1.
Guiraud-Weber M. Les propositions sans nominatif en russe moderne. Paris, 1984.
Haspelmath M. A Grammar of Lezgian. Berlin; N. Y., 1993.
Hopper P. J, & Thompson S. A. Transitivity in grammar and discourse I I Language. 1980. № 56.
Lazard G. L'actance. Paris, 1994.
Lazard G. Ergativity//Linguistic Typology. 1997. № 1.
Lazard G. Actancy. Berlin; N. Y., 1998a (trad, de [Lazard 1994]).
Lazard G. Définition des actants dans les langues européennes // Feuillet J. (éd.). Actance et valence dans les langues de l'Europe. Berlin — New York, 19986.
Lazard G. La linguistique est-elle une science? // Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 94/1.1999.
Lazard G. Etudes de inguistique générale: typologie grammaticale. Leuven; Paris, 2001.
Lazard G. & Peitzer L. Structure de la langue tahitienne. Paris; Louvain, 2000.
Paris C. L'abzakh (dialecte dutcherkesse occidental) // Actances. 1991. № 5.
M. Leinonen
Possessive resultative perfects in Komi-Zyryan
Komi-Zyryan, which belongs to the Uralic languages and to the branch of Permic languages, is an agglutinative language with the predominant order SVO. Except for the order of the main constituents, it is a typical determiner-head language with postpositions, possessive suffixes, 15 cases, no gender, no congruence between adjectival attributes and their heads, and no copula in the present tense.
The temporal categories include the simple tenses (present and past, the future tense is expressed morphologically in the third person only), and the so-callpd analytic or compound tenses. Between these stands the perfect-like construction based on a past participial form without copula, sometimes called the 2nd past, sometimes unwitnessed past, and in the new grammar of Komi unwitnessed perfect. The copula may have the forms of the simple past and the 2nd past with the participial marker — dm(a), which is neutral as to active or passive. This together with the lexical verb forms produces the analytic constructions. The order of the copula and the lexical verb may vary. The term «unwitnessed» equals evidentiality and covers in the language system the same basic variants of «indirectness» as in the Turkic, Georgian, Bulgarian etc. languages where the category is being studied: quotation, hearsay, conjecture and mirativity (see e. g. [Journal of Pragmatics 2001; Johanson & Bo Utas 2000; Guentchdva 1996]).
The paradigm of vetlyny «to go»:
In the above paradigm, the tenses are labeled by terms that give an approximate content to the categories. In the grammar, the author of the section on the verb, E. A. Cypanov, cautiously uses simply numbers for the past tenses: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th past.
In the literary language and the majority of the dialects, for the first person of the perfect/unwitnessed past an impersonal construction is preferred. It consists of the genitive form of the personal pronoun/animate noun and the participle-based form with the 3rd person reflexive suffix — s'öma. The meaning of the construction is always that of an involuntary or non-conscious action:
Menam dyr uz's'öma
I-GEN long sleep-REFL-PERF-3 SG
«I have slept/overslept».
The construction is specialized for the meaning of involuntary action in other tenses as well, and has parallels in other Finno-Ugric languages in that the demotion of the subject (nominative), adding a reflexive suffix (in Finnish, a causative suffix), the directionality, controllability of the action is cancelled. Unplanned actions are often expressed by this construction:
A menam tajö ködzyd lunjasys kežlö bytt'ö tödömön
but I-GEN this cold days-POSSDEF during as.if knowingly
vajs'öma gortys' medrad'ejtana kn'igaös
bring-REFL-PERF-3SG home-ELAT most.favored book-ACC
«But for these cold days I happened to have brought as if knowingly from home my most favourite book» [I. Toropov 1988:157].
There is another usage for the reflexive forms. In grammars, it is presented separately as an Aktionsart which expresses finality, exhaustiveness, apparently in all tenses:
Taltn kežlö udžavs'is
today during work-REFL-PST-3RD
«For today, (we/you/they) have worked enough», «Enough work has been done» [Fedjunjova 1998: 32].
In Komi-Zyryan, a development seems to be taking place which is very natural, and possibly aided by areal influence: the genitive subject appears together with the — oma perfect, which is invariant, that is, impersonal. With transitive verbs, the object is either in the nominative or in the accusative. When nominative, the object can be called a subject, as in other languages which express their perfects with habere verbs:
Menam stavys das'töma
I-GEN all-NOMDEF prepare-PERF-3 SG
«I have everything prepared».
The accusative object also produces a resulting state interpretation:
Menam stavsö das'töma
I-GEN all-ACC prepare-PERF-3SG
«I have everything prepared».
Note that the corresponding grammatical construction is found, though rarely, in the surrounding north Russian dialects, which use a locative possessor with accusative object and a past participle predicative form:
U bat'ki u tvoego saženo berezku
at-father at-your planted-NEUTRE birch-ACC
«Your father has the/a birch planted, has planted the/a birch».
[Kuz'mina & Nemčenko 1971:93]; «possessive perfect» in [Fici Giusti
1995: 222–231].
While it is difficult, if not impossible, to decide whether any areal influence is at work here, we may note that in Komi, there is a construction with the genitive as an agent of participial attributive forms:
Starukalön s'etöm sumkays
old.woman-GEN give-PRTC bag-NOMDEF
«the bag given by the old woman» [Bubrih 1949:128].
In present-day Komi, the genitive seems to have been replaced by the instrumental everywhere, but the former usage can be found in the texts of certain writers; it appeared in the spontaneous dialectal speech in the 1940s as well:
No menym okotamunny vorsny, köt'i mamölön s'etöm
but I-DAT desire go-lNF play-iNF although mother-GEN give-PRTC
urkövöjys ez ešty
task-NOMDEF NEG-PST-3SG end
«But I want to go and play, although the task given by my mother was not finished» [Syijänische Texte 1995:192].
In other non-finite verbal constructions as well, as in gerundials, the genitive may express the agent of the action [Fedjunjova 1998].
With certain verbs, the genitive expresses the non-active subject, as with the verbs byrny «to be finished», vunny «to be forgotten»: menam vunöma I-GEN forget-PERF-3SG «I have forgotten» [Fedina 1997:10]. All these usages may have served as analogical basis for the possessive impersonal with — öma. |
The bare impersonal form without any expression of the agent is nowadays very common, possibly influenced by the literary Russian past passive predicates with — no/-to [M. S. Fedina, paper presented at the International Congress of MAPRIJAL, June 1998, Syktyvkar].
The newness of the Komi possessive impersonal construction can only be presumed, since there is no mention of them in old grammars and descriptions. Perhaps accidentally, there seem to be no examples in the folkloric texts available, which represent the state of the language at the beginning of the XXth century. In the Komi prose of the 1930s, the construction becomes more common in the texts of individual writers. Earlier grammars written by native linguists do not mention it, except the grammar of 1949 by D. V. Bubrih. He gives examples of the 2nd past (=perfect) transitive and reflexive verbs and translates them by using the north Russian impersonal constructions with passive participial predicates:
Murtsa abu kuvs'öma
almost not die-REFL-PERF-3 SG
«(I) almost died».
«Edva ne bylo umerto».
Menam omöl'ys' abu polöma
I-GEN evil-ELAT not fear-PERF-3SG
«I was not afraid of evil».
«U menja dumogo ne boeno».
Mens'ym vokös viöma
I-ELAT brother-ACCPOSS 1 SG kill-PERF-3SG
«My brother was killed».
«Moego brata ubito».
Jegorlön abun'in etša c'ukörtöma embursö
Iegor-GEN not already little gather-PERF-3SG riches-ACC
«U Egora uže ne malo sobrano dobra».
«Yegor has already gathered not a little riches» [Bubrih 1949:124–125].
The new Komi grammar lists the uses of the genitive agent as follows:
1) a real active subject:
a) in an attributive construction with the participial form:
<…> jenmyslön s'etöm mic'a da söstöm vör-va
God-NOMDEF-GEN give-PRTC beautiful and clean nature
«the beautiful and clean nature given by God».
b) with the perfect:
Ö'itortö kykys' šuny Jakovlön abu
one-ACCDEF twice say-lNF Jakov-GEN not
velalöma…
get-accustomed-PERF-3SG
«Yakov was not used to saying one thing twice».
2) a passive subject: someone does something because of being told to do so, or someone is in a state:
a) with verbs of passive meaning (vunny «be-forgotten», byrny «be finished», mynny «pass (about time)», artmyny «come out (of state)», vošny «vanish, be lost» etc.
No tajo istog vylo On'dlon vosi stav nad'ejays
but this match upon Andrej-GEN be-lost-PST-3SG all hope-NOMDEF «But Andrei lost all hope for this match»;
b) with the reflexive suffix — s':
Stariklön s'ojs's žö n'in
old.man-GEN eat-REFL-PST-3 SG PTL already
«The old man has finished eating already»;
Virin'ejalön ez na c'ec'c'yss'y
Virineja-GEN NEG-PST-3SG yet get.up-REFL-PST-3SG
«Virineja did not feel like getting up / could not get up»;
c) with modal predicates:
Povodd'ayslön kolö n'in vežs'yny
weather-DEF-GEN must already change-INF
«The weather must change»;
d) the subject of certain phraseological predicates indicating non-voluntary state (vež petö «to want something», lit. «desire comes out») [Fedjunjova 2000: 66].
To illustrate the difference between the possessive impersonal construction and the impersonal construction expressing involuntary action with the reflexive suffix, some citations and an excerpt from the history is in order. The eminent Komi linguist, V. I. Lytkin (Illa Vas'), was arrested in 1930 and accused of national bourgeois tendencies and espionage. He had just returned from Hungary, and, occupied as he was with studying, writing poems and publishing them he had no idea about what was going on at home. On returning to the USSR, he was publicly criticized, and he made a full «confession», explaining his motives with all the possibilities of subject demotion available in the language.
First, he wrote that he had answered the critics, but the text had not been published:
Menam kuz'a gižs'öma da «Ordym» žurnalyn
I-GEN long write-REFL-PERF-3SG and Ordym joumal-lNESS
ez pet
NEG-PST-3SG appear
«I had written (unintentionally, apparently) extensively, and (it) did not appear in the magazine Ordym» [IllaVas' 1994(1931): 91].
Lytkin continues to excuse himself by thanking the critics who had opened his eyes to many blemishes in his text Munflny: it was neither a poem or a poema, but something in between, and it would not produce any great ideas.
Sess'a bara žö gižöma völi zev termas'ömön
then again PTL write-PERF-3SG COP-PST very hurriedly
«Then again, it was written in a great hurry»,
Me völi seki (1927 voyn) Budapeštyn
I was then (1927 year-INESS) Budapest-iness
zil'a-eštöda dissertacijaös
exert-finish-PRES-1SG thesis-ACC
«I was then (in 1927) in Budapest trying hard to finish my thesis».
<…>Ses'an' menam möd n'el'uc'ki:
from.that I-GEN other blemish
«Because of that I made another error:»
menam komi jöztö, Komi mutö vyvti jona
I-GEN Komi people-ACC Komi land-ACC too strongly
idealizirujts'öma i
dealize-REFL-PERF-3SG
«It came out that I (had) idealized the Komi people and land too much».
Kritilgas gögörvoömaös': me pö c'olöm bytt'ö
critics understand-PERF-3PL I Quot greeting as.if
vis'tala komi kulakly, komi bedn'akly i
say-PRES-lSG Komi kulak-DAT Komi poor.people-DAT and
bydönly
everyone-DAT
«The critics seem to have thought that Iwas greeting the Komi kulaks, the Komi poor people and everyone».
Mees'kö ac'ym kösji žuny: stavudžalys' Komi jöz…
I maybe myself want-PST-lSG say-INF all working Komi people… «I myself would have wanted to say: to the entire working Komi people».
In the first case, the agent is not expressed, but the construction is impersonalł, thus the responsibility is to some extent hidden and avoided. The pluperfect with the copula völi has here apparently the same function as the past-in-past of the Western European («Standard Average European») pluperfect. In the second example, the reflexive suffix expressly removes the responsibility of the author, the event just happened without his volition. The objects are retained, as is shown by the morphological markers. In the third example, the authorship is shown, but again demoted by the genitive form, although the verb form is the perfect without the reflexive suffix. Thus it only shows the resulting state. The critics' part in this is based on the result, and the perfect of the verb «understand» has a clear evidential meaning: the critics must have understood the author's words in a certain way. The author tries to avoid their interpretation by using the quotative particle pö. The last predicate in the simple past kösji «I wanted», shows what the author did intentionally and in full consciousness.
The impersonal constructions based on the participle — öm(a) are, as was noted in the beginning, neutral. One of the fullest descriptions of Komi from the XDCth century states:
Das Passiv kann zwar durch eine besondere Classe der abgeleiteten Zeit-wörter ausgedruckt werden, die Verba Media, aber diese können auch reflexive, sogar active Bedeutung haben. Deutlicher und zugleich fehlende Zeitformen ersetzend ist die Umschreibung mit dem ersten und zweiten Tempus des Zeitworts «sein» und dem aus lony (werden) für dasselbe ge-wonnenen Future, verbunden mit dem siebenten Verbalnomen auf — ma <…> Das erste Tempus des Zeitworts «sein» kann als Copula in affirmative Sätzen natiirlich auch fehlen <…> gižöma (es ist geschrieben), <…> em-bur kod' hod yb vylyn dz'eböma völy «Wie ein Schatz, welcher auf dem Felde vergraben war» [Wiedemann 1884:201].
That is, there is no formally marked passive in Komi, and the analytic constructions with instrumental agents that appear in grammars are obvious loan translations from Russian (E. A. Cypanov in [Fedjunjova 2000: 282]). In earlier grammatical descriptions, e. g. [Lytkin 1955], such constructions are claimed to represent genuine Komi passive forms. The tradition has been faithfully continued until today, and has taken root in modem written Komi (see e. g. [Ludykova 1993]).
As in the historical development of languages with habere perfects, a predilection of the possessive impersonal construction to be used with transitive verbs is apparent in Komi, at least with respect to the frequencies of transitive and intransitive verbs. With transitives, it is often difficult to decide whether the genitive should be interpreted purely as the possessor of an item, or as the agent responsible for the action; it can be both. P. Doronin, a prolific writer who began publishing in the 1930s used the construction with transitives, verbs both with and without an object. In all cases, the interpretation as an evidential is possible, since it often coincides with the basic meaning of the forms with — oma, that of a state resulting from an event/action in the past:
Jenlön es'kö koz'nalöma taj menö ydžyd
God-GEN maybe present-PERF3SG PRTCI-ACC great
vyn-ebösön, <…> strength.strength-INSTR
«God must have given me a lot of strength <…>» [Doronin 1995: 68]; texts from the 1930s reprinted.
Another example shows the verb «work», which is certainly active, but hardly transitive:
Tydalö, Mikollön tadzsö udžalöma
appear-PRES3SG Mikol-GEN thus-ACC work-PERF3SG
«It seems that Mikol has worked in this way» [Doronin 1995: 87].
In the context, the father is inspecting the ploughing done on his field. Dissatisfied, he draws the conclusion that his son must have been at work. The adverb tadz «thus» is suffixed with — sö, marker of 3rd person singular definiteness and accusative, is also used in Komi as an emphatic particle, comparable to the Russian — to. The suffix — sö marks definite objects, while indefinite ones remain unmarked:
To, pac'yn mon'ydlön rys' kašn'ikjas
there oven-iNESS daughter.in.law-POSS2SG-GEN curd cheese.pots
s'ujalöma
put-PERF-3SG
«There, your daughter-in-law has put curd cheese pots in the oven» [Doronin 1995:17].
In the following example, the construction can hardly be interpreted as evidential, conjecture or hearsay; it simply reports on the appearance of a person. The meaning of state becomes very clear due to völi:
Sylön völi jurs'isö šyröma<…>
s/he-GEN was hair-ACCDEF shear-PERF-3SG
«He had had his hair cut <…>» [Doronin 1995:131].
In early fiction, there are some cases of the construction with intransitives:
Mel'nic'ayn udžaligön kymynys' sylön tatc'ö
mill-lNESS work-GERUND how.many.times he-GEN here
volyvlöma völi, kymynys' pukavlöma so
come-FREQ-PERF-3 SG was how.many.times sit-FREQ-PERF-3 SG this
esijö beregdorsa kydz' ulyn!
very river.bank birch under
«When working in the mill, how many times he had come here, how many times sat under this very same birch on the river bank!» [Fedorov 1955:128].
The writer in question shows in his production a fairly strong influence of Russian, which is noticeable to Komi language specialists. Whether or not this possessive construction is connected with Russian dialects or not, Fedorov shows during his long career (from the 1930s to the 1990s) a growing predilection for its usage. In the early stories (1930—1950s, [Fedorov 1955], 282 pages) there are only four cases of the possessive impersonal, the one above included, whereas in the prose of the 1990s ([Fedorov 1989], 165 pages), there are 16 cases.
To native speakers, specialists in the Komi language, intransitive frequentative verbs with the suffix — vl are quite acceptable when the situation refers to a repeated action in the remote past. One informant states that the essence of the usage with the genitive is to stress that the time is over, the action cannot continue in the present situation. Another example from modem prose shows that this idea is preferably supported by the adverb n'in «already».
Menam volyvlöma n'in te ordö!
I-GEN come-FREQ-PERF-3 SG already you to
«I have already been to your place!» [Juškov 1988: 75].
The context concerns the time after the revolution: a kulak asks a neighbour to come and see whether he really is a rich kulak, deserving punishment. The neighbour, who thinks that the speaker is an exploiter, gives the above answer. According to informants, he expresses his opinion that he had already visited the formerly wealthy man quite often enough. The common factor with the previous example is the finality of the situation: there will be no continuation. In this sense, the logically clearer resultativity inherent in the transitive constructions can be extended to intransitives. Figuratively speaking, the extent of the events is completed, the subject is not involved any more, and his past is an unchanging state now left behind.
Another case from modern prose shows an intransitive verb without the frequentative suffix. So far, only two cases of such constructions have been found, and one of them is rather doubtful. The first comes from the prose of G. Juškov, the most eminent living writer in Komi:
Mijan ta vylö i petöma! — virdyštlis s'injasnas
we-GEN this upon PTL come.out-PERF-3SG flash-PST-3SG eyes-INSTR
Bašlykov. — Byrödny okkupantjassö!
Bashlykov destroy-INF occupiers-ACCDEF
«This is why we are here! — Bašlykov's eyes flashed. — In order to destroy the occupiers!» [Juškov 1988:220].
The second example comes from the 1990s and actually represents a translation of a Russian text of a local Komi writer:
Bat'lön kytc'ökö munöma
father-GEN somewhere-to go-PERF-3SG
«The father had gone somewhere» [Gabova 1997:40].
In the context, the relevant passage is concerned with the absence of the parents who had left a child alone at home. Out of seven informants, four have so far rejected this construction as a mistake, saying that the nominative form should be used instead:
Bat' kytc'ökö munöma.
father-NOM somewhere-to go-PERF-3SG
Further two informants state that the verb form should be reflexive:
Bat'lön kytc'ökö munsöoma
father-GEN somewhere-to go-REFL-PERF-3 SG
«The father (it appears) had gone somewhere».
The seventh, a speaker of the Lower Vychegda dialect, feels that the genitive somehow creates a state and a distance better than the nominative. For instance, it would not be appropriate to continue talking about the father in the next sentence. For this speaker and the writer, the choice of the nominative probably signifies cancelling the prototypical feature of the nominative subject as a topic, shifting the agent into the background description. As the dialect of Lower Vychegda has for centuries been in contact with Russian settlers who spoke north Russian dialects, the genitive can be seen as a contact phenomenon.
On the other hand, similar phenomena (i. e. use of nonnominative primary NPs with participial passive predicates) is found in large parts of Eurasia. M. M. Sahokija, the focus of whose research lies in the Kartvelian languages and Iranian, even suggests a universal model, an «archi-system» and «archi-models», which point towards the idea of the monogenesis of human language [Sahokija 1998: 52]. Perhaps the term «prototypical» as applied to the functions of morphological forms marks a cautious midway between facts and theories.
Since there exists no research on the functions of the subject in Komi, final conclusions in this matter are inappropriate. The backgrounding function of the non-nominative can only be suggested as a hypothesis which needs to be confirmed by further research.
Doronin P. Parma s'ölömyn. Syktyvkar, 1995.
Fedorov G. Povestjas i rasskazjas. Syktyvkar, 1955.
Fedorov G. C'užan mus'an' ylyn. Syktyvkar, 1989.
Fedorov G. Börjöm gižödjas. Möd kn'iga. Vostym. Syktyvkar, 1994.
Gabova E. Vospitatel'nicalön kaz'tylömjas. Vojvyv kodzuv Nr. 1,1997.
Ill'a Vas' (V. I. Lytkin) Myj meds'a dona da musa. Syktyvkar, 1994.
Juškov G. Rödvuž pas. Syktyvkar, 1988.
Syrjänische Texte. Bd IV. Komi Syrjänisch: Ober-Vyčegda-Dialekt. Gesammelt von T. E. Uotila, übersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen. Mémoires de la Société Finno-ougrienne 221. Helsinki, 1995.
ToropovI. Me verma, bat'ö. Syktyvkar, 1988.
Bubrih D. V. Grammatika sovremennogo komi jazyka. Leningrad, 1949.
Fedina M. S. = Федина М. С. Имперсональность в коми языке: Автореф. дис…. канд филол. наук. Йошкар-Ола, 1997.
Fedjunjova G. V. (éd.). = Федюнева Г. В. (ред.). Комия язык: Энциклопедия. М., 1998.
Fedjunjova G. V (éd.). Önija komi kyv. Morfologija. Syktyvkar, 2000.
Fici Giustî, F. The perfect in Slavic // Bertinetto P. М., Bianchi V., Dahl Ö., Squartini M. (eds). Temporal Reference, Aspect and Actionality. Vol. 2: Typological Perspectives.T orino, 1995.
Guentchéva Z. (éd.). L'énonciation médiatisée. Louvain; Paris, 1996.
Johanson L., Bo Utas (eds). Evidential. Turkic, Iranian and Neighbouring Languages. Empirical Approaches to Language Typology 24. Berlin; N. Y., 2000.
Journal of Pragmatics. 2001. Vol. 33.3.
Kuz'mina I. B., Nemčenko E. V. = Кузьмина И. Б., Немченко Е. В. Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.
Ludykova V. М. Önija komi kyvlön sintaksis. I jukön. Syktyvkar, 1993.
Lytkin V /. (ed.). = Лыткин В. И. (ред.). Современный коми язык. I. Сыктывкар, 1955.
Sahokija М. М. = Сахокия М. М. Диахроническая типология в морфосинтаксисе индоевропейских и картвельских языков (персидский, армянский, санскрит, русский, литовский, грузинский): Автореф. дис…. докт. филол. наук. Тбилиси, 1998.
Wiedemann F. J. Grammatik der syrjanischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. St. Petersburg, 1884.
И. А. Мельчук
Определение категории залога и исчисление возможных залогов: 30 лет спустя[41]
1. Немного истории
Однажды вечером, более 30-ти лет тому назад (где-то в 1969 году, точнее уже не помню), Александр Алексеевич Холодович заговорил со мной о грамматическом залоге — у него в голове вызревал ряд интересных идей. Я стал отвечать, возражать, поддерживать; дискуссия продолжилась в обильной переписке. Через несколько месяцев Холодович предложил мне написать вместе с ним статью на эту тему. При первой же возможности я примчался в Ленинград, мы сели за стол и приступили. Затем в течение месяцев из Ленинграда в Москву летели напечатанные на машинке варианты Холодовича и возвращались, покрытые моими чернильными поправками, дополнениями и возражениями, ибо е-mail'а тогда еще не было. (Хотел бы я вспомнить точнее, что, как именно, в каких терминах обсуждалось, — да нет, все забыл…) В результате появилась наша совместная статья [Мельчук, Холодович 1970] (предварительное изложение ее было опубликовано как краткие тезисы [Холодович 1970]).
Главная идея этой статьи состоит в том, что грамматический залог как категорию глагольного словоизменения надо определять через соответствие между семантическими и синтаксическими актантами глагола: идея не такая уж новая, но до тех пор не проводившаяся с достаточной последовательностью, да и разделявшаяся далеко не всеми [Мельчук, Холодович 1970: 122–123]. Кроме того, новинкой был и сам подход, основанный на переборе логических возможностей. Предложенная нами техника позволяла построить логически полное исчисление конкретных залогов (= граммем категории залога). Что мы и сделали — не без неточностей, но довольно успешно для первого раза. Начало изучению залога как схемы межуровневых соответствий, а именно, соответствий между семантическими и синтаксическими актантами (глагольной) словоформы было положено. Следствием этого явилась целая серия публикаций — [Холодович 1974; Храковский 1978, 1981 и т. д.], перечисленных в [Храковский 2000].
С тех пор я не переставал работать над уточнением логической системы залоговых граммем, по-прежнему в рамках того же подхода. Следующий шаг вперед, который представляется мне весьма существенным, это перенос рассмотрения залоговых семантико-синтаксических соответствий на глубинно-синтаксический уровень: вместо подлежащего, прямого дополнения и т. д., в дело были пущены глубинно-синтаксические актанты, над внедрением каковых в синтаксис я как раз работал в то время [Мельчук 1974: 138–139]. Осознание того факта, что залог — это явление глубинно-синтаксического уровня, открыло новые возможности описания [Melčuk 1988: 184 и сл.; 1993; 1997; Мельчук 1998: 162 и сл.]. С тех пор многое было переформулировано, ряд понятий уточнен, какие-то темные места прояснены, добавлены новые параллели, и т. д. Однако суть исходного пункта осталась неизменной:
В основе понятия залога лежит соответствие между семантическими [=Сем-] и глубинно-синтаксическими [=ГСинт-] актантами глагольной словоформы, т. е. то, что мы назвали диатезой.
В настоящей статье, посвященной светлой памяти моего учителя и старшего друга, я хотел бы подвести краткий итог моим тридцатилетним поискам и поделиться с читателями тем, что я знаю о залоге сегодня. Учитывая недостаток места, я ограничусь почти что «майскими тезисами», далее если я и не могу надеяться на успех, соизмеримый с успехом «Апрельских тезисов»! По понятной причине я полностью отказываюсь от обзора соответствующих работ и от серьезных ссылок: литература залога огромна.
2. Центральное понятие: диатеза
Центральное понятие, на котором основано определение залога, — это диатеза (термин, насколько я помню, был предложен А. А. Холодовичем; он используется мной в несколько ином смысле).
Диатезой словоформы W называется соответствие между ее семантическими и глубинно-синтаксическими актантами [= — А]: СемАi <=> ГСинтAj.
Я имею в виду, разумеется, соответствие между актантными «местами», или «позициями» в лексикографическом описании данной словоформы (актантные «места» — это то, что по-английски называют actant slots), а не между реальными актантами — языковыми выражениями, заполняющими эти «места» в реальной фразе.
К сожалению, здесь невозможно предложить определения понятий СемА и ГСинтА, и мне придется удовольствоваться очень приблизительными характеристиками.
• СемА лексемы L — это «место» в толковании и в модели управления лексемы L, которое предусматривает класс смыслов, необходимый в полном описании L. Такие «места» изображаются переменными X, Y, Z…. (так, лексему КУРИТЬ невозможно хорошо описать, если не иметь в ее толковании по крайней мере две переменные: X для класса смыслов «человек» и Y — для класса смыслов «вещество, которое горит»).
• ГСинтА лексемы L — это «место» в модели управления L, которое предусматривает класс выражений, манифестирующих либо какой-то СемА лексемы L, либо какой-то ее П(оверхностно-) СинтА, не соответствующий никакому ее собственному СемА (но не являющийся при этом семантически пустым: пустой, т. е. фиктивный, ПСинтА на ГСинт-уровне не учитывается: например, английское безличное ГГ). Эти «места» изображаются римскими цифрами: I, II, III…. (Так, лексема КУРИТЬ имеет ГСинтА I и II, которые соответствуют переменным X и Y.)
ГСинт-актанты образуют интерфейс между Сем-актантами и ПСинт-актантами (подлежащим, прямым/косвенным дополнением и т. п.); это своего рода обобщение последних, придание им универсально-языкового статуса.
Следующее важное понятие — это базовая диатеза:
Базовой диатезой лексемы L называется ее лексикографическая диатеза, т. е. диатеза, которая соответствует словарной форме лексемы L.
Базовая диатеза лексемы должна записываться в ее словарной статье — в ее синтактике, а более точно — в ее модели управления. Так, для КУРИТЬ мы имеем базовую диатезу X = I, V = II. В дальнейшем я буду рассматривать только глаголы, хотя наличие залогов не исключается и у других частей речи.
Существенно, что при спряжении глагола его базовая диатеза может изменяться — в следующем точном смысле: у некоторых словоформ глагола может быть диатеза, отличная от базовой. Эти изменения и будут интересовать нас здесь: в них — вся суть залога, при условии, разумеется, что они морфологически выражены в глагольной словоформе.
3. Определение категории залога
Залог — это словоизменительная категория, граммемы которой маркируют такие изменения базовой диатезы глагола, которые не затрагивают пропозициональное значение этого глагола, т. е. не меняют его смысл.
Все логически возможные изменения базовой диатезы глагола получаются тремя следующими операциями:
• Перестановка (=пермутация) глубинно-синтаксических актантов ГСинтА глагола.
• Подавление (= суппрессия) ГСинтА глагола.
• Референциальная идентификация двух СемА глагола.
1. Эти три операции не однородны ни логически, ни содержательно. Более того, они могут комбинироваться друг с другом в пределах одной словоформы, так что не исключено, что их следует рассматривать по отдельности. Позже (раздел 6) я еще вернусь к этому факту.
2. «Перестановка ГСинтА i» — это не более чем метафора: в действительности, имеется в виду просто мена номера i данного ГСинтА; никакого физического перемещения не происходит. Поэтому нет противоречия, если при изменении семантически двух-актантной диатезы ГСинтА I получает номер III и это называется перестановкой.
3. «Подавление ГСинтА i» означает, что ГСинтА i не может быть выражен во фразе (как актант рассматриваемого глагола) ни при каких условиях. (Соответствующий СемА при этом не теряется.) Факультативная невыраженность ГСинтА i подавлением не является.
4. «Референциальная идентификация двух СемА» означает, что между соответствующими переменными ставится знак равенства: X = Y, и этот единый СемА выражается одним ГСинтА. Иначе говоря, референциальная идентификация в этом смысле обязательно сопряжена с подавлением ГСинтА. Подчеркнем, что речь идет вовсе не о выражении смысла «(сам) себя» — такого смысла не существует. Сем-структура фразы Маша одевается не содержит компонента «(сама) себя»: просто обе стрелки Сем-зависимостей из предиката «одеваться» идут в «Маша»:
Соответствующая диатеза имеет вид X +Y = 1.
Рассмотрим теперь применение трех указанных операций к некоторой диатезе. Возьмем прототипический случай: базовую диатезу двухактантного переходного глагола, например, ПРИЧЕСЫВАТЬ. Этот глагол имеет два СемА: X — тот, кто причесывает, и Y — тот, чьи волосы приводятся в порядок (для простоты я отвлекаюсь от третьего СемА: Z — инструмент, т. е. расческа; его опущение никак не сказывается на моих рассуждениях). Несущественен также тот факт, что можно причесывать Машу или Машины волосы и т. д.). Диатеза представляется таблицей из двух строк, где каждый столбец отведен для одного СемА; в верхней строке записываются СемА, а в нижней — соответствующие им ГСинтА. Таким образом, базовая диатеза глагола ПРИЧЕСЫВАТЬ в Витя [= ГСинтА I] причесывает Машу [= ГСинтА II] выглядит так:
Прежде чем двинуться дальше, поясним принцип нумерации ГСинт-актантов в каждой данной диатезе. Они нумеруются в зависимости одновременно от соответствующего СемА и от косвенности соответствующего ПСинтА. Так, ГСинтА, соответствующий СемА 1 и (ПСинт-)подлежащему, получает номер I; ГСинтА, соответствующий СемА 2 и прямому дополнению (а при отсутствии такового — главному дополнению), получает номер II; и т. п. Подчеркнем, в частности, что в силу семантических равенств типа (1) агентивное дополнение при пассиве тоже описывается как ГСинтА II:
Даже если считать, что с ПСинт-точки зрения агентивное дополнение Машей в (1в) является более косвенным элементом, чем группа от Вити, его семантическая роль, идентичная роли дополнения Маше в (1б), гарантирует ему ГСинт-номер II (и тем самым конверсивность с ГСинтА I).
Сформулируем теперь три формальных требования к нумерации ГСинтА внутри конкретной диатезы. ГСинтА должны нумероваться
1. последовательно (= без пропусков): I+II+III+…, так что диатеза с нумерацией ГСинт-актантов типа *I+III или *I+II+IV не допускается[42];
2. начиная с I или II, так что диатеза с нумерацией типа *III+IV не допускается[43];
3. без повторений, так что диатеза с нумерацией типа *I+I или *I+II+II не допускается.
Эти требования понадобятся нам при отборе «законных» модификаций диатезы.
Применение к стандартной двухактантной диатезе трех вышеуказанных операций дает 20 следующих вариантов диатезы (строка 1 представляет все мыслимые перестановки ГСинт-актантов; строки 2–4 получаются из строки 1 путем суппрессии сначала левого, потом правого, а потом обоих ГСинт-актантов; строка 5 соответствует идентификации обоих СемА; никакая операция не применяется повторно):
Затененные варианты должны быть отвергнуты: они либо нарушают соглашения о нумерации ГСинт-актантов (помечены звездочкой), либо совпадают с каким-либо другим вариантом, уже имеющимся в списке. В итоге получаются 12 логически возможных залоговых граммем; они будут перечислены в следующем разделе.
4. Исчисление залоговых граммем у двухактантных переходных глаголов
Ниже указываются все залоговые граммемы, логически возможные для двухактантного переходного глагола — при условии учета трех операций изменения диатез. Каждая граммема сопровождается примером; там, где реального примера не нашлось, приводится условный. Термины в названиях граммем употребляются следующим образом:
Переходим к перечислению залоговых граммем.
1. «АКТИВ»:
нулевое изменение базовой диатезы («Витя причесывает Машу»).
2. «ПОЛНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ ПАССИВ»:
взаимная перестановка двух ГСинтА; в результате получается диатеза, конверсная по отношению к базовой («Маша причесывается Витей»).
3. «ЧАСТИЧНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПАССИВ»:
понижение в ранге только одного ГСинтА I (=> III), так что ГСинтА II остается на месте («Причесывается Машу Витей»).
4. «ПОЛНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПАССИВ»:
понижение в ранге обоих ГСинтА I и II («Причесывается у Маши Витей»).
Глагол в полном понижающем пассиве не имеет ГСинтА I; как глаголы в частичном понижающем пассиве, он также автоматически получает фиктивное подлежащее на ПСинт-уровне (в тех языках, где такое подлежащее необходимо).
Реальный пример этого залога у переходных глаголов мне неизвестен (ср., однако, полный понижающий пассив у непереходных глаголов, 5.1, с. 299).
5. «БЕССУБЪЕКТНЫЙ СУППРЕССИВ»:
подавление ГСинтА I, который на ПСинт-уровне должен был бы быть подлежащим[44] («Причесывают Машу»).
6. «БЕЗОБЪЕКТНЫЙ СУППРЕССИВ»:
подавление ГСинтА II, который на ПСинт-уровне должен был бы быть прямым дополнением («Витя причесывает»).
7. «АБСОЛЮТНЫЙ СУППРЕССИВ»: подавление обоих ГСинтА I и II («Причесывается» = «Происходит причесывание»).
Этот пример не вполне корректен, ибо выражение агенса остается возможным: Von Jungen hier wird viel gelesen, букв. «Молодыми людьми здесь становится много читаемо»; в этом случае мы имеем дело с полным понижающим пассивом непереходного глагола, см. ниже, с. 299.
8. «БЕЗАГЕНСНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ ПАССИВ»:
перестановка обоих ГСинтА, с обязательным подавлением ГСинтА II, т. е. того ГСинтА, который соответствует Х-у («Маша причесываема»).
9. «БЕСПАЦИЕНСНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ ПАССИВ»:
перестановка обоих ГСинтА, с обязательным подавлением ГСинтА I, т. е. того ГСинтА, который соответствует Y-y («Причесываемо Витей»).
Пример (9) также некорректен, так как образования типа мечтается не вполне регулярны и не принадлежат к словоизменению; к тому же исходный глагол — непереходный.
10. «БЕЗОБЪЕКТНЫЙ РЕФЛЕКСИВ»:
референциальная идентификация обоих СемА, с обязательным подавлением ГСинтА II («Витя причесывается»).
(10) Витя [I, Подл] причесывается.
11. «БЕССУБЪЕКТНЫЙ РЕФЛЕКСИВ»:
референциальная идентификация обоих СемА, с обязательным подавлением ГСинтА I («Машу причесывается»)
Форма susičukuota неизменяема; она ни с чем не согласуется, так что говорить здесь о подлежащем, хотя бы и фиктивном, не приходится. Маркером объектного рефлексива в литовском является комбинация суффикса пассивного причастия прошедшего времени — t и адъективного суффикса номинатива женского рода единственного числа — а.
12. «АБСОЛЮТНЫЙ РЕФЛЕКСИВ»:
референциальная идентификация обоих СемА, с обязательным подавлением обоих ГСинтА («Причесывается» = «Происходит причесывание себя»).
На этом мы заканчиваем обзор логически мыслимых залоговых граммем для бинарной переходной диатезы: никакие другие залоги здесь невозможны. Однако для одноактантных, многоактантных переходных и двухактантных/многоактантных непереходных глаголов дело обстоит сложнее.
5. Граммемы залога у прочих глаголов
5.1. Залоги у одноактантных глаголов. У одноактантного глагола теоретически возможны только две мены диатезы (каковые мы уже видели):
• ГСинтА I может быть понижен (I => II) — разумеется, безо всякого повышения (ибо повышать нечего); это полный понижающий пассив (ср. пункт 4 раздела 4, с. 295):
латинский:
(13а) Adcurrit+ur ab universis
букв. «Прибегается всеми» = «Все сбегаются»,
русский:
(13б) Сколько мной тут было хожено!
• ГСинтА I может быть подавлен (I => —); это бессубъектный суппрессив (пункт 5 раздела 4, с. 295–296):
испанский:
(14) Aquí se vive bien y se muere viejo
букв. «Здесь живется хорошо и умирается старым».
Как мы видим, одноактантные глаголы новых залогов не дают.
5.2. Залоги у многоактантных переходных глаголов. Трехактантные переходные глаголы, однако, добавляют к нашему исчислению новые элементы: различные полные повышающие пассивы, пермутатив 2/3 и косвенный рефлексив.
• Семантически трехактантный переходный глагол может иметь два полных повышающих пассива: прямой, соответствующий формуле
и косвенный — с формулой
английский:
(15) Adam gave the apple to Eve =>
«Адам дал яблоко Еве».
The apple was given to Eve by Adam
«Яблоко было дано Еве Адамом».
Adam gave the apple to Eve =>
«Адам дал яблоко Еве».
Eve was given the apple by Adam
букв. «Ева была дана яблоко Адамом».
Ряд филиппинских языков (тагальский, себуано, илокано, биколь) имеют — у четырехактантных глаголов — три полных повышающих пассива.
• Семантически трехактантный переходный глагол может иметь залог, который не затрагивает ГСинтА I, а манипулирует только с ГСинтА II и III:
Этот залог, соответствующий перестановке ГСинтА II и III, естественно назвать пермутативом 2/3:
Пермутатив 2/3 известен также в индонезийском.
• Семантически трехактантный переходный глагол может допускать идентификацию СемА X и Z (а не X и Y, как в обычном рефлексиве):
Это косвенный рефлексив:
французский:
(17а) Alaini a acheté une maison à Alaini =>
«Аленi купил дом Аленуi»
Alain s'est acheté une maison
«Ален купил себе дом»,
литовский:
(17б) Vaik +as ар +kabino motin+ą =>
ребенок ЕД.НОМ сов обнял мать ЕД.АКК
«Ребенок обнял мать».
Vaik +as ар +si +kabino motin+ą
ребенок ЕД.НОМ СОВ КОСВ-РЕФЛ обнял мать ЕД.АКК
«Ребенок обнял свою [букв, себе] мать».
5.3. Залоги у многоактантных непереходных глаголов. Многоактантные непереходные глаголы могут иметь частичные понижающие пассивы следующих типов:
(18) Дирекция [=I] нам [=III] указала на недостатки [= П] =>
Дирекцией [= IV] нам [= III] было указано на недостатки[= II].
Эти пассивы нередко называют безличными, что мне кажется терминологически неудачным: как правило, такие пассивы возможны, только если их реальный агенс — лицо.
6. Четыре залоговых категории?
Теперь я должен вернуться к вопросу об операциях изменения диатез. Примеры в пунктах 11 и 12 раздела 4 ясно показывают, что данные граммемы могут сочетаться внутри одной словоформы, а это, в свою очередь, верный признак того, что мы имеем дело с разными словоизменительными категориями.
К этим случаям я могу добавить еще и возможную комбинацию повышающего пассива с бессубъектным суппрессивом:
португальский:
(19) актив
О diabo tenta о homem
«Дьявол искушает человека».
полный повышающий пассив
О homem é tentado pelo diabo букв.
«Человек есть искушаем дьяволом».
бессубъектный суппрессив от актива
Tenta-se о homem
букв. «Искушается человека»
[Допагент невозможно; о homem =
ГСинтА II, ср. Tenta-se os homens,
букв. «Искушается людей»][45].
бессубъектный суппрессив от пассива
É-se tentado pelo diabo
«Искушается дьяволом»
[нефиктивное Подл невозможно].
Если принять во внимание все такие факты, то мы должны заключить, что существует не одна категория залога, а по крайней мере четыре:
Залог1 и залог2 определяются элементарной операцией перестановки ГСинтА, залог3 — операцией подавления ГСинтА и залог4 — операцией идентификации двух СемА. Мы можем сохранить термин залог за, так сказать, суперкатегорией и различать конкретные категории номерами (как показано выше). Или же можно называть залогом исключительно противопоставление актива и пассива, именуя другие категории по их маркированной граммеме: пермутатив, суппрессив и рефлексив. (Можно, разумеется, принять промежуточный способ: называть залоги 1 и 2 залогами, ибо они оба основываются на операции перестановки, а залоги 3 и 4 так не называть, ибо они порождены другими операциями.) Такой способ выбора терминов, конечно, более точен; зато при нем эксплицитно не выражается интимное родство этих четырех категорий:
• С одной стороны, неслучайно во многих языках различные залоги — в широком смысле, т. е. как суперкатегория — маркируются одними и теми же показателями. Например, [Shibatani 1985: 826–830] и [Haspelmath 1990: 33–34] показывают, что маркер пассива часто выражает также 1) рефлексив, 2) реципрок, 3) результатив, 4) возвратный каузатив, 5) декаузатив, 6) потенциальный пассив, 7) бессубъектный суппрессив, 8) безобъектный суппрессив и 9) почтительность. Мы видим, что практически любые залоговые значения могут быть «слиты», т. е. нагружены на один и тот же показатель.
• С другой стороны, во многих языках граммемы залога как суперкатегории не сочетаются друг с другом (в пределах словоформы), т. е. являются взаимоисключающими, как это и требуется для граммем одной категории.
Чтобы учесть подобные противоречивые свойства залогов, я предлагаю следующее решение:
В теoрии следует быть экстремистом — фанатиком всех наблюдаемых и мыслимых различий. Следовательно, теоретически мы должны признать существование четырех залоговых категорий, как это показано выше. Подобная формальная схема обеспечивает удобство сопоставления конкретных залогов в конкретных языках.
На практике, однако, — т. е. описывая залоги в языке L — лучше следовать наиболее умеренному подходу и учитывать только те различия и противопоставления, которые реально встречаются в L. Так, например, во фанцузском языке пассив и рефлексив не комбинируются друг с другом, что позволяет нам усматривать здесь одну категорию залога с шестью граммемами:
1) «актив»:
Alain a écrit cette lettre
«Ален написал это письмо».
2) «полный повышающий пассив»:
La lettre a été écrite par Alain
«Письмо было написано Аленом».
3) «полный понижающий пассив»:
Il a été procédé à l'interrogatoire par le commisaire de la police
букв. «Было приступлено к допросу комиссаром полиции».
4) «частичный понижающий пассив»:
De telles lettres s'écrivent souvent
«Такие письма пишутся часто».
5) «прямой рефлексив»:
Alain se rase
«Ален бреется».
6) «косвенный рефлексив»:
Alain se parle
«Ален говорит сам с собой».
Однако литовский и польский языки, где бессубъектный суппрессив и рефлексив комбинируются, должны описываться иначе: в них усматриваются по две (под)категории залога: залог1 с граммемами «актив» ~ «пассив» ~ «суппрессив»; и залог2, где противопоставляются «не-рефлексив» ~ «рефлексив» (если угодно, возможно переименование этих подкатегорий: залог и рефлексив). В португальском языке, напротив, повышающий пассив и суппрессив должны считаться граммемами двух разных категорий (ср. (19)); и т. д.
7. Отличать и не смешивать!
Необходимо отличать: моголя от Гоголя, Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля от кобеля… и т. д.
(марксистско-советский постулат)
Чтобы обеспечить достаточную глубину предлагаемой картины залогов, целесообразно противопоставить залог двум типам категорий:
• с одной стороны, категориям, меняющим диатезу, но меняющим и пропозициональное значение глагола;
• с другой стороны, категориям, не меняющим пропозициональное значение глагола, но не меняющим и диатезу.
Категории обоих типов залогами, разумеется, не являются.
Грамматические[46] категории, граммемы которых изменяют диатезу глагола в точности как залоги, но при этом изменяют и его пропозициональное значение, довольно распространены и нередко трактуются как залоги, что приводит к многочисленным логическим трудностям.
Такие категории либо повышают валентность глагола, т. е. добавляют Сем-актант; либо понижают валентность глагола, т. е. отнимают Сем-актант.
Категории, добавляющие Сем-актант. Я упомяну здесь два класса таких категорий: каузативы и аппликативы. Рассмотрим глагол со смыслом «X делает Y».
• Каузатив добавляет смысл «Z каузирует, что…» и очевидный СемА — Каузатора, который становится СемА 1 (вызывая тем самым сдвиг всех остальных актантов глагола). На поверхности этот новый актант выражается подлежащим.
• Аппликатив добавляет смысл «… вовлекая Z…» и очевидный СемА — Бенефициант, который (обычно) становится СемА 2 (вызывая тем самым сдвиг остальных актантов глагола). На поверхности этот новый актант выражается прямым дополнением.
Категории, отнимающие Сем-актант. В качестве примера подобной категории я приведу декаузатив, Пусть имеется глагол со смыслом «Z каузирует, что X Р-ет». Граммема декаузатива имеет отрицательный смысл: что-то вроде «-каузировать»; ее прибавление к смыслу глагола равноценно вычитанию смысла «каузировать», так что из «Z каузирует, что X Р-ет» получается «X Р-ет». Например:
Глагол имеет ряд словоизменительных категорий, напоминающих залог: как и залог, они маркируют различные коммуникативные характеристики актантов; однако их граммемы не меняют диатезу глагольной лексемы, и тем самым они не являются залогами. Я укажу здесь три таких категории: (де)транзитивация, фокус и направленность.
(Де)транзитивация. (Де)транзитивация отличается от залога, во-первых, тем, что она затрагивает только глубинно-синтаксический актант и только у переходных глаголов, а во-вторых, тем, что ее граммемы меняют поверхностно-синтаксический ранг этого актанта, но не его соответствие СемА. (Де)транзитивация может иметь три граммемы:
«нейтральный»: ПСинт-ранг объекта не меняется;
«детранзитиватив»: ПСинт-ранг объекта понижается (Доппрям становится Допкосв);
«транзитиватив»: ПСинт-ранг объекта повышается (ДОПкосв становится Доппрям).
Хорошую иллюстрацию дает чукотский язык:
Мы видим здесь типичную эргативную конструкцию, которая обязательна в чукотском для всех переходных глаголов.
В (23 б) выступает номинативная конструкция, возможная только при непереходном глаголе: подлежащее «я» здесь — в номинативе (не в инструменталисе, как в (23а)), а дополнение «груз» — не прямое (в номинативе), а косвенное (в инструменталисе); при этом оно факультативно и часто опускается. Тем не менее, существительное КIMITζ- «груз» остается ГСинтА II и по-прежнему соответствует СемА «Y» [что перевозится]. Иначе говоря, мены диатезы здесь не происходит, так что при нашем определении детранзитивация — не залог. (Пропозициональное значение глагола в обеих фразах тоже остается неизменным, так что русский перевод искажает действительную картину.)
В литературе детранзитивацию обычно называют антипассивом; я не могу принять этот термин именно потому, что пассив — это прототипический залог, а детранзитивация залогом не является.
(Глагольный) фокус. Граммемы категории глагольного фокуса выражают различные изменения коммуникативной структуры предложения: они маркируют фокусирование того или иного члена предложения, но никак не затрагивают ни его ГСинт-роль, ни его ПСинт-ранг. Фокус может иметь до шести граммем:
«нейтральный»: никакой член предложения не в фокусе;
«сказ-фокус»: само сказуемое в фокусе;
«подл-фокус»: подлежащее в фокусе;
«прям-доп-фокус»: прямое дополнение в фокусе;
«косв-доп-фокус»: косвенное дополнение в фокусе;
«обст-фокус»: обстоятельство в фокусе.
(24) В языке ишиль (семья майя, Гватемала; [Ayres 1983]) глагол различает четыре граммемы фокуса:
«нейтральный»: никакой зависимый глагола не в фокусе;
«подл-фокус»: подлежащее в фокусе;
«косв-(доп-)фокус»: косвенное дополнение в фокусе;
«обст-фокус»: обстоятельство образа действия в фокусе.
(Прямое дополнение быть в фокусе в языке ишиль не может.)
(24а) Kat in +'qos аš
ПЕРФ 1ЕД.СУБ ударить ты
«Я ударил тебя».
vs.
In kat 'qos +on aš
я ПЕРФ ударить ПОДЛ-ФОК ты
«Это я ударил тебя».
(24б) I +'qos tib' пах Šun tuč? Te?k ti? Šiw
3ЕД.СУБ ударить себя KJIAC Джон с Джеймс из. за Джейн
«Джон дерется с Джеймсом из-за Джейн».
vs.
Ti? Šiw +е? i + 'qos + wat tib' nax
из.за Джейн ЭМФ ЕД.СУБ ударить КОСВ-ФОК себя КЛАС
Šun tuč? Te?k
Джон с Джеймс
«Это из-за Джейн Джон дерется с Джеймсом».
Выражение граммем фокуса в ишиль функционально эквивалентно «расщепленной» конструкции английского и французского языков — Clefting'y (It is because of Jane that John is fighting with James). Очевидно, что категория фокуса также не может быть отнесена к залогам.
Направленность. Граммемы направленности указывают, какой СемА глагола наиболее затрагивается действием. Например, тамильский язык различает две направленности:
«аффектив»: действие затрагивает главным образом СемА 1 (т. е. Агенс) глагола;
«эффектив»: действие затрагивает главным образом СемА 2 (т. е. Пациенс) глагола.
(25а) Racikarkaļ naţikaiyai vajain +t +u
поклонники-НОМ актриса-АКК окружить АФФ ПРИЧ
koņţu aţ +iņ +ärkaļ
брать-ПРИЧ плясать АФФ ПРОШ-3МН
«Поклонники, окружив актрису, стали плясать [от радости]».
vs.
(25б) Racikarkaļ naţikaiyai vajain +tt +u
поклонники-НОМ актриса-АКК окружить ЭФФ ПРИЧ
koņţu ati +tt +ärkal
брать-ПРИЧ бить ЭФФ ПРОШ-3МН
В обеих формах направленности глагол остается переходным и синтаксические роли его актантов тоже не меняются. При этом каждая направленность сочетается с обоими залогами (пассив в тамильском аналитический — он образуется с помощью вспомогательного глагола PATU «падать» и пассивного причастия).
Глагол в аффективе.
Глагол в эффективе.
Из этих примеров ясно видно, что граммемы направленности семантически «воздействуют» на семантические, а не на синтаксические актанты глагола: так, глагол «называть» остается в аффективе независимо от залога, ибо в тамильском языке называние касается главным образом Назывателя. Никаких оснований трактовать направленность как залог нет.
Благодарности
Текст настоящей статьи был прочитан Л. Иомдиным и Л. Иорданской; я постарался учесть их замечания в полной мере. Спасибо!
Литература
Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл <=> Текст». М., 1974.
Мельчук И.А. Курс общей морфологии. T. II. М.; Вена, 1998.
Мельчук И. А., Холодович А. А. Залог: (Определение. Исчисление) // Народы Африки и Азии. 1970. № 4.
Холодович А. А. Залог: (Определение. Исчисление) // Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Холодович А. А. (ред). Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги. Л., 1974.
Храковский В. С. (ред.). Проблемы грамматического залога. Л., 1978. Храковский В. С. (ред.). Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.
Храковский В. С. Диатезы и залоги (тридцать лет спустя) // Слово в тексте и в словаре: Сборник статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Ред. Л. JI. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000.
Ayres G. The Antipassive «Voice» in Ixil // Int. Journal of American Linguistics. 1983. № 49:1.
Givón T. Syntax. A Functional Typological Introduction. Vol. II. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
Haspelmath M. The Grammaticization of Passive Morphology // Studies in Language. 1990. № 14:1.
Mel'čuk I. Dependency Syntax. Theory and Practice. Albany, N. Y., 1988.
Mel'čuk I. The Inflectional Category of Voice: Towards a More Rigorous Definition // Comrie B. & Polinsky M. (eds). Causatives and Transitivity. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
Mel'čuk I. Cas grammaticaux, construction verbale de base et voix en massai: vers une meilleure analyse des concepts // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1997.92:1.
Shibatani M. Passive and Related Constructions: A Prototype Analysis // Language. 1985. № 61:4.
В. П. Недялков
Заметки по типологии выражения реципрокального и рефлексивного значений
(в аспекте полисемии реципрокальных показателей)[47]
1. Вводные замечания.
1.1. Три основных типа языков по признаку полисемии реципрокальных показателей.
1.2. Три основных типа полисемии реципрокальных показателей.
1.3. Смысловые, формальные и этимологические отношения между реципрокальным значением и значениями рефлексивным, социативным и итеративным.
1.3.1. Рефлексив — реципрок.
1.3.2. Реципрок — социатив.
1.3.3. Итератив — реципрок.
1.3.4. Возможные этимологические соотношения рефлексивного, реципрокального, социативного и итеративного показателей.
1.3.5. Другие типы полисемии.
2. Два типа показателей с рефлексивным и/илн реципрокальным значениями — анафорические и медиальные.
2.1. Показатели, имеющие только анафорические значения.
2.1.1. Показатели с совмещенными рефлексивным и реципрокальным значениями.
2.1.2. Показатели с несовмещенными рефлексивным или реципрокальным значениями.
2.2. Показатели, имеющие не только анафорические значения.
3. Медиальные показатели с рефлексивным и/или реципрокальным значениями.
3.1. Медиальный показатель имеет рефлексивное значение, но не имеет реципрокального.
3.2. Медиальный показатель имеет рефлексивное и реципрокальное значения.
3.2.1. Реципрокальное значение непродуктивно.
3.2.2. Реципрокальное значение продуктивно.
3.3. Медиальный показатель имеет реципрокальное значение, но не имеет рефлексивного.
4. Распределение языков по признакам (а) раздельного или совместного употребления медиальных и анафорических показателей и (б) рефлекснвно-реципрокальной полисемии.
4.1. Языки только с медиальными показателями.
4.1.1. Раздельное выражение рефлексивности и реципрокальности.
4.1.2. Совмещенное выражение рефлексивности и реципрокальности
4.2. Языки только с анафорическими показателями
4.2.1. Раздельное выражение рефлексивности и реципрокальности
4.2.2. Совмещенное выражение рефлексивности и реципрокальности.
4.3. Языки с обоими типами показателей.
4.3.1. Медиальный и анафорический показатели не используются одновременно.
4.3.2. Медиальный и анафорический показатели могут использоваться одновременно.
4.3.2.1. Основной показатель рефлексива и реципрока — медиальный.
4.3.2.2. Основные показатели рефлексива и реципрока — анафорические.
4.3.2.3. Медиальный и анафорический показатели употребляются как правило совместно.
4.4. Континуум языков по признаку увеличения роли реципрокальных анафорических показателей.
5. Медиальные и анафорические показатели реципрокальности и тип кореферентности.
5.1. Собственно реципроки (или «дистантные» реципроки).
5.1.1. Кореферентность подлежащего с прямым дополнением.
5.1.2. Кореферентность подлежащего не с прямым дополнением.
5.1.2.1. Кореферентность подлежащего с непрямым дополнением.
5.1.2.2. Кореферентность, включающая периферийные способы обозначения дополнения и подлежащего.
5.1.2.3. Кореферентность подлежащего с бенефактивным дополнением или посессивным определением.
5.2. Локативные («контактные») рецнпроки.
5.2.1. Локативные реципроки с кореферентностью подлежащего и предложного дополнения (субъектные реципроки).
5.2.2. Локативные реципроки с кореферентностью прямого и косвенного дополнений (объектные реципроки).
6. Заключение.
Литература.
1. Вводные замечания
В настоящих заметках рассматривается в основном полисемия, иллюстрируемая русскими непереходными рефлексивными глаголами с постфиксом — ся в следующих предложениях с рефлексивным и рецилрокальным значениями соответственно, приводимых с соотносительными переходными нерефлексивными исходивши предложениями:
(1а) А и Б защищаются ← А и Б защищают его;
(1б) А и Б обнимаются ← А и Б обнимают его.
Как известно, оба значения могут выражаться также и местоимениями:
(2а) А и Б защищают себя;
(2б) А и Б обнимают друг друга,
т. е. А обнимает Б, а Б обнимает А[48].
В русском языке рефлексивно-реципрокальная полисемия постфикса — ся представлена в разных глаголах, будучи дополнительно распределенной, что и показано примерами (1а) и (1б). В других языках, например, в польском, существуют дериваты с рефлексивно-реципрокальной полисемией, которые в зависимости от контекста могут выражать оба этих значения. Так, в (3) сочетания глагола с клитикой się (соответствующей русскому — ся) или с местоимением siebie (соответствующим русскому себя) могут интерпретироваться и рефлексивно, и реципрокально, опять же в зависимости от контекста:
(3а) Przyjacieke bronili się długo
i. «Друзья долго защищались/защищали себя»
ii. «Друзья долго защищали друг друга»;
(3б) Przyjaciele bronili siebie dhigo
i. «Друзья долго защищались/защищали себя»
ii. «Друзья долго защищали друг друга», (предпочтительнее)
Рефлексивно-реципрокальная полисемия очень широко распространена среди языков мира. Она представлена в ряде индоевропейских, финно-угорских, семитских, тибето-бирманских, африканских, австралийских, северо- и южно-американских индейских языков и др. В целом, она слабо представлена или почти отсутствует в языках Азии и Океании (основное исключение — австралийские и, возможно, некоторые тибето-бирманские языки), см. также [Maslova & Nedjalkov, in print].
В настоящей статье рефлексивом именуются как глаголы типа защищаться, так и сочетания типа защищать себя, а реципроком — как глаголы типа обниматься, так и сочетания типа защищать друг друга. Соответственно, показателями рефлексива и реципрока именуются как связанные морфемы типа — ся, так и свободные единицы типа себя и друг друга. Термины рефлексив и реципрок распространяются и на глаголы с обоими рефлексивными или реципрокальными показателями. В русском языке такие сочетания неграмматичны (ср. *Oни обнялись друг друга), но во многих других языках они грамматичны и употребительны; ср. следующий якутский пример, где одновременно употреблены реципрокальный суффикс — с- и местоимение бейе-бейе-лери-н «друг друга» (-лери- = 3 л. мн. ч., -к = акк.):
(4) бейе-бейе-лери-н θлθр-ус-
«убить друг друга».
Подобное употребление склоняемого реципрокального местоимения при морфологическом реципроке может быть или плеонастическим или же служить средством снятия полисемии многозначного реципрокального показателя, в данном случае суффикса — с, ср. (5). Эту же функцию могут выполнять и реципрокальные наречия, которые сами по себе не образуют реципроков. К таким наречиям, именуемым ниже реципрокальными уточнителями, относится, например, польское nawzajem «взаимно», которое может снимать полисемию в случаях типа (3а) и (3б).
Выражение рефлексивного и реципрокального значений одним показателем объясняется тем, что оба значения соотносят субъекты и объекты (и, шире, субъекты и не-субъекты) действия как кореферентные. Это проявляется в двух смысловых ролях референтов при каждом из этих значений. Причем реципрокальное значение, в отличие от рефлексивного, включает в себя перекрестную кореферентность и таким образом является более сложным семантически.
Два основных типа показателей, которыми эти значения передаются, именуются ниже анафорическими (только с рефлексивным и/или реципрокальным значениями; см. (2), (3б) и (6)) и медиальными (не только с рефлексивным и/или реципрокальным значениями, но и с рядом других, обусловленных интранзитивацией исходного глагола, например, антикаузативным, пассивным и др.; см. (1), (3а), (8 г). Между этими способами выражения возможны промежуточные типы, поскольку первые могут переходить во вторые[49].
В свою очередь, различаются собственно реципроки и локативные реципроки: только у первых возможна рефлексивно-реципрокальная полисемия, вторые же называют соединение или разъединение субъектов или объектов, и вопроса о полисемии не возникает. Речь идет о таких значениях, как, например, «соединить А и Б друг с другом». Несмотря на существенное семантическое различие, оба типа реципроков обладают достаточным сходством для обозначения их одним термином[50]. Если у собственно реципроков антецедентом показателя выступает, как правило, субъект (ср. Sie в (5а)), то у локативных реципроков антецедентом может быть как субъект (см. Sie в (5в)), так и объект; ср. А und В в (5 г). Реципроки с антецедентом-подлежащим именуются субъектными, а с антецедентом-дополнением — объектными. В основной части этой статьи рассматриваются собственно реципроки, т. е. субъектные реципроки. Локативные реципроки рассматриваются в разделе 5.2. Локативные реципроки обычно образуются анафорическими показателями, во всяком случае гораздо чаще, чем медиальными[51]. Здесь речь идет о тех языках, которые располагают обоими типами показателей. Ср.:
(5а) Sie lieben sich
i «Они любят друг друга»
ii «Они любят себя»;
(5б) Sie lieben einander
«Они любят друг друга»;
(5в) Er prallte auf ihn
«Он натолкнулся на него»;
Sie prallten aufeinander
«Они натолкнулись друг на друга»;
(5 г) Er fügte А an В
«Он подогнал А к Б»;
Er fügte А und В aneinander
«Он подогнал А и Б друг к другу».
В настоящих заметках рассматриваются лишь некоторые аспекты проблемы рефлексивно-реципрокальной полисемии, а именно, распределение языков по признаку совместного или раздельного употребления медиальных и анафорических показателей (см. раздел 4), а также по признаку типов кореферентности этих показателей (см. раздел 5). Рассматривается также распределение рефлексивного и/или реципрокального значения по названным двум способам их выражения в различных языках и, тем самым, производится классификация языков по этим признакам.
Рассмотрению собственно темы данной статьи (разделы 3, 4 и 5) предпослана вводная часть (разделы 1 и 2), где в качестве типологического фона рассматривается ряд смежных вопросов, в частности, 1) типы языков по признаку полисемии реципрокальных показателей (см. 1.1), 2) три основных значения, сопутствующих реципрокальному (см. 1.2), а также 3) возможные этимологические соотношения показателей реципрокального, рефлексивного, социативного и итеративного значений (см. 1.3).
Рефлексивно-реципрокальная полисемия представлена достаточно широко в языках мира, но существуют также языки, где показатель реципрока не является полисемичным или же имеет полисемию без рефлексивного значения. Для полноты картины рассматриваются также те случаи, когда рефлексивное и реципрокальное значения представлены в языке отдельными показателями.
1.1. Три основных типа языков по признаку полисемии реципрокальных показателей
По этому признаку различаются следующие типы: языки с моносемичными реципрокальными показателями, языки с полисемичными реципрокальными показателями и языки с обоими типами показателей.
1) Языки, в которых имеются только моносемичные реципрокальные показатели. Этот тип представлен, например, чукотским, где существует однозначный реципрокальный суффикс и синонимичное ему однозначное реципрокальное местоимение, изменяемое по лицам: мургичгу «мы друг друга», тургичгу «вы друг друга» и ыргичгу «они друг друга» (эти показатели могут также выступать одновременно как плеонастические), см. [Nedjalkov 1976: 202, 196; Nedjalkov, в печати]:
Чукотский:
(6а) чичев- «понимать»
(6б) чичек-вылг- «понимать друг друга»
(6в) ыргичгу чичев- «понимать друг друга»
(6 г) ыргичгу чичев-вылг- «понимать друг друга».
2) Языки только с полисемичными показателями. К этому типу относится, например, восточно-футунский язык (полинезийская семья), где существуют три показателя реципрока с общим компонентом: fe-, fe-…-(C)i, fe-…(C)aki. Эти показатели различаются набором значений и продуктивностью [Moyse-Fauríe, in print]. Проиллюстрирую ряд значений последнего показателя:
Восточно-футунcкий [там же]
(7а) alofa «любить» → fe-alofa-'aki «любить друг друга»;
(7б) аnо «идти» → fe-ano-'aki «идти вместе»;
(7в) tapa «сверкать» → fe-tapa-'aki «сверкать снова и снова».
3) Языки с моносемичными и полисемичными показателями. Сюда относится, например, якутский язык с полисемичным реципрокальным суффиксом — с- и моносемичным изменяющимся по лицам и падежам реципрокальным местоимением бэйэ-бэйэ-лэри-н (сам-сам-посесс.3.мн. — акк.) «они друг друга» (плеонастически или же для снятия полисемии реципрокальное местоимение может выступать совместно с суффиксом) [Харитонов 1963: 35–36].
Якутский:[52]
(8а) θлθр- «убить» →
θлθр-ус-
i. «убить друг друга»
ii. «вместе убить кого-л.»
iii. «вместе с кем-л. убить кого-л.»
iv. «помочь кому-л. убить кого-л.»
(8б) бейе-бейе-лери-н θлθр- «убить друг друга»;
(8в) бейе-бейе-лери-н θлθр-ус- «убить друг друга».
От определенного класса глаголов, обозначающих в основном соединение и разъединение, реципрокальный суффикс образует антикаузативы (подробнее см. [Nedjalkov 2003: 72–73]); ср.:
(8 г) булку- «смешать что-н. с чем-н.» →
булку-с- «смешаться»
силимне- «склеить что-н. с чем-н.» →
силимне-с-«склеиться»
хаты- «переплести что-н. с чем-н.» →
хаты-с- «переплестись».
1.2. Три основных типа полисемии реципрокальиых показателей
Реципрокальное значение имеет общие признаки с тремя значениями:
а) с рефлексивным значением — две семантические роли у каждого из партиципантов;
б) с социативным значением — не менее двух партиципантов, участвующих в одной и той же ситуации и выполняющих одну и ту же семантическую роль[53];
в) с итеративным значением — не менее двух действий, предполагаемых неединственным числом партиципантов[54].
Соответственно наблюдаются три типа полисемии: реципрокально-рефлексивная, реципрокально-социативная и реципрокально-итеративная.
Три значения перечислены здесь в порядке предполагаемого уменьшения семантической близости к реципрокальному. Социативное и итеративное значения естественно объединяются по признаку множественности — партиципантов в социативном и действий в итеративном. При этом в некоторых языках социативное и итеративное значения могут выражаться одним показателем, как, например, в восточно-футунском конфиксом fe-…-'aki, см. (7б) и (7в). Это же имеет место в случае индонезийского конфикса ber-…-an, который выражает значения множественности агенсов, действий или направлений, см. [Prentice 1987:921].
Естественно, что каждое из названных трех значений нередко выражается теми же показателями, что и реципрокальное (независимо от того, является ли у показателя реципрокальное значение наиболее продуктивным или нет). Так, в восточнофутунском и индонезийском языках упомянутые показатели выражают и реципрокальное значение. Распространенность трех типов полисемии в языках мира неоднократно отмечалась в специальной литературе, см., например, [Lichtenberk 1985: 19–41; Shibatani 1985: 825–829, 840–843; Kemmer 1993; Knjazev 1998: 185–193]. Проиллюстрирую эти три типа полисемии,
а) Рефлексивно-реципрокальная полисемия
Масаи [Tucker & Mpaayei 1955: 134–136]; нилотская семья; суффикс — а- = медиальный показатель; е- = 3 л. ед. и мн. ч.:
б) Социативно-реципрокальная полисемия
Каранго [Marconnés 1931: 195]; семья банту; — an- = суффикс реципрока:
в) Итеративно-реципрокальная полисемия
Собей [Sterner 1987: 53]; группа сарми-йотафа океанийской семьи; инфикс — re-/-ro-/… — показатель реципрока:
Названными тремя значениями, которые могут сопутствовать реципрокальному, возможная полисемия реципрокальных показателей не исчерпывается. Это уже видно из ряда приведенных примеров. Так, например, социативно-реципрокальная полисемия может включать комитативное и ассистивное значения (см. (8а) выше), а рефлексивно-реципрокальная полисемия может включать также антикаузативное и результативное значения; ср.:
Масаи [там же]; ср. (9); — а = медиальный показатель, — i = имперсонал):[55]
Существует также такая полисемия реципрокальных показателей, где названные три значения по разным причинам отсутствуют, но имеют место другие значения, связанные с детранзитивирующей функцией показателя, например, абсолютивное значение; ср.:
Тоабаита [Lichtenberk 1999: 35, 51]; океанийская семья:
1.3. Смысловые, формальные и этимологические отношения между реципрокальным значением и значениями рефлексивным, социативным и итеративным
Рассмотрим кратко некоторые аспекты трех основных типов полисемии.
1.3.1. Рефлексив—реципрок. Рефлексивный показатель может соотноситься с реципрокальным двумя способами.
1) Оба значения выражаются одним и тем же показателем (совмещенный показатель). При этом во многих языках это имеет место вследствие того, что рефлексивный показатель приобретает реципрокальное значение, сохраняя рефлексивное, см. (1), (3). В ряде языков банту, в частности в лувале, рефлексивный префикс И-приобрел дополнительно реципрокальное значение, ранее выражавшееся реципрокальным суффиксом — asan- (ср. na-li-pihis-a «он запачкался», vali na-ku-li-vet-a «они бьют друг друга»), переняв одновременно и социативное значение (ср. — li-hah-ilil-a «бежать вместе», где-ilil — суффикс проксимитива; [Horton 1949: 103, 117, 101]; см. также [Аксенова, Топорова 1990: 179,181].
Обратное направление развития, т. е. от реципрока к рефлексиву, встречается гораздо реже. Так, например, в языке джу-валджаи (Juwaljai; австралийская семья) рефлексивный суффикс — lεlana- восходит к реципрокальному суффиксу (правда, новый реципрокальный суффикс — lŋili- происходит из рефлексивного, т. е. здесь произошла достаточно странная «рокировка» показателей; дословно: «… there is in Juwaljai an apparent crossing of the functions of the two suffixes: that which was reciprocal becomes reflexive, and vice versa» [Capell 1956: 52]). Помимо таких рефлексивных и реципрокальных показателей, полностью отличных друг от друга, а также рефлексивно-реципрокальных показателей (см. (1) и (3)), существуют реципрокальные показатели, частично совпадающие с рефлексивными.
2) Рефлексивный и реципрокальный показатели имеют общую часть[56]. При этом обычно показатель рефлексива является частью реципрокального показателя. Маловероятно, чтобы рефлексивный показатель включал в себя реципрокальный показатель (хотя и отмечены случаи, когда показатель рефлексива фонологически «весомее» показателя реципрока; ср., например, рефлексивный суффикс — (ŋi)djiliŋa и реципрокальный — l-ana в австралийском языке вирадьюри [Capell 1956: 75]; но в целом, как известно, большее смысловое содержание иконически имеет тенденцию к выражению большей по объему морфологической единицей). Это может иметь место как у морфологических, так и у синтаксических показателей.
2а) Показатель морфологический. Здесь существуют два типа сложных показателей:
а) рефлексивный показатель предшествует или следует за каким-либо другим показателем и исторически скорее всего присоединился к нему; ср.:
(14) реципрокальный суффикс — na-ku (ср. riku-na-ku- «смотреть друг на друга») в боливийском кечуа, где — ku есть рефлексивный суффикс в самостоятельном употреблении (ср. riku-ku-«смотреть на себя»), а — na без — ku употребляется только с каузативным суффиксом — chi (ср. riku-na-chi «заставлять кого-л. смотреть друг на друга», где суффикс рефлексива отсутствует) [Muysken 1981:454,464];
(15) реципрокальный суффикс — ep-ew в языке юрок (алгонкинская семья), где — ер — рефлексивный суффикс, а второй компонент, или омоморфный суффикс, является алломорфом пассивного показателя [Robins 1958: 78–79,47—48];
(16) реципрокальный суффикс —:ni-ßa/-yßa в языке урадхи (австралийские языки) где —:ni — рефлексивный суффикс, а второй компонент в варианте — уßа употребляется как показатель реципрока только в одном из четырех спряжений транзитивных глаголов [Crowley 1983: 365];
В языке тидоре (папуасский язык) существует реципрокальный префикс ma-ku-, в котором компонент ma- представляет собой рефлексивный префикс [van Staden 2000: 115–117].
б) реципрокальный показатель является редупликацией рефлексивно-реципрокального:
(17) реципрокальный префикс at-at- в языке апалай (карибская семья), где at- является рефлексивно-реципрокальным показателем [Koehn & Koehn 1986: 44]. См. также [Bhat 1978: 49–50].
2б) Показатель синтаксический. В этом случае обычно налицо редупликация рефлексивного местоимения (что, разумеется, не означает наличия двух рефлексивных действий); само же рефлексивное местоимение чаще всего восходит, как уже давно было замечено, к таким именам, как, например, «тело», «человек», «голова», «душа», или к эмфатическому рефлексиву «сам»[57] и т. д., см., например, [Cassirer 1923: 211; Schladt 1999: 103–122; Heine, Kuteva 2002: 58–60]; ср.:
(18) якутское рефлексивное местоимение бэйэ-лэри-н (сам-по-сесс. З. мн. — акк.) «они себя» и реципрокальное бэйэ-бэйэ-лэри-н (сам-сам-посесс. З. мн. — акк.) «они друг друга»[58];
(19) в языке джуанг (языки мунда) рефлексивное местоимение aapein-te «сам-акк.» и реципрокальное местоимение aapein-te aapein (сам-акк. сам) «друг друга» [Patnaik & Subbarao 2000: 842–844];
(20) лезгинское рефлексивное местоимение 3-го л. мн. ч. čeb (сам. абс.) «себя» и реципрокальное местоимение 3-го л. мн. ч. čpi-čeb (сам. эрг. — сам. абс.) «друг друга» [Haspelmath 1993:415–416].
Реципрокальные местоимения, не восходящие к рефлексивным, часто происходят из лексических реципроков со значениями «товарищ», «друг»[59] и т. д.; ср., например, čere в койра чиини (семья сонгай-зарма) со значениями «друг», «ровня», «товарищ» [Heath 1999: 341–343], daße «товарищ» в гола и band¸- «родственник» в фулани (оба языка западно-атлантической семьи; [Heine 1999: 21; Heine, Kuteva 2002: 92–93]).
В заключение выскажу предположение, что если показатели рефлексива и реципрока имеют общую часть, то скорее всего эта часть материально совпадает с показателем рефлексива[60].
1.3.2. Реципрок— социатив. Реципрокальный показатель может соотноситься с показателем социатива двумя способами:
1) сохраняя реципрокальное значение, он приобретает социативное значение; такое развитие реконструируется, например, для некоторых языков банту [Dammann 1954: 167], языка халко-мелем (салишская семья индейских язьпсов; см. [Gerdts 1999: 133–160]); относительно других языков см. также [Lichtenberk 1985: 39; Mithun 1999: 93];
2) иногда он дает начало социативному показателю, присоединяясь к комитативному показателю, как, например, в адыгейском языке, где префикс социатива зэ-дэ-, в котором — дэ-префикс аппликативного комитатива, а зэ- префикс реципрока (маркирующий кореферентность подлежащего и косвенного дополнения; ср.: IукIа- «встретить кого-л.» — зэ-IукIа «встретиться друг с другом»), т. е. форма социатива фактически является формой реципрока от комитатива; ср. кIон «идти» → дэ-кIон «идти вместе с кем-л.» (двухместная форма) → зэ-дэ-кIон «совместно идти» (одноместная форма); см. [Рогава, Керашева 1966: 277][61]. В айнском языке показатель социатива u-ko- состоит из реципрокального префикса и- и аппликативного ko-[62] (ср. оппера «стареть» — u-ko-onnepa «стареть вместе»; [Tamura 1996: 471, 760]). Об этом направлении деривации говорят также синтаксические показатели социатива во многих языках, образованные от показателей комитатива (предлогов, послелогов и др.) по тому же типу, что и русское друг с другом.
Обратное развитие, во всяком случае хоть сколько-нибудь продуктивное, пока не отмечено в специальной литературе[63].
Можно заключить следующее: если показатели социатива и реципрока имеют общую часть, то скорее всего эта часть материально совпадает с показателем реципрока.
1.3.3. Итератив — реципрок. В этом случае соотношения между значениями несколько более многообразны, чем в предыдущих случаях, что связано с более широким диапазоном сопутствующего, т. е. итеративного значения. Можно выделить по крайней мере три типа показателей реципрока, так или иначе связанных с показателем итеративности.
1) Итеративный показатель может приобретать реципрокальное значение, сохраняя итеративное в том же или другом деривате. Итеративное значение признается исходным, например, для одного из показателей реципрока в китайском языке: в качестве реципрокального показателя используется повторение смыслового глагола при одновременном использовании двух служебных глаголов lái «приходить» и qù «уходить», что в свою очередь указывает на происхождение итеративного значения из реципрокативного,т. е. значения движения в противоположных направлениях (ср.:dă «ударить» → dă-lái-dă-qù (бить-прийти-бить-уйти) i. «бить друг друга», ii. «драться несколько раз или некоторое время»; [Liu 1999: 124–132]. Такая же ситуация и в языке хуа (папуасская семья), где форма реципрока состоит из повторяющегося смыслового глагола и служебного глагола hu [Haiman 1980: 121–123]. Как утверждает [Davies 2000: 123–143], в мадурском языке (индонезийская семья) выражение реципрокального значения путем редупликации глагола связано с выражением итеративного значения этой же формой. В языке цян (тибето-бирманская семья) редупликация глагола обозначает как реципрокальность, так и итеративность (см. [LaPolla, to appear: 121]). Повторность действия в названных формах иконически отображается повторением смыслового глагола.
2) Итеративный показатель становится частью реципрокального показателя. Здесь возможны по меньшей мере два варианта.
2а) Итеративный показатель в составе сложного показателя не обозначает повторения реципрокального действия, хотя при самостоятельном употреблении сохраняет свое значение. Так, например, обстоит дело в языке дирбал (австралийская семья), где показатель реципрока суффикс — (n)bariy обязательно сочетается с редупликацией первых двух слогов смыслового глагола, которая сама по себе выражает повторность (см. [Dixon 1972: 92–93]), и в языке билин (кушитская семья): здесь реципрокальный показатель — st-эŋi состоит из суффикса пассива — st- и суффикса фреквентатива эŋi- [Palmer 1957:132,134,135].
В языке манам (океанийская семья) существуют два показателя реципрока, один из них представлен префиксом е-, а второй префиксом е- и суффиксом — í. При этом употреблении суффикс не выражает повторности реципрокальной ситуации [Lichtenberk 1983:211–214].
2б) Итеративный показатель в составе сложного показателя обозначает повторение реципрокального действия. При самостоятельном употреблении он также сохраняет свое значение. Таким образом, в этом случае реципрокальное значение обязательно комбинируется с итеративным. К этому типу относится, например, небольшая семантическая группа глаголов в русском языке, в которых реципрокальность обозначена конфиксом nepe-…-ся, а (поочередная) повторность — суффиксом несовершенного вида — ива-/ыва- (ср. перестук-ива-ть-ся), опущение которого дает, как правило, неграмматичную форму [Зализняк, Шмелев 2000: 125–126; Knjazev 1997:248].
Можно заключить, что если показатели итератива и реципрока имеют общую часть, то скорее всего эта часть материально совпадает с показателем итератива.
1.3.4. Возможные этимологические соотношения рефлексивного, реципрокального, социативного и итеративного показателей. Рассмотренные отношения можно выразить следующей схемой, где стрелки указывают на направление наиболее вероятных этимологических отношений между названными значениями (если, разумеется, эти отношения существуют в каждом случае):
1.3.5. Другие типы полисемии. Помимо трех типов полисемии, выделенных по признаку наличия двух из основных значений, а именно,
1) рефлексивно-реципрокального,
2) социативно-реципрокального и
3) итеративно-реципрокального типа,
возможны еще три типа полисемии, каждый из которых объединяет три значения:
4) социативно-реципрокально-итеративная; см. (7),
5) рефлексивно-реципрокально-социативная; см. (22) и
6) рефлексивно-реципрокально-итеративная.
Тип полисемии, совмещающий все четыре значения (рефлексивное, реципрокальное, социативное и итеративное), не встретился, но, вероятно, возможен.
Рефлексивное значение не имеет общих смысловых компонентов ни с итеративным, ни с социативным значениями. Естественно, что рефлексивно-итеративная и рефлексивно-социативная полисемия маловероятны. В тех случаях, где эти комбинации значений отмечены, видимо, следует ожидать еще одно значение, а именно реципрокальное, поскольку оно обладает общими признаками как с рефлексивным, так и с итеративным и социативным значениями и выступает, таким образом, в качестве промежуточного звена — своего рода семантического «моста» между этими значениями. Как отмечалось выше, рефлексивно-реципрокально-социативная полисемия, равно как и рефлексивно-реципрокально-итеративная полисемия, отмечена в целом ряде языков; пример (см. также примеры в пункте 1) раздела 1.3.1):
Маяли [Evans 1995: 219,214]; австралийские языки:
(22в)…ani-bu-rre-ni
мы.два-бить-rr-мн
«(наблюдали) нас бьющих друг друга»[64].
Далее в статье речь пойдет только о выражении рефлексивного и реципрокального значений, в особенности о рефлексивно-реципрокальной полисемии (т. е. социативно-реципрокальная и итеративно-реципрокальная полисемия не рассматриваются). Таким образом, я остановлюсь также на выражении рефлексивного и реципрокального значений несовмещенными показателями.
2. Два типа показателей с рефлексивным и/или реципрокальным значениями — анафорические и медиальные
2.1. Показатели, имеющие только анафорические значения
Это показатели, имеющие, как отмечалось выше, только рефлексивное и/или реципрокапьное значения (т. е. значения, анафорические по определению). Это чаще всего (но не всегда!) синтаксические показатели — местоимения и наречия (см., например, (6в) и (8б) выше), но это могут быть и аффиксы (см. (6б), где анафорический показатель — суффикс). Разумеется, анафорические значения могут передаваться также показателями, имеющими и ряд других значений (см., например, (7)), но ниже термин анафорические показатели не употребляется по отношению к этим полисемичным показателям. Поскольку анафорические показатели (особенно рефлексивные) имеют тенденцию грамматикализируясь, развиваться в медиальные, то эта оппозиция имеет континуальный характер.
Анафорические показатели подразделяются на два типа по признаку совмещенного или раздельного выражения рефлексивного и реципрокального значений.
2.1.1. Показатели с совмещенными рефлексивным и реципрокальным значениями. Сюда относится, например, личное местоимение 3-го л. дв./мн. ч. raaua/raatou, изменяемое по лицам и числам, в сочетании с наречием anoo «снова» в языке маори полинезийской семьи [Bauer et al. 1993: 165–166, 186–188]. Другой пример — польское склоняемое рефлексивно-реципрокальное местоимение siebie (акк. ед. и мн. ч.); ср.:
Польский (толкование (i) предпочтительно; [Wiemer 1999: 304])
(23) Magda i Marta lubily siebie
i. «Магда и Марта нравились себе» (каждая себе или обе каждой)
ii. «Магда и Марта нравились друг другу».
К этому же типу относится рефлексивно-реципрокальное место-имение immiC- в гренландском эскимосском, изменяемое по лицам и числам; ср. immi-tsin-nut «мы себя», «мы друг друга», immi-ssin-nut «вы себя», «вы друг друга», immin-nut «они. себя», «они. друг друга»; например:
Эскимосский [Fortescue 1984:160,166]
(24а) Immi-nut tuqup-pu-q
сам. ед. — алл. у бить-инд-3. ед.
«Он убил себя»;
(24б) Immin-nut tuqup-pu-t
сам. мн. — алл. убить-инд-З. мн.
i. «Они убили себя»
ii. «Они убили друг друга».
При единственном числе подлежащего реципрокальное прочтение, естественно, исключается (см. (24а)), и актуализация обоих значений возможна только во множественном числе, за исключением определенных случаев. При этом, если контекст, включая лексическое значение основы глагола, не снимает многозначности (см. (30 г) и (31а), (31б)), то для реципрокального прочтения могут употребляться реципрокальные уточнители типа, например, польского nawzajem «взаимно». В (23) в этом нет необходимости, поскольку прагматически предпочтительно прочтение (б). В следующем примере реципрокальное значение актуализируется добавлением итеративного суффикса — rar- (< — sar-):
(24в) Imminnut tuqu-rar-pu-t
«Они убили друг друга».
В ряде австралийских языков, как пишет Диксон [Dixon 1980:433], у показателей этого типа при множественном числе подлежащего, как правило, реализуется реципрокальное значение, а при единственном числе, как уже отмечалось, возможно только рефлексивное. Т. е. эти значения дополнительно распределены относительно числа подлежащего. Что касается предрасположенности определенных дериватов к той или иной интерпретации, то здесь отношение прагматически асимметричное: по-видимому, почти любой дериват, который может иметь рефлексивное значение при подлежащем в единственном числе, может, как правило, быть проинтерпретирован как (и) реципрокальный при соответствующем контексте, но обратное возможно не всегда. Так, например, глаголы со значениями «приветствовать», «обнимать» и т. п. при подлежащем в единственном числе, как правило, звучат неестественно; ср.:
(25а) ?Он приветствовал себя;
(25б) ?Он обнял себя.
2.1.2. Показатели с несовмещенными рефлексивным или реципрокальным значениями. К этому типу относятся однозначные аффиксные показатели в айнском языке, где показатель рефлексива префикс уау-, а реципрока — префикс и-; ср. kik «ударить» → уау-kik «ударить себя», nukar «видеть» → u-nukar «видеть друг друга», «видеться» [Tamura 2000: 204]. Местоименных показателей рефлексива и реципрока в айнском языке нет.
Сюда относятся рефлексивные показатели в примерах (2а), (19), (20) и реципрокальные в (2б), (5б), (6б), (6в), (8б), (19), (20).
2.2. Показатели, имеющие не только анафорические значения
Помимо рефлексивного (типа защищаться) и реципрокального (типа целоваться) значений эти показатели могут иметь и ряд других значений, а именно: партитивно-рефлексивное (ср. зажмуриться, побриться), автокаузативное (подняться, броситься, опуститься), абсолютивное ((крапива) жжется), имперсональное (чешек. Je trěba, aby se dělalo hudbu «Нужно, чтобы играла музыка» букв. «… делалось музыку»; [Kopečny 1954: 227]), антикаузативное (сломаться, открыться), потенциально-пассивное (складываться (легко)), рефлексивно-каузативное (лечиться (у врача)), пассивное (строиться), и т. д. Основные значения перечисляются в таблице ниже. В субъектно-ориентированных дериватах сохраняется исходное подлежащее (ср. Он поранил руку — Он поранился); в объектно-ориентированных дериватах исходное дополнение становится подлежащим (ср. Он открыл окно — Окно открылось). Особое место занимает имперсонал, который условно отнесен к субъектно-ориентированным.
Языки различаются наборами таких значений, а также их продуктивностью [Недялков 1975: 30]. В ряде языков эти значения могут передаваться и непроизводными глаголами. Чаще всего такие показатели, диапазон значений которых обычно не выходит за определенные смысловые пределы, восходят к рефлексивному показателю. Рефлексивное значение у них нередко признается основным, хотя и, как и реципрокальное, может терять продуктивность по мере развития полисемии (ср. 4.2.1). В таких случаях точнее было бы говорить о полисемии рефлексивного, а не реципрокального показателя.
Медиальные значения могут также выражаться показателями, не имеющими рефлексивного значения. Так, например, в языке эвондо (семья банту) дериваты с суффиксом — an, насколько можно судить по английским переводам, имеют помимо реципрокального значения (ср. sig-an «ненавидеть друг друга», yεn-an «видеть друг друга») также еще и следующие значения (социативное значение у этого суффикса, видимо, отсутствует): абсолютивное lób «кусать» — lób-an «иметь привычку кусаться», антикаузативное kúb «(про)лить» — kúb-an «пролиться», автокаузативное láb «толкнуть вниз» — láb-an «броситься в воду», результативное súm «воткнуть в землю» — súm-an «быть воткнутым в землю» [Redden 1979:108].
Наличие перечисленных в таблице и других значений связано с детранзитивацией исходных транзитивов. Поэтому соответствующие показатели нередко именуются «(универсальным) детранзитиватором/интранзитиватором» (general) detransitivizer/ intransitivizer)[67] и/или медиальным показателем (middle voice marker, показатель среднего залога)[68]. Установившейся терминологии здесь нет, но для обозначения этого типа показателей удобно иметь единый термин при типологическом сопоставлении семантически однородных образований. Ниже будет использоваться термин «медиальный показатель». Этот термин относится, повторю, к показателям, обладающим набором тех или иных значений из названных выше. Замечу, что детранзитивация самоочевидна не при всех медиальных показателях или не при всех значениях данного показателя. Так, например, немецкое sich является клитикой при антикаузативном значении, т. е. детранзитивирует глагол (ср. Öffiien «открыть что-л.» и sich döffen «открыться»), и выступает как прямое дополнение, например, в сочиненных конструкциях с именами, при рефлексивном и реципрокальном значениях (ср. букв. Die Mutter wusch sich und das Kind «Мать помыла себя и ребенка»). Таким образом, в первом случае налицо интранзитивация, а во втором — наличие признаков транзитивности. Однако sich не может быть топикализировано, в отличие от других личных местоимений (ср. *Sich wollte sie nicht waschen букв. «Себя она не хотела мыть»).
Медиальные показатели, включая нулевые (реализующиеся, в частности, только в изменении конструкции и/или согласования; см. (8а)), не всегда продуктивны и не обязательно имеют реципрокальное значение. Далее рассматриваются некоторые из основных случаев.
3. Медиальные показатели с рефлексивным и/или реципрокальным значениями
3.1. Медиальный показатель имеет рефлексивное значение, но не имеет реципрокального
Таковы, например, рефлексивные местоимения в скандинавских языках: seg (Hops.)/sig (швед, и дат.), которые в 1-м и 2-м лицах заменяются личными местоимениями (как и немецкое sich; см. (30д), (30е)). Они могут иметь, например, рефлексивное, автокаузативное, антикаузативное и некоторые другие значения. Но реципрокальное значение выражается местоимениями (типа шведского varandra/varann «друг друга»). Примеры, приведенные ниже, заимствованы из [Берков 1985: 56–74]; эти значения рефлексивного местоимения приблизительно в равной мере представлены в разных скандинавских языках; см. также [Kemmer 1993:182–193]):
(27а) Норвежский:
verge seg «защищаться», henge seg «повеситься» рефлексив.
(27б) Шведский:
sätte sig «сесть», resa sig «подняться» автокаузатив.
(27в) Датский:
abne sig «открыться» антикаузатив.
(27 г) Шведский:
glädja sig «радоваться» антикаузатив.
Рефлексивное местоимение стало употребляться вместо неизменяемого по лицам рефлексивного постфикса — s (в шведском, датском, норвежском) и — st (в исландском и фарерском). Этот постфикс, который в настоящее время используется для выражения (хабитуального) пассива, имел не только рефлексивное (ныне утраченное), но и реципрокальное значение, сохранившееся в немногих дериватах (ср. исландские формы hatast «ненавидеть друг друга», heilsast «здороваться», kyssast «целоваться», suertast «трогать друг друга.» и т. п.), заменяемых обычно сочетаниями с реципрокальным местоимением. Так, например, в норвежском вместо kysses «целоваться» употребляется kysse hverandre с тем же значением.
В других ареально близких языках — германских, славянских и угро-финских — скандинавский постфикс не имеет аналогов; ближайшие аналоги — постфикс — ся/-сь в восточно-славянских языках, а также постфикс-инфикс — s/-si- в литовском (ср. nu-si-skuto «побрились» в (28в) и skuta-si «бреется»; вариант — s используется только как постфикс, ср. skusti-s «бриться»; подробно правила дистрибуции см., например, в [GeniuSiene 1987: 19]) и латышский постфикс — s. В целом, рефлексивные постфиксы характерны для ряда языков так называемого балтийского ареала; см. также [Ureland 1977:302; Dahl & Koptjevskaja-Tamm 1992: 21–24].
В языках Европы можно усмотреть определенные ареалы преимущественно медиальных и преимущественно анафорических средств выражения реципрокальности. Так, при сопоставлении ситуации в польском (и шире — в западно-славянских) и скандинавских языках бросается в глаза контраст в развитии способов выражения реципрокальности. В польском языке при «живом» способе выражения этого значения клитикой się появляется еще один способ — полное рефлексивное местоимение siebie, которое конкурирует с клитикой в выражении рефлексивного и реципрокального значений; ср. (3). Что же касается скандинавских языков, которые утратили постфикс — s/-st как показатель этих двух значений, то они «отказались» использовать рефлексивное местоимение sig/seg в «освободившейся» реципрокальной нише[69], хотя это местоимение и смогло развить ряд значений, характерных для медиального показателя. Для реципрокальности же стало использоваться специализированное местоимение типа шведского varandra, что в общем соответствует картине, наблюдаемой во многих других индоевропейских языках. Эта картина вписывается в более общую картину утраты продуктивности реципрокального значения или вообще показателя медиальности в направлении (упрощая картину) с юга на север и с запада на восток Европы[70].
3.2. Медиальный показатель имеет рефлексивное и реципрокальное значения
В этом случае различаются два подтипа по характеру продуктивности реципрокального значения.
3.2.1. Реципрокальное значение непродуктивно (в таких случаях в тех же языках, видимо, непродуктивным будет и рефлексивное значение того же показателя). В зависимости от языка число реципроков может варьировать от нескольких дериватов (ср. реципроки с постфиксом s- в норвежском) до многих десятков. Возможно, эти цифры коррелируют с количеством непродуктивных рефлексивов (ср. число реципроков и рефлексивов в русском и литовском языках: 40 и 200 и 160 и 290 соответственно; см. [Королев 1968: 4: 10; Geniušiene 1987: 75]). Основным является то, что это закрытый класс и новые дериваты не образуются[71]. Например (приводятся глаголы с одинаковым лексическим значением):
(28)[72]:
По признаку рефлексивного и реципрокального значений эти дериваты обычно дополнительно распределены относительно исходных основ, что отражено в данных примерах. Таким образом, полисемия на уровне одной формы здесь не наблюдается, в отличие, например, от полисемии, показанной в (3), (9), (24б) и (зов).
3.2.2. Реципрокальное значение продуктивно. Сюда относятся польская рефлексивная местоименная клитика się, немецкое рефлексивное местоимение sich, французская рефлексивная местоименная клитика se (последние два показателя заменяются личными местоимениями в 1-м и 2-м лицах; см. (30д), (30е)):
Польский [Wiemer 1999: 304]
(29) Magda i Marta lubify się
i. «Магда и Марта нравились друг другу» (предпочтительное прочтение).
ii. «Магда и Марта нравились себе».
Сходная ситуация и в немецком языке[73]:
Немецкий:
(30a) Sie liebte iha
«Она любила его»;
(30б) Sie liebte sich
«Она любила себя»;
(30в) Sie liebten sich
i. «Они любили друг друга» (предпочтительно).
ii. «Они любили себя».
Контекст может исключать неоднозначность:
(30 г) Sie lieben sich schon seit Jahren «Они давно любят друг друга»;
(30д) Wir lieben uns schon seit Jahren «Мы давно любим друг друга»;
(30е) Ihr liebt euch schon seit Jahren «Вы давно любите друг друга».
Такого рода образования при единственном числе подлежащего могут интерпретироваться, как правило, только рефлексивно (см. (24а), (30б)), если, разумеется, лексическое значение глагола допускает эту интерпретацию вообще (ср. неестественность предложения Er grüßt sich «Он приветствует себя», а также других глаголов из (31а) при их употреблении с подлежащим в единственном числе; ср. (25) выше). Реципрокальное значение возможно, естественно, только при множественном числе подлежащего, хотя допустима и рефлексивная интерпретация; ср. (29б), (зов). (Особый случай — конструкция А целуется с B, производная от конструкции А и В целуются) При этом условии, однако, по прагматическим причинам значительно преобладает реципрокальная интерпретация (что уже отмечалось выше, в 2.1.1). Информанты дают такую интерпретацию для 480 немецких образований с sich, предъявленных им в предложениях со множественным числом подлежащего [Wiemer, Nedjalkov, в печати]:
(31а) 76 % этих образований интерпретируются преимущественно или только как реципрокальные; например: sich umarmen «обниматься», sich grüßen «приветствовать друг друга», sich necken «дразнить друг друга», sich unterstützen «поддерживать друг друга», sich jagen «бежать друг за другом», sich ignorieren «игнорировать друг друга»;
(31б) 10 % интерпретируются преимущественно или только как рефлексивные, ср. sich putzen «чиститься, чистить себя», sich loben «хвалить себя», sich verletzen «пораниться», sich waschen «мыться», sich eincremen «намазываться кремом»[74];
(31в) 14 % интерпретируются равновероятно как реципрокальные и рефлексивные: sich achten «уважать друг друга» и «уважать себя», sich umbringen «губить друг друга» и «губить себя», sich ablecken «облизывать друг друга» и «облизывать себя», sich unterschätzen «недооценивать друг друга» и «недооценивать себя», sich bestaunen «любоваться друг другом» и «любоваться собою», sich anfassen «ощупать друг друга» и «ощупать себя».
Актуализация реципрокального значения (в чем может нуждаться почти каждый четвертый дериват из числа учтенных в (31), т. е. дериваты из (31б) и (31 в)) может происходить с помощью реципрокальных уточнителей, которые сами по себе не могут выступать как показатели реципрока, например, gegenseitig в немецком (употребляется только при глаголах с sich).
(32а) Sie achten sich «Они уважают себя/друг друга»;
(32б) Sie achten sich gegenseitig «Они взаимно уважают друг друга»;
(32в) *Sie achten gegenseitigлит. «Они взаимно уважают».
3.3. Медиальный показатель имеет реципрокальное значение, но не имеет рефлексивного
Такие показатели, видимо, более редки, чем рефлексивные или рефлексивно-реципрокальные, рассмотренные в разделах 3.1 и 3.2. Те относительно немногочисленные случаи, которые отмечены в литературе, говорят о том, что спектр медиальных значений не выходит за пределы, отмеченные в 2.2; см., в частности, пример (13) из тоабаита и дериваты с префиксом v- из дулонг/раванг в разделе 4.1.
4. Распределение языков по признакам (а) раздельного или совместного употребления медиальных и анафорических показателей и (б) рефлексивно-реципрокальной полисемии
Как отмечалось в специальной литературе (см., например, [Kaze-nin 2001: 916–917]), традиционное раздельное рассмотрение этих двух типов показателей (у Казенина речь идет о глагольных и анафорических реципроках) неэффективно, а попытки установить отношения между ними в языках, где используются оба типа показателей, весьма немногочисленны[75]. Здесь, а также в разделе 5, рассматриваются некоторые аспекты соотношения названных показателей.
В настоящем разделе рассматриваются дериваты от двухместных транзитивов, т. е. от глаголов, значительно преобладающих над трехместными транзитивами и двухместными интранзитивами в языках мира (о реципроках, образованных от других глаголов, см. 5.1.2)[76].
Перечисляемые ниже 8 типов языков (см. 4.1.1—4.3.2.3) получены на основе следующих признаков:
1) наличие в языке медиальных и/или анафорических средств выражения рефлексивности и реципрокальности по этому признаку выделяются (а) языки только с медиальными (см. 4.1.1— 4.1.2) или только с анафорическими (см. 4.2.1—4.2.2), (б) а также с обоими типами показателей (см. 4.3.1—4.3.2.3).
2) Раздельное или совмещенное выражение рефлексивности и реципрокальности. Поскольку каждый из обоих типов показателей может выражать эти значения как раздельно, так и совмещение, то для языков группы (а) из пункта 1) возможны четыре типа комбинаций:
а1) медиальные показатели с раздельным (см. 4.1.1) или совмещенным (см. 4.1.2) выражением этих значений;
а2) анафорические показатели с раздельным (см. 4.2.1) или совмещенным (см. 4.2.2) выражением этих значений.
Что же касается группы (б), то для нее зафиксированы такие комбинации:
б1) языки с рефлексивно-реципрокальной полисемией медиальных показателей (см. 4.3.1 и 4.3.2.1);
б2) языки с раздельным выражением рефлексивности и реципрокальности анафорическими показателями (см. 4.3.2.2 и 4.3.2.3)[77]
3) Возможность совместного употребления медиального и анафорического показателей. Среди языков, имеющих оба типа показателей, выделяются два подтипа: в одних эти показатели не могут выступать одновременно (см. 4.3.1), в других же — могут (см. 4.3.2.1—4.3.2.3), при этом роль каждого их этих показателей в разных языках может быть различной в плане доминирования.
4) Признак доминирования медиального или анафорического показателя. По этому признаку выделяются три случая:
а) основной показатель — медиальный (см. 4.3.2.1),
б) основной показатель — анафорический (см. 4.3.2.2.) и
в) оба показателя используются одновременно как сложный показатель (см. 4.3.2.3).
По всем этим признакам даже близкородственные языки могут резко различаться. В целом, картина здесь исключительно пестрая: налицо удивительное разнообразие комбинаций названных показателей и значений.
Проиллюстрирую 8 конечных типов языков, выделенных по названным признакам, но предварительно замечу, что за исключением случаев, рассматриваемых в разделах 4.1.1 и 4.2.1, рефлексивное и реципрокальное значения выражаются совмещению, т. е. одним показателем (см. (34) — (36), (40), (41), (42а, б), (45б), (46а)) или же их показатели содержат общий признак — медиальную форму глагола (ср. (39б), (48б), (49) и (52)).
4.1. Языки только с медиальными показателями
Этот тип отмечен в языке дулонг/раванг[78] (тибето-бирманская семья): показатель реципрока — интранзитивирующий префикс v-, а показатель рефлексива — суффикс — shi-; примеры (реципрок в (33б) лексикализован):
(33а) vdip- «ударить» → vdip-shi- «ударить себя»;
(33б) shvt- «бить, убить» → v-shvt- «ссориться, драться».
Префикс v- имеет также и антикаузативное значение, а суффикс shi- посессивно-рефлексивное, а также автокаузативное, абсолютивное и другие значения [LaPolla 2000: 288–296]; ср. соответственно:
Такая ситуация отмечена в языке хишкарьяна (карибская семья), где медиальным показателем является префикс е-, os-, ot-, as-, at-; ср.:
Хишкарьяна [Derbyshire 1979:62–63]; — о- = эпентический гласный)
(34) os-o-х natxhe
себя/друг. друга-о-желать они. суть
i. «Они любят себя»
ii. «Они любят друг друга».
Этот показатель имеет также и автокаузативное значение:
(35) k-e-ramano «я (= k-) повернулся»).
Помимо рефлексивного, реципрокального и автокаузативного значений, медиальный префикс может иметь также пассивное и антикаузативное значения (в скобках даны английские переводы оригинала):
(36) n-os-ompamnohyatxoko…
i. «они обучали себя» («they taught themselves (Portuguese)»)
ii. «они учили друг друга»
(«they taught each other (Portuguese)»)
iii. «они обучались (кем-то)» («they were taught (Portuguese)»)
iv. «они учили, (что-н.)» («they learnt (Portuguese)»).
4.2. Языки только с анафорическими показателями
Чаще всего в этой функции выступают синтаксические показатели, реже морфологические.
Это имеет место, например, в чукотском языке, где два реципрокальных анафорических показателя (суффикс — вылг и место-имение ыргичгу; см. (6)) и один рефлексивный — слово увик букв. «тело», см. [Nedjalkov 1976: 190]. Другим языком, где есть только анафорические показатели, является айнский с двумя префиксами — рефлексивным и реципрокальным (см. 2.1.2 выше). Этот жетип представлен в языках английском и малаялам (дравидийская семья).
В английском языке, как известно[79], есть изменяемое по числам и лицам многозначное рефлексивное местоимение myself/yourself/himself/herself/itself/ourselves/yourselves/themselves[80], а также однозначные не изменяемые по лицам реципрокальные местоимения each other, one another:
(37a) They are hitting him «Они бьют его» → They are hitting themselves «Они бьют себя»;
(37б) They are killing him «Они убивают его» → They are killing each other «Они убивают друг друга»
В малаялам этот тип показателей представлен особенно богато.
Здесь показатели только с рефлексивным и только реципрокальным значением представлены следующим образом.
(38в) Имеются также пять реципрокальных наречий — anyoo-nyam букв, «другой-другой», tammil «в/среди них», tammil-tammil «в них-в них», aŋŋooţum iŋŋooţţum «эта дорога-та дорога»), parasparam «взаимно» [Jayaseelan 2000: 119; Asher & Kumari 1997:168]. Вот примеры:
Малаялам [Asher & Kumari 1997:121–122]
(39б) awar aŋŋooţţum-iŋŋooţţum kaņd¸u
они эта. дорога-та. дорога увидели
«Они увидели друг друга».
По количеству таких показателей малаялам, видимо, имеет мало соперников[81]. В этом языке характерно заметное преобладание числа реципрокальных показателей над рефлексивными; ср. (а) с (б) и (в) в (38). Обратная пропорция показателей в каком-либо языке, скорее всего, менее вероятна.
Это отмечено в языке цутухил (семья языков майя), где релятивное рефлексивно-реципрокальное имя ii? изменяется по лицам и числам (w-ii? «себя-1 л. ед. ч.», aaw-ii? «себя-2 л. ед.ч.», r-ii? «себя-3 л. ед.ч.», q-ii? «себя/друг друга-1 л. мн.ч.», eew-ii? «себя/друг друга-2 л. мн. ч.», k-ii? «себя/друг друга-3 л. мн. ч.»); ср.:
Цутухил [Dayley 1985:153]:
(40) Jar aachi?aa? x-ki-kamsaj k-ii?
арт. люди прош.-3. мн. — у бить 3. мн. — себя/друг, друга
i. «Люди убили себя»
ii. «Люди убили друг друга».
К этому же типу относится и рефлексивно-реципрокальный суффикс — iwša-/-wiš- в языке викчамни (пенутианская семья); например:
(41) tha-ŋi thihin toyox-wiš-at
i. «Они лечат себя этим».
ii. «Они лечат друг друга этим» [Gamble 1978:49,56].
Еще одним примером этого типа может служить рефлексивно-реципрокальная клитика, изменяемая по лицам и числам, а в 3 л. и по родам, xucucun 3. мн. ч. м. р. «себя, друг друга» в языке вари (аравакская семья) [Everett & Korn 1997: 191].
4.3. Языки с обоими типами показателей
Так, например, обстоит дело в литовском, восточнославянских, западнославянских языках, в частности в польском, где реципроки с się не сочетаются с siebie и jeden drugiego, ср.:
Польский (ср. (23), (29); в (а) предпочтительно реципрокальное прочтение, а в (б) рефлексивное; (г) правильно, но немного искусственно)
(42а) One lubily się «Они нравятся (себе)/друг другу»;
(42б) One lubily siebie «Они нравятся себе/(друг другу)»;
(42в) *One lubily się siebie —
(42 г) One lubily jedna druga «Они нравятся друг другу»;
(42д) *One lubily się jedna druga —
Аналогичная ситуация и в немецком, где реципроки с sich не сочетаются с реципрокальным местоимением einander; ср.:
Немецкий; ср. (30):
(43а) Sie Iieben sich «Они любят себя / друг друга»;
(43б) Sie lieben einander «Они любят друг друга».
(43в) *Sie lieben sich einander —
Любопытно отметить, что einander (развившееся к XII–XV вв. из сочетания типа einen den anderen «один другого»; см. [Grimm & Grimm 1862: 143]) и sich конкурируют в выражении реципрокальности со времени средневерхненемецкого периода [Lockwood 1968: 69f], выступая иногда совместно вплоть до XVII в. [Vemakelen 1861: 93; Behaghel 1923: 306]. В современном немецком языке такое совместное употребление (см. (43в)), не являясь нормативным, встречается в разговорной речи[82].
К сказанному следует добавить, что различия между показателями sich и einander стилистические: первый характерен для разговорной речи, второй — для письменной. Некоторые реципроки с местоимением einander звучат по сравнению с соотносительными реципроками с sich как возвышенные (gehoben) или даже напыщенные (gespreizt) [Berger et al. 1972: 544]. Кроме того, einander используется, когда образования с sich могут иметь не только реципрокальную интерпретацию [там же]. Существующее семантическое различие между обоими типами реципроков, обозначающих, соответственно, только одновременные действия обоих партиципантов или как одновременные, так и последовательные (ср., например, sich küssen «целоваться» и einander küssen «целовать друг друга», см. также [Недялков 1991:276–277]), довольно тонкое и в некоторых случаях несущественное. Об этом, в частности, можно судить по переводу английского глагола to kiss в значении «целоваться» с помощью немецкого einander, а не sich:
(44а) Cathleen bent down and Melanie tiptoed. They kissed (M. Mitchell)
(44б) Cathleen beugte sich herab und Melly erhob sich auf den Zehen-spitzen.und sie küfiten einander (пример из: [Wandruszka 1969:449])
«Кэтлин наклонилась, и Мелани приподнялась на цыпочках. Они поцеловались».
4.3.2.1. Основной показатель рефлексива и реципрока — медиальный. Так, например, обстоит дело во французском и болгарском языках с медиальными показателями se (s'- перед гласными) и се соответственно. Здесь анафорические показатели (соответственно l'un l'autre букв, «один другого» и един друг букв, «один другого») употребляются факультативно при глаголах с медиальным показателем, т. е. несамостоятельно — для снятия полисемии (ср. s'aimer «любить себя/друг друга») или плеонастически.
(45а) Jean aime Marie
«Жан любит Мари»;
(45б) Jean et Marie s'aiment
«Жан и Мари любят друг друга/себя»;
(45в) Jean et Marie s'aiment l'un l'autre
«Жан и Мари любят друг друга».
Анафорический показатель реципрока употребляется, за исключением особых случаев (см. (63) ниже), только при глаголах с медиальным показателем, но не наоборот, ср.:
(45 г) * Jean et Marie aiment l'un l'autre
букв. «Жан и Мари любят друг друга».
В случаях типа (45в) анафорический показатель фактически выполняет роль реципрокального уточнителя типа mutuellement «взаимно». Аналогично обстоят дела и в ряде других романских языков, например, итальянском и испанском, где аналогами l'un l'autre выступают местоимения l'un l'altro и unos a otros соответственно; ср.: *Amano l'un l'altro «(Они) любят друг друга», вместо Si amano или Si amano l'un l'altro; см. [Belletti 1982/1983: 127][83]. Аналогичные примеры из болгарского языка:
(46а) Те се гледат
«Они смотрят друг на друга/на себя»;
(46б) Те се гледат един друг
«Они смотрят друг на друга», но:
(46в) *Те гледат един друг
букв. «Они смотрят один на другого».
4.3.2.2. Основные показатели рефлексива и реципрока — анафорические. Здесь показательны два случая, представленные языками каннада и карачаевским. В каннада, как правило, медиальный показатель факультативно сопутствует обязательному анафорическому, и лишь при единичных глаголах возможно употребление медиального показателя без анафорического для выражения реципрокальности; см. (47а) и (47б).
В карачаевском языке медиальные показатели рефлексива и реципрока непродуктивны и образуют лишь относительно небольшие группы дериватов, иногда употребляясь одновременно с соoтветствующими анафорическими показателями (гораздо свободнее эти показатели выступают совместно в ряде других тюркских языков, например в якутском; см. (4) и (8в)). Замечу, что в отличие от других рассматриваемых здесь языков в карачаевском существует социативно-реципрокальная полисемия.
Вернемся к каннада. Поскольку в этом (и следующем) разделе используется материал дравидийских языков, кратко остановлюсь на медиальном показателе в ряде этих языков. Так, в каннада медиальная форма глагола, традиционно именуемая глагольным рефлексивом (verbal reflexive), образуется компонентом — koļ-(-koņ- в прош. вр.), традиционно именуемым reflexive auxiliary, который восходит к глаголу со значением «брать, получать» и присоединяется к форме причастия прошедшего времени [Gair et al. 2000: 23; Sridhar 1990: 118–127]. Исходное значение этой медиальной формы, видимо, рефлексивное, а в настоящее время, по мнению ряда исследователей, она образует рефлексивы только вместе с рефлексивным местоимением, см. (49). В других работах, однако, приводятся рефлексивы, выраженные только медиальной формой (но рефлексивное местоимение может быть факультативно добавлено); например, (tann-annu) hod¸edu-koļ- «ударить себя» [Lidz 2001: 348], (tann-age) koţţu-koļ- «дать себе что-либо» [там же: 345], приводится также форма bacchiţţu-koļ- «прятаться» (← bacchid¸- «прятать что-л.»), которая чаще толкуется как автокаузативная. Исследователи отмечают, что эта форма может выражать ряд значений, связанных с детранзитивацией исходного глагола и сопоставимых со значениями немецких форм с sich и французских с se. Из значений, характерных для медиальных форм, отмечено, в частности, антикаузативное, например: (mucch- «закрывать(-ся)» →) mucchi-koļ- «закрываться». Рефлексивное значение лучше всего сохранилось в бенефактивно-рефлексивных и посессивно-рефлексивных дериватах; ср. ogi- «стирать» → batte oge-du-koļ- «стирать (свою) одежду для себя», kannu-gal-annu teredu-koļ- «открыть (свои) глаза», tanna-a angiy-annu haridu-koļ «порвать (свою) рубашку».
Как только что отмечалось, медиальная форма без анафорического показателя может использоваться с очень ограниченным числом глаголов определенной семантики. Ниже следуют два таких примера. Значение глагола d¸ikkihod¸e-[84] в (47а) (в оригинале он переведен на английский как «dash against sth») предполагает контакт субъекта с другим предметом, т. е. своего рода ответную «реакцию» предмета.
Каннада [Bhat 1978:46;Tirumalesh 1994],цит. no[Lidz 2001: 337]
(47а) ka: ru mattu bassugaju d¸ikkihod¸edu-koņ-d¸u-vu
машина и автобусы мчаться-кон-прош.-З.мн.ср.р.
«Машина и автобус столкнулись друг с другом».
Глагол priitisu- «любить» в (47б) звучит, по мнению информантов, очень неудачно с рефлексивным местоимением (т. е. в значении «любить себя», хотя некоторые глаголы с близкими значениями легко сочетаются с этим местоимением), что, видимо, говорит об импликации ответного чувства в значении этого глагола.
(47б) ??hari tann-annu priitisu-koļļ-utt-aane
Хари сам-акк. любить-рефл. — непрош.-3.ед.м.
«Хари любит себя».
В реципрокальном же значении этот глагол может употребляться в медиальной форме и без реципрокального местоимения:
(47в) hari mattu rashmi priitisu-koļļ-utt-aare
Хари и Рамши любить-колл-непрош.-3.мн.м.р./ж.р.
«Хари и Рашми любят друг друга».
Основных и продуктивных способов передачи реципрокального значения два:
а) только анафорический показатель — местоимение obba-ranna obbaru «друг друга», букв, «одного один» (48а) и
б) реципрокалыгое местоимение одновременно с медиальным суффиксом — koļ-/-koņ- (48б), что подчеркивает одновременность действий обоих участников [Amritavalli 2000: 54].
Каннада [там же: 54]:
(48а) vara-vadhu obbaranna obbaru nood¸i-d¸-aru
жених-невеста один. акк. один. ном. смотреть. прош.-3.мн.
«Жених и невеста [по]смотрели друг на друга»;
(48б) vara-vadhu obbaranna obbaru
женнх-невеста один. акк. один. ном.
nood¸i-coņ-d¸-aru
смотр еть. прош. — кон-3.мн.
«Жених и невеста [по]смотрели друг на друга».
В отличие от реципрокального, рефлексивное значение, за несколькими исключениями, всегда передается рефлексивным местоимением при обязательной медиальной форме глагола[85]:
Каннада [там же: 110]:
(49в) raama tannannu [taanu] hod¸edu-kond¸-a
Рама сам. акк сам ударить-конД. прош.-3.ед.
«Рама ударил себя».
Теперь вернемся к карачаевскому языку. Здесь имеются два рефлексивных показателя (местоимение и суффикс) и два реципрокальных (также местоимение и суффикс); ср. [Nedjalkov 2002:19–25]. Рефлексивное местоимение кез-лери-н (сам-3.мн. — акк.) «они-себя» изменяется по числам, лицам и падежам, а реципрокальное местоимение бири-бири[-лери]-н (один-один-3.мн. — акк.) «они друг друга» — по лицам и падежам. Оба показателя однозначны.
Рефлексивный суффикс — н и реципрокальный — ш многозначны; так, например, помимо рефлексивного — н имеет также автокаузативное и антикаузативное значения, ср. соответственно:
Суффикс — ш помимо реципрокального имеет также антикаузативное и социативное значения; ср. соответственно:[86]
4.3.2.3. Медиальный и анафорический показатели употребляются, как правило, совместно. В данном случае налицо двухкомпонентный показатель реципрока. Это имеет место в языке телугу (дравидийская группа), где медиальные формы образуются таким же способом, что и в языке каннада, о котором только что шла речь.
Телугу [Subbarao & Lalitha 2000:226]:
(52а) vanaja tana-ni tanu pogad¸u-koņ-d¸-i
Ванаджа сам-акк. сам хвалить-кон-3,ед.
«Ванаджа хвалила себя».
(52б) waaļļu okaļļa-ni okaļļu tiţţu-kon-naa-ru
они один. акк. один. ном. ругать-кон-прош. -3.мнм./ж.
«Они ругали друг друга».
В грамматике телугу [Krishnamurti, Gwynn 1985: 206–208] приводится один медиальный рефлексив и несколько медиальных реципроков без соответствующего местоимения; эти дериваты относятся к той же семантической группе, о которой шла речь в тексте, относящемся к примерам (47а), (47б) в разделе 4.3.2.2; ср. poosu-kon «обливаться», koţţu-kon «избивать друг друга, драться», taguwulaad¸u-kon «сражаться друг с другом», pod¸ucu-kon «заколоть друг друга», maaţļaa4u-kon «разговаривать между собой». В этом языке продуктивно бенефактивно-рефлексивное значение; ср. ceesu-kon «делать, готовить что-л. для себя», konnu-kkon «покупать что-л. для себя», ammu-kon «продавать что-л. для своей пользы». Там же приводятся антикаузативы от транзитивов guccu «уколоть, вонзить» — guccu-kon «вонзиться», teruc «открыть» — terucu-kon «открыться» [там же: 208].
4.4. Континуум языков по признаку увеличения роли реципрокальных анафорических показателей
Можно ожидать, что названный признак предполагает в общем случае и ослабление роли медиальных показателей в том же значении. По этому признаку языки можно расположить в следующем порядке:
1) языки с медиальными показателями только, например хишкарьяна, см. (34);
2) языки с основным медиальным показателем, как французский и болгарский, см. (45), (46);
3) языки, где медиальный и анафорический показатели выступают только совместно, как в телугу, см. (52б);
4) языки, где основной показатель — анафорический, как в каннада, см. (48);
5) языки, где медиальный и анафорический показатели совместно не выступают, как в польском и немецком, см. (42в), (42д), (43в);
6) языки, в которых есть только анафорические показатели, например малаялам, см. (38), (39) (здесь медиальная форма имеет очень узкую сферу применения и не выражает реципрокальности; см. [Asher & Kumari 1997:165]), и английский, см. (37).
Особое место в языках занимают лексические реципроки, которые часто не сочетаются с анафорическими показателями, и медиальные формы которых нередко депоненты (как, например, tabbiko)- «обниматься» в каннада; см. [Amritavalli 2000: 55]).
В заключение напомню, что по признаку преимущественной стратегии маркировки рефлексивности и реципрокальности среди рассмотренных языков выделяются два типа языков, а именно, языки с медиальным показателем и языки с анафорическим показателем; см. также [Недялков 2000:114–116].
5. Медиальные и анафорические показатели реципрокальности и тип кореферентности
Здесь речь пойдет о возможности или необходимости употребления анафорического показателя вместо медиального и об интерпретации медиальной формы как рефлексивной или реципрокальной. Рассматриваются только основные случаи, при этом в сильно упрощенном виде. Реципрокальные конструкции перечисляются ниже в основном в порядке уменьшения синтаксического статуса члена предложения, кореферентного подлежащему.
5.1. Собственно реципроки (или «дистантные» реципроки)
Именно эти реципроки и рассматриваются в предыдущих разделах. Ниже будет продолжено их рассмотрение в названных выше аспектах, а также будут рассмотрены локативные («контактные») реципроки (см. 5.2).
Только в этом случае возможна полисемия, характерная для медиальных показателей, полисемия, выходящая за пределы рефлексивного и реципрокального значений (разумеется, не у каждого конкретного деривата). Подобная полисемия чаще всего связана с детранзитивирующей функцией медиального показателя (см. 2.2). Этим данный тип отличается от всех остальных рассматриваемых в разделе 5. Реципроки раздела 5.1 относятся к типам, рассмотренным выше в 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1 и 4.3.2.1, относительно остальных типов раздела 4 вопрос об интерпретации, естественно, не возникает, поскольку в них нет рефлексивно-реципрокальных показателей (имеются в виду разделы 4.1.1,4.2.1,4.3.2.2 и 4.4).
Значение исходного транзитива во многих (всех?) языках прагматически определяет вероятность рефлексивной или реципрокальной интерпретации деривата при его употреблении с множественным субъектом в нейтральном контексте. На материале немецких медиальных форм в (31) показаны три группы дериватов, интерпретация которых получена от информантов: предпочтительно (или только) с реципрокальной интерпретацией (см. (31а)), предпочтительно (или только) с рефлексивной интерпретацией (см. (31б)) или с равной вероятностью обоих прочтений; см. (31 в).
В группу (а) попадает около трех четвертей взятых глаголов, и только четверть глаголов в медиальной форме, т. е. группы (б) и (в), нуждается в контекстной актуализации реципрокального значения; см., например, (32б). Аналогичные три группы, видимо, могут быть установлены и в других языках, где существуют полисемичные медиальные формы. Если при этом в языке существуют оба показателя, медиальный и анафорический, между ними могут иметь место отношения конкуренции: употребляется или один, или другой — с некоторым различием или даже без явного различия, — либо они могут или должны употребляться совместно в зависимости от определенных условий, закономерностей, конкретного контекста. Проиллюстрирую сказанное на примере польского и немецкого языков, имеющих помимо медиальных форм и анафорические. При этом, как отмечалось выше, если в немецком языке анафорический показатель (т. е. einander) реципрокальный, то в польском один из анафорических показателей, а именно siebie, рефлексивно-реципрокальный, т. е., как и медиальный показатель się, может интерпретироваться как рефлексивно, так и реципрокально. Эта типологически интересная черта польского языка неоднократно привлекала внимание исследователей; см., например, [Frajzynger 1999: 130–135; Wiemer 1999: 330–313].
Медиальный się показатель во многих случаях может быть заменен на siebie при рефлексивном или реципрокальном значении и на jeden drugiego при реципрокальном значении (последний, будучи редким, не может служить серьезным конкурентом первым двум показателям [Wiemer, в печати]). Существуют, правда, определенные закономерности, регулирующие их выбор, достаточно тонкие и сложные, чтобы останавливаться на них здесь. Достаточно отметить, что иногда się и siebie взаимозаменимы, а иногда возможен только один показатель. Проиллюстрирую эти два, в определенном смысле крайних случая.
1) Медиальный и анафорический показатели выступают как синонимы при выражении рефлексивного и реципрокального значений. (53а)=(3) илюстрирует употребление się и siebie с одним и тем же глаголом в рефлексивном и реципрокальном значениях. В таких случаях, например в (53а), (53б), информанты могут иногда испытывать колебания при выборе показателя и определении предпочтительного прочтения (по мнению большинства информантов, при się предпочительно рефлексивное прочтение, а при siebie реципрокальное; В. Wiemer, р. с.):
(53а)=(3) Przyjaciele bronili się/siebie długo
i. «Друзья долго защищались/защищали себя»;
ii. «Друзья долго защищали друг друга»;
(53б) Przyjaciele bronili długo jeden drugiego
«Друзья долго защищали друг друга».
2) Медиальный показатель не может выражать рефлексивного или реципрокального значения в определенных дериватах. В частности, это может быть результатом полисемии медиального показателя, когда медиальная форма глагола закреплена в нереципрокальном (и нерефлексивном) значении. При таких основах единственным реципрокальным средством остается анафорический показатель siebie (или, реже, jeden drugiego). Вот один из таких случаев, где, правда, реципрокальное значение предиката с siebie требует контекстуальной поддержки и признается не всеми информантами. В (54а) единственное значение антикаузативное и реципрокальная интерпретация исключена. Рефлексивная интерпретация («разбудили себя») и в (54а), и в (54б) исключается по прагматическим причинам.
(54а) Przyjaciele obudzili się
i. «Друзья проснулись» (букв, пробудились)
ii. *«Друзья разбудили друг друга»;
(54б) Przyjaciele obudzili siebie
i. *«Друзья проснулись»
ii. «Друзья разбудили друг друга» (например, храпом).
Этот случай выражения реципрокального значения может быть также сопоставлен с употреблением siebie вместо если речь идет о нетипичных рефлексивных действиях [Haspelmath 1990: 43][87]. По мнению Б. Вимера [Wiemer 1999: 300], это наблюдение может быть распространено и на нетипичные реципрокальные действия. Но в данном случае помехой является, скорее всего, частотное употребление деривата в (54а) в антикаузативном значении. Об этом говорит, видимо, то, что немецкое соответствие данного польского деривата, по мнению некоторых информантов, допустимо в реципрокальном значении. Такую ситуацию можно связать с отсутствием антикаузативного значения у медиальной формы глагола aufwecken «будить». Дело в том, что немецкий медиальный показатель sich, который сохранил ббльшую самостоятельность и, кроме того, слабее развил антикаузативное значение (в частности, значение «просыпаться» передается не с помощью sich wecken, а нерефлексивными глаголами erwachen, aufwachen, wach werden)[88], может выражать реципрокальность при глаголе aufwecken «будить»; более того, в примере ниже употребление анафорического показателя einander даже признается менее удачным (уже по причине неупотребительности в разговорной речи местоимения einander в позиции прямого дополнения). Рефлексивная интерпретация отпадает по тем же причинам, что и в польском языке (В. Wiemer, М. Haspelmath р. с.):
(55а) Die Freunde weckten sich dauemd auf
i. *«Друзья все время просыпались»
ii. «Друзья все время будили друг друга» (напр., храпом)
iii. *«Друзья все время будили себя»:
(55б) Die Freunde weckten einander auf
«Друзья разбудили друг друга».
Здесь шла речь только об антикаузативном значении, препятствующем выражению реципрокального, но это может иметь место и при других значениях, например, автокаузативном и пассивном.
Под «не прямым дополнением» имеются в виду следующие три члена предложения: а) непрямое дополнение типа дативного, обычно непредложное (см. 5.1.2.1); 6) предложное дополнение (см. 5.1.2.2) и в) не дополнения, т. е. члены предложения, не предполагаемые лексическим значением исходного глагола. Во всех этих случаях полисемия медиальных показателей ограничена только двумя значениями — рефлексивным и реципрокальным. Заметное преобладание реципрокального значения над рефлексивным у дериватов с кореферентностью типа рассмотренной в 5.1.1 здесь заменяется еще большим преобладанием реципрокальной интерпретации в материале разделов 5.1.2.1 и 5.1.2.2 и преобладанием рефлексивной (точнее, рефлексивно-бенефактивной и рефлексивно-посессивной) интерпретации в материале раздела 5.1.2.3. Причины этому — прагматические; см., например, невозможность или маловероятность рефлексивной интерпретации в (56б) — (59).
5.1.2.1. Кореферентность подлежащего с непрямым дополнением. Имеются в виду непредложные дополнения — непрямое дополнение при дитранзитивах и непрямое дополнение при двухместных интранзитивах. Обычный способ оформления дополнения при глаголах этих двух типов — дательный или аблативный падеж (в зависимости от глагола) или семантически эквивалентные им формы. Реципрокальная интерпретация медиального показателя полностью господствует, и актуализация рефлексивного значения (там, где она возможна) требует контекстной поддержки. Характерно в этом отношении, что, например, как в немецком, так и в польском языках среди рассматриваемых образований практически нет таких, которые были бы предпочтительны с рефлексивным значением (т. е. таких, какими в 5.1.1 являются, например, sich waschen «умываться», sich putzen «чиститься», sich anziehen «одеваться» и т. д.; ср. (31б)). Медиальные показатели могут иметь форму дательного падежа (ср., болт, се (акк.) и си (дат.), чеш. se (акк.) и si (дат.)), в частности, омоморфную (только в 3 л. мн. ч.) с винительным падежом, как, например, в немецком и французском языках.
В некоторых языках, например в русском, литовском и польском, медиальный показатель не используется для обозначения кореферентности подлежащего и непрямого дополнения (есть исключение — бенефактивное дополнение в литовском; см. выше сноску 20), а используется анафорический показатель в соответствующем падеже (см. переводы примеров (56) — (62) для русского языка и польские примеры (59), (62)). Проиллюстрирую оба синтаксических класса глаголов[89].
1) Трехместные транзитивы. Сюда в основном относятся глаголы передачи (реже получения) предмета или информации; ср.:
Немецкий(56а) Sie erzählten uns lustige Geschichten
«Они рассказывали нам веселые истории»;
(56б) Wïr erzählten uns lustige Geschichten
«Мы рассказывали друг другу (*себе) веселые истории».
Болгарский(57) Те си правят подаръци
«Они делают друг другу (?себе) подарки».
Французский(58) Pierre et Marie se sont prêté des livres
«Пьер и Мари одалживают друг другу (*себе) книги».
Польский(59) Przyjaciele pożyczali sobie książki
«Друзья одалживали друг другу (*себе) книги».
2) Двухместные интранзитивы. Сюда относятся глаголы передачи информации, отношения, проявления эмоций и др.
Немецкий(60а) Sie winkten uns zu
«Они махали нам руками»;
(60б) Wir winkten uns zu
«Мы махали друг другу (*себе) руками».
Болгарский(61) Те си помагат
«Они помогают друг другу/?себе».
Польский(62) Przyjaciele wierzyli sobie
«Друзья доверяли друг другу/?себе».
5.1.2.2. Кореферентность, включающая периферийные способы обозначения дополнения и подлежащего. В этих случаях отмечено преобладание или даже исключительное употребление анафорических показателей. Семантически глаголы этой группы примыкают к двухместным интранзитивам из группы 2) предыдущего раздела.
1) Кореферентность подлежащего и предложного дополнения[90]. В рассматриваемом случае медиальные показатели практически не употребительны, поскольку, будучи клитиками, обычно не сочетаются с предлогами (а при аффиксах этот вопрос вообще не возникает); ср.:
Французский; ср. [Kayne 1975: 355–364](63а) Jean compte sur Marie
«Жан рассчитывает на Мари»;
(63б) Ils comptent l'un sur l'autre
«Они рассчитывают друг на друга»;
(63в) *Ils se comptent
«Они рассчитывают друг на друга»
(63 г) *Ils se comptent l'un sur l'autre
«Они рассчитывают друг на друга».
Польский(64а) Przyjaciele mrugali do siebie
«Друзья кивали друг другу»;
(64б) Przyjaciele czekali na siebie/*na się
«Друзья ждали друг друга».
2) Кореферентность неноминативного (и неэргативного) подлежащего с не прямым дополнением. Этот тип встретился пока только в тех дравидийских языках, которые имеют так называемые глагольные рефлексивы (см. 4.3.2.2). Он включает в себя конструкции с дативным подлежащим[91]. При таком подлежащем (нередко с семантической ролью экспериенцера; конструкции эти характерны, в частности, для эмотивных глаголов) в языках каннада, тамильском и телугу медиальная форма сказуемого невозможна; глагол в медиальной форме согласуется только с субъектом в номинативе. Привожу соответствующий пример из телугу (напомню, что в реципроках от транзитивов медиальный показатель в телугу обязателен; см. 4.3.2.3).
Телугу: [Subbarao & Lalitha 2000:227]
(65а) maaku raama miida koopam wacc-in-di
мы.дат. Рама на злость прийти-прош. — З л.
«Мы разозлились на Раму»;
(65б) maaku okałła miida okałła-ki koopam wacc-in-di
мы.дат. один на один-дат. злость прийти-прош. — З л.
/*waccu-kond-i
/прийти-рефл. прош-согл.
«Мы разозлились друг на друга»[92] Ср. также \Lidz 2001: 316].
5.1.2.3. Кореферентность подлежащего с бенефактивным дополнением или посессивным определением. В обеих конструкциях, подчас трудно отличимых друг от друга, нередко употребляется тот же показатель, что и у реципроков, образованных от глаголов с непрямым дополнением (см. 5.1.2.1). В этих конструкциях, в отличие от обоих ранее рассмотренных типов, почти полностью преобладает рефлексивная интерпретация. Реципрокальная интерпретация требует обычно контекстной поддержки.
1) Бенефактивные конструкции. В (66б) предпочтительна бенефактивно-рефлексивная интерпретация. Добавление в (66в) местоимения един на друг (где предлог на эквивалентен дательному падежу местоимений) или наречия взаимно устраняет многозначность в пользу реципрокального значения.
Болгарский(66а) Те им купиха картините
«Они купили им картины»;
(66б) Те си купиха картините
i. «Они купили картины себе/для себя»
ii. «Они купили друг другу картины»
(66в) Те си купиха картините един на друг
«Они купили друг другу картины».
Польский(67) Przyjaciele kupovali sobie książki
«Друзья покупали себе (?друг другу) книги».
Немецкий(68) Norbert und Erika kauften sich Bücher
«Норберт и Ерика купили себе (?друг другу) книги».
Замена медиального показателя реципрокальным анафорическим может быть нежелательна по стилистическим причинам. Так, реципрокальная интерпретация (68) маловероятна, а замена sich на einander возможна главным образом в письменной речи и звучит «крайне стилизованно» (W. Abraham, р. с.; ср. также (44)).
2) Посессивные конструкции. В нейтральном контексте реципрокальное прочтение маловероятно, хотя и не исключается:
Немецкий(69а) Sie wuschen ihm das Gesicht
«Они умыли ему лицо»;
(69б) Sie wuschen sich das Gesicht
i. «Они умылись»
букв. «Они умыли себе лицо (каждый свое)»
ii. ?? «Они умыли лицо друг другу».
Польский(70) Piotr i Paweł myli sobie twarz
i. «Петр и Павел умывались»;
букв. «умывали себе лицо (каждый свое)»
ii.? «Петр и Павел умывали друг другу лицо».
Французский(71) Nous nous sommes teint les cheveux (l'un l'autre)
i. «Мы покрасили себе (*друг другу) волосы»
(без слов в скобках)
ii. «Мы покрасили друг другу волосы»
(со словами в скобках).
Хотя, как отмечалось, в посессивных конструкциях господствует рефлексивная интерпретация, за некоторыми дериватами закреплена реципрокальная интерпретация. Так, в (72а) реципрокальная интерпретация более вероятна, чем рефлексивная, а в (72б) налицо устойчивый реципрокальный дериват, при котором добавление анафорического показателя с тем же значением вообще невозможно.
(72а) Elles se sont pris aux cheveux
«Они вцепились друг другу в волосы»;
(72б) Les deux amis se sont serrés la main (*l'un à l'autre)
«Оба друга пожали (друг другу) руки».
5.2. Локативные («контактные») реципроки
Соотношение собственно реципроков с локативными можно проиллюстрировать предложениями (73) с одной стороны и (74) и (75) с другой. В (74б), как и в (73б), налицо субъектные реципрокальные конструкции, т. е. конструкции с антецедентом-подлежащим. А в (75б) налицо объектная реципрокальная конструкция, т. е. конструкция с антецедентом-дополнением (см. также (5в)). Замечу попутно, что между типами (74) и (75) при однокоренных предикатах существуют каузативные отношения (ср. присоединиться — > присоединить).
(73) а'. X любит Y + а''. Y любит Х=б. Х и Y любят друг друга;
(74) а'. X присоединился к Y + а''. Y присоединился к X = б. X и Y присоединились друг к другу/ — X и Y соединились друг с другом/вместе;
(75) а'. А присоединил Х к Y +[93] а''. А присоединил Y к Х = б. А присоединил Х и Y друг к другу/- А соединил (вместе[94]) X и Y.
Между субъектными собственно-реципрокальными конструкциями типа (73б) и субъектными локативно-реципрокальными конструкциями типа (74б) существуют близость и промежуточные случаи. Эта близость может проявляться не только в одинаковых морфологических показателях, но и в одинаковых синтаксических конструкциях. Возможность или необходимость употребления в одном языке одного и того же показателя (в данном случае местоимения друг друга), как в (73б), так и в (74б) и (75б), говорит об их смысловой близости, об определенном сходстве отношений между X и У в собственно-реципрокальных и локативно-реципрокальных конструкциях[95].
Об этом же свидетельсвует, например, употребление собственно-реципрокального префикса и- в айнском языке для всех трех типов русских конструкций из (73) — (75). Этот суффикс однозначно реципрокальный, т. е. по принятому здесь определению это анафоричесий показатель.
Предварительно замечу, что в айнском языке нейтральный порядок слов SO1[O2]V; падежи отсутствуют; сочинение имен выражается их простым соположением бессоюзно; ниже в (78а', а'') прямое дополнение предшествует косвенному; глагол не имеет временных форм, он согласуется с подлежащим и прямым объектом; в 3-м л. нулевой показатель согласования; см. [Tamura 2000: 25, 36, 51–52; 1990: 79–80]. Глагольные формы в (76) — (78) заимствованы из [Tamura 1996: 815–816; 765; 636–637,339,763].
Глагол в (76а'), (76а'') имеет значение «любить (только о мужчине и женщине)». В (77а'), (77а'') глагол также двухместный транзитив; (77б) — локативно-реципрокальная конструкция. В (78а'), (78а'') глагол является трехместным транзитивом (это аппликатив от двухместного транзитива sina «завязывать что-л.»), и в (78б) налицо семантически трехместный (но синтаксически всегда двухместный) локативный реципрок[96].
В этом типе полностью преобладают анафорические показатели. По характеру кореферентности (антецедент-подлежащее или антецедент-дополнение) различаются, как только что отмечалось, два основных подтипа.
а) В первом подтипе исходное подлежащее кореферентно исходному предложному дополнению (обстоятельству), обозначающему цель движения или место фиксации (по признаку кореферентности подлежащего с неподлежащим этот тип совпадает со всеми выше рассмотренными конструкциями, при наличии промежуточных случаев).
б) Во втором подтипе кореферентность наблюдается
i) между прямым дополнением и косвенным дополнением, обозначающим место фиксации или контакта (при значении соединения) или же
ii) в более сложном случае (при значении разъединения) референт прямого дополнения, обозначающего целое, состоящее из
однородного материала, распадается на относительно одинаковые части.
Иными словами, сюда относятся глаголы двух семантических классов: соединения и разъединения, включая и мысленно производимое соединение или разъединение.
Таким образом, в отличие от медиальных реципроков, у которых симметричные единицы могут быть выражены, как правило, только подлежащим, у рассматриваемых образований они могут быть выражены не только подлежащим (см. (79 г)), но также и объектом (см. (81 в), (81 г) и (82))[97]. У собственно реципроков это возможно лишь при каузации субъектных реципрокальных конструкций (типа Он заставил их обняться). Проиллюстрирую дополнительно оба синтаксических подтипа локативных реципроков.
Это имеет место при исходных глаголах движения. Медиальные показатели, за исключением особых случаев, не употребляются.
(79а) Pierre court vers Marie
«Пьер бежит навстречу Мари»;
(79б) Marie court vers Pierre
«Мари бежит навстречу Пьеру»;
(79в) Pierre et Marie courent l'un vers l'autre
«Пьер и Мари бегут навстречу друг другу»;
(79 г) *Pierre et Marie se courent l'un vers l'autre.
В отношении употребления анафорических показателей здесь налицо та же картина, что и у собственно реципроков с предложным дополнением (см. 1) в 5.1.2.2). Как отмечалось выше, между этими типами имеются и промежуточные случаи.
Употребление здесь только анафорических показателей аналогично их же употреблению в 1) в 5.1.2.2. Различие состоит в том, что в последнем случае нет локативной семантики и, кроме того, иногда возможна замена реципрокального показателя рефлексивным; ср., например, возможное преобразование предложения (63б) в рефлексивное со значением «Они рассчитывают на себя».
Как уже отмечалось, во многих языках существуют деривационные средства, служащие в основном для образования локативных реципроков, в частности субъектных реципроков типа (79в). Вот пример из латинского языка, где таким средством является префикс con-/com-/…:
(80а) curro «бежать» → con-curro «сбегаться»
fluo «течь» → con-fluo «стекаться».
Он же может образовывать и объектные локативные реципроки:
(80б) glütino «(с)клеить» → con-glütino «склеить вместе»
coquo «кипятить» → con-coquo «кипятить что-л. вместе с чем-л.»
Этот показатель продуктивен и в образовании социативов, поскольку в их значении присутствует смысловой локативный компонент «вместе, в одном месте», т. е. они обладают сходством со значением локативных реципроков:
(80в) bibo «пить» → com-bibo «пить вместе»
rïdeo «смеяться» → cor-rïdeo «смеяться вместе».
С этим показателем есть лишь изолированные собственно реципроки, исходные основы которых в той или иной мере предполагают ответное действие; ср.:
(80 г) fligo «ударить» → con-fligo «драться, сражаться»
spondeo → con-spondeo
«давать клятву» «давать клятву друг другу».
Это имеет место при исходных трехместных транзитивах присоединения чего-л. к чему-л. или отсоединения чего-л. от чего-л. В широком смысле под присоединением имеется также в виду контакт одного предмета с другим, включая и ментальный, как это имеет место в следующем примере.
(81а) Er hat Peter auf Hans gehetzt
«Он натравил Петера на Ганса»;
(81б) Er hat Hans auf Peter gehetzt
«Он натравил Ганса на Петера»;
(81в) Er hetzte Peter und Hans aufeinander
«Он натравил Петера и Ганса друг на друга»;
(81 г) Er hat Peter und Hans aufeinandergehetzt
«Он натравил Петера и Ганса друг на друга».
Предлог (послелог и т. д.) и анафорический показатель — в частном случае реципрокальное местоимение, грамматикализуясь, имеют в некоторых языках тенденцию к сращению и превращению в реципрокальное наречие. Особенно это заметно при конкретно-пространственных, как в (82), а также при переносно-пространственных предлогах, как в (81). В немецком языке у этих наречий существует тенденция к превращению в глагольные превербы (дальнейшая грамматикализация), о чем, в частности, говорит их слитное написание с глаголом при контактной препозиции; ср. (81 в) и (81 г). Некоторые из таких наречий лексикализовались, т. е. не соотносятся с исходными предлогами, как, например, auseinander «в разные стороны, раздельно», но не «друг из друга»; см. (82 г), и durcheinander «вперемешку, как попало» и т. п., букв. «друг через/сквозь друга». Вот ряд локативных реципроков:
(82а) etwas an etwas fügen «подгонять что-л. к чему-л.»
→ etwas aneinanderfügen «подгонять что-л. друг к другу»;
(82б) etwas in etwas fügen «вставлять что-л. во что-л.»
→ etwas ineindanderfügen «вставлять что-л. одно в другое»;
(82в) etwas gegen etwas legen
«класть, помещать что-л. против чего-л.»
→ etwas gegeneinanderlegen
«класть, помещать что-л. друг против друга»;
(82 г) drücken «жать что-л./на что-л.»
-> etwas auseinaderdrücken «разжимать что-л.»
Своего рода типологическую (в семантическом плане) параллель этим немецким образованиям можно усмотреть в айнском языке (см. (77) — (78)), а также в адыгейском языке, где реципрокальный префикс зэ- (обычно маркирующий реципрокализацию подлежащего и косвенного дополнения; генетически он соотносится с рефлексивным показателем; ср. реципрок зэ-Iущэщэн «перешептываться»(← Iущэщэн «шептать») и рефлексив зы-тхьакIын «умываться» (← тхьакIын «мыть»)[98] присоединяются к пространственным глагольным превербам в глаголе (примеры взяты из [Водождоков 1960: 1029, 709, 912, 803, 540, 581]; см. также [Рогава, Керашева 1966: 274]). Сколько-нибудь употребительных реципрокальных местоимений типа русского друг друга в адыгейском языке, видимо, нет (во всяком случае, в подробных грамматиках они не отмечаются).
(83а) бдын «шить что-л.»
→ пы-дэн «пришить что-л. к чему-л.»
→ зэ-пы-бжэн «сшить вместе (соединить шитьем)»;
(83б) упкын «рубить что-л.»
→ пы-упкын «отрубить что-л. от чего-л.»
→ зэ-пы-упкын «перерубить, разрубить что-л.»
6. Заключение
Подчеркну основные моменты.
1) Различаются два основных типа выражения рефлексивного и реципрокального значений — анафорический (выражает лишь названные значения) и медиальный (выражает, помимо названных, также и некоторый набор иных значений). Это подразделение показателей не совпадает, хотя и заметно пересекается с подразделением на (про-)номинальные и глагольные средства выражения (см. раздел 2).
В языках, имеющих оба типа показателей, вероятность использования анафорических возрастает в следующей последовательности именных фраз, подлежащих реципрокализации: прямое дополнение — не прямое дополнение, а во втором случае— непредложное дополнение — предложное дополнение (см. раздел 5).
2) В семантическом и этимологическом планах реципрокальное значение по-разному соотносится со значениями рефлексивным, социативным и итеративным (перечислены в порядке предполагаемого уменьшения близости к реципрокальному): рефлексивный показатель может приобретать реципрокальное, реципрокальный — социативное, а итеративный — реципрокальное чаще, чем наоборот (см. 1.3.1—1.3.4).
При этом исходный показатель (а) либо сохраняет свою форму, (б) либо содержит дополнительный фонетический материал. Если показатели рефлексива и реципрока, с одной стороны, и реципрока и социатива, с другой, и итератива и реципрока, с третьей стороны, не совпадая полностью, пересекаются материально, то в случае (а) это будет рефлексивный показатель, в случае (б) — реципрокальный, а в случае (в) — итеративный (см. пункт 2) в разделах 1.3.1—1.3.3).
Рефлексивно-социативная полисемия предполагается возможной только при наличии у показателя также и реципрокального значения (см. 1.3.5).
3) В языках, имеющих анафорические и медиальные показатели, наблюдаются два основных пути эволюции этих показателей:
а) медиальный показатель становится основным, а анафорический приобретает свойства наречия. Теряя способность самостоятельно выражать реципрокальность или же сохраняя ее только с определенным классом глаголов (обычно лексических реципроков), он может сопровождать медиальный показатель плеонастически или же для снятия полисемии (французский и болгарский языки; см. 4.3.2.1);
б) анафорический показатель становится основным, а медиальный отходит на второй план. Зафиксированы такие случаи (дравидийские языки):
(i) медиальный показатель используется без анафорического с небольшой семантической группой глаголов (лексические реципроки; см. (47));
(ii) медиальный и анафорический показатели всегда выступают совместно (см. 4.3.2.3);
(iii) медиальный показатель факультативен при обязательности анафорического (см. (48));
(iv) используется только анафорический показатель (см. 4.2.1), а медиальный утрачен.
4) Огрубляя картину, можно утверждать, что в индоевропейских языках наблюдается тенденция к ослаблению или даже исчезновению реципрокального значения у медиальных показателей в направлении с запада на восток (западнославянские и балтийские языки) и с юга на север (северогерманские языки) (см. 3.1). В этих языках основную роль играют анафорические показатели типа друг друга. Здесь, видимо, показательно то, что скандинавские языки, утратив реципрокальное значение у постфикса, не использовали для этой цели рефлексивное местоимение seg, sig, которое получило ряд производных значений, в частности анти-каузативное; см. (27). К этой группе относятся языки балтийского ареала (Circum-Baltic), а также примыкающие к этому ареалу английский, нидерландский и кельтские языки. Относящийся к балтийскому ареалу польский [Dahl & Koptjevskaja-Tamm 2001: xix] резко отличается от всех, как кажется, языков этого ареала тем, что использует рефлексивные местоимения (как się, так и siebie) для выражения реципрокальности.
5) Основой для различения рефлексивного и реципрокального значений при совмещенном показателе является число: при единственном числе субъекта, естественно, возможна, за исключением особых случаев только рефлексивная интерпретация, при множественном числе — в зависимости от языка — либо только, либо преимущественно реципрокальная интерпретация; см. 2.1.1 и (31). Сказанное не касается языков, где рефлексивное и реципрокальное значения дополнительно распределены относительно исходных основ (см. 3.2.1).
6) Чем ниже синтаксический статус члена предложения, кореферентного с подлежащим, тем (а) чаще используется анафорический показатель и/или (б) более однородна интерпретация совмещенного медиального показателя, как реципрокального или рефлексивного. Так, около четверти медиальных дериватов, рассмотренных в 5.1.1, интерпретируются в нейтральном контексте как только или также рефлексивные, в 5.1.2.1 и 5.1.2.2 таких дериватов почти нет, а в 5.1.2.3 почти полностью преобладает рефлексивная интерпретация. В 5.2 вопрос интерпретации вообще снимается в связи с выражением пространственных или переносно-пространственных отношений.
Автор выражает глубокую признательность Л. Куликову, Е. Масловой и С. Саю за подробные и ценные замечания по первому варианту статьи. За замечания по одному из вариантов статьи автор благодарен Б. Вимеру и за помощь с дравидийским материалом Н. Гурову. Особая благодарность Э. Генюшене за повседневную помощь при написании этой статьи[99].
Литература
Аксенова И. С., Топорова И. Н. Введение в бантуистику: (Имя. Глагол). М., 1990.
Андронов М. С. Язык малаялам. М., 1993.
Апажев М.Л. и др. Кабардинско-русский словарь. М., 1957
Берков В. П. Рефлексивы в скандинавских языках // Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках / Ред. В. П. Недялков и др. Калинин, 1985.
Водождоков X. Д. Русско-адыгейский словарь. М., 1960.
Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.
Иохельсон В. И. Одульский (юкагирский) язык // Языки и письменность народов Севера / Ред. Я. П. Алькор. Ч. III. М.; Л., 1934.
Карданов Б. М., Бичоев А.Т. Русско-кабардинско-черкесский словарь. М., 1955.
Князев, Ю. П., Недялков В. П. Рефлексивные конструкции в славянских языках // Ред. В. П. Недялков и др. Калинин, 1985.
Королев Э. И. Количественные характеристики смысловых классов возвратных глаголов. 1968; [неопубл. рукопись].
Недялков В. П. Типология рецессивных конструкций: Рефлексивные конструкции // Диатезы и залоги: Тезисы конференции. Л, 1975.
Недялков В. П. Типология взаимных конструкций // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб., 1991.
Недялков В. П. Заметки о немецких реципрокальных конструкциях // Язык и речевая деятельность. СПб., 2000. Т. 3. Ч. 1.
Недялков В. П., Сильницкий Г. Г. Типология морфологического и лексического каузативов // Типология каузативных конструкций: Морфологический каузатив / Отв. ред. А. А. Холодович. Л., 1969.
Пекарский Е. К. Словарь якутского языка. Т. 1–3. М., 1959 / 1-е изд. 1907–1930.
Просянкина А. В. Префиксальные номинации глаголов со значением «соединение» и «разъединение» в русском языке (на материале «Словаря современного русского литературного языка») // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках / Ред. В. М. Никитевич. Ч. 1. Гродно, 1989.
Рогова Г. В., Керашева З.И. Грамматика адыгейского языка. Краснодар, 1966.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1986.
Харитонов Л. Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.; Л., 1963.
Черемисов К. М. Бурятско-русский словарь. М., 1973.
Amritavalli R. Lexical anaphors and pronouns in Kannada // В. C. Lust, K. Wali, Y. W. Gair & К. V. Subbarao (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000
Asher R.E., Kumari Т. C. Malayalam. London; N. Y., 1997.
Bauer W. (with W. Parker and Т. K. Evans). Maori. London; N. Y., 1993.
Behaghel O. Deutsche Syntax. Bde I–II. Heidelberg, 1923–1924.
Belletti A. On the anaphoric Status of the Reciprocal construction in Italian // The Linguistic Review. 1982/1983. № 2.
Berger D., G. Drosdowski, P. Grebe, W. Müller (eds). Duden. Zweifelsfälle der deutschen Sprache. Bd 9. Mannheim, 1972 (2. Aufl.).
Bhat D. N. S. Pronominalization. Pune, 1978.
Capell A. A New Approach to Australian Linguistics [Handbook of Australian Languages, P. 1]. = Oceania Linguistic Monographs / General ed. Prof. A. P. Elkin; Eds: A. Capell, S. Wurm. Sydney: Univ. of Sydney, 1956 (2nd impression 1962).
Cassirer E. Philosophic der symboloschen Formen 1. Teil: Die Sprache. Berlin, 1923.
Crowley T. M. Uradhi // Dixon R. M. W., Blake B. J. (eds). Handbook of Australian Languages. Vol. 3. Canberra, 1983.
Dahl Ö., Koptjevskaja-Tamm M. Language typology around the Baltic sea: a problem inventory. Papers from the Institute of Linguistics University of Stockholm. Publication 61.1992.
Dahl Ö., Koptjevskaja-Tamm M. The Circum-Baltic Languages: Introduction to the volume // Dahl Ö., Koptjevskaja-Tamm M. (eds). The Circum-Baltic Languages. Typology and Contact. Vol. 2. Grammar and Typology. Amsterdam; Philadelphia, 2001.
Dammann E. Reziprok und Assoziativ in Bantusprachen // Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. 1954. Bd 104. Heft 1.
Davies W. D. Events in Madurese Reciprocals // Oceanic Linguistics. 2000. Vol. 39. № 1.
DayleyJ. P. Tzutujil Grammar. Univ. of California, 1985. (Univ. of California Publications in Linguistics. Vol. 107).
Dench A. Ch. Martuthunira. A language of the Pilbararegion of Western Australia. Canberra, 1995. (Pacific Linguistics. Series C).
Derbyshire D. C. Hixkaryana. Amsterdam, 1979. (Lingua Descriptive Studies. Vol. I).
Dixon R. M. W. The Dyurbal Language of North Queensland. Cambridge, 1972.
Dixon R. M. W. The Languages of Australia London, etc., 1980.
Dixon R. M. W., Aikhenvald A. Y. Introduction // Dixon R. M. W., Aikhen-vald A. Y. (eds). Changing Valency: Case Studies in Transitivity. Cambridge, 2000.
Evans N. A-Quantifiers and Scope in Mayali // Bach E., Jelinek E., Kratzer A., & Partee B. H. (eds). Quantification in Natural Languages. Netherlands, 1995.
Everett D., Korn B. Wari. London, 1997.
Faltz L. Reflexivization: A Study in Universal Syntax. Ph. D. Diss. Univ. of California, Berkeley, 1977.
FortM. C. Saterfriesisches WOrterbuch. Hamburg, 1980.
Fortescue A. West Greenlandic. London, 1984. (Croom Helm Descriptive grammars).
Frajzyngier Z. Domains of point of view and coreferentiality: System interaction approach to the study of reflexives // Frajzyngier Z., Curl T. S. (eds). Reflexives: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Gair J. W. Karunatillake W. S. Lexical anaphors and pronouns in Sinhala // Lust B. C., Wali K., Gair Y. W. & Subbarao K. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Gair J. W, Lust B., Subbarao K. V, Wali K. Inroduction to lexical anaphors and pronouns in selected South Asian Languages // Lust B. C., Wali K., Gair Y. W. & Subbarao K. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Gamble G. Wikchamni Grammar. Los Angeles, 1978.
Geniušienè E. The Typology of Reflexives. Berlin, etc., 1987.
Gerdts D. B. Combinatory restrictions on Halkomelem reflexives and reciprocals // Frajzyngier Z., Curl T. C. (eds). Reciprocals: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Givón T. Isomorphism in the grammatical code: cognitive and biological considerations // Studies in Language. 1991. Vol. 15. № 1
Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. Leipzig, 1854–1954.
Guentchéva Z., Riviére N. Reciprocal and reflexive constructions in French // Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of reciprocal constructions (in print).
Haiman J. HUA: A Papuan Language of the Eastern Highlands of New Guinea. Amsterdam, 1980.
Haiman J. Natural Syntax. Iconicity and erosion Cambridge, etc., 1985.
Haspelmath M. The grammaticalization of passive morphology // Studies in Language. 1990. Vol. 14. № 1.
Haspelmath M. A Grammar of Lezgian. Berlin; N. Y., 1993.
Heath J. A Grammar ofKoyra Chiini. Berlin; N. Y., 1999.
Heine B. Polysemy involving reflexive and recirpvoal markers in African languages // Frajzyngier Z., Curl T. C. (eds). Reciprocals: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Heine B., Kuteva T. Word Lexicon of Grammaticalization. Cambridge, 2002.
Horton A. E. A Grammar of Luvale. Johannesburg, 1949.
Iwasaki Sh. Japanese. Amsterdam; Philadelphia, 2002.
Jayaseelan K. A. Lexical anaphors and pronouns in Malayalam // Lust B. C., Wali K., Gair Y. W. & Subbarao K. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000
Kayne R. S. French Syntax. The Transformational Cycle. Cambridge, Mass.; London, 1975.
Kazenin K. I. Verbal reflexives and the middle voice // Haspelmath M., König E., Oesterreicher W. & Faible W. (eds). Language Typology and Language Universals. Vol. 2. Berlin; N. Y., 2001.
Kemmer S. The Middle Voice. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
Knjazev Ju. P. Expression of situational plurality in Russian and other Slavic languages // Xrakovskij V. S. (ed.). Typology of Iterative Constructions. Mtinchen; Newcastle, 1997.
Knjazev Ju. P. Towards a Typology of Grammatical Polysemy: Reflexive Markers as Markers of Reciprocity // Kulikov L., Vater H. (eds). Typology of Verbal Categories. Papers presented to Vladimir Nedjalkov on the occasion of his 70th birthday. Ttibingen, 1998.
Koehn E., Koehn S. Apalai // Derbyshire D. C., Pullum G. K. (eds). Handbook of Amazonian Languages. Vol. I. Berlin; N. Y.; Amsterdam, 1986.
König E., Siemund P. Intensifies and reflexives: A typological perspective // Frajzyngier Z., Curl T. S. (eds). Reflexives: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Kopečny F. Passivum, reflexivnf forma slovesn£ a reflexivni sloveso II Stude a prace lingvistické, 1. Praha, 1954.
Krishnamurti Bh., Gwinn J. P. L. A Grammar of Modem Telugu. Delhi, etc., 1985.
LaPolla R. J. Valency-changing derivations in Dulong/Rawang // Dixon R M. W., Aikhenvald A. Y. (eds). Changing Valency: Case Studies in Transitivity. Cambridge, 2000.
LaPolla R. J. with Huang Chenglong. Grammatical sketch of the Qiang language, with texts and annotated glossary. Berlin, to appear.
Lichtenberk F. A grammar of Manam. Honolulu, 1983. (Oceanic Linguistics. Special Publications. № 18).
Lichtenberk F. Multiple uses of reciprocal constructions // Australian Journal of Linguistics. 1985. Vol. 5. № 1.
Lichtenberk F. Reciprocals without reflexives I I Frajzyngier Z., Curl T. C. (eds). Reciprocals: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Luk J. The argument structure of verbal reflexives // Natural Language & Linguistic Theory. 2001. Vol. 19. Xs 2.
Liu Meichun. Reciprocal marking with deictic verbs come and go in Mandarin // Frajzinger Z., Curl T. S. (eds). Reciprocal Forms and Functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Lockwood W. В. Historical German Syntax. Oxford, 1968.
Lust В. С., Wali К., Gair Y. W, Subbarao К. V (eds). Lexical Anaphora and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, 1968.
MacDonald L. A Grammar of Tauya. Berlin; N. Y., 1990.
Marconnis F. S. J. A Grammar of Central Karanga. The Language of Old Monomotapa. As at present spoken in Central Mashonaland, Southern Rhodesia. Witwatersrand Univ. Press, 1931.
Maslova E. Reciprocals and set construal // Frajzyngier Z., Curl T. S. (eds). Reciprocals: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Maslova E., Nedjalkov V. P. Reciprocal constructions // Dreyer M. S., Haspelmath М., Gil D. & Comrie B. (eds). World Atlas of Language Structures. Oxford, in print.
McLendon S. A Grammar of Eastern Pomo. Berkeley, 1975.
Mistry P. J. Lexical anaphors and pronouns in Gujarati // Lust В. C., Wali K., Gair Y. W., Subbarao К. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Mithun M. The Languages of Native North America. Cambridge, 1999.
Moravcsik E. Reduplicative constructins // Greenberg J. H. (ed.). Universals of Human Language. Stanford, 1978. Vol. 3
Morphy F. Djapu, a Yolngu dialect // Dixon R. M. W., Blake B. J. (eds). Handbook of Australian Languages. Vol. 3. Amsterdam, 1983.
Moyse-Faurie C. Reciprocal, sociative, reflexive and iterative constructions in East Futunan (Polynesian group) // Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of reciprocal constructions (in print).
Muysken P. Quechua Causatives and Logical Form: a Case Study of Markedness // Belletti A. et al. (eds). Theory of Markedness in Generative Grammar. Pisa, 1981.
Nedjalkov V. P. Diathesen und Satzstruktur im Tschuktschischen // Satzstruk-tur und Genus verbi. Berlin, 1976. (Studia grammatica XIII).
Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of Resultative Constructions. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
Nedjalkov V. P. Karachay-Balkar reciprocals // Turkic Languages. 2002. Vol. 6. № 1.
Nedjalkov V. P. Yakut reciprocals // Turkic languages. 2003. Vol. 7.
Nedjalkov V. P. Chukchi reciprocals (with an appendix on Koryak and Itel-men) H Tsunoda T, Nishimitsu Y. & Kageyama T. (eds). Voice and Grammatical Relations. Festschrift for Masayoshi Shibatani. Amsterdam; N. Y. (в печати).
Nedjalkov V P. (ed.). Typology of Reciprocal Constructions (in print).
Nedjalkov I. Evenki. London; N. Y., 1997.
Palmer F.R. The Verb in Bilin ZZ Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol. XIX. Univ. of London, 1957.
Patnaik M., Subbarao K. V An initial note on lexical anaphors and pronouns in Juang // Lust B. C., Wali K., Gair Y. W., Subbarao K. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Penchev J. Reciprocal and reflexive constructions in Bulgarian H Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of reciprocal constructions (in print).
Potter S. The Expression of Reciprocity ZZ English Studies. 1953. № 34.
Prentice D.J. Malay (Indonesian and Malaysian) ZZ Comrie B. (ed.). The World's Major Languages. London; Sydney, 1987.
Redden J. E. A Descriptive Grammar of Evondo. Carbondale, 1979. (Occasions Papers on Linguistics, No. 4).
Jteuland E. The fine structure of grammar. Anaphoric relations // Frajzyn-gier Z., Curl T. S. (eds). Reflexives: forms and functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Robins R. H. The Yurok Language: Grammar, Texts, Lexicon. Berkeley; Los Angeles, 1958.
Sapir E. Southern Paiute, a Shoshonean language ZZ Proceedings of the American Academy of Art and Sciences. 1930. Vol. 65. № 1.
Schladt M. The typology and grammaticalization of reflexives // Frajzyn-gier Z., Curl T. S. (eds). Reflexives. Forms and Functions. Amsterdam; Philadelphia, 1999.
Shibatani M. Passives and related constructions: a prototype analysis // Language. 1985. Vol. 61. № 4.
Shibatani M. The Languages of Japan. N. Y., etc.,1990. (Cambridge Language Surveys).
Sridhar S. N. Dative Subjects, Rule Govemement, and Relational Grammar /Z Studies in the Linguistic Sciences. 1976. Vol. 6. № 1.
Sridhar S. N. Kannada. London; N. Y., 1990.
Sterner J. K. Sobei verb morphology reanalyzed to reflect POC studies // Oceanic Linguistics. 1987. Vol. XXVI. № 1–2.
Stimm H. Medium und Reflexivkonstruktion im Surselvischen Mtlnchen, 1973.
Subbarao K.V., B. Laliiha M. Lexical anaphors and pronouns in Telugu // Lust B. C., Wali K., Gair Y. W., Subbarao K. V. (eds). Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages. Berlin; N. Y., 2000.
Swadesh M. Chitimacha // Linguistic Structures of Native America. Viking Fund Publications in Anthropology. N. Y., 1946. № 6.
Tamura S. The Ainu-Japanese Dictionary. Sara Dialect Tokyo, 1996.
Tamura S. The Ainu Language. Tokyo, 2000.
Taylor Ch. Nkore-Kiga. London, etc., 1985.
Tirumalesh K. V. The reflexive particle of Kannada: some observation // PILC Journal of Dravidic Studies. 1994. Vol. 4.
Tucker A. N., Tompo Ole Mpaayei J. A Maasai Grammar with Vocabulary. London; N. Y.; Toronto, 1955.
Ureland P. S. Some Comparative Aspects of Pronominal Cliticization in the Baltic Area // Salzburger Beitr&ge zur Linguistik. Akten der 2. Salzburger Frtihlingtagung fiir Linguistik. Tubingen, 1977.
van Staden M. Tidore: A Linguistic Description of the North Moluccas. Delft, 2000.
Vemakelen Th. Deutsche Syntax. Bd I. Wien, 1861.
Wandruszka M Sprachen vergleichbar und unvergleichlich. München, 1969.
Wiemer B. The light and the heavy form of the Polish reflexive pronoun and their role in diathesis // Böttger K., Giger M., Wiemer B. (Hrsg.). Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Bd 2. München, 1999.
Wiemer B. Reciprocal and reflexive constructions in Polish // Nedjal-kov V. P. (ed.). Typology of Reciprocal Constructions (in print).
Wiemer B., Nedjalkov V. P. Reciprocal and reflexive constructions in German // Nedjalkov V. P. (ed.). Typology of Reciprocal Constructions (in print).
Б. Ю. Норман
Возвратные глаголы-неологизмы в русском языке и синтаксические предпосылки их образования
М. Мерман. «Возвратная частица»
- Как вода в песок — имя существительное,
- Вслед за ним прилагательное просочится…
- А, коль не названы, то и вещь недействительная —
- Я, возвратная частица.
В славянских языках (как, впрочем, и в других индоевропейских) существует класс дериватов, образуемых присоединением к глаголу морфемы, исторически представляющей собой форму возвратного местоимения. Такие дериваты мы будем, следуя традиции, называть возвратными глаголами, а саму морфему (в разных славянских языках это — ся/-сь, — ся/-ца, се, se, sa, się — возвратной морфемой.
Своеобразие феномена возвратности в славянских языках заключается, с одной стороны, в том, что разные языки характеризуются разной степенью формальной слитности глагола и возвратной морфемы (что отражается на подвижности/неподвижности последней и других проявлениях ее относительной свободы). В этом смысле возвратные глаголы в русском и, скажем, в польском или словенском языках довольно сильно разнятся между собой. С другой стороны, в разных языках возвратным дериватам свойствен различный набор семантических функций. По существу, возвратная морфема в славянских языках способна регулярно передавать такие значения, как интранзитивность, имперсональность, пассивность, рефлексивность, реципрокальность, а также некоторые виды модальности (в частности, волитивность и дебитивность). Небезразлична она к передаче видо-временных значений, можно обнаружить у нее внутреннюю связь и с категорией лица и т. д. — однако, повторим, каждый язык «выбирает» из этого перечня свои функции и по-разному их ранжирует.
Разумеется, каким бы набором грамматических значений ни располагала возвратная морфема, она обязательно выполняет — в любом славянским языке — еще и словообразовательную функцию, участвуя в создании множества единиц с новым (отдельным) лексическим значением. Поэтому, строго говоря, следовало бы различать (что и делают многие авторы) возвратные формы (невозвратных глаголов), в которых возвратная морфема играет словоизменительную роль, и собственно возвратные глаголы, в которых присоединение возвратной морфемы служит созданию нового лексического значения. В конкретном случае возвратная форма и возвратный глагол могут быть омонимичны — хотя первая представляет собой единицу текста, ср.: Каждое письмо подписывается заведующим (здесь подписывается — форма глагола подписывать), а второй, с его полной парадигмой, составляет единицу словаря, т. е. языка, ср.: Заведующий подписывается под каждым письмом (здесь подписывается — форма глагола подписываться). Разграничение возвратной формы и возвратного глагола — необходимое условие для дальнейшего анализа интересующих нас дериватов.
Для современного русского языка наиболее общее значение, которое несет с собой возвратность, — это интранзитивность: присоединение — ся/-сь «запирает» канал прямой переходности, лишает глагол возможности сочетания с прямым объектом. При этом не важно, обладал ли производящий невозвратный глагол свойством переходности (обычно возвратные глаголы образуются от переходных) или не обладал (встречается и такое) и направляется ли эта сочетательная интенция в иное синтаксическое русло или просто «запрещается», исчезает. Результат один: возвратный глагол в русском языке, как правило, не может иметь при себе дополнение в винительном падеже. Исключения из этого правила крайне немногочисленны: это несколько глаголов типа бояться (собаку), слушаться (маму), дожидаться (Петю). Общая интранзитивирующая («онеперехоживающая») сущность возвратности в русском языке была отмечена более века назад
Н. П. Некрасовым, который писал: «Вообще наш язык смело приставляет ся к глаголу, как скоро мысль сосредоточивается главным образом на проявлении самого действия, а не на отношении этого проявления действия к своему предмету» [Некрасов 1865: 74]. Спустя столетие данный тезис был подтвержден и переформулирован А. В. Исаченко: по его определению, содержание возвратности — это «формально выраженная непереходность» [Исаченко 1960: 375]. Это значит, что возвратный глагол в грамматическом отношении отличается от «обычного» непереходного глагола лишь эксплицированным обозначением своей непереходности (по-другому невозможно ответить на вопрос, что же означает — ся в составе возвратного глагола). В пользу такого понимания возвратности говорят и многочисленные случаи синонимических отношений, наблюдаемых между возвратным и невозвратным глаголами, ср.: торопиться и спешить, пытаться и пробовать, смотреться и выглядеть, возмущаться и негодовать и т. п. — в грамматическом плане они различаются только формальной вы-раженностью/невыраженностью своего отношения к наличию (возможности) прямого объекта. Вместе с тем, было бы опрометчиво распространять вывод об интранзитивирующей сущности возвратности на материал всех славянских языков: в некоторых из них у возвратной морфемы просто нет единой, инвариантной функции. Исходя из этого факта американский славист А. Шенкер считает, что сути славянской категории возвратности более всего отвечает в европейской грамматической традиции медиум (или «средний залог»): здесь действие «сосредотачивается на грамматическом субъекте, совершенно безотносительно к его семантическим свойствам» [Schemker 1988: 372–373].
Необходимо отдавать себе отчет в том, что местоименное происхождение возвратной морфемы составляет лишь «факт биографии» возвратных глаголов как формального класса слов. Это значит, что данная подробность (отложившаяся в «генетической памяти» глагола в виде непереходности) составляет предмет исторического словообразования, и не более того. Для современного же русского языка возвратная морфема практически никак не связана с возвратным местоимением, а возвратные глаголы представляют собой самостоятельные, отдельные лексические единицы. Это понимал уже тот же Н. П. Некрасов: «С течением времени, получив в языке полную свободу присоединяться к каждому глаголу, она (морфема — ся. — Б. Н.) обнаружила особенное свойство русского глагола, потеряла значение возвратного местоимения себя, относившего действие к лицу действующему, утратила смысл винительного падежа и стала простою приставкою в конце, сделалась чисто образовательной формой русского глагола…» [Некрасов 1865: 70–71].
Правда, современные словари, особенно переводные (двуязычные), нередко описывают возвратные глаголы как «дочерние» лексемы соответствующих невозвратных глаголов. Скажем, глагол подниматься описывается в статье, посвященной глаголу поднимать, глагол крутиться — в статье, посвященной крутить, глагол разбираться — в статье разбирать и т. п. Но это отражает даже не столько этимологический аспект словообразования, сколько сложившуюся практическую, «типографскую» традицию в лексикографии. Для составителя (и издателя) словаря удобнее и проще подать невозвратный и возвратный глагол в одном абзаце. Но если семантическая структура возвратного глагола не совпадает с семантической структурой производящего слова (а в русском языке это встречается сплошь и рядом, ср. лексемы обойти и обойтись, занимать и заниматься, возить и возиться, пытать и пытаться и мн. др.), то становится очевидным, что помещение их в одну словарную статью приносит больше вреда, чем пользы. По той же причине — несовершенства лексикографической практики — возвратные глаголы редко фиксируются словарями новых слов и значений (хотя, как мы увидим далее, они составляют весьма важную и интересную часть лексических неологизмов).
Семантическая дивергенция возвратных глаголов, их «отход» от значения производящей лексемы на практике проявляется и в том, что реальные контексты, как правило, не допускают замены возвратного глагола сочетанием «невозвратный глагол + себя», так же как и наоборот. Иными словами, Береги себя! означает не то, что Берегись! Я не оправдываюсь — не то, что Я не оправдываю себя, Маша показала себя на вечеринке — не то, что Маша показалась на вечеринке, Сын готовит себя к профессии программиста— не то, что Сын готовится к экзаменам в вуз (любопытно, что тут обнаруживаются различия и в лексической дистрибуции!), Она держит себя в руках — не то, что Она держится молодцом (опять различная дистрибуция), и т. п.
Впрочем, существует подкласс так называемых собственновозвратных глаголов, по отношению к которым, казалось бы, можно было говорить о «возврате» действия на его субъект (мыться, бриться, одеваться, причесываться, сдерживаться и т. п.). Во всяком случае, в научной литературе весьма живучи представления о том, что именно в этих словах — ся означает «себя». Казалось бы, перед нами архаизм, объясняемый более всего авторитетом академической «Грамматики русского языка» 1952 года. Процитируем: «Суффикс — ся (-сь) имеет в этих глаголах значение „себя“ и является, таким образом, ясным выражением „возвращенное“ действия на самого производителя…» [Грамматика 1952: 418]. Однако подобная точка зрения встречается и в новейших работах. В частности, Н. Герритсен, анализирующая семантику возвратных глаголов с помощью набора глубинных падежей, считает, что в словах типа мыться возвратная морфема обозначает совпадение ролей агенса и пациенса [Gerritsen 1990: 10, 23 и др.]. По нашему убеждению, и по отношению к этим «прототипическим» возвратным глаголам следует говорить скорее о замкнутости действия в сфере субъекта (т. е. о его непереходности), чем о его направленности на субъект [Норман 1972: 94]. Разница, с нашей точки зрения, весьма существенная: речь идет о количестве актантов при образующем высказывание предикате. В частности, Я моюсь — это ситуация, исчерпываемая действием (предикатом) и его субъектом, никакого иного участника (объекта) здесь нет. Приведем также по данному поводу мнение автора обстоятельной монографии о возвратных глаголах в русском языке: «Неверно было бы полагать, что в этих случаях субъект действия возвратного глагола становится объектом этого же действия» [Янко-Триницкая 1962: 183].
И дело не только в том, что называемое глаголом действие не выходит за пределы субъекта. Оставаясь в сфере субъекта, оно по существу связывается с какой-то его частью, свойством или поступком. Для объяснения этого достаточно вспомнить, чтб именно выступает в качестве объекта соответствующих производящих (невозвратных) глаголов. Действительно, такие действия, как мыть, брить, одевать, сдерживать, оправдывать и т. п. чаще всего направлены не на человека как такового, а на какую-то его часть, свойства или действия: моют обычно руки, лицо, тело, бреют обычно бороду или усы, сдерживают эмоции (волнение, злость и т. п.), оправдывают поступки… Соответственно, и бриться означает «брить лицо (или усы, бороду и т. п.)», мыться — «мыть руки (лицо, тело и т. п.)», оправдываться — «оправдывать какие-то свои поступки», подчиняться — «подчинять свою волю», настраиваться — «настраивать свои мысли» и т. п. Поэтому говорить о буквальной кореферентности субъекта и объекта в данных ситуациях не приходится. Косвенно это подтверждается и сопоставлением возвратных глаголов с сочетаниями «переходный глагол + себя». Там, где такое сочетание возможно, типа заставлять себя, вести себя, доводить себя, чувствовать себя и т. п., «параллельный» возвратный глагол либо вообще не существует (ср.: *заставляться, *вестись, *чувствоваться), либо существует с иным, далеким от семантики невозвратного глагола значением (доводиться); они как бы стремятся к дистрибутивному разграничению сфер своего влияния.
Сказанное до сих пор подводит нас к мысли о том, что образование возвратных глаголов теснейшим образом связано с формированием (и преобразованием) в сознании говорящего синтаксической структуры высказывания. Соответственно, и классификация возвратных дериватов должна строиться с учетом этого фактора. Поэтому господствовавшее некогда деление русских возвратных глаголов по чисто семантическому признаку (на «собственно-возвратные», «общевозвратные», «косвенно-возвратные», «взаимно-возвратные» и т. п.) в последние десятилетия уступает свое место классификации, основанной на синтаксической «предыстории» этих глаголов. Иными словами, лексемы с — ся группируются в разряды с учетом тех механизмов синтаксической деривации, которые предшествовали (в типологическом смысле) появлению того или иного глагола.
В частности, в уже упомянутой книге Н. А. Янко-Триницкой все возвратные дериваты русского языка делятся на две группы: «отсубъектные» и «отобъектные», а последние, в свою очередь, подразделяются на глаголы включенного, переключенного и исключенного объекта [Янко-Триницкая 1962: 172–173 и др.]. Эта классификация, в целом обоснованная и плодотворная, заслуживала бы особого комментария, но в данном случае нас будет интересовать только один ее разряд — глаголов включенного объекта. Речь идет о возвратных глаголах, значение которых, наряду со значением производящего невозвратного глагола, включает в себя также значение объекта действия этого производящего глагола, ср.: Курица несет яйца — Курица несется; Сосед строит дом — Сосед строится; Я зажмурил глаза — Я зажмурился и т. п.
Глаголы данного типа отличаются в современных русских текстах заметной активностью. Естественно, что многие из этих новообразований не фиксируются словарями, а на письме — в силу своей новизны — выделяются кавычками. Приведем несколько примеров из художественной и публицистической литературы, выделяя в них разрядкой шрифтом интересующие нас глаголы.
Приехали поэты, элита называется. На пять дней. Продлиться не разрешили (В. Некрасов. Саперлипопет, или Если бы да кабы, да росли во рту грибы).
— Екатерина Николаевна, когда придет Виктор? — спросил я, радуясь, что догадался поглядеть в журнале имя-отчество Кирибеевой.
— Они с отцом у нас не докладываются, — почти с ненавистью ответила она (Ю. Поляков. Работа над ошибками).
Москва очень сильно «вложилась» в чеченские выборы (Общая газета. 1995. № 51).
Говорят, что певица неудачно вложилась во «Властилину», поэтому и приходится работать крайне напряженно (Аргументы и факты. 1995. № 47).
Первым делом — Юрий Лужков и Виктор Черномырдин. Оба они уже определились: выдвигаться не будем. Однако значит ли это, что Кремль поставил на них крест? (Комсомольская правда. 1996. 31 января).
То есть ни один более демократичный кандидат, чем нынешний Президент, не сможет даже выдвинуться (Аргументы и факты. 1995. № 16).
Здания, где размещались их мастерские, проданы коммерческим организациям. Художникам предложили «убираться». Пока они «убрали» часть полотен на арбатскую выставку (Известия. 1994.23 июля).
Осенью 1990 года «Комсомолка» провела беспрецедентную по тем временам — да и по нынешним тоже! — акцию: предложила народонаселению Советского Союза сдавать на добровольной основе за деньги незаконно хранящееся оружие…
Народ пошел «сдаваться» активно и толпами. Ящики редакционных столов забивались ручными гранатами, пистолетами, патронами и прочей смертоносной чепухой (Комсомольская правда. 1995.20 апреля).
Тем более, что наивные англичане, как, впрочем, и итальянцы, французы, шведы и т. д., никогда не фиксировались на национальном вопросе, как мы (Совершенно секретно. 1995. № 7).
Кстати, по статистике, снег, выпавший в течение всего одного дня, надо убирать минимум трое суток. Интересно, разгребемся ли мы к майским праздникам? (Комсомольская правда. 1998.13–20 марта).
Те, кто уверен в своих силах, приходят к открытию магазина или даже позже. Те, кто в себе сомневается, стараются застолбиться заранее (Комсомольская правда. 1991. 23 апреля).
Идет откровенный саботаж со стороны руководства бывшего объединения Ленхлебпром. Его директор Иванов пытался акционироваться и приватизироваться в городе, но антимонопольный комитет запретил… (Артументы и факты. 1992. № 43–44).
Конечно, появление в русском языке 90-х годов глаголов типа определяться, выдвигаться, вкладываться, акционироваться, приватизироваться и т. п. можно считать знамением эпохи. Но сам процесс активизации данной словообразовательной модели начался, несомненно, раньше — в 50—70-е годы — и независимо от общественно-политических и экономических преобразований. Покажем это на материале некоторых текстов данного периода.
— Как у вас хорошо-то. Я у одной артистки убираюсь — здесь, на Чапаевском, — у нее тоже красиво отделано (Ю. Трифонов. Вера и Зойка).
— Меня с этим не мешайте! — попросил я дрогнувшим голосом, — у меня, ей-богу, сезонка с фотографией… Можно я в стороне побуду, еще поищусь? (Е. Шатько. Сын рисует кошку).
— Чего ты шаришься? Чего ты там шаришься?
— Весла ищу… (С. Сартаков. Каменный фундамент).
— Мы теперь без связи, — сказал Вихрь, — дело — швах. Думаю, не пришлось бы идти к своим — за рацией. Правда, Седой обещал подумать, может, будем передаваться от партизан (Ю. Семенов. Майор Вихрь).
И все же он сам помог ей переехать. А потом бросил квартиру, распродался и уехал в Туапсе к отцу (Литературная газета. 1972.20 сентября).
А вокруг — женщины, все в парафиновых масках, как черти, ей-богу. Я и говорю одной: «Позвольте мне первой смыться, а то я с работы сбежала, меня начальство четвертует!» (Литературная газета. 1976.27 октября).
Возвратные дериваты типа продлиться «продлить визу», вкладываться «вкладывать сбережения», сдаваться «сдавать оружие», застолбиться «застолбить место», передаваться «передавать сообщения», смыться «смыть краску» и т. п. — типичные «глаголы включенного объекта». Вне соответствующего контекста они могут показаться странными или даже «неправильными», но таков, как известно, удел всех новообразований. Фактически перед нами разновидность универбации (сорбции); данные примеры принципиально не отличаются от классических случаев универбации типа вечерка «вечерняя газета» или сольник «сольный концерт». Конечно, спору нет: в именной сфере данный словообразовательный процесс более популярен, чем в глагольной. По наблюдениям Е. А. Земской, основанным на материале справочника «Новое в русской лексике» за 1981 год, на фоне общей словообразовательной активности существительных, прилагательных и наречий «суффиксация глаголов обнаруживает очень слабую действенность» [Земская 1992:76].
Тем не менее, процесс включения объекта в семантику новообразованного возвратного глагола широко представлен в русской разговорной речи. Примерами могут послужить лексемы типа закругляться «закруглять (т. е. заканчивать) выступление», одалживаться «одалживать деньги», засветиться «засветить (т. е. обнаружить) свое присутствие», подшиваться «подшивать ампулу противоалкогольного действия», отстреляться «закончить свою миссию, свое дело», букв, «расстрелять все патроны» и т. п.
Симптоматично также, что использование возвратных «глаголов включенного объекта» характерно для профессиональной речи. Здесь, в частности, появляются такие дериваты, как сниматься «снимать кассу, т. е. подсчитывать выручку» (в речи кассирш), перегоняться «перегонять материал по спутниковой связи» (в речи телевизионщиков), загружаться «загружать информацию» (в речи компьютерщиков) и т. п. Это, с одной стороны, подтверждает тезис о продуктивности данной словообразовательной модели: мы видим, что происходит постоянная подпитка этого класса слов за счет профессиональных образований. А с другой стороны, «криптонимический» аспект подобных новообразований на — ся (они оказываются знаком принадлежности к соответствующей среде) объясняет, почему многие из них долго сохраняют на себе печать окказионализмов.
Активизации данного словообразовательного подкласса способствуют два фактора. Один из них — это «узуализация» некоторых глагольно-именных словосочетаний. Поясним: сочетание переходного глагола с типичным для него объектом становится для носителя языка привычным, устойчивым, как бы само собой разумеющимся (вспомним то, что говорилось ранее о сочетаемости глаголов типа мыть или брить). Монопольный характер объекта естественно приводит к его генерализации и поглощению глагольной семантикой (аналогичный фактор действует и в процессах универбации именных конструкций: так, условием для появления деривата вечерка явился узуальный характер номинации вечерняя газета). Таким образом, именно устойчивость глагольно-именных сочетаний становится первой предпосылкой для семантико-синтаксических преобразований типа Он вложил средства в акции => Он вложился в акции.
Вторая же предпосылка — это дальнейшее развитие и формирование в сознании носителей языка функционально-семантической категории притяжательности (посессивности). Сразу оговоримся: притяжательность мы трактуем не в узком смысле, как «обладать чем-либо», а в широком, как «находиться в системных (регулярных, глубинных) связях с чем-либо» (см.: [Категория посессивности 1989: 44–70; Норман 1999: 600–601]). Это значит, что выражение мой трамвай (Вот идет мой трамвай) вовсе не значит «принадлежащий мне трамвай», так же как твое рождение (Когда день твоего рождения?) не означает «принадлежащее тебе рождение». Притяжательные местоимения, служащие объединению нескольких пропозиций (по крайней мере одна из которых номинализуется) в единое высказывание, отражают широкий спектр отношений между субъектом и объектом. Конечно, наиболее непосредственно и явно категория посессивности обнаруживает себя через соответствующие местоимения и прилагательные. Но в сферу ее действия входят также многие синтаксические конструкции и словообразовательные модели. В данном случае мы имеем возможность наблюдать, как формирование в коллективном сознании устойчивых связей между семантическими функциями субъекта и объекта оказывается условием для реализации определенных словообразовательных потенций. Действительно, объект, включаемый в семантику новообразованного возвратного глагола, находится не в случайных, но в системных отношениях с субъектом этого действия, ср.: Он строится — это значит «он строит дом для себя», Он вложился — «он вложил свои средства», Он застолбился — «он застолбил для себя место», Они продлились — «они продлили себе визу», Она убирается — «она убирает квартиру» (не случайную, а одну и ту же, в каких-то своих целях), Она смылась — «она смыла с себя краску» и т. п.
Таким образом, активизация определенного словообразовательного подкласса в русском языке — «глаголов включенного объекта» — обусловлена взаимодействием ряда внутриязыковых факторов. В первую очередь это стремление к однословному выражению сложного смысла, представленного устойчивым словосочетанием (в чем можно усмотреть тенденцию к экономии языковых средств), а также формирование периферии функционально-семантической категории притяжательное (куда входят многообразные синтаксические и словообразовательные средства).
То, что эти глаголы слабо (с пропусками) фиксируются словарями, свидетельствует более всего об отставании лексикографической практики. Тексты же — как устные, так и письменные — демонстрируют обилие новообразований данного типа.
Грамматика русского языка. Фонетика и морфология. Т. I. М., 1952.
Земская Е. А. Словообразование как деятельность. М., 1992.
Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка: Морфология. Братислава, 1960. Ч. 2. Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.
Некрасов Н. П. О значении форм русского глагола. СПб., 1865.
Норман Б. Ю. Переходность, залог, возвратность. Мн., 1972.
Норман Б. О притяжательных местоимениях в славянских языках // Slavia Orientalis, XLVHI, 1999. № 4.
Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.
Gerritsen N. Russian Reflexive Verbs. In Search of Unity in Diversity. Amsterdam; Atlanta, 1990.
Schenker A. M. Slavic Reflexive and Indo-European Middle: A Typological Study // Schenker A. M. (ed.). American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists. Linguistics Slavica, 1988.
А. К. Оглоблин
К вопросу об именном выражении ситуации в индонезийском языке[100]
1. Существительные ситуации
В индонезийском языке существуют следующие способы именного выражения ситуации:
1. аффиксальные существительные,
2. номинализация глаголов с помощью суффикса — nya,
3. конверсия: глагол употребляется в актантной позиции без изменения формы [Алиева и др. 1972: 142 сл., 170, 277, 306–307; Агус 1985].
Существительные ситуации (СущС) образованы от корневых или аффиксальных глагольных основ с помощью суффикса — an, конфиксов per- an, peN- an, ke- an. Эти аффиксы добавляются к глагольной основе или замещают ее аффиксы [Алиева и др. 1972: 196 сл.]. Такие существительные могут быть образованы:
а) от переходных глаголов (корневых или с аффиксами переходности per-, -i, — kan, per- i, per- kan):
— pukul «бить» → pukul-an «удар», — minta «просить» → рег-minta-an «просьба», — terang-kan «заявлять» → ke-terang-an «заявление», — selidik-i «исследовать» → penyelidikan [peN-selidik-an] «исследование», — per-baik-i «чинить», «улучшать» → per-baik-an «починка», «улучшение».
б) от непереходных глаголов (корневых или с префиксами ber-, meN-, ter-[101]):
naik «подниматься» → ke-naik-an «повышение», «подъем», baik «хороший», «добрый» → ke-baik-an «доброта», ber-temu «встречаться» → per-temu-an «встреча», men-jerit «(пронзительно) кричать» → jerit-an «крик», ter-gantung «зависеть» → ke-tergantung-an «зависимость».
Возможны оппозиции между существительными с разными аффиксами. Одна из них соответствует оппозиции переходности-непереходности: penemuan «нахождение» (-temukan «находить»), pertemuan «встреча» (bertemu «встречаться»). В других случаях противопоставлены целостное или единичное действие и процесс[102]: pu-kul-an «удар» — pemukulan [peN-pukuI-an] «избиение». Те же самые аффиксы часто означают не ситуацию, а ее партиципанты — пациенс, место, орудие, иногда субъект (при непереходности глагола) и др.: minum «пить» → minuman «напиток», mandi «купаться» → ре-mandian «купальня», lari «бежать» → pelarian «беженец».
2. Местоименные энклитики и суффикс — nya
По характеру номинализации различаются глаголы переходные (спрягаемые) и непереходные (к непереходным в синтаксическом плане можно также отнести прилагательные). В частности, различны сочетания тех и других с лично-местоименными энклитиками (ЛМЭ) — ku «мой», «меня», — mu «твой», «тебя», — nya «его», «ее». При непереходных глаголах эти энклитики имеют функцию определения, как и при существительных, ср. buku «книга» — buku-ku/-mu/-nya «моя/твоя/его(ее) книга», datang «приходить» — ku/-mu/-nya «мой/ твой/его (ее) приход». При переходных глаголах ЛМЭ имеют функцию дополнения. После формы активного залога с префиксом meN-это дополнение означает пациенс.
(1) Yusuf men-cintai-nya/-mu/-ku
PNM АСТ-любить-3 SG/-1SG
«Юсуф любит ее/тебя/меня».
После формы пассивного залога 3 лица агенса с префиксом di- возможна только ЛМЭ — nya «им/ею»[103].
(2) Di-cintai-nya aku
РА83-любить-380 1SG
«Любит он меня (букв, любима-им я)».
Кроме местоимения — nya, имеется суффикс — nya, связанный с ним исторически. Он образует, в частности, наречия и модальные слова: biasa «обычный» — biasanya «обычно», rupa «внешность» — rupanya «видимо». Вероятно, отглагольные наречия исторически восходят к номинализованным глаголам, так что, например, biasanya прежде означало «его/ее обычай»[104]. Но в современном языке значение 3 лица отсутствует.
(3) Saya biasanya makan di rumah
я обычно есть PREP дом
«Я обычно обедаю дома.»
В определенных атрибутивных сочетаниях — nya как суффикс присоединяется и определяемому существительному, образуя его «связанную форму». Она указывает на последующее определение и подчеркивает отдельную референцию каждого из компонентов группы: pamannya Amir «дядя Амира» (в отличие от «дядя Амир»), orangnya Usman «человек Усмана», Parisnya Timur Tengah «Париж Ближнего Востока». Значение 3 л. при этом, очевидно, отсутствует, но местоимения 1 и 2 лица в качестве определения не встречаются, поскольку они всегда референтны, так что использование особого показателя данного значения излишне.
3. Другие виды именного выражения ситуации
Указанная неоднозначность морфемы — nya проявляется при номинализации глаголов. Различаются номинализованные формы двух видов, при которых — nya (а) имеет синтаксическую функцию определения и сохраняет местоименное значение 3 л., либо (б) выступает как показатель (суффикс) последующего определения (аналогично связанной форме существительных) и само по себе не имеет значения лица. Номинализация первого вида приводит к конверсному имени (КИ), номинализация второго вида к именной форме глагола (ИФ).
Помимо этих номинализованных форм, имеются корневые имена ситуации (КИмС): keija «работа», kicau «щебет», beda «различие», gerak «движение», rengek «хныканье», jerit «пронзительный крик», tari «танец», letak «(место)положение». Для образования глагола к ним необходимо добавить глагольный аффикс: be-keija (be— вариант префикса ber-) «работать», ber-kicau «щебетать», bег-gerak «двигаться», berbeda «различаться», me-rengek «хныкать», men-jerit «кричать», me-nari «танцевать», terletak «расположен», «располагаться».
В историческом плане большая часть корневых имен ситуаций принадлежит к исконному корнеслову, а часть, как izin «разрешение», umur «возраст» (из арабского), — заимствована. По аналогии с такими языками, как тагальский и древнеяванский, можно предполагать, что в древнем состоянии языка таких имен было больше и соответственно больше было образованных от них аффиксальных глаголов. В дальнейшем часть КИмС перешла в класс непереходных глаголов. Данный диахронический процесс продолжается в современной разговорной речи, где КИмС литературного языка часто выступают как глаголы: jalan «ход» → «ходить» (вместо ber-jalan), kerja «работа» → «работать» (вместо be-kerja), bicara «разговор, беседа» → «разговаривать» (вместо bebicara).
4. Сопоставление
Для сравнения существительных ситуации с другими именами ситуации в плане синтаксиса служит ряд признаков.
4.1. Существительные ситуации. СущС, как и другие существительные, могут иметь значение мн. числа, выраженное удвоением: per-temu-an «встреча» — pertemuan-pertemuan «(различные) встречи».
Имеются также своего рода косвенные показатели числа: количественные, служебные или вспомогательные слова со значением ед. или мн. ч. в дополнение к значениям неопределенности или, соответственно, разнообразия: semua pertemuan «все встречи», suatu per-temu-an «одна/некая встреча» (suatu «некий», «один», служебное слово неопределенной неодушевленной единичности), pikir-an «мысль» — se-buah pikiran «одна/некая мысль», букв, «одна штука мысль» (числительное se- «1» + счетное слово buah; тоже значение неопределенности), berbagai pertemuan «разные встречи». Правда, и удвоение, и косвенные показатели числа в тексте встречаются редко.
При СущС возможны определения следующих видов.
а) Другие существительные и лично-местоименные энклитики разных лиц в значениях агенса/субъекта и пациенса: per-main-an-nya/-mu/-ku «его/твоя/моя игра», perbaikan-nya «его починка». Если упоминаются пациенс и агенс, то один из них вводится предлогом.
(За) Paraburuh mem-perbaiki jalan
PL рабочий АСТ-чинить дорога
«Рабочие чинят дорогу».
(3б) perbaikan jalan oleh paraburuh
починка дорога PREP PL рабочий
«починка дороги рабочими».
б) Группа, вводимая относительным служебным словом yang «тот, кто/что; который»: pertemuan yang penting «важная встреча».
Дм СущС характерна лексикализация: — bangun «строить» → pembangunan «(экономическое и др.) развитие», banyak «много» → kebanyakan «большинство», nyata «явный, очевидный» → kenyataan «реальность, факт».
4.2. Корневые имена ситуаций. Такие имена менее характеризованы грамматически, чем аффиксальные существительные. Они не встречаются в текстах с показателями числа и не удваиваются для выражения множества действий. По показаниям большинства информантов, сочетания *sebuah tangis/tari «какой-то (один) плач/ танец», *suatu letak/beda «некое местоположение/некая разница» неправильны, но с некоторыми другими словами подобные сочетания возможны: suatu kerja «некая работа». Очевидно, что граница между СущС и КИмС в языке неустойчива. Во всяком случае, свойства существительных у КИмС выражены слабее по сравнению с синонимичными аффиксальными СущС: tarian «танец», pekeijaan «работа», perbedaan «различие», gerakan «движение», рег-gerakan «(политическое) движение».
В предложении и синтаксической группе КИмС имеют те же функции, что и существительные.
(4) Teriak anak-anak mem-buat in hati-ku (S.)
крик ребенок-PL АСТ-вызывать зависть сердце- lSQ
«Крики детей вызвали у меня зависть».
(5) Tangis dik Yanti sudah me-reda (S.)
плач сестричка PNF уже АСТ-угихать
«Плач маленькой Янти утих».
(6) Dengan tangis ter-sedu-sedu aku
PREP плач INVOL-pblflaTb-ITER lSQ
meng-akui kesalahan-ku (S.)
АСТ-признать вина-3SG
«Плача и рыдая я признал свою вину (букв, с плачем + рыдать)».
Ср. также menahan [meN-tahan] tangis «сдерживать плач» (функция дополнения), deni mobil «шум автомобиля» (определяемое с определением-существительным), nyanyi sunyi «одинокое пение» (определяемое с определением-прилагательным), tawa yang berdcrai «звонкий раскатистый (букв, рассыпанный) смех» dcru yang makin keras «все более громкий шум» (определяемое с определением в виде группы с относительным словом yang).
Нередко КИмС образуют жесткие группы с подчинительной или сочинительной связью. Иногда они выступают только в составе таких групп. Так, имена речи с последующим именем-определением, обозначающим говорящего, выполняют функцию подлежащего при предложении-сказуемом прямой или косвенной речи.
(7) Hai! — teriak Yusuf
эй крик PNM
«Эй! — крикнул Юсуф» (букв, «крик Юсуфа»).
Такие группы свободно образуются в тексте. Но многие представляют фразеологические единицы, или составные слова [Алиева 1998], наделенные устойчивостью и большей или меньшей идиоматичностью: gerak «движение» + badan «тело» → gerak badan «физкультура», tingkah «поведение», «манера», «каприз» + Laku «ход; поведение» → tingkah-laku «поведение». Имеются также вариантные повторы: tindak «шаг» → tindak-tanduk «поступки», gerak «движение» → gerak-gerik «жесты, манеры». Исходные КИмС в этих примерах самостоятельно как имена неупотребительны (что в словарях следовало бы помечать особым значком).
Сочетаемость некоторых корневых слов частично совпадает с сочетаемостью существительных: сочетаются с показателями числа kata «слово», «речь» — > kata-kata «(различные) слова», se-patah kata «одно слово» (se- числит. «1» + счетное слово patah, букв, «осколок»), cerita «рассказ», «история»→ cerita-cerita «(разные) рассказы», se-buah cerita «одна история». Направление морфологической деривации, как и у КИмС — от имени к глаголу: berkata «говорить», ber-cerita «рассказывать».
Каково положение в системе языка таких имен ситуации, которые совпадают с основами переходных глаголов, как, например, pandang «взгляд» — pandang «смотреть»? Исторически такие корни также, вероятно, восходят к именам, а некоторые были заимствованы как имя: jawab «ответ» → «отвечать» (< араб, jawāb «ответ»). Но в современном языке их, пожалуй, следует считать результатом конверсии «глагол → имя», т. е. относить к КИ, поскольку именное употребление по сравнению с глагольным встречается относительно редко. Все КИмС соответствуют корням только непереходных глаголов.
4.3. Конверсные имена. Корневые КИ, как можно предполагать, пережили упоминавшийся выше исторический переход из КИмС в глагол, но ныне уже глагольная функция первична, а именная вторична. КИ сочетается с личными местоимениями 1, 2 и 3 л. и существительными в качестве определения.
(8) Takut-nya hilang (I. Simatupang)
бояться-3SG исчезать
«Боязнь его исчезла».
(9) Mau-mu, atau dia? — Ya, mau-ku, pak (A. Pane)
хотеть-2 или 3SG да хотеть-1SG папа
«Это ты хочешь или он, папа? — Да, я» (букв, «хотение твое или его? — Да, хотение мое, папа»).
(10) Bangun kami bersamaan (Tr.)
вставать 1PL совместный
«Мы встали [ото сна] одновременно» (букв, «вставание наше»).
(11) Dingin hawa malam te-rasa benar (Tr.)
холодный воздух ночь INVOL-чувствовать очень
«Холод ночного воздуха бьш очень чувствителен».
КИ могут быть дополнениями при активных глаголах с префиксом meN-: memberi malu «позорить, срамить» (-beri «давать», malu «стыдиться», ср. [Teeuw 1962].
Но, в отличие от КИмС, КИ может включать аффиксы непереходных глаголов meN-, ber-, ter-, что явно указывает на направление деривации от глагола к имени. Аффиксальные КИ практически всегда имеют определение-ЛМЭ 3 л., изредка также 1–2 л. Это объясняется тем, что наличие глагольного аффикса требует эксплицитного выражении номинализации.
(12) Menari [meN-tari]-nya <…> menimbulkan [meN-timbulkan]
АСТ-танец-3 АСТ-вызывать
asosiasi ke1 dalami alam peperangan (газета)
ассоциация PREP1,2 мир война
«Их танец вызывает ассоциации с воинской жизнью».
(13) Ber1-sendiri2-ku bukan meng-ganggu kepentingan orang
уединяться1,2-1SG NEG АСТ-нарушать интерес человек lain (Nh. Dini)
другой
«Мое уединение не нарушает интересов других людей».
(14) Kini ter-tawa-nya jadi reda (T.)
теперь INVOL-cмex-3SG делаться затихать
«Тут его смех затих».
Если конверсное имя от прилагательного или глагола является обстоятельством образа действия с предлогом dengan «с», перед этим именем возможно служебное слово sangat «очень». Для существительных такая сочетаемость исключена.
(15) Dan komendan Keibodan itu memandangi [meN-pandangi]
CONJ командир полицай этот АСТ-смотреть. на
jagung itu dengan sangat kepingin-nya (T.)
кукуруза этот PREP очень вожделеть-3SG
«И командир полицаев смотрел на эту кукурузу с большим вожделением».
Некоторые корневые слова могут выступать в предложении в качестве актанта без определения, которое, как упоминалось выше, необходимо, чтобы идентифицировать имена.
(16) Gelap datang(Tr.)
темный прийти
«Настала тьма».
(17) Panas membakar segala-galanya (Idrus)
жаркий АСТ-жечь все.и. вся
«Жар палит все и вся».
(18) Mabuk bisa diusir oleh kacang
опьянен мочь PAS3-прогнать PREP орех
«Опьянение можно прогнать орехами».
КИ не удваивается. Однако встречаются сочетания с кванторами seluruh, segala «весь»: hidup «жить; жив» → seluruh hidupnya «всю свою жизнь», rindu «тосковать, скучать по (кому-либо)» → segala rindu «вся тоска». В этом отношении КИ сходно с существительными.
Сходно с СущС (хотя и довольно редко) употребляются упоминавшиеся выше имена от переходных основ: pandang yang lucu «усмешливый взгляд» (функция определяемого с yang-определением), bertemu pandang «встретиться взглядами» (функция дополнения).
(19) Makan kami tak banyak (Тг.)
есть 1PL NEG так много
«Поели мы не особенно много» (букв, «питание наше»).
В составных словах такие КИ могут служить определением к существительному: mesin «машина» + — jahit «шить» → mesin jahit «швейная машина», kecepatan «скорость» + — tembak «стрелять» → kecepatan tembak «скорострельность», cetakan «печатное изделие» + — ulang «повторять» → cetakan ulang «переиздание» (переизданное произведение).
В разговорной или ненормативной речи встречаются КИ от переходных глаголов в активной или пассивной форме. При этом ЛМЭ — nya имеет функцию определения, вместо обычной при этих глаголах функции актанта.
(20) Menunggu [meN + tunggu]-nya siapa? (разг.)
АСТ-ждать-3SG кто
«[Вы] кого ждете?» (букв, «ожидание его + кто»)[105]
(21) Adapun Kumbakarna itu kalau tidur, sukar
что. касается PNM этот если спать трудно
sekali di-bangunkan-nya (Trajono)
очень PAS3-будить-3SG
«А Кумбакарну, когда он спал, было очень трудно разбудить» (букв, «быть пробужденным + его»).
Сходство КИмС и КИ проявляется также в образовании жестких именных групп с подчинительной (атрибутивной) или сочинительной связью компонентов. Ситуацию выражает первый компонент или оба. Часть таких групп представляют составные слова. Примеры подчинительной связи: — olah «обрабатывать» + raga «тело» → olah raga «спорт», — angkat «поднимать» + besi «железо» → angkat besi «поднятие тяжестей», kawin «жениться» + — paksa «принуждать» → kawin paksa «брак по сговору», — dengar «слышать» + pendapat «мнение» → dengar pendapat «парламентские слушания», — tanggung «нести, поддерживать» + — jawab «отвечать» → tanggung jawab «ответственность». При значении переходности у первого компонента второй может означать пациенс.
Прилагательные, выражающие физический параметр, и некоторые другие образуют именные составные слова: berat «тяжелый» + badan «тело» → berat badan «вес тела», putih «белый» + telur «яйцо» → putih telur «белок».
Часть таких сочетаний имеет и глагольную, и именную функции, причем вторая является результатом конверсии. Связь между компонентами таких сочетаний может быть подчинительной (а) или сочинительной (б):
(а) sakit «болеть» + bati «сердце» → sakithati «обижен», «обида», — campur «смешивать» + tangan «рука» → campur tangan «вмешиваться», «вмешательство», — bunuh «убивать» + diri «себя» → bunuh diri «кончать с собой», «самоубийство», makan «есть (питаться)» + malam «вечер» → makan malam «ужинать», «ужин».
(б) — tipu «обманывать» + muslihat «хитрость, уловка» → tipu-muslihat «коварство», kasih «любить» + sayang «любить; жалеть» → kasih sayang «нежная любовь», — tunjuk «указывать» + — ajar «обучать» → tunjuk-ajar «ценные указания», untung «прибыль» + rugi «терять, терпеть убыток» → untung-rugi «плюсы и минусы».
Именные составные слова с сочинительной и подчинительной связью сочетаются с неопределенно-количественными выражениями: se-macam «(один) вид/сорт» → semacam sakit jiwa «род душевной болезни», tiap «каждый» → tiap bunuh diri «каждое самоубийство».
Лексикализация встречается как исключение: pukul «бить» → «час» (в знач. момента времени).
4.4. Именные формы глагола. ИФ образуются от глаголов с помощью суффикса — nya. Аффиксы глагола сохраняются. «Имя, образующееся с помощью номинализатора — nya, употребляется только с определением и самостоятельно не встречается» [Агус 1985: 120].
(22) tak ada jaminan untuk timbul-nya demokrasi (Tem.)
NEC есть гарантия PREP возникать-GEN демократия
«Нет гарантий для возникновения демократии».
(23) Ber-edar-nya benih palsu ini tentu
INTR-обращаться-СЕН зерно поддельный этот конечно
tidak lepas dari me-lonjak-nya permintaan akan
не отделен PREP АСТ-взлетать-GEN спрос PREP
benih jagung hibrida (Tem.)
зерно кукуруза гибрид
«Обращение этого поддельного зерна, конечно, неотделимо от взлета спроса на гибридное зерно кукурузы».
(24) Dengan mundur-nya jadwal <…> akibat lebih
PREP переноситься-GEN график следствие более
lanjut adalah ter-tunda-nya penjualan (Tem.)
последующий COP INVOL-сдвигаться-GEN продажа
«При переносе графика дальнейшим следствием является отсрочка продаж».
ИФ переходных глаголов образуются обычно от пассивной формы с префиксом di-. Определение к ИФ означает пациенс.
(25) Menteri Т. <…> menolak [meN-tolak] di-masukkan-nya министр PNM АСТ-отвергать РАS3-включать-GEN
masalah buruh <…> dalam perundingan (Tem.)
вопрос рабочий PREP переговоры
«Министр Т. отверг включение в переговоры вопроса о рабочих».
(26) Kewaspadaan Imigrasi <…> makin meningkat menjelang
бдительность иммиграция все. более повышаться PREP
di-serahkan-nya Hong Kong (Tem.)
PAS3-передавать-GEN TOP
«Бдительность службы иммиграции (все более) повышается перед передачей Гонконга».
Встречается и образование от активной формы с префиксом meN-, но в этом случае глагол обычно употребляется как непереходный без пациенса (объекта). Ср. meng-hina kita «оскорблять нас» и (27).
(27) Betapa menghina-nya ia barusan (A.)
как оскорбительный-GEN 3SG только. что
«До чего оскорбительно она вела себя только что».
Индонез. глаголу могут предшествовать полузнаменательные и служебные показатели отрицания, модальности, времени и др.: tidak, tak «не», akan, bakal — показатели будущего времени, sudah «уже», belum «еще не», masih «(все) еще», habis «только что закончить», mulai «начинать», terns «дальше; продолжать», makin «все более», lebih «более», kurang «менее», bertambah «более; сильнее», terlalu «слишком», sering «часто», lekas «быстро», dapat «мочь», harus «должен», menjadi, jadi «делаться, становиться». Перед существительными не все они употребительны, а перед ИФ допустимы все [Fokker 1960:146].
(28) Kurang serius-nya Pemerintah M. bisa di-lihat
мало серьезный-GEN правительство TOP мочь РАS3-видеть
dari se-rangkaian peristiwa (Tem.)
PREP один-ряд инцидент
«Недостаточная серьезность правительства М. усматривается по ряду инцидентов».
(29) pihak-nya men-catat bakal hadir-nya
сторона-3 SG АСТ-регистрировать fut присутствовать-GEN
664 bus (Tem.)
автобус
«Они зарегистрировали предстоящее присутствие 664 автобусов».
(30) Telah lama ia meng-harapkan lekas beres-rtya
уже давно 3SG АСТ-надеяться. на скорый нормальный-GEN
keadaan (A.)
обстановка
«Уже давно он надеялся на скорую нормализацию обстановки».
Иными словами, суффикс — nya может быть оформителем целой группы, состоящей из глагола и категориального показателя-пре-верба.
Удвоение для выражения значения множ. ч. не используется. Определение с yang не допускается. Лексикализации нет[106]. Для анафоры 3 л. используется самостоятельное местоимение, как ia «она» в (26). Допускаются и личные местоимения не-третъего лица: ingin-nya aku «желание мое».
5. Заключение
Итак, в индонезийском языке возможны четыре способа выражения ситуации в роли актанта, хотя и не для каждого лексического значения. Например, значение «движение» могут передавать СущС gerakan, pergerakan, КИмС gerak, КИ bergeraknya (пример последней формы см.: [Алиева 1998: 235]; эта форма может использоваться и как ИФ). КИмС преимущественно используются в составных словах и других жестких группах. ИФ, как видно по примерам выше, характерна для публицистического стиля.
Меньше всего сходны друг с другом СущС и ИФ. По некоторым упоминавшимся признакам данных недостаточно и требуются дальнейшие исследования. Проблемой является также степень синонимии и возможность чередования разных имен ситуации[107].
А. — Achdiat Karta Mihardja
S. — Sudarmi
T. — P. A, Toer
Tem. — Tempo 21.ХП.1996
Tr. — Trisnojuwono
Агус Салим. Имя и конструкция с предикатными актантами в индонезийском языке // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.
Алиева Н. Ф. Типологические аспекты индонезийской грамматики. М., 1998.
Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., Оглоблин А. К., Сирк Ю. X. Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
Каштанова Н. П. Дериваты с субстантиватором — nya: деривация лексическая или синтаксическая (на материале малайзийского языка) // Веста. Моск. ун-та. 1985. Сер.13. Востоковедение. № 3.
Прокофьев Г. И. Об одной тематической конструкции предложения в индонезийском языке // Проблемы филологии стран Азии и Африки. Л, 1966.
Прокофьев Г. И. Индонезийские местоименные энклитики и их роль в предложении// Вопросы филологии стран Азии и Африки. Л., 1971.
Folcker A. A. Pengantar sintaksis Indonesia. Diindonesiakan oleh Djonhar. Djakarta, 1960.
Teeuw A. Some problems in the study of word-classes in Bahasa Indonesia // Lingua. 1962. Vol. 11.
Е. В. Падучева
Диатеза как метонимический сдвиг[108]
Диатеза была определена в статье [Мельчук, Холодович 1970] как соответствие между единицами семантического и синтаксического уровня; слегка модернизируя, можно сказать — как соответствие между участниками обозначаемой глаголом ситуации (будем считать, что участник задается своей семантической ролью) и их синтаксическими позициями.
Основное свойство диатезы — то, что она может меняться. Диатеза, маркированная формой глагола, — это залог. Если у нас есть в арсенале такие семантические роли как Агенс и Пациенс; и такие синтаксические позиции как Субъект (сокращенно— Сб), Объект (сокращенно Об), т. е. прямое дополнение, и Агентивное дополнение (Периф, от периферийная позиция), то изменение диатезы при переходе от активного залога в (1а) к пассивному в (1б) можно представить формулой (1#):
(1а) Польские архитекторы реставрируют Гостиницу «Метрополь»;
(1б) Гостиница «Метрополь» реставрируется польскими архитекторами.
(1#) (Агенс-Сб, Пациенс-Об) => (Пациенс-Сб, Агенс-Периф)[109].
Пример (2) демонстрирует мену диатезы, которая не маркируется в глаголе, т. е. не является залогом (роль Тема здесь приписана тому участнику, который перемещается):
(2а) Сторож наполняет бассейн водой;
(2б) Вода наполняет бассейн.
(2#) (Агенс-Сб, Место-Об, Тема-Периф) =>
(Тема-Сб, Место-Об)
Трансформационная грамматика 60-х и даже 70-х гг. игнорировала тот факт, что мена залога связана с изменением смысла предложения; например, замена активной конструкции на пассивную считалась синонимическим преобразованием. Сейчас это упрощение представляется неоправданным: всякий диатетический сдвиг, т. е. изменение синтаксических позиций участников с заданными ролями, влечет вполне ощутимые различия прагматического порядка, которые можно представить как изменение коммуникативного ранга участников [Мельчук 1998]: предложение (1б) говорит о гостинице, его тема — гостиница, а (1а) — об архитекторах. Ниже мы поговорим подробнее о ситуации, участнике ситуации, его роли и коммуникативном ранге, после чего вернемся к понятию диатезы.
1. Участник и роль. Участник и синтаксический актант
В работах Ч. Филлмора 60-х и 70-х годов было введено понятие глубинного падежа и падежной рамки. Н. Хомский проложил для этой проблематики дорогу в порождающую грамматику и внес терминологическое изменение: глубинные падежи были заменены на тета-роли (т. е. тематические роли). Современное состояние вопроса хорошо отражено в [Dowty 1991]. В России наряду с глубинным падежом получил распространение термин «семантическая роль», которым мы и пользуемся. Близкими родственниками семантических ролей являются семантические валентности, см., например, [Апресян 1974: 125].
Слову в словаре обычно соответствует несколько лексем. Глагольная лексема, употребляясь в высказывании, описывает некую конкретную ситуацию, с определенным набором конкретных участников (термин «участник» из [Храковский 1974]). Соответственно, лексеме в словаре можно сопоставить типовую ситуацию, с типовыми участниками. Семантика лексемы предопределяет свойства участников типовой ситуации, описываемой данной лексемой; отношения участников друг к другу и происходящие с ними события. В конечном счете, эти свойства и соотношения и составляют значение лексемы. Так, в примерах (3), (4) один и тот же глагол имеет в (а) и (б) разные значения (ему соответствуют разные лексемы), поскольку обозначаемые ситуации различаются числом участников и/или отношениями между ними:
(За) <…> их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий. (В. Катаев)
(3б) Сложением девица отличалась безукоризненным (Булгаков).
(4а) Паниковский <…> по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой (Ильф и Петров).
(4б) Но в дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пищу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос (Пастернак).
В толковании каждому участнику соответствует переменная, а соотношениям и свойствам — определенные компоненты толкования, предикаты с этими переменными. Компоненты толкования определяют роли участников в типовой ситуации. Участники в каждой новой конкретной ситуации (в каждом новом употреблении лексемы в тексте) разные, а роли их одни и те же, поскольку типовая ситуация одна и та же.
Участнику может соответствовать в толковании не переменная, а своего рода константа. Так, махнуть можно рукой, платком и проч., так что движущийся предмет переменный; а подмигнуть — только глазом; такать только слезами. Это так наз. инкорпорированный участник, см. раздел 3.
При употреблении глагола в предложении (а предложения — в высказывании) конкретный участник с данной ролью обычно обозначен падежной, предложно-падежной труппой, наречием, короче — синтаксическим актантом глагола, т. е. тем или иным членом предложения — подлежащим, дополнением, обстоятельством. Этот актант связывает соответствующую переменную толкования (т. е. либо придает ей фиксированное значение, уточняя ее предметную область, либо квантифицирует). Так, в примере (5) подлежащее и обстоятельство места связывают переменные с ролями Агенс и Конечный пункт глагола поехать:
(5) Иван поехал в Варшаву.
Обычно считается, что в словаре переменной с данной ролью (а значит и типовому участнику ситуации, описываемой данным глаголом) может быть сопоставлена синтаксическая форма (=синтаксическая позиция) связывающего ее члена предложения. Ниже даны принципиальные поправки к этому тезису.
Далеко не все участники синтаксически выразимы (иначе — не любой переменной толкования может соответствовать в предложении какой бы то ни было актант): для предсказываемого толкованием участника с данной ролью выражающий его член предложения может быть по разным причинам принципиально невозможен. Укажем некоторые из этих причин.
i. Переменной в толковании не соответствует, в исходной диатезе глагола, никакой член предложения, если участник инкорпорированный. Так, в ситуации, описываемой глаголом видеть, обязательно присутствуют глаза, однако не говорят *Он увидел ее глазами. Синтаксическое выражение инкорпорированного участника становится возможным в том случае, если в предложении таксономическая характеристика, заданная толкованием, уточняется, ср. видеть своими глазами', Простым глазом мы можем увидеть около б тысяч звезд (Зощенко. «Возвращенная молодость»). Это будет производная диатеза.
ii. Участнику с данной ролью не может соответствовать никакой член предложения, если, по смыслу глагола, этот участник идентифицируется только на уровне высказывания, отождествляясь с одной из прагматических переменных высказывания — говорящим, наблюдателем и проч. Так, в ситуации примера из [Апресян 1986], с глаголом показаться, обязательно присутствует участник-Наблюдатель, который, однако, не может быть обозначен никаким членом предложения; в простом случае этим участником является говорящий:
(6) На дороге показался всадник.
iii. Участник не может быть выражен в предложении, если соответствующая ему переменная квантифицируется уже в толковании — слова или словоформы; например:
(7) Хозяйки не чувствуется;
(8) Финансовая катастрофа не просматривается,
(9) Плохие новости лучше продаются.
Квантификация часто порождается модальностью. Так, X не чувствуется ≈ «никто не может почувствовать X».
iv. Участник может быть невыразим в одном из производных употреблений глагола; так, в (10) действие состоит в удалении «лишнего» участника, который подразумевается, но при данной диатезе не может быть упомянут в явном виде:
(10) вымел пол = «вымел мусор с пола»;
прополол грядку = «выполол сорняки с грядки»;
вытер стол = «вытер грязь/пыль со стола».
v. Часто бывают синтаксически невыразимы участники у глаголов с отрицательным значением, ср. промахнуться — «целиться в Y из Z-а и не попасть» [Мельчук, Холодович 1970]. Так, у глагола промолчать (= «не высказаться по поводу») «повод» проясняется только из предшествующего контекста:
(11) Нюська покраснела от Лекиных слов, хотела что-то сказать, даже рот приоткрыла, но раздумала, моргнула своими длинными ресницами и промолчала. (К. Лиханов)
2. Семантическое обоснование ролей
Каждой роли соответствует в толковании один или несколько компонентов, в которых данный участник представлен своей переменной, ср. [Jackendoff 1993: 60]. Так что роли имеют семантическое обоснование.
Известные примеры ролей — Агенс, Причина, Место, Исходная точка, Конечная точка, Инструмент, Средство, Адресат. Так, Агенс — это такой участник X, которому соответствует компонент «X действовал (с Целью)»; т. е. Агенс — это тот, кто действовал. Инструмент — это участник Z, такой что Z воздействовал на Пациенс, причем существует Агенс, который привел Z в действие для достижения своей цели (т. е. использовал Z). В обоснование роли Средство входят, в дополнение к тем компонентам, которые входят в обоснование Инструмента, компонент «Z был истрачен в ходе деятельности или начал находиться в связанном состоянии» [Апресян 1974: 128]; так, если сторож наполнял бассейн водой из шланга, то вода — Средство — остается в бассейне (в связанном состоянии), тогда как шланг — Инструмент — может быть убран. Глаголы движения предполагают участников Исходная точка и Конечная точка; глаголы местонахождения — участника Место. Участник Причина (он же Каузатор) — это событие/состояние X, которому соответствует компонент «X вызвал/воздействует на Y». Участник Z является Адресатом, если существует ситуация (в частности, это может быть деятельность Агенса), которая каузирует Z знать нечто; Z — Бенефициант, если в толковании есть компонент «Z-y стало лучше». Актанту Y приписывается роль Содержание, если в толковании есть компонент «X имеет/перерабатывает информацию, заключенную в Y», ср. читать (книгу), решать (задачу), обдумывать (проблему), знать (о приезде). Экспериенту соответствует компонент «X воспринимает (видит, слышит, ощущает) V».
Что касается Пациенса, то это не роль, а гиперроль. Дело в том, что конкретные компоненты толкования у разных глаголов, предполагающих роль Пациенса, могут быть различны. Общее у всех компонентов то, что участник подвергается изменению — изменяться может значение какого-то параметра (X вырос); состояние (X успокоился); местоположение (принес X); объект может возникать и исчезать (X растаял; съесть X). Другая гиперроль — Каузатор: это обобщение для Агенса, Силы (ветер, буря) и Причины:
(12) Приезд жены нарушил привычный распорядок жизни.
Другая гиперроль — Тема. Эта роль приписывается носителю свойства, а также перемещающемуся объекту:
(13) Новорожденный весил 4 кг; Иван хромает;
Маша упала; Принеси чашку.
Между участниками одной лексемы могут быть взаимные связи. С одной стороны, участники могут быть несовместимы друг с другом (например, Каузатор-Агенс и Инструмент); с другой стороны, один участник может предполагать наличие другого; например, Инструмент предполагает наличие у того же глагола актанта Агенс; то же верно для актанта Средство. Пациенс, вообще говоря, предполагает Каузатора.
3. Инкорпорированные участники
В работе [Апресян 1974: 42] говорится, что актантам глагола в толковании соответствует переменная. Следует, однако, уточнить, что участники, упоминаемые в толковании, могут быть не переменными, а как бы константами — это инкорпорированные участники, ср. [Jackendoff 1993: 61]. Например, есть инкорпорированный участник глаза у глагола видеть; уши у слышать; ноги у ходить, голос у говорить, огонь у гореть; ЗВУК инкорпорирован в звенеть и в прочих глаголах звука; соответствующий инструмент — в пылесосить, утюжить и под.; рука в держать, взять, принести; прочие части тела тоже легко инкорпорируются.
Инкорпорированный участник, как и обычный, обязательно присутствует в ситуации, но не представлен в толковании переменной, поскольку его концепт фиксирован в толковании с точностью до лексемы. Его референциальный статус либо родовой (и тогда он константа), либо он находится в денотативной зависимости [Падучева 1985: 151] от другого участника той же ситуации — например, является его частью, как у глаголов видеть, целовать (так, глаза — часть того, кто видит). Во фразе Мы все его видим инкорпорированный участник глаза не является константой: в ситуации участвует не одна пара глаз; но у каждого из видящих глаза свои, что создает «дистрибутивную единственность», см. [Падучева 1985: 157; Шмелев 1996: 85].
Инкорпорированный участник равен актанту по степени обязательности, но подобен сирконстанту в том смысле, что, не будучи выявлен, находится за пределами зоны внимания говорящих.
При употреблении глагола в исходной диатезе инкорпорированному участнику не соответствует синтаксический актант, поскольку его концепт фиксирован с точностью до лексемы, а референция предопределена субъектом. В производных диатезах инкорпорированный участник может выходить на поверхность — «экскорпорироваться». При наличии атрибута или кванторного слова участник покидает свою позицию «За кадром» и входит в «перспективу»:
(14) видел своими глазами; видел одним глазом;
(15) Я своими полуслепыми глазами и то вижу, что рубашка не глаженая;
(16) Поднял мой рюкзак одной рукой (ср. *поднял рукой; *поднял руками).
В (17) участник ноги экскорпорируется — очевидно, потому, что для писателя возможно фигуральное употребление слова прийти, при котором ноги не являются участником ситуации:
(17) Неужели X. жив <…> потому что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что он никуда уже ногами не придет, — мертв (Цветаева).
Экскорпорированный участник есть также в сочетаниях любить странною любовью; смотреть хмурым взглядом.
Для экскорпорирования есть обратный переход — инкорпорирование участника. Такой переход называется Эллипсисом неохарактеризованного, т. е. неопределенного, объекта (Unspecified object deletion, см. [Levin 1993: 27]). В самом деле, обязательный участник не может иметь в предложении соответствующий ему член предложения, если он оказывается в тех же условиях, что глаза в видеть, а именно, если его концепт ничего не добавляет к категориальной предпосылке предиката:
(18) *Он женат на женщине => Он женат;
*Он поел еды => Он поел.
Различие между Он женат и Он на ком-то женат в том, что участник Жена в одном случае инкорпорирован и За кадром, а в другом — на Периферии.
4. Коммуникативный ранг участника
Вернемся теперь к соотношению между ролью участника и соответствующей ему синтаксической позицией. Дело в том, что синтаксическое оформление участника определяется не только его ролью, но и параметром, который до сих пор в должной мере не принимался во внимание, — коммуникативным рангом.
Семантическая роль характеризует участника на денотативном уровне, т. е. с точки зрения места соответствующего объекта в обозначаемой глаголом ситуации: роль — это, например, Агенс, Инструмент, Адресат, Место. А коммуникативный ранг — это прагматическая характеристика участника — через отношение к фокусу внимания говорящего[110]. Субъект и Объект (т. е. подлежащее и первое, прямое, дополнение) — это участники, входящие в Центр зоны внимания; остальные участники относятся к Периферии этой зоны; кроме того, участник ситуации может быть синтаксически невыразим при данном глаголе, т. е. находиться, так сказать, за пределами Периферии — За кадром. Таков, например, участник-Наблюдатель при глаголе показаться: Наблюдатель — это Экспериент, который имеет ранг Нуль, иначе — За кадром.
Назначение понятия коммуникативного ранга состоит в том, чтобы вывести противопоставление Субъекта и Объекта прочим членам предложения из разряда формально-синтаксических противопоставлений, каковым оно обычно признавалось. Это противопоставление коммуникативно значимо: выполняет определенную прагматическую функцию. Информация о коммуникативном ранге участника должна подаваться на вход тех правил, которые устанавливают соответствие между семантическими ролями участников и синтаксическими актантами глагола.
Через коммуникативный ранг можно определить понятие периферийного Агенса — это Агенс, который не имеет обычного для него ранга Субъекта; в сущности, Контрагент — это Агенс с коммуникативным рангом Периферия:
(19) Я получил от него письмо; Я знаю это от Ивана;
Она родила ребенка от иностранца.
Глагол своей исходной диатезой принуждает говорящего к определенному коммуникативному ранжированию участников. Есть довольно много глаголов, у которых Субъектом является участник, который по своей роли, в принципе, мог бы претендовать только на статус Периферия:
(20) Его рассказы [Место] пестрят междометиями;
Эти реки [Место] изобилуют рыбой.
Примеры (21) — (24) показывают, однако, что есть глаголы, способные, не изменяя своей формы, менять коммуникативный ранг участников, сохраняя их роль в ситуации неизменной или почти неизменной; так, в (21) и (22) переход из Центра в Периферию; в
(23), (24) — из Центра За кадр:
(21а) намазал повидло на хлеб',
(21б) намазал хлеб повидлом',
(22а) залил бензин в бак',
(22б) залил бак бензином;
(23а) выколотил пыль из ковра;
(23б) выколотил ковер;
(24а) вылечил больного от малярии,
(24б) вылечил малярию.
Семантика фокуса внимания как важнейшая составляющая семантики Объекта (т. е. прямого дополнения) продемонстрирована в [Wierzbicka 1980: 70], ср.:
(25а) загрузил наши кирпичи на свой грузовик;
(25б) загрузил детский грузовик кирпичами;
(26а) заткнул щель ватой;
(26б) заткнул деньги в щель.
Есть определенные «ограничения сочетаемости» ролей с коммуникативными рангами. У одних глаголов участники с заданными ролями способны менять ранг; у других коммуникативный ранг участника с данной ролью жестко задан словарем. Например, у глагола содержать участнику Место однозначно соответствует ранг Субъект. Некоторые сочетания невозможны в принципе; например, Агенс никогда не может попасть в позицию Объекта в исходной диатезе глагола.
5. Диатеза и залог
Итак, диатеза — это соответствие между ролями и синтаксическими позициями (а следовательно, коммуникативными рангами) участников. Тогда диатетический сдвиг — это перераспределение коммуникативных рангов участников, а мена залога — диатетический сдвиг, маркированный глагольной формой.
Эти определения, как легко видеть, основаны на том, что возможно изменение рангов участников с данной ролью, а набор ролей (семантических валентностей) глагола остается неизменным. Между тем возникает следующее затруднение: в ходе преобразований, которые естественно относить к залоговым, участники могут не только менять ранги, но и пропадать вовсе. Примером этого рода является «безагенсный» пассив:
(27) сообщается о потерях;
занятия проводятся на воздухе;
подача газа была приостановлена.
В активном залоге глаголы сообщать, производить, приостановить имеют Агенса. Между тем в пассиве, пример (27), Агенс не то что меняет ранг, а уходит из концепта ситуации вообще. А в таком случае употребление глагола в безагенсном пассиве не соответствует определению залога через диатетический сдвиг.
Возможна, однако, интерпретация безагенсного пассива, которая позволяет вместить его в рамки наших определений. В работе [Плунгян 2000:199] предлагается считать исходными для примеров типа (27) конструкции типа (28), «неопределенно-личные», т. е. с Субъектом — «неопределенным лицом»:
(28) сообщают о потерях;
занятия проводят на воздухе;
подачу газа приостановили.
В таком случае в пассивном залоге этот неопределенный субъект просто меняет синтаксическую позицию: переходит из позиции подразумеваемого субъекта в подразумеваемое же агентивное дополнение.
Возможна и другая трактовка: конструкция из (27) может быть получена из агентивной пассивной конструкции, трансформацией «Опущение неспецифицированного участника» (Unspecified subject deletion, см. [Levin 1993:27]):
(27') сообщается (кем-то) о потерях',
занятия проводятся (кем-то) на воздухе;
подача газа была приостановлена (кем-то).
В [Плунгян 2000: 214] такой переход представлен как «интерпретирующая актантная деривация» — опущение участника, выражающее его неопределенность. При такой трактовке (27) соотносится семантически с (28) как (29а) с (29б):
(29а) Больной поел;
(29б) Больной поел чего-то (съедобного).
Другой пример соотношения, где понятие диатезы наталкивается на «сопротивление материала», — это декаузативы. Декаузативация, в том числе, в примерах типа (30), трактуется в [Плунгян 2000: 209] (вслед за [Comrie 1985]) как «понижающая актантная деривация» — Каузатор утрачивает актантный статус, так что у декаузативной ситуации на одного участника меньше: исходный глагол представляет ситуацию как каузированную некой активной силой (в частности, лицом), а производный обозначает некаузированную ситуацию, которая не имеет внешнего агенса и происходит как бы сама по себе:
(30а) Порыв ветра разбил окно;
(30б) Окно разбилось от порыва ветра;
(зов) Окно разбилось.
Однако это осмысление семантического соотношения между (30а) и (зов) противоречит интуиции. В [Падучева 2001] подробно обосновано соотношение между разбить и разбиться как мотивированное двумя сдвигами — декаузативацией, которая является обычным диатетическим сдвигом, подобным пассиву, и не меняет числа участников, и интерпретирующей актантной деривацией, которая приводит к опущению участника Каузатор в ситуации, когда о его референте ничего не сообщается: причина наступившего изменения состояния может быть неизвестна, несущественна или, напротив, слишком явно подразумевается контекстом. Декаузатив оказывается на самом деле полностью аналогичным пассиву, разница только в том, что в пассиве Каузатор — Агенс, а в декаузативной конструкции — все что угодно, но не Агенс. Тогда Каузатор — неопределенная причина в (зов) в таком же смысле, в каком Агенс — неопределенное лицо в (27) или (28).
6. Примеры диететических сдвигов
Диатезу глагола можно представить в виде таблицы, в которой каждая строка соответствует одному из участников, а столбцы — их свойствам. Первый столбец задает переменную, т. е. имя участника; второй — его синтаксическую позицию и, тем самым, коммуникативный ранг, третий — роль. Синтаксическая позиция (столбец 2) не задает участника однозначно, поскольку она в ходе диатетического сдвига меняется; роль (столбец 3) — потому, что, в принципе, у участника может быть более чем одна роль. Однозначно задает участника только имя, так называемая переменная толкования[111].
Мена диатезы в примере (31) описывается формулой (31#):
(31а) Разбойники убили крестьянина;
(31б) Крестьянин был убит разбойниками.
Рассмотрим предложение (32б); в нем в позиции Субъекта оказывается Инструмент — хотя Инструмент, как мы говорили, предполагает Агенса, который в контексте (32б) отсутствует. Дело в том, что Агенс в (32б) отсутствует только на синтаксическом уровне. Он остается в числе участников ситуации, описываемой глаголом открыть (в частности, это он является субъектом оценки для без труда), но в контексте, где Инструмент возвысился до ранга Субъекта, уходит За кадр (получает ранг Нуль) — он синтаксически невыразим:
(32а) Я открыл дверь своим ключом;
(32б) Новый ключ открыл дверь без труда.
Таким образом, соотношение между (32а) и (32б) — это диатетический сдвиг. Диатетический сдвиг, который соотносит (33а) с (33б), может быть представлен так:
(33а) Сигарета прожгла дырку на скатерти;
(33б) Сигарета прожгла скатерть.
Соотношение между употреблениями резать в (34а) и (34б) тоже диатетическое:
(34а) Я резал бумагу тупыми ножницами;
(34б) Эти ножницы режут только бумагу.
Подразумеваемый Агенс есть у глагола резать в значении неагентивного процесса, как в примере (346), только потому, что в исходной диатезе резать — действие. Этим резать отличается, например, от глагола гореть, который обозначает процесс в своей исходной диатезе, и потому ситуация, описываемая этим словом, не подразумевает целеполагающего Агенса — ни в роли каузатора, ни инициатора (instigator) процесса. Хотя дрова горят обычно потому, что их кто-то разжег, а солома — нет, предложения Дрова горят и Солома горит описывают ситуацию с одним и тем же числом участников. Фраза Дрова горят хорошо предполагает субъекта оценки, но им может быть только говорящий, который по определению является участником любой ситуации.
Продвижение периферийного участника в ранг Субъекта не слишком широко распространено в русском языке; ср. однако:
(35) Этот могущественный предмет [деньги] с легкостью покупал все, что вам было угодно (Зощенко. Возвращенная молодость);
Мне и рубля не накопили строчки (Маяковский).
Итак, на примерах (31) — (35) мы продемонстрировали модели семантической деривации, которые сводятся к диатетическому сдвигу, т. е. преобразованию, состоящему в изменении коммуникативного ранга участников ситуации при неизменном составе их ролей.
Для сравнения укажем пример лексической деривации, которая не сводится к мене диатезы, поскольку роли участников не остаются неизменными:
(36а) Иван залил картошку водой;
(36б) Вода залила луга.
Роль у существительного вода в (36а) и (36б) различна: в (36а), где залить выступает как глагол действия, вода — Средство, которое Агенс использует для достижения своей цели; а в (36б) вода — это природная Сила: она «замещает» Агенса в ситуации и подобна ему в том смысле, что является носителем энергии, но отличается от него тем, что не способна пользоваться инструментами и средствами. Таким образом, набор семантических ролей у глагола залить в (36а) и (36б) различен. Общим для двух употреблений запить является только Объект, совмещающий роли Пациенс и Место, что и отражает частичное сходство их толкований. Два значения глагола в (36) связаны не только диатетическим, но и категориальным сдвигом, т. е. не только «метонимическим», но и «метафорическим» переносом.
Можно включить в диатезу еще один столбец, указывающий таксономию и референциальный статус участника, как в примере (34); тогда то, что в [Плунгян 2000] описывается как интерпретирующая актантная деривация, есть разновидность диатетического сдвига.
Итак, диатеза — это набор участников ситуации с их семантическими ролями (такими как Агенс, Пациенс, Инструмент) и коммуникативными рангами: Субъект и Объект имеют наивысший ранг — Центр; обстоятельства имеют ранг Периферия; участники, которым не соответствует никакой синтаксической позиции при глаголе, имеют низший ранг — За кадром.
Диатеза может различать разные значения одного слова, как в (37), и разные слова, как в (38):
(37) решил\, что делать [косвенная диатеза]; решил уехать\ [прямая диатеза];
(38а) бояться (Экспериент-Субъект, Содержание-Объект);
(38б) пугать (Каузатор-Субъект, Экспериент-Объект).
Слова, различающиеся только диатезой, как бояться и пугать, были названы в [Апресян 1974] конверсивами. Надо сказать, что подлинные конверсивы, т. е. слова, семантическое соотношение между которыми сводится к чисто диатетическому, встречаются редко. Так, роли участников у глаголов купить и продать все-таки различны: нельзя сказать, что роль у покупаемого — Товар; покупающий приобретает Ценность; а Товар это то, что продается. Так что в толкованиях глаголов купить и продать Агенсы различаются целями: цель Покупателя — в обмен на деньги получить Ценность; цель Продавца — получить деньги в обмен на Товар.
Говоря о диатезе, следует подчеркнуть особый статус рефлексивов. Переменная толкования, как уже говорилось, не может быть использована для референциальной идентификации участников; скажем, во фразе Слишком он любит самого себя у любить два разных участника: глагол любить предполагает две роли. Поэтому наших атрибутов участника недостаточно для описания такого залогового преобразования, как рефлексивизация. Чтобы представить рефлексивизацию как диатетический сдвиг, необходимо включить в диатезу референциальный идентификатор, т. е. информацию о кореферентных связях между участниками, ср. [Храковский 1981; Geniušiene 1987: 53]. В [Плунгян 2000: 212] рефлексивизация описывается не как диатетический сдвиг, а как интерпретирующая актантная деривация.
7. Расширение области применения понятия диатезы
За время, которое прошло с 1970 г., область применения понятия диатеза была расширена.
i. Было проведено различие между прямой и косвенной диатезой у глаголов, подчиняющих косвенный вопрос или параметрическое имя [Падучева 1999]:
(39а) выбрал в преемники Абдуллу [прямая диатеза];
(39б) выбрал преемника [косвенная диатеза].
Диатеза может различать значения одного слова и слова между собой; так, в (40а) прямая, а в (40,) — косвенная диатеза глагола решить:
(40а) решил уехать;
(40б) решил\, что делать.
А предпочесть отличается от решить тем, что у него единственная возможная диатеза — прямая: предпочел уехать\.
ii. Была введена диатеза с детерминантом (см. об этой диатезе в [Мельчук 1995: 139]). Так, в примере (41) из [Падучева 1974: 235] у словоформы соответствуют возникает «лишняя» (по сравнению со словарем) синтаксическая позиция — для детерминанта с предлогом у; а у его подчиненных, напротив, пропадает синтаксическая позиция — чьи валентности и чьи актанты показывает детерминант:
(41) У наречий синтаксические валентности не соответствуют семантическим актантам.
Позднее этот сдвиг был назван фокализацией в [Мельчук 1995: 150], экстрапозицией Посессора в [Кибрик 2000]. Речь идет о расщеплении генитивной группы с посессивным, в широком смысле, отношением:
(42) [Диагональ ромба] [является осью симметрии] =>
[У ромба] [диагональ является осью симметрии].
iii. Другой вариант расщепления генитивной группы дает диатезу с подъемом Посессора и экстрапозицией Обладаемого; см. [Кибрик 2000]; запрет посессивной валентности у имени и лишняя синтаксическая позиция (для Обладаемого) у глагола:
(43) Зинины жалобы мне надоели => Зина надоела мне своими жалобами.
Сдвиг такого рода может быть морфологически маркирован:
(44) Голова куклы вращается => Кукла вращает головой (пример из [Апресян 1974]).
iv. Диатеза с Наблюдателем; ср. (45а) и (45б):
(45а) Охотник обнаружил на опушке следы медведя.
(45б) На опушке обнаружились следы медведя.
В результате диатетического сдвига субъектную позицию занимает Перцепт, а участник Экспериент уходит за кадр, т. е. становится Наблюдателем.
В 60–70 гг. на повестке дня была синонимия, т. е. отношение между знаком и смыслом. Сейчас в рассмотрение вовлечена третья вершина треугольника Фреге — денотат: ставится вопрос о языковой концептуализации реальной ситуации. Разные концептуализации достигаются, прежде всего, за счет смещения фокуса внимания. Изменение диатезы глагола можно трактовать как смещение фокуса внимания, а следовательно — как метонимический сдвиг.
Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М.: Наука, 1974.
Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
Кибрик А. Е. Внешний посессор как результат расщепления валентности // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Отв. ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000.
Мельчук И. А. Русский язык в модели «Смысл о Текст». М.; Вена, 1995.
Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. II. М.; Вена, 1998.
Мельчук И. А., Холодович А. А. К теории грамматического залога // Народы Африки и Азии. 1970. № 4.
Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. М., 1974.
Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
Падучева Е. В. Семантические исследования. М., 1996.
Падучева Е. В. Аспектуальные свойства глаголов с семантическим актантом Результат // Вопр. филологии, 1999. № 3.
Падучева Е. В. Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // Рус. яз. в науч. освещении. 2001. № 1.
Плунгян В. А. Общая морфология. М., 2000.
Шмелев А. Д. Референциальные механизмы русского языка. Тампере, 1996.
Храковский В. С. Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.
Храковский В. С. Диатеза и референтность // Залоговые различия в разноструктурных языках. Л., 1981.
Comrie B. Causative verb formation and other verb-deriving morphology // Shopen T. (ed.). Language Typology and Syntactic Description. Vol. HI: Grammatical Categories and the Lexicon. Cambridge, 1985.
Dik S. C. The Theory of Functional Grammar. Dordrecht (Holland), 1989.
Dowty D. R. Thematic proto-roles and argument selection // Language. 1991. Vol. 67. Pt 3.
Geniušieni E. The Typology of Reflexives. Berlin; N. Y.; Amsterdam, 1987.
Jackendoff R. Semantic Structures. 3rd ed. Cambridge etc., 1993.
Levin B. English Verb Classes and Alternations: A preliminary investigation. Chicago, 1993.
Wierzbicka A. The Case for Surface Case. Ann Arbor, 1980.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ВРЕМЕН В НЕКОТОРЫХ ТИПАХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (на материале чешского языка)
Я. Паневова
Употребление глагольных времен в некоторых типах сложноподчиненных предложений
(на материале чешского языка)
1
Употребление глагольных временных форм в сложноподчиненном предложении определяется обычно специфическими правилами, которые зависят от типа языка, а внутри языка от типа предложения. Даже в языках, где имеется простая (трехчленная) система глагольных времен, как в чешском, есть правила употребления форм настоящего, прошедшего и будущего времени для выражения одновременности, предшествования и следования событий. Они формально отличаются от системы «consecutio temporum», представленной, например, в английском языке. Кроме того, правила употребления глагольных времен не совсем точно отражены в современных грамматических описаниях. В них правильно отмечен только тот факт, что относительность выражается в чешском языке следующим образом: одновременность выражается как настоящее, предшествование как прошедшее и следование как будущее; однако граница того, где выражается абсолютное время, а где относительное (ср. ниже), проведена неточно.
Для более точного описания этого явления мы будем пользоваться модифицированной версией понятий, употребляемых в известной схеме Райхенбаха [Reichenbach 1947]:
S — момент речи (point of speech),
Е — момент действия (point of event),
R — пункт референции (point of reference).
О моменте действия можно говорить и в тех случаях, когда налицо продолжительность действия. В соответсвии с традиционным понятием абсолютного и относительного времени (ср. также понятие временного таксиса у Бондарко [Бондарко 1987; 1990:16 и далее]), в чешском языке при абсолютном времени пунктом референции служит S (момент речи), а при относительном времени момент Е какого-то другого действия в сложном предложении.
Мы ставим перед собой задачу рассмотреть вопросы (i) и (ii), учитывая при этом только грамматические средства выражения времени (морфологическую категорию глагольного времени). Вторичные средства (глагольный вид, средства лексические и контекстуальные), из которых выводимы посредством логической инференции некоторые темпоральные отношения, используются нами только как средства эвристические:
(i) в каких типах предложений выражается абсолютное и в каких относительное время,
(ii) каким образом определяется в отдельных типах предложений R (пункт референции).
Чтобы ответить на эти вопросы, мы будем пользоваться понятиями из грамматики зависимостей, так как для нас важна позиция и тип данного предложения (clause) в структуре сложного предложения (sentence). Глагол рассматривается как корень дерева зависимостей с рекурсией, т. е. каждое поддерево, представляемое одним предложением (clause), имеет свой вербальный корень.
Будем различать следующие позиции:
— главное предложение (main clause): Vm,
— предложение (глагольная форма), управляющее непосредственно или опосредованно (immediately/nonimmediately governing): Vg,
— предложение (глагольная форма) непосредственно или опосредованно зависимое (управляемое) (immediately or non-immediately dependent clause): Vd
Что касается придаточных предложений, то мы будем пользоваться следующими понятиями:
— изъяснительные предложения (content clauses): Vc (прототипически это косвенные высказывания);
— остальные придаточные предложения (атрибутивные и обстоятельственные) (adjunct clauses): cVad.
В чешских грамматиках до сих пор можно найти утверждения, на неточность которых мы обратили внимание уже в начале 70-х годов [Panevová, Benešová, Sgall 1971]. Эти утверждения можно кратко сформулировать следующим образом:
(A) Абсолютное (основное) время употребляется в предложениях Vm и Vgd.
(B) Относительное время употребляется в предложениях Vc.
На примерах предложений с более сложной структурой, чем главное предложение с одним придаточным, мы продемонстрируем, что эти формулировки недостаточны:
(1) Marie mi napsala (E1), že mi přiveze (E2) zajímavý dárek, který koupí (E3) přimo od autora
«Мария мне написала, что привезет мне интересный подарок, который купит прямо у мастера».
(1a) Marie mi včera napsala (E1), že mi na Vánoce přiveze (E2) zajímavy dárek, který koupi (Е3) příští týden přímo od autora
«Мария мне вчера написала, что привезет мне на Рождество интересный подарок, который купит на следующей неделе прямо у мастера».
(1b) Marie mi před měsícem napsala (E1), že mi až о Vánocích přiveze (E2) zajímavý dárek, který koupí (E3) následující den přímo od autora
«Мария мне месяц тому назад написала, что только на Рождество привезет мне интересный подарок, который на следующий день купит прямо у мастера».
Синтаксическая характеристика действий следующая:
E1 — Vm, Е2 = Vc, Е3 = Vad.
Для демонстрации того, что в предложении Е3 не выражено абсолютное время, т. е. формулировка (А) выше неверна, мы используем. варианты (1а) и (1b), с обстоятельствами, указывающими на порядок действий в данном сложном предложении. Порядок Е2 и Е3 определяется логически (сначала нужно купить, потом можно подарить). Во всех трех вариантах (1) временные формы одни и те же, однако после уточнения с помощью обстоятельств мы получаем две разные схемы, отличающиеся позицией Е3 по отношению к S. Таким образом мы опровергаем утверждение (А). В Е3, которое является адъюнктивным предложением, следовательно, выражено не абсолютное время, а относительное. Однако, возникает вопрос, «относительное» по отношению к чему. Это мы и будем выяснять с помощью примеров (2) и (3):
(2) Marie mi (už v listopadu) napsala (E1), že mi (o Vánocích) přiveze (E2) zajímavý dárek, který koupí následující týden na vernisáži (E3) přímo od autora, a už je s ním tady (E4)
«Мария мне (уже в ноябре) написала, что привезет мне (на Рождество) интересный подарок, который (на будущей неделе) купит на вернисаже прямо у мастера, и вот она с ним уже здесь».
(3) Marie mi (už v listopadu) napsala (E1), že mi (o Vánocích) přiveze (E2) zajímavý dárek, který už v létě koupila (E3) na vernisáži přímo od autora, nemohu se proto už Vánoc dočkat (E4) «Мария мне (уже в ноябре) написала, что привезет мне (на Рождество) интересный подарок, который (уже давно) купила прямо у мастера, поэтому я уже с нетерпением жду Рождества».
Контекст и обстоятельства в (2) и (3) показывают, что в Е3 не только не выражается абсолютное время — в (2) оно осуществилось в прошлом и форма выражает футуральность, — но оно не выражает грамматически отношение к своему управляющему действию (Vg); их взаимный порядок мы устанавливаем логически (то, что человек хочет привезти с собой, сначала нужно купить). Глагольная форма Е3 выражает отношение к Е1 в (2) у Марии в ноябре еще подарка не было, в то время как в (3) он уже в ноябре, когда она об этом сообщала, был куплен. Взаимный порядок действий (включая пояснительные контексты) показан на схемах (2а) и (За).
Очевидно, что ситуация, которую не предусматривают формулировки, приведенные в грамматических пособиях, возникает тогда, когда отношение адъюнктивного предложения (Vad) к главному предложению является не непосредственным, а опосредствованным (например, предложением типа косвенной речи (Vc)).
Наши наблюдения можно обобщить для сложноподчиненных предложений любой сложности в виде трех простых правил рекурсивного характера:
(i) Rm= S
(ii) Rc= Eg
(iii) Rad = Rg.
В правиле (i) указывается, что в главном предложении всегда употребляется абсолютное время, т. е. пунктом референции служит момент речи (8). Правило (ii) показывает, что время придаточного изъяснительного ориентируется на действие его управляющего глагола (т. е. время относительное по отношению к управляющему предикату, независимо от его позиции в структуре сложного предложения). Правило (iii) демонстрирует, что в других типах придаточных предложений (Vad) абсолютное время выражается в случае, если нигде по пути от к главному предложению Vm не находится никакое Vс, т. е. изъяснительное предложение; во всех остальных случаях там выражено относительное время.
2
В прототипических случаях правила (i) — (iii) соблюдаются. Однако мы обнаружили некоторые отклонения от этих правил (см. (4) — (6)), причины которых постараемся объяснить ниже.
(4) Pozoroval (E1), že bude nucen vejít (E2) v diskusi, jež se mu nejasné příčila (E3) (w příčí). (K. Čapek)
«Он сознавал, что ему придется вступить в прения, которые ему были не по душе (vs не по душе)».
(5) Věděla (E1), že se jí nadarmo nezdálo (E2) o velké vodě, která teď zaplavila (vs zaplavuje) (E3) rodinu nešťastnou povodní. (A. M. Tilschová)
«Она знала, что недаром ей снилась высокая вода, которая сейчас залила (vs заливает) семью злосчастным наводнением».
(6) Viděla (E1), jak děti za můstek zacházejí (E2), kde na ně Mančinka čekala (E3) (vs čeká). (B. Němcová)
«Она видела, как дети заходят за мостик, где Машенька их уже ожидала (vs ожидает)».
В придаточных (adjunct, Е3) предложениях в (4) — (6), которые взяты из художественной литературы, употреблено не относительное, а абсолютное время. Однако оно всегда заменимо «надлежащей» формой относительного времени (приведенной в скобках). Формы в скобках (отношения к E1) соответствуют такой структуре сложного предложения, в которой после главного предложения следуют два непосредственно и опосредованно ей подчиненные предложения, образующие косвенную речь, т. е. при такой форме предполагается, что оба придаточных предложения были составной частью косвенной речи. В чешских предложениях, однако, встречаются формы, которые соответствуют другой деривации сложного предложения, а именно той, которую мы предлагаем в (4а) — (6а). Здесь заключительное предложение в каждой из последовательностей (Е3) является не частью косвенного высказывания, а дополнительным комментарием говорящего.
(4a) Pozoroval (E1), že bude nucen vejít (E2) v diskusi; ta se mu nejasně příčila (E3) (vs příčí) (K. Čapek)
«Он сознавал, что ему придется вступить в прения; это ему было не по душе (vs не по душе)».
(5а) Věděla, že se jí nadarmo nezdálo o velké vodě; ta teď zaplavila rodinu nešťastnou povodní
«Она знала, что недаром ей снилась высокая вода; сейчас она залила семью злосчастным наводнением».
(6а) Viděla, jak dětí za můstek zacházejí; Mančinka už tam na ně čekala
«Она видела, как дети за мостик заходят; Машенька их там уже ожидала».
3
В связи с описываемой здесь проблемой необходимо заметить, что иногда трудно провести границу между двумя типами придаточных предложений (Vc и Vad) на различии которых мы основали свое описание употребления глагольных времен. Это связано с многозначностью структур, подобных (7):
(7) Ivan teď řekl (E1), že Petr už před 20 lety mluvil o tom, co bude jeho tehdy malý synek studovat (E3).
«Иван сейчас сказал, что Петр уже 20 лет тому назад говорил о том, что будет его тогда маленький сын изучать».
В значении (а) Иван сообщал (предполагаемый) факт, что его сын будет учиться (скажем, в университете), и тогда Е3 является Vc (изъяснительным). В значении (b) Иван описывал специальность, относительно которой он предполагает, что ее будет изучать его сын (тогда это Vad). Этим значениям соответствуют возможные схемы временного следования событий (7а) и (7b):
В значении (а) на основе предпосылки, что сыну Ивана в момент речи по крайней мере 20–21 год, можно сделать вывод, что содержание изъяснительного предложения относится к прошлому (однако грамматически выражено только то, что Е3 наступило после момента, когда Петр лет 20 тому назад говорил о будущем своего сына). В значении (b) позицию Е3 нельзя установить логически: начал ли сын уже изучать данную специальность или только начнет; вывод будет скорее основан на обстоятельстве teď «теперь», толкуемом как «несколько минут тому назад», тогда вернее вторая интерпретация (Е3 после S). В обоих случаях грамматическая форма выражает только то, что Е3 наступило после Е2, которое теоретически может располагаться или перед S, или после S.
В статье [Panevová 1971] мы попытались предложить методику, на основе которой можно установить границу между Ve и Vad (см. ниже, в разд. 4). В этой статье мы также представили предварительную классификацию предикативных выражений, управляемых субъектным предложением, в которых имеется различие в употреблении времен (остальной текст статьи посвящен объектным придаточным; определительные придаточные мы не рассматриваем):
(a) абсолютное время требуется после выражений stalo se, přihodilo se, že… «случилось, что…»;
(b) относительное время требуется после выражений napadlo mě, že… «мне пришло в голову, что…», zdálo se mi, že… «мне показалось, что…»;
(c) оба типа времени применимы, например, после выражений: bylo příjemné/mrzuté/ divné/pozoruhodné «было приятно/неприятно/странно/замечательно».
Тип (с) можно объяснить на основе гипотезы, которую мы пользовались для описания примеров (4), (5) и (6). Примеры (8а) и (8b) можно перифразировать двумя способами (8а') и (8b'), если мы согласимся с тем, что они вставлены в перформативную рамку построения сообщения. В варианте (а) употреблено относительное время, в то время как в варианте (b) — абсолютное время. В вариантах со штрихом показано, что в первом случае оба предложения входят в косвенную речь перформативного глагола, а во втором — что это два отдельных высказывания, каждое со своим собственным перформативом:
(8a) Bylo příjemné, že nikdo není doma.
«Было приятно, что никого нет дома».
(8b) Bylo příjemné, že nikdo nebyl doma.
«Было приятно, что никого не было дома».
(8а') Říkám, že bylo příjemné, že nikdo není doma
«Я говорю, что было приятно, что никого нет дома».
(8b') Říkám, že nikdo nebyl doma. Říkám, že to bylo příjemné.
«Я говорю, что никого не было дома. Я говорю, что это было приятно».
4
Для того чтобы проверить нашу методику разграничения объектных (Vc) и атрибутивных (Vad) придаточных предложений, состоящую из шагов 1, 2 (i), (ii) и 3 (i), (ii), мы использовали материал Prague Dependency Treebank (PDT; его описание см., например в [Hajičová 1998]). Оттуда взяты примеры (12) — (15). Сама методика (подробнее см. [Panevová 1971]) основана на присутствии/отсутствии и необходимости/возможности местоимения ten/to «тот/то», которое может выполнять функцию чисто структурного (коррелятивного) элемента или является анафорическим. Однако необходимо добавить, что эта методика оказывается полезной в случаях, где одновременно присутствует морфологическая омонимия форм местоимения ten/to. В предложении (9) не согласован род местоимения ten и род (относительного) местоимения koho, форма которого явно показывает на одушевленность, здесь ситуация ясна и нет необходимости применять предложенную методику. Она годится для предложений типа (10), где форма местоимения ten принадлежит или среднему роду (to) или мужскому одушевленному (ten).
(9) Ptal se na to (ср. р.), koho (муж. odytu.) jsme zvolili
«Он спрашивал (о том), кого мы выбрали».
(10) Všiml jsem si toho (род. ср. и муж. р.), kdo (муж. одуш.) odešel
«Я заметил того, кто ушел».
(11) Nevěděli, kdo přijde «Они не знали, кто придет»
*Nevěděli to, kdo přijde * «Они не знали то, кто придет».
(12) Takový je výsledek pro toho, kdo všechny body v první vlně vložil do Krušnohorských strojíren (PDT, TOV1#25)
«Таков результат для того, кто все свои баллы в первой волне приватизации вложил в Крушногорский строительный завод».
(13) Musí však získat dostatek informací o tom, co domácí zákazník vyžaduje (PDT, TОV1#37)
«Он должен приобрести достаточное количество информации о том, чего требует клиент».
Podle zkušenosti managmentu tím odpadlo dohadováni o tom, kdo bude provozovatelem nové sítě (modified version of PDT, TОV1#34)
«В соответствии с практикой менеджмента исключены переговоры о том, кто будет пользователем новой сети».
Autor knihy sám říká: Po několika letech studia jsem objevil to, co doufám objevíte i vy během čtení této knihy. (PDT, TOV0#27)
«Автор книги сам говорит: „После нескольких лет изучения я открыл то, что, надеюсь, откроете и вы при чтении этой книги“».
Из PDT мы взяли такие примеры, в которых имеется местоимение ten/to в управляющем предложении и зависимое от него придаточное предложение. Получился список из 150 предложений, из которых 50 оказались релевантными для нашей задачи. После применения методики, описаний выше, мы получили следующий результат:
28 предложений было правильно проанализировано как Vad.
13 предложений было правильно проанализировано как Vc.
6 предложений было правильно проанализировано как омонимия Vc и Vad.
3 предложения были неправильно проанализированы как омонимия Vc и Vad.
Можно заметить, что 50 проанализированных предложений не достаточно для того, чтобы полученные результаты можно было счесть убедительными. Тем не менее, представленный анализ — одна из первых демонстраций того, как PDT может использоваться для конкретного лингвистического исследования.
Бондарко А. В. (отв. ред.). Теория функциональной грамматики: Введение. Аспекту альность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
Бондарко А. В. (отв. ред.). Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
Hajičová J. Building a Syntactically Annotated Corpus: The Prague Dependency Treebank // HajiCovi E. (ed.). Issues of Valency and Meaning. Prague, 1998.
Panevová J Vedlejší věty obsahové // Slovo a slovesnost. 1971. № 32.
Panevová J., Benešová Sgall P. Čas a modalita v češtině. AUC — Philologica Monographia 34. Praha, 1971.
Reichenbach H. Elements of Symbolic Logic. N. Y., 1947.
Н. В. Перцов
Об альтернативности в грамматическом описании
Во второй половине минувшего столетия о неединственности лингвистических решений шла речь неоднократно как в зарубежной, так и в отечественной литературе — [Yuen-Ren Chao 1934; Ваг-НШе1 1964; Мельчук 1971; Храковский 1994]. При описании языка ситуация равновозможного выбора между двумя альтернативными трактовками одного и того же языкового феномена вполне нормальна; сама природа естественного языка, с его глобальной неоднозначностью на всех уровнях, благоприятствует возникновению такого рода ситуаций. В большинстве случаев, когда исследователь (включая автора этих строк) сталкивается с ситуацией альтернативности в лингвистическом описании, он нацелен на непременное разрешение альтернативы в пользу какого-либо одного из решений, на полное научное обоснование такого выбора, которое, по его замыслу, не должно оставлять никаких шансов для других вариантов.
Однако не всегда такое обоснование возможно. Я полагаю, что при современном состоянии знаний о том, как человек владеет языком, в ряде случаев мы, опираясь на арсенал средств лингвистики, не можем найти каких-либо строгих и убедительных аргументов для окончательного выбора между альтернативными вариантами. В таких случаях — вместо упорного стремления все же найти решающие аргументы — более плодотворным представляется другое: фиксация вариантов и для каждого из них указание тех свойств языка, которые свидетельствуют в его пользу, и тех последствий для описания, которые вытекают из принятия данного варианта.
Данная работа посвящена альтернативности в хорошо изученной области — в русской морфологии. Будут рассмотрены некоторые ситуации выбора между альтернативными решениями, которые, как представляется автору, не могут быть разрешены посредством строгих доказательных рассуждений. Вследствие ограничений места я лишен возможности выполнить указанные выше задачи для альтернативных ситуаций и вынужден ограничиться простым их перечислением. В каждом конкретном случае я принимаю какую-либо определенную трактовку «альтернативного» феномена или склоняюсь к такой трактовке, а в некоторых случаях привожу те или иные аргументы в ее пользу, не считая эти аргументы окончательными и решающими.
Из приводимого ниже разбора альтернативных решений вытекает существенный статус в русском словоизменении внекатегориальных словоизменительных значений — квазиграммем [Мельчук 1997]. Будучи словоизменительными значениями, квазиграммемы, в отличие от граммем, не противопоставлены никаким другим словоизменительным значениям, они не обладают свойством обязательности для единиц некоторого класса. Существование таких значений в корне подрывает принцип обязательности грамматического значения, ставший популярным в отечественной лингвистике в 1960-х годах — после введения его в отечественный научный обиход И. А. Мельчуком в монографии четырех авторов [Ахманова и др. 1961: 34–35], а в особенности после книги [Зализняк 1967]. В своем «Курсе общей морфологии» И. А. Мельчук [1997] по существу отказался от этого принципа, введя в морфологическое описание квазиграммемы. Примеры квазиграммем на материале разноструктурных языков читатель может найти в указанной книге Мельчука, а также в [Перцов 2001: 84 сл.]. Однако в поисках квазиграммем далеко ходить не надо: русский язык дает достаточно материала для их выявления, что, как можно надеяться, читателю станет ясно по ознакомлении с некоторыми альтернативными ситуациями из предлагаемого ниже обзора. В этом обзоре автор использовал материал из главы III книги [Перцов 2001], где в разных разделах разобраны 12 альтернативных ситуаций из 15 предлагаемых ниже; ситуации (2), (3) и (14) в упомянутой книге не затронуты. При перечне альтернатив для каждой ситуации выбора в качестве первой дается та, которую предпочитает автор настоящей работы (ни в коей мере не настаивая на непреложности этих предпочтений).
В ряде случаев встает вопрос о статусе тех или иных значений с точки зрения противопоставления словоизменения и словообразования. В [Перцов 2001] собран набор из 15 эвристических критериев противопоставления словоизменения и словообразования (сокращенно — ЭКПСС), которые могут быть применены к тому или иному грамматическому значению для установления его статуса. Иногда автор ссылается ниже на результаты испытаний спорных значений по набору ЭКПСС.
(1) Вокатив (Наташ, Серёж, пап, мам):
падежная граммема vs. внепадежная квазиграммема.
Вокатив выпадает из падежной системы существительного, маркируя внеструктурное положение последнего в предложении. На этом основании вокатив иногда выводят из падежной системы. В таком случае его следует трактовать как внекатегориальное словоизменительное значение, т. е. как квазиграммему. Однако при расширительной трактовке категории падежа (при которой функции падежных граммем не ограничиваются маркировкой актантов) включение вокатива в состав падежей допустимо — тем более что апеллятивная функция свойственна также номинативу.
(2) Число у предметных pluralia tantum (типа сани):
множественное число vs. омонимия чисел
(Приехали только одни сани ~ Вокруг стояли сани).
Для существительных pluralia tantum граммема числа закреплена: варьировать ее невозможно. Между тем предметные pluralia tantum в разных контекстах могут обозначать и ровно один объект, и большее их количество. В книге [Зализняк 1967] предлагается усматривать в данном случае грамматическую неоднозначность: сегмент типа сани вне контекста в таком случае оказывается неоднозначным не только относительно категории падежа, но и относительно категории числа, т. е. интерпретируется как разделительная дизъюнкция — «ед., им.»/«ед., вин.»/«мн., им»/«мн., вин».
Трактовка А. А. Зализняка, будучи весьма последовательной с точки зрения семантики, обладает теневыми сторонами с точки зрения морфологии и синтаксиса. Получается, что флексии— и, — ям) ями, — ях, которые представляются функционально одинаковыми в плюральных словоформах, скажем, лексемы БАНЯ (бан-и, бан-ям. бан-ями. бан-ях). с одной стороны, и в словоформах лексемы САНИ (сан-и, сан-ям. сан-ями. сан-ях), с другой, оказываются по-разному функционально нагружены в словоформах этих лексем. С точки зрения согласования словоформы типа сани ведут себя точно так же. как обычное множественное число.
Однофункциональная трактовка (которая в большей степени отвечает лингвистическому вкусу автора) имеет свой недостаток: граммема множественного числа в данном случае полностью лишается своего инварианта или прототипа («количество объектов более одного»),
(3) Припреддожные формы личных местоимений 3 лица (с нею, для них): выражают ад. не выражают особую квазиграммему «припредложность».
Местоименные словоформы типа ею ~ нею (вторая может быть только после первообразного предлога) могут трактоваться в рамках заполнения либо одной клетки парадигмы соответствующей лексемы (для приведенного примера клетки с грамматическим значением «ед., тв., жен.» — если признавать единую лексему ОН для всех личных местоимений третьего лица), либо двух разных. В первом случае приходится констатировать грамматическую вариативность — наподобие той, которая наблюдается в случаях типа стеной ~ стеною. Однако выбор между формами местоимений без начального н и с таковым подчиняется совсем другим факторам, нежели обычная грамматическая вариативность: он связан в рассматриваемом случае не со стилистическими условиями, а с чисто грамматическим линейным контекстом.
При альтернативной трактовке, состоящей в разной грамматической квалификации этих словоформ, встает вопрос о том, какими средствами ее проводить — в рамках грамматической категории «отсутствие/наличие препозитивного первообразного предлога» или посредством особой квазиграммемы «припредложность».
(4) Краткая форма прилагательного: квазиграммема «краткость» граммема категории «атрибутивность».
Противопоставление полных и кратких форм прилагательного (и причастия), с чисто формальной точки зрения, может быть отражено и без обращения к специальным грамматическим средствам: полные формы характеризуются наличием, а краткие отсутствием граммем падежа. Однако такой отказ от специальных средств грамматической квалификации представляется неоправданным обеднением системы языка. Введение таких средств может быть двояким — либо с помощью квазиграммемы «краткость», либо с помощью категории «атрибутивности/неатрибутивности» (как это сделано в [Зализняк 1967]). Квазиграммемный вариант для автора обладает большей привлекательностью: полные формы могут употребляться во всех контекстах употребления кратких форм, т. е. в позиции предикатива и в позиции обособленного оборота при подлежащем, возможно, подвергшемся эллипсису (второй случай характерен для старинного поэтического языка, ср. примеры из Пушкина: <…> Сим страшным восклицаньем/Сражен, Онегин с содроганьем/Отходит и людей зовет; Грустен и весел, вхожу ваятель в твою мастерскую).
(5) Сравнительная степень прилагательного и наречия:
(а) словоизменение vs. словообразование;
(б) при словоизменительной трактовке: квазтраммема vs. граммема.
В русистике неоднократно раздавались голоса в пользу словообразовательного статуса компаратива [Исаченко 1954: 267–269; Зализняк 1977: 6; Пеньковский 1989; Поливанова 1990: 54, 59; Плунгян 1994: 153] — в противоречие общей практике трактовки этого значения в рамках словоизменительной категории степени сравнения (вместе с положительной и превосходной степенью). Аргументация (в том случае, когда она вообще есть) касается в основном формальных и сочетаемостных свойств компаратива: особые морфонологические чередования, случаи супплетивизма, нерелевантность для форм компаратива числа, падежа и рода. Последнее придает формам компаратива прилагательного, действительно, изолированный статус. Однако с точки зрения состава значений аналогичный статус имеет, скажем, инфинитив и деепричастие по отношению к финитным формам и причастиям, при этом никто не предлагает считать инфинитив и личные формы представителями разных лексем.
При оставлении компаратива в области словоизменения здесь так же, как в предыдущем пункте (4), возникает альтернатива категориальной или квазиграммемной его трактовки. В первом случае может рассматриваться вопрос о составе граммем категории «степень сравнения»: помимо компаратива, в нее можно включать позитив, суперлатив или оба эти значения. Суперлатив и по семантике, и по способу выражения примыкает к таким аффиксам прилагательного, как — еньк, — оват, — енн, — ющ (тяжеленький, тяжеловатый, тяжеленный, тяжелющий — ср. близость значения двух последних прилагательных со значением суперлатива тяжелейший), и я склонен согласиться с мнением о его словообразовательном статусе. Если оставить в категории степени сравнения форму позитива тяжелый, это приводит к противоречию между ним и общим значением компаратива в сочетании более тяжелый. Тем самым, квазиграммемная трактовка, на мой взгляд, самая безболезненная.
(6) аттенуативность в компаративе (побыстрее): словообразование vs. словоизменение (квазиграммема аттенуативности).
От любой формы компаратива прилагательного или наречия можно образовать «смягченную» форму посредством префикса по-: посмелее, повеселее и т. п. Эвристические критерии (ЭКПСС — о которых говорилось в начале статьи) отдают преимущество словоизменительной трактовке аттенуатива. Реализация такого решения предполагала бы введение особой квазиграммемы «аттенуатив» Однако такой подход приведет к странной ситуации: это будет единственный случай префиксального выражения в русском языке словоизменительного значения в сфере имени (в сфере глагола префиксально выражаемое словоизменение усматривается иногда в префиксальных перфективных словоформах типа сделать — в случае признания видовых пар типа делать ~ сделать).
Правда, предлагаемая словообразовательная трактовка аттенуатива сопряжена с некоторым осложнением. В самом деле, если мы оставляем компаратив в сфере словоизменения, как предложено выше в (5), тогда получается, что аттенуатив образуется не от единой лексемы прилагательного, а от его конкретной формы, т, е. от части его парадигмы. В таком случае следует признать допустимым в словообразовании феномен образования новой лексемы не от единой мотивирующей лексемы, а от части такой лексемы — или от части парадигмы такой лексемы. Более подробно феномен словообразования от части парадигмы обсуждается ниже, в пункте (15).
(7) Отадъективные наречия (смело, геройски, по-новому): словообразование vs. словоизменение.
Для обширного класса прилагательных существуют адвербиальные корреляты: веселый ~ весело, геройский ~ геройски, хороший ~ хорошо/по-хорошему, новый ~ по-новому, русский ~ по-русски и т. п. Общепринята словообразовательная трактовка данных соотношений, однако словоизменительная трактовка тоже возможна. В последнем случае для прилагательного следует либо ввести особую категорию репрезентации — с граммемами «адъектив» и «адвербиал», либо постулировать квазиграммему «адвербиал».
(8) Категория вида:
словоизменение vs. словообразование vs. раздельная трактовка суффиксальных и префиксальных видовых пар.
Промежуточный характер вида в аспекте противопоставления словоизменения и словообразования хорошо известен. Как показано в [Перцов 2001: 128 сл.], ЭКПСС дают некоторое преимущество словоизменительной трактовке вида, однако это преимущество не является безоговорочным вследствие отсутствия достаточно строгих весовых характеристик для ЭКПСС, а также вследствие значимости для вида словообразовательно ориентированных критериев. В той же работе обоснована возможность раздельной трактовки суффиксальных (украшать ~ украсить) и префиксальных (делать ~ сделать) видовых пар: первые могут рассматриваться в сфере словоизменения, а вторые — в сфере словообразования.
(9) Залог:
(a) противопоставление активных и пассивных форм в рамках единой категории залога описание пассивных форм как носителей квазиграммемы пассива, а активных — как немаркированных;
(b) противопоставление невозвратных и возвратных пассивных форм (т. е. не обладающих и обладающих постфиксом — ся) — сь) в рамках единой категории «невозвратность/возвратность» vs квалификация возвратных форм как носителей квазиграммемы «возвратность», а невозвратных — как немаркированных.
При общепринятой категориальной трактовке залога встает проблема формальной выраженности актива в личных синтетических формах глагола. В словоформе читается пассив выражен постфиксом, а чем тогда выражен актив в словоформе читает? Чисто формальные соображения вынуждают, как кажется, постулировать здесь для актива нулевой конечный суффикс, что выглядит неприятно. Обращаясь к языкам, где отсутствуют личные синтетические формы пассива, мы сталкиваемся с еще большими трудностями при нахождении носителей значения активного залога: ведь там нельзя даже поморфно сопоставить личные глагольные словоформы разных залогов. Все подобные проблемы исчезают, коль скоро мы откажемся от категориальной трактовки залога в пользу квазиграммемной трактовки пассива. Тогда глагольные формы, имеющие исходную словарную диатезу, окажутся просто лишенными всякой залоговой характеристики — и говорить о носителях несуществующего значения не придется.
Пассивные глагольные формы делятся на два класса: формы на — ся и остальные формы (т. е. пассивные причастия на — м или — н/~т или аналитические формы со связочным глаголом быть и таким причастием). Для отражения этого различия я предлагаю ввести специальную словоизменительную категорию возвратности — с граммемами «возвратность» и «невозвратность». Тем самым в грамматическом описании получит отражение различие словоизменительных характеристик у глагольных форм в таких парах, как следующие: Крик заглушается музыкой ~ Крик заглушаем музыкой; долго составляющийся план ~ долго составляемый план; Этот журнал читался всеми ~ Этот журнал был читан всеми; лекция, читавшаяся в зале ~ лекция, читанная в зале; Пакет дошлется позднее ~ Пакет будет дослан позднее (первый член последней пары в академической лингвистике не трактуется как пассив, однако в [РГ 1980: 616] такого рода формы все же не отвергаются; к приведенным там примерам можно добавить цитату из Пушкина, в которой возвратный перфективный глагол выражает именно пассив: Он узнал… и львов, и площадь, и того,… чьей волей роковой под морем город основался).
(10) Императив:
только формы 2 лица (иди, пойди и т. п.) vs. расширенная трактовка императива (с включением форм типа пойдем, идем, пусть идет и т. п.).
В состав императива принято включать, помимо собственно императивных синтетических форм, т. е. форм повелительного наклонения второго лица единственного и множественного числа — пой(тe), спой(те), еще и другие разнообразные случаи: формы так называемого повелительного наклонения совместного действия типа споем(те)(-ка), будем петь, давай(те) споем, давай(те) (будемте) петь; формы самопобуждения — типа спою-ка, дай(те) спою; аналитические способы выражения побуждения, обращенного к третьему лицу, — типа пусть (пускай) поет/споет)поют/споют, и т. п. Автор склоняется к трактовке указанных выражений скорее как случаев несобственного употребления языковых единиц (форм индикатива, синтаксических конструкций) для выражения побуждения (т. е. как случаев «транспозиции» тех или иных единиц в семантическую область императива), нежели как носителей грамматического значения императива.
(11) Формы типа пойдемте:
квазиграммема «побуждение к совместному действию» vs. граммема императива.
Трактовка этих форм — с суффиксом — те — существенно связана с трактовкой форм без такого суффикса (пойдем). Если последние в побудительном употреблении подводить под императив, тогда формы с — те тоже придется считать императивными. Однако если усматривать в формах типа пойдем неоднозначность форм индикатива 1 лица мн. числа, тогда квазиграммемная трактовка их суффиксальных коррелятов становится вынужденной.
(12) Время: «классический» способ описания в виде трех обычных времен — наст, (ударяет) ~ прош. (ударял, ударил) ~ буд. (будет ударять, ударит) vs. «неклассический» — «нейтральное» (ударяет, ударит) ~ прош. (ударял, ударил) ~ буд. (будет ударять).
При «классическом» способе описания грамматического времени для русских личных глагольных форм можно усмотреть противоречие в плане выражения: одни и те же морфологические средства передают смысл того, что называется «настоящим временем», и смысл того, что называется «будущим временем»: игра+ет ~ сыгранет, кур+ит ~ докур+ит и т. д. В традиционном описании, поддерживаемом академическими грамматиками, соответствующие формы различаются сразу по двум категориям: времени (настоящее уя. будущее) и виду (несовершенный иу. совершенный). При «неклассическом» способе описания противоречие перемещается в план содержания: словоформам, выражающим следование во времени после точки отсчета (ударит ~ будет ударять), присваиваются разные граммемы категории времени. Достоинством классического подхода является объединение (в определенной граммеме) семантически родственных форм (ударит ~ будет ударять), а его недостатком — разъединение формально родственных форм (ударяет ~ ударит). Достоинством неклассического подхода является объединение формально родственных форм, а его недостатком — разъединение семантически родственных форм.
(13) Выражения с элементом — ка (иди-ка): глагольные формы со словоизменительным постфиксом — ка, выражающим квазиграммему «фамильярное побуждение», vs. сочетания глагольных форм и словоформы-частицы — ка.
Традиционно считается, что в данном случае мы имеем дело с частицей — ка — отдельной лексической единицей, место которой в словаре. Однако если применить к данному языковому знаку критерии отделимости слова, выяснится, что поведение — ка ближе к поведению аффикса, чем к поведению словоформы (демонстрация этого дана в [Перцов 2001: 154 сл.]). Из двух трактовок данного аффикса — словоизменительной или словообразовательной — предпочтительна первая (вторая приводит к необходимости постулировать для каждой глагольной лексемы наличие деривата с неполной парадигмой). При этом значение аффикса — ка внекатегориально, т. е. является квазиграммемой.
(14) Морфное членение глаголов на — нуть: сочетание суффикса — н и тематической гласной у (прыг-н-у-ть) vs. суффикс — ну с алломорфом — н (прыг-ну-ть ~ прыг-н-ет).
В академических грамматиках в таких глагольных формах усматривается суффикс — ну и речи о тематической гласной не идет. Рассмотрим, однако, следующие «пропорции»: колоть: колет = прыгнуть: прыгнет читать: читка = грунтовать: грунтовка катать: катнуть = мяукать: мяукнуть.
Подчеркнутые вокалические элементы в левых членах представленных пропорций имеют такой же морфологический статус, что и в правых членах. Различие состоит лишь в том, что в левых членах вокалические элементы следуют за корнем, а в правых — за суффиксом. Поэтому вполне логично такое членение словоформ на структурные элементы: грунт-ов-а-ть, прыг-н-у-ть, мяу-к-а-ть Если признать за элементами — а и — у в такого рода членениях морфный статус (статус морфов с пустым означаемым), то тем самым будет сокращен инвентарь алломорфов: вместо двух алломорфных морфем (-ну, — н) и (-ка, — к) можно будет оперировать одноалломорфными: (-н) и (-к).
(15) Префиксальное отрицание внутри словоформы:
(a) словообразование vs. словоизменение;
(b) при словоизменительной трактовке: квазиграммема vs. граммема отрицательности.
В работе [Крылов 2000] поднята сложная проблема о статусе словоформ, содержащих отрицательный префикс не-, привычных или окказиональных: неэффективный, неприторный, незаряженный, непосещаемый, непрограммирующий, несмешивающийся, неустаревший, неслившийся, непопулярность, несжимаемость, несохранение, непедагог, немимоходом, ненаш (примеры взяты из богатого материала в [Крылов 2000]).
Тестирование префиксального отрицания по ЭКПСС дает количественное преимущество словоизменения. Однако префиксальное отрицание похоже на словообразовательные показатели: русские префиксы обслуживают (почти) исключительно словообразование (если не учитывать теоретическую допустимость трактовки аттенуативного префикса по- как показателя квазиграммемы и словоизменительной трактовки префиксальной перфективации глагола).
С. А. Крылов, отстаивая словоизменительный статус префиксального отрицания, рассматривает две возможные трактовки: либо квазиграммема отрицания, либо наличие двух категорий: «положительность»/«отрицательность» и «слитность»/«контрастивность». Во втором случае все приведенные выше словоформы получают характеристику «отрицательность, слитность», а случаи раздельного написания не и последующей словоформы трактуются как аналитические образования с характеристикой «отрицательность, контрастивность».
Остроумный разбор С. А. Крылова выглядит особенно выигрышно по отношению к словоформам, представляющим собой соединение префикса не- с причастием. Их словообразовательная трактовка сопряжена со следующей сложностью: приходится считать мотивирующей единицей для соответствующего деривата (например, для словоформы нечитанный) не лексему (в нашем случае — ЧИТАТЬ), как в обычных случаях словообразования, а нечто другое: определенную часть лексемы (т. е. подмножество ее словоформ) или соединение имени лексемы с набором словоизменительных значений (ЧИТАТЬ + прич., несов., пасс., прош.). Словоизменительная же трактовка слитно-отрицательных причастий к такого рода сложностям не приводит.
Признавая достоинства словоизменительной трактовки таких словоформ, я все же не готов ввести соответствующую квазиграммему (или две упомянутые категории) в систему русского словоизменения (отмечу, что квазиграммемный вариант мне представляется более приятным). Слишком непривычно выглядит подобное новшество.
Словообразовательная трактовка двух типов явлений — ат-тенуатива, рассмотренного в пункте (6), и префиксального отрицания причастий — сопряжена с феноменом, который, как кажется, обойден вниманием в русистике: это феномен образования слова от части парадигмы другого слова. Автору известен лишь один источник— [Лопатин 1977: 90–91], явным образом выделяющий словообразование от части парадигмы — правда, без соответствующего термина. В. В. Лопатин, рассматривая отпричастные дериваты, говорит о сохранении в производном слове грамматической семантики исходной формы. Здесь существенно именно сохранение грамматической семантики, образование именно от части парадигмы, а не только от определенной основы, как в примерах, приводимых в [Лопатин 1977: 91], — звеньевой, телячий (от основ мн. числа звень-, телят- соответственно) или солоноватый, солонина, солончак, солоно (от основы краткой формы прилагательного соленый). В этих случаях имеет место чисто формальный процесс, производные лексемы мотивированы исходными лексемами в целом, от грамматической семантики производящей основы в производной ничего не остается. При образовании же аттенуатива или слитно-отрицательного причастия дериват «вбирает в себя» словоизменительные значения мотивирующей единицы.
Словообразование от часта парадигмы можно проиллюстрировать на других примерах отпричастных образований, заимствуемых ниже из [Лопатин 1977: 90–91]: (i) наречий (подбадривающе, организованно, мобилизующе ~ мобилизованно); (ii) существительных (а) на — ость (склоняемость, изолированность, приподнятость), (b) на — ик (воспитанник, отпущенник), (с) на — ец (посланец, разведенец); (iii) сложных прилагательных и прилагательных-сращений (угледобывающий, новонайденный, долгоиграющий, слаборазвитый). Из трех указанных типов дериватов (i) и (iii) возможны от всех типов причастий, а субстантивный тип (ii) — только от причастий пассивного залога; подтип (и-а) позволяет свободно создавать окказионализмы: читаемость, хранимость, сохраненность, созданность, покрытость и т. п. Наконец, следует упомянуть продуктивное образование по конверсии адъективных и субстантивных отпричастных дериватов (отвлеченный, изумленный, убежденный, любимый, возвышенный, сдержанный, предстоящий', управляющий, пострадавший, обвиняемый, командированный).
Словообразование от части парадигмы представляется естественным концептуальным расширением обычного словообразования от лексемы.
Ахманова О. С., Мельчук И. А., Падучева Е. В., Фрумкина Р. М. О точных методах исследования языка. М., 1961.
Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. Ч. 1. Братислава, 1954.
Крылов С. А. Автоматический морфологический анализ русских словоформ с префиксальным отрицанием: несколько теоретических проблем // ТМСД'2000: В 2 т. Т. 2. Протвино, 2000.
Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания. М., 1977.
Мельчук И. А. К проблеме выбора описания при неединственности морфологических решений //Фонетика. Фонология. Грамматика: К семидесятилетию А. А. Реформатского). М., 1971.
Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. I. М.; Вена, 1997.
Пеньковский А. Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // ПСЛ1985—1987. М., 1989.
Перцов Н. В. Инварианты в русском словоизменении. М., 2001.
Плунгян В. А. К проблеме морфологического нуля // Знак: Сб. ст. по лингвистике, семиотике и поэтике: Памяти А. Н. Журинского. М., 1994.
Поливанова А. К. Опыт построения грамматической классификации русских лексем // Вопр. кибернетики. Язык логики и логика языка: Сб. ст. к 60-летию профессора В. А. Успенского. М., 1990.
РГ= Русская грамматика. М., 1980. Т. I.
Храковский В. С. Альтернативные решения в языкознании (проблема Выбора) // Acta Universitatis Scientiamm et Artis Educandi Tallin-nensis. 1994. A2.
Bar-Hittel У. Language and Information. Reading (Mass.) etc., 1964.
Yuen-Ren Chao. The non-uniqueness of phonemic solutions of phonetic systems // Bulletin of the Institute of History and Philology (Academia Sinica). 1934. Vol. IV; (перепечатано в кн.: Joos M. (ed.). Readings in Linguistics. N. Y., 1958).
Г. Г. Сильницкий
Соотношение «моноструктурной» и «полиструктурной» классификаций языков[112]
Классификация языков, как и любых сложных объектов, может быть осуществлена по различным критериям. В методологическом плане возникает вопрос о соотношении этих критериев между собой, о степени их соответствия друг другу, т. е. о том, подлежит ли данная совокупность объектов классификации на едином или на нескольких, в той или иной мере взаимонезависимых, основаниях. В первом случае можно говорить о «моноструктурных», во втором — о «полиструктурных» объектах и соответствующих классификационных схемах.
Так, например, в биологии фигурируют критерии «гомологии» и «аналогии», по которым организмы и отдельные органы, обнаруживающие сходства между собой, группируются в зависимости от наличия или отсутствия общности их происхождения. Биологические классификации характеризуются высокой степенью моноструктурности. Возрастающая последовательность усложнения структуры различных биологических видов фактически совпадает с временнóй последовательностью биологической эволюции: более сложные виды появляются позже более простых и на основании последних. Линнеевская таксономическая схема имеет вид единой в генеалогическом и структурном планах иерархии, построенной на исходной базовой оппозиции «позвоночные — непозвоночные», с последующей дифференциацией каждого члена противопоставления: «млекопитающие — немлекопитающие» и т. д.
В лингвистике аналогами биологических критериев гомологии и аналогии выступают критерии «генеалогической» и «типологической» классификаций языков, с тем различием, что соотношение между ними не является эксклюзивным: типологическое сходство языков может либо определяться, либо не определяться их генеалогическим родством.
Существующая типология языков, методологические основы которой были заложены во второй половине XIX в., базируется на морфологическом критерии конъюнктивного/дизъюнктивного способов выражения лексических и грамматических значений. Синтетические языки выражают грамматические значения совместно с лексическими в пределах одной и той же словоформы, тогда как в аналитических языках эти значения находят раздельное выражение в различных словоформах. На этой базовой оппозиции строится сложная иерархия дополнительных противопоставлений: грамматические значения, в свою очередь, могут иметь слитное (флективные языки) или раздельное (агглютинативные языки) выражение и т. д. Конкретные языки характеризуются различными соотношениями указанных признаков, обнаруживая различные степени тяготения к «чистым» типам и распределяясь в определенной последовательности на соответствующей типологической шкале.
Между тем, открытым для лингвистики остается целый ряд вопросов. Какова степень соответствия друг другу генеалогической и типологической классификаций языков? Относятся ли, в типологическом плане, естественные языки к моноструктурным иди полиструктурным объектам? Играют ли вышеуказанные морфологические признаки диагностически определяющую таксономическую роль, подобно аналогичным биологическим признакам в лиинеевской классификации? Окажется ли морфологическая классификация языков изоморфной типологиям, построенным на основании каких-либо иных языковых признаков?
В качестве первого приближения к ответу на поставленные вопросы ниже приводятся, на правах «пилотного» исследования, некоторые предварительные данные, полученные в результате компьютерной обработки соответствующего эмпирического материала методами корреляционного и факторного анализа.
Соотношение генеалогической и грамматико-морфологической классификаций языков
Сопоставительному анализу были подвергнуты 47 индоевропейских языков по наличию/отсутствию 28 грамматических признаков в морфологических парадигмах следующих частей речи [811-т1зку 1998; Сильницкий 2000а; Сильницкий 2000b]:
существительное: артикль, род, число, падеж;
прилагательное: род, число, падеж;
личное местоимение: лицо, род, число, падеж;
глагол: число, лицо, род, залог; наклонение, сослагательное наклонение, наличие различных временных форм сослагательного наклонения; время, особая форма будущего времени, особая форма будущего-в-прошедшем; перфект, вид; особые неличные формы инфинитива, причастия, деепричастия, герундия/супина; особая форма двойственного числа.
Факторный анализ полученной базы данных выявил три грамматико-морфологических подкласса индоевропейских языков.
Славянские языки: чешский, словацкий, польский, русский, церковнославянский (ядерные языки); сербохорватский, македонский (периферийные языки). Основные диагностические признаки: категория вида; род глагола.
Индийские языки: санскрит, ведийский (ядерные языки); урду, хинди (периферийные языки).
Показательна широкая представительность (47 %) в данном подклассе древних языков. Помимо названных выше санскрита, ведийского и церковнославянского языков, к этому подклассу относятся древнегреческий, готский, древнеанглийский, древненемецкий, хеттский, лидийский.
Германские языки: шведский, норвежский, датский, голландский (ядерные языки); древнеисландский (периферийный язык). Основной диагностический признак: категория перфекта. Основной дифференциальный признак относительно славянских языков: отсутствие категории вида.
Романские языки: французский, итальянский, испанский, португальский, румынский, древнефранцузский (ядерные языки). Основные диагностические признаки: категории «длительных» времен, герундия; наличие дифференцированных временных форм сослагательного наклонения. Основной дифференциальный признак относительно славянских языков: отрицательная соотнесенность с родом прилагательного (особенно с формой среднего рода).
Славянский язык: болгарский (периферийный язык).
Немецкий язык и латынь занимают промежуточное положение между первыми двумя подклассами.
Иранские языки: персидский, среднеперсидский, белуджский, логарский, семнанский (ядерные языки); талышский, санге-сари (периферийные языки).
Германские языки: фризский (ядерный язык); английский (периферийный язык).
Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой степени соответствия (в пределах рассмотренного материала) генеалогической и грамматико-морфологической классификаций индоевропейских языков. Немногочисленные исключения составляют: в славянской подгруппе — болгарский язык, в германской — немецкий и английский. Особо следует отметить тесную взаимосвязь, по рассматриваемому критерию, германских и романских языков. Славянские и романские языки обнаруживают более высокую степень грамматико-типологической стабильности в диахроническом плане, чем германские.
Соотношение генеалогической и фонетической классификаций языков
43 индоевропейских [Сильницкий 2001а] и 45 неиндоевропейских [Сильницкий 20015] языков были расклассифицированы на основании следующего набора фонетических признаков:
1) количество фонем в фонетической системе данного языка;
2) количество гласных;
3) процентная доля гласных в фонетической системе;
4) наличие долгих гласных;
5) наличие дифтонгов;
6) количество носовых гласных;
7) гармония гласных;
8) количество согласных;
9) процентная доля согласных в фонетической системе;
10) количество неносовых сонорных согласных;
11) количество назализированных согласных;
12) количество аффрикат;
13) количество полугласных;
14) наличие палатализации согласных;
15) удвоение согласных;
16) наличие тонического ударения;
17) фиксированное ударение.
Наиболее релевантными, по рассматриваемому набору признаков, оказались две классификационные оппозиции:
1) «Консонантные» языки (доля гласных не превышает 30 % фонем соответствующего языка) противопоставлены «вокальным» (доля гласных выше 30 %, но, как правило, не выше 50 %).
2) «Аффрикатные» языки (не менее трех аффрикат) противопоставлены «малоаффрикатным» языкам (менее трех аффрикат).
Пересечение этих двух взаимонезависимых оппозиций задает соответствующую четырехчленную классификационную схему.
Из индоевропейских языков по признаку консонантности наиболее четко выделяются славянские и индоиранские языки, по признаку вокальности — германские. С другой стороны, романские языки не обнаруживают положительных корреляций между собой на фонетическом уровне. Испанский, румынский и итальянский языки относятся к консонантному типу, французский и португальский, занимающие наиболее изолированные позиции в рассматриваемой корреляционной системе, — к вокальному; первые, в отличие от вторых, положительно коррелируют со славянскими языками. Армянский, новогреческий и албанский языки также относятся к консонантному типу и положительно связаны со славянскими языками. Словенский язык противостоит остальным славянским языкам в качестве вокального. Латынь, древнегреческий, литовский являются вокальными языками. Латынь положительно коррелирует с германскими языками и отрицательно — со славянскими и романскими.
В составе консонантной индоиранской группы таджикский, хорезмский, белуджский, талышский и среднеперсидский языки являются аффрикатными, санскрит, ведийский, хинди, персидский — малоаффрикатными; первая подгруппа языков положительно коррелирует со славянскими языками, вторая — с германскими. Из германских языков немецкий противостоит остальным в качестве аффрикатного.
Латынь, древнегреческий относятся к малоаффрикатному типу, в отличие от литовского.
Сопоставление грамматико-морфологической и фонетической классификаций между собой и с генеалогической (на материале рассмотренных индоевропейских языков) выявляет следующие соотношения.
Наибольший изоморфизм всех трех классификаций наблюдается у языков: славянских, иранских, индийских, германских. Иранские языки (за исключением персидского) положительно коррелируют со славянскими, индийские — с германскими.
Романские языки характеризуются высокой интегрированностью (совместно с германскими языками) на грамматико-морфологическом уровне и максимальной разбросанностью на фонетическом.
Из рассматриваемых неиндоевропейских языков, относящихся к различным семьям и ареальным общностям, наиболее интегрированными по своим фонетическим характеристикам являются следующие подклассы:
Консонантные аффрикатные языки: кавказские (кабардино-черкесский, лезгинский, грузинский).
Консонантные малоаффрикатные языки: семито-хамитские (арабский, иврит, эфиопский, сирийский (один из поздних диалектов арамейского), хауса.
Вокальные малоаффрикатные языки: африканские (суахили, йоруба, бабунго, корекига, амеле).
Другие группы неиндоевропейских языков характеризуются значительным разбросом своих фонетических признаков:
Сино-тибетские и тайские языки: тибетский (консонантный аффрикатный); бирманский (консонантный малоаффрикатный); китайский (вокальный аффрикатный); тайский, чжуанский, лимбу (вокальные малоаффрикатные).
Алтайские языки: узбекский (консонантный аффрикатный); корейский, монгольский (вокальный аффрикатный); турецкий, японский (вокальный малоаффрикатный).
Финно-угорские языки: венгерский (вокальный аффрикатный); финский (вокальный малоаффрикатный).
Аустронезийские языки: индонезийский (консонантный аффрикатный); тагальский, фиджийский (вокальные малоаффрикатные).
Палеоазиатские и эскимосско-алеутские языки: нивхский, эскимосский (консонантные малоаффрикатные); чукотский (вокальный малоаффрикатный).
Соотношение морфологической и фонетической классификаций языков
Исследование базируется на материале 31 разноструктурного языка, которые сопоставлялись по набору морфологических «индексов Гринберга» [Greenberg 1960]. Соотношение выделенных классов изолирующих и агглютинативных языков [Altmann, Lehfeldt 1973; Касевич, Яхонтов 1982; Сильницкий, Яхонтов, Яхонтов 1986; Silnitsky 1993] с вышеприведенными фонетическими классами представлено в таблице 2.
Как видно из приведенной таблицы, сопоставляемые классификации фактически являются взаименезависимыми.
Соотношение генеалогической и многомерной типологической классификаций языков
Многоуровневая типологическая классификация языков была осуществлена на материале глагольных систем пяти индоевропейских (английский, французский, немецкий, русский, армянский) и пяти неиндоевропейских (турецкий, арабский, индонезийский, китайский, японский) языков [Сильницкий 1999; Сильницкий 2001с]. В ходе исследования анализировался 21 глагольный признак семантического, морфологического, фонетического, синтаксического, словообразовательного, этимологического, диахронического уровней рассмотрения.
Проведенное исследование показало, что естественные языки (в пределах рассмотренного материала) представляют собой не моноструктурные, а полиструктурные объекты, подлежащие классификации по нескольким, относительно независимым друг от друга основаниям.
В отличие от вышеупомянутой линнеевской таксономической схемы в биологии, в основе полученной лингвистической классификации лежит не «пирамидальная» иерархия последовательно уточняемых признаков, а определенный набор комплексов константно взаимосвязанных разноуровневых языковых характеристик — «типологических блоков» (ТБ), различные сочетания которых задают структуру глагольных систем конкретных языков.
Выделяются семь таких типологических блоков, играющих роль комплексных «конечных составляющих» многомерной типологической классификации языков:
ТБ1: формальная простота глагола: односложность, морфемная нечленимость, непроизводность; отнесенность к древнему периоду истории языка.
ТБ2: исконный корень; сочетаемость с облигаторным обстоятельством; «энергетическое» значение[113].
ТБЗ: интранзитивность; процессивное (некаузативное) значение.
ТБ4: сочетаемость с косвенным/предложным дополнением; «информационный» и «операционный» типы значения[114].
ТБ5: транзитивность; каузативное значение.
ТБ6: заимствованный корень; отнесенность к новому периоду истории языка; «онтологический» тип значения[115].
ТБ7: формальная сложность глагола: многосложность, морфемная членимость, производность [Сильницкий 1999: 38].
Основная оппозиция наблюдается между двумя «полярными» блоками ТБ1 и ТБ7, признаки которых контрадикторно противопоставлены друг другу. Ближайшие к ним позиции занимают два «спутниковых» блока ТБ2 и ТБ6, признаки которых тяготеют к полярным, но менее жестко связаны с последними, чем те между собой. Среднюю позицию в системе занимает блок ТБ4, признаки которого не связаны с признаками двух полярных блоков.
Перечисленные пять типологических блоков составляют стабильный «костяк» рассматриваемой типологической системы. «Мобильную» ее часть образуют два оставшиеся блока, ТБЗ и ТБ5. Признаки «транзитивность» и «интранзитивность» в составе последних характеризуются различной сочетаемостью с полярными признаками (в первую очередь, с простотой/сложностью глагольной основы) в различных языках, что служит в конечном счете определяющим критерием корреляционной типологии исследуемых глагольных систем.
По данному критерию сопоставляемые языки подразделяются на три группы:
1) Языки, характеризуемые положительной соотнесенностью признаков «интранзитивность — формальная простота» и/или «транзитивность — формальная сложность глагола»: французский, немецкий, английский; китайский язык занимает периферийное положение в данной группе.
2) Языки, характеризуемые противоположной соотнесенностью признаков «интранзитивность — формальная сложность» и/или «транзитивность — формальная простота» глагола: русский, армянский; арабский, индонезийский. Последние два языка образуют особую подгруппу, будучи единственными во всем рассматриваемом множестве языков, в глагольной системе которых признаки блоков ТБ6 и ТБ7 являются взаимонезависимыми.
3) Языки, в которых транзитивность и интранзитивность не связаны ни с простотой, ни со сложностью глагола: турецкий, японский.
Языки первой группы характеризуются прямым, языки второй группы — обратным соотношением степени сложности внутриглагольной структуры и внеглагольной синтаксической валентности. Языки третьей группы занимают промежуточное положение между первыми двумя.
Введение синтаксического критерия транзитивности/интран-зитивности дополнительно к морфологическому и семантическому вносит некоторые изменения в традиционную типологическую классификацию языков: при данном трехмерном подходе японский язык оказывается типологически близким турецкому, индонезийский — арабскому. Можно предположить, что дальнейшее увеличение параметровой размерности исследуемых языковых систем будет связано с новыми уточнениями типологических соотношений между ними в рамках многомерной классификационной схемы.
Приведенные данные могут, по-видимому, служить достаточным основанием для предварительного вывода о том, что различные генеалогические и типологические классы языков характеризуются различными степенями изоморфизма, от максимального соответствия до полной несопоставимости друг с другом.
Данное заключение позволяет поставить вопрос о возможности и целесообразности разработки «универсальной» классификации языков, совмещающей генеалогический и различные типологические критерии и группирующей языки по степени соответствия/несответствия их различных классификационных параметров.
Касевич В. Б., Яхонтов С. Е. (ред.). Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.
Сильницкий Г. Г., Яхонтов К. С., Яхонтов С. Е. Применение корреляционного и факторного анализа в типологии языков // Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии / Отв. ред. Б. Бартков. Владивосток, 1986.
Сильницкий Г. Г. (ред.). Корреляционная типология глагольных систем индоевропейских и иноструктурных языков. Смоленск, 1999.
Сильницкий Г. Г. Морфологическая классификация индоевропейских языков // Пятые Поливановские чтения. Ч. 1. Смоленск, 2000а.
Сильницкий Г. Г. Корреляционная типология неспециализированных морфологических категорий // Актуальные проблемы германистики. Вып. 3. Смоленск, 2000б.
Сильницкий Г. Г. Корреляционный и факторный анализ фонетических систем индоевропейских языков // Е. Д. Поливанов и его идеи в современном освещении. Смоленск, 2001а.
Сильницкий Г. Г. Корреляционно-факторная типология фонетических систем неиндоевропейских языков // Разноуровневые характеристики лексических единиц. Смоленск, 20013.
Сильницкий Г. Г. К типологическому противопоставлению «эгоцентрических» и «эвдоцентрических» языков // Категории глагола и структура предложения: Тез. докл. СПб., 2001с.
Altmann G., Lehfeldt W. Allgemeine Sprachtypologie. München, 1973.
Greenberg J. H. A quantitative approach to the morphological typology of languages // International Journal of American Linguistics. 1960. № 26/3.
Silnitsky G. Typological indices and language classes: a quantitative study // Quantitative Linguistics. 1993. Vol. S3. Glottometrika 14.
Silnitsky G. Correlational analysis of the Indo-European morphological system // Journal of Quantitative Linguistics. 1998. Vol. 5. № 1—2.
Н. Р. Сумбатова
Коммуникативные категории и система глагола
(о некоторых типологических особенностях дагестанского глагола)
Языки Дагестана отличаются сложностью и богатством глагольных систем. В большинстве из них системы глагола включают огромное количество словоформ, связанных с выражением многочисленных оппозиций по виду, времени, наклонению, полярности и т. п., так что общее число элементов системы может исчисляться десятками тысяч.
Замечание: Так, в широко известной грамматике арчинского языка А. Е. Кибрика подсчитано, что арчинский глагол образует 1 502 839 словоформ [Кибрик 1977:37].
В лакской грамматике Л. И. Жиркова [1955] утверждается, что лакский глагол образует около 520 временных форм — и все это не считая повелительных, желательных, некоторых вопросительных и запретительных форм (их также более 100) и без учета классного согласования.
Мы насчитали в ицаринском диалекте даргинского языка около 80 только утвердительных форм вида/времени/наклонения (без учета классного и личного согласования, а также отрицательных и вопросительных форм).
В дагестанских языках, как и в других языках с большим количеством глагольных форм, система глагола обычно представляется как совокупность подсистем финитных и нефинитных репрезентаций глагола[116]. При этом давно замечено, что формы, относимые к числу нефинитных в дагестанских языках, имеют более широкую сферу употребления, чем нефинитные формы, например, европейских языков. В частности, многие из них достаточно свободно используются в качестве вершинного предиката независимого предложения.
Синтаксические свойства подобных форм на обширном типологическом материале исследованы в работе [Калинина 1998], где вводится представление о существовании форм, неопределенных по финитности, и доказывается, что, в частности, в дагестанских языках такие формы представлены достаточно широко. Однако снятие противопоставления по финитности или введение трехчленного противопоставления «финитный — нефинитный — неопределенный по финитности» еще более осложняет представление о дагестанских глагольных системах: получается, что мы имеем дело с конгломератом словоформ, разбить который на отдельные подсистемы (репрезентации) мы не можем.
Цель данной работы — показать, что дагестанские глагольные системы можно представить как совокупность небольшого числа подсистем, однако базовым признаком, лежащим в основе их выделения, является не признак финитности, связанный с синтаксическими функциями словоформы, а некоторый другой признак, связанный с ее коммуникативными характеристиками.
1. Состав глагольной системы
В большинстве дагестанских глагольных систем сочетаются обычные морфологические (синтетические) словоформы со словоформами, в разной степени проявляющими свойства аналитических конструкций, причем, как правило, некоторые из них считаются аналитическими словоформами. Чаще всего к аналитическим словоформам относят сочетания вспомогательного глагола и основного глагола в одной из его нефинитных репрезентаций (деепричастия, зачастую в «усеченной» форме, или причастия), выражающие те значения, которые данный исследователь считает обязательными. Как правило, аналитические словоформы в дагестанских языках строятся по весьма простым и регулярным правилам, а их грамматическое значение аддитивно, то есть полностью определяется значением составляющих их элементов. Тем самым такие словоформы легко представить как свободно конструируемые говорящим в речи. Кроме того, элементы аналитических словоформ проявляют высокую степень синтаксической самостоятельности; например, во многих дагестанских языках в предложениях с переходным глаголом разрешена так называемая биабсолютивная конструкция предложения (пример из ицаринского диалекта даргинского языка):
(1a) it-il tэultэ b=erk-un-(ni)-ca=b
он-ERG хлеб(АВS) CL3=есть: PF-AOR-(CONV)-COP: PRS=CL3
(1b) it tэultэ b=erk-un-ni-ca=w
он(ABS) хлеб(АВS) CL3=есть: PF-AOR-CONV–COP: PRS=CL 1 «Он съел хлеб».
В предложениях с биабсолютивной конструкцией каждая из частей аналитической словоформы имеет свой актант в абсолютнее, контролирующий согласование этой части (для вспомогательного глагола — личное и классное согласование, для основного — только классное).
Рассматривая предложения с аналитическими словоформами, легко заметить, что в той же синтаксической позиции, что и вспомогательный глагол, могут выступать единицы других типов, не обладающие морфологическими признаками глагола и не согласуемые с ядерными именными группами ни по классу, ни по лицу. Так, в даргинском языке[117] это так называемые дискурсивные частицы, выражающие различные оттенки выделительного значения (q'al «же, ведь», ăl «ли» и др.), а также показатели общего и частного вопроса (соответственно — u, — ni/-n). Все эти элементы, как видно из примеров (2а) — (2d), присоединяются в виде клитики к основному компоненту аналитической словоформы, как бы вытесняя вспомогательный компонент или его часть; если таких элементов больше одного, то они всегда располагаются в одном и том же порядке.
Поскольку данные конструкции выражают те же грамматические (обязательные) значения, что и обычные аналитические словоформы, нет оснований исключать их из числа глагольных словоформ. Таким образом, число словоформ в глагольной системе увеличивается во столько раз, сколько различных единиц способно выступать в позиции вспомогательного элемента.
Другие, более серьезные сложности связаны со структурой предложений, в которых имеется коммуникативное выделение (фокус[118]). Дагестанские предложения с фокусом в последние десять лет привлекли большое внимание лингвистов (см., в частности, [Казенин 1997]), поскольку создают трудности на разных уровнях лингвистического анализа. Обратим внимание на те их аспекты, которые связаны с устройством глагольной системы.
2. Предложения с фокусом
Конструкции, оформляющие фокус в дагестанских языках, можно разбить на два класса.
2.1. Неспециализированные показатели фокуса. Часто в роли показателя фокуса выступают грамматические средства, которые выражают также предикативные категории глагола: лицо, иллокутивную силу (вопросительность), наклонение, время, полярность; в частности, маркером фокуса может быть глагол-связка.
Так, в даргинском языке при наличии в предложении фокуса происходит перенос присоединяемого в виде клитики вспомогательного элемента (в частном случае просто глагольной связки) или сочетания таких элементов в позицию энклитики к выделяемому слову. При этом единственно допустимой формой глагола становится причастие (атрибутив) с соответствующим видовым значением, а изменения линейной позиции выделенной группы в общем случае не происходит. Если в предложении вместо связки присутствует один из ее «заместителей» (см. п. 1), то с ним происходят те же линейные преобразования, что и со связкой, ср.:
Фокусное выделение в предложениях с синтетическими личными формами без замены глагольной словоформы невозможно:
(4) ahmad-il-(*ca=b) qal b=alrq'-ib
Ахмет-ERG-(*FOC) дом(АВ5) CL3-строить: PF-AOR
«Ахмет построил дом» (*«Именно Ахмет построил дом»).
Сходным образом устроено фокусирование в цахурском, лакском и других языках Дагестана: фокус маркируется связкой либо другим вспомогательным элементом, перемещаемым к выделенной составляющей, а глагол стоит либо в причастной, либо в так называемой простой форме (совпадающей с основой).
Цахурский [Казенин 1997; Кибрик 1999]:
Лакский [Казенин 1997]:
2.2. Специализированные показатели фокуса. В некоторых дагестанских языках существуют специализированные показатели фокуса — лексические единицы (чаще всего клитики), не обладающие морфологическими характеристиками глагола, не совпадающие со связкой материально, однако противопоставленные ей парадигматически.
Мегебский[119] (показатель фокуса — g¸a):
Аварский (показатель фокуса — Ха; [Казенин 1997]):
Фокусные конструкции в рассмотренных языках имеют достаточно существенные различия, однако неизменно сохраняют ряд общих свойств, а именно:
1. показатель фокуса является энклитикой и присоединяется к выделенному элементу (в конце всей выделенной группы);
2. изменения линейного порядка в общем случае не обязательны;
3. глагол выступает либо в одной из нефинитных форм (чаще всего атрибутивной, иногда в деепричастной), либо в форме, которую можно охарактеризовать как нейтральную с точки зрения противопоставления по финитности.
3. Основные классы словоформ
Рассмотрим функции различных типов дагестанских глагольных словоформ на примере даргинского языка.
Легко заметить, что словоформы распадаются на следующие классы:
1. Такие, которые возможны только в независимых, «повествовательных» и при этом коммуникативно нейтральных предложениях — все это так называемые финитные формы, причем только синтетические[120] (см. (4)).
2. Такие, которые допустимы в любых типах независимых предложений — в том числе в вопросах и предложениях с фокусом (вспомогательный компонент перемещается к выделенной составляющей предложения), — все это исключительно аналитические «финитные» формы[121]; все они состоят из некоторой нефинитной репрезентации глагола (деепричастия[122] или причастия) и вспомогательного компонента, выражающего предикативные категории и/или фокус (2а) — (2d).
3. Такие, которые могут быть вершинным предикатом зависимого предложения (так называемые нефинитные формы); некоторые из них могут использоваться также в тех независимых предложениях, в которых использование синтетических финитных форм запрещено (примеры (2е), (2f), (3)).
Выше уже отмечалось, что нефинитные формы употребляются в дагестанских языках шире, чем в европейских. Хорошо известно также, что сфера употребления так называемых финитных форм в дагестанских языках существенно ýже. Финитные формы не употребляются, в частности, в большинстве типов зависимых предложений. Однако мы видим, что, помимо этого, употребление синтетических финитных форм запрещено в нескольких — причем вполне обычных — типах независимых предложений. Это противоречит обычному «синтаксическому» пониманию финитности.
Легко видеть, что те типы предложений, в которых употребление синтетических «финитных» форм запрещено — а именно, вопросы и предложения с фокусом — имеют общие содержательные свойства. В этих предложениях предикат, выражаемый основным глаголом, не входит в ассертивную часть высказывания. Используя терминологию Е. В. Падучевой [Падучева 1985: 2001], можно сказать, что рассматриваемые формы накладывают ограничение на денотативный статус возглавляемой ими пропозиции — она должна быть утвердительной и не может быть ни презумптивной, ни нейтральной.
Утвердительный статус пропозиции входит в семантику даргинских «финитных» форм. Их синтаксические функции при этом не вполне соответствуют каноническому представлению о финитности. Более правильно было бы называть такие формы ассертивными.[123]
Помимо синтетических личных словоформ, утвердительной могут сделать пропозицию уже знакомые нам вспомогательные элементы (п. 1), выступающие в составе аналитических словоформ. Это закрытый и весьма немногочисленный класс грамматических элементов, основной функцией которых является выражение предикативных категорий вместе с маркировкой составляющей, образующей ассертивную часть высказывания (проще говоря, фокусной составляющей). В этот класс входят показатели первого и второго лица, бытийный глагол-связка ca=b, вспомогательные глаголы местонахождения, некоторые дискурсивные частицы, показатель прошедшего времени di, «финитные» репрезентации отрицательного вспомогательного глагола aku. Всякое ассертивное высказывание обязательно имеет в своем составе либо ассертивный глагол, либо один или несколько элементов из этого класса (см. примеры выше).
В даргинском языке маркирование утвердительности пропозиции обязательно, но в ряде других языков Дагестана это не так — и поэтому в них допустимы предложения с «нефинитным» глаголом в качестве главного предиката и при этом без связок и любых замещающих их элементов, как, например, в багвалинском языке (пример из [Кибрик 2001]):
По-видимому, так называемые нефинитные словоформы тоже выражают противопоставления, связанные с коммуникативной структурой высказывания. В общем случае к ним не предъявляется требование ассертивности: именно поэтому только «нефинитные» формы допустимы в предложениях с коммуникативным выделением и в вопросах[124]. Более подробный анализ коммуникативных свойств нефинитных словоформ в даргинском и других дагестанских языках потребовал бы отдельного исследования. Заметим лишь, что в даргинском языке пропозиции с презумптивным статусом обычно возглавляются глаголом в форме причастия или масдара, а нейтральный статус часто выражается формой так называемого инфинитива[125]. Деепричастия, очевидно, имеют наиболее широкую сферу употребления[126].
Небольшой иллюстрацией этих закономерностей может служить управление глаголов с сентенциальными актантами. Некоторые из этих глаголов накладывают ограничения на коммуникативный статус зависимого предиката (ср. «начать» и «кончить», «знать» и «думать» и др.). Так, глагол «кончить», как правило, предполагает презумптивный статус вложенной пропозиции (в отличие от глагола «начать»). Соответственно, в даргинском языке зависимый предикат при глаголе «начать» может выражаться деепричастием, инфинитивом и даже масдаром, а при глаголе «закончить» — только масдаром:
Прямое выражение коммуникативных статусов в дагестанских языках характерно не только для глагольной системы. Так, во многих из них существует категория, связанная с коммуникативным статусом атрибутов и определяемых ими имен — категория рестриктивности [Богуславская 1989][127]. Рестриктивные определения позволяют выделить референт имени, определяемого данным атрибутом, из некоторого множества однотипных объектов. Вся именная группа, в которую входит данный атрибут, приобретает при этом конкретно-референтный статус, а предикация, вершиной которой он является, может быть охарактеризована как нейтральная или презумптивная. Примеры из табасаранского языка[128]:
4. Некоторые выводы
По крайней мере в части дагестанских языков противопоставление двух подсистем словоформ, традиционно рассматриваемых как «финитная» и «нефинитная» подсистемы, в действительности базируется на другом основании и связано с допустимым коммуникативным статусом данного элемента в высказывании. Синтетические «финитные» формы в дагестанских языках употребляются уже, а так называемые нефинитные репрезентации глагола шире, чем в языках европейского типа, причем последние в значительной степени обладают свойствами финитных форм (например, могут употребляться в качестве вершины независимого предложения, см. (9)).
Замечание: То, что мы традиционно называем аналитическими финитными формами, можно считать сочетанием глагольной формы с клитикой, выражающей основные предикативные категории, и приписывать выражение этих категорий не глаголу, а предложению в целом. Для собственно глагола же свойственно скорее выражение коммуникативного статуса возглавляемой им пропозиции и аспектуальных значений. Видо-временное и модальное значение предиката представимо на основе значения его компонентов — глагола и предикативного элемента. При таком описании число форм в глагольной системе становится гораздо меньше, а устройство системы — проще: в нее входят только синтетические формы, способные возглавлять ассертивную пропозицию (около 12 вместе с формами императива), а также синтетические формы, обычно относимые к нефинитным (около 10).
Подобное устройство глагольной системы коррелирует с некоторыми другими характеристиками языка.
4.1. Противопоставление глаголов и других частей речи. В дагестанских языках местом выражения предикативных категорий (полярности, наклонения, времени, лица, иллокутивной силы) является в общем случае не глагол, а фокус предложения. Поэтому противопоставление глагола и имени в них выражено несколько слабее: (а) многие морфологические элементы (в частности, все показатели, выражающие предикативные категории) могут присоединяться и к именам, и к глаголам; (b) существуют чрезвычайно простые и высокопродуктивные механизмы перехода из одной части речи в другую (частицы или аффиксы с атрибутивным, субстантивным, адвербиальным значением); (с) имена и по крайней мере некоторые репрезентации глагола могут выступать в качестве главного предиката независимого предложения.
4.2. Именное предложение и семантика имен. В дагестанских языках именное предложение сходно с глагольным; единицы, выражающие в нем предикативные категории, не обязательно представляют собой финитный глагол, а зачастую вообще лишены каких-либо глагольных свойств[129]. Имена присоединяют те же показатели лица и времени/наклонения, что и глаголы, легко могут употребляться и как термы, и как предикаты. В частности, при наличии фокуса в именном предложении действуют уже известные нам правила (связка/показатель фокуса переносится к выделенной группе):
4.3. Свойства аналитических словоформ глагола. Поскольку в большинстве случаев ассертивная часть предложения включает главный предикат, внешне глагольные словоформы дагестанских языков, составленные из основного глагола, выражающего главный предикат, и элемента/элементов, выражающих предикативные категории, могут выглядеть достаточно слитными. В частности, они могут составлять одно фонетическое слово; перестановки компонентов аналитических словоформ и вставки других элементов между ними, как правило, запрещены. Однако отделяемость показателей предикативных категорий сохраняется при всех обстоятельствах.
4.4. Синтаксические роли. Поскольку в дагестанских языках для выражения коммуникативных (прагматических) свойств именных групп (выделение фокуса, противопоставление пресуппозиции — ассерции) задействованы сильные синтаксические механизмы, необходимость четкого противопоставления синтаксических ролей ощущается в меньшей степени, и это, возможно, является одной из причин того, что синтаксические ролевые свойства именных групп проявляются в них сравнительно слабо.
= Знак отделяет показатель классного согласования.
— Знак отделяет компоненты аналитических словоформ (в примерах из даргинского и мегебского языков).
1,2,3 Цифры в отсутствие аббревиатуры CL указывают на лицо.
А атрибутив
ABS абсолютов
AOR аорист
CL классный показатель (может сопровождаться номером класса)
CONV деепричастие
СОР связка
DAT датив
EL элатив
ERG эргатив
РОС показатель фокуса
FUT будущее время
GEN генитив
GEN.Q показатель общего вопроса
HPL одушевленное множественное число
INCL инклюзив
INF инфинитив
LAT латив
MASD масдар
NOM номинатив (только в глоссах примеров, заимствованных из работ [Казенин 1997; Кибрик 1999])
OBL косвенная основа
PAST прошедшее время
PL множественное число
PF перфекгив
PRS презенс
PRT причастие
RESTR показатель рестриктивности
Q показатель частного вопроса
SG единственное число
SUP суперэссив
В ряде даргинских примеров в строке глосс не выделены классные показатели, превербы и суффиксы глагольной основы.
Богуславская О. Ю. Структура именной группы: определительные конструкции в дагестанских языках: Дис… канд. филол. наук. М., 1989.
Жирков Л. И. Лакский язык: Фонетика и морфология. М., 1955.
Казенин К. И. Синтаксические ограничения и пути их объяснения (на материале дагестанских языков): Дис… канд. филол. наук. М., 1997.
Калинина Е. Ю. Нефинитное сказуемое в независимом предложении: Дис…. канд. филол. наук. М., 1998.
Кибрик А. Е. Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 3. Динамическая грамматика. М., 1977.
Кибрик А. Е. (ред.). Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
Кибрик А. Е. (ред.). Багвалинский язык: Грамматика, тексты, словари. М., 2001.
Магометов А. А. Мегебский диалект даргинского языка. Тбилиси, 1982.
Муталов Р. О. Временные формы глагола ицаринского диалекта даргинского языка // Выражение временных отношений в языках Дагестана. Махачкала, 1991.
Муталов Р. О. Ицаринский диалект даргинского языка: Дис…. канд. филол. наук. Махачкала, 1992.
Недялков В. П. Основные типы деепричастий // Типология и грамматика. М., 1990.
Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985 [2-е изд. М., 2001].
Givón Т. Syntax: a functional-typological introduction. Amsterdam; Philadelphia, 1990. Vol. 1–2.
В. С. Храковский
Концепция диатез и залогов (исходные гипотезы — испытание временем)[130]
Более тридцати лет тому назад весной 1970 г. в Петербурге, тогда Ленинграде, состоялась конференция по теме «Категория залога». К этой конференции был подготовлен сборник материалов. В его предисловии было, в частности, сказано, что он «представляет собой первую публикацию по теме „Категория залога“, которая в настоящее время разрабатывается в группе структурно-типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР под руководством проф. А. А. Холодовича». Кроме того, в предисловии говорилось, что «предметом дискуссии на конференции явятся статьи, публикуемые в настоящем сборнике. В этих статьях излагаются предварительные соображения относительно построения теории залога (статьи А. А. Холодовича „Залог“, В. С. Храковского „Конструкции пассивного залога (определение и исчисление)“, Г. Г. Сильницкого „Залог и валентность“) и рассматривается эмпирический материал, отнесение которого к категории залога является проблематичным (статья С. Е. Яхонтова „Конструкции, называемые пассивными в китайском языке“)» [Категория залога 1970:1].
Так было положено начало многолетнему, типологически ориентированному изучению категории залога и залоговых конструкций, которое проводилось в группе структурно-типологического изучения языков ЛО Института языкознания АН СССР (ныне Лаборатории типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН). Теперь, по прошествии многих лет имеет смысл хотя бы в очень конспективной форме оценить результаты проведенной работы и посмотреть изнутри, т. е. с позиции участника этой работы, что выпало в осадок, т. е. каков вклад проводившихся исследований в современную лингвистическую теорию. Сделать это тем более необходимо потому, что в литературе последних лет появились суждения, дающие, как нам кажется, не вполне адекватное представление о концепции, на базе которой проводилось описание залоговых конструкций в различных конкретных языках.
Исходная гипотеза рассматриваемой концепции была изложена в статье А. А. Холодовича, опубликованной в указанном сборнике, и в совместной статье И. А. Мельчука и А. А. Холодовича «К теории грамматического залога», опубликованной в том же 1970 г. в журнале «Народы Азии и Африки». Обе названные статьи по своей сути представляют несколько отличающиеся друг от друга варианты одной работы. Эта исходная гипотеза состояла в том, что в научный оборот следует ввести понятие диатеза, отличное от традиционного понятия залог.
Новому понятию было дано следующее определение: «Диатезой называется соответствие между семантическими актантами (=партиципантами) и синтаксическими актантами данной глагольной лексемы», ср. [Холодович 1970: 13] и [Мельчук, Холодович 1970: 114]. Что касается залога, то он был определен как «грамматически маркированная в глаголе диатеза» [Холодович 1970: 13; Мельчук, Холодович 1970: 117]. Таким образом, в рамках предложенной концепции диатеза и залог выступают как соотносительные понятия разных уровней: понятие диатезы является семантико-синтаксическим и универсальным — любая глагольная лексема в любом языке имеет по меньшей мере одну диатезу, а понятие залога является морфологическим и не универсальным — не любая глагольная лексема и не в любом языке представлена хотя бы двумя формально отличающимися друг от друга словоформами, которые соотносятся с разными диатезами.
Другими словами, эта гипотеза исходила из того, что любой глагольной лексеме свойственна такая ролевая структура, которая остается постоянной при любом синтаксическом употреблении лексемы, т. е. присуща всем ее словоформам, и тем самым обеспечивает неизменность лексемы. В то же время каждому синтаксическому употреблению лексемы соответствует определенная конструкция предложения, и следовательно, синтаксическое окружение различных, а иногда одной и той же словоформы данной глагольной лексемы есть величина переменная. Ср.: Ветер сорвал крышу, Ветром сорвало крышу, Крыша сорвана ветром (разные конструкции и разные глагольные словоформы); Мама намазала хлеб маслом, Мама намазала масло на хлеб (разные конструкции и одна глагольная словоформа).
В соответствии с этой гипотезой для каждой глагольной лексемы можно установить теоретически допустимое количество диатез. Более того, можно построить исчисление, которое не описывает диатезы различных глагольных лексем в конкретных языках, а определяет общее количество диатез, которое может иметь глагольная лексема с заданными свойствами в любом языке. (Именно такое исчисление диатез двухвалентных глаголов представлено в статье И. А. Мельчука, публикуемой в настоящем сборнике)[131]. Таким образом, исчисление это своего рода универсальный эталон, по отношению к которому системы диатез различных глагольных лексем в конкретных языках обычно выступают как редуцированные варианты, в силу того что все логические возможности построения диатез могут не реализоваться и обычно не реализуются из-за тех или иных ограничений, которые отдельные языки и конкретные лексемы накладывают на исчисление. Если у глагольной лексемы больше одной диатезы, то уместно различать исходную (лексикографическую) и производные диатезы. Исходная диатеза представляет такое соответствие между семантическими актантами (партиципантами) и синтаксическими актантами, которое задается толкованием лексемы [Холодович 1974: 363]. Что касается производных диатез, то в них это соответствие изменяется или, если хотите, нарушается таком образом, что семантические актанты занимают позиции других синтаксических актантов, либо вообще не имеют соотносительных синтаксических актантов.
В принципе изменение диатезы, т. е. переход от исходной диатезы к производным, может маркироваться: А — только путем переоформления глагола, Б — только путем переоформления имен, В — только путем ликвидации синтаксической позиции имени. Учитывая эти возможности, а также логически допустимые случаи их комбинаторики, можно построить следующее исчисление, указывающее, как маркируется изменение диатезы:
(1) А (изменение диатезы маркируется только путем переоформления глагола). Насколько можно судить по литературе, примеры такого типа встречаются в языках майя. Мы приведем соответствующий пример из языка тцелтал (tzeltal), где переход от активной диатезы к пассивной маркируется только в глаголе, если не считать изменения порядка следования актантов, ср., [Dayley 1981:43]:
la s-mil-ø Jpetulte Jwan => ø-mil-ot-ø Jwan teJpetul
T AG3-kill-PT3 Peter the John T-kill-PASS-PT3 John the Peter
«Peter killed John» => «John was killed by Peter».
(2) Б (изменение диатезы маркируется только путем переоформления имен — Царь пожаловал Ермаку шубу => Царь пожаловал Ермака шубой),
(3) В (изменение диатезы маркируется только путем ликвидации синтаксической позиции имени— Бабушка вяжет кофту => Бабушка вяжет),
(4) АБ (изменение диатезы маркируется путем переоформления глагола и имен — Сосед построил баню => Баня была построена соседом),
(5) АВ (изменение диатезы маркируется путем переоформления глагола и ликвидацией синтаксической позиции имени — (укр.) Ректор прийняв Вас до iнституту => Вас прийнято до iнституту),
(6) БВ (изменение диатезы маркируется путем переоформления имен и ликвидацией синтаксической позиции имени — Маша выбила пыль из ковра => Маша выбила ковер),
(7) АБВ (изменение диатезы маркируется путем переоформления глагола, имен и ликвидацией синтактиксической позиции имени — Сосед построил баню => Баня была построена) [Храковский 1991][132].
Если возможное количество диатез любой глагольной лексемы с заданными свойствами устанавливается теоретически, то фактически имеющиеся диатезы и наличные залоговые глагольные формы определяются только эмпирически. По-видимому, можно утверждать, что все наблюдаемые типы соотношений между диатезами и словоформами одной глагольной лексемы находятся между двумя полюсами: (а) каждая диатеза обозначается специальной глагольной формой — число залогов равно числу диатез, (б) все диатезы обозначаются одной и той же глагольной формой — диатезы специально не маркируются в глаголе, и, следовательно, категории залога нет. Таково краткое и очень конспективное изложение концепции, которая первоначально была представлена в названных работах А. А. Холодовича и И. А. Мельчука.
Если говорить об оценке этой концепции и ее вкладе в современную лингвистическую теорию, то самое важное, на мой взгляд, заключается в том, что понятие диатезы получило все права гражданства в лингвистике и используется в работах исследователей, принадлежащих к различным школам и направлениям, хотя оно иногда и подвергается некоторым модификациям. Свидетельством кодификации этого понятия может служить тот факт, что оно включено в «Лингвистический энциклопедический словарь» (М., 1990). Существенно и то, что репертуар конструкций, в которых маркируется изменение диатез, в определенной степени изменился по сравнению с традиционным репертуаром залоговых конструкций. Поскольку изменение диатез не обязательно маркируется в глаголе, то соответственно к анализу подключаются конструкции типа Мама намазала масло на хлеб и Мама намазала хлеб маслом, Маша выбила пыль из ковра и Маша выбила ковер и т. п., которые обычно оставались вне поля зрения исследователей при изучении залоговых конструкций. Кроме того, был взят на вооружение принцип исчисления, который, в частности, успешно был использован при описании итеративных, императивных и условных конструкций [Храковский 1989,1992,1998; Xrakovskij 1997,2001].
Теперь я хотел бы остановиться на тех претензиях к этой концепции, которые можно найти в современной литературе. Основная претензия заключается в том, что в рамках предложенного подхода «у залога никакой семантики нет, функция этой категории — в простом преобразовании синтаксической структуры предложения: подлежащее и дополнение как бы меняются местами, и этот факт отражается в глагольной форме» [Плунгян 2000: 193]. На первый взгляд эта претензия справедлива, поскольку основной пафос концепции диатез и залогов состоял в том, чтобы показать, что механизм изменения диатез и залогов состоит в перераспределении синтаксических актантов относительно неизменного набора семантических актантов, и в том, чтобы исчислить все теоретически возможные перераспределения. Но механизм изменения диатез и залогов не отождествлялся с функцией. Если о значении разных диатез и залогов не шла речь, то, очевидно, потому, что термин «значение» в начале 70-х годов использовался только при характеристике т. н. содержательных грамматических категорий типа глагольных категорий наклонения, времени, вида и т. п. Но суть различий, которые возникают при употреблении, скажем, соотносительных активной и пассивной конструкции была авторам концепции безусловна известна. Так, еще в 1967 г. И. А. Мельчук писал: «Активный и соответствующий пассивный глагол, строго говоря, не различаются по смыслу — они имеют тождественное означаемое: лат. pater hostem occidit и a patre hostis occiditur означают в точности одну и ту же ситуацию (мы оставляем в стороне различия в логическом и психологическом выделении— „подчеркивании“» [Мельчук 1967: 360]. Как раз оставляемые в стороне различия в логическом и психологическом выделении и составляют функцию различных залогов и диатез или, иными словами, то, «как говорящий хочет представить соответствующую ситуацию и ее участников» [Плунгян 2000: 194]. Именно на эту функцию было обращено внимание в моей статье, [Храковский 1970: 41]. В ней о различиях разных залоговых структур говорилось следующее: «Информации, передаваемые каждой из структур, содержательно несколько отличаются друг от друга, поскольку в каждой структуре актуализируется специфическое отношение говорящего к ситуации, т. е. в каждой структуре одна и та же ситуация характеризуется говорящим под особым углом зрения. (Формально изменение отношения говорящего к ситуации фиксируется тем, что соблюдаемое в исходной структуре соответствие членов предложения и компонентов ситуации различным образом нарушается в производных структурах.) Что касается лексического значения глагола, то оно остается одним и тем же как в исходной, так и в производных структурах, поскольку при переходе от исходной структуры к производным не меняется ситуация, обозначаемая глаголом» [Храковский 1970: 41, ср. Храковский 1974: 26–28]. По моему мнению, из приведенной цитаты следует, что уже в 1970 г. в рамках анализируемой концепции четко различались функция и механизм диатезных и залоговых изменений. Другое дело, что в то время еще не было введено в научный оборот понятие коммуникативного ранга, которое, если я не ошибаюсь, впервые появилось в работах Е. В. Падучевой «Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации» (1997) и «Коммуникативное выделение на уровне синтаксиса и семантики» (1998). В последней статье говорится, что «коммуникативный ранг характеризует участника с прагматической точки зрения — по отношению к фокусу внимания говорящего. Субъект и (прямой) Объект — это участники, входящие в Центр; остальные участники относятся к Периферии); участник, который синтаксически не выразим при данном глаголе, имеет ранг Нуль, т. е. находится, так сказать за пределами Периферии» [Падучева 1998: 94]. Там же было предложено «называть диатезой лексемы набор семантических ролей участников с указанием их коммуникативных рангов» [там же 1998: 97]. Эта новация заслуживает обсуждения, и очевидно, что во всяком случае за переходом от активной конструкции к разного рода пассивным конструкциям стоит перераспределение коммуникативных рангов. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что, хотя в 70-е годы понятия коммуникативного ранга еще не было, но тем не менее реалии, стоящие за этим понятием, были известны и соответственно понимание функции изменения диатез и залогов практически не отличалось от современного, которое четко сформулировано в работе [Мельчук 1998: 173]: «…было бы ошибочным полагать, что залог является полностью асемантичным, т. е. что он сводится к чисто синтаксическому преобразованию. С нашей точки зрения, залог — это семантическая категория; выбор той или иной граммемы залога производится говорящим на основании семантических факторов. Но смысл, присущий залогу, является „коммуникативным“, (а не пропозициональным): залог выражает коммуникативную структуру высказывания. Активная и соответствующая ей пассивная конструкции, строго говоря, не являются синонимичными: описывая одну и ту же ситуацию, они обладают тождественной семантической структурой, но их коммуникативные структуры не совпадают; тем самым их семантические представления оказываются тоже различными».
Теперь мне бы хотелось остановиться на некоторых результатах, которые были получены при изучении пассивных конструкций и которые, как мне кажется, иногда остаются в тени при современном обсуждении залоговой проблематики. В настоящее время принято считать, «что главное назначение пассива —… лишение исходного подлежащего его привилегированного статуса», при этом возможна ситуация, когда «никакого „повышения“ исходного дополнения в освободившуюся позицию подлежащего не происходит» [Плунгян 2000: 199, 202]. С такой формулировкой нельзя не согласиться, однако хотелось бы отметить, что именно эта мысль, правда, в несколько иной терминологии была сформулирована уже в моей работе 1970 г.: «В структурах пассивного залога по определению субъект не занимает позиции подлежащего. В этом случае субъект может либо занимать позицию другого члена предложения, либо не занимать позиции другого члена предложения и, таким образом, не обозначаться в структуре специальным членом предложения. Поскольку субъект не занимает позиции подлежащего, то эта позиция либо может быть занята любым другим участником ситуации, либо остаться незанятой» [Храковский 1970: 31; 1974: 13].
В связи со сказанным хотелось бы остановиться еще вот на каком вопросе. Как известно, в языках мира наиболее широко распространены пассивные конструкции с нулевым агенсом или, как их еще называют, двучленные пассивные конструкции типа Разговор был прерван, в которых агенс не назван и соответственно его коммуникативный статус очень низок. Подобные конструкции было бы соблазнительно считать производными от исходных активных (неопределенно-личных) конструкций типа Разговор прервали, в которых агенсом является неопределенное лицо. Коммуникативный статус неопределенного лица уже в активной конструкции достаточно низок, а в пассивной конструкции он еще более понижается. Соответственно, на первый взгляд есть все основания считать, что пассивная конструкция типа Разговор был прерван «является (с точностью до залога и прагматики) семантическим коррелятом» конструкции Разговор прервали [Плунгян 2000:201].
Однако такой вывод по меньшей мере не может рассматриваться как универсальное правило. Дело в том, что не во всех языках, где представлены двучленные пассивные конструкции, параллельно есть и активные конструкции, в которых агенс является неопределенным лицом. К числу таких языков относится, например, литературный арабский язык, и для двучленной пассивной конструкции в таких языках приходится искать какую-то другую исходную активную конструкцию. Другое соображение состоит в том, что не во всех случаях агенс, отсутствующий в двучленной пассивной конструкции, соотносится с неопределенным лицом. Иногда агенс соотносится с вполне определенным лицом, известным из контекста. Ср. После войны Отто пошатался по свету —… города при этом сменялись очень часто (В. Коротич). Евгения Петровна очень любила праздники. Справлялись они торжественно, солидно и сытно (В. Курочкин). В обоих приведенных примерах агенс вполне определенное лицо, которое названо в предтексте. Еще одно соображение состоит в том, что референтом отсутствующего, но подразумеваемого агенса, в частности в русском языке, может быть и человек, и животное, и стихийная сила. Например, в предложении Лодка была опрокинута не сказано, кто конкретно опрокинул лодку. Это мог быть и человек, и животное (например, медведь), и стихийная сила (например, ураган) [Мельчук 1974]. В то же время в предложении Лодку опрокинули отсутствующий агенс всегда только неопределенное лицо. Наконец, в двучленной пассивной конструкции агенсом может быть любое лицо, в том числе и то, которое контролирует факт сообщения: в типичном случае это говорящий. Иными словами, во фразе Лодка опрокинута агенсом ситуации в частном случае может быть и то лицо, которое произносит эту фразу. Ср.: — Объяснять мне почти нечего, товарищ старший лейтенант, — сказал Ивин, и голубые глаза его спокойно, мягко вобрали взгляд лейтенанта. — Все, что написано в объяснительной записке, — правда. — Ну хорошо… пусть будет правда, — не веря, согласился лейтенант. — Но скажи мне, Ивин, голубчик, почему ты не придумал другой правды (А. Ким).
Иначе обстоит дело в неопределенно-личной активной конструкции, где говорящий обычно не может быть агенсом ситуации. Иными словами, во фразе Лодку опрокинули агенсом не может быть то лицо, которое произносит эту фразу. Исключение говорящего из потенциальных агенсов активной неопределенно-личной конструкции может специально обыгрываться в тексте: Девушки любят, когда за ними красиво ухаживают, цветы, дарят, в театр приглашают, а у меня (=у говорящего. — В. X.) пока такой возможности нет (В. Чубакова); см. подробнее [Храковский 1991а].
Таким образом, и по общелингвистическим, и по семантическим, и по прагматическим соображениям, и прежде всего потому, что неназванный агенс не всегда является неопределенным лицом, вряд ли двучленные пассивные конструкции целесообразно считать производными от неопределенно-личных активных конструкций, хотя, безусловно, неопределенно-личная активная конструкция выступает как функциональный синоним двучленной пассивной конструкции в том случае, если из значения глагола и/или из знаний о реальном мире известно, что агенс это неопределенное лицо. Ср.: Студента пригласили в деканат и Студент был приглашен в деканат. Таким образом, в общем случае наиболее удобно считать, что двучленная пассивная конструкция с лексически не обозначенным агенсом является дериватом исходной активной конструкции с лексически обозначенным агенсом, а не активной неопределенно-личной конструкции. Такой подход и был принят в концепции диатез и залогов.
Если с построением общего исчисления диатез и соответствующих конструкций существуют проблемы, поскольку отдельным конструкциям (рефлексивным, реципрокальным, каузативным) даются неоднозначные интерпретации, то построение исчисления пассивных конструкций особых трудностей не вызывает. В работах [Храковский 1970,1974] была выдвинута гипотеза, в соответствии с которой теоретически возможное количество пассивных конструкций, соотносимых с одной активной конструкцией, зависит от числа партиципантов и его можно исчислить по формуле 2(n+1), где n — число возможностей заполнения партиципантами позиции подлежащего в пассивных конструкциях, 1 — та возможность, когда позиция подлежащего остается незанятой, а умножение на 2 соответствует двум возможностям для партиципанта (обычно агенса), который, оставляя позицию подлежащего в активной конструкции, в пассивных конструкциях либо занимает специализированную синтаксическую позицию, либо вообще лексически не обозначается. Учитывая современные теоретические представления, можно говорить о том, что в пассивных конструкциях до минимума понижается коммуникативный ранг партиципанта, занимавшего в активной конструкции позицию подлежащего, и максимально повышается коммуникативный ранг партиципанта, переходящего на освободившуюся позицию подлежащего. Что касается пассивных конструкций, в которых позиция подлежащего остается свободной (или, если угодно, ликвидируется) и которые, пожалуй, без достаточных оснований иногда называют конструкциями «ленивого» пассива, то на практике это либо одноактантные конструкции, в которых нет партиципанта, способного перейти на позицию подлежащего, типа лит. (Petro) аt-si-kel-t-а букв. «(Пятрасом) встаю», либо конструкции, где на позицию подлежащего не переходит партиципант со второй синтаксической позиции (прямого или косвенного) дополнения, типа укр. Вас прийнято до iнституту, рус. О грядущих переменах вслух не говорилось. В таких конструкциях этому партиципанту вовсе не обязательно переходить в позицию подлежащего, ибо ему по умолчанию приписывается самый высокий коммуникативный ранг. Об этом, в частности, свидетельствует и то обстоятельство, что в подобных случаях и прямое и косвенное дополнение обычно из постглагольной позиции переходят в предглагольную. В целом же против приведенной формулы исчисления не было высказано каких-либо возражений, и думается, что она достаточно адекватно отражает существующее положение дел.
К числу сложных и до конца не решенных проблем в концепции диатез и залогов относится, как известно, вопрос о составе залоговых граммем. В работах [Храковский 1978; 1980; 1981] и [Khrakovsky 1979] было предложено вопреки традиции не считать рефлексив и реципрок залоговыми граммемами на том основании, что для интерпретации и рефлексива и реципрока в отличие от интерпретации пассива и других залогов необходимо привлекать не только уровень синтаксических актантов, но и уровень референтов. Дело в том, что при переходе от актива к другим залогам все изменения касаются только уровня синтаксических актантов: в производной диатезе либо семантическим актантам соответствуют не те синтаксические актанты, что в исходной диатезе (Водитель открывает двери => Двери открываются водителем), либо отсутствует какой-либо синтаксический актант, имевшийся в наличии в исходной диатезе (Мальчик дразнит девочку => Мальчик дразнится), либо мена соответствия сочетается с отсутствием какого-либо синтаксического актанта (Водитель открывает двери => Двери открываются). Иначе обстоит дело при переходе от актива к рефлексиву и реципроку. В этом случае в производной диатезе изменения происходят и на уровне синтаксических актантов и на уровне референтов. В случае рефлексива двум семантическим актантам соответствует один референт (в активе каждому семантическому актанту соответствует свой референт) и один синтаксический актант (Мама причесывает дочку => Мама причесывается). В случае реципрока два референта выполняют одновременно по две роли, и при этом каждый из референтов соотносится с одним и тем же синтаксическим актантом (Оля поцеловала Машу + Маша поцеловала Олю => Оля и Маша поцеловались). Правильность этой точки зрения аргументируется тем, что граммемы рефлексива и реципрока могут объединяться в пределах одной словоформы с граммемой пассива (лит. Onos ap-si-reng-t-a ir išeita букв. «Оной одетось и выйдено»; Jųdviejų pyksta-m-a-si «Ими (двоими) сердитесь друг на друга»). Если бы рефлексив, реципрок и пассив были граммемами одной грамматической категории, то комбинации рефлексив + пассив и реципрок + пассив относились бы к числу запрещенных. В настоящее время данный подход получил дальнейшее развитие. И рефлексив, и реципрок не включают в категорию залога, а относят к категории интерпретирующей актантной деривации, которая меняет референциальные характеристики участников (=партиципантов) ситуации, называемой глагольной лексемой [Плунгян 2000].
Суммируя сказанное, можно прийти к заключению, что многие гипотезы, которые были сформулированы в рамках концепции диатез и залогов, выдержали испытание временем и учитываются современной лингвистической теорией.
Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Мельчук И. А. К понятию словообразования // Изв. ОЛЯ АН СССР. 1967. Вып. 4.
Мельчук И. А. О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги / Отв. ред. А. А. Холодович. Л., 1974. Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. II. М.; Вена, 1998.
Мельчук И. А., Холодович А. А. К теории грамматического залога // Народы Азии и Африки. 1970. № 4.
Падучева Е. В. Семантические роли и проблема сохранения инварианта при лексической деривации И НТИ. Сер. 2.1997. № 2.
Падучева Е. В. Коммуникативное выделение на уровне семантики и синтаксиса // Семиотика и информатика. Вып. 36. М., 1998.
Плунгян В. А. Общая морфология. М., 2000.
Холодович А. А. Залог I: Определение. Исчисление // Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Холодович А. А. (ред.). Типология пассивных конструкций. М., 1974.
Храковский В. С. Конструкции пассивного залога (определение и исчисление) // Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
Храковский В. С. Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги / Отв. ред. А. А. Холодович. Л., 1974.
Храковский В. С. Залог и рефлексив // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978.
Храковский В. С. Некоторые проблемы деривации взаимных конструкций // Семантические аспекты слова и предложения. Пермь, 1980.
Храковский В. С. Диатеза и референтность // Залоговые конструкции в разноструктурных языках / Отв. ред. В. С. Храковский. Л., 1981.
Храковский В. С. (ред.). Типология итеративных конструкций. Л., 1989.
Храковский В. С. Формальная маркировка изменения диатез//Words Are Physicians for an Ailing Mind. München, 1991.
Храковский В. С. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость / Отв. ред. А. В. Бондарко. Л., 1991а.
Храковский В. С. (ред.). Типология императивных конструкций. СПб., 1992.
Храковский В. С. (ред.). Типология условных конструкций. СПб., 1998.
Храковский В. С. Диатезы и залоги (тридцать лет спустя) // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Отв. ред. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин. М., 2000.
Dayley J. P. Voice and ergativity in Mayan languages // Journal of Mayan Linguistics. 1981. Vol. 2. № 2.
Khrakovsky V. S. Diathesis // Acta Linguistics Academiae Scientiarum Hungaricae, 1979. T. 29 (3–4).
Xrakovskij V S. (ed.). Typology of Iterative Constructions. München; Newcastle, 1997.
Xrakovskij V. S. (ed.). Typology of Imperative Constructions. München, 2001.
С. Е. Яхонтов
Служебные слова и морфемы в изолирующих и других языках[133]
Во введении к своему обширному исследованию японского глагола А. А, Холодович, отмечая, что в предложении существует по крайней мере два значимых уровня — уровень слов и уровень морфем, делает при этом одну оговорку, важную для китаеведения: «…есть языки… типа древнекитайского, в которых предложение сегментируется на значимые единицы только одного уровня — на слова. Правда… такие неделимые… слова явно распадются на два класса: класс нестроевых, или неграмматических, и класс строевых, или грамматических, слов; такое деление косвенным образом воспроизводит двухуровневую семантическую структуру привычных и в каком-то смысле „нормальных“, с нашей точки зрения, языков» [Холодович 1979].
Ниже я хотел бы прокомментировать эту оговорку.
Деление единиц языка на знаменательные и служебные (или лексические и грамматические) мы, кажется, встречаем в грамматическом описании любого языка. Противопоставление знаменательных и служебных элементов появляется в традиционных лингенетических учениях очень рано; в частности, в китайской филологии термины «полные слова» и «пустые слова» (известные и в европейской науке) были важнейшими в грамматике (впрочем, в Китае очень слабо развитой).
Смысловое различие между лексическими и грамматическими элементами, будь то морфемы в составе слова (корни и аффиксы) или слова в предложении (части речи и «частицы речи»), всеми описывается более или менее одинаково: значение лексических элементов — конкретное, реальное, грамматических — отвлеченное, обобщенное, формальное; грамматические элементы обозначают не предметы, действия или качества, а отношения между ними или их дополнительные, переменные признаки. Однако мы видим, что одинаковые или очень близкие значения на практике выражаются в одних случаях аффиксами, в других — словами. Ср. запел и начал петь: префикс за- выражает более или менее ту же идею, что и глагол начал. То же самое — буду учиться и собираюсь учиться, был побит и пострадал от побоев, претерпел побои: аналитическая форма будущего времени или пассива по смыслу мало отличается от двух знаменательных слов. Поэтому для различения двух типов значимых единиц, о которых идет речь, должны быть предложены какие-то формальные критерии.
Для языков флективных и агглютинативных эти критерии достаточно ясны, хотя имеется ряд деталей, требующих оговорок или уточнений.
В применил к русскому языку принципы различения лексического и грамматического подробно объяснены в книге А. М. Пешковского [1956]. Исходным понятием для него является форма слова — делимость его на вещественную и формальную части. Правда, не все слова делимы [там же: 12]; между формой и ее отсутствием есть «огромное количество переходных случаев» [там же: 14]; некоторые слова не разделяются на части, но имеют форму (нулевое окончание); формальных частей в слове может быть несколько [там же: 15–16]. Но все это — уточнения или оговорки; основной принцип ясен — каждое слово содержит корень и аффикс (или аффиксы).
Однако существуют также «частичные» служебные слова [там же: 39 слл.]. Большинство из них не имеет формы. По значению они очень близки к формальным частям слов, имеющих форму, это как бы оторвавшиеся от основ аффиксы [там же: 40]. Но некоторые из «частичных» слов являются «до некоторой степени» формальными [там же: 42]; это глаголы-связки, а также служебные слова, помогающие образовывать формы глаголов и прилагательных. Правда, большая часть примеров таких слов берется не из русского языка.
Более или менее та же точка зрения представлена и в работах по общему языкознанию. Так, Ю. С. Маслов различает морфемы — части слов и морфемы, функционирующие в качестве целого слова, служебного (как русские к, на, и) или знаменательного (например, метро) [Маслов 1987: 131–132]. Морфемы в составе слова делятся на корни и аффиксы; первые являются носителями лексических значений, вторые — лексико-грамматических (деривационных) или собственно грамматических [там же: 133–134], Корни и аффиксы выделяются и во многих служебных словах — например, вспомогательных глаголах (как русский буду), артиклях (как французский 1е) и т. п. Корни служебных слов имеют грамматическое значение; так корень буд- в слове буду выражает значение времени действия, обозначенного главным глаголом. В одноморфемных словах Ю. С. Маслов не выделяет корня. Таким образом, к лексическим (знаменательным) морфемам он относит корни знаменательных слов и морфемы, употребляющиеся как знаменательные слова; к грамматическим (служебным) — аффиксы, а также корни служебных слов и неделимые служебные слова [там же: 138–139]. Последние у Ю. С. Маслова, как и у А. М. Пешковского, объединяются с аффиксами, а не с корнями.
Правда, этот подход к морфологии флективных языков не является единственно возможным. В «Русской грамматике» [1980] раздел «Морфология»— «безморфемный». Слово обладает системой морфологических значений; формы слова — это «регулярные видоизменения слова», имеющие одно лексическое, но разные морфологические значения, а не одну основу и разные окончания. Впрочем, существуют аналитические формы, представленные двумя словоформами: сюда относятся, в частности, формы будущего времени, в состав которых входит «вспомогательный глагол быть» [там же: 453–454] (в действительности показатель будущего времени не имеет формы инфинитива). Служебные слова не имеют морфологических категорий, то есть, очевидно, неизменяемы [там же: 458].
В той же книге, в разделе «Основные понятия морфологии», излагается теория, близкая к обычной, с одним существенным отличием: морфологически нечленимые служебные слова рассматриваются как имеющие корень и основу; один и тот же морф считается аффиксальным в одном случае и корнем — в другом [там же: 124]. Это значит, что от в сочетании отъехать будет считаться аффиксом, а в сочетании от дома — корнем.
Итак, для флективного языка обычным считается слово, состоящее из корня и одного или нескольких аффиксов, и неизеняемое служебное слово, вопрос о статусе которого остается спорным. Есть ряд промежуточных случаев или исключений, которые приходится особо оговаривать, но все же общая картина достаточно ясна.
В аналитических языках количество трудных случаев возрастает. Увеличивается число неизменяемых слов; очень часто основная форма слова (семантически воспринимаемая как исходная — например, единственное число существительного в отличие от множественного) лишена окончания. Вспомогательный глагол в составе аналитической формы не имеет внешних признаков, отличающих его от глагола полнозначного. В некоторых языках (немецкий) возникает проблема отличения второго корня сложного слова от аффикса: ср. нем. Kaufmann и русск. купец — можно ли морфему — mann «человек» считать суффиксом или хотя бы полусуффиксом?
Для агглютинативных языков, по крайней мере для наиболее известных из них — алтайских, характерны слова, состоящие из корня и одного или нескольких суффиксов. При этом ни один из этих суффиксов не является обязательным (практически все корни являются свободными формами), поэтому словоизменительные морфемы трудно отличить от деривационных (впрочем, это отдельная проблема, которая нас здесь не интересует). Служебные морфемы алтайских языков отличаются от корней тем, что гласные их меняются в соответствии с правилами сингармонизма. Это относится не только к аффиксам, но и, например, к вопросительной частице в тюркских языках; ср. турецк. iyi mi? «хороший ли?», uzun mu? «длинный ли?». Но вообще служебные слова в алтайских языках сравнительно редки, и законы сингармонизма на большинство их не распространяются. Здесь, как и в случае флективных языков, общие принципы ясны, но есть большое число исключений.
Сложнее всего обстоит дело с выделением служебных элементов в изолирующих языках. Ниже используется материал китайского языка; существование в нем служебных морфем или слов не подлежит сомнению, их отмечает лексикографическая и комментаторская традиция уже более 2000 лет. Правда, современный китайский язык не является полностью изолирующим, в нем есть некоторое количество синтетических (агглютинативных) форм.
В китайском мы сталкиваемся с трудностями двоякого рода.
Во-первых, предполагаемым служебным элементам часто соответствуют материально совпадающие с ними и близкие к ним по значению знаменательные слова. Например, современные предлоги происходят от глаголов, причем глагол и соответствующий предлог могут сосуществовать в языке; ср. gěi «давать» и «для», yòng «пользоваться» и показатель орудия (как англ. with), gēn «следовать» и «с».
Во-вторых, служебное и знаменательное слово (разного происхождения) могут быть употреблены в одной и той же грамматической конструкции, занимая одну и ту же позицию. Сравним:
Несомненно, что второе слово в первом примере (tóu, букв, «голова») — служебное (классификатор); оно формально обязательно (после числительного всегда должно стоять слово, указывающее на единицу измерения или счета), но не несет никакой смысловой нагрузки. Во втором примере ему соответствует полнозначное слово qún «стадо». Формально два словосочетания построены совершенно одинаково.
Выше уже было сказано, что выделять служебные морфемы или служебные слова по их значению нельзя: грамматическое и знаменательное слово могут иметь очень близкие значения. Одна и та же иноязычная морфема может быть переведена на русский язык то служебным словом (или аффиксом полнозначного слова), то отдельной лексической единицей. Сравним:
Для решения этих или сходных вопросов мы должны опираться на некоторые формальные критерии. Последние, если они надежны, должны быть применимы к языкам любых топов, а не только к изолирующим. Некоторые такие критерии мы сейчас рассмотрим.
Служебные морфемы, в том числе морфологически неделимые служебные слова, за очень редкими исключениями являются связанными морфемами, то есть не могут быть употреблены как отдельное неполное предложение (например, как ответ на вопрос). Но для изменяемых служебных слов такое употребление не исключено; ср., например, русский показатель будущего времени несовершенного вида: Ты будешь это читать? — Буду. Кроме того, надо иметь в виду, что среди корней, входящих в состав сложных слов, тоже есть немало связанных, напр. астр(о) — в слове астрофизика или mín «народ» в китайском rénmín «народ» (первый корень этого слова — rén «человек» — свободный). Таким образом, указанный признак работает далеко не во всех случаях.
По-видимому, все служебные элементы (морфемы и слова) монофункциональны, то есть могут употребляться в составе только одной грамматической конструкции и занимать в ней только одну позицию. Например, классификаторы в китайском языке в принципе всегда стоят после числительного; вспомогательные глаголы, как русское буду (показатель времени), всегда являются первой частью глагольного сказуемого. По этому признаку различаются, в частности, китайские предлоги и глаголы: предлог, как и глагол, может управлять следующим словом, но глагол может быть и его определением. Ср. bă fàn «рис*, „рисовую кашу“ (bă — предлог, показатель прямого объекта) и chĭ fàn „ем рис“; однако во втором случае возможно преобразование в chi de fàn „рис, который [я] ем“. Признаком монофункциональности обладают, в частности, вспомогательные глаголы и артикли аналитических языков — слова служебные, но изменяемые. Правда, связка, которая, скорее всего, должна считаться служебным словом, может употребляться в не вполне одинаковых конструкциях: был летчиком, хочу быть летчиком, будучи летчиком… С другой стороны, наречия — знаменательные слова — по большей части монофункциональны (служат определением к глаголу или прилагательному, и только).
Очень многие авторы отмечают, что служебные элементы входят в состав ограниченных списков. Каждый класс служебных элементов состоит из определенного числа членов, которые все могут быть перечислены. Смысловые отношения между ними имеют более системный характер, чем между знаменательными словами. Этот признак, в частности, позволяет отнести к лексике, а не к грамматике, так называемые „полусуффиксы“, подобные — mann в немецком Kaufmann [Степанова 1953: 182–191]: количество их велико и неопределенно, граница между предполагаемыми полусуффиксами и вторыми элементами сложных слов нечетка или произвольна. Это относится и к аналогичным морфемам китайского языка, как rén „человек“ в слове gōngгen „рабочий“.
Однако надо помнить, что некоторые знаменательные слова тоже входят в ограниченные списки со стройной внутренней структурой, как, например, числительные или термины родства [Касевич 1977: 55].
Мне кажется, что наиболее надежным признаком служебного характера морфемы или слова является ограниченность возможности замены (чередования) их в конкретном тексте; здесь имеется возможность выбора лишь между двумя-тремя служебными элементами одного и того же класса. Рассмотрим пример из китайского языка:
Слово wŏ „я“ может быть заменено очень многими другими словами (существительными, обозначающими лиц) без нарушения правильности конструкции. Так же можно заменить почти все остальные слова в этом предложении, включая корень глагола măi „купить“. Вместо слова shū „книга“ можно подставить сравнительно небольшое, но все же не строго ограниченное число существительных, обозначающих предметы, имеющие вид книги или тетради; ограничение обусловлено наличием классификатора běn „том“, которого требует существительное shū „книга“. Классификатор можно заменить каким-нибудь существительным, например sān xināgz „три ящика книг“. Что касается „для“, то предлогов в китайском языке много (хотя меньше, чем в русском, так как в этом языке есть и послелоги), но в данном предложении на месте gei можно употребить, кажется, только tì „вместо“. Видо-временной показатель — lе чередуется только с другим аналогичным показателем — guo (măiguo „как-то раз купил“, „бывало, покупал“).
По предложенному выше критерию мы можем считать несомненными служебными элементами предлог gěi и аффикс — lе. К ним можно добавить и классификатор běn: мы заменили его словом другого класса — существительным. Правда, можно сказать еще sān bù shū „три книги“ (с другим классификатором), если имеется в виду книга не как предмет, а как произведение: три книги, которые некто написал или которые я кому-то рекомендую прочесть, и т. п. Существительное же отличается от классификатора тем, что употребляется в разных функциях (подлежащего, дополнения и т. д.), а не только в сочетании с числительным.
В примерах, приводившихся выше (с. 525) как спорные, слова yòng (показатель орудия) и bă (показатель определенного объекта) являются служебными (предлогами); для них замена, кажется, невозможна (если не считать того, что у них есть синонимы, устаревшие или диалектные). В сочетании yì qún yáng „(одно) стадо баранов“ qún „стадо“ (с. 525), как и классификаторы, является счетным словом (то есть всегда ставится между числительным и существительным); формальным доказательством того, что это знаменательное слово, является способность его иметь определение — слово dà „большой“ (yì dà qún yáng „большое стадо баранов“); классификаторы в конструкции с определением не употребляются.
Единственным классом слов китайского языка, где рассматриваемый критерий, кажется, не может быть применен, являются конечные частицы. Они имеют все признаки служебных элементов, за исключением того, что свободно заменяют одна другую в одной и той же (конечной) позиции.
Признак ограниченности замены пригоден и для языков другого типа, чем китайский. Так, в английском предложении I have a book форму have можно заменить очень многими глаголами, например, I read a book; но та же форма в I have read it, где это вспомогательный глагол, ничем заменена быть не может (разве что формой прошедшего времени того же глагола — had). Артикль чередуется не только с другим артиклем (the book — а book), но и с некоторыми другими словами — this book, my book, наконец, John» s book, но все слова, которые мы подставляем на место артикля, могут употребляться и в других сочетаниях (this is a book и т. п.), поэтому только артикль может считаться служебным словом.
Существуют некоторые классы слов, которые состоят из ограниченного числа элементов, но слова, входящие в эти классы, обладая многими признаками служебных, в любом контексте могут легко быть заменены другими словами того же класса. Таковы, например, модальные глаголы (могу пойти — хочу пойти), простые числительные (в русском языке, правда, с некоторыми оговорками, касающимися первых четырех). Отмечу также интересную, но не изученную группу слов русского языка, куда входят такие слова, как впереди, позади, внутри, снаружи, вблизи, вокруг, напротив, мимо, и некоторые другие. Традиционно их причисляют к предлогам. Однако они отличаются от «обычных» предлогов тем, что, во-первых, могут употребляться и без управляемого слова (собака бежит впереди охотника — собака бежит впереди), во-вторых, довольно свободно заменяют друг друга (бежит впереди/позади!вокруг/мимо). Когда они употребляются без следующего имени, они представляют собой свободные формы и считаются наречиями. Слова со сходной семантикой и частично со сходными свойствами хорошо известны в агглютинативных языках, где их (иногда с оговорками) включают в число послелогов. Так, в турецкой грамматике А. Н. Кононова они названы послелогами-именами в отличие от обычных послелогов-частиц [Кононов 1956: 63, 312–313, 328–329]. Употребителен также термин «служебные имена», введенный Н. К. Дмитриевым [1948: 228–233]. Слова этих классов, пожалуй, не следует считать служебными.
Много общего со служебными словами имеют местоимения (и, шире, все слова-заместители); китайская традиция относит их к «пустым словам». Во всяком случае, они образуют закрытые списки. Но они представляют собой свободные формы, и большинство их не является монофункциональными (кроме, по понятным причинам, заместителей наречия, т. е. таких слов, как там, тогда, так и т. п.).
Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.
Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977.
Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956.
Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1987.
Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. Русская грамматика. М., 1980.
Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка. М., 1953.
Холодович А. А. Глагол в современном японском языке // Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
© Авторы, 2004
© Знак, 2004