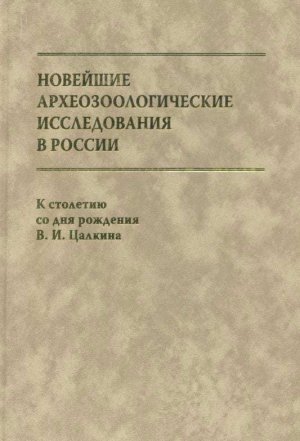
Столетие со дня рождения В. И. Цалкина
Вениамин Иосифович Цалкин (1903–1970), доктор биологических наук, выдающийся российский зоолог и морфолог-систематик, внесший заметный вклад в биологическую науку. Однако наибольшую известность принесли ему изыскания в области изучения древних костей животных, происходивших из археологических памятников. Он по существу стал одним из отечественных основоположников той области биологической науки, которая в последние годы — в двух своих основных разновидностях — стала именоваться зооархеологией или археозоологией.
Это направление изысканий по существу захватило В. И. Цалкина полностью уже в зрелом возрасте. Первоначально в 1946 г. по совместительству, а с 1950 г. уже полностью он перешел в штат Института истории материальной культуры АН СССР, где и продолжал работать вплоть до своей кончины. Отказ от основного и первоначального направления своих биозоологических исследований в огромной мере был вынужденным: ученый явился одной из жертв — к счастью не самой трагической — восхождения на государственный Олимп «передовой лысенковской биологии».
С самого начала своих изысканий в стенах ИИМК’а В. И. Цалкин начал планомерное и систематическое исследование наиболее важного археологического источника для реконструкции хозяйственной жизни древнего населения — кухонных остатков. При изучении этого материала В. И. Цалкина в первую очередь заинтересовали зоогеографические вопросы. Результатом такого специального интереса стало появление новых данных об историческом изменении ареалов ряда видов диких животных, — главным образом, копытных — на территории Восточной Европы. Эти поиски дали толчок не только к изучению влияния антропогенного фактора на природные сообщества, но и зарождению новой биологической дисциплины — исторической экологии.
По всей видимости, наиболее ценная информация, извлекаемая при изучении архео-фаунистических остатков, касалась реконструкции хозяйственного уклада древнего населения. В. И. Цалкин явился пионером при разработке методов изучения истории охоты и животноводства, их соотношения и роли в древней экономике. Он старался оценить значение отдельных видов животных в хозяйственной практике. Ученый впервые ввел основы статистического анализа для описания морфологических характеристик разных породных групп у домашних животных, в первую очередь, крупного рогатого скота и лошади. Стараясь понять и объяснить огромную изменчивость размеров и пропорций у древнего скота, В. И. Цалкин собственноручно проделал чрезвычайно трудоемкую работу по препарированию и измерению скелетов современных животных одной породы как крупного, так и мелкого рогатого скота. Результаты этих изысканий остаются и поныне неповторимыми в российской биологической науке.
Свою главную цель он видел в обобщении данных, полученных на базе анализа множества конкретных остеологических коллекций, в органическом сочетании с добротной информацией об археологических памятниках, откуда происходили изученные материалы. Такой подход и обусловил, конечно же, резкое отличие уровня исследований В. И.Цапкина от работ его предшественников в России. И потому вряд ли мы преувеличим в утверждении, что в нашей стране именно он явился родоначальником археозоологии в современном понимании этого научного направления.
В. И. Цалкин посвятил ряд монографий особенностям почти пятидесятивекового развития охоты и животноводства на пространствах Восточной Европы и Средней Азии. Базой этих фундаментальных публикаций стали не менее 700 000 детально исследованных костей животных из почти 350 памятников. К сожалению, ему не удалось увидеть воочию последний и один из важнейших своих трудов — о начале доместикации животных в Восточной Европе: книга вышла уже после его смерти.
Итогом научной деятельности В. И. Цалкина стали 8 монографий, 100 научных статей и около 200 статей и заметок в Большой Советской Энциклопедии. Изложенные прекрасным научным языком его работы дают полное представление об археозоологии 1960-70-х годов в России, научный уровень которой являлся тогда одним из самых передовых в мировой науке.
Безусловно, что труды ученого стали той базой и отправной точкой развития археозоологии в России в конце XX и начале XXI вв. Отталкиваясь от них зарождаются новые методики и подходы к архео-фаунистическим материалам, к созданию широких полотен развития скотоводства на бескрайних пространствах Евразии.
Именно в этом ключе и следует рассматривать публикуемые в настоящем сборнике материалы, авторы которых с глубоким уважением вспоминают о том богатом научном наследстве, которое оставил их замечательный предшественник — Вениамин Иосифович Цалкин.
Е. Е. Антипина, Е. Н. Черных
Часть I
Методические проблемы изучения остатков животных из археологических памятников
Е. Е. Антипина
Археозоологические исследования: задачи, потенциальные возможности и реальные результаты
Без преувеличения можно сказать, что именно В. И. Цалкин в 60-70-х годах прошлого века внес в практику российской археологии принципиально новое отношение к остаткам животных из древних поселений, показав совершенно неожиданные возможности археозоологического исследования. В первой половине двадцатого века изучением костей животных из археологических памятников занимались, как правило, палеонтологи, морфологи и биологи-фаунисты. И хотя среди них были такие известные ученые, как Е. Г. Андреева, А. А. Браунер, В. И. Бибикова, С. Н. Боголюбский, Н. К. Верещагин, В. О. Витт, В. К.Громова, К. Л. Паавер, И. Г. Пидопличко, В. О. Топачевский и другие, они ставили перед собой и решали биологические задачи лишь двух направлений — фаунистическое окружение древнего человека через реконструкцию его охотничьей деятельности и биологические аспекты процесса одомашнивания животных.
Однако сразу же после первых публикаций В. И. Цалкина [1955; 1956; 1958; 1960-а] стало очевидным, что информация, которую дает анализ остеологических коллекций из древних памятников, позволяет выйти за пределы обсуждения видовых, морфологических и зоогеографических аспектов изучаемых материалов. Костные кухонные остатки казалось могли стать ключом к реконструкции всей системы хозяйства и жизнеобеспечения населения. Но уже при исследовании костей животных из средневековых городов В. И. Цалкин столкнулся с ситуацией, когда только привлечение археологического и исторического контекста находок давало возможность объяснить те или иные их особенности, и даже просто соотношение диких и домашних видов. Оказалось, что на характер отложения и накопления кухонных остатков в культурных слоях селищ и городищ влияет множество факторов — природных, исторических, этнических, зачастую и социальных. Естественно, что это заставляло вводить в анализ разного рода ограничения, оговорки и поправки. И все же В. И. Цалкин попытался, объединяя коллекции по родственным в культурном отношении памятникам в единые совокупности, перейти к реконструкции состава стада сельскохозяйственных животных, разводимых древним населением Восточной Европы — будь то скифы, греки или древнеславянские племена. Не все получалось так, как было намечено: многие выводы и гипотезы оказались иллюзорными или не всегда легко объяснимыми, а методические подходы и оценки некорректными. И нередко он вынужден был с долей разочарования указывать на ограниченность и неоднозначность конечных интерпретаций: «Мы в состоянии лишь констатировать очень существенные изменения роли лошади в питании населения, но не определить удельный вес ее в скотоводстве» [1956, с. 147] или «… обнаруженные… исторические изменения в соотношениях между отдельными видами сельскохозяйственных животных… определяются двумя различными, хотя и довольно трудно разграничимыми обстоятельствами: эволюцией хозяйства в направлении увеличения роли земледелия и изменением этнического состава античных городов» [1960-а, с. 100]. Методическая сложность обработки остеологических коллекций и неоднозначность интерпретации получаемых фактических данных остаются и сегодня проблемами, с которые приходится считаться исследователям.
Тем не менее теперь уже ни у кого нет сомнения, что информативные возможности археозоологического материала оказываются чрезвычайно широкими: от глобальных реконструкций антропогенного изменения природных сообществ до выяснения тонких деталей хозяйственного и бытового уклада древнего населения. Реальными научными задачами становятся: оценка вклада охоты в экономику и организация охотничьей деятельности; характеристика основных форм и направлений животноводства, условий содержания разводимых животных с обозначением их породных особенностей, заболеваний и патологий; расчеты объемов и специфики мясного потребления в сложившейся системе жизнеобеспечения древних племен; выяснение взаимодействия между отдельными отраслями хозяйства, масштабов обменно-торговых связей и их значения в поддержании устойчивости тех или иных культурно-хозяйственных типов; реконструкция ритуального использования животных и уровня развития косторезного ремесла в древности; а также экстраполяция результатов на социальные аспекты жизни самого человека и т. д.
Для решения всех этих задач из культурных слоев археологических памятников извлекаются и анализируются остатки даже таких животных, как моллюски, крабы, насекомые и клещи [Бабыкин 1977; Антипина, Маслов 1991; Антипина, Назаров, Маслов 1991; Moreno 1992; Schelvis 1992; Elias 1994]. Используются также сведения по другим археобиологическим направлениям — палеоэтнобота-ническим, палинологическим, палеогеографическим, палеоантропологическим и даже палеогенетическим. Однако получаемые археозоологами результаты зачастую разочаровывают. Нередко отечественные публикации являют собой формализованную схему — упрощенную кальку с работ В. И. Цалкина, где уже заранее можно предугадать полный состав домашних и диких животных, соотношение отдельных видов и даже конечные выводы.
Что же ограничивает возможности археозоологического анализа? И что, в свою очередь, позволяет получить и наиболее полно расшифровать информацию, заключенную в совокупности остатков животных из археологических памятников? Пытаясь ответить на эти вопросы и понимая принципиальную невозможность создания единой методики археозоологического исследования, я сконцентрировала внимание на некоторых общих подходах к проведению его основных этапов. Все обсуждаемые здесь методические аспекты сформулированы в таблице 1. Опыт наших коллег и собственная многолетняя практика позволяют утверждать, что последовательное использование таких подходов позволяет вскрыть информационный потенциал почти любых остеологических коллекций. В то же время археозоологические материалы включают, как будет показано ниже, совершенно разные по своему происхождению категории остатков, каждая из которых требует применения, а иногда и создания новых специфических методов исследования и оценочных параметров.
Современная организация археозоологических исследований в большинстве случаев обеспечивает не слишком высокую надежность получаемой информации. Уничтожение исходных данных зачастую начинается прямо при раскопках памятников, в частности — широким применением сбора только «определимых» фрагментов костей животных[1]. В таких случаях обычно разграничение остатков на «определимые» и «неопределимые» берут на себя или просто рабочие или сами археологи: специалисты-археозоологи редко могут позволить себе непосредственно участвовать в работе экспедиции в течение всего сезона раскопок. Поэтому при сборе таких «определимых» фрагментов происходит неосознаваемая сортировка остеологического материала, приводящая к тому, что вклад отдельных видов в формируемую выборку изменяется в 3–4 раза по сравнению с исходной [Раупе 1972; Morales 1987; Маслов, Антипина 1992]
Таблица 1.
Таблица 2. Сравнительные характеристики двух выборок из поселения Борки-III, полученные разными методами сбора.
Нам удалось в свое время вторично собрать материалы на памятнике, с которого археологи представили именно «определимые» остатки. После обработки почти всей генеральной совокупности костей животных из небольшого по площади средневекового поселения Борки-III стало ясно, что доля остатков крупных животных, таких как зубр, лось, благородный олень, медведь, кабан, крупный рогатый скот и лошадь в первой выборке («определимых» фрагментов) была завышенной (около 89 % — табл. 2), а количество костей небольших животных — явно заниженным[2]. Тотальная же выборка, тщательно собранная в процессе организованной нами ручной переборки слоя, включала уже только 70 % остатков тех же крупных животных, а доля средних по размерам видов соответственно увеличилась до 30 %. Конечно, надо признать, что определимых до видового уровня фрагментов в тотальной выборке оказалось значительно меньше (всего 35 % — табл. 2), но при этом соотношение видов уже стало отражать несомненно реальную и вполне объяснимую картину. Так, доля бобра, свиньи и собаки увеличилась в 3–9 раз, а доля крупного рогатого скота почти в шесть раз уменьшилась (табл. 2): эти изменения как раз и стали существенными для конечной интерпретации полученных данных [Маслов, Антипина 1992].
Естественно, что для получения достоверных археозоологических реконструкций необходимо стремиться к максимально полному сбору всего остеологического материала, если не путем просеивания или промывки всего культурного слоя, то, хотя бы, путем ручной переборки всей его массы (табл. 1, пункт 1). Этот метод повышает вероятность попадания в коллекцию мелких фрагментов костей не только крупных и средних животных, но и остатков совсем небольших по размерам млекопитающих, птиц и даже пресмыкающихся и земноводных [Раупе 1972]. Разнообразие полученных таким образом фаунистических групп открывает совершенно новые, иногда непредсказуемые, возможности для интерпретации результатов. Например, при расчистке главного жертвенника святилища Байте-III (III–I вв. до. н. э., Западный Устюрт, Республика Казахстан), просеивая пепел, археологи собрали все костные фрагменты, даже самые крошечные. Обработка этого материала привела к странному на первый взгляд разграничению остатков. На алтаре среди сожженных довольно мелких фрагментов костей жертвенных копытных оказались и отдельные кости, и даже почти полные скелеты грызунов нескольких видов. Они представляли собой в разной степени обгорелые остатки и кости совсем без следов огня. Найти объяснение этому факту помогли находки костей двух филинов под завалами обрушившейся кровли в стороне от алтаря. Кости мелких грызунов могли попасть на алтарь только из погадок — отрыжек филинов, которые обитали в святилище. Более того, следствием такого объяснения стала реконструкция особенностей архитектуры потолочного перекрытия культовой постройки, а также периодичности совершения обрядов и жертвоприношений [Антипина, Ольховский 2000].
После такого полного сбора остатков для любой остеологической коллекции из археологического памятника должны быть зафиксированы основные ее параметры — исходный объем выборки, тафономическое состояние костей, степень их искусственной раздробленности, следы искусственного воздействия на остатках и их происхождение (табл. 1, пункты 2–4). Именно эти параметры предопределяют в археозоологической практике всю систему последующей статистической обработки и интерпретации. Замечу, что подсчитать количество всех костных остатков из раскопок памятника и оценить некоторые из указанных общих параметров остеологической выборки способен не только специалист-археозоолог, но и почти любой взрослый сотрудник экспедиции. Исключение, по-видимому, представляют лишь следы искусственного воздействия на костях (как следствие кухонной разделки туш животных или разных способов приготовления мяса, подготовки костяного сырья для изготовления орудий или иного, в том числе и ритуального, использования), для различения которых нужны все-таки некоторые специальные навыки. Более того, подсчет и оценка их разнообразия возможны только при хорошей естественной сохранности остатков. Поэтому чрезвычайно важным представляется разделение именно таких параметров остеологических коллекций, как тафономическое состояние (естественная сохранность) и искусственная раздробленность костей [Morales 1988; Fisher 1995; Антипина 1999]. Подчеркну, что оценка естественной сохранности костей животных, как правило, позволяет зафиксировать своеобразие конкретных тафономических условий культурного слоя. Иногда это может стать единственным ключом к разграничению разновозрастных отложений, а чаще — просто помогает объединить однородные остатки в соответствующие категории материалов (табл. 1 пункт 4).
В своей практике я использую пятибалльную шкалу, по которой естественная сохранность целой кости или крупного фрагмента с хорошо сохранившимся поверхностным слоем компакты оценивается в пять баллов. На нем обычно еще нет отпечатков процесса естественного разрушения, обусловленного жизнедеятельностью почвенной микрофауны и — флоры, и ясно видны все следы искусственного воздействия. Тафономическое состояние хрупкой — пусть даже сохранившей свою форму — кости с полностью разрушенным поверхностным слоем оценивается в один балл. При этом, особо подчеркнем, что достоверное видовое определение может быть осуществлено и для фрагмента с плохой естественной сохранностью (1–2 балла), и наоборот — бывают случаи, когда прекрасно сохранившийся костный фрагмент оказывается неидентифицируемым до видового уровня.
Для характеристики искусственной раздробленности остатков археозоологи используют довольно разные параметры: это и взвешивание костей с последующим вычислением среднего удельного веса одного фрагмента [Morales et al. 1994]; и индекс раздробленности (ИР), как число фрагментов в единице стандартного объема — 1 дм3 [Антипина 1999]; и «коэффициент дроблености», как соотношение фрагментов разного размера по каждому из видов [Асылгараева 2002] и др. Несмотря на внешние различия этих оценок, они могут быть вполне сопоставимы между собой в рамкам универсальной пяти-десятибалльной шкалы.
При такой подробной фиксации состояния костей и самых разных следов на них становится очевидным, что любая остеологическая коллекция обычно включает неодинаковые по своему происхождению категории материала (табл. 1, пункт 4). Это — прежде всего, кухонные остатки; затем — кости животных из ритуальных комплексов; далее — свидетельства использования их в качестве сырья для косторезного ремесла; а также — останки животных, попадание которых в культурный слой не связано напрямую с хозяйственной деятельности жителей поселения [Klein & Cruz-Uribe 1984; Gautier 1987; Davis 1987; Morales 1987]. Последняя группа может быть представлена как синхронными археологическим отложениям остатками грызунов, насекомоядных, птиц пресмыкающихся и других — симбионтов и комменсалов («сожителей» и «сотрапезников»), так и более поздними включениями в слой костей разных видов норных животных [Klein & Cruz-Uribe 1984; Антипина 1993]. Все указанные категории археозоологических материалов могут быть корректно проанализированы только в рамках своей по происхождению группы: кухонные остатки сравниваются с кухонными, ритуальные — с ритуальными и т. д. Разделение же костных остатков на кухонные, ритуальные или ремесленные обязательно строится на рассмотрении археологического контекста этих находок, их тафономического состояния, особенностей их раздробления и других следов искусственного воздействия, позволяющих судить о причинах попадания их в слой [Klein & Cruz-Uribe 1984; Антипина 2003, в печати]. Эта задача бывает достаточно сложной, и иногда только специалист-археозоолог может распознать, например, ритуальный или естественный характер появления остатков некоторых животных в погребениях человека. В южных регионах Восточной Европы известна утка-пеганка (Tadoma tadoma), которая нередко использует рыхлое заполнение могил для устройства своих достаточно глубоких гнездовых нор, где и откладывает яйца [Дементьев 1952]. Поэтому, в пределах гнездовой территории этой утки, обнаруженная в захоронении скорлупа яиц рядом с человеческим скелетом не может считаться объектом ритуального комплекса без дополнительного археозоологического исследования. Аналогичная проверка требуется также и для всех находок змеиных костей как на поселениях, так и в погребениях. Последнее тем более необходимо, поскольку существование очень древнего культа поклонения змее подталкивает авторов раскопок сразу же объявить такие находки ритуальными [Шишлина 1996]. Тогда как, змеи и другие пресмыкающиеся просто могут устраиваться на зимовку в могилах, склепах, погребах, проникая туда по трещинам и полостям грунта, где часто погибают.
Примером того, к чему приводит обобщенное рассмотрение материала без разграничения его по указанным выше категориям, можно считать ситуацию с интерпретацией находок костей собак на памятниках железного века в Северном Причерноморье. Остатки собак оказываются поразительно многочисленными как на скифских, так и на греческих поселениях, особенно в сравнении с остеологическими коллекциями предшествующих и последующих исторических периодов [Цалкин 1960-а; 1966]. Значительная их часть — это отдельные раздробленные кости, хотя обнаруживаются и довольно многочисленные части целых или разрозненных скелетов, причины попадания которых в слой в публикациях, как правило, не обсуждаются. Естественно, что все эти остатки не включаются в соотношение домашних видов животных, мясо которых использовалось в пищу, хотя сравнение их доли со вкладом некоторых сельскохозяйственных видов, например с лошадью и свиньей, демонстрирует почти равные их пропорции в видовом спектре [Цалкин 1960-а]. Однако на ряде разновременных поселений юга Восточной Европы, в том числе и на греческих, зафиксированы несомненные следы потребления мяса собак в пищу [Журавлев 1981; Morales & Antipina 2003, in press]. Таким образом, отсутствие в публикациях достоверной информации об археологическом контексте находок и, соответственно, о принадлежности их к категориям кухонных или же ритуальных остатков препятствует в настоящее время полноценному изучению вопроса о необычном для нашего восприятия варианте использования собак в хозяйстве.
Другим примером ненамеренного смещения информационных акцентов может служить общепринятая интерпретация находок раковин съедобных моллюсков на древних поселениях Северного Причерноморья. Причины попадания и накопления их в слое обычно не анализируется, и все они считаются свидетельством потребления мяса моллюсков в пищу [Кругликова 1975; Щеглов 1978; и др.]. Вместе с тем изучение конкретных коллекций остатков таких моллюсков из памятников III вв. до н. э. — II вв. н. э. (Евпаторийское побережье Крыма) показало, что большинство из них принадлежало животным, погибшим еще в море. Об этом свидетельствовали следы оката и микроскопические бентосные обрастания на внутренней стороне створок. Иными словами — на поселениях были обнаружены не остатки съеденных моллюсков, а просто пустые раковины, принесенные жителями с побережья [Антипина, Маслов 1991].
Таким образом, основные параметры коллекции — исходное количество и тафономическое состояние костей, степень искусственной раздробленности и следы искусственного воздействия на них, а также разнообразие категорий остатков в материале — даже вне рамок видовой идентификации фрагментов — дают ту первичную археозоологическую информацию, которая предопределяет методы всего последующего количественного анализа.
Все без исключения археозоологи единодушны в оценке зависимости достоверности получаемых результатов от количественного объема остеологической выборки. Огромное влияние фактора случайности на формирование облика малой археозоологической выборки из 10 костей ни у кого не вызывает сомнений. Результаты же обработки коллекций, включающих более тысячи определимых костей животных, с очевидностью считаются достоверными.
Однако такое единодушие не решает вопроса о минимальном объеме остеологической выборки, который мог бы достаточно полно отражать характеристики всей совокупности костных материалов на памятнике. Зарубежные исследователи используют в своих работах так называемое «правило Дэвиса» [Davis 1987], из которого следует, что увеличение числа костей из раскопок в 10 раз дает уже принципиально новую информацию. И для выборки уже в 500 определимых костей можно говорить не только о полном видовом составе, но и о реальном соотношении тех видов животных, которые активно использовались в хозяйстве. Меньший объем в 200–300 определимых костей рассматривается П. А. Косинцевым [Косинцев, Стефанов, Труфанов 1989] как вполне представительный для адекватной характеристики всего костного материала памятника. Сходная цифра от 250 до 300 определимых фрагментов получена T. Amorosi, но уже только для кухонных остатков, при которой соотношение основных сельскохозяйственных видов становилось устойчивым в материалах из разных участков конкретного поселения [Amorosi et al. 1996].
Нами был предложен минимальный объем выборки в 400 определимых до вида фрагментов как достаточный для установления: 1) видового состава животных наиболее значимых в хозяйстве конкретного поселения, 2) реального соотношения их костей в кухонных остатках [Антипина 1997; Cemych et al. 1998]. Эти параметры еще раз были проанализированы на материалах одной из самых многочисленных в Восточной Европе коллекции из поселения позднебронзового времени Горный в Оренбургской области [Антипина 1999]. Материалы, включающие почти 400 ООО определимых костей, позволили обрабатывать сформированные случайным образом выборки разного объема. При этом были исследованы два показателя: 1) полнота видового состава домашних животных и 2) устойчивость соотношения их остатков. Из 30 случайно взятых выборок по 300 определимых до вида костей только 13 (43 %) дали практически полный видовой состав домашних животных, исключая собаку, обнаруженных на поселении по всей совокупной коллекции. Из других 30 выборок, но уже по 400 определимых до вида костей, 23 (77 %) включали все пять видов сельскохозяйственных животных. В этих 23 выборках их соотношение оказалось достаточно устойчивым с разницей всего лишь в пределах 5 %. Более того, оно было аналогичным соотношению, полученному по более значительным массивам костей из этого же памятника. Следует подчеркнуть, что с увеличением объема выборки до 500 костей полный видовой состав появлялся в наших исследованиях лишь среди 80 % всех таких проб. И только выборки объемом не менее 1000 определимых остатков всегда давали полный видовой набор сельскохозяйственных животных. Подобный анализ для менее многочисленных коллекций из других поселений разных исторических эпох подтвердил оптимальность использования выборки в 400 определимых костей как минимального количественного объема для получения достоверной информации, отражающей структуру кухонных остатков на поселении (табл. 1, пункт 5). Вместе с тем еще раз напомним, что репрезентативность (представительность) какой-либо археозоологической выборки не ограничивается только ее значительным количественным объемом. Эта характеристика остеологической коллекции является относительной и зависит от тех задач, которые ставит перед собой исследователь [Антипина 1997].
Решение вопроса о достаточном объеме выборки не снимает вопроса о применении тех или иных количественных оценок при изучении видового состава остеологических коллекций. Начиная с 50-х годов прошлого века для подсчета соотношения видов использовались два количественных показателя: 1) абсолютное число определимых до вида костей и 2) минимальное число особей[3] каждого вида животных. Тогда же было продемонстрировано, что оба этих показателя отражают количественное соотношение видов в материале лишь приблизительно [Громова 1948; Горюнова 1950; Паавер 1958; 1965; Цалкин 1956; Kuhn 1938; Boessneck 1956; Bôkônyi 1959; Mutter 1961; Grayson 1984; Hesse, Wapnish 1985; Davis 1987; Gautier 1984; и др.]. При этом подчеркивалось, что «число особей» является производной величиной от абсолютного числа определимых костей, и потому на него автоматически переносятся все недостатки исходного количественного параметра. Недостатки же эти обусловлены многими факторами, в том числе тафономическими и археологическими.
Наиболее существенным недостатком следует считать неполноту остеологических материалов. Так, исследователи всегда сталкиваются с тем, что кости разных видов, как и различные элементы их скелетов, сохраняются в слое не одинаково, ввиду тафономической специфики условий их залегания, а также — возрастных и даже индивидуальных особенностей потребляемых животных [Цеткин 1956]. Общим правилом, по-видимому, можно признать только несомненно более значимые потери костей от молодых особей, которые сохраняются хуже остатков взрослых, независимо от размеров животных. Однако совершенно ясно и то, что от скелетов взрослых особей могут сохраняться лишь единичные кости. Значительная часть костей от съеденных жителями животных вообще исчезает из «поля зрения» нашего исследования еще до попадания их в культурный слой. Это связано с растаскиванием и уничтожением пищевых отходов собаками, использованием костей в качестве сырья для изготовления орудий, ритуальной мотивацией и другими, иногда непредсказуемыми аспектами человеческой деятельности. Подсчитано, что такие потери могут составлять от 20 % до 80 % костей от съеденных на поселении животных [Савинецкий 1995]. Все это приводит к заключению о малой вероятности обнаружения нескольких костей от одной и той же особи в случайной пробе кухонных остатков [Gautier 1984; Савинецкий 1995].
«Число костей» — как количественная оценка вида в остеологической коллекции, таким образом, оказывается относительным параметром, свойства которого обусловлены особенностями конкретного памятника, начиная от его тафономии и заканчивая спецификой хозяйственной деятельности его обитателей. Однако исправить эти недостатки посредством введения «числа особей», напрямую зависимого от «числа костей», представляется не только некорректным, но и просто невозможным.
Методы определения минимального количества особей в остеологических материалах и степени достоверности их подсчета подробно разработаны в работах Ш. Бёкёни [Bôkônyi 1959; 1970]. Анализ этой методики, даже с учетом всех усовершенствований и поправок на возрастные и размерные особенности забитых на памятнике животных [Bôkônyi 1970], приводит к двум наиболее очевидным выводам:
во-первых, на материалах из жертвенных комплексов, когда остатки принадлежат нескольким целым или почти целым скелетам, можно получить не минимальное число особей, а точное или близкое к изначальному;
во-вторых, по кухонным остаткам может быть определено лишь очень условное минимальное число особей. Достоверность же всех поправок к этому условному значению зависит от опыта и квалификации специалиста, что вносит в подсчет особей еще одну очень субъективную помеху.
Более того, подсчет особей на основе кухонных остатков зачастую превращает почти половину выборок, представительных по числу костей (от 500 до 1000 определимых остатков), в разряд малых (от 10 до 50 особей), в которых даже минимальная ошибка на одну-две особи может изменить соотношение видов[4]. Тем самым в «остеологическую статистику» могут быть вновь привнесены результаты случайного фактора.
У показателя «число особей» имеются и другие «собственные» недостатки: так, в отличие от «числа костей», он жестко зависит от выбранной системы обработки коллекции. Подсчитывая и объединяя число костей в выборках из отдельных участков раскопа или по годам экспедиционных работ, мы получаем то же самое их количество, как если бы определение производилось сразу для совокупной коллекции памятника. А если попробовать суммировать «особей», подсчитанных в выборках по отдельным участкам раскопа или годам раскопок, то в результате всегда будет получено большее их количество, чем при выделении «числа особей» единовременно для всей тотальной коллекции [Паавер 1958, с. 38; 1965, с. 45; и др.]. Однако согласно методическим разработкам того же Бёкёни [1969] «минимальное число особей» принципиально нельзя суммировать, оно определяется только для совокупных материалов. Обработка же остеологических коллекций зачастую как раз и проводится по отдельным их частям, в соответствие с графиком раскопок.
В то же время выясняется, что в коллекциях, состоящих из десятков-сотен тысяч остатков, доля наиболее многочисленных видов, высчитанная по числу особей, оказывается достаточно близкой к их вкладу, полученному по костям этих животных. Предварительные подсчеты позволяют утверждать, что такой эффект, как правило, наблюдается только для видов, по костям которых было определено не менее 100 особей. В. И. Цалкин [1956, с. 121–124] в свое время попытался выяснить эти закономерности между количеством костей и минимальным числом особей и подсчитал среднее число фрагментов, приходящееся на одну особь для конкретных видов. Его выводы были более чем однозначны: число особей для многочисленных видов — занижено, а для малочисленных видов максимальная точность наблюдается при приближении к соотношению: одна кость — одна особь. Кроме того, оказалось, что это явление не связано с видовой принадлежностью костей. По мнению В. И. Цалкина, оно «.. обусловлено не какой-либо одной, а целым рядом причин, действующих в отдельных памятниках в разных сочетаниях и с различной интенсивностью» [1956, с. 122]. И далее, рассмотрев вероятные причины этого явления и возможные механизмы их действия, он обозначил тем самым принципиальную невозможность сравнивать между собой оценки по особям, полученные для разных видов животных, и соответственно — для одних и тех же видов, но из разных памятников. Однако при этом В. И. Цалкин не сделал этого очевидного вывода, и в конечном счете почти все особенности хозяйственной деятельности древнего населения он анализировал на основе подсчета минимального числа особей. Такое противоречие, видимо, можно объяснить тем, что в своих работах В. И. Цалкин затрагивал уже новые аспекты археозоологических исследований, в частности реконструкцию состава стада сельскохозяйственных животных, методические подходы к которым в то время еще не стали предметом детального анализа. Более того, количество забитых на поселении животных казалось тогда всем исследователям единственным параметром для подсчета объемов съеденного мяса и всего поголовья скота.
Впрочем и сегодня, когда эти методические вопросы интенсивно разрабатываются, приходится с огорчением констатировать, что во многих палеоэкономических публикациях, в особенности сделанных археологами, анализ остеологических материалов по-прежнему проводится по «числу особей». Такой подход все еще сохраняется в отечественной археологии, несомненно, вследствие огромной массы конкретных данных, опубликованных В. И. Цалкиным. До сих пор они являются зачастую единственным источником археозоологических сведений по отдельным регионам и культурным общностям и, естественно, привлекаются для изучения хозяйственной деятельности. Археологи же, не задаваясь методическими вопросами, слепо следуют схеме В. И. Цалкина. Хотя в своих работах он всегда публиковал исходные данные по количеству костных остатков каждого вида, которые как раз и должны использоваться.
И в заключении раздела еще раз подчеркнем, что исследователи, всерьез анализирующие методические проблемы «остеологической статистики», почти всегда приходят к выводу, который был сделан К. Л. Паавером еще в 1958 г. — выбор того или другого количественного показателя зависит от категории остеологического материала и задач его обработки. В этом контексте совершенно очевидно, что для изучения кухонных остатков наиболее адекватным является использование абсолютного числа костей конкретных видов, а для ритуальных или иных комплексов, включающих целые скелеты, их части или так называемые «связки» целых костей, несомненно более информативным оказывается число особей.
Состав стада, особенности скотоводства, его направления и формы эксплуатации домашних животных — эти аспекты хозяйственной деятельности древнего населения, как правило, в первую очередь обсуждаются археологами по результатам археозоологических исследований. Однако при этом зачастую забывается, что необходимо оценить однозначность интерпретации полученной биологической информации и, соответственно, достоверность палеоэкономических построений. Такая оценка важна уже хотя бы потому, что в настоящее время сама возможность реконструкции состава стада на основе кухонных остатков оказывается еще очень слабо обоснованной в методическом плане. В отечественной же археологической литературе сложилась давняя традиция напрямую экстраполировать соотношение остатков домашних видов из материалов поселений и даже могильников на состав стада сельскохозяйственных животных [Либеров 1960; Краснов 1971; Шилов 1975; Гаврилюк 1999;и др.]. Она базируется на теоретическом представлении о том, что все животные, разводимые на протяжении всего периода существования поселения, оказываются в конечном итоге забитыми и съеденными: соответственно именно их кости и составляют остеологические материалы памятника. Однако это допущение довольно условно, и его хоть как-то можно соотносить с реальностью только для небольших и совершенно автономных от внешнего мира поселений, жители которых вели исключительно натуральное хозяйство [Антипина 1997]. Более того, кухонные остатки не всегда отражают даже роль того или иного животного в хозяйственной жизни населения. Напомним в качестве примера о громадном значении лошадей в экономике Российского государства и многочисленности их поголовья, что зафиксировано в письменных источниках XVI–XVII вв.[5], но не нашло никакого отражения в кухонных отбросах как из городов, так и из сельских поселений того времени [Цалкин 1956; 1971]. Другим более экзотическим примером неоднозначности интерпретации видового спектра кухонных остатков может служить этнографическая информация о системе питания у специализированных скотоводов Африки — масаев и зулусов, для которых разведение крупного рогатого скота составляло основной смысл жизни [Krige 1957; Маке 1974]. В настоящее время питание масаев уже почти полностью базируется на потреблении зерна, получаемого от соседей-земледельцев в обмен на рабочих быков [Маке 1974]. В прошлом же их ежедневная пища включала прежде всего прижизненную продукцию от крупного рогатого скота — молоко и кровь, а также плоды, семена диких растений и мясо мелких животных — ящериц насекомых, т. е. все то, что добывалось простым собирательством. Очевидно, что археобиологические остатки, представленные на современных стоянках этого племени, будут указывать на странное сочетание земледельческих и присваивающих направлений хозяйственных занятий у скотоводов-масаев. Обыденную пищу зулусов также составляли молочные продукты и плоды собирательства. В то же время на некоторых уже заброшенных стоянках этого племени обнаруживаются кости, главным образом, диких животных, которые являются остатками грандиозных массовых загонных охот, устраиваемых воинами-зулусами несколько сотен лет назад [Krige 1957].
Таким образом, без сомнения можно утверждать, что кухонный набор костей животных любого памятника, в соответствии с названием самой категории материала, отражает структуру потребления мяса на поселении. Конечно же, специфика мясной диеты в той или иной мере зависит от традиционного типа хозяйства, а значит — и от степени развития скотоводческой и охотничьей деятельности. Однако эта сложная зависимость неоднозначна и определяется многими факторами: природными, экономическими, культурными, социальными и др. Естественно, что система питания и, соответственно, кухонные остатки должны заметно различаться, например, на сельских и городских, столичных и провинциальных памятниках и т. д.
Поэтому первым и наиболее очевидным шагом интерпретации информации, полученной по кухонным остаткам, следует считать выяснение особенностей питания древнего населения. Однако надо иметь ввиду, что соотношение костей конкретных видов (или видовой спектр) не является прямым указанием на объемы потребляемого мяса этих животных вследствие естественных различий по весу между видами. Вес коровы или лошади всегда в несколько раз больше, чем вес домашней козы, овцы или свиньи. Для археозоологического материала эти различия могут быть выражены в так называемом весовом коэффициенте. Для того, чтобы перевести соотношение костей конкретных видов в пропорцию объемов полученного от них мяса, необходимо или увеличить (умножив) долю остатков крупных копытных или соответственно уменьшить (разделив) долю костей средних копытных животных на весовой коэффициент. Эту арифметическую операцию можно производить или с числом костей, или уже с соответствующей их долей (%) — получаемый результат будет практически один и тот же. При этом особо подчеркну, что получаемые доли не могут считаться реальными килограммами или иными единицами весового исчисления, они дают лишь пропорцию условных объемов потребления мяса конкретных видов, которую лучше всего перевести в процентное соотношение. Весовой же коэффициент не является некой абстракцией, взятой из сельскохозяйственной литературы или этнографических источников, он должен быть высчитан на основе реальных размеров и возрастной структуры съеденных на поселении домашних животных (табл. 1, пункты 3,7).
Полученная таким образом структура потребления мяса домашних видов может стать отправной точкой для оценки уровня развития мясного направления в скотоводстве. Это уже следующий шаг археозоологического исследования — реконструкция форм и особенностей скотоводства, как производящей отрасли хозяйства. Однако он требует четкого разграничения и последовательного анализа как минимум трех вопросов.
Во-первых, вопрос о существовании на поселении других, кроме мясного, направлений скотоводства, связанных с прижизненной эксплуатацией каждого в отдельности сельскохозяйственного вида. Он проясняется при изучении половозрастной структуры съеденных животных, особенностей их размеров, зафиксированных патологий и (или) следов интенсивной физической нагрузки на костях. Последние могут быть интерпретированы достаточно однозначно — как отражение использования в хозяйстве мышечной силы скота, хопгя определение рода работ, в которых были задействованы животные, уже не будет столь очевидным. Наиболее сложной является интерпретация данных по возрастной структуре домашних копытных. Теоретически преобладание в кухонных остатках костей молодых животных считается свидетельством превалирования мясного направления в скотоводстве, а увеличение доли костей взрослых и старых особей обычно связывается уже с усиленной молочной эксплуатацией вида (для коров, кобыл и коз) или широким использованием тягловых животных (крупного рогатого скота и лошадей). В археозоологических работах обычно можно увидеть, что возрастная структура забитых сельскохозяйственных животных включает всего лишь три или четыре возрастные группы — молочные, молодые, взрослые и старые. Взрослые и старые животные чаще объединяются в одну когорту — особи старше 28–34 месяцев (или 2,5–3 лет). При такой форме публикации возрастного состава получается, что в эту последнюю когорту попадают как минимум три разные категории животных: 1) двух-трехлетнее поголовье, которое несомненно отражает мясную эксплуатацию вида, 2) все более старые животные трех-шести лет, обычно составляющие маточное и (или) рабочее, в том числе и молочное, стадо, 3) и особи старше шести-восьми лет, которые выбракованы уже после интенсивной прижизненной эксплуатации. В результате становится невозможным корректно разделить доли забитых мясных, молочных или тягловых животных. Естественно, что в таком случае возникает противоречие между утверждением автора о значительном развитии, например, молочного направления скотоводства и существенной долей забитых животных старше 28 месяцев, которые как раз и должны являться наиболее продуктивной частью молочного поголовья [Тимченко 1970, с. 171; Краснов 1971, с. 106; Петренко 1984, с. 45–48; Косинцев 2000, с. 30; Косинцев, Варов 2001, с. 142; Косинцгв, Рослякова 2002, с. 150; и др.].
Выход из этой ситуации видится в очень подробной фиксации возраста животных и подсчете соотношения различных возрастных групп в последовательном ряду по методикам, уже давно применяющимся в зарубежных археозоологических исследованиях [Higham 1967; Silver 1969; Payne 1973; 1984; Deniz & Payne 1982; Grant 1982; Halstead 1985; Horard-Herbin 2000]. Более того, целесообразно отмечать возраст забитых животным не только по состоянию зубной системы, но и по другим регистрирующим его структурам, например, по срокам прирастания эпифизов на трубчатых костях. Иногда такая оценка может дать дополнительную и весьма важную информацию: так, серия из примерно 4000 фаланг крупного рогатого скота, собранная при раскопках поселения Горный, показала практически полное отсутствие на памятнике остатков животных в возрасте от 6 до 10–12 месяцев, которые могли быть забиты только в зимний период [Антипина 2003, в печати]. Тем самым подтвердилось, что сезон забоя животных на этом поселении был ограничен только теплым периодом года. Однако подобные данные о возрастном составе можно получить только на значительных по объему остеологических коллекциях, что вновь напоминает о проблеме представительности лишь многочисленных выборок.
Во-вторых, вопрос о наличии информации, позволяющей реконструировать условия содержания домашних животных и обеспеченность их кормами. Такие сведения могут появится при изучении характера стертости зубов, патологий на зубах и костях, а также особенностей размеров самих животных. Например, резкая неравномерность стирания коренных зубов, наблюдаемая у крупного рогатого скота и свиней из дьяковских и средневековых поселений лесной зоны, может указывать на кормление животных в зимний период такими грубыми кормами, как ветки и кора деревьев. Нами, в частности, было обнаружено и явление гипоплазии — нарушения естественного процесса развития эмали на коренных зубах свиней из слоев дьяковской культуры на поселении Настасьино (Московская область). Массовость этой патологии — примерно на 30 % зубов, резкая неравномерность их стирания, наличие следов воспаления надкостницы на нижних челюстях, а также малые размеры самих животных позволили реконструировать крайне неблагоприятные условия кормления, содержания и разведения свиней в то время [Антипина, Алексеева 2003, в печати]. Подчеркну, что размеры домашних животных из древних поселений обусловлены в первую очередь экологическими условиями их содержания — обеспеченностью кормами в конкретных природных ландшафтах и формой скотоводства (стойловое или придомное содержание, отгонный или вольный выпас[6]), и лишь в этом плане они могут быть показателями породности скота [Браунер 1928; Цалкин 1960-6, Антипина, Маслов 1998]. Различия в условиях содержания являются главным фактором поддержания значительной изменчивости размеров особей в древних популяциях домашних животных вплоть до позднего средневековья. Игнорирование этого явления приводит к курьезным утверждениям о родственных связях крупного рогатого скота (или о разведении одной его породы) на ряде значительно удаленных друг от друга памятников Украины и Южного Урала в позднебронзовом веке [Журавлев 2001, с. 13]. Причем основанием к подобным утверждениям становятся лишь обнаруженные малые различия между размерами животных.
Сведения о естественных ресурсах для скотоводческой деятельности, т. е. о природных условиях окрестностей поселения должны базироваться, прежде всего, на общих представлениях об эволюции растительности в голоцене и на конкретной палеоботанической информации по памятнику. Однако такая информация требует, в свою очередь, внимательного подхода к ее дешифровке. Попытки же прямо реконструировать природные условия или характер растительности вокруг древних селищ на основе экологических характеристик самих видов домашних животных, обнаруженных на поселении, могут привести к ошибочным результатам. Такие ошибки возникают вследствие формального использования общепринятого представления об обусловленности видового состава стада природными факторами, хотя оно является важным постулатом для археозоологических построений[7]. Одним из наиболее ярких примеров такого формального подхода служит довольно распространенное мнение о жесткой связи между разведением свиньи и произрастанием вокруг поселений широколиственных лесов, что и становится предметом обсуждения при обнаружении заметного количества костей этого вида [Журавлев 2001, с. 59–62; Косинцев 2003, с. 174]. Однако исторические реалии показывают иногда совершенно «невозможные» с этой точки зрения ситуации. В частности, около 34 % от обнаруженных костей домашних видов на памятнике Телль Хазна I (IV–III тыс. до н. э., северо-восточная Сирия) принадлежали домашней свинье [Мунчаев и др. 2002], тогда как сам памятник располагается в зоне современных сухих степей и «рискованного» земледелия. Письменные источники и палинологические данные подтверждают сходство между природной обстановкой в период функционирования памятника и современными климатическими условиями. Реконструкция произрастания широколиственных лесов вокруг памятника в древности на основании лишь обнаружения значительного числа костей домашней свиньи была бы просто недоразумением.
И в третьих — рассмотрение уровня развития всех других хозяйственных отраслей на памятнике, исключая скотоводство. В этом плане палеоэтноботанические данные позволяют оценить земледельческий сектор в хозяйстве, а археологическая информация (планиграфия, архитектура поселения, характер орудий труда и других технических средств) может указать еще и на иные хозяйственные занятия населения. Вне такого контекста обычная интерпретации остеологических материалов как отражение скотоводческой или охотничьей деятельности может также привести к существенным промахам. С подобной ситуацией мы столкнулись при изучении около 2 млн. фрагментов костей домашних животных — самых массовых археологических остатков в культурных напластованиях позднебронзового поселения Горный на территории древних Каргалинских рудников. Вопреки традиционно возникающему выводу о существовании развитого скотоводства при изучении столь огромных остеологических коллекций из древних поселений, подробное исследование этих материалов привело к странному, на первый взгляд, утверждению о его отсутствии [Антипина 1999]. Этот результат перестал быть парадоксальным, когда при интерпретации биологических данных была задействована информация о том, что жители поселения были горняками и металлургами. Они просто не могли одновременно сочетать интенсивное скотоводство мясного направления и горно-металлургические работы в тех масштабах, которые реконструированы не только для изученного сеяшца, но и всего гигантского Каргалинского комплекса [Черных 2000]. Этот археологический контекст и стал ключом к объяснению всех — и не только биологических — необычных характеристик остеологических материалов Горного [Антипина 2003, в печати]. Исторические и археологические источники по железному веку также с очевидностью указывают на широкое распространение товарно-обменных отношений в то время. Например, существование множества городов, торговых факторий, ремесленных центров и других не сельскохозяйственных поселений в Северном Причерноморье свидетельствует о том, что обеспечение мясными продуктами их жителей должно было происходить за счет скота, разводимого другой частью населения региона [Античные государства Северного Причерноморья 1984].
Таким образом реконструкция особенностей скотоводческой деятельности жителей того или иного памятника правомерна только в случае уверенности, что именно они разводили и содержали домашних животных. Такая зависимость выявляет еще один методический вопрос о правомерности реконструкции характера, направлений и форм скотоводства для обитателей только одного поселения. По-видимому, наиболее оптимальным следует считать изучение специфики животноводческой деятельности у населения региона по остеологическим материалам нескольких памятников одной культурной принадлежности. Однако при сопоставлении видовых спектров разных памятников и оценки достоверности полученных различий необходимо учитывать и ошибку археозоологического метода (определение таксономической принадлежности разными специалистами), которая для каждого вида лежит в пределах 5-10 % [Антипина 2000].
Только после анализа информации по всем трем указанным выше вопросам становится возможной приблизительная оценка (аппроксимация) численности каждого вида среди разводимых животных и экстраполяция полученных данных на особенности состава стада. При этом, конечно же, необходимо учитывать специфику циклов воспроизводства и различную плодовитость у крупных и средних по размерам сельскохозяйственных копытных. Особое значение имеют возрастные данные, показывающие степень соответствия установленной доли потребляемого на мясо поголовья законам устойчивого воспроизводства вида. В настоящее время только для крупных домашних копытных — крупного рогатого скота и лошади — показана правомерность экстраполяции преобладания их костей в выборке (более 50 % по каждому виду) на численное доминирование в стаде [Антипина 1997]. Высокая доля остатков мелкого рогатого скота, вплоть до резкого их преобладания в материале, прямо указывает лишь на значительный объем потребления мяса этих животных, что чаще всего наблюдается при устойчивой и вполне заметной их численности. Однако такая численность не всегда означает доминирование этого вида в стаде, особенно когда население широко использует тягловых и транспортных животных, например, лошадь, поголовье которых как раз и должно быть максимальным. При низком уровне потребления мяса мелкого рогатого скота также не корректно прямо переносить остеологические данные на малую его численность среди разводимых животных. Поголовья овец и коз в данном случае может оказаться и значительным, если производилась интенсивная эксплуатация их прижизненной продукции — шерсти, пуха и молока. Только остатки свиньи, как исключительно мясного с точки зрения человека животного, по-видимому, непосредственно отражают масштабы ее разведения и относительную численность.
И еще об одном весьма дискуссионном и наиболее сложном в методическом плане аспекте археозоологических исследований хотелось бы упомянуть. Речь идет о реконструкции типов скотоводства, определяемых формой содержания животных. Хорошо известно, что форма содержания домашних копытных обусловлена возможностями обеспечения их полноценными кормами и выражается в той или иной степени подвижности стад. Биологическая сторона этого явления достаточно ясна, а именно — копытные животные, съедая растительность вокруг себя, всегда и везде вынуждены перемещаться по некой территории, площадь которой зависит от численности самих животных и сезонности произрастания зеленой биомассы (трав и/или деревьев и кустарников). Человек может пасти домашних копытных на огромном пространстве, передвигаясь вместе с ними. Он может удерживать их на ограниченной территории (минимально — на территории одного двора или даже в стойле), обеспечивая при этом основными или дополнительными кормами, особенно, в зимний или засушливый периоды. Первая форма (или тип) скотоводства обычно обозначается, как подвижная, а вторая — как придомиая (оседлая). Для всех видов домашних копытных теоретически возможны обе формы их содержания. Однако в конкретных природных условиях определяющим фактором преобладания того или иного типа скотоводства становится его рентабельность при разведении конкретного вида животных. Например, трудно предполагать передвижение огромных стад овец или верблюдов по лесам Восточной Европы, тогда как в теплом поясе равнинных и горных степей и полупустынь исторически подтверждена эффективность масштабного подвижного овцеводства и верблюдоводства, которые сохраняются почти в первоначальном виде и у современных кочевых племен [Barfield 1993, р. 57–130]. Вместе с тем еще в недавнем прошлом у заведомо оседлого населения Северной Евразии наблюдалось значительное смешение типов скотоводства. Так, в этнографических источниках упоминаются стойловая, придомная, выгонно-стойловая, хуторская, придомно-отгонная, полуотгонная, яйлажная и другие формы содержания разных видов домашних животных и даже трансюманс [Зыков 1989, с. 8–39; Османов 1990; Зеленин 1991, с. 86–100; Pastor, Portela (ed.) 2003]. Иными словами речь идет об очень разных временных периодах содержания стад на подножном корму, т. е. в подвижном состоянии, масштабы которого могут приближаться к максимально возможным у кочевников. Поэтому вопрос о том, каким образом разные типы скотоводства были связаны с подвижностью или оседлостью древнего населения, остается пока открытым. Несомненно одно: степень подвижности форм скотоводства и подвижный или оседлый образ жизни населения — это различные явления. Вместе с тем при обсуждении особенностей древнего скотоводства в литературе нередко используется само соотношение остатков свиньи и мелкого рогатого скота, как индикатор оседлого или подвижного образа жизни обитателей того или иного поселка. Преобладание в этой паре видов свиньи экстраполируется на оседлый образ жизни населения, а мелкого рогатого скота, напротив, — на подвижный [Пряхин 1976, с. 119; Шилов 1975; Косищев, Варов 2001; Косищев, Рослякова 2002; и др.]. Отсутствие свиньи в хозяйстве кочевников является реальным фактом, который позволяет отчасти считать этот вид индикатором придомного содержания. В то же время поголовье мелкого рогатого скота может быть вполне заметным в хозяйстве и кочевого, и оседлого населения. Поэтому напрямую связывать повышенную долю костей коз и овец в кухонных остатках с кочевой жизнью населения было бы некорректным. Даже обитатели одного поселка могут сочетать придомное содержании свиней и коз с выгонным выпасом некоторого количества овец Подобная ситуация в настоящее время достаточно типична для частного сельскохозяйственного сектора в степных и лесостепных регионах Украины и России. Сколько костей и от каких видов будет в этом случае в кухонных остатков зависит от намерений самих хозяев, т. е. от того, с какими экономическими целями они разводят этих животных.
И в заключение, замечу, что продемонстрированная выше методическая сложность и неоднозначность археозоологического исследования выглядит, конечно же, непривычно, по сравнению с теми краткими и простыми результатами определения остеологических коллекций, которые обычно приводятся в виде приложений в археологических работах. Однако за этой сложностью стоит совершенно новый уровень достоверности получаемых остеологических данных и их обобщения. Археозоологическое исследование уже не ограничивается только рамками преподнесения биологических данных, но включает и археологическую информацию, и результаты всех других методов изучения памятников. Пока на этом пути мы сталкиваемся больше с дискуссионными вопросами и неясностями, чем с понятыми фактами и явлениями. Поэтому я считаю крайне важным сформулировать нерешенные проблемы и обсудить их. И если мне удалось внести нечто новое в обсуждение, то это стало возможным только благодаря моим коллегам — сотрудникам лаборатории естественно-научных методов ИА РАН.
Антипина Е. Е. Облик и история фауны наземных млекопитающих и птиц равнинного Крыма в позднем голоцене. Диссертации на соискание ученой степени канд. биол. наук (на правах рукописи). МГУ. М., 1993.
Антипина Е. Е. Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. № 3.1997. С. 20–32.
Антипина Е. Е. Костные остатки животных из поселения Горный (биологические и археологические аспекты исследования) // РА. № 1.1999. С. 103–116.
Антипина Е. Е. Проблемы обработки и интерпретации археозоологических материалов из памятников скифского времени на территории Северного Причерноморья // Скифы и сарматы в VII–III вв. до н. э. Палеоэкология, антропология и археология. М.: ИА РАН, 2000. С. 80–86.
Антипина Ек. Е., Маслов С. П. К вопросу о хозяйственном использовании моллюсков и крабов населением хоры Херсонеса /У Памятники железного века в окрестностях Евпатории. М.: изд. МГУ, 1991. С. 162–169.
Антипина Е. Е., Маслов С. П. Системы земледелия и размер домашних животных Древней Руси // Общество, экономика, культура и искусство славян. Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. ИА РАН. Т. 4. М.: «Эдиториал УРСС», 1998. С. 52–60.
Антипина Ек. Е., Назаров В. И., Маслов С. П. Насекомые из колодца на винодельне поселения «Чайка» // Памятники железного века в окрестностях Евпатории. М.: изд. МГУ, 1991. С. 155–161.
Антипина Е. Е., Ольховский B. C. Археозоологические материалы из главной культовой конструкции святилища Байте III // Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии: сборник статей. М.: ГЕОС, 2000. С. 79–88.
Антипина Е. Е. Каргалы. Т. III. Глава 7. Остеологические материалы Горного. М., 2003 (в печати).
Антипина Е. Е., Алексеева Л. И. Глава. Модель скотоводческой деятельности и особенности использования животных на поселении Настасьино в дьяковское время. М., 2003 (в печати).
Античные государства Северного Причерноморья, 1984. Археология СССР. Ред. Кошеленко Г. А., Кругликова И. Т., col1_0: Наука.
Асылгараева Г. Ш. Морфологические особенности костей скелета домашних сельскохозяйственных животных (по материалам археологических раскопок Казанского кремля). Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени канд. биол. наук (на правах рукописи). Казань, 2002.
Бабыкин М. М. Изучение изменчивости палеопопуляций виноградной улитки (Helix vulgaris Rossm.) в Крыму. Курсовая исследовательская работа. Кафедра генетики и селекции биологического факультета МГУ. М., 1977.
Бекени Ш. Новый метод вычисления количества особей животных в остеологическом материале из археологических местонахождений. Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 74. Вып. 6.1969.
Верх В. Царствование царя Федора Алексеевича. СПб., 1834.
Браунер А. А. К вопросу о географической изменчивости у домашних животных // Вестник животноводства. № 12.1928.
Гаврилюк Н. А. История экономики Степной Скифии в VI—111 вв. до н. э. Киев, 1999.
Горюнова Е. И. К вопросу об «остеологической статистике» // КСИА. Вып. 35. 1950. С. 60–65.
Громова В. И Остатки млекопитающих из раннеславянских городищ вблизи г. Воронежа // МИА. № 8. М., 1948. С. 8–16.
Дементьев Г. П. Птицы Советского Союза. Т. 2. М.: «Советская наука», 1952.
Журавлев О. П. Фауна поселения Черноморка-И (на материалах костных остатков) // Использование методов естественных наук в археологии. Киев: «Наукова Думка», 1981. С. 130–159.
Журавлев О. П. Остеологические материалы из памятников эпохи бронзы лесостепной зоны Днепро-Донского междуречья. Киев. Институт археологии Национальной Академии наук Украины. 2001.
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991.
Зыков Ф. М. Традиционные орудия труда якутов (XIX — начало XX века). Новосибирск: Наука, 1989.
Косищев П. А. Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // Археологический источник и моделирование древних технологий. Сборник научных статей. Труды музея-заповедника Аркаим. Институт истории и археологии Уральского отделения РАН. Челябинск, 2000. С. 17–44.
Косинцев П. А. Животноводство у абашевского населения Восточной Европы. // Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие. Материалы международной научной конференции. Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Институт археологии РАН, 2003. С. 173–175.
Косинцев П. А., Стефанов В. И., Труфанов А. Я. Репрезентативный объем остеологической выборки и устойчивость характеристик типа хозяйства и состава стада // Актуальные проблемы методики Западносибирской археологии. Новосибирск, 1989. С. 138–141.
Косинцев П. А., Варов А. И. Костные остатки из поселения Тюбяк. Приложение 1 // Тюбяк: поселение бронзового века на Южном Урале. Уфа: изд. Башгоспедуни-верситета, 2001. С. 136–152.
Косинцев П. А., Рослякова Н. В. Материалы по истории животноводства у населения Самарского Поволжья в бронзовом веке И Вопросы археологии Поволжья. Сборник статей. Вып. 2. Самара: изд. СамГПУ, 2002. С. 145–150.
Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы. М.: Наука, 1971.
Кругликова ИТ. Сельское хозяйство Боспора. М.: Наука, 1975.
Кукольник Н. Старина. Конюшенное дело. Журн. «Коннозаводства и охоты». Т. I. М, 1842.
Либеров П. Д. К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья // МИА. № 53. 1960. С. 110–164.
Маке Ж. Цивилизации Африки южнее Сахары. М., 1974.
Маслов С. П., Антипина Ек. Е. К вопросу о месте охоты в хозяйственном укладе населения Древней Руси // Экологические аспекты палеоантропологических и археологических реконструкций. М.: ИА РАН, 1992. С. 179–190.
Мунчаев P. M., Мерперт Н. Я., Молодин В. И., Антипина Е. Е., Лебедева Е. Ю., Элиас С. Новые открытия на ТелльХазне 1 (Сирия) // AD-2001 года. М.: Наука, 2002. С. 518–522.
Османов М.-3.0. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX — начале XX в. М.: Наука, 1990.
Паавер К. Л. К методике определения относительного значения видов и групп млекопитающих в остеологическом материале из раскопок археологических памятников // Известия АН СССР. Т. 7. № 4. М., 1958. С. 32–46.
Паавер К. Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих в голоцене. Тарту, 1965.
Петренко А. Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. АН СССР. М.: Наука, 1984.
Пряхин А.Д.. Поселения абашевской общности. Воронеж, 1976.
Савинецкий А. Б. Кости птиц из древнего эскимосского поселения Дежневе (Чукотка) // Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 100. Вып. 2. М., 1995. С. 33–39.
Тимченко Н. Г. О фауне Диких и домашних животных средневековых памятников Среднего Поднепровья // Природная обстановка и фауны прошлого. Вып. № 5. Киев: «Наукова Думка», 1970. С. 166–174.
Цалкин В. И. Основные задачи изучения костей животных из раскопок памятников материальной культуры // КСИА. Вып. 58. М., 1955. С. 3–13.
Цалкин В. И. Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси // МИА.№ 51. М., 1956. С. 7–185.
Цалкин В. И. Фауна из раскопок археологических памятников Среднего Поволжья//МИА. № 61. М., 1958. С. 221–281.
Цалкин В. И. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху раннего железа// МИА. № 53. М., 1960-а, С. 7–109.
Цалкин В. И. Изменчивость метаподий и ее значение для изучения крупного рогатого скота древности // Бюлл. МОИП. Отдел биол. Т. LXV. Вып. 1. 1960-6.
Цалкин В. И. Животноводство и охота в лесной полосе Восточной Европы в раннем железном веке // К истории животноводства и охоты в Восточной Европе. МИА. № 107. М., 1962. С. 5–96.
Цалкин В. И. Животноводство и охота племен восточноевропейской лесостепи в раннем железном веке // Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии. МИА. № 135. М., 1966. С. 3–107.
Черных Е. Н. Феномен и парадоксы Каргалинского комплекса // Срубная культурно-историческая общность в системе древностей эпохи бронзы Евразийской степи и лесостепи. Материалы международной научной конференции. Воронеж, 2000. С. 15–24.
Шилов В. П. Модели скотоводческих хозяйственных областей Евразии в эпоху энеолита и раннего бронзового века // СА. № 1. 1975. С. 5–16.
Штилина Н. И. Катакомбные погребения Прикаспийских степей со змеями // Историко-археологический альманах. Вып. 2. Москва-Армавир, 1996. С. 18–23.
Щеглов А. Н. Северо-западный Крым в античную эпоху. JI.: Наука, 1978.
Amorosi Т., Woollett J., Perdikaris S., McGovern T. Regional zooarchaeology and global change: problems an potentials // World Archaeology. Vol. 28. Zooarchaeology. London, 1996. P. 126–157.
Barfield N. J. The nomadic alternative. New Jersey, 1993.
Boessneck J. Tierknochen aus spatneolitischen Siedlungen Bayems. Studien an von- und fruhgeschichtlichen Tierresten Bayems. I. München, 1956.
Bokonyi S. Die fruhalluviale Wirbeltierfauna Ungams (vom Neolithikum bis zur la Tene-Zeit) // Acta Arch. Acad. Science Hung. N 11.1959.
Bokonyi S. A New Method for Determination of Number of Individuals in Animal Bone Material // American Journal of Archaeology. Vol. 74. N-3. Princeton/New Jersey, 1970. P. 291, 292.
Cemych E. N., Antipina E. E., Lebedeva E. Ju. Produktionsformen der Urgesellschaft in den Steppen Osteuropas (Ackerbau, Viehzucht, Erzgewinnung und Verhuttung) // Das Karpatenbecken und die Osteuropaische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlischen Metallzeiten (4000-500 v.Chr.). Hersgegeben von Berhard Hansel und Jan Machnik. Munchen-Rahden/Westf., 1998. S. 233–252.
col1_0 The Archaeology of Animals. London: Batsford, 1987.
Deniz E. & S. Payne. Eruption and Wear in the Mandibular Dentition as a Guide to Ageing Turkish Angora Goats // Wilson B., Grigson C. & S. Payne (eds.) Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. BAR (British Series) 109. Oxford, 1982. P. 155–206.
Elias S. A. Quaternary Insects and their Environment. Washington D. C.: Smithsonian Institution Press, 1994.
Fisher J. W. Bone surface modifications in zooarchaeology // Journal of Archaeological method and Theory. N-2.1995. P. 7–68.
Grant A. The use of Tooth Wear as a Guide to the Age of Domestic Ungulates // Wilson B., Grigson C. & S. Payne (eds.) Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. BAR (British Series) 109. Oxford, 1982. P. 91–108.
Gautier A. How do I count you? Let me count the ways. Problems in Archaeo-zoological quantification // Grigson C. & J. Clutton-Brock (eds.). Animals and Archaeology. Volume 4. Husbandry in Europe. BAR (International Series) 227. Oxford, 1984. P. 237–251.
Gautier A. Taphonomic groups: How and Why? // Archaeozoologia I (2). Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago: University of Chicago Press, 1987. P. 47–51.
Grayson D.K Quantitative Zooarchaeology. New York: Academic Press, 1984.
Halstead P. A Study of Mandibular Teeth from Romano-British contexts at Maxey // Piyor F. & C. French (eds.). Archaeology and Environment in the Lower Welland Valley. Vol. 1. East Anglian Archaeology Report, 27.1985. P. 219–224.
Hesse B. & Wapnish. P. Animal Bone Archaeology. Washington D. C.: Taraxacum, 1985.
col1_0 Stock Rearing as a Cultural Factor in Prehistoric Europe // Proceedings of the Prehistoric Society. N 33.1967. P. 84–106.
Horard-Herbin M-P. Dog Management and Use in the Late Iron Age: The Evidence from the Gallic Site of Levroux, France // Crockford S. (Ed.). Dogs Through Time: An Archaeological Perspective. BAR (International Series) 889. Oxford, 2000. P. 115–121.
Klein KG. & K. Cruz-Uribe. The Analysis of Animal Bones from Archaeological Sites // Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Krige E. J. The Social System of the Zulus. Longmans Green-Shuter a. Shooter. Pietermaritzburg, 1957.
Kuhn E. Zur quantitativen Analyse der Haustierwelt der Pfahlbauten in der Schweiz // Viertelj. D. Naturf. Ges., 83. Zurich, 1938.
Morales A. Problemas de interpretacion de los datos faunisticos procedentes de los yacimientos // II Congreso Arqueologia Medieval Espanola. Madrid, 1987. P. 34–45.
Morales A. On the Use of Butchering as a Paleocultural Index: Proposal of a New Methodology for Study of Bone Fracture from Archaeological Sites // Archaeozoologia. Vol. 11/1,2.1988. P. 111–150.
Morales A., Cereijo M. A., Brannistom P., Liesau C. The Mammals // Castillo de Dona Blanca. Archaeo-environmental investigation in the Bay of Cadiz, Spain (750–500 B.C.). BAR International Series 593. Oxford, 1994. P. 37–69.
Morales A., Antipina E. E. Velikent fauna. BAR International Series. Oxford, 2003 (in press).
Moreno N. R. La explotacion de moluscos en la transicion Neolitico-Calcolitico del yacimiento de Papa Uvas (Aljaraque,Huelva) // Archaeofauna. V. 1. 1992. P. 33–44.
Muller H.-H. Moglichkeiten einer kulturgeschichtlichen Auswertung von ur- und fruhgeschichtlichen Tierknochen // Jahresschr. f. mitteldeutsche Vorgesch. Bd. 45. 1961.
Pastor, Portela (ed.). Un Camino de Ida y Vuelta, la transhumanciaen Espana. Madrid, 2003.
Paulitschke P. Ethnographic Nord-Ost-Afrikas. T. 1. Berlin-Leipzig, 1902.
Payne S. Partial recovery and sample bias. The results of some sieving experiments // Higgs E. (ed.). Paper in economic prehistory. Univ. Press, Cambridge, 1972. P. 65–81.
Payne S. Kill-off Patterns in Sheep and Goats: The Mandibles from Asvan Kale // Anatolian Studies, 23.1973. P. 281–305.
Payne S. The Use of Early 19th Century Data in Ageing Cattle Mandibles from Archaeological Sites and the Relationship between the Eruption of M3 and P4 // Circaea 2. 1984. P. 77–82.
Schelvis J. Mites and Archaeology. General Methods: Application to Dutch Sites. Ph. D. Thesis. University of Groningen, 1992.
Silver I. The Ageing of Domestic Animals // Brothwell D. & E. Higgs (Eds.) Science in Archaeology. London, Thames & Hudson. 1969. P. 283–302.
Potential informative possibilities of archaeozoological material — from global reconstructions of anthropogenic alterations of natural communities up to elucidation of specific details of economy and manners of ancient population are considering in the article. It is showed that publishing at modem time results of archaeozoological investigations are yet distant from potential possibilities. Most common structure of archaeozoological material; methods of their collection and working are analyzed. The problems of interpretation of receiving archaeozoological information and their interconnection with archaeological context are discussing exclusively. Essential data bank for getting of authenticable information for reconstruction of ancient people animal-breeding peculiarities is offering on the base of explored by author osteological assemblages from Bronze and Iron sites.
Л. Г. Динесман, А. Б. Савинецкий
Количественный учет костей в культурных слоях древних поселений людей
Количественный учет костей животных, захороненных в культурных слоях и горизонтах древних поселений людей, уже давно вошел в практику археозоологических исследований. К сожалению, в отличие от методов количественного учета численности рецентных популяций животных, оценить степень репрезентативности остеологического материала и его соответствия исходному составу потребляемых животных довольно сложно. Все это приводит к тому, что вместо общего количества остатков, единственного показателя, который в результате определения костей имеет археозоолог, в оборот вводится большое количество различных показателей и индексов мало сравнимых друг с другом [Бекени 1969; Цалкин 1970 и другие; Паавер 1979; Klein, Cruz-Uribe 1984]. В настоящей работе мы попытаемся оценить величину потерь костей при формировании культурного слоя и возможность применения различных оценок остеологических выборок. Другой вопрос, которого мы коснемся в работе — оценка динамики относительной численности зверей и птиц, остатки которых были обнаружены в культурном слое. Ведь остатки животных из археологических памятников служат лишь свидетельством того, что древние обитатели тем или иным образом использовали эти виды животных. Только зная изменение численности природных популяций животных во времени, можно попытаться определить степень влияния древнего населения на животных и, с другой стороны, насколько изменение численности промысловых животных по тем или иным причинам могло влиять на условия обитания древних жителей. Отдельные попытки оценить численность популяций промышляемых животных по костным остаткам уже делались. Так, Н. К. Верещагин [Верещагин, Русаков 1979] оценивал изменение численности копытных животных в голоцене по среднему количеству остатков на одно древнее поселение, используя для этого обширные данные К. Л. Паавера [1965] по Восточной Прибалтике. Из замечаний к данному способу оценки численности зверей можно отметить, что характер и структура самих поселений, численность населявших их людей, способы охоты и системы хозяйствования так сильно менялись за рассматриваемые девять тысяч лет, что применимость данного показателя вряд ли правомочна.
Объектом нашего изучения были кости из культурных слоев поселений древних эскимосов и алеутов, расположенных на побережье и о-вах Берингова моря, а также культурного слоя из Мининского археологического комплекса (Вологодская обл.), формировавшегося с мезолита до средневековья [Макаров 2001].
1. Древние поселения на побережье и островах Берингова моря
Азиатские эскимосы занимают узкую полосу приморских тундр, сформировавшихся под влиянием местной циркуляции морского воздуха. Алеуты живут на о-вах Алеутской гряды. И древние эскимосы, и древние алеугы жили в долговременных полуземлянках, по руинам которых сейчас легко обнаружить места былых поселений этих народов.
Каждое из древних поселений эскимосов и алеутов имело свой охотничий участок и представляло собой относительно автономную хозяйственную, социальную и репродуктивную ячейку [Ляпунова 1988; Крупник 1989].
Следует подчеркнуть, что эскимосы и алеуты были охотниками-собира-телями, никогда не занимавшимися скотоводством и земледелием. Здесь изучение влияния охотничьего хозяйства на природные экосистемы представляет особый интерес. В других районах России его следы стерты позднее возникшими формами использования природных ресурсов — скотоводством, земледелием и другими видами хозяйственной деятельности.
Как показали серийные радиоуглеродные датировки [Динесман и др. 1996; Dinesman et al. 1999; Савинецкий 2000] поселения алеутов и азиатских эскимосов существовали в течение 2–3 тысяч лет.
На участке, занятом поселением, люди быстро вытаптывали естественный травяной и моховой покров, разрушали структуру верхнего горизонта почвы и постоянно замусоривали его бытовыми отходами. Кучи их возникали у входов каждой полуземлянки, откуда постепенно растаскивались по всему участку. Сам участок периодически заносился супесями, песком или суглинками и промачивался атмосферными осадками. Это приводило к развитию локального почвообразовательного процесса. Обычно культурные слои богаты фосфором и имеют темную окраску. Это связано не только с высоким содержанием гумуса, но и с наличием мельчайших частиц угля, вымытых из кухонных отбросов.
Мощность культурного слоя определяется по глубине захоронения в нем костей животных и артефактов. В древних поселениях эскимосов и алеутов она нередко достигает 1–1,5 м.
Если поселение покидается людьми, культурный слой снова зарастает растительным покровом, в котором значительную роль играют полынь и сорные виды, устойчивые к вытаптыванию и особенностям химического состава культурного слоя. За их счет даже поселения, покинутые людьми 200–600 лет назад, теперь еще выделяются на окружающем фоне ярко зелеными цветом.
Если покинутые поселения вновь заселяются людьми, то их жизнедеятельность приводит к возникновению нового культурного слоя. От первого погребенного культурного слоя он отделяется горизонтом суглинка, супеси или песка, накопившихся во время перерыва использования поселения людьми. Чтобы убедиться в отсутствии погребенных культурных слоев, разведочные шурфы углубляются до почвообразующей породы.
Для сбора и учета костей, сохранившихся в культурном слое изученных нами памятников, его горизонты раздельно просеивали, а если позволяла обстановка, то промывали на ситах водой.
При отборе проб из горизонтов для просеивания или промывки необходимо тщательно следить за положением их границ Это позволяет избежать перемешивания геологически разновозрастного остеологического материала. Чтобы облегчить себе эту работу, раскопку культурного слоя следует начинать двумя взаимно перпендикулярными шурфами, на зачищенные стенки которых наносят границы выделяемых горизонтов. Желательно, чтобы хотя бы часть из них совпадала с границами почвенных горизонтов. Счет погребенных культурных слоев и их горизонтов ведется от нижней части заложенных шурфов вверх. Глубина их залегания измеряется от поверхности современной почвы или от условного нулевого уровня.
После отбора костей и их определения выбирается тот количественный показатель, который больше подходит к соответствующему типу археологического памятника, а также в зависимости от целей исследования.
Наиболее часто археозоологи учитывают общее число найденных костных остатков вида (ОКО) и минимальное число особей (МЧО), которым они могли принадлежать [Бекени 1969; Цалкин 1970; Паавер 1979; Klein, Cruz-Uribe 1984; и др.].
Чаще всего минимальное число особей подсчитывается по наиболее многочисленному элементу скелета. Желательно при этом учитывать индивидуальную и возрастную изменчивость элементов скелета [Бекени 1969]. В остеологических выборках соотношение правых и левых элементов какой-либо кости, как и в скелете позвоночных, должно быть близко к 1.
Таблица 1. Парные кости (шт.*) птиц из культурного слоя Дежневского древнеэскимосского поселения.
В выборках костей из культурного слоя Дежневского древнеэскимосского поселения Чукотки (табл. 1) это нередко имеет место. Помня, что охотники добывают не кости, а животных с их целыми скелетами, приходится признать, что отклонение в выборках численного соотношения правых и левых костей от нормальной величины связано только с потерей части добытого материала. Она могла произойти при разделке туш животных и их дальнейшей подготовке к использованию. Оценить потери можно стандартизировав остеологическую выборку по анатомическим нормам скелета животных [Динесман и др. 1996; Dinesman еt а1. 1999]. Для этого достаточно подсчитать в ней общее количество всех крупных разноименных костей поясов конечностей вида (Mкв) и по наиболее многочисленной из них определить обычным способом минимальное число особей (МЧО). Количество (А) разноименных парных костей поясов конечностей, приходящееся на одну только что добытую особь вида, зависит от набора элементов скелета, выбранных для таксономической диагностики остеологического материала. Оно нам хорошо известно и всегда больше аналогичного показателя Мкв/МЧО, подсчитанного для выборки. Разница этих величин определяется потерей части костей добычи (Мук) еще до захоронения в культурном слое. Очевидно, исходное количество парных костей зафиксированного выборкой минимального числа особей (Мисх) равняется сумме общего числа ее костей и потерявшихся костей, т. е. Мисх = Мкв + Кук. Эго позволяет считать, что (Мкв + Мук)/МЧО = А, или Кук = А × МЧО — Мкв. В качестве примера можно привести следующий. Наиболее многочисленным найденным элементом скелета большой конюги был тибиотарзус (М = 48 правых костей) (табл. 1). Благодаря двусторонней симметрии скелета, такое же число левых тибиотарзусов должны были иметь и все другие большие конюги, добытые дежневскими эскимосами. Таким же должно было быть у них количество правых и левых элементов каждой крупной парной кости конечностей. Очевидно, для определения суммы добытых костей большой конюги нужно 48 × 2 (число тибиотарзусов у одной особи) × 9 (число наименований парных костей, использованных для таксономической диагностики выборок) — 48 × 2 × 9 = 864. Таким образом, добытые большие конюги имели 864 парные кости девяти наименований. Вычтя из этого числа сумму всех найденных правых и левых парных костей большой конюги (437) (табл. 1), получим 864–437 = 427 или 49 % костей этого вида потерялось при обработке добычи.
Выполнение аналогичных вычислений для других видов промысловых птиц добывавшихся эскимосами, показало (табл. 1), что еще до захоронения в культурном слое теряется от 41 % до 84 % костей. Такие большие потери костей не должны удивлять. У древних эскимосов кости добычи не только попадали в культурный слой вместе с кухонными отходами, но и использовались для изготовления оружия и бытовых предметов, шли на сооружение каркасов землянок и мясных ям, сжигались как топливо, растаскивались собаками.
Как показало радиоуглеродное датирование, на исследованном нами участке Дежневского древнеэскимосского поселения культурный слой формировался 1360 лет. Общая скорость накопления в нем девяти крупных разноименных парных костей конечностей наиболее многочисленных животных не превышала 3,28 шт. на 6 м2 или 0,5 шт. на 1 м2 (табл. 2). Обычно она была ниже. Ясно, что при такой скорости накопления вероятность одновременного совместного захоронения на одной площадке правого и левого элементов парной кости одной особи очень невелика. Не рискуя значительно ошибиться, каждую правую и левую одноименную парную кость, найденную в культурном слое, следует считать равноценными эквивалентами разных особей.
Таблица 2. Скорость накопления костей наиболее многочисленных животных в горизонтах культурного слоя Дежневского древнеэскимосского поселения (шт. в год на 6 м2).
Важным показателем при остеологическом анализе является скорость накопления костей (СНК) в культурном слое на единицу площади и времени, то есть СНК = Мкв/tS. Только так можно получить сравнимые оценки количества костей в разных культурных слоях и в разных горизонтах одного культурного слоя. Размерность этой величины — шт/лет м2.
Из древнеэскимосских поселений Чукотки нами было определено около 10 тысяч костей китообразных и более мелких млекопитающих. Результаты определения очень близки (табл. 3). Их сопоставление показало, что по всему чукотскому побережью Берингова моря эскимосы добывали главным образом морских зверей, среди которых первые места занимали кольчатая нерпа, лахтак и морж. На обитателей тундры — песца, зайца-беляка, северного оленя и снежного барана приходилось лишь менее 5 % костей.
Таблица 3. Кости млекопитающих (%) из древнеэскимосских поселений Чукотки.
По данным литературы [см. обзор: Савинецкий 2000] было установлено, что на о-вах Берингова моря и на Аляске эскимосы, как и на Чукотке, из млекопитающих добывали главным образом моржа, кольчатую нерпу, лахтака и ларгу. Только на о-ве Нунивак, который отделен от американского материка проливом Этилина, эскимосы промышляли и сивуча. Его доля в добыче 1460 лет назад составляла 7,9 %, 350–200 лет назад она упала до 2,1 % [Cheaters 1972; Souders 1997]. Никаких сведений о промысле здесь сивучей в более позднее время найти не удалось [Савинецкий 2000].
Судя по раскопкам поселений на о-вах Алеутской гряды, жившие там 2600 лет назад алеуты вместе с сивучем добывали северного морского котика, обыкновенного тюленя (Phoca vitulina), калана [Lippold 1966; Denniston 1972; Turner, Turner 1974; Yesner 1977], т. е., в отличие от северной части Берингова моря, преимущественно пагофобные виды.
Таблица 4. Кости китов из руин древних поселений Чукотки.
При обследовании руин 10 древнеэскимосских поселений, расположенных в разных районах Чукотского побережья (табл. 4) было найдено 1419 костей китов. Из них 1239 костей (87,3 %) принадлежали серым китам, 177 — гренландским китам и только 3 кости — горбатым китам (горбачам). Как показывают собранные материалы, древние эскимосы добывали преимущественно серых и отчасти гренландских китов. Для временной привязки материала нами были продатированы по радиоуглероду 30 костей гренландского и 34 кости серого китов из древнеэскимосского поселения Эквен. Распределение полученных датировок (рис. 1) дает представление о вековой динамике китобойного промысла чукотских эскимосов. Оно подтверждает, что на всем протяжении существования Эквенского поселения его жители промышляли главным образом серых китов. Гренландские киты в их жизни играли заметно меньшую роль. Наиболее ранняя дата захоронения на Эквене серого кита — 2505±129 лет назад (ИЭМЭЖ-845). Позднее число захоронений костей этого вида непрерывно увеличивалось и достигло максимума 1900–1700 лет назад. В период 1700–1500 лет назад количество их захоронений сильно уменьшилось. Позднее, 1500–1300 лет назад оно снова возросло, а затем постепенно снижалось. Следует отметить, что 90 % всех костей серого кита из древнеэскимосских поселений Чукотки принадлежало сеголеткам. Наибольшее количество остатков гренландского кита относится ко времени 1300–1100 и 900–700 лет назад.
Археологов при изучении фаунистических остатков интересует в основном качественный и количественный их состав. Однако экологов, кроме того, интересует какой была численность промышлявшихся видов на охотничьих участках поселений. Не зная ее, невозможно убедительно оценить влияние древнего человека на изменение численности промышлявшихся им видов.
Уже давно для определения численности опромышляемых рецентных популяций животных используются различные модификации метода D. DeLury [1947]. Сейчас они широко применяются при анализе рецентных популяций китообразных, ластоногих и рыб для определения квот их промысла [Allen 1966; Bockstoce, Botkin 1983; Allen, Kirkwood 1988]. В модификации метода, предложенной Д. Г. Чепменом [Chapman 1974], среднее число животных (N) в период t, промысловая добыча (С) и промысловые усилия (f), затраченные на ее добывание, связаны уравнением Nt = Q/qf, где q — промысловый коэффициент (добычливость, уловистость), величина которого определяется особенностями применяемых способов охоты. Отношением Ct/ft, входящим в это уравнение, оценивается количество добычи, пришедшейся на единицу промысловых усилий, или другими словами эффективность промысла. В англоязычной литературе она получило аббревиатуру CPUE (catch per unit effort). При стабильности промыслового коэффициента q величина CPUE меняется пропорционально численности опромышляемой популяции независимо от ее пополнения и ее промысловой и естественной смертности [Рикер 1979], и в этом случае сама по себе может служить показателем относительной численности животных.
Очевидно, для реконструкции относительной численности животных на охотничьих участках древних эскимосов необходимо не только знать величину их добычи, и время накопления ее костей в культурном слое поселения, но и нужно научится определять по выборкам остеологического материала величину трудовых усилий, затраченных на получение добычи, а так же величину добычливости (промыслового коэффициента q) способов охоты, применявшихся древними эскимосами.
Относительный показатель величины добычи древних эскимосов определяется числом костей каждого вида (Nкв), собранных в горизонтах культурного слоя (Nкв = С). Время их накопления (t) нетрудно установить по радиоуглеродным датировкам верхней и нижней границ вмещающего их культурного слоя или его горизонтов. Способы получения этих показателей уже рассмотрены нами выше.
Под промысловыми усилиями (f) принято понимать общее количество охотничьих орудий и продолжительность их использования в течении охотничьего сезона. При анализе рецентных популяций морских зверей и рыб орудия промысла тщательно стандартизируются чтобы избежать прямого сопоставления добычи кораблей разного водоизмещения и разной технической оснащенности. В практике рыбного и охотничьего хозяйств промысловые усилия оценивались числом рыбаков, облавливавших водоем, количеством проданных охотничьих лицензий, количеством животных, добытых на одно ружье или количеством винтовко/дней и т. п. [Рикер 1979; Коли 1979 и др.].
Эти и подобные им приемы оценки учитывают уровень промысловой активности населения (количество людей, эксплуатирующих охотничьи ресурсы определенной территории, количество судов, участвующих в промысле) и технические средства реализации этой активности (водоизмещение судов, способы добычи животных, применяющиеся охотниками и т. п.). Технические средства реализации промысловой активности людей сильно варьируют. Поэтому при изучении рецентных опромышляемых популяций промысловые усилия тщательно стандартизируются по их добычливости. Аналогичными приемами оценить промысловые усилия древних эскимосов и алеутов очень сложно из-за отсутствия исходных данных. Правда, промысловую активность древних эскимосов можно найти, если обратиться к могильникам поселений.
Азиатские эскимосы всегда обитали в небольших постоянных поселениях. Каждое из них было относительно автономной хозяйственной, социальной и репродуктивной ячейкой, имеющей свой охотничий участок. Обитателям поселений были хорошо известны границы этих участков. Все трудоспособные мужчины поселений были охотниками [Крупник 1989]. Их общим количеством определялся уровень промысловой активности поселения.
Зимой (декабрь-апрель) главным занятием эскимосов была охота на тюленей у продушин во льду. Весной — коллективная охота с кожаных байдар на лахтаков (апрель-май) и на гренландских китов (апрель-июнь), добыча птиц на пролете. Летом (июнь-август) они охотились на птиц и очевидно на молодых серых китов, жирующих у берегов. Добыча моржей и лахтаков на открытой воде и ловля нерп сетями велась эпизодически. Осенью (сентябрь-ноябрь) эскимосы снова возвращались к охоте на китов и моржей. Добыча этих крупных животных непосильна охотникам-одиночкам и требовала одновременного участия всех трудоспособных мужчин поселения [Крупник 1989].
Благодаря столь четко выраженной сезонности все или, во всяком случае, подавляющая часть охотников одновременно была занята добычей то одного, то другого промыслового вида, последовательно используя различные способы охоты, специально предназначенные для каждого из них. При этом проявления промысловой активности стандартизировались видоспецифичными приемами промысловых усилий. Очевидно, в разные интервалы времени I числом трудоспособных мужчин в равной степени можно оценивать не только относительный уровень промысловой активности древнеэскимосского поселения, но и меняющееся вместе с ним количество промысловых усилий, затраченных его обитателями на добывание каждого вида животных. Правда, промысловые усилия разного типа при оценке этим относительным показателем нивелируются по величине, но их вековая динамика должна проявляться достаточно четко.
Вековые изменения количества трудоспособных мужчин в эквенской и дежневской древнеэскимосских общинах не изучены. Однако ясно, что они коррелировали с изменениями общей численности обитателей поселения. Поэтому любой показатель этой численности пригоден для количественной оценки промысловой активности в относительных единицах.
Существуют методы, позволяющие по захоронениям кладбищ восстанавливать структуру и численность оставивших их палеопопуляций людей [Acsadi, Nemeskeri 1970; Ubelaker 1978]. Однако эти методы требуют полной раскопки всех могил кладбища и тщательного описания обнаруженных в них скелетов. Вместе с тем, в относительных показателях промысловую активность древнеэскимосских поселений можно оценить и не располагая полным исследованием могил кладбища.
Исходя из самых общих положений палеодемографии, средняя численность палеопопуляций (Рt) в период времени t прямо пропорциональна количеству захоронений (Nмогt). В прошлом эскимосам был свойственен особый тип демографической структуры, адаптированный к жестким условиям Арктики. Он характеризовался высокой рождаемостью, способностью к быстрому росту численности, который сдерживался высокой смертностью взрослого населения, сокращением продолжительности жизни взрослых и пожилых лиц Еще в первой половине XX в. смертность трудоспособной части эскимосских общин резко возрастала в голодные годы и во время эпидемий, но затем быстро снижалась до исходного уровня [Крупник 1989]. Понятно, что в многолетием ряду такие экстремальные отклонения структуры населения эскимосов должны нивелироваться. Поэтому, если длительность периода времени I, выбранного для оценки промысловой активности, в несколько раз превышает среднюю продолжительность жизни одного поколения эскимосов, такими кратковременными колебаниями смертности можно пренебречь и число захоронений, появившихся на могильнике поселения в различные интервалы времени, принять за относительный показатель промысловой активности древнеэскимосских общин. Размерность этого показателя — человек/лет. Он отражает общую нагрузку поселения на поголовье опромышлявшихся видов. Для его получения следует лишь установить особенности частотного распределения во времени достаточно представительной случайной выборки захоронений, датированных по радиоуглероду. Располагая для одних и тех же интервалов времени оценками в относительных единицах добычи опромышляемого вида (зверей/лет) и затраченной на ее получение промысловой активности (человек/лет), нетрудно вычислить остеологический показатель количества добычи на единицу промысловой активности CPUEвкt = Nкв/Nмогt. Он также выражен в относительных единицах с размерностью зверей/человек. Для получения этой единицы мы воспользовались материалами Эквенского могильника, находящегося в 800 м от Эквенского поселения. Изучение его могил было начато в 1961 г. С. А. Арутюновым и Д. А. Сергеевым [1975], а с 1987 г. — продолжено М. М. Бронштейном [1990]. Как установили С. А. Арутюнов и Д. А. Сергеев, оба эти памятники созданы одновременно одними и теми же людьми. Продотировав по радиоуглероду 39 раскопанных ими могил, разнеся полученные даты по 200-летним периодам и сопоставив их распределение с изменением по тем же периодам число костей моржа, серого и гренландского китов, собранных на склоне Эквенской дюны и на прилегающем к нему участке пляжа, мы выразили изменение численности этих видов в CPUEкв на охотничьем участке поселения [Динесман и др. 1996].
Мощность культурного слоя определяется количеством людей в поселении и длительностью его использования ими. Сопоставление скорости появления захоронений людей в Эквенском могильнике со скоростью роста культурного слоя соседнего Дежневского поселения выявило большое сходство этих процессов [Динесман и др. 1996]. Поэтому при вычислении CPUE мы в равной степени использовали оба этих показателя.
На основании данных по динамике добычи и динамике относительной численности населения древнеэскимосских поселений нами выявлена динамика численности различных видов промысловой фауны охотничьего участка поселения (рис. 2). У серого кита за последние тысячелетия наблюдалось три периода подъема численности — 1900–1700, 1300-900 и 700–500 лет назад и три периода относительно низкой численности — 2300–2100, 1700–1300 и 900–700 лет назад. Динамика численности гренландского кита и моржа довольно схожа. Оба вида характеризовались довольно низкой численностью в период до 1300 лет назад, после чего она заметно выросла. Отличием является то, что у моржа отмечается еще одно снижение численности в период 900–700 лет назад.
Сведений о динамике погребений эскимосов пос. Дежнево нет. Для оценки вековых изменений промысловой активности его обитателей мы использовали мощность горизонтов культурного слоя. Полученные данные по изменению эффективности промысла позволили разделить по численности животных охотничьего участка дежневских эскимосов на три группы. В первую группу входят морж, ипатка и белая куропатка, обилие которых 2480–1270 лет назад постепенно падало. Вторая группа объединяет 15 видов. Она включает лахтака, нерпу и песца; из морских птиц — глупыша, баклана, кайр, большую конюгу, конюгу-крошку, белобрюшку и бургомистра; из прибрежно-тундровых птиц — морянку, гагу-гребенушку, плосконосого плавунчика, среднего и короткохвостого поморников. Все они достигали максимальной численности 2280–1940 лет назад. Наконец к третьей группе принадлежат из морских птиц чистик и моевка, а из прибрежнотундровых — длиннохвостый поморник, обыкновенная, очковая и сибирская гаги. Максимальной численности они достигали 1940–1730 лет назад. Как нетрудно заметить, 1730 лет назад многовековая депрессия численности охватила всех промысловых животных дежневского охотничьего участка. Своей кульминации она достигла 1450–1270 лет назад.
Сравнение изменений численности животных с динамикой различных климатических факторов показало, что динамика численности животных в районе Берингова пролива определялась прежде всего уровнем ледовитости моря (гренландский кит, морж) и изменением количества осадков в летний период (большинство морских видов) [Савинецкий 2000].
2. Мининский археологический комплекс (Вологодская обл.)
Аналогичные задачи — выбор показателя количественного учета костей и оценка динамики численности промышляемых животных была предпринята на основе материала из Мининского археологического памятника.
Многослойный памятник Минино располагается на северо-западном побережье Кубенского озера, в 70 км от Вологды. Археологическое изучение памятника показало, что люди жили в данном месте в мезолите, неолите, раннем железе и средневековье вплоть до конца ХП1 в. [Макаров и др. 2000]. Раскопки проводили по квадратам размером 1 × 1 м, с мощностью отбираемого слоя — 10 см. Весь материал из культурного слоя тщательно просеивался или промывался на ситах. При подсчете костей из культурного слоя мы использовали показатель общее количество остатков (ОКО). Вероятность найти кости от одного животного в культурном слое довольна низка, т. к. накопление большей части костных остатков проходило в течение продолжительного периода времени, измеряемого сотнями, а иногда и тысячами лет. Это не относится к материалу из т. н. «мусорных ям» Заполнение этих ям формировалось за очень короткое время, так что нахождение там остатков одной особи очень вероятно. Это, по-видимому, относится и к местам погребений и другим объектам, формирование которых происходило в короткое время. В них следует считать минимальное количество особей.
Ямы в культурном слое часто могут не выделяться ни по цвету, ни по структуре [Авдусин 1959]. Некоторым образом в определении местоположения ям может помочь археозоологический анализ. Известно, что кроме промысловых зверей и птиц в культурном слое обнаруживаются остатки случайных животных, в частности мышевидных грызунов и амфибий. Их попадание в ямы, как своего рода ловушки, очень вероятно. Определение остеологического материала из Мининского археологического комплекса показало, что остатки грызунов и амфибий встречаются в среднем в каждом 8,8 квадрате, в котором были выделены ямы по внешним признакам, и в каждом 16,8 квадрате, т. е. почти в два раза реже, где ям не отмечено.
Наиболее многочисленный остеологический материал был получен из слоев относящихся к раннежелезному веку и средневековью (табл. 5). Состав костных остатков из слоев раннежелезного века довольно типичен для памятников этого времени на северо-западе России [Верещагин, Русаков 1979]. Доля костей домашних животных невелика (4,6 %), но их видовой состав можно считать установившимся и с тех пор практически не изменившимся. Среди остатков преобладают кости диких животных (95,4 %). Из костей диких животных преобладают остатки бобра (78,7 % от костей диких животных) и мелких куньих (8,8 %). В средневековых слоях доля костей домашних животных увеличивается до 33,6 %. Такое соотношение костей диких и домашних животных в остатках несколько необычно для этого времени — с развитием животноводства доля костей домашних животных в «кухонных остатках» всегда преобладает [Цалкин 1956; Паавер 1965; Верещагин, Русаков 1979].
Невысокий процент остатков домашних животных в культурном слое Мининского археологического комплекса свидетельствует о том, что охота играла гораздо большую роль в жизни местных жителей, чем животноводство. Причем данная ситуация сохранялась как в раннем железном веке, так и в средневековье. Список добываемых видов диких животных в средневековый период довольно обычен для этого региона. Крайне удивительным является большая доля костей белки в остатках (29,3 % от общего количества остатков диких животных). Связано это, по нашему мнению, не с уникальностью данного места или особым пристрастием древних жителей к белке, а тщательностью проводимых археологами раскопок, которые сопровождались широко масштабными просеиванием и промывкой культурного слоя.
Таблица 5. Кости млекопитающих и птиц из культурного слоя Мининского археологического комплекса.
Часть материала, относящегося к средневековому времени, удалось разделить на два хронологических периода — с рубежа Х-ХI вв до 1-ой половины XII в. и со 2-ой половины XII в. до конца ХIII века, т. е. примерно по 150 лет (табл. 6). Остеологический анализ показал, что в средневековый период со временем увеличивалась доля остатков домашних животных, при сохраняющемся доминировании костей диких животных. В данный период отмечается увеличение доли остатков крупного и мелкого рогатого скота и двукратное уменьшение доли костей свиньи и лошади.
Таблица 6. Состав костей из Мининского археологического комплекса в средневековье.
Из изменений в составе остатков диких животных можно отметить увеличение доли костей лося и мелких куньих. Уменьшилась доля костей бобра и белки, хотя их остатки продолжают доминировать в остеологическом спектре.
Как уже отмечалось выше, изменение количество остатков какого-либо вида охотничьих животных в единицу времени свидетельствует об изменение величины его добычи. Для того, чтобы перейти от динамики добычи к динамике численности вида, можно попытаться воспользоваться тем же методом, который мы использовали при оценке численности промысловых видов прибрежных экосистем Берингоморья. Существенным отличием двух регионов является то, что на севере лесной полосы Европы уже в раннежелезном веке и тем более в средневековье были развиты производящие формы хозяйства и прежде всего скотоводство и земледелие. Тем не менее, как показал остеологический анализ, охота была одним из основных занятий местного населения и, по-видимому, этим видом деятельности занималось большинство населения. Таким образом, в данном случае нам кажется вполне допустимым использовать в качестве показателя численности населения и промысловых усилий мощность культурного слоя.
Всего на памятнике было раскопано 206 квадратов (1 м × 1 м × 0,1 м) относящихся к ХI-ХII вв. и 218 квадратов относящихся к XII–XIII вв., т. е. приблизительно в равном количестве. В данном случае подсчитывались только те квадраты, которые представляли постепенно накапливающийся культурный слой, т. е. без учета квадратов захватывающих ямы, погребения и различные конструкции, например печи. Другим показателем промысловых усилий могло бы быть количество охотничьих орудий. К сожалению, их было обнаружено не очень много, но примерно в равном количестве для каждого из периодов. Таким образом, если мы рассматриваем мощность раскопанных горизонтов как показатель численности населения поселения и, соответственно, как показатель промысловых усилий, а количество остатков животных как величину добычи, то для определения изменений вековой динамики численности промысловых животных нам необходимо подсчитать отношение этих двух показателей, являющимся по сути концентрацией костей на единицу объема культурного слоя. Еще более сложным вопросом является возможность использования такого же подхода для сравнения данных по раннежелезной и средневековой эпохам. По-видимому, все же, принципиальных изменений в способах промысла зверей в эти периоды не происходило.
Сравнение изменения концентрации костей в раннежелезный век и средневековье показало (табл. 7), что количество остатков домашних животных в средневековье, по сравнению с раннежелезным векрмг увеличилось более чем в 10 раз, причем увеличение отмечается у всех домашних животных (за исключением собаки), хотя и в разной степени.
Таблица 7. Динамика концентрации костей (шт./м3) в культурном слое Мининского археологического комплекса в раннежелезный век и средневековье.
Из основных промысловых видов трехкратное увеличение численности в средневековье отмечается у лося, что может быть связано с развитием подсечного земледелия и широким распространением вторичных лесов. Интересно отметить, что сходный порядок увеличения численности лося для этого периода получил и Н. К. Верещагин [Верещагин, Русаков 1979] для Прибалтики. Некоторое уменьшение численности отмечается у таких пушных зверей как бобр, лисица, мелкие куньи. Почти 7-кратное увеличение концентрации костей белки вряд ли связано со столь значительным изменением ее численности. Вероятно, это определялось большим ее преследованием из-за повышенного интереса к беличьим шкуркам как эквивалента денег, экспортного товара и т. п.
Таблица 8. Динамика концентрации костей (шт./м3) в культурном слое Мининского археологического комплекса в средневековье.
Вычисление концентрации костей в различные периоды средневековья показало (табл. 8), что величина стада[8] домашних животных увеличилась во 2-ой половине XII–XIII вв., по сравнению с предыдущим периодом, почти в два раза. Двух- трехкратное увеличение численности отмечается у крупного и мелкого рогатого скота и свиньи. В тоже время отмечается резкое уменьшение роли лошади в питании населения. Аналогичные результаты получил и В. И. Цалкин [1956], который видит причину этого в изменении организации сельского хозяйства, т. е. перехода от подсечного земледелия к пашенному и использованию лошади преимущественно в качестве тягловой силы.
Из основных промысловых видов отмечается почти 4-кратное увеличение численности лося, что, как уже отмечалось, могло быть связано с увеличением площади вторичных лесов. Небольшое увеличение численности отмечается у мелких куньих, выдры, зайца. Незначительное уменьшение численности во 2-ой половине XII–XIII вв. было у бобра и белки.
Заключение
Чтобы сделать материалы современных археозоологов пригодными для экологических исследований следует охотничью добычу древних людей выражать скоростью накопления ее костей (СНК) на единице площади горизонтов культурного слоя, изучаемого поселения СНК = Nкв/tS. Для этого необходимо располагать их радиоуглеродными или точными археологическими датировками.
Помня, что люди добывали не кости, а животных вместе с их скелетом, важно по парным костям, обнаруженным в культурном слое, установить возможное число добытых особей и количество костей, потерявшихся до захоронения.
Относительную численность на охотничьем участке добывавшихся видов можно рассчитать по предложенной Чэпменом [Chapman 1974] модификацией метода Делюри \DeLury 1947], связавшего среднюю численность промышляемого вида с его добычей и промысловыми усилиями, затраченными на ее получение — CPUE = Ct/flq. Из членов этого уравнения только ц — промысловый коэффициент или добычливость способа охоты, не оставляет следов в культурном слое и надежных способов оценки не имеет. Определяя численность промышлявшихся видов отношением Ct/flq и не принимая во внимание значение добычливости способов охоты, мы уравниваем влияние промысла на численность разных видов и не можем оценить влияние охоты на изменение их обилия. В таком виде CPUE отражает только влияние на этот процесс природных факторов. Чтобы исправить положение необходимо найти способы оценки промыслового коэффициента разных охот.
В районах развитого скотоводства и земледелия определение СРЦЕ значительно осложняется распределением основных промысловых усилий между этими основными отраслями хозяйства.
Благодарности
Мы искренне благодарим М. М. Бронштейна и К. А. Днепровского за предоставленный материал из древнеэскимосских поселений Чукотки и Н. А. Макарова за материал из Мининского памятника и его обсуждение. Также мы глубоко признательны Е. Е. Антипиной за ценные замечания и обсуждение рукописи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 00-04-48149, № 03-04-49323 и Программы «Научные основы сохранения биоразнообразия России».
Литература
Арутюнов С. А., Сергеев ДА. Проблемы этнической истории Берингоморья (Эквенский могильник). М.: Наука, 1975.
Бекени Ш. Новый метод вычисления количества особей животных в остеологическом материале из археологических местонахождений // Бюл. МОИП. Отдел биологии. Т. 74. Вып. 6.1969. С. 69–71.
Бронштейн ММ Древнеэскимосское искусство как историко-этнографический источник: Автореф. дис… канд. ист. наук. М., 1990.
Верещагин Н. К., Русаков О. С. Копытные Северо-Запада СССР (история, образ жизни и хозяйственное использование). J1.: Наука, 1979.
Динесман Л. Г., Киселева Н. К., Савинецкий А. Б., Хасанов Б. Ф. Вековая динамика прибрежных экосистем северо-востока Чукотки, М.: Аргус, 1996.
Коли Г. Анализ популяций позвоночных. М.: Мир, 1979.
Крупник ИИ Арктическая этноэкология. М.: Наука, 1989.
Ляпунова Р. Г. Алеуты и их экосистема // Экология американских индейцев и эскимосов. М.: Наука, 1988. С. 84–93.
Макаров Н. А. Шесть лет раскопок Мининского археологического комплекса // Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия. Вологда, 2001. С. 3–6.
Макаров НА., Захаров С. Д., Зайцева НЕ. Сельские поселения на Кубенском озере в XII–XIII вв. — от расцвета к запустению // Русь в XIII веке: континуитет или разрыв традиций? М, 2000. С. 65–72.
Паавер К. Л. Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибалтики в голоцене. Тарту, 1965.
Паавер К. Л. Методы оценки обилия субфоссильных костей И Частные методы изучения истории современных экосистем. М.: Наука, 1979. С. 212–222.
Рикер У. Е. Методы оценки и интерпретации биологических показателей популяций рыб. М.: Пищевая промышленность, 1979.
Савинецкий А. Б. Вековая динамика населения млекопитающих и птиц побережья и островов Берингова моря в последние тысячелетия. Автореф. дисс… докг. биол. наук. М: ИПЭЭ РАН, 2000.
Цалкин В. И. Материалы для истории скотоводства и охоты в древней Руси // Материалы и исследования по археологии СССР. № 51.1956.
Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М.: Наука, 1970.
Acsadi G., Nemeskeri J. History of human life span and mortality. Budapest: Academical Kiedo, 1970.
Allen KR Some methods for estimating exploited population // J. Fish. Res. Board Can. Vol. 23. N 10. 1966. P. 1553–1574.
Allen KR, Kirkwood G. P. Man impacts on marine mammals // Fish population dynamics. Chichester, etc. 1988. P. 151–269.
Bockstoce JR., Botkin D. B. The historical status and reduction of the Western Arctic bowhead whale population by the pelagic whaling industry // Rep. Int. Whal. Comm. Special issue 5.1983.P. 107–142.
Chapman D. G. Estimation of population size and sustainable yield of sei whales in the Antarctic // Rep. Intern. Whaling Commiss. V. 24. 1974. P. 82–90.
Chatters J. C. The faunal analysis of sites MK2 and MK4 Nunivak, Alaska. Report from Univ. of Washington. 1972. R 1-21.
DeLury D.B. On the estimation of biological populations // Biometrics. V. 3. 1947. P. 145–167.
Denniston G. B. Ashishik Point: an economic analysis of a prehistoric Aleutian community. University of Wisconsin. 1972.
Dinesman L. G., Kiseleva N. K., Savinetsky A. B., Khassanov B.F Secular dynamics of coastal zone of north-east Chukotka Tubingen: Mo Vince Verlag. 1999.
Klein KG., Cruz-Uribe K The analysis of animal bones from archaeological sites. Chicago: Univ. Chicago Press, 1984.
LippoldLK. Chaluka: the economic base // Arctic Anthropology. V. 3. N 2.1966. P. 125–131.
Souders P. Ellikarrmiut economy: animal resource use at Nash Harbor (49-NII-003), Nunivak Island, Alaska. Submitted in Partial fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree department of Anthropology, University of Oregon. 1997. P. 1–72.
Turner C. G. II, Turner J. A. Progress report on evolutionary anthropological study of Akun Strait district, eastern Aleutians, Alaska, 1970–1971 // Anthropological Papers of the University of Alaska. V. 16. N 1. 1974. P. 27–57.
Ubelaker D. H. Human Skeletal Remains. Chicago: Chicago Aldine Publishing Company. 1978.
Yesner D.R Prehistoric subsistence and settlement in the Aleutian Islands. Ph. dissertation. Univ. of Connecticut. 1977.
Lev G. Dinesman, Arkady B. Savinetsky
Quantitative analysis of animal bones from the cultural layers of ancient settlements
Summary
The comparision of two indexes of species abundance — the number of identified specimens (NISP) and the minimum number of individuals (MNI) is carried out on the base of data from cultural layers of ancient settlements in Chukotka and central European part of Russia. It is confirmed that the NISP is more suitable index in case of long-term formation of deposits. It is proposed to make a next step in quantitatve analysis of bone assemblages and to turn from the evaluation of the hunting bag to the evaluation of abundance of hunted animal population. It is suggested to use the index CPUE (catch per unit effort) for that.
Н. Г. Смирнов
О подходах к исследованию исторической динамики животного населения мелких млекопитающих
Для решения задач, обсуждаемых в данной работе, среди множества точек зрения на сукцессии и другие виды динамики, представляются более продуктивными те, где в основу классификаций положены представления о разномасштабное™ процессов. Именно в этой сфере особенно насущной является междисциплинарная постановка задач. Чаще всего масштабы идентифицируют с хронологической протяженностью (что далеко не всегда верно) и этим разделяют процессы, доступные для исследования палеонтологическими и неонтологическими методами.
Назрело оформление нового направления, которое бы сосредоточило внимание на другой процедуре — реконструкции важнейших параметров динамики состава и структуры сообществ животных в масштабах, доступных исследованию на ископаемом и субфоссильном материале. Такое направление, на стыке палеоэкологии и тафономии с одной стороны, и учением о динамике современных популяций и экосистем с другой, можно было бы называть алеалогией (от греческого «алеа» — игра в кости).
В этой работе изложена система взглядов на ряд методологических и методических вопросов, которые естественным образом встают перед исследователями, идущими по сложному пути от сбора остеологических материалов из местонахождений ископаемых остатков животных через ряд процедур к исследованию закономерностей динамики состава и структуры сообществ животных прошлого. Этот путь в представленном виде выглядит как компромисс между теоретическими представлениями о пространственно-временной структуре изучаемого процесса и возможностями оценки его реальных параметров на палеонтологическом материале.
Если представить себе цепь событий, которые из года в год на протяжении сотен и тысяч лет происходят в экосистемах и популяциях разных видов животных и растений на какой-то конкретной территории, сопоставимой по площади с несколькими километрами долины реки с прилегающими водораздельными участками, то, на первый взгляд, в них невозможно разобраться. Однако если обратиться к опыту изучения динамики не сообществ вообще, а, например, только растительности, и разобраться в громадном количестве точек зрения на классификации динамических процессов, то появляется некоторый повод для оптимизма.
Представления о динамике сообществ наиболее подробно разработаны для ассоциаций растений. Их великое множество, но нам ближе те, где в основу классификации динамики положены не вызывающие их причины, а степень преобразования изучаемых объектов. Она из таких классификаций применительно к растительным ассоциациям предложена С. М. Разумовским [1981]; используемая нами далее терминология для обозначения разных типов динамики заимствована у этого автора.
Для целей, обсуждаемых в данной работе, необходимо выделить основной объект исследования; таким объектом является локальная фауна. Обсуждению ее характеристик далее будет уделено специальное внимание. Здесь лишь обозначим, что это такая пространственно-временная единица животного населения, которая включает в себя список видов, одновременно обитающих на территории вокруг места захоронения остатков (в пределах нескольких десятков квадратных километров), и сохраняет свои основные свойства на протяжении сотен и первых тысяч лет. Любую локальную фауну можно отнести к определенному зональному типу. Для голоцена такими типами (из рассматриваемых нами) являются тундровый, лесотундровый, таежный, лесостепной и степной.
При изучении всего разнообразия динамических процессов, происходящих в локальных фаунах и их группировках, будем концентрировать внимание на трех процессах — изменениях, сменах и преобразованиях.
На первом (наиболее низком) уровне находятся динамические явления, происходящие внутри локальной фауны. Их называют изменениями, фактически они являются флуктуациями и не приводят к направленным сдвигам свойств изучаемого объекта.
Более существенная динамика, называемая сменой, приводит к изменениям, сохраняющим устойчивое направление. Они приводят к таким результатам, которые необратимо меняют облик локальной фауны, но все-таки еще не настолько, чтобы локальную фауну следовало относить к другому зональному типу.
Третий тип динамики — преобразование — приводит к кардинальным изменениям состава локальной фауны и структуры животного населения — такого уровня, который позволяет относить ее к новому зональному типу.
Прежде чем обсуждать конкретные методы и подходы алеалогической работы, полезно обозначить некоторые теоретические конструкции, на которых она будет основана. К ним можно отнести некоторые концепции, принципы, постулаты, теории и гипотезы. Часть из них являются общенаучными, некоторые используются в ряде разделов биологии и геологии, другие имеют более частный характер.
Самыми общими теоретическими основаниями алеалогии, как и многих работ по реконструкции длительно протекающих процессов, являются принципы актуализма и историзма. Обсуждаемые в данной статье процессы частично находятся в области применения принципа актуализма, так как движущие их силы и факторы хорошо известны на материалах исследования современных экосистем и популяций. Область применения принципа историзма также затрагивает интерпретацию динамики биоты позднего кайнозоя — в той сфере, где существенную роль играли такие факторы среды, которые сейчас недоступны прямому исследованию и которые порождали появление принципиально иных по сравнению с современностью процессов, явлений и объектов. Это, например, весь круг вопросов, связанный с реконструкцией среды обитания и природы сообществ периодов распространения покровных ледников. Принцип развития является обобщающим для актуализма и историзма [Завадский, Колчинский 1977].
Концепция дискретности масштабов динамики. Важнейшая концепция, используемая в алеалогии, опирается на представление о том, что все процессы пространственно-временной динамики надорганизменных систем можно отнести по крайней мере к одному из трех масштабов — актуальному, историческому и эволюционному. Разграничение изучаемых процессов по принадлежности к определенному масштабу — одна из важнейших задач алеалогического исследования. Это можно осуществить, изучив основные параметры динамики: скорость, обратимость, направленность, хронологическая протяженность и территориальный охват, а главное — степень изменения свойств изучаемой системы. Эти параметры характерны для каждого из масштабов.
Принцип многоуровневого рассмотрения. Концепцию масштабов следует отличать от принципа уровней рассмотрения явления или объекта. В отличие от масштаба динамики, которая объективно присуща процессу, уровень рассмотрения задается самим исследователем, он определяется возможностями материала и задачей его изучения. При исследовании динамики животного населения можно выделять любое количество таких уровней, от элементарного до глобального, — в зависимости от объема и структуры исследуемой системы. Важнейшими в практике исследований являются элементарный, локальный, региональный и зональный уровни; на них основана концепция четырехуровневого подхода к рассмотрению динамики.
Закон широтной зональности и специфика его проявления у мелких млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене — одно из базовых представлений, развиваемых в данной работе. На них строится анализ структуры фауны на любом уровне рассмотрения. В применении к палеозоологическому материалу мы использовали подход, предложенный зоологом Ю. И. Черновым [1975], суть которого состоит в делении видов на группы, в зависимости от конкретного положения видов в каждой из рассматриваемых природных зон. Все виды делятся на зональные и интразональные. Вслед за рядом ботаников, мы полагаем, что собственно зональными видами и сообществами являются лишь те, которые занимают плакорные местообитания. Кроме них, в каждой местности существуют группировки, отличные от собственно зональных, но включенные в основной зональный фон; их называют интразональными. Среди них для мелких млекопитающих имеет смысл различать азональные элементы, распространение которых не приурочено к какой-либо определенной зоне, и экстразональные, которые, как правило, характерны для «своей» зоны, но иногда выходят за ее пределы по подходящим ландшафтным коридорам или островам, и тогда один и тот же вид в разных зонах может оказаться в разных группах. Так, рыжая полевка в таежной зоне — безусловно, зональный вид, тогда как в пойменных лесах степной зоны, где этот вид регулярно встречается — экстразональный. Настоящие азональные виды — водяная полевка и полевка экономка, которые встречаются во многих зонах. При выделении зональных групп иногда необходимо определить не только видовую, но и подвидовую принадлежность. Например, специализированные подвиды узкочерепной полевки в тундре и лесотундре можно считать зональными, тогда как вид в целом — полизональным, поскольку он обитает еще и в степях.
Выделение такого рода группировок видов для современных и голоценовых фаун не составляет особой сложности, так как распространение современных таксонов хорошо известно. Иное дело — более древние формы, существовавшие по другую сторону плейстоцен-голоценового рубежа, где принцип актуализма работает с большими ограничениями. Не вызывает сомнения только то обстоятельство, что и тогда, в холодные эпохи плейстоцена, природная зональность присутствовала, хотя существуют разные точки зрения относительно ее природы. Нами предложена своеобразная трактовка природы сообществ, населявших Северную Евразию в холодные эпохи позднего плейстоцена, — в виде гипотезы существования гиперборейной зоны [Смирнов 2001].
Многое в понимании закономерностей исторической динамики животного населения зависит от применения одной из двух концепций экологии — индивидуальной или групповой реакции видов на изменения среды. В данной работе принята компромиссная точка зрения, согласно которой часть параметров динамики (которые можно трактовать как реакцию на изменение среды) видоспецифичны, тогда как другие едины для разных групп видов.
Кроме теоретических конструкций общего свойства в работе используется несколько узко специальных.
Принцип искусственности объектов: «объекты исследования алеалогии специфичны, часто искусственны, отличны от естественных биологических систем, принцип попадания остатков животных в них далеко не случайный». Такой подход отражается на подборе статистических методов анализа имеющихся выборок, но вовсе не означает, что их динамика никак не отражает основные процессы, происходившие в природных системах. Важно определить, какой именно из объектов алеалогии может дать информацию о динамике системы определенного уровня естественной интегрированности (популяций, региональных ассоциаций животного населения, зональных фаунистических комплексов). Изучение степени и форм этого отражения — один из важнейших разделов алеалогии, тесно соприкасающийся с тафономией.
В тех случаях, когда трудно подобрать материал для сравнения, исследователи прибегают к своего рода утешению в виде принципа тафономическон однородности. Этот принцип позволяет закрыть глаза на многие методические вопросы, если удается убедиться в том, что сравниваемые материалы имеют одинаковый источник накопления.
Раскапывая отложения, содержащие костные остатки, исследователь указывает на этикетке к собранному материалу (кроме названия точки сбора и даты) три основных характеристики — название слоя, обозначение вскрытого условного горизонта и участок. Среди них естественным образованием является только слой, под которым обычно понимают стратиграфическое обозначение свободного пользования, объединяющее отложения с общими литологическими и палеонтологическими признаками. Мощность одного слоя может колебаться от первых сантиметров до нескольких метров, и зачастую появляется потребность раскапывать его по частям. Выбор толщины такой части, называемой условным горизонтом, диктуется многими факторами. Как правило, исследователь старается вскрывать отложения как можно более тонкими горизонтами. В пещерных отложениях, содержащих мелкий и средний щебень, удается копать по 3–5 см, но при наличии в породе крупного щебня и камней мощность условного горизонта не удается выдерживать менее 10 см.
Костные остатки, полученные из одного условного горизонта с определенной площади, названы нами элементарным образцом, а восстановленный список обнаруженных в нем таксонов — элементарной фауной. Элементарный ориктоценоз характеризуется тем же списком таксонов, но также содержит характеристики, позволяющие оценить доли остатков каждого вида. Все эти единицы — не естественные, а искусственные. Это набор костных остатков разных (как правило) видов животных, которые каким-либо образом оказались в данной части отложений к моменту раскопок, но без специальных исследований нельзя ничего сказать о времени и путях их накопления. Как правило, в природе им не соответствуют никакие естественные группировки животных, однако в практике исследований элементарный образец и его характеристики служат базой для всех дальнейших алеалогических построений.
Для того чтобы получить ясное представление о том, какие параметры естественных объектов можно исследовать на основании этих искусственных образцов, необходимо оценить ряд их характеристик во времени и пространстве. Многие специальные приемы и методы тафономии служат этой задаче, но здесь нет ни необходимости, ни возможности даже просто их перечислить; для этого можно обратиться к специальным работам [Общие методы… 1979; Частные методы… 1979; Lee Lyman 1994]. Здесь внимание будет сосредоточено на нескольких, наиболее важных с нашей точки зрения, временных характеристиках элементарных образцов. Они будут рассмотрены на примерах изучения костных остатков млекопитающих из карстовых полостей.
Таблица 1. Радиоуглеродные даты отдельных костных фрагментов из пещеры Дыроватый Камень на р. Чусовая.
Таблица 2. Радиоуглеродные даты отдельных костных фрагментов из грота Шайтанский, придонный гор.22.
Таблица 3. Радиоуглеродные даты отдельных костных фрагментов из пещеры Идрисовская гор.8.
Один из важнейших вопросов — какова длительность образования и степень временной однородности элементарного образца? Для ответа на него используем примеры двух типов. Первый основан на AMS-датировках единичных нижних челюстей грызунов из одного горизонта (10 см) ровной поверхности пола пещер на площади 1 кв. м (табл. 1–3).
Все эти материалы происходят из раннеголоценовых или позднеплейстоценовых отложений. Возраст костей в образце из пещеры Дыроватый Камень на реке Чусовой варьирует в пределах одной тысячи лет. Аналогичные диапазоны значений установлены также для ряда отложений в Североамериканских пещерах [Stafford et al. 1999]. В Шайтанской пещере максимальные различия возраста составили 2,5 тысячи лет. Образец из Идрисовской пещеры оказался явно неоднородным: две челюсти имели возраст около 22 тыс. лет, а две другие 32–35 тыс. лет. В последнем случае есть основания говорить о смешении в одном образце двух резко разновозрастных групп остатков. Такого рода предположения высказывались и до определения абсолютного возраста при описании остеологических сборов на основании различий в окраске и физической сохранности разных костей [Историческая экология… 1990].
Примеров второго типа существенно больше, и они охватывают образцы заметно большего возрастного диапазона. Эти датировки сделаны по коллагену, полученному из смеси многих сотен мелких фрагментов костей грызунов из одного горизонта бензольным методом, при навесках около 200 граммов. Такие даты являются оценками среднего возраста костных остатков из одного горизонта. Наличие серии таких оценок для разных горизонтов из разреза отложений позволяет рассчитать скорости накопления костей в каком-то интервале отложений за тысячу лет (табл. 4–6).
Таблица 4. Характеристики образцов и скорость накопления костных остатков грызунов из отложений пещеры Алексеевская (по: [Кузьмина, Смирнов и др. 2001]).
Таблица 5. Характеристики образцов и скорость накопления костных остатков грызунов из отложений грота Сухореченский (по: [Смирнов, Ерохин и др. 1992]).
Таблица 6. Характеристики образцов и скорость накопления костных остатков грызунов из отложений пещеры Прижим 2 (по: [Историческая экология… 1990]).
Во всех приведенных примерах условия осадконакопления были примерно одинаковы. Слои формировались на предвходовых площадках горизонтальных полостей за счет четырех процессов. Один из них — вынос продуктов химического разрушения известняка из внутренних частей полости (суглинок), другой — физическое разрушение стен и потолка с образованием щебня. Часто имело место накопление гумуса за счет отмирания растений, росших на светлой части площадки и, наконец — накопление остатков пищи хищных птиц в виде погадок, к которым иногда добавлялись кости крупных животных, принесенные в пещеру человеком или четвероногим хищником. Разумеется, общая скорость накопления отложений слагалась из скоростей каждого из этих процессов, и скорее приходится удивляться, что при такой непростой природе процесса наблюдаемые скорости различались не так уж сильно.
Можно также привести расчеты значительно более высоких темпов накопления. С одним из таких примеров нам пришлось столкнуться при изучении слоя 10 грота Расик [Фадеева, Смирнов и др. 2000]. Отложения этого слоя (60 см) накапливались за временной интервал от 13300 до 12700 лет назад, со скоростью порядка 100 см за тыс. лет, при очень высокой концентрации костных остатков. Там накопление погадок явно давало большую массу слоя, чем остальные источники.
В ряде пещер (гроты Большой Глухой, Дыроватый Камень на р. Серге, с возрастом вблизи плейстоцен-голоценового рубежа) были встречены еще более специфические отложения, где отдельные горизонты почти целиком состояли из костей грызунов. Такие скопления, вероятно, образуются в каких-то специфических условиях и довольно быстро перекрываются отложениями, так как сохранность костей в них очень хорошая.
В общем виде, можно заключить, что скорость накопления осадков, содержащих кости позвоночных в пещерах, варьирует как для разных местонахождений, так и внутри одного разреза, от нуля (сноса отложений) до редких случаев очень высоких скоростей (до 100 см), но чаще она равна 10 см за тысячу лет. Это примерно соответствует мощности одного условного горизонта, а значит, средний элементарный образец образуется за несколько столетий. Какого рода события в жизни сообществ и отдельных видов, из которых образовался элементарный ориктоценоз может вобрать в себя такой интервал времени? Многочисленные попытки сопоставить кормовые спектры пернатых и четвероногих хищников с составом ориктоценозов совершенно закономерно дают крайне неустойчивые результаты. И. М. Громовым [1961] было показано, что пернатые миофаги очень «тщательно» облавливают территорию, и в их добыче оказываются практически все, даже самые редкие виды, но их относительная численность не полностью отражает таковую в окружающих местообитаниях. Всегда в добыче бывает завышенной доля видов открытых местообитаний по сравнению с обитателями лесной чащи. Вторым важнейшим фактором является доступность предпочитаемой добычи. Если более крупные виды — объекты питания хищника имеют одинаково высокий с мелкими видами уровень численности, то хищник предпочитает добывать крупных. Поэтому вполне реальна ситуация, когда в составе ориктоценоза преобладает обыкновенный хомяк, а серые полевки относительно уступают ему; в другое время соотношение выглядит обратным. Это может вовсе не отражать реальное колебание численности серых полевок; она могла оставаться стабильной, но при обилии хомяка филин предпочитал добывать именно этого зверька из-за его более крупных размеров.
Попытки дальнейших уточнений этих положений не приводят к заметному прогрессу. Дело в том, что население грызунов, составляющее основу кормовых рационов хищников, всегда подвержено естественной сезонной и межгодовой динамике, а любые способы отлова по-своему избирательны.
Представляется, что идея найти численные коэффициенты, используя которые, можно было бы по орикгоценозу на количественной основе адекватно восстановить все характеристики существовавшего когда-то животного населения, рассчитав относительную численность многих видов, непродуктивна по своему существу.
Важнее всего оценить, может ли элементарный образец вобрать в себя события, масштаб которых превышал бы актуальный? Для ответа на такой вопрос обратимся к конкретным материалам по динамике населения позвоночных животных одного хорошо исследованного района — предгорной части Печеро-Илычского заповедника.
Там прослежена динамика численности основных видов в разных биотопах более чем за полвека [Закономерности… 2000]. Самый яркий феномен в этом ряду — популяционные циклы численности. Показано, что от года к году численность полевок может изменяться на два порядка, а периоды спадов и подъемов численности чередуются каждые три-четыре года. Для более крупных видов — белки и зайца — периодичность несколько больше, но ясно, что такого рода явления в элементарном образце никак не найдут отражения. Кроме отмеченных циклов, прослеживаются тренды колебания численности отдельных видов с протяженностью в несколько десятилетий. Если вспомнить, что средний элементарный образец мощностью в 10 см формируется примерно тысячу лет, то и эти тренды внутри него будут усреднены.
Конкретный пример такого усреднения удалось получить благодаря тому, что в заповеднике орнитологами по содержимому погадок велось изучение питания филина; есть сведения за 30–40 годы ХХ-го века и 86–93 гг. [Астафьев, Нейфельд 1999]. Там же (на берегу р. Печоры в районе устья р. Шежим) И. Б. Головачевым и Н. О. Садыковой по нашей просьбе были собраны субфоссильные остатки грызунов из мест многолетней концентрации погадок филина (за передачу этих сборов для обработки автор выражает коллегам искреннюю благодарность). Эти костные остатки представляют собой элементарный образец из отложений средней мощностью 10 см. Точно определить временной отрезок накопления образца невозможно, но, судя по степени сохранности костей, глубине и характеру их залегания, а также наличию в нем остатков ондатры, время формирования полученного материала, вероятно, несколько превышало последние сто лет. Необходимо отметить, что погадки накапливались не равномерно во все годы наблюдения, а лишь в годы успешного гнездования филина, соответствующие периодам высокой численности их кормовых объектов. 30-40-е годы пришлись на высокую численность белки и зайца-беляка, которые и преобладали (среди млекопитающих) в пробах питания. В конце ХХ-го века самым успешным для гнездования был 1989 год, когда белки было мало (доля в составе добычи 2,7 %), но зато наблюдалась высокая численность лесного лемминга и ряда видов полевок. Многолетние данные отловов грызунов разными способами показали, что в целом в лесных биотопах района среди грызунов преобладают красная и рыжая полевки, при периодических вспышках численности лесного лемминга [Закономерности… 2000]. В остатках питания филина доминировали лесной лемминг, темная, водяная и красно-серая полевки (доля каждого вида среди млекопитающих более 10 %).
В субфоссильном образце доминировали остатки белки (29 %), примерно в равных долях (по 8-11 %) были представлены остатки водяной, темной, полевки экономки, лесного лемминга. Полевки трех видов рода Clethrionomys в сумме составили 13 %.
Таким образом, в элементарном образце причудливо отразилась картина динамики населения, через механизм накопления остатков не во все годы, а преимущественно в годы высокой численности животных, способных обеспечить успешное гнездование хищника. Поскольку за время накопления элементарного образца случаются периоды вспышек численности разных видов, происходит усреднение облика локального населения в орикгоценозе.
Следующий уровень в алеалогическом исследовании, после описания элементарных образцов, элементарных фаун и ориктоценозов, — выделение и описание более общих единиц Это локальные фауны и соответствующие им локальные ориктоценозы. В основе процедуры выделения локальной фауны — обобщение нескольких элементарных образцов, которые могут происходить из одного разреза или разных, но синхронных, расположенных в одной местности; сходное определение предложили ранее Р. Грэхем и Х. Семкен [Graham, Semken 1987]. В пределах одной локальной фауны может наблюдаться динамика определенного уровня. Необходимо специально рассмотреть, какие вариации элементарных фаун следует считать происходящими в пределах одной локальной фауны, и как определить границы перехода состояния населения территории на новый качественный уровень, чтобы фиксировать смену одной локальной фауны на другую.
Если локальная фауна за столетия и тысячелетия претерпевает лишь обратимые флуктуации относительной численности отдельных видов, не создающие устойчивых трендов, приводящих к смене доминантов, и при этом сохраняется ее видовой состав, то такую динамику следует относить к актуальному масштабу. В отличие от процессов более высокого уровня, такую динамику далее будем называть изменениями. Пример изменений примерно за тысячелетний промежуток времени, прослеженных в пределах одного слоя на выборках очень большого объема, можно видеть в таблице 7.
Когда динамика состава фауны и структуры приобретает определенную устойчивую направленность, то можно говорить о смене в историческом масштабе. Ее результат — такой сдвиг относительной численности видов, который приводит к смене характерных черт конкретной локальной фауны, когда ее уже нельзя считать прежней и необходимо признать смену одной локальной фауны (и соответствующего ей ориктоценоза) на другую. Как во всяком непрерывном процессе, провести линейную границу между той и другой фауной бывает трудно. Конечную стадию процесса удобно фиксировать по смене доминирующих по относительной численности видов. К сменам в историческом масштабе предлагается относить не все случаи динамики со сменой доминантов, а только такие, когда доминанты меняются в пределах одного зонального типа, и кардинального изменения видового состава еще не наблюдается. Можно выделить два уровня смен локальных фаун — начальный и продвинутый.
Таблица 7. Доли видов и число щечных зубов грызунов в условных горизонтах 21–28 слоя 10 грота Расик [Фадеева, Смирнов и др. 2000] (%)
В качестве примера первого можно привести динамику состава фауны и структуры населения грызунов в позднем голоцене, прослеженные на материалах навеса Бажуково на Среднем Урале. Отложения в этом навесе вскрывались условными горизонтами по 5 см. На рис. 1 видно, что на изученном отрезке времени видовой состав остается постоянным. Наблюдается устойчивый тренд сокращения относительной численности полевок рода Clethrionomys и возрастание доли водяной полевки. Но поскольку общий южнотаежный зональный облик фауны сохраняется, а меняется лишь соотношение относительной численности зональных таежных видов и азональных обитателей лугов, то можно сделать вывод о том, что наблюдаемая динамика относится к начальному этапу исторических смен локальной фауны.
Другой пример демонстрирует продвинутый уровень исторической смены локальной фауны. На рис. 2 показана динамика состава фауны и структуры населения мелких млекопитающих, прослеженная по 5 слоям поздневалдайских отложений в гроте Бобылек [Смирнов 1993]. Верхний слой 2а имеет радиоуглеродный возраст 14 200 лет, а дата для слоя 3 — более 33 тыс. лет. На всем представленном отрезке разреза локальная фауна соответствует одному зональному типу. Это гиперборейная фауна, в которой копытные и сибирские лемминги соседствуют со степной пеструшкой и узкочерепной полевкой. Тем не менее, от слою к слою заметны сдвиги не только долей остатков видов разных групп, изменяется и видовой состав, в верхней части отложений ее характеристики ближе к типичной гиперборейной подзоне, а в нижних слоях нарастает доля лесных и луговых элементов, уменьшается роль степной пеструшки; узкочерепная полевка теряет доминирующее положение, исчезает ряд видов, типичных для аридных местообитаний, и наоборот, появляются мыши, белка и обыкновенный хомяк, которых не было в верхних слоях.
Региональный комплекс — это совокупность одновременных локальных фаун, характеризующая более широкий географический район.
Процедура перехода от изучения локальных фаун к региональному комплексу зависит от степени насыщенности материалом изучаемого отрезка времени и количества исследованных местонахождений на исследуемой территории: она будет описана ниже.
Кроме рассмотренных смен и изменений, локальные и региональные фауны мелких млекопитающих в позднем плейстоцене и голоцене проходили стадии динамики большего масштаба — эволюционного. Они связываются с преобразованием в другой зональный тип. Критериями такого преобразования могут служить смена видов-доминантов (если они относятся к разным зональным группам) и существенное изменение видового состава.
Кроме хорошо известных современных зональных комплексов, сложившихся в результате развития фаун в голоцене, в позднем плейстоцене существовали фауны, в отношении зональной принадлежности которых единого мнения нет. Разные точки зрения на этот предмет были рассмотрены нами недавно в специальной работе [Смирнов 2001], а здесь больше внимания будет уделено преобразованиям сообществ позднего валдая в голоценовые и современные.
Имеется два подхода к пониманию сути зонального распределения биоты в позднем валдае: 1) оно понимается как мозаика современных биотопов из разных зон, в результате чего формируется смешение черт современных зональных комплексов (тундростепь); 2) принимается своеобразие зоны, которую невозможно свести к «гибриду» зон, существующих ныне.
Назрело введение нового названия для плейстоценового зонального комплекса, который не имеет прямых современных аналогов, дисгармоничен с точки зрения современных зональных сообществ и обладает рядом черт как степного, так и тундрового комплексов, знаковым видом среди крупных млекопитающих в нем является мамонт, среди мелких — копытный лемминг. Этот комплекс занимал большую часть поздневалдайской гиперзоны, то есть северной (бореальной) части Евразии, что делает привлекательным обозначить его как «гиперборейный» [Смирнов 2001].
Рассмотрим зональное распределение фаун млекопитающих позднего валдая на примере востока Урала и положение гиперборейной зоны на этой территории относительно других зон. Самым северным был поздневалдайский арктический комплекс, он отличался бедным составом и максимально упрощенной структурой. Среди мелких млекопитающих резко преобладал копытный лемминг Dicrostonyx guilielmi. Например, в местонахождении Пымва-Шор (западное Предуралье, широта 67° с.ш.), среди нескольких тысяч зубов из разных горизонтов, доля копытного лемминга составила 90–95 %, сибирского 5-10 %, а узкочерепной полевки — единицы процентов. Основные свойства этого комплекса были обусловлены не только низкими температурами, но и большей сухостью климата. Среди крупных млекопитающих заметно преобладали северный олень, овцебык и лошадь; из них первые два вида, безусловно, можно отнести к зональным. Мамонт и бизон также встречались, но их, как и лошадь, скорее следует отнести к группе экстразональных, так как их массовые находки и, вероятно, основной ареал находятся южнее. Комплекс был распространен к югу от края ледника и побережья океана на севере, его южная граница проходила между 63 и 65°с.ш.
На рисунке 3 изображена динамика состава и структуры населения грызунов в позднем валдае и голоцене, реконструированная на основе исследования 16 элементарных образцов из карстовых полостей Полярного Урала и гряды Чернышова [Смирнов, Андреичева и др. 1999; Smirnov, Golovachev А 999; Головачев 1998; 1999; 2000]. Всего при построении этой диаграммы было изучено более 10 тысяч щечных зубов грызунов. На диаграмме видно, что для этого региона единственное эволюционное преобразование фауны произошло примерно через тысячу лет после плейстоцен-голоценового рубежа и было очень резким. Ему предшествовали смены внутри арктического комплекса, исторического масштаба, — от абсолютного доминирования копытного лемминга в позднем валдае, с нарастанием долей сибирского лемминга и узкочерепной полевки к позднеледниковью. Уже примерно 8 тысяч лет назад полностью сформировался субарктический комплекс, в котором видовое богатство выросло в три раза. Доминанты сменились до такой степени, что в середине голоцена таковым стала красносерая полевка при почти полном исчезновении леммингов из состава комплекса. Позднее, в течение последних 4 тысяч лет, снова стали расти доли зональных тундровых видов: леммингов, узкочерепной полевки и полевки Миддендорфа, но едва ли следует считать, что произошло второе преобразование эволюционного уровня. Хотя произошла новая смена доминантов, которыми снова стали упомянутые зональные тундровые виды, но лесные виды в качестве экстразональных в составе фауны сохранялись, и комплекс в целом на протяжении всего голоцена имел лесотундровый облик.
Гиперборейный комплекс млекопитающих был распространен там, где сейчас находится вся зона тайги, зона смешанных лесов и лесостепь. Главным свойством этого комплекса было большое видовое разнообразие, достигающее максимума в центральной части зоны. К зональным видам гиперборейного комплекса можно отнести мамонта, шерстистого носорога, пещерного медведя, лошадь. Большинство из них вымерли вместе с исчезновением гиперборейной зоны и распадом комплекса. Среди мелких млекопитающих едва ли можно назвать хотя бы один вид, свойственный только этой зоне, — то есть, все они были полизональными. Совместное присутствие в этом комплексе видов, ныне обитающих в тундре, степи и полупустыне, безусловно, является следствием своеобразия климата. Определяющее его свойство — большая сухость при низких зимних и умеренных летних температурах. Комплекс не был однородным; выделяются как минимум три подзональных варианта. Комплекс северной гиперборейной подзоны был через переходную полосу связан на севере с поздневалдайской арктической зоной. Самые северные местонахождения, которые можно отнести к этому варианту гиперборейного комплекса, известны с верховьев Печоры (Медвежья и Студеная пещеры, 62° с.ш.), но, вероятно, они могут быть обнаружены и севернее, на 63–64° с.ш. Южная граница этой подзоны проходит примерно по 60° с.ш. Ядро населения мелких млекопитающих в этой подзоне составляли позднеплейстоценовый копытный и сибирский лемминги, хотя первый заметно преобладал; в локальных фаунах сумма их остатков превышала 60 %. Обилие копытного лемминга сближает описываемый комплекс с тундровым. Однако он отличается от последнего большим видовым богатством, присутствием степной пищухи, большим участием узкочерепной полевки и экономки, а также редкими находками степной пеструшки и полевок рода Clethrionomys. Среди крупных млекопитающих в этой подзоне наиболее массовыми были северный олень, овцебык и лошадь, при заметном количестве пещерного медведя, мамонта и бизона. Переход к голоцену на севере распространения гиперборейного комплекса был не столь резким, как в Арктике, и пока еще не достаточно материалов для того, чтобы охарактеризовать его с необходимой подробностью.
Комплекс типичной гиперборейной подзоны известен по многим местонахождениям Северного и Среднего Урала, от 60° до 56° с.ш. На рисунке 4 показаны доли основных видов в его составе на примере региональной фауны западного склона Среднего Урала. Для этого комплекса характерно высокое видовое разнообразие, при доминировании узкочерепной полевки (30–40 %). Вместе с копытным леммингом эти два вида составляли основу подзонального комплекса. Степная пеструшка, экономка и сибирский лемминг в разных локальных фаунах занимают также весьма заметное место. В локальных фаунах по всей подзоне устойчиво встречаются темная и водяная полевки, красная и красно-серая полевки, серый хомячок, степная пищуха. На контакте с южной подзоной известны единичные находки тушканчиков и желтой пеструшки; это явно экстразональные элементы, проникающие с юга. Среди крупных млекопитающих в этой подзоне встречались шерстистый носорог, пещерный медведь, мамонт, лошадь, северный олень, бизон и реже овцебык.
Региональная динамика этого комплекса, которая к нашему времени привела к формированию современного комплекса мелких млекопитающих, характерных для южной тайги с преобладанием лесных полевок и заметной долей полевок надвида обыкновенной полевки. Эта динамика прослежена на основании обобщения данных по 15 хроносрезам (рис. 4). Для характеристики были привлечены данные по 40 элементарным образцам, с общим числом щечных зубов мелких млекопитающих более 100 тысяч [Смирнов 1992; 1993; 1995; Фадеева, Смирнов и др. 2000].
Всю прослеженную динамику можно разделить на два крупных этапа. Переход от одного к другому, как ни странно, проходит не по рубежу плейстоцена и голоцена, а приурочен к началу голоценового оптимума (около 7,5 тыс. лет). Именно здесь можно провести эволюционный рубеж в преобразовании регионального комплекса мелких млекопитающих. В течение всего первого этапа видом доминантом в ориктоценозах была узкочерепная полевка, уступившая на втором этапе роль доминанта лесным полевкам. Внутри первого этапа можно выделить три фазы развития, которым следует придать статус исторических смен. Эти фазы выделяются по смене субдоминантов. На первой фазе (16–14,5 тыс. лет) второе и третье место по относительной численности занимали копытный лемминг и степная пеструшка. На второй (14,5-11 тыс. лет) роль степной пеструшки в составе орикгоценоза резко сократилась, а копытный лемминг в середине этой фазы вышел на место содоминанта с узкочерепной полевкой. Далее его относительная численность резко сокращалась, и с плейстоцен-голоценового рубежа до середины голоценового оптимума его присутствие в составе ориктоценозов было едва уловимо. Третья фаза может быть обозначена как фаза деградации гиперборейного комплекса. Она продолжалась примерно до 7,5 тыс. лет. В ее начале узкочерепная полевка была сверхдоминантом (доля ее остатков превосходила 60 %), но затем, примерно за 2 тысячи лет она сократилась до 20 %. Степная пеструшка, как и ряд других видов из состава гиперборейного комплекса (сибирский лемминг, серый хомячок, степная пищуха) еще встречались, но, как и копытный лемминг, перешли в категорию редких видов.
С переходом ко второму (лесному) этапу развития региональный комплекс претерпевал несколько исторических смен. Сначала в нем доминировали зональные таежные виды с небольшой примесью экстазональных (степных), а затем азональных (луговых). Всплеск относительной численности Microtus arvalisможно трактовать как следствие развития агроландшафтов.
Комплекс южной гнперборейной подзоны обнаружен во многих пещерах горной части Южного Урала [Историческая экология… 1990]. Его северная граница совпадает с южным краем типичной подзоны, а южная — требует уточнения. Наиболее вероятно, она проходит на Урале по 52° с.ш. Для этого подзонального варианта гиперборейного комплекса на региональном уровне характерно резкое доминирование узкочерепной полевки (до 70 %), обилие экономки и степной пеструшки, при постоянном присутствии серого хомячка и копытного лемминга (до 10 %) и реже — сибирского лемминга. В составе регионального варианта комплекса отмечены также хомячок Эверсманна, два вида тушканчиков и два вида сусликов, степная пищуха, а на восточном склоне слепушонка. С его распадом в нижних поясах гор Южного Урала сформировался к современности южнотаежный комплекс, с примесью элементов европейских широколиственных лесов (желтогорлая мышь и садовая соня).
Фауны лесостепного, степного или полупустынного комплексов в позднем плейстоцене не имели в своем составе ни копытных, ни сибирских леммингов, а другие виды мелких млекопитающих — почти все общие с южным вариантом гиперборейного комплекса. Они известны в Предуралье, Зауралье и Западной Сибири [Зажигин 1980; Малеева, Стефановский 1988; Кузьмина, Смирнов и др. 2001; Кузьмина 2002]. В полевом сезоне 2002 года нами совместно с Е. А. Кузьминой и А. И. Улитко в Южном Зауралье, на междуречье рек Урал и Большой Кизил, были раскопаны отложения поздневалдайского и голоценового возраста в пещере Сыртинская с массовым остеологическим материалом и по крупным, и по мелким млекопитающим. На рисунке 5 приведены предварительные данные о динамике сообществ мелких млекопитающих Южного Зауралья в пределах современной степной зоны, полученные на базе обобщения сборов из 14 элементарных образцов, 4 местонахождений. Общее количество исследованных щечных зубов около 15 тыс. Первый хроносрез охарактеризован по материалам из условного горизонта 15 пещеры Сыртинская.
По составу доминатнов эту фауну (рис. 5, 1) можно назвать лагурусно-эолагурусной, а узкочерепная полевка занимает в ней по относительной численности третье место; ее следует отнести к типу фаун сухих степей и полупустынь. На плейстоцен голоценовом рубеже кардинальной трансформации фауны не наблюдается. В интервале от 10 до 8 тыс. лет происходит заметное сокращение доли остатков желтой пеструшки, небольшое уменьшение доли степной пеструшки и рост относительной численности слепушонки, обыкновенного хомяка, обыкновенной полевки. Узкочерепная полевка увеличивала относительную численность вплоть до 5 тыс. лет. На протяжении почти всего голоцена региональную фауну можно называть грегалисно-лагурусной, и только в историческое время она трансформируется в грегалисно-арвалисную. Весь комплекс имеющихся материалов позволяет предположить, что в южно-зауральском регионе процесс преобразования фауны мелких млекопитающих позднего валдая растянулся почти на весь голоцен и только к нашему времени достиг эволюционного уровня. Дальнейшие исследования в этом регионе должны уточнить масштабы динамики на отдельных хроносрезах.
В позднеплейстоцен-голоценовой динамике состава фаун и структуры населения грызунов на разных широтах Урала прослеживаются процессы трех масштабов актуального, исторического и эволюционного.
Преобразования эволюционного масштаба сильно варьируют по хронологической протяженности; они могут проявляться как резкий скачок (от одной-двух тысяч лет) или быть растянуты (более десяти тысяч лет).
Смены исторического масштаба, условно подразделяемые на начальный и продвинутый уровни, по хронологической протяженности также существенно неоднородны. Их отдельные фазы с сохранением тренда определенного направления могут длиться в течение нескольких тысяч лет, но могут быть и существенно короче — всего несколько столетий.
Изменения актуального масштаба постоянно «вложены» в динамику большего масштаба, и разграничить их можно только по результатам и в исторической перспективе.
В подготовке данной работы принимали участие многие коллеги и ученики автора, и всем им автор приносит свою сердечную благодарность. Особенно хотелось бы выделить роль И. Б. Головачева, Е. А. Кузьминой, С. С. Трофимовой, Г. В. Быковой, А. И. Улитко и Н. О. Садыковой. Каждый из них по-своему помог автору на разных этапах сбора и подготовки материалов и оформлении рукописи. Работа выполнена при поддержке грантов: РФФИ 02-04-49181, и Российско-Нидерландского проекта по исследованию плейстоцен-голоценового перехода. Радиоуглеродные (АМ8) — датировки были получены благодаря поддержке гранта EAR-9018958 (by National Science Foundation).
Астафьев А. А., Нейфельд Н. Д. Род Bubo, филины // Фауна европейского Северо-Востока России. Птицы. Т.1.4.2. СПб., 1999.
Головачев И. Б. Голоценовые грызуны из грота «Зверобой» на Полярном Урале // Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии. Екатеринбург, 1998.
Головачев И. Б. Новые данные по динамике фауны грызунов Полярного Урала в голоцене (местонахождения Янгана-Пэ-3, Наун-Пэ) // Развитие идей академика С. С. Шварца в современной экологии. Екатеринбург, 1999.
Головачев И. Б. История фауны грызунов Приуральской Субарктики в голоцене // Биосфера и человечество. Екатеринбург, 2000.
Громов ИМ. Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорий Крыма. М., 1961.
Завадский К. М., Колчинский Э. И. Эволюция эволюции. Л., 1977
Зажигин B. C. Грызуны позднего плиоцена и антропогена юга Западной Сибири. М.: Наука, 1980.
Закономерности полувековой динамики биоты девственной тайги Северного Предуралья / Бобрецов А. В., Бешкарев А. Б., Басов В. А., и др. Сыктывкар, 2000.
Историческая экология животных гор Южного Урала / Смирнов Н. Г., Большаков В. Н.… Косинцев П. А. и др. Свердловск, 1990.
Кузьмина Е. А., Смирнов Н. Г., Каурова Т. П. Фауны грызунов Южного Зауралья в позднем плейстоцене-голоцене // Современные проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии. Вып.2. Материалы конф. Екатеринбург, 2001.
Кузьмина Е. А. Ископаемые млекопитающие из карстовых полостей Южного Зауралья // Биота горных территорий: история и современное состояние. Материалы конф. Екатеринбург, 2002.
Кузьмина Е. А., Головачев КБ. Позднеголоценовые грызуны из местонахождения Янгана-Пэ-4 на Полярном Урале // Развитие идей академика С. С. Шварца в современной экологии. Материалы конф. Екатеринбург, 1999.
Общие методы изучения истории современных экосистем. М., 1979.
Разумовский С. М. Закономерности динамики биогеоценозов. М.: Наука, 1981.
Смирнов Н. Г. Мелкие млекопитающие Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург, 1993.
Смирнов Н. Г. Материалы к изучению исторической динамики разнообразия грызунов таежных районов Среднего Урала // Материалы по истории современной биоты Среднего Урала. Екатеринбург, 1995.
Смирнов Н. Г. Зональное распределение млекопитающих в позднем валдае на Урале // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: ГЕОС, 2001.
Смирнов Н. Г., Андреичева JT.H., Корона О. М. и др. Материалы к характеристике биоты Приуральской Субарктики в голоценовом оптимуме // Биота Приуральской Субарктики в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург, 1999.
Смирнов Н. Г., Ерохин Н. Г., Быкова Г. В. и др. Грот Сухореченский — памятник истории природы и культуры в Красноуфимской лесостепи // История современной фауны Южного Урала. Свердловск, 1992.
Фадеева Т. В., Смирнов Н. Г., Косинцев П. А. и др. Мелкие млекопитающие многослойного местонахождения костных остатков в гроте Расик (Пермское Прикамье) // Биосфера и человечество. Екатеринбург, 2000.
Частные методы изучения истории современных экосистем. М., 1979.
Чернов Ю. И. Природная зональность и животный мир суши. М.: Мысль, 1975.
Graham RW., Semken A. S. Philosophy and Procedures for Paleoenvironmental Studies on Quaternary Mammalian Faunas. In: Late Quaternary Mammalian Biogeography and Environments of Great Plains and Prairies // Eds. R. W. Graham, H. A. Semken, MA.Graham. Illinois StMuseum Sci.Papers. Vol. XXII. 1987. P. 1–17.
Late Pleistocene distribution and diversity of mammals in Northern Eurasia (PA-LEOPHAUNA Database) // Paleontologia I Evolucio. V. 28–29. 1995.
Lyman, R. Lee. Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. 1994. 524 pp.
Smirnov N. G., Golovachev IB. Holocene history of small mammals in the Urals // The Holocene History of the European Vertebrate Fauna — Modern Aspects of Research. Berlin, 1999. / Archaeologie in Eurasien. Band 6. P. 209–221.
Stafford T. W., Semken H. A., Graham R W, Klippel W. F., Markova A., Smirnov N. G., Southon J. First accelerator mass spectrometry 14-C dates documenting contemporaneity of nonanalog species in late Pleistocene mammal communities // Geology. 1999. V. 27. N. 10. P. 903–906.
The report contains typology of dynamic processes within Late-Cenozoic mammal communities paying special attention to those suitable for examination based on paleontological [fossil] remains. Exemplified by the studies of the Late-Pleistocene and Holocene mammals, the author outlines the problems and approaches to solve them in the course the studies performed within the field of junction of paleontology, taphonomy, dynamics of the living populations and ecosystems; the author names this direction of studies as aleology.
The report deals with chronological parameters of the subjects examined by aleology as elementary sample, elementary fauna, elementary oryctocenosis. Rates of accumulation of loose fossiliferous deposits in karst cavities are estimated. Some examples of studies carried out on the sites of the late-Cenozoic mammals from the tundra, taiga and steppe zones are discussed, being accompanied with interpretations of the term «local fauna» and principles used to distinguish different groups of the species within a local fauna. Concepts [notions] of regional and zonal complexes for the Late Pleistocene and Holocene periods are given, and some examples of their dynamics discussed.
Часть II
Палеоэкономические модели и биологические аспекты изучения археозоологических материалов
А. К. Агаджанян
Млекопитающие позднего плейстоцена Северо-Западного Алтая в условиях активности древнего человека
1. Введение
Вениамин Иосифович Цалкин — крупнейший отечественный археозоолог, много сделавший для изучения крупных млекопитающих и ранней истории становления человеческого общества. Он был одновременно прекрасным морфологом и тонким натуралистом. Кроме того, он был знатоком российской истории и культуры и, в частности, летописных документов. Все это делало его работы по анализу фауны млекопитающих из археологических памятников особенно интересными. На его работах по древним [Цалкин 1956; 1970] и современным [Цалкин 1950; 1951; Гептнер, Цалкин 1947] млекопитающим воспитывалось целое поколение отечественных палеонтологов и зоологов. В своих исследованиях В. И. Цалкин стремился реконструировать состав и структуру сообществ домашних и диких млекопитающих, восстановить природную обстановку, в которой они существовали, понять их роль и место в истории становления человеческого общества, определить роль и место самого человека в биоценозах недавнего прошлого.
Эти задачи актуальны и в настоящее время. Сегодня, в условиях бурного развития хозяйственной деятельности человека и усиления техногенного пресса на природные комплексы, чрезвычайно важным является определить вектор естественных преобразований природной среды, выявить и оценить воздействие на них человека и возможные последствия. Решению этих задач способствует изучение млекопитающих из археологических памятников. В настоящее время оно широко применяется как для целей палеонтологии, так и археологии. Еще в 30-тые годы были опубликованы работы И. Г. Пидопличко, посвященные итогам изучения мелких млекопитающих палеолитических стоянок Приднепровья [Пидопличко 1929; Пидопличко 1934; 1936а; 19366; 1938; 1940]. Позднее исследование палеолитических памятников, как правило, сопровождалось изучением фауны млекопитающих, в том числе и мелких [Громов 1953; 1961; Александрова, Цейтлин 1965; Сукачев, Громов, Бадер 1966; Громов, Фоканов 1980; Агаджанян 1982]. Аналогичные исследования проводятся также в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Франции [Janossy 1963; 1964; 1970; 1976; Kowalski 1990; Kowalski, Nadachowski 1982; Bzebik-Kowalska 1982; Koenigswald 1974; Sych 1982; Tobien 1971; Heller \91\\Fejfar 1971; Storch 1973; Chaline 1972].
Изучение млекопитающих из палеолитических памятников Алтая осуществляется на протяжении многих лет при раскопках, которые выполняет Институт археологии и этнографии Сибирского Отделения РАН под руководством академика А. П. Деревянко.
Настоящее исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 02-04-48458.
2. Материал, вопросы методики
Район исследований расположен в западной части Горного Алтая и приурочен к среднему и верхнему течению р. Ануй (рис. 1). С востока он ограничен бассейном р. Катунь, с запада — бассейном р. Чарыш. Геоморфологически он представляет собой эрозионно-денудационное низкогорье и среднегорье с перепадами высот от 500 до 2300 м. Здесь хорошо выражена высотная зональность. Основная часть склонов занята горно-таежными лесами. По долинам рек преобладают лугово-степные ассоциации. На высотах более 1700 м распространены сообщества нивального типа.
Объектом изучения служили остатки млекопитающих, прежде всего мелких, из отложений палеолитических памятников а) пещерного (закрытого) и б) покровноделювиального (открытого) типов. К первым из них относятся Денисова, Каминная, Усть-Канская пещеры, ко вторым — Усть-Каракол, Ануй-2, Ануй-3 и др. В данной работе будут рассмотрены лишь два-Денисова пещера и Усть-Каракол.
Отложения пещер, скальных ниш и гротов — один из наиболее изученных типов тафоценозов. Коллектором костей в этом случае являются карстовые воронки, со дна которых остатки животных переносятся водами на большую глубину и консервируются в известняках материнской породы. На дне воронок обычно бывает повышенная влажность и, как следствие этого, богатая травянистая растительность. Это привлекает сюда самых разных млекопитающих. Кроме того, в образующихся кавернах известняка находят для себя укрытие пищухи, мелкие хищники и птицы. Последние в помете и в погадках приносят дополнительное количество костей насекомоядных и грызунов с прилежащих территорий. Дальнейшее перемещение костных остатков вглубь отложений носит характер постепенного проседания грунта, заполняющего щель. Это приводит к тому, что в карстовых местонахождениях палеонтологический материал характеризуется очень хорошей сохранности и высокой концентрацией остатков. В таких захоронениях масса костей часто превышает массу вмещающей породы. Иногда в карстовых танатоценозах пещер концентрация материала происходила и при участии человека, который мог по разным причинам привлекать сюда млекопитающих или приносить их остатки.
Изучение млекопитающих с открытых стоянок древнего человека проводится в России также довольно давно. Стали классическими работы И. Г. Пидопличко [1935; 1938; 1940 и др.], И. М. Громова [1953; 1957; 1961], В. И. Цалкина [1956; 1970]. К настоящему времени подобные исследования выполнены для многих крупных палеолитических стоянок Евразии.
На равнинах Евразии большинство палеолитических памятников открытого типа связано с покровными отложениями, в горах юга Сибири, на Алтае — с делювиальными. Первые из них представлены преимущественно лессами и ископаемыми почвами. Для большинства мелких млекопитающих это первичный субстрат, на котором протекала основная часть их жизни. Горизонты ископаемых почв от плиоцена до голоцена прекрасно сохраняют следы ходов и нор землероев: кротов, сусликов, сурков, слепышей, слепушонок, песчанок, различных полевок, и т. д. После гибели зверька на поверхности почвы или в норе его тушка подвергалась погребению и на месте претерпевала фоссилизацию. В силу этого в лессовых толщах и почвах костные остатки расположены очень дисперсно. Это единственный тип тафоценозов, который содержит кости млекопитающих в первичном захоронении. Костные остатки из нор отличает очень хорошая сохранность и комплектность: в отдельных случаях удается собрать почти полностью скелет одного зверька. В горных условиях покровные отложения замещаются делювиальными, при переходе от выровненных элементов рельефа к склонам. Делювиальные и солифлюкционные отложения также почти всегда содержат кости млекопитающих. Сохранность костей очень хорошая, не редко можно найти целые нижние челюсти и даже фрагменты черепов. Однако концентрация материала обычно довольно низкая.
Однако наиболее важным фактором появления остатков мелких животных на открытых памятниках, по-видимому, являлась хозяйственная деятельность человека. Привлеченные остатками охотничьей добычи, костями, кусками шкур, рогами у стоянок собирались мелкие грызуны, куньи, насекомоядные. Последних могла приманивать также повышенная численность крупных насекомых-копрофагов и некрофагов. Под защитой человека поселялись суслики и пищухи. Они могли использовать земляной фундамент человеческого жилья для устройства собственных нор. В современной Чукотской тундре, например, суслики появляются постоянно даже у временных полевых стоянок геологов, охотников, оленеводов. Это позволяет им спокойно выходить из нор, не опасаясь нападения хищных птиц, Опыт показывает, что суслику для того, чтобы осознать выгоду человеческого соседства, достаточно 10–12 дней. Работая в поле, не раз приходилось убеждаться, что эту выгоду быстро постигают и используют бурундуки, лесные мыши, серые полевки, кедровки, сороки и т. д. На Алтае, в Якутии, на Чукотке пищуха, как правило, заселяет заброшенные постройки в тайге или землянки охотников в тундре. По-видимому, аналогичные явления имели место и на палеолитических стоянках. Кроме того, на всех палеолитических стоянках Десны, Днепра, низовьев Дона отмечается повышенное количество костей сурка. На стоянке Каменная Балка в Приазовье, например, большинство костей грызунов размерного класса суслик-сурок несут следы обжига. Несомненно, эти виды грызунов были, также как и крупные млекопитающие, объектом целенаправленной охоты, дававшей достаточно мяса и хороший мех. Широкое употребление сурка в пищу подтверждают материалы, например, по палеолитическим стоянкам Франции [Ра1оп 1987].
Наконец кости мелких млекопитающих попадали на стоянки с погадками хищных птиц и экскрементами собак, песцов, волков, сопровождавших человека. В современной тундре или в казахстанской степи хищные птицы охотно и регулярно используют сооружения покинутых стойбищ в качестве приездов. Здесь всегда можно найти большое количество погадок. Сходным образом в условиях открытой тундростепи валдайского времени возвышающиеся заброшенные жилища древнего человека привлекали сов, канюков и других хищников.
Таким образом, механизмы формирования остеологических материалов и информационные свойства памятников открытого и закрытого типов имеют как сходство, так и различия. Первые из них имеют ясную литостратиграфическую позицию, их возраст достаточно легко устанавливается в череде палеогеографических событий плейстоцена. Но костный материал таких местонахождений редок и характеризуется плохой сохранности. Осадки карстовых полостей, напротив, могут сопоставляться с палеогеографическими событиями изучаемой территории лишь опосредовано, но костный материал из этих местонахождений многочисленный и имеет хорошую сохранность. Совершенно очевидно, что для решения задач археозоологии и палеолитоведения оптимальным является комплексное изучение открытых и закрытых памятников. Именно такой подход был реализован при изучении памятников палеолита в бассейне Ануя на Алтае.
Сбор и определение всех остатков животных из отложений палеолитических памятников в бассейне Ануя проводится с первых этапов их изучения [Ивлева 1990; Оводов, Ивлева 1990; Деревянко, Маркин 1992; Жермонпре 1993; Деревянко, Молодин 1994; Васильев, Гребнев 1994; Агаджанян 1998; 1999; Агаджанян и др. 1999; Агаджанян, Шуньков 1999; 2001; Деревянко и др. 1998; 1999\Шуньков, Агаджанян 2000]. Весь грунт, извлекаемый при раскопках, после перебора его руками и предварительной мацерации в воде промывался на ситах с размером ячеи 1 х 1 мм. Общее количество определенных костей мелких млекопитающих составляет десятки тысяч экземпляров.
3. Результаты
3.1. Структура современной фауны млекопитающих бассейна Ануя
От биоценоза к танатоценозу
Бассейн Ануя в настоящее время представляет собой природную территорию, хорошо освоенную человеком. Вне хозяйственного использования находятся практически лишь гольцовые участки хребтов. Однако в силу специфики жизненного уклада населения Горного Алтая, эксплуатация природных ресурсов еще не привело к серьезным нарушениям биоценотической структуры региона. Это обуславливает экологическую гармонию человека и природы и сохраняет почти в первозданном виде многие природные комплексы. Район, таким образом, является идеальным полигоном для выявления индикаторных сообществ мелких млекопитающих и моделирования природной обстановки прошлого.
Животное население крупных млекопитающих представлено здесь только домашним скотом — овцами и лошадьми, а также преимущественно молочными породами коров. Склоны гор, занятые разнотравьем, эксплуатируются как пастбища, а в пологой их части — как сенокосные угодья. Умеренная эксплуатация угодий обеспечивает сохранение пастбищ, растительный покров которых мало отличается от естественных лугов. По-видимому, общий облик современной биоты открытых склонов можно считать близким к раннеголоценовому, когда основное население крупных млекопитающих составляли: лошадь Equus caballus, марал Cervus elaphus moral, первобытный зубр Bison priscus, и мелкие полорогие Ovis & Capra.
Наиболее своеобразно состояние таежного комплекса животных в бассейне Ануя. В Солонешенском районе Алтайского края РФ, на территории которого находится Денисова пещера, и в соседнем Усть-Канском районе Республики Алтай, как и по всему Северо-Западному и Центральному Алтаю, одна из ведущих отраслей сельского хозяйства — пантовое мараловодство. Сотни квадратных километров таежных склонов изъяты из обычного землепользования и находятся в ведении мараловодческих хозяйств. На этих площадях поддерживается очень строгий режим охраны животных. И хотя эти территории находятся формально в хозяйственном обороте, фактически их растительность и животное население очень близко естественным природным комплексам таежной зоны Горного Алтая. Преобладает здесь, как и на протяжении всего позднего плейстоцена и голоцена, марал Cervus elaphus maral. В настоящее время это — самый крупный и самый массовый вид травоядных алтайской тайги от долины Чарыша на западе до Абакана на востоке. Второй обычный вид бассейна Ануя — косуля Capreolus pygaigus. Он отмечен нами на склонах в лиственнично-березовых лесах у Денисовой пещеры и по долине р. Шинок, в подобных биотопах у Каминной пещеры и в лиственничных лесах по долине р. Тюмечин. Эго характерный элемент таежной зоны Горного Алтая. Третий представитель травоядных — кабарга Moschus moschiferus. Места ее обитания приурочены к выходам горных пород к скалам и каменным навесам. Из диких полорогих в современной фауне Ануя встречается лишь сибирский козел Capra sibirica. Правда в районе Денисовой пещеры и по р. Каракол он достаточно редок. Места обитания этого вида — выходы горных пород на открытых остепненных склонах, подвершинные части хребтов.
Из крупных хищников самым обычным в бассейне Ануя является волк Canis lupus. Типичный представитель таежной фауны Горного Алтая медведь Ursus arctos в бассейне Ануя достаточно редок. На территории менее освоенной в хозяйственном отношении, например, в районе Телецкого озера, этот вид в настоящее время очень обычен. Повсеместно на облесенной территории обитает барсук Meles meles. Из мелких куньих самыми обычными являются соболь Martes (Martes) zibelina L и куница Martes (Martes) martes L. В поймах рек и на каменных россыпях живут горностай Mustela erminea L. и ласка Mustela nivalis L. Ocтепненные участки террас с поселениями сусликов занимает хорь Mustela (Putorius) eversmanni Lessoa Обычным является колонок Mustela (Kolonocus) sibiricus Pallas, который был пойман нами в подземном ходе цокора.
Проведенные исследования современной фауны позволили получить картину приуроченности населения мелких млекопитающих бассейна Ануя к различным типам растительных ассоциаций. В районе работ выделяются несколько типов ассоциаций: пойменно-луговые, лугово-степные, лиственнично-березовые леса, березово-сосновые леса, кедровые леса, мохово-кустарничковые субальпийские, горно-степные петрофильные, нивальные осоково-злаковые. Их территориальное распределение связано с абсолютной высотой над уровнем моря, с положением в рельефе, склоновой экспозицией, почвенным покровом и другими факторами. Каждое из перечисленных растительных сообществ обладает некоторой внутренней структурой и единством. Кроме того, каждое из них отличается только для него характерным населением мелких млекопитающих. Выделены следующие индикаторные типы населения мелких млекопитающих:
1) сообщество полевки экономки — красной (рыжей) полевки для пойменнолуговых биотопов;
2) сообщество полевой мыши — обыкновенной полевки для лугово-степных биотопов;
3) сообщество темной полевки — красной полевки для лиственничноберезовых лесов;
4) сообщество лесной мыши — красной полевки для березово-сосновых лесов;
5) сообщество красной полевки для кедровых лесов;
6) сообщество узкочерепной полевки — красной для мохово-кустарничковых субальпийских ассоциаций;
7) сообщество скальной плоскочерепной полевки для петрофитных горностепных биотопов;
8) сообщество узкочерепной полевки для осоково-злаковых растительных ассоциаций высокогорий.
Названные сообщества отличают определенный состав и численное соотношение видов мелких млекопитающих.
Наиболее многочисленной группой в современной фауне региона являются красные (или рыжие) полевки рода Clethrionomys. Так, в окрестностях Денисовой пещеры и на прилежащих территориях бассейна Ануя доминируют рыжая (красная сибирская) полевка С. rutilus Pallas. Они преобладают абсолютно, составляя 39 % пойманных зверьков, и относительно, образуя основную часть населения мелких млекопитающих в большинстве биотопов. На влажных склонах, поросших лесом, и в кедрачах эта полевка составляет до 80 % в отловах. Но даже на сухих склонах, лишенных леса, в приречных биотопах и на лугах относительное количество рыжих полевок достигает 20–30 %.
Второй по численности группой являются серые полевки рода Microtus, которые, правда, приурочены к биотопам низких и равнинных форм рельефа. Самой распространенной здесь является обыкновенная полевка Microtus arvalis Pallas, численность которой достигает 18,5 %. В пойме обитает полевка-экономка Microtus oeconomus Pallas, обнаруживая лишь около 4 % в учетах.
На сухих склонах, поросших акацией и спиреей обычны мыши Apodemus uralensis Pallas и азиатская лесная мышь Apodemus peninsulae Thomas, составляющие здесь до 30–40 % населения мелких млекопитающих. В нижней части склонов с хорошо развитым почвенным покровом регулярно встречается азиатский крот Asioscalops altaica Nikolsky.
Остальные виды мелких млекопитающих представляют в отловах менее 3 %, что однако не отражает их реальной значимости в сообществах. Так бурундук Eutamias sibiricus Laxmann очень обычен на всех высотах от поймы Ануя до подвершинных хребтов. В долине Ануя и Каракола, на пологих склонах с разреженным травостоем обитает длиннохвостый суслик Spermophilus undulatus Pallas. Периодически на участках злакового разнотравья встречается даурский хомячок Cricetulus barabensis Pallas. В биотопах с густым разнотравьем, преимущественно в пойме и на пологих склонах, отмечены два вида мышовок.: лесная Sicista betulina Pallas и алтайская Sicista napaea Hollister. На высоких террасах и пологих склонах, вплоть до лугов под вершинами хребтов, очень обычен алтайский цокор Myospalax myospalax Laxmann.
Пищуха отсутствует непосредственно в долине Ануя. Однако небольшая колония Ochotona alpina alpina Pallas отмечена по левому борту Ануйского каньона под вершиной г. Каракол. Заяц-беляк Lepus timidus L. обычен на этой территории.
Изучение современной фауны летучих мышей бассейна Ануя было начато в 2001 году. В долине р. Ануй, по долинам Каракола и ручья Пещерского, у пещеры Каминная и пещеры Музейная В. В. Росиной были отловлены следующие виды:
бурый ушан Plecotus auritus Linnaeus,
ночница Брандта Myotis brandti Eversmann,
прудовая ночница Myotis dasycneme Boie (),
водяная ночница Myotis daubentoni Kuhl (),
двуцветный кожан Vespertilio murinus Linnaeus Q,
северный кожанок Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius (),
сибирский трубконос Murina leucogaster Milne-Edwards ().
Таким образом, из 13 известных для современного Алтая видов Chiroptera, на исследованной территории к настоящему моменту установлено 7 видов. Большинство перечисленных летучих мышей в своем распространении связаны с широколиственными и/или хвойно-широколиственными лесами. Обитателем речных пойм лесной и лесостепной зон Европы, Южной Сибири, Китая и Японии является водяная ночница.
Суммируя приведенные наблюдения, можно констатировать, что в долине Ануя в настоящее время преобладают млекопитающие таежного комплекса. В окрестностях Денисовой пещеры он имеет господствующее положение как по занимаемой площади, так и по численности слагающих его видов. Меньшее значение имеют луговые сообщества. Степные ассоциации в настоящее время отсутствуют в этом районе. Однако их отдельные представители вкраплены в сообщества луговых и агрокультурных ценозов.
Такие достаточно подробные данные по видовому составу современной фауны млекопитающих долины Ануя, относительной численности отдельных видов и их приуроченности к определенным биоценозам стали сравнительной основой для изучения тафономических процессов в современных условия Северо-Западного Алтая. На протяжении последних 10 лет на стационаре «Денисова пещера» проводится сбор погадок хищных птиц экскрементов хищных млекопитающих, анализируются материалы Современных осадков многочисленных ниш, гротов, скальных щелей. Сравнение полученных результатов с данными учетов ловушками позволяет понять как изменяется видовой состав и численное соотношение фаунистического комплекса на пути от биоценоза к танатоценозу. В свою очередь это станет ключом к расшифровке информации по мелким млекопитающим из отложений палеолитических памятников.
Анализ 140 погадок коршуна показал, что первое место в его добыче занимает обыкновенная полевка — 35,5 %. Численность остальных видов значительно меньше. Длиннохвостый суслик и крот составляют около 4 % каждый. Землеройки, преимущественно Sorex araneus L., - 7 %. На долю рыжей полевки Cleîhrionomys приходится лишь 3,5 % от общего количества остатков. Около 5 % составляет цокор. Мыши и хомячок не превышают каждый 0,7 %. В погадках обнаружены остатки серой крысы Rattus norvegicus Berkenhout — 2,1 %, водяной полевки Arvicola terrestris L. - 0,7 % и обыкновенного хомяка Cricetus cricetus L. - 0,7 %. Три последних вида дополняют список современной фауны долины Ануя, установленный по учетам ловушками. Серая крыса связана с постройками человека. Водяная полевка, судя по кормовым столикам, обитает в пойме Ануя и Каракола повсеместно. Однако она везде малочисленна, что подтверждают и материалы погадок. Обыкновенный хомяк, по аналогии с другими районами Алтая, вероятно, приурочен к сельскохозяйственным угодьям.
Приведенные материалы позволяют сделать два существенных вывода. Во-первых, список современной фауны долины Ануя должен быть дополнен водяной полевкой, обыкновенным хомяком и серой крысой. Во-вторых, в погадках хищников количественное соотношение видов мелких млекопитающих не вполне соответствует их количественному соотношению в природе, что было показано ранее [Громов 1957; Kowalski 1990]. Хищные птицы явно охотятся избирательно, предпочитая формы открытых биотопов. В их погадках концентрируются виды, обитающие на лугах, опушках, полянах. Доля видов зверьков, живущих под пологом леса и в зарослях кустарников, занижена по сравнению с их численностью в природе. Это необходимо принимать во внимание при реконструкции ландшафтов по палеофаунистическим данным.
3.2. Ископаемая фауна млекопитающих бассейна Ануя по материалам палеолитических памятников
Денисова пещеры расположена в Солонешенском районе Алтайского края в 6 км северо-западнее с. Черный Ануй ив 1,8 км ниже устья р. Каракол по правому борту каньона р. Ануй. Вход в пещеру имеет юго-западную экспозицию и расположен в 28 м над урезом р. Ануй. Денисова пещера представляет собой карстовую полость в силурийских известняках. Высота центральной камеры от поверхности голоценовых отложений около 10 м. Глубина скального основания в центральной части около 6 м. Детально профиль пещеры и прилегающих галерей описан ранее [Деревянко, Молодин 1994]. Мощность голоценовых отложений незначительно варьирует по простиранию и в среднем равна 1,5 м. Мощность вскрытых плейстоценовых отложений составляет около 4,5 м. Получены датировки радиоуглеродным (С14) и радио-термолюминисцентным (РТЛ) методами плейстоценовой части разреза Денисовой пещеры, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1. Датировки плейстоценовых отложений Денисовой пещеры [Деревянко и др. 1998].
Приведенные датировки сами по себе имеют значительный разброс. Более того, они не соответствуют результатам полученным на основании изучения состава фауны мелких млекопитающих и эволюционного уровня отдельных ее компонентов. Судя по этим результатам, вся плейстоценовая толща Денисовой пещеры укладывается в интервал позднего плейстоцена. При этом, нижняя часть осадков (слои 22.1; 22.2; 22.3) соответствует первой половине позднего плейстоцена, т. е. казанцевскому межледниковью. Слои 20-9 отвечают второй половине позднего плейстоцена, т. е. ермаковскому, каргинскому и сартанскому времени. Если принять такое датирование отложений, то каждый горизонт 22 слоя и каждое литостратиграфическое подразделение в интервале 21-9 слой соответствует временному интервалу 5–6 тыс. лет. Если принять РТЛ датировки, то возрастной интервал каждого слоя плейстоценовых отложений Денисовой пещеры приблизительно 10–15 тыс. лет. Возрастной интервал для литостратиграфических подразделений голоценовой толщи около 1 тыс. лет.
Ниже приведены результаты определения сборов 1994 и 1995 годов. Сборы 1994 г.: квадраты Е-6, Е-7, Б-8 и Б-9 центрального зала (сектор 4) Денисовой пещеры по линии субквадратов «а» и «в». Сборы 1995 г.: квадраты Е-5 (субквадраты а, б, в, г), Е-6, Е-7, Е-8 (субквадраты б, г), Е-9 (субквадраты б, г) центрального зала (сектор 4) Денисовой пещеры. Заключения по этим двум параллельно расположенным профилям сделаны отдельно для каждой из коллекций Это обусловлено рядом причин. Дело в том, что отложения Денисовой пещеры имеют очень сложное пространственное залегание. Ряд слоев имеет линзовидный характер, а некоторые — сильно перемяты и смещены за счет конвективной неустойчивости грунтов. От квадрата к квадрату меняется мощность слоев, нарушается их последовательность за счет выклинивания некоторых из них. Неравномерна концентрация костного материала по площади. Все это придает высокую тафономическую индивидуальность каждому квадрату раскопа. Фактически каждый из них неповторим по условиям осадконакопления и набору остатков млекопитающих. При столь сложной тафономической ситуации необходима дифференцированная оценка получаемых результатов. Только так можно отделить случайные флуктуации таксономического разнообразия от изменений, отражающих истинную динамику состава фауны.
Общее количество определенных костных остатков в коллекции 1994 г. составляет 6353 экземпляра. В среднем каждый слой охарактеризован приблизительно 200 определенными остатками. В целом верхние слои охарактеризованы менее надежно, чем нижние. Общий список таксонов, установленных для плейстоценовых слоев Денисовой пещеры, включает более 40 названий. Их количественное соотношение по каждому слою приведено на диаграммах (рис. 2), анализ которых позволяет сделать ряд заключений.
1. За время накопления плейстоценовых слоев Денисовой пещеры видовой состав млекопитающих изменялся незначительно, что отражает, по-видимому, единый механизм формирования танатоценоза пещеры и неизменный состав населения мелких млекопитающих в долине Ануя в течение накопления изученной толщи. Это свидетельствует о единстве крупного палеогеографического этапа развития природной среды за период формирования плейстоценовых осадков пещеры.
2. На фоне относительной стабильности состава фауны от нижних слоев к верхним бросается в глаза резкое уменьшение количества летучих мышей Chiroptera на уровне слоя 21. Выше 19 слоя количество остатков летучих мышей сокращается приблизительно в десять раз и на таком уровне сохраняется до кровли плейстоценовых отложений и в голоцене.
3. Остальная часть фауны дает ясную картину единого сообщества, структура которого, однако, постепенно менялась во времени. Причем, состав этого сообщества разительно отличался от современного, что свидетельствует об ином облике ландшафтов, окружавших Денисову пещеру в плейстоцене. Ведущую группу мелких млекопитающих на протяжение всего палеолитического этапа составляли полевки Microtinae (рис. 2). Наибольшую численность имели азиатские горные полевки рода Alicola, среди последних доминировала плоскочерепная полевка Alicola strelzovi — обитатель сухих каменистых склонов. Количественное соотношение этой полевки по сравнению с другими видами достаточно стабильно и варьирует по горизонтам от 10 до 20 %, несколько увеличиваясь к 11-9 слоям до 29 %. Содоминантами в составе фауны являлись узкочерепная полевка Stenocranius gregalis и рыжие полевки Clethrionomys. В целом численность узкочерепной полевки несколько выше численности рыжей полевки. По-разному выглядит тенденция их динамики во времени. Численность узкочерепной полевки снизу вверх постепенно нарастает, а рыжей полевки — снижается.
В отложениях Денисовой пещеры присутствуют степные пеструшки рода Lagurus. Их остатки впервые появляются на уровне 10 слоя 22. Однако до слоя 21 обилие пеструшек не превышает 1 % от общего количества остатков. Начиная со слоя 20, их численность постепенно нарастает, давая максимум в слое 9, превышающий 11 %. По своей морфологии ископаемые пеструшки из плейстоценовых отложений пещеры близки современной Lagurus lagurus.
Численность других мелких млекопитающих значительно ниже. Среди них: полевка-экономка, представители рода землероек-бурозубок, суслики, даурский хомячок и эверсманнов хомяк, слепушонка, сурок, бурундук, летяга. Другая группа мелких млекопитающих, остатки которой постоянно встречаются в отложениях Денисовой пещеры — зайцеобразные. Среди них ведущее место занимает пищуха (род Ochotona). Имеющийся материал лишь в некоторых случаях позволяет диагностировать виды. Отмечено присутствие двух групп: мелкой степной пищухи Ochotona pusilla Pallas и более крупной Ochotona alpina Pallas. Остатки зайцев встречаются регулярно. Их относительное обилие колеблется в пределах 0,15-3%.
Помимо мелких млекопитающих заметную роль в формировании состава тафоценоза палеолитических слоев Денисовой пещеры играют остатки птиц рыб, отчасти лягушек и мелких рептилий. Остатки лягушек и рептилий встречаются в небольшом количестве и очень спорадично по отдельным горизонтам (рис. 2).
Общий объем определенных костных остатков в коллекции 1995 г. — 27584 экземпляра В среднем каждый слой охарактеризован достаточно большим числом остатков. Наименьшее их количество, 51 экз., приходится на слой 14.3, наибольшее, 2108 экз., - на горизонт 5 слоя 22. Общий список таксонов, установленных для плейстоценовой толщи названных выше квадратов Денисовой пещеры, достигает 50 названий (рис. 3). Из них — 43 составляют мелкие млекопитающие. Анализ количественного распределения костных остатков по горизонтам и частота встречаемости различных таксонов в материалах 1995 г. позволяют сделать следующие выводы.
1. Видовой состав мелких позвоночных на изученной площади, как и по другим квадратам, мало изменяется от слоя к слою, т. е. он мало менялся во времени. Это подтверждает сделанный ранее вывод о единстве палеогеографического этапа, в течение которого формировалась плейстоценовая толща Денисовой пещеры.
2. Единственная группа позвоночных, обилие остатков которой резко меняется на границе слоев 22 и 21 — это летучие мыши.
3. Остальные виды мелких позвоночных не претерпевали резких колебаний численности на протяжении накопления всей толщи.
4. В целом ископаемая фауна Денисовой пещеры принципиально отличается от современной, что особенно ярко видно при сравнении палеонтологических данных и материалов изучения современной фауны бассейна Ануя на прилежащей к пещере территории. Плейстоценовая фауна Денисовой пещеры отражает значительно более разнообразные биотопические условия и большую пестроту ландшафтов по сравнению с современностью. Причем это разнообразие было обусловлено большим участием в сообществах степных и высокогорных элементов.
При общей однородности сообществ позвоночных плейстоценовых отложений удается подметить определенную динамику количественного соотношения отдельных таксонов.
Chiroptera, летучие мыши, как указано выше, — единственный компонент тафоценоза, который резко меняет свою численность. В слое 22 их относительное обилие колеблется от 14,5 % в горизонте 3 до 63,8 % в горизонте 13. К слою 21 обилие летучих мышей снижается до 9,9 %. Далее вверх по разрезу оно варьирует в интервале 3–6,6 % до слоя 17, а затем снижается еще более, опускаясь в верхних слоях до уровня менее 3 %. Это подтверждает отмеченную ранее закономерность и придает ей большую достоверность. В целом, состав ископаемой фауны летучих мышей близок современному. Большинство установленных видов в настоящее время обитают в лесной зоне умеренных широт. Лишь остроухая ночница (Myotis alf. blythi) заселяет не только гумидные, но и аридные ландшафты от Средиземноморья Южного Казахстана [Млекопитающие… 1999]. Примечательно, что именно этот вид приурочен к верхней части плейстоценовый толщи Денисовой пещеры. Вероятные причины зафиксированных достаточно существенных изменений количественного соотношения остатков этой группы в плейстоценовых отложениях пещеры обсуждаются ниже.
Азиатские горные полевки Alticola sp. являются одной из самых массовых групп мелких млекопитающих плейстоценовых отложений Денисовой пещеры. В среднем их обилие составляет 10–15 % от общего количества мелких позвоночных, а в слоях 11.1 и 14.2 оно превышает 20 %. Характер динамики численности полевок рода Alticola по сборам 1995 и по сборам 1994 гг. схож. Однако точного совпадения всех пиков и пеисимумов не наблюдается. Азиатские горные полевки представлены в ископаемой фауне двумя видами: Alticola strelzovi Kastschenko и Alticola macrotis Radde. В современной фауне бассейна Ануя, как показывают приведенные выше материалы, присутствует только первый из названных видов: плоскочерепная полевка.
Рыжие или лесные полевки Clethrionomys sp. составляют важнейший компонент тафоценозов Денисовой пещеры. Их остатки присутствуют, практически, по всей изученной толще. Однако относительное обилие рыжих полевок колеблется от 2–3 % до 11 %. Если учесть приведенные выше результаты анализа погадок, то следует предполагать, что роль этих полевок в сообществах долины Ануя в плейстоцене должна была бать значительно выше. В ископаемом состоянии, в противоположность современности, рыжие полевки представлены двумя видами: Clethrionomys rutilus Pallas и Clethrionomys rufocanus Sundevall.
Степная пеструшка Lagurus sp. - один из важных компонентов изученного тафоценоза. Этот вид встречается, практически, на всех уровнях плейстоценовой толщи. Однако заметную роль пеструшки играют начиная с 21 слоя. Со слоя 20 и выше их обилие колеблется от 3 % до 5 %, в слое 9.2 оно возрастает до 8,7 %, а в слое 9.1 — до 17,9 %. Такая же тенденция проявляется в динамике численности и по сборам 1994 г.
Узкочерепная полевка Stenocranius gregalis — один из массовых видов плейстоценовых отложений Денисовой пещеры. В среднем обилие ее остатков колеблется в интервале 7-10 %, однако в слоях 13.1 и 13.4 превышает 14 %, а в слое 12.3 — 15 %. Относительное обилие узкочерепной полевки возрастает по разрезу снизу вверх до уровня слоев 12.3 и 12.2, а затем постепенно начинает снижаться. Подобная тенденция выражена и в сборах 1994 г., хотя полного совпадения отдельных пиков по материалам разных квадратов не наблюдается.
Алтайский цокор Myospalax myospalax является одним из самых характерных элементов тафоценоза. Его остатки встречаются практически по всем квадратам и на всех уровнях. Их относительное обилие в среднем колеблется от 5 % до 7 %, а в слое 20 достигает 13 %. Цокор является важным палеоклиматическим показателем, который свидетельствует об относительной стабильности природной среды на протяжении накопления плейстоценовых осадков. Примечательно, что падение численности по сборам 1995 г. фиксируется в осадках уровней 12 и 11 слоя 22 и в слое 14.3. По сборам 1994 г. именно на этих уровнях также отмечено падение численности цокора.
Пищуха Ochotona sp., - немногочисленный, но постоянно встречающийся компонент тафоценоза. Относительное обилие пищух, как правило, не достигает 3 %. Однако в уровне 3 слоя 22 оно превышает 4,8 %, а в слое 20 достигает 5,2 %. В отложениях пещеры присутствует два вида пищух: алтайская пищуха Ochotona alpina и степная пищуха Ochotona pusilla. Первый из названных видов и сегодня обитает в бассейне Ануя, что указано выше в описании современной фауны. Второй вид, степная пищуха — типичный обитатель равнинных степных ландшафтов Евразии. Его проникновение в бассейн Ануя могло произойти только в специфических природных условиях. Присутствие этого вида свидетельствует об увеличении доли степных сообществ в бассейне Ануя в позднем плейстоцене. Остатки указанных видов вместе встречаются в одних и тех же слоях, что лишний раз подчеркивает своеобразие и пестроту ландшафтов в окрестностях Денисовой пещеры в плейстоцене.
К малочисленным видам относятся: насекомоядные, белки, бурундук и заяц Довольно низка численность суслика. Довольно редки находки остатков хомяка, мышовки, тушканчика и слепушонки. Еще более редки: сурок, бобр, мышиные. Триба серых леммингов Lemmin, представлена лишь единичными находками в отложениях пещеры.
Кости птиц и скорлупа птичьих яиц часто встречаются в отложениях Денисовой пещеры. В среднем их относительное обилие составляет 5–7 % от общего количества, возрастая даже до 19,7 % в слое 20. Ниже кровли слоя 22 обилие остатков птиц снижается до 1,5–2 %. Такая же тенденция отмечена и по сборам 1994 г., хотя она выражена менее резко.
Рептилии и амфибии очень редки в отложениях Денисовой пещеры. Их остатки представлены разрозненными фрагментами челюстей ящериц и костями конечностей лягушек.
Рыбы, напротив, оказались одной из наиболее многочисленных и обычных групп тафоценоза плейстоценовых отложений Денисовой пещеры. В среднем их остатки составляют 10–12 % от общего количества. В слоях 9.3 и 20–21 они достигают своего максимума: более 28 %. Ниже кровли слоя 22 обилие остатков рыб снижается до 3–5 % по разным горизонтам.
Изложенные материалы динамики численности отдельных таксонов по результатам сборов 1995 г. позволяют представить общую картину изменения сообществ мелких позвоночных за время накопления плейстоценовых осадков Денисовой пещеры.
Нижняя часть плейстоценовой толщи Денисовой пещеры — уровень 13 слоя 22.3 — отличается довольно высокой численностью рыжих полевок (5,6 %), цокора (14,5 %), плоскочерепной полевки (15 %). К уровню 12 слоя 22.3 относительное количество названных видов падает почти в два раза. Такая же тенденция наблюдается и по сборам 1994 г.
На уровне 10 слоя 22.2 численность рыжих полевок еще более увеличивается и достигает 10 %. Численность плоскочерепной полевки снижается до 9,4 %. Для этого слоя характерно увеличение численности землероек и барабинского хомячка.
Уровни 9–2 слоев 22.2 и 22.1 отличаются стабильностью таксономического разнообразия мелких млекопитающих. Численность рыжих полевок составляет около 5–6 %, плоскочерепных полевок 8-10 %. Обилие цокора варьирует от 0,6 до 1,8 %. Птицы, напротив, очень редки. Не часто встречается крот (0,3–0,6 %). Примерно такая же картина наблюдается по сборам 1994 г. Исключение составляют рукокрылые, которые дают пик обилия в осадках уровней 7 и 6 слоя 22.2.
С уровня 1 слоя 22.1 численность полевок сокращается, а цокора увеличивается до 1,8 %. Заметна численность хомячков.
Уровень 0 слоя 22.1 отличается самой высокой численностью рыжих полевок, которая достигает 11 % от общего состава, и некоторым увеличением численности крота. В то же время он характеризуется падением обилия плоскочерепных полевок до 3,8 %.
В целом можно предполагать, что накопление слоев 22.3-22.1 происходило в теплую и умеренно влажную эпоху. Лесные ассоциации имели господствующее положение в долине Ануя. На заключительной фазе формирования слоев 22 территории, занятые древесной растительностью, занимали максимальную площадь. Примерно такие же выводы позволяет сделать материал сборов 1994 г.
Начиная с верхней части слоя 22.1 происходит резкое снижение численности рукокрылых, а со слоя 21.2 — падение численности рыжих полевок. Численность плоскочерепных полевок после пейсимума в слое 20, напротив, возрастает до 17,7 %, а доля остатков узкочерепной полевки возрастает до 19,3 % в слое 19.3. Заметную роль начинают играть степные пеструшки. Несколько увеличивается количество цокора.
Слой 20 по составу тафоценоза мало похож на другие слои. В нем снижается численность рыжих полевок, почти исчезают плоскочерепные полевки и степные пеструшки, но сохраняется относительное обилие узкочерепной полевки — на уровне 7,2 %. В тоже время слой 20 характеризуется самой высокой численностью крота — 5,2 % и цокора — 13,0 %. Именно в этом слое максимального количества достигает обилие птиц — 19,7 %. По-видимому, время накопления слоя 20 отличалось своеобразным климатом и биотопическими условиями. В этот период происходило одновременное сокращение площади лесных массивов и горно-степных петрофильных ассоциаций. Наибольшего развития в это время достигли, вероятно, лугово-степные ассоциации и лиственнично-березовые леса. Это была эпоха лугового и лесного разнотравья с минимальным участием злаков. Климат отличался теплыми зимами, прохладным и дождливым летним периодом.
В дальнейшем количественный баланс основных групп мелких млекопитающих восстановился и сохранялся таковым до границы слоев 17 и 14. При этом численность рыжих полевок колебалась в интервале 5–7 %, плоскочерепных полевок — 12–20 %, пеструшек — от 3,5 до 4,8 %.
В слоях 13.4 и особенно 13.2 происходит резкое падение численности рыжих, плоскочерепных и узкочерепных полевок, исчезает степная пеструшка, крот, полевка-экономка. Одновременно появляется лемминг. Его остатки обнаружены в слоях 14.1, 13.4 и 13.2. Вероятно, это фаза довольно холодного и сухого климата, время господства горностепных-петрофильных и нивальных злаковоосоковых ассоциаций. По сборам 1994 г. эта фаза выражена менее ярко.
В слое 13.1 восстанавливается более теплая и благоприятная биотопическая обстановка. Численность полевок опять достигает относительного обилия: доля рыжих полевок — 6,5 %, плоскочерепных — 13,3 %, узкочерепных — 14,4 %. Исчезает сурок, уменьшается количество суслика, появляется крот, слепушонка, полевка-экономка. Однако эта стабилизация природной обстановки была кратковременной.
Начиная со слоя 12.3 и до кровли плейстоценовых отложений, т. е. слоя 9.1, происходит вновь снижение численности рыжих полевок до 1–2 %. Однако численность плоскочерепных, напротив, высокая и держится на уровне 12–17 %. Численность узкочерепной полевки несколько падает, но не опускается ниже 8 %. Резко возрастает относительное количество степной пеструшки, ее доля в слое 9.1 достигает 17,9 %. Длиннохвостый суслик и хомяк Эверсманна становятся постоянными компонентами сообщества. Численность землероек, полевки-экономки и птиц напротив, снижается. В слоях 12.1, 11.4, 11.3, 11.2 и 11.1 постоянно присутствует лемминг. Почти полностью подобная тенденция изменений тафоценоза наблюдается и по сборам 1994 г. Все это свидетельствует о значительных изменениях ландшафтной обстановки. В эпоху накопления слоев 12-9, вероятно, происходило сокращение площади лесов и увеличение площади открытых биотопов, в первую очередь горно-степных петрофильных ассоциаций. Причем, от слоя 9.3 к слою 9.1 эта тенденция была выражена особенно ярко.
Мелкие млекопитающих голоценовых отложений Денисовой пещеры были изучены по материалам юго-восточной галереи (сектор 5) квадраты: А 2–6, Б 2–6, В 2–6, Г 2–6. Всего в определении было использовано 3869 костей. Установлено 36 таксонов: птицы, рептилии, рыбы, остальные 33 — млекопитающие (рис. 4). Значительную часть скелетных остатков в средних и верхних слоях составляют кости и чешуя рыб. Они преобладают в слоях 1,2.1,3 и 5, с наибольшем количество (88,5 %) их костей в 3 слое. В нижних слоях они редки или отсутствуют.
Послойный анализ видового состава млекопитающих позволяет констатировать, что состав голоценовой фауны бассейна Ануя близок как плейстоценовой, так и современной фауне мелких млекопитающих. Он беднее обоих названных сообществ, что, возможно, объясняется недостаточным количеством собранного материала. Главной особенностью данной фауны является наличие в ней плейстоценовых видов — пеструшки Langurus и слепушонки Ellobius, отсутствующих в современной биоте Горного Алтая. Это свидетельствует о том, что перестройка биоценозов Горного Алтая не укладывается в жесткие рамки стратиграфических схем. Она протекала постепенно и продолжается в настоящее время. Данные Е. М. Малаевой по динамике растительности и результаты изучения голоценовой орнитофауны [Мартынович 1998] подтверждают этот вывод.
Количественное соотношение различных экологических групп мелких млекопитающих в голоценовых отложениях выглядит иначе, чем в плейстоценовых. Особенно велик контраст между фауной голоцена и фауной верхней части плейстоценовой толщи Денисовой пещеры (слои 11-9 сектора 4), что свидетельствует о некоторой самостоятельности природных комплексов на хронологическом этапе голоцена. Кроме того, это предполагает перерыв осадконакопления между позднеплейстоценовым слоем 9 и голоценовым слоем 8.
Специфичность голоценовых сообществ заключалась в более высокой численности лесных видов таких, как представители рода рыжих полевок, и низкой численности нивальных и степных видов таких, как представители родов узкочерепных, плоскочерепных полевок и пеструшек. В верхней части разреза увеличивается роль луговых и околоводных форм, только здесь найден бурундук. Все это предполагает постепенное сокращение площади степных ландшафтов и увеличение луговых и лесных массивов. Такая биоценотическая перестройка была, вероятно, связана с изменением климатической обстановки, с небольшим увеличением влажности и среднегодовых температур по сравнению с финалом плейстоцена.
Примечательно, что наибольшее сходство по экологическому составу имеют фауны слоев верхней части голоценовой толщи и горизонтов слоя 22 плейстоценовых отложений Денисовой пещеры.
Многослойная палеолитическая стоянка Усть-Каракол расположена на левом берегу р. Ануй у впадении в нее р. Каракол. Подробное описание геологического строения этого памятника было сделано ранее [Деревянко и др. 1998]. Разрезом здесь вскрыта толща склоновых осадков, ископаемых почв и в основании — аллювиальных отложений. Датировки для них, полученные физическими методами, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Датировки отложений разреза Усть-Каракол по данным физических методов [Деревянко и др. 1998]
Слои 1-19 имеют делювиальный генезис, слой 20 — аллювиальный террасы. Данные таблицы ясно показывают, что основная часть разреза имеет позднеплейстоценовый возраст.
Общее количество определенных остатков мелких млекопитающих — 1908 экз. Тафоценоз местонахождения Усть-Каракол принципиально отличается от ископаемых сообществ пещерных палеолитических памятников. Весь полученный материал происходит здесь из залегающих в естественном положении осадков ископаемых почв, лессов, пойменных и аллювиальных отложений.
Данные по составу ориктоценоза каждого слоя с минимальными искажениями соответствуют составу исчезнувшего биоценоза времени накопления осадков. Это имеет и свои издержки. Поскольку при формировании танатоценозов Усть-Каракола не происходила концентрация материала с прилежащей территории, полученные результаты относятся только к данной конкретной площади и не могут быть аппроксимированы на весь бассейн Ануя. С другой стороны, количественные соотношения различных видов в составе тафоценозов каждого слоя отражают их реальное соотношение в составе исчезнувших биоценозов данной территории. Эго придает особую ценность материалам открытой стоянки Усть-Каракол.
Как показывает график (рис. 5), остатки крота Asioscalops довольно многочисленны. Их обилие составляет в среднем 5-10 %, достигая 33 % в слое 1 и 26 % в слое 11 А. Крот отсутствует в интервале слоев 7-9А, 11Б—13 и 18Б-19Б. Остатки древесных беличьих очень редки. Белка найдена единично и только в двух случаях: слои ПА и 18А. В одном случае (слой 17) найден бурундук.
Совершенно иной характер имеет относительное обилие наземных беличьих и, прежде всего, суслика. Остатки длиннохвостого суслика встречаются практически по всему разрезу. Их численность колеблется от 10 до 80 % и более. Основные пики высокой численности приходятся на слои 12, 13, 18, 19А. Падение численности отмечается в слоях ПА, 16, 18Б. В целом уровень численности в нижней части разреза значительно выше, чем в верхней.
Главными компонентами сообщества мелких млекопитающих из толщи палеолитического памятника Усть-Каракол являлись суслики и цокор. Группу содоми-нантов образуют, землеройки, крот, рыжая полевка, узкочерепная полевка, отчасти хомяк обыкновенный и полевка-экономка. К малочисленным принадлежат: тушканчик, слепушонка, пеструшка рода Lagurus, лемминги трибы Lemmini, серые полевки Microtus hyperboreus, M agrestis и водяная плевка Аrviсо1а, пищуха. Группу очень редких видов образуют: белка и бурундук, сурок и барабинский хомячок, мышовка, азиатская горная полевка, амфибии и рептилии. По всем перечисленным параметрам ископаемая фауна Усть-Каракола отличается от тафоценоза Денисовой пещеры. В противоположность Денисовой пещере здесь полностью отсутствую летучие мыши, рыбы, очень редки плоскочерепные полевки и почти нет хомячков. Все это отражает особенности, прежде всего, механизмов формирования танатоценоза, а также локальных биотопических условий окрестностей памятника.
4. Обсуждение
Динамика природных условий в бассейне верхнего Ануя по данным изучения остатков мелких млекопитающих из отложений палеолитических памятников.
Особенности частоты встреч костных остатков позвоночных по различным горизонтам отложений Денисовой пещеры и Усть-Каракола позволяют реконструировать динамику природных условий в долине Ануя на протяжении накопления плейстоценовых слоев.
4.1. Денисова пещера
Сравнение современной фауны Ануйского каньона, его склонов и прилежащих участков долины с ископаемой фауной (тафоценозом) плейстоценовых слоев Денисовой пещеры свидетельствует об их существенном различии. Так, в современной фауне бассейна Ануя отсутствуют характерные элементы именно степных сообществ: сурок, хомяк Эверсманна, слепушонка, лемминг и степная пеструшка. В ископаемом состоянии они найдены. А виды, общие для современного и ископаемого сообществ, представлены в совершенно разных количественных соотношениях. Как показано выше, в современной фауне бассейна Ануя и в ближайших окрестностях Денисовой пещеры преобладают рыжие полевки рода — типичные индикаторы таежных условий. В плейстоценовой фауне пещеры преобладают узкочерепная и азиатская горная полевки, обитатели сухих степей и тундр либо высокогорных степей. В современной фауне велика роль азиатских лесных мышей рода Apodemus — представителей подзоны южной тайги. В плейстоценовых слоях пещеры эти виды крайне редки. В современной фауне после рыжих полевок ведущее место занимает род серых полевок Microtus все представители которого являются специализированными зеленоядами, обитателями разнотравных луговых ассоциаций. В изученной фауне Денисовой пещеры они составляют не более 5 %. Пищуха, Ochotona, в настоящее время малочисленна и имеет локальное распространение на данной территории. В ископаемом состоянии она довольно обычна.
Все сказанное свидетельствует о значительных изменениях состава населения мелких млекопитающих, которые произошли за период накопления плейстоценовых слоев Денисовой пещеры до настоящего времени. Эти изменения выражены в резком сокращении нивальных и степных элементов в составе биоты и увеличении численности таежных видов, что свидетельствует о перестройке биоценозов долины Ануя и, вероятно, всего Горного Алтая от эпохи позднего плейстоцена к голоцену. Масштабы биоценотических перестроек однако не следует преувеличивать. И в ископаемой и в современной фаунах устойчиво сохраняются эндемичные формы данной территории: алтайский крот и цокор. Ряд характерных восточносибирских видов встречается и в современной биоте и в ископаемом состоянии: длиннохвостый суслик, бурундук, сибирская красная полевка, плоскочерепная полевка, даурский хомячок и др. Это свидетельствует о том, что изменения экологического состава сообществ протекали на фоне стабильной в целом зоогеографической обстановки. Изменения структуры населения изучаемого района происходило преимущественно за счет мобилизации внутренних таксономических ресурсов Горного Алтая и прилежащих территорий.
Кроме того, предполагаемая доля участия нивальных и степных сообществ для плейстоцена Денисовой пещеры, вероятно, несколько завышена, а для таежных сообществ несколько занижена в силу указанных ранее тафономических причин, благодаря выборочной концентрации остатков мелких млекопитающих открытых биотопов в погадках хищных птиц Учитывая сказанное, можно попытаться реконструировать сообщество мелких млекопитающих и условия его существования как для всего плейстоцена Денисовой пещеры в целом, так и для отдельных его этапов. Преобладание по всей изученной толще нивальных (плоскочерепная полевка) и степных (тонкопалый суслик, узкочерепная полевка, степная пеструшка) форм свидетельствует о большем участии сообществ открытых ландшафтов, чем в настоящее время. Площадь щебнистых склонов, занятых горно-степными петрофитными ассоциациями, была значительно больше. Высокие террасы, пологие склоны и привершинные плато были заняты разреженной степной растительностью, а не луговым высокогравьем с плотной дерновиной, как в настоящее время. О том же говорит и присутствие сурка, правда, явно заниженное. По нашим наблюдениям в современных условиях сурок избегает плотно задернованных участков степи. Даже в пределах занимаемой им территории сурок предпочитает передвигаться только по своим натоптанным ранее дорожкам. Для животного с несовершенным локомоторным аппаратом это единственный способ быстро достичь норы в случае опасности. Типичным индикатором сухих степей и полупустынь является слепушонка, спорадически встречающаяся в плейстоценовых слоях Денисовой пещеры. Ближайшие ее популяции в настоящее время существуют только в степном Алтае. О больших площадях, занятых каменистыми россыпями, свидетельствует постоянное присутствие в плейстоценовых слоях остатков алтайской пищухи.
Однако господство степных и нивальных сообществ не было постоянным и полным. Через все плейстоценовые слои пещеры проходят остатки рыжих полевок — сибирской красной полевки Cletrionomus rutilus. Это свидетельствует о стабильном существовании древесной растительности на изученном участке долины Ануя. Присутствие бурундука, а особенно белки и летяги, типичных арбо-реальных видов, полностью подтверждает этот вывод. Участки лиственнично-березовых и березово-сосновых лесов, а возможно и кедрачи, подобные современным, сохранялись на протяжении всего позднего плейстоцена.
Наличие практически во всех горизонтах остатков полевки-экономки, обитателя пойменных биотопов, свидетельствует о постоянном существовании злаково-осоковых ассоциаций. Последние, очевидно, были приурочены к пойме Ануя и его притоков. Это предполагает, что за изученный период гидрологический режим Ануя менялся незначительно. Такую стабильность подтверждает постоянно низкая численность в осадках пещеры водяной полевки.
Важным показателем специфики природных условий являются крот и цокор. Находки этих крупных землероев, практически, во всех горизонтах плейстоценовых отложений Денисовой пещеры свидетельствует об относительно теплом климате в бассейне Ануя на протяжении плейстоцена и, прежде всего, об отсутствии глубокого и длительного промерзания почвы в этот период.
Судя по нарастанию количества и разнообразия степных форм снизу вверх по разрезу, можно предполагать постепенное увеличение в долине Ануя площади открытых биотопов, участков, занятых щебнистыми склонами и разреженной растительностью сухих степей Наибольшей выраженности эта тенденция достигает на уровне слоев 9.2 и 9.1. Незавершенный характер диаграмм (рис. 2 и 3) заставляет предполагать, что отложения фазы максимального остепнения по каким-то причинам не сохранились в Денисовой пещере. Подтверждают это материалы, полученные по Каминной пещере Т. А. Дупал и А. А. Поздняковым [Деревянко и др. 1998]. По данным этих специалистов, в позднеплейстоценовых отложениях Каминной пещеры, которая расположена в 20 км от Денисовой пещеры, остатки пеструшек составляют до 26,7 % от общего количества. В то время как в отложениях Денисовой пещеры количество пеструшек, неуклонно нарастая кверху, не достигает 12 %. Наличие перерыва осадконакопления подтверждает и сам характер границы между плейстоценовыми и голоценовыми осадками. Материалы по предвходовой площадке Денисовой пещеры (сектор 3) также подтверждают это предположение. Остатки пеструшек в слоях 6.2 и 6.1 предвходовой площадки составляют 23 % и 15 %.
Параллельно нарастанию численности степных видов по нашим данным происходило сокращение лесных форм, прежде всего, рыжих полевок.
В общей сукцессионной динамике показательно численное соотношение даурского хомячка и хомяка Эверсманна. Первый из них селится в степи или лесостепи, по опушкам, в сосновых борах и лиственничных лесах, не избегая берегов рек и озер [Виноградов, Громов 1952]. Хомяк Эверсманна, напротив, обитатель сухих степей и полупустынь. В отложениях Денисовой пещеры численность обоих видов колеблется от слоя к слою в противоположных фазах. Эти два вида викариируктг во времени, отражая увеличение и уменьшение степных или луговых биотопов.
4.2. Усть-Каракол
Начальная фаза накопления осадков разреза Усть-Каракол, слои 19Б-19А, протекала в условиях господства степных и луговых сообществ. Затем произошло резкое сокращение степных компонентов биоты и значительное увеличение лесных биотопов, которое сопровождалось появлением моховых болот и/или элементов черневой тайги. Эту фазу отражают слои 18Б-18А. Слой 18Д имеет переходный характер.
Вышележащий слой 18 отражает второй этап остепнения территории, сокращения лесных, моховых и луговых биотопов. Причем эту палеогеографическую характеристику нельзя считать случайной, т. к. этот слой охарактеризован значительным количеством материала.
Эпоха накопления слоев 17–14 отличалась наибольшей пестротой биотопической обстановки. С одной стороны было явно выражено появление полупустынных элементов, максимум которых приходится на слой 16. С другой стороны в слоях 17–16 отмечается и максимум лесных видов, что свидетельствует об увеличении площади лесных сообществ. На слой 16 приходится также второй пик численности леммингов, т. е. фаза увеличения роли моховых ассоциаций и вероятно заболачивания территории. Облик кривых численного соотношения различных видов мелких млекопитающих имеет естественный характер. Он показывает, что после биотопического разнообразия слоя 16 происходит постепенное сокращение лесных и болотных ассоциаций и начинается остепнение.
Слои 13 и 12 соответствуют времени максимального остепнения долины Ануя, резким сокращением доли луговых ассоциаций. Причем, объем изученного материала по этим горизонтам достаточно большой, что не позволяет сомневаться в достоверности полученных результатов.
Новое смягчение климатической обстановки и увеличение влажности климата произошло во время накопления слоев 11Б, ПА. Это отразилось в значительном увеличении площади луговых и лесных сообществ. Однако в противоположность предшествующим периодам благоприятного климата, пониженные участки рельефа заняли осоковые, а не моховые, болота.
Слои 11 и 10 несут свидетельства очередного ухудшения природной обстановки, правда менее сильного, чем в предшествующие эпохи. Сокращение площадей, покрытых лесом, сопровождалось увеличением луговых и в меньшей мере степных биотопов.
В период формирования слоев 9Б и 9В роль луговых сообществ еще больше увеличилась, а степных уменьшилась. Это было время господства ппотнодерновинной травянистой растительности на склонах и осоковых ассоциаций в пойме Ануя. Слои 9А, 9 и 8 накапливались в условиях некоторого нарастания сухости климата и увеличения участков, занятых степной и одновременно лесной растительностью. Вероятно это происходило на фоне повышения летних температур.
Слой 7 соответствует природным условиям, при которых преобладала травянистая растительность, однако не образовывалась плотная дерновина. Вероятно это было время заметного похолодания климата.
Указанное похолодание сменилось существенным потеплением, которое отражают слои 6, 5,4 и 3. В это время происходит самое крупное расширение луговых биотопов, занятых разнотравьем с плотной дерновиной. Увеличивается доля степных ассоциаций. В конце фазы (слой 3) нарастает облесенность территории.
В эпоху накопления слоя 2 площадь лугового разнотравья вновь сокращается, а площади степных ассоциаций увеличиваются. Правда при этом в пойме возрастает доля участков, занятых осоками.
Слой 1 отражает смягчение климатической обстановки и увеличение доли лугового разнотравья.
Переход от позднего плейстоцена к голоцену и современности достаточно полно представлен в разрезах палеолитических памятников Усть-Каракол-1 и Ануй-2. В составе населения мелких млекопитающих исчезли пеструшки, слепушонка, лемминг. Сократилась численность цокора. Значительно увеличилась численность землероек, крота, рыжих полевок, лесных мышей. Именно в период накопления голоценовых слоев структура растительных и животных сообществ долины Ануя приняла современный облик. Таким образом, природный комплекс региона, существующий в настоящее время, сложился не сразу. Его формирование было растянуто на 6–8 тысяч лет. Реальные рубежи смены одних биоценотических сообществ другими не укладываются в формальные рамки стратиграфических схем. Последние являются достаточно условными. По-видимому это справедливо не только для рубежа плейстоцен-голоцен, но и для остальных стратиграфических границ Судя по всему, биоценотические группировки обладают определенной устойчивостью и в некоторых пределах независимостью от климата. Их реакция на изменения влажностных и температурных параметров отличается некоторой инерционностью, что хорошо демонстрируют материалы по динамике природной среды в бассейне Ануя. Сложность преобразования природных комплексов в голоцене на примере млекопитающих ранее была уже оказана для Урала и Западной Сибири [Смирнов 1993; 1996; Смирнов и др. 1999; Косинцев 1988; 1996; Варов, Косинцев 1996].
4.3. Заключение
Суммируя данные по палеолитическим памятникам бассейна Ануя, можно констатировать, что изменения природной среды и климата в плейстоцене носили направленный характер. В течение позднего плейстоцена происходило снижение теплообеспеченности, увеличивалась континентальностъ климата. Общая направленность процесса осложнялась периодическими флюктуациями, которые были обусловлены чередованием относительно сухих и более влажных климатических фаз. Переходные этапы отражают трансформацию биоценозов оптимальных, влажных периодов к сообществам сухих фаз. Такое чередование природных условий имело ритмический характер.
На протяжении позднего плейстоцена структура вертикальной поясности была сложнее современной. Она включала полосу нивальных ассоциаций, крупные участки луговин с альпийским разнотравьем, смешанные леса, в древостое которых были «вкраплены» широколиственные породы; приречную урему с участием экзотов — ольхи, вяза, лещины; богатый спектр сообществ лесостепного облика. Кроме того, приподнятые над долиной реки и выровненные древние террасы занимали представители степных, а местами и полупустынных, биоценозов. Такая сложная и мозаичная структура сообществ существовала и поддерживалась на протяжении всего среднего и позднего плейстоцена. Она была обусловлена особенностями климата, различиями в экспозиции склонов, ориентацией хребтов и речных долин.
Ядром биоценотических сообществ Северо-Западного Алтая на протяжении плейстоцена были, несомненно, автохтонные хвойные леса со значительной долей широколиственных пород. Интродукция степных и полупустынных видов млекопитающих шла с юга из Казахстана и Монголии через систему выровненных межгорных котловин, например, Чуйской и Канской степей. Элементы тундровых и бореальных сообществ частично проникали с севера, с Приобского плато, а частично опускались из гольцового пояса, который был для них рефугиумом в эпохи межледниковий. Даже небольшие изменения среднегодовых параметров температуры и влажности приводили к усилению экспансии одного или нескольких зональных типов биоценозов, создавая общую неповторимую мозаику ландшафтных условий.
В целом, Саяно-Алтайская горная страна представляла собой заповедный «континент», ограниченный с юга степями и полупустынями Монголии, с запада-степными просторами Казахстана, с севера — равнинами Западной и Средней Сибири, с востока степями Хакасии и Бурятии. На этой территории на протяжении плейстоцена сохранялись относительно стабильные и многокомпонентные природные комплексы, что откладывало свой отпечаток на историю становления и развития палеолитического человека.
На фоне плавных преобразований природного комплекса по материалам палеолитических памятников Ануя совершенно необъяснимым, на первый взгляд, выглядит резкое и значительное падение численности летучих мышей при переходе от 22 к 19 и выше лежащим слоям Денисовой пещеры. Понять это феномен тем более важно, что он хорошо выражен по разным квадратам раскопа и, таким образом, не является случайным. Слой 22 равен по мощности всей расположенной выше толще плейстоценовых осадков. Он существенно отличается по литологическому составу, текстуре, структуре и цвету. Уже это предполагает изменение режима седиментации в интервале 21–19 слоев. К этому рубежу приурочено снижение численности лесных видов мелких млекопитающих и нарастание численности степных видов. Произошли существенные изменения и в составе крупных млекопитающих. По данным Г. Ф. Барышникова [1998] среди хищников в слое 22 преобладает медведь, а в верхней части плейстоценовых отложений — пещерная гиена (см. также: [Деревянко и др. 1998]). В верхней части плейстоценовых отложений увеличивается также количество костей копытных [Барышников 1998\ Деревянко и др. 1998]. Одновременно с изменением состава остатков позвоночных выше слоя 22 резко возрастает количество артефактов и орудий (рис. 6), что отражает резкое увеличение активности палеолитического человека.
Рис. 6. Распределение орудий и артефактов в слоях Денисовой пещеры по материалам А. Л. Деревянко и др. [1998].
Перечисленные факты могут быть объяснены и увязаны в единую логическую модель. Судя по фауне мелких млекопитающих плейстоценовых отложений Денисовой пещеры, на временном отрезке накопления слоев 21 и 20 произошло изменение природной обстановки в сторону расширения открытых биотопов и некоторой деградации лесной растительности. Эго с неизбежностью должно было привести к увеличению площадей и биомассы травянистых сообществ. Увеличение площади и продуктивности пастбищ стало причиной увеличения численности и видового разнообразия копытных, что, в свою очередь, определяло рост плотности населения палеолитического человека. Последнее повлияло на частоту посещения человеком полости пещеры и отразилось на количестве артефактов, содержащихся в толще осадков. Большое количество угольков и следы кострищ в слоях 21-9 указывают на то, что визиты человека в пещеру стали носить долговременный характер и сопровождались разведением костров. Эго несомненно стало мощным фактором беспокойства и оказало негативное воздействие на летучих мышей и других обитателей пещеры. Именно такая активность человека и привела к резкому сокращению колонии летучих мышей.
Увеличение площади пастбищ и плотности популяций копытных стало благоприятным фактором не только для роста населения палеолитического человека в долине Ануя, но и повлекло за собой нарастание численности гиены. Именно копытные животные считаются для нее кормовой базой. Пещерная гиена являлась крупным и сильным хищником, однако в силу своих морфологических адаптаций она не способна была длительно преследовать взрослых копытных. Поэтому только высокая плотность травоядных с постоянным присутствием в популяции молодняка, ослабленных и больных особей могла обеспечить устойчивое существование гиен.
Вместе с тем, остеологические материалы Денисовой пещеры показывают, что одновременно с увеличением количества остатков гиены и следов пребывания человека сокращается число костей медведя. Однако количественное соотношение медведей и гиен в отложениях пещер не является случайным. Заметим, что среди остатков медведей слоя 22 преобладают кости молодых животных. Это свидетельствует о том, что полость пещеры использовалась медведями в зимнее время для устройства убежища, где они залегали в спячку и рождали детенышей. Совершенно очевидно, что пещера не могла функционировать одновременно как берлога, и как жилище человека. Совместное появление следов пребывания этих двух видов предполагает и, вероятно, сезонные различия их появления там, и редкость визитов человека в пещеру в период накопления слоя 22, что подтверждено малом количеством артефактов. После изменения природной обстановки, увеличения площадей луговых и степных биотопов, роста численности копытных, гиены и человека, медведь уже просто был вытеснен из пещеры. Уменьшение и полное исчезновение его костей в верхних слоях подтверждают такое заключение.
Сложнее ответить на вопрос: как делили пространство пещеры человек и гиена в периоды своей активности? Как известно, гиена нуждается в защищенном убежище для выведения потомства лишь в весенний и раннелетний сезоны. Человеку, вероятно, пещера, как укрытие, была необходима прежде всего в осенний и зимний периоды. Ее стены, особенно при разведение костра, надежно защищали от холода. Именно это как уже сказано выше оказывало губительное воздействие на колонию летучих мышей, обитавших под сводами пещеры на ранних этапах ее истории. Однако обитание в пещере имело для человека и свои недостатки. Денисова пещера расположена в узкой части Ануйского каньона, отсюда не возможен широкий обзор местности и упреждающие действия по отношению к перемещающимся стадам копытных. Поэтому с наступлением теплого сезона человек, скорее всего, был вынужден выселятся на открытые временные стоянки типа Усть-Каракол, откуда открывался прекрасный обзор на долину Ануя, Каркола и прилежащие склоны гор. Это обеспечивало контроль обширного пространства и, соответственно, быструю и адекватную реакцию охотничьего коллектива на появление стада копытных. Вероятно, были и другие факторы, определявшие сезонное выселение человека из пещеры. Например, увеличение количества эктопаразитов за долгий зимний период в шкурах подстилки и непосредственно на теле людей. Кроме того, в весенне-летний период температура воздуха внутри пещеры значительно ниже, чем вне ее. Замеры проведенные в июле-августе 2002 года показали, что в галереях пещеры суточная температура держится в интервале 8–9 °C, в центральном зале — в интервале 12–14 °C. В эти же дни суточные колебания температуры воздуха в долине Ануя составляли 14–23 °C, дневная температура держалась на уровне 20–23 °C, иногда достигая 31 °C. Следовательно, для поддержания тепла в пещере в летний период необходимо было прикладывать дополнительные усилия. При том, что за осенне-зимний период большая часть сухих сучьев выбиралась в ближайших окрестностях пещеры. В этой ситуации перемещение ее обитателей на открытые летние стоянки становился почти неизбежным. Таким образом, человек и гиена могли использовать пещеру в разные сезоны года.
Данные по костям крупных млекопитающих Денисовой пещеры позволяют выявить и еще одну закономерность. Как показывают археологические материалы, присутствие человека в пещере в период накопления 22 слоя и, следовательно, его влияние на формирование тафоценоза 22 слоя было минимальным. Кости копытных в это время приносились в пещеру только хищниками: волками, гиеной, медведем. Количественное соотношение костей хищников и копытных в 22 слое соответствует их естественному соотношению в тафоценозах, которые формировались без участия человека. Такое соотношение костей хищника и жертвы должно было сохраняться на протяжении всего времени формирования тафоценозов пещеры. Однако факты свидетельствуют о неуклонном нарастании во времени относительного (и абсолютного) количества костей травоядных («жертвы»). Они показывают резкое увеличение количества костей травоядных, приносимых в пещеру на протяжении позднего плейстоцена именно человеком. Это, в свою очередь, отражает увеличение пресса человека на популяции копытных.
Таким образом приведенные факты показывают наличие тонких связей между природной обстановкой позднего плейстоцена, структурой животных сообществ, состоянием популяций и хозяйственного уклада древнего человека. Они предполагают, что эти связи были не только прямыми, но и обратными. Активность палеолитического человека оказывала серьезное воздействие на состояние окружающей его среды.
Литература
Агаджанян А. К. Мелкие млекопитающие из разреза стоянки Молодова I // Молодова I. Уникальное мустьерское поселение на Среднем Днестре. М.: Наука, 1982. С. 154–173.
Агаджанян А. К. Фауна мелких млекопитающих Денисовой пещеры // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. (Мат. международного симпозиума). Том 1. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 1998. С. 34–41.
Агаджанян А. К. Мелкие млекопитающие голоценовых отложений Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том V. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 1999. С. 226–230.
Агаджанян А.К, Малаева Е. М., Шуньков М. В. Опыт реконструкции природного окружения палеолитического человека Денисовой пещеры // Экология древних и современных обществ. Тюмень: изд-во Института проблем освоения Севера СО РАН, 1999. С. 9–12.
Агаджанян А.К, Шуньков М. В. Остатки мелких млекопитающих из отложений палеолитической стоянки Ануй-3 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том V. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 1999. С. 6–10.
Агаджанян А.К, Шуньков М. В. Микротериологическая характеристика многослойного разреза палеолитической стоянки Усть-Каракол-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Том VII. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 2001. С. 37–42.
Александрова Л. П., Цейтлин С. М. Местонахождение ископаемых остатков мелких млекопитающих в четвертичных отложениях бассейна р. Нерли. (Владимирская обл.) // Стратиграфическое значение антропогеновой фауны мелких млекопитающих. М.: Наука, 1965. С. 158–161.
Барышников Г. Ф. Палеоэкология древнейших обитателей Горного Алтая // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. (Мат. международного симпозиума). Том 1. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 1998. С. 42–49.
Васильев С.К, Гребнев И. Е. Фауна млекопитающих голоцена Денисовой пещеры // Денисова пещера. Часть I. Новосибирск: ВО Наука, 1994. С. 167–181.
Варов А. И., Косинцев П. А. Крупные млекопитающие Приуралья в позднем голоцене // Материалы и исследования по истории современной фауны Урала. Екатеринбург: изд. «Екатеринбург», 1996. С. 110–117.
Гептнер В. Г., Цалкин В.И Олени СССР (Систематика и зоогеография). М., 1947.
Громов ИМ. Фауна позвоночных тарденуазской стоянки Мурзак-Коба в Крыму // МИА. № 39. 1953. С. 459–462.
Громов ИМ. Верхнечетвертичные грызуны Самарской луки и условия захоронения и накопления их остатков // Тр. ЗИН АН СССР. T. XXII. 1957. С. 112–150.
Громов ИМ Ископаемые верхнечетвертичные грызуны предгорного Крыма // Тр. Комисс. по изуч. четверичного периода. Вып. XVII. 1961.
Громов ИМ, Фоканов В. А. Об остатках позднечетвертичных грызунов из пещеры Кударо I // Кударские пещерные стоянки в Юго-Осетии. М.: Наука, 1980. С. 79–89.
Деревянко А. П., Молодин В.И Денисова пещера. Часть I. Новосибирск: ВО Наука, Сибирская издательская фирма, 1994.
Деревянко А. П., Агаджанян А. К., Барышников Г. Ф., Дергачева М.И, Дупал Т. А., Малаева Л. М., Маркт С. В., Молодин В.И, Николаев С. В., Орлова Л. А., Петрин В. Т., Постное А. В., Ульянов В. А., Феденеева И. К., Форонова ИВ., Шуньков MB. Археология, геология и палеогеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая. Новосибирск: изд. Института археологии и этнографии СО РАН, 1998.
Жермонпре М. Предварительные результаты тафономии Денисовой пещеры (по материалам раскопок 1992 г.) // Altaica. № 2.1993. С. 11–16.
Ивлева Н.Г Микротериологические материалы из пещеры им. Окладникова и Денисова на Алтае // Комплексные исследования палеолитических объектов бассейна Ануя. Новосибирск: изд. ИИФФ СО РАН, 1990. С. 82–101.
Косинцев П. А. Голоценовые остатки крупных млекопитающих Западной Сибири // Современное состояние и история животного мира Западно-Сибирской низменности. Свердловск: изд. УрО АН СССР, 1988. С. 32–51.
Косинцев П. А. Фауна крупных млекопитающих Урала в позднем плейстоцене и голоцене // Материалы и исследования по истории современной фауны Урала. Екатеринбург: изд. «Екатеринбург», 1996. С. 84–110.
Оводов Н.Д, Ивлева Н.Г Фауна позвоночных Денисовой пещеры // Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск: изд. ИИФФ СО РАН, 1990.
Пiдоплiчко I. Гризуни та хижаки з раскошв у с. Журавщ, Прилуцькоi округи // Антрополопя. T. III. 1929. С. 133–147.
Пидопличко И.Г. Нахождение смешанной тундровой и степной фауны в четвертичных отложения Новгород-Северска // Природа. № 5.1934. С. 80–82.
Пидопличко И.Г. Фауна Гонцовской палеолитической стоянки // Природа. № 1. 1936-а. С. 113–116.
Пидопличко И.Г. Фауна Кодакской палеолитической стоянки // Природа. № 6. 1936-6. С. 118–120.
Пидопличко И.Г. Фауна Ольвии (по раскопкам 1935–1937 гг.) // Природа. № 6. 1938. С. 113–116.
Пидопличко И.Г. Палеолитическая стоянка Чулатово I. // Советская археология. T.V. 1940.
Смирнов Н. Г. Мелкие млекопитающие Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург: УИФ Наука, 1993.
Смирнов Н. Г. Разнообразие мелких млекопитающих Северного Урала в позднем плейстоцене и голоцене // Материалы и исследования по истории современной фауны Урала. Екатеринбург: изд. «Екатеринбург», 1996. С. 39–83.
Смирнов Н. Г., Андреичева Л.Н., Корона О. М., Зиновьев Е. В., Головачев И. Б., Павлов П. Ю., Хуфтхаммер А.-К. Материалы к характеристике биоты Приуральской Субаркгики в голоценовом оптимуме // Биота Приуральской Субарктики в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург: изд. «Екатеринбург», 1999. С. 23–60.
Сукачев В. Н., Громов В. И., Бадер О. Н. Верхнепалеолитическая стоянка Сунгирь // Тр. ГИН АН СССР. Вып. 162.1966.
Цалкин В. И. Сибирский горный козел. М.: изд. Московского о-ва испытателей природы, 1950.
Цалкин В. И. Горные бараны Европы и Азии. М.: изд. МОИП, 1951.
Цалкин В. И. Материалы для истории скотоводства и охоты в древней Руси // МИА. № 51.1956.
Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М.: Наука, 1970.
Chaline J. Les rongeurs du Pleistocene moyen et supérieur de France. Paris, 1972.
Fejfar O. Die Wühlmàuse (Microtidae, Mammalia) der àlteren Sammlung aus Stranska skala bei Bmo // Stranska skala I (1910–1945). Anthropos. 1971. C. 20 (N.S. 12). S. 165–174.
Heller F. Die Hamster- und Zieselreste aus Ablagerungen von Stranska skala bei Bmo I // Stranska skala I (1910–1945). Anthropos. 1971. C. 20 (N.S. 12). S. 147–164.
Janossy D. Letztinterglaciale Vertebraten-Fauna aus der Kalman Lambrecht-Hôle (Bükk-Gebirge, Nordost-Ungam) I // Acta zoologica, Acad. Sc. Hungar. T. IX. Fasc. 3–4.1963. S.293–331.
Janossy D. Letztinterglaciale Vertebraten-Fauna aus der Kalman Lambrecht-Hôle (Bükk-Gebirge, Nordost-Ungam) П II Acta zoologica, Acad. Sc. Hungar. T. X. Fasc. 1–2. 1964. S. 139–195.
Janossy D. Der erste Nachweis einer Kalt-Mousterien Vertebratenfauna in Ungran (Tokodagyberek, Kom. Komarom) // Vertebr. Hung. XII. 1970/1971. S. 103–110.
Janossy D. Die Revision jungmittelpleistozaner Vertebratenfaunen in Ungran // Fragm. Min. Pal. 7.1976. S. 29–54.
Koenigswald W. v. Die pleistozane Fauna der Weinberghôhlen bei Mauem II Die Archâologie und Palàontologie in den Weinberghôhlen bei Mauem (Bayem). Grabun-gen 1937–1967. Druck: Tüdingen Chronik, Institute fur Urgeschichte, Tübingen, 1974. S. 53-106.
Kowalski К Some problems of the taphonomy of small mammals // Int. Sympos. Evol. Phil. Biostr. Arvicolids. Pfeil-Verlag, Praha, 1990. P. 285–296.
Kowalski K, Nadachowski A. Rodentia // Excavation in the Bacho Kiro Cave (Bulgaria). Final report. Warszawa, 1982. P. 45–51.
Patou M. Les marmottes: animaux intrusifs ou gibiers des préhistoriques du Paléolithique Il Archaeozoologia. 1987. P. 93–107.
Rzebik-Kowalska B. Insectivore // Excavation in the Bacho Kiro Cave (Bulgaria). Final report. Warszawa, 1982. P. 39, 40.
Storch G. Jungpleistozane Kleinsâugerfunde (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) aus der Brillenhôle // Das Palâolithicum der Brillenhôhle bei Blaudeuren. Teil II. Stuttgart: Verlag Müller & Graff. 1973. S. 106–123.
Sych L. Lagomorpha // Excavation in the Bacho Kiro Cave (Bulgaria). Final report. Warszawa, 1982. P. 52.
Tobien H. Citellus (Rodentia) und Lagomorpha aus den àltem Aufsammlungen an der pleistozanen Lokalitat Stranska skala bei Brno (CSSR) // Stranska skala I (1910–1945). Anthropos. 1971. C. 20 (M.S. 12). S. 137–146.
A. K. Agadzhanyan
Late pleistocene mammals of North-West Altay in conditions of ancient people activity
Summary
Mammals fauna investigation from different Paleolithic sites of Anoy-river area of North-West Altay is showed, that Pleistocene nature and climate alterations had direction character. During late Pleistocene it was scale-down of warmth-supplies and climate continentality was increased. Common directivity of process was complicated by periodical fluctuations, which were conditioning by alternations of comparatively dry and more vast climate periods. Such alteration of natural conditions had rhythmical character. During late Pleistocene the structure of vertical zones was more complicated than modem structure. Saiyano-Altay mountain region was imaging as reserved «continent», limited by steppes and semi-deserts of Mongolia from South, by Kazakhstan steppes from West, by plains of East and Middle Siberia from North, by steppes Hack-assia and Buryatia of East. It were conserved comparatively stable and multicomponent natural complexes in this territory during Pleistocene, what superimposed dint to the history of making and development of Paleolithic man. Fauna from deposits of the end of Pleistocene period on the Denisov,s cave territory, however, is furnished clear evidences of Paleolithic man influencing to natural communities. It is demonstrated the mechanism of anthropogenic factor’s influence as to large cave inhabitants — bears, as to small — bats.
Г. Ш. Асылгараева
К вопросу о формах животноводческой деятельности булгаро-татарского населения (на примере древней Казани)[9]
Изучение и реконструкция хозяйственной деятельности древнего населения по данным остеологических материалов из археологических раскопок является одним из приоритетных направлений археозоологии.
Археологи Татарстана активно изучают территорию Среднего Поволжья, где в конце I тысячелетия нашей эры возникло первое средневековое государственное образование — Волжская Булгария. В результате накоплен значительный фактический материал, в том числе и остеологический, который отражает процесс возникновения и развития городских центров в этом регионе. Некоторые из этих городов, такие как Биляр и Болгар, изучены довольно хорошо, хотя и не полностью [Исследования Великого города 1976; Город Болгар 1987; 1988; 1996]. В число активно исследуемых в последние годы средневековых городов вошла и Казань — единственный памятник Волжской Булгарии и Казанского ханства, возникновение и развитие которого имеет непрерывную историю — от небольшого военно-торгового поселения XI века до современного мегаполиса наших дней [Хузин, Шарифуллин и др. 1995]. Этот город можно сравнить с зеркалом, в котором отразилась история развития булгаро-татарского населения.
Основные остеологические материалы, использованные в данной статье, получены при широкомасштабных археологических раскопках Казанского кремля, проводимых археологической экспедицией «Казанский кремль» под руководством доктора исторических наук Ф. Ш. Хузина учеными-археологами Института истории им. Ш. Марджани н.с. Р. Ф. Шарифуллиным, к.и.н. А. Г. Ситдиковым, к.и.н.
Н. Г. Набиуллиным, к.и.н. А. М. Губайдуллиным, к.и.н. П. Н. Старостиным и сотрудниками Казанского государственного университета д.и.н. А. Г. Мухамадиевым, к.и.н. С. И. Валиулиной, к. ф-м. Е.А.Беговатовым в 1995–2000 гг.[10]
Казанский кремль является многослойным памятником, который расположен в центре города Казани на высоком мысовом холме левого берега реки Казанки — левого притока р. Волги, в трех километрах от ее устья. С точки зрения природного районирования весь этот комплекс находится в зоне широколиственных смешанных лесов на границе с лесостепной зоной.
На материалах Казани исследователям представляется уникальная возможность изучения процесса возникновения и развития производящего хозяйства булгарского города, при превращении его в болгаро-татарский город периода Золотой Орды, а затем — в столицу Казанского ханства и русско-татарский город в составе единого Российского государства.
Стратиграфически археологи разделяют слои в Казанском кремле следующим образом:
I слой — «современный» — XIX–XX вв.;
II слой — «русский» — вторая половина XVI–XVIII вв.;
III слой — «ханский» — с середины XV в. до 1552 г., период существования Казанского ханства;
IV слой — «золотоордынский» — вторая половина XIII в. — середина XV в., период Золотой Орды;
V слой — «домонгольский» — XI в. — первая половина XIII в., период Волжской Булгарии [Ситдиков 2000].
Во всех указанных стратифицированных культурных слоях остатки животных оказались настолько многочисленными, что только за 1995–2000 гг. было собрано и диагностировано 256189 костей, а если принять во внимание и фрагменты из смешанных напластований, то эта цифра возрастает до 300000 единиц[11]. Эти две основные характеристики остеологических материалов из Казанского кремля — их исключительная массовость и тщательный послойный отбор костных остатков археологами, позволили получить уникальную археозоологическую информацию широкого плана, в том числе и по морфологии домашних животных, забитых на памятнике, по их половозрастным и породным особенностям.
В настоящей статье мы сконцентрировали свое внимание на возможности использования этой информации для реконструкции особенностей хозяйственной системы памятника, характера питания населения, специфики традиционных форм животноводческой деятельности сельской округи, а также торговых связей жителей города и булгаро-татарского населения Волго-Камья в течение значительного отрезка времени — целого тысячелетия.
I. Материал и методы его сбора и обработки
Исследование остеологических материалов из раскопок Казанского кремля проводилось, в целом, по следующей методике:
• предварительная дифференциация костей и их фрагментов на остатки млекопитающих (человека и животных), птиц рыб;
• видовое определение костей млекопитающих и подсчет их количества;
• анализ распределения остатков конкретных видов по элементам скелета;
• определение общей сохранности и степени раздробленности остеологического материала для каждого вида;
• определение половозрастных особенностей остатков по видам;
• определение минимального количества особей каждого вида;
• взятие основных промеров костей и статистическая обработка биометрических данных.
Исследованные нами кости из раскопок Казанского кремля являются «кухонными» остатками, то есть они принадлежали животным, мясо которых использовалось в пищу, за исключением костей собак и кошек. О «кухонной» специфике материала свидетельствуют многочисленные следы разрубов и надрезов на костях, следы погрызов их собаками, а также сходная схема раздробления диафизов трубчатых костей. Соответственно, значительная часть костных фрагментов из-за такой кухонной раздробленности трудно поддается диагностике (осколки диафизов трубчатых костей, фрагменты ребер, позвонков и др.). Однако, естественная сохранность костей и их фрагментов оказалась достаточно хорошей, чтобы оценить степень искусственного, в том числе и кухонного, их дробления.
В процессе определения видового и количественного состава оценивалась степень «кухонной» дроблености остеологического материала по разработанной нами методике. Она включает определение для каждого фрагмента «коэффициента дроблености». Так, у целиком сохранившихся костей коэффициент дроблености принимается за «1»; кости, величина которых составляет половину от целой имеют коэффициент дроблености «1/2», костные фрагменты, составляющие 25 % от целой кости — «1/4», остатки костей составляющих менее 25 % — «1/5-1/10», и т. д. в зависимости от размеров. Используя этот показатель «дроблености» для изучаемого остеологического материала, а также исходя из имеющегося опыта работ с другими остеологическими коллекциями со средневековых поселений края, мы можем попытаться с довольно большой степенью вероятности реконструировать традиции приготовления пищи у людей, проживавших на территории данного памятника, а также особенности социального статуса некоторых групп этого населения. При этом мы исходим из предположений, что, с одной стороны, чем меньше коэффициент «дроблености» кухонных костных остатков, тем население было более социально обеспеченным, и напротив — высокая степень «дроблености» костей указывает на низкий социальный уровень жизни населения [Петренко, Асылгараева 2000]. В то же время та или иная степень «дроблености» костей может быть обусловлена либо спецификой традиций приготовления мясной пищи, либо использованием костей в качестве сырья для изготовления орудий. Влияние последних двух факторов дроблености костей может бьпъ в некоторой степени выявлено при сравнении анатомической структуры остатков (принадлежности их к мясным и не мясным частям туш животных) и коэффициента их дроблености.
Кости собак и кошек, диагностированные в процессе раскопок, имели коэффициент дроблености «1», что указывает на их целостность и, соответственно, на неупотребление мяса этих животных в питании местным населением, тогда как костные остатки домашних сельскохозяйственных животных в своем большинстве были раздроблены на фрагменты, что, наряду со следами кухонной разделки, говорит об употреблении мяса этих видов в пищу.
Возраст животных, от скелетов которых сохранились изучаемые кости, определялся по степени срастания эпифизов костей с диафизами, а также — по состоянию зубной системы черепов и нижних челюстей. У различных видов животных состояние синостоза костей (время полного срастания эпифизов с диафизами) наступает в различные возрастные периоды. Нами использованы эти данные по конкретным видам, суммированные в работе О. Цичмана и О. Кроллинга [Zietshmann, Krolling 1955]. Определение возраста по срокам прорезывания зубов для различных видов животных проводилось по таблицам В. Элленбергера, Х. Баума [Ellenberger, Baum 1943]. Для определения возраста лошадей старше пяти лет по степени стирания резцов нами взята информация из работы Корне-вена и Лесбра [1929]. При плохой сохранности резцов возраст лошадей вычислялся по коренным зубам по методике А. Г. Петренко [1965].
Данные видового анализа костных остатков животных по совокупной коллекции в количестве 256189 единиц из пяти хронологически последовательных слоев с XI по XX вв. представлены в таблице 1.
Отметим, что кости семи видов домашних сельскохозяйственных животных составили основу остеологической коллекции из Казанского кремля. Эта особенность сохраняется для всех хронологических периодов существования памятника. Наиболее многочисленными являются «кухонные» остатки основных сельскохозяйственных видов — крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота (овцы и козы), лошади и свиньи.
Данные таблицы 1 показывают значительные различия в объемах собранного остеологического материала. Наиболее богатыми оказались последовательные напластования III слоя — «ханского» — с середины XV в. до 1552 г. — около 130 ООО костей, и II «русского» слоя — второй половины XVI–XVIII вв… — около 83 ООО костей. Наименьшую выборку костей дал самый ранний V слой — «домонгольский» — XI в. — первая половина XIII в. — всего 263 кости.
Очевидно, что неравномерная насыщенность костными остатками различных слоев является, в первую очередь, показателем различий в жизненной активности городского населения древней Казани, а следовательно, большей или меньшей степени заселенности города в разные хронологические периоды.
Таблица 1. Видовая структура остатков млекопитающих из раскопок Казанского кремля (1995–2000 гг.)
Поскольку целью данной статьи является выявление и исследование направленности животноводческой деятельности древнего населения Казанского кремля на разных этапах его функционирования, то прежде всего мы остановимся на фактических результатах изучения возрастных особенностей животных основных сельскохозяйственных видов, мясо которых и употреблялось в пищу.
Костные остатки крупного рогатого скота оказываются среди наиболее часто встречающихся в «кухонных» остатках Казанского кремля (табл. 1)
Возрастная структура крупного рогатого скота, представленная в таблице 2, была получена на основе исследования разрозненных зубов и зубных рядов верхних и нижних челюстей, а также фрагментов трубчатых костей. Нам не удалось более дробно разделить группу взрослых животных старше трех лет, хотя среди них, несомненно, присутствовали особи разных возрастов. Встречены единичные зубы даже очень старых животных.
Таблица 2. Возрастной состав крупного рогатого скота из раскопок Казанского кремля (в %)
Анализируя возрастной состав крупного рогатого скота «домонгольского» V слоя, мы можем сказать, что животные забивались на мясо в большинстве случаев не раньше 3-лет. Это означает достаточно большую продолжительность жизни у двух третей разводимых животных и длительное сохранение в стаде взрослых продуктивных коров, способных к размножению и дающих молоко. Определение пола по костям метаподий в остеологической коллекции «домонгольского» периода оказалось невозможным, ввиду малочисленности самой коллекции и отсутствия целых пястных и плюсневых костей. Однако, полученные возрастные данные можно интерпретировать как свидетельство того, что в этот период на территории Казанского кремля и его сельской округи преобладало молочно-мясное направление скотоводства.
Для «золотоордынского» периода (слой IV) характерна существенная доля животных, убитых в возрасте до 6 месяцев, которая составляла 15,8 %. Такой ранний забой телят мог быть обусловлен многими причинами, в том числе и еще слабо развитой традицией заготовки зимних кормов для скота. Нельзя исключать и зафиксированную по письменным источникам для того времени высокую потребность в шкурах телят, которые использовались для изготовления различных изделий (например, юфтевая кожа). В «золотоордынский» период население города использовало в пищу мясо почти только молодых животных. Из них телки и бычки 1,5–2,5-лет составляют 26,3 %, а особи от 2,5 до 3 лет — почти половину — 47,4 % животных. Крупный рогатый скот старше 3 лет на рынки города поступал гораздо в меньшем количестве — 10,5 %. Таким образом, мы фиксируем увеличение обеспечения телятиной «золотоордынского» населения Казанского кремля, что, вероятно, усиливало значение мясного направления в скотоводстве сельской округи, откуда поступала основная часть мяса на столы горожан.
В «ханском» III слое вновь увеличивается доля остатков взрослых животных старше трех лет (до 25 % — табл. 2). Хотя преобладающее потребление мяса молодых животных, в том числе и до 6 месяцев, остается яркой характеристикой и этого периода. Факторы, обусловившие появление такой возрастной структуры для потребляемого на мясо крупного рогатого скота, вероятно, были связаны с увеличением численности городского населения и изменением исторической роли Казани. Напомним, что именно для этого хронологического периода зафиксирована наибольшая насыщенность культурного слоя костями и их фрагментами. Однако очень старых животных среди диагностированного остеологического материала этого периода мы не обнаружили; скорее всего, мясо от старых животных не пользовалось спросом у городского населения.
Еще более возрастает количество остатков взрослых животных после достижения ими возраста трех и даже чаще 5-6-ти лет (уже до 35,9 %) в выборке «русского» периода существования кремля (слой II). В это время становится несомненной наметившаяся в предшествующий «ханский» период тенденция к уменьшению забоя животных до 6 месяцев (с 9,0 до 1,1 % — табл. 2). Последний факт — наличие в материалах «русского» периода всего 1,1 % остатков телят в возрасте до 6 месяцев, в наибольшей степени отличает их от остеологических данных «ханского» слоя. Он позволяет также предполагать не только появление некоторых изменений в специфике мясного потребления населения «русской» Казани, но и вероятное усиление молочного направления эксплуатации скота в сельской округе.
В «современном» слое I в составе кухонных остатков крупного рогатого скота снова преобладают кости молодых животных возраста 1,5-3-х лет (около 84 % — табл. 2). Остатков животных старше 3 лет встречено только 13,6 %, а костей телят, убитых в возрасте до 6 месяцев — 2,3 %. Это показывает наибольшее сходство с возрастным составом остатков молодых и взрослых животных из материалов IV «золотоордынского» слоя, за исключением данных по телятам.
При диагностике остеологического материала, безусловно, встречаются кости разновозрастных особей, но в нашей коллекции наблюдается преобладание таких возрастных градаций, как: до 6 месяцев, 1,5–2,5 года и старше 3 лет (3,5–4,5 года и старше). Подчеркнем, что между первой и второй группой наблюдается вполне заметный разрыв — в выборках из кремля почти нет особей годовалого возраста (табл. 2). Такие особенности полученной возрастной структуры вполне объяснимы, если напомнить, что нами фиксируется примерный возраст животных в момент забоя скота. Учитывая, что основная масса коров телится весной, с марта по май месяц несложные арифметические подсчеты сезона забоя указывают, что массовый забой скота в Казанском кремле на протяжении практически всего времени его существования приходился, как правило, на конец осени — начало зимы (ноябрь-декабрь).
Среди огромного количества диагностированного остеологического материала очень небольшое количество костей сохранилось в не разрушенном виде. Иногда целыми сохранялись трубчатые кости конечностей, такие как плечевые, лучевые, бедренные, большеберцовые, пясть, плюсна и фаланги. Реже встречаются крупные фрагменты лопаток и тазовых костей. То, что эти кости представлены в целом виде, является свидетельством специфических способов разделки туш для приготовления мяса. Такие большие мясные куски, обозначенные в кухонных остатках плечевыми, большеберцовыми, лучевыми костями, можно было либо варить в посуде большого объема (типа казана), либо готовить их методом вяления, копчения и засолки.
Костные остатки мелкого рогатого скота оказались наиболее многочисленными в кухонных материалах Казанского кремля. За 5 лет работ нами было диагностировано 94883 кости мелкого рогатого скота (табл. 1).
Определение возрастного состава мелкого рогатого скота происходило при анализе разрозненных зубов и зубных рядов верхних и нижних челюстей, а также фрагментов трубчатых костей.
Выделенные нами возрастные группы оказались сконцентрированными, как и для крупного рогатого скота, вокруг вполне объяснимых с точки зрения сезона забоя[12] градаций: 3–4 месяца; 6 месяцев; 1 год; 1,5–2 года; старше 3 лет (табл. 3). Нам также не удалось более дробно разделить группу взрослых животных старше трех лет, хотя среди них, несомненно, присутствовали особи разных возрастов и даже очень старые, но в очень небольших количествах.
В отличие от данных по крупному рогатому скоту, возрастная структура, полученная для мелкого рогатого скота, показывает поразительную однотипность для всех хронологических периодов существования памятника. Во всех слоях, начиная с самых древних, костные остатки молодых животных двух возрастных групп (группа годовалых особей и группа особей 1,5-2-х лет) примерно равными долями составляют основу коллекции (табл. 3). Примерно пятая часть остатков (от 15 % до 20 %) приходится на взрослых животных старше трех лет. И только различия по вкладу немногочисленных остатков ягнят и козлят показывают некоторую специфику в потреблении мяса мелкого рогатого скота у населения Казанского кремля в определенные хронологические периоды.
Таблица 3. Возрастной состав мелкого рогатого скота из раскопок Казанского кремля (в %)
Однако подчеркнем, что население, проживавшее на территории Волжской Булгарии с X века, исповедовало ислам, и ежегодно отмечало такой праздник как Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Наиболее распространенным жертвенным животным являлся мелкий рогатый скот. В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, праздник ежегодно сдвигался на один месяц и возраст животных, соответственно, всегда был разным. По требованиям Корана — главное, чтобы животное было в возрасте не менее 1 года, но можно и в шесть месяцев, если оно выглядит как годовалое.
К марту-апрелю и маю молодняк мелкого рогатого скота достигает возраста 3–4 и 6 месяцев. Поэтому, объясняя наличие среди «кухонных» остатков костей животных 3–4 и 6-месячного возраста, мы предполагаем, что в марте жители Казани, да и всей Волжской Булгарии, отмечали такой праздник как Новый год (Науруз), а в мае, перед посевом яровых культур — Сабантуй (праздник плуга) [Уразманова 2001, с. 376–403]. Безусловно, что таких молодых животных забивали на мясо только в исключительных случаях и, скорее всего, это были люди с достатком, т. к. чем моложе животное, тем нежнее и дороже его мясо. Основная же часть городского населения в эти праздники использовала в пищу мясо животных 1,5 лет, т. е. переживших одну зиму. В этом контексте показательны две тенденции:
Первая — это, при полном отсутствии остатков животных моложе 6 месяцев в самом древнем V слое («домонгольском» XI в. — первая половина XIII в.), постепенное увеличение доли таких животных с 2,5 % (слой IV — «золотоордынский») до 9,2 % (слой I — современный ХIХ-ХХ вв.).
И вторая — это, напротив, постепенное уменьшение остатков еще морфологически молодых животных 1,5-2-х лет от 40–45 % (слои V и IV, соответственно — «домонгольский» и «золотоордынский») до 30 % (современный слой).
Скорее всего, максимальные доли костей годовалых и взрослых животных при полном отсутствии остатков молодых «праздничных» особей в материалах «домонгольского» времени свидетельствует о еще невысоком социальном статусе городского населения этого периода, и существовании наряду с мясным, очевидно, и шерстного направления овцеводства.
В «золотоордынский» и «ханский» периоды (соответственно слои IV и III), вероятно, в связи с резким повышением социальной роли Казанского кремля возрастает значимость потребления мяса мелкого рогатого скота (табл. 3) и, возможно, усиливается мясное направление овцеводства в сельской округе.
А вот изменения по остаткам мелкого рогатого скота в слоях, связанных с появлением русского населения Казани — слой II (вторая половина XVI–XVIII вв.) и слой I (ХIХ-ХХ вв.), не могут быть интерпретированы однозначно. Вероятно, резкое сокращение доли ягнят и козлят, забитых на мясо в возрасте 3–4 месяцев (0,5 %), могло быть связано с тем, что Новый год с XVIII в. стал праздноваться в январе, но тогда становится непонятным увеличение доли этой возрастной группы в современный период.
Однако не стоит забывать и о том, что кроме мяса от овец и коз получали шерсть, шкуры и кожу. Несомненно, шкурки ягнят в определенные времена могли иметь повышенный спрос. Вероятнее всего, овцеводство во все периоды существования Казанского кремля имело и шерстное, и кожевенное направления. Напомним, что со времен раннего средневековья во всем мире ценилась сафьяновая кожа «аль-булгари» — мягкая кожа мелкого рогатого скота, окрашенная в яркие зеленые, желтые, красные цвета, используемая для изготовления обуви и галантерейных изделий [Халиков 2001, с. 162–193]. Для производства такой ценной кожи, как сафьян, скорее всего, использовалась кожа молодых животных до 1 года. Кроме того, из шкур овец производилась овчина, пригодная для изготовления верхней одежды, а шерсть, получаемая в результате стрижки животных, шла на изготовление пряжи и валяльно-войлочных изделий (войлок, кошма, валенки и др.). Да и сами кости мелкого рогатого скота активно использовались как сырье для косторезного промысла.
В то же время, интерпретация того или иного количества остатков мелкого рогатого скота в возрасте до 1 года затрудняется еще и тем, что кости таких животных отличаются плохой сохранностью из-за неполного их окостенения, а также растаскивания и съедания их собаками.
Кости лошади очень часто встречаются в кухонных остатках из археологических раскопов Казанского кремля. С 1995 по 2000 годы диагностировано 75298 костей, принадлежащих лошадям (табл. 1).
Как правило, среди остеологических материалов встречается большое количество разрозненных зубов, по которым можно довольно точно определить возраст лошади. Полученная по разрозненным зубам, зубным рядам нижних и верхних челюстей, а также по трубчатым костям, возрастная структура лошадей включает 4 возрастные категории — животные до 1 года, молодняк 1,5–3 лет, половозрелые, наиболее работоспособные особи 4-10 лет и лошади старше 10 лет. Эти градации хорошо отражают морфологическую, физиологическую и половую зрелость животных и в соответствие с этим возможности их того или иного использования в хозяйственной жизни населения (табл. 4).
Таблица 4. Возрастной состав лошадей из раскопок Казанского кремля (в %).
В слое V («домонгольский» период) диагностированные остатки лошадей принадлежали только взрослым животным. Две трети из них были особи в возрасте 4—10 лет. Одна треть животных забивалась уже после достижения ими 10 лет. Такое отсутствие костей молодых животных свидетельствует о прижизненной ценности лошадей и использовании их на мясо только в чрезвычайных ситуациях в результате выбраковки. Как правило, в тот период лошадь использовалась в основном под седлом для военных целей. Для перевозки грузов и в пашенном земледелии активно использовали волов и быков [Петренко 1984]. Соответственно, лошади были высокоценными животными и забивали их в случае невозможности прижизненной эксплуатации, например из-за полученных травм. О реальности таких ситуаций свидетельствуют находки нескольких целых костей конечностей и их фрагментов, в основном метаподий и фаланг с разрастаниями костных тканей в результате воспаления (рис. 1).
Так же, как и во все последующие периоды, вплоть до современности, в «золотоордынское» время (слой IV), несомненно, сохранялась важная роль лошади как верхового животного, о чем свидетельствует почти неизменная доля остатков взрослых лошадей во всех остеологических материалах Казанского кремля — не менее 70 % (табл. 4). В то же время доля костей молодых животных меняется, несколько увеличиваясь к современности. В «золотоордынский» период лишь 14,7 % лошадей забивали на мясо в возрасте от 1,5 до 3-х лет. А от животных в возрасте до одного года не было найдено ни одной кости. Жеребята 1,5 лет, пережившие одну зиму и нагулявшие жир, забивались, как и крупный рогатый скот, на мясо с наступлением холодов, в ноябре-декабре месяце. Скорее всего, это были выбракованные животные, потому что именно с 1,5 лет начинается обучение молодняка для работы в упряжи и под седлом. Теми же самыми причинами можно объяснить и появление остатков забитых молодых лошадей более старшего возраста 2–2,5 лет, когда начиналась заездка молодняка «под седло».
В период Казанского ханства (слой III) увеличивается забой животных 1,5-3-летнего возраста — 17,2 % (табл. 4). Это, по-видимому, можно связать с отголосками языческих верований волжских булгар, когда конь считался священным жертвенным животным, а употребление его мяса в пищу наделяло человека силой. Подобное поверье и поныне существует среди деревенских татар[13]. Заметим, что возрастная структура лошадей из «ханского» слоя в наибольшей степени находит аналогии с остатками лошадей из последнего «современного» слоя Казанского кремля, где зафиксирована наибольшая доля костей молодых лошадей: 22,2 % от 1,5-3-х летних особей и 4,4 % — от еще даже не достигших годовалого возраста.
В «русский» период среди диагностированного остеологического материала доля костей взрослых лошадей несколько повышается по сравнению с предыдущими двумя периодами и достигает почти 87 %. Однако, если в слоях «золотоордынского» и «ханского» периодов среди забитых взрослых лошадей доминировала группа возраста от 4 до 10 лет (в среднем около 73 %), то в «русском» слое вклад этой возрастной группы достоверно меньше (всего около 48 %). А удельный вес остатков совсем старых лошадей в «русском» слое достигает максимальных значений (почти 39 %) за весь период существования Казанского кремля. Такие особенности возрастного состава лошадей в «русское» время можно объяснить только возросшей ценностью этого вида уже как упряжного животного и естественным стремлением использовать его в хозяйстве как можно дольше.
Кости домашних свиней наименее часто встречаются в кухонных остатках сельскохозяйственных животных из Казанского кремля. За 5 лет раскопок нами было диагностировано 12096 костей, принадлежащих домашним свиньям (табл. 1). Возрастная структура этого вида, представленная в таблице 5, были получена на основе исследования разрозненных зубов и зубных рядов верхних и нижних челюстей, а также фрагментов трубчатых костей.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть отсутствие костей этого вида в самом древнем «домонгольском» слое, что, несмотря на небольшой объем выборки костей из этого слоя, выглядит закономерным фактом.
Таблица 5. Возрастной состав свиней из раскопок Казанского кремля (в %).
Анализ возрастного состава домашних свиней из Казанского кремля по хронологическим периодам показывает, что почти во все времена на памятнике забивали домашних свиней преимущественно в возрасте 1–2 лет. По-видимому, это можно связать с почти исключительно единственным существовавшим и существующим мясным направлением свиноводства, а также чрезвычайно коротким репродуктивным периодом и максимальной эффективностью воспроизводства у этого вида.
В условиях европейской лесостепи основное время опороса у свиней, как правило, приходится на период с мая по август [Карпов 1990]. Таким образом, убой животных в возрасте 1,5 лет должен приходится на осенне-зимний период — наиболее рациональный для заготовки мяса. Вероятно, именно этот сезон можно рассматривать как время основного забоя молодых свиней жителями Казанского кремля на протяжении всего периода его существования.
Единственное исключение составляют остатки домашних свиней из «русского» слоя когда около 48,0 % свиней забивались уже после достижения ими возраста двух лет. Такое более продолжительное содержание основной части поголовья свиней можно связать, по-видимому, с исторической обстановкой на территории Среднего Поволжья после завоевания Казани Иваном IV Грозным. В это время можно предполагать либо более интенсивное заселение и осваивание территории Казани и ее пригорода русским населением, либо усилением христианизации мусульманского населения. Оба этих исторических процесса могли отразиться на хозяйственном укладе населения и привести, в частности, к более длительному содержанию свиней и увеличению потребления мяса этих животных более старших возрастов.
II. Обсуждение и интерпретация результатов
Говоря об особенностях хозяйственной деятельности древнего населения Казани и ее округи, напомним об исторической специфике самого памятника и факторах, которые нам необходимо учитывать для этого памятника при экономической реконструкции.
Домонгольский период в истории Казанского кремля связан с существованием государства Волжская Булгария, которое датируется археологами рубежом IХ-Х вв. — первой половиной ХIII в. [Хузин 2000]. Наиболее крупным археологическим памятником того времени является Билярское городище, расположенное почти в центре западного Закамья в бассейне реки Малый Черемшан, притока реки Большой Черемшан, впадающей в Волгу. Казань была тогда рядовым поселением, и ее население в этот период характеризовалось сравнительно небольшой численностью.
«Золотоордынский» период (вторая половина XIII в. — середина XV в.) в истории Казанского кремля характеризуется усилением хозяйственной активности, связанной с увеличением численности населения, разрастанием города, усилением торговых связей с другими регионами. Из окраинного поселения Казань начинала превращаться в один из значимых экономических и политических центров Среднего Поволжья. Этому способствовало удобное местоположение, выгодное как для торговли, так и для военно-оборонительных целей. В это время она может быть в некоторой степени сравнима с Болгарским городищем — столицей Волжской Булгарии золотоордынского периода [Петренко, Асылгараева 2000].
В начале XV в. Казань представляла собой уже торгово-ремесленный город со значительной ролью в международной трантзиной торговле. Кардинальные изменения в истории Казани происходят в середине XV в., когда она приобретает статус столицы Казанского ханства. Быстро увеличивается численность населения, осваиваются новые территории, растет количество жилых и хозяйственных построек. В ханский период Казань представляла собой уже крупный город с большим укрепленным посадом, кремлем и ханским двором. В нем уживались различные религии и народы, участвуя в активной международной торговле, проходящей у стен Казани. Так как Биляр и Болгар в эпоху Казанского ханства утратили свое первоначальное экономическое значение, вся основная часть торговли сосредоточилась в Казани и, соответственно, весь товарный поток, в том числе, и стада скота, которых пригоняли из южных регионов в обмен на зерно и пушнину, концентрировались на рынках столицы Казанского ханства. «Ханский» период в истории Древней Казани заканчивается в 1552 г. — взятием города войсками Ивана IV Грозного и присоединением Казанского ханства к Российскому государству.
Казанский кремль в «русское» время (вторая половина XVI–XVII вв.) после пожарища 1552 года довольно быстро восстанавливается. Казань сохраняет облик средневекового города, сочетающего в себе традиции болгаро-татарской культуры и влившейся в нее русской.
«Современный» I слой на территории Казанского кремля в наибольшей степени отражает особенности хозяйственной жизни города в XVIII–XIX вв., а все более поздние свидетельства хозяйственной активности человека уже обычно вывозятся за пределы города на свалки и мусороперерабатывающие предприятия.
Таким образом, мы видим, что, за исключением первого «домонгольского» периода, остеологические материалы из всех остальных напластований Казанского кремля отражают главным образом систему пищевого обеспечения и специфические потребности населения города с преобладанием продукции, полученной в торгово-обменных операциях. Иными словами, перед нами не остатки стад животных, разводимых непосредственно населением города, а остатки поставленного на рынок мяса, полученного жителями уже иной территории — сельскохозяйственной округи города и более отдаленных мест. Более того, история Казани — это история сложного взаимодействия разных этнических групп населения с яркими различиями в направленности традиционного хозяйственного уклада, а значит и пищевых предпочтений. К счастью, эта яркая история на протяжении последнего тысячелетия запечатлена в многочисленных исторических и этнографических источниках.
Поэтому очевидно, что прямая экстраполяция информации, полученной по костям животных из раскопок Казанского кремля, на особенности скотоводческой деятельности населения края вряд ли правомерна, хотя изученные материалы, как мы увидим ниже, позволяют все же сделать некоторые заключения по этому вопросу. В то же время, специфика мясного потребления у населения Казанского кремля может быть достаточно детально проанализирована на протяжении всего времени его существования. Данные для этого представлены в таблице 6.
Как уже было отмечено выше, основу остеологических материалов из всех слоев Казанского кремля составляют кости домашних животных, главным образом, четырех сельскохозяйственных видов, которые и являются кухонными остатками. Кости диких животных крайне малочисленны и составляют лишь десятые доли процента. Такой малый вклад наблюдается во всех хронологических напластованиях изучаемого памятника и не зависит от величины выборки. Ни одной кости от скелета охотничьего животного не обнаружено в материалах из «домонгольского» слоя, которые составляют только 0,1 % от общего объема коллекции. Их мало и в выборке из раскопок «ханского» слоя III, которая уже составляет практически половину всех диагностированных костей коллекции — 50,8 % (табл. 6).
Таблица 6. Распределение остатков домашних животных из раскопок Казанского кремля по слоям (%%).
Подчеркнем, что, несмотря на малый объем остатков диких животных в «ханский» период (0,4 % — табл. 6), почти все они принадлежали двум «мясным» видам: лосю (91,6 %) и косуле (4,3 %). Единичные кости показали также присутствие таких, в общем-то, обычных в лесной полосе видов, как кабан, медведь и заяц (табл. 1). Однако в этом слое были диагностированы и костные фрагменты северного оленя и сайгака — животных совсем других климатических поясов. По нашим предположениям, находки костей этих животных говорят, скорее всего, о связях местного населения с северными и южными регионами. Тогда мясо этих животных могло поступать на территорию Казани и в обработанном виде (копченое, вяленое, соленое), а роговые стержни сайги могли использоваться как лекарственные средства.
Городскую специфику материалов Казанского кремля подчеркивают и находки среди кухонных остатков костных фрагментов такого экзотического для данного климатического пояса домашнего животного, как верблюд. Очевидно, они свидетельствуют о широких торговых связях древней Казани в «золотоордынский» и «ханский» периоды, о становлении ее как международного торгового, экономического и культурного центра Среднего Поволжья уже в XIII–XVI вв.
Эта особенность — крайняя малочисленность остатков диких животных, среди которых встречаются виды не местной фауны, по-видимому, достаточно характерна для материалов из средневековых памятников именно городского типа.
Сравнение соотношения остатков домашних и диких видов на других городских памятниках средневековья близких по времени к Казанскому кремлю дает аналогичные результаты. Так, исследованиями А. Г. Петренко [1984] установлено, что костные остатки, диагностированные на территории Билярского и Болгарского городищ, принадлежат соответственно на 99,9 % и 99,2 % домашним животным. В. И. Цалкин [1956] приводит сходное соотношение и для Москвы, Новгорода, Пскова и других средневековых городов.
Таким образом, мясное потребление у населения средневекового города должно было базироваться на самом устойчивом для поставщиков источнике — мясе домашних животных, как мы и убеждаемся на исследуемых материалах. Тогда с полной уверенностью можно утверждать, что население сельскохозяйственной округи Казани занималось разведением в первую очередь тех домашних животных, мясо которых составляло основу пищевого рациона городских жителей.
Данные по соотношению костей основных видов сельскохозяйственных животных в таблице 6 указывают, что на протяжении всего времени существования Казанского кремля именно говядина и конина почти в равном долевом участии являлись основной мясной пищей населения, независимо от его культурной принадлежности, а баранина при этом значительно уступала им по удельному потреблению. Такой вывод становится очевидным, если напомнить о весовом соотношении между крупным и мелким скотом. Любая лошадь, бык или корова, несомненно, тяжелее любой особи мелкого рогатого скота. Для ориентировочных подсчетов, учитывая большой разброс по размерам и у крупного рогатого скота, и у лошадей древней Казани, зафиксированный нами на материалах кремля, можно принять, что в среднем лошади и коровы/быки были в семь и девять раз тяжелее по весу, чем овцы и козы [Животноводство 1978]. В этом случае и выход мясных продуктов от крупного скота был в семь-девять раз больше, чем от мелкого рогатого скота или свиньи. Умножая на соответствующий коэффициент долю костей каждого вида, получаем удельное потребление мяса этих видов по слоям (табл. 7 [14]).
Таблица 7. Соотношение удельного потребления (%%) мяса сельскохозяйственных животных по материалам Казанского кремля.
Анализируя полученные данные по удельному потреблению мяса трех видов сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, лошади и мелкого рогатого скота, заметим, что, только начиная с «русского» периода, наблюдается достоверное увеличение в удельном потреблении говядины по сравнению с кониной. Если напомнить, что именно в этот период зафиксировано наибольшее число находок костей взрослых особей крупного рогатого скота старше трех лет (почти 36 %, табл. 2), то, по-видимому, можно говорить об усилении традиции более длительного содержания коров, а значит и о более существенном значении молочного направления в эксплуатации этого вида. В этот же «русский» период начинается и некоторое уменьшение потребления баранины. Однако различия между максимальным ее потреблением в «домонгольский» (слой V -9,0 %) и «золотоордынский» (слой IV — 8,6 %) периоды и минимальным уровнем, отмечаемым в современный период (слой I — 5,5 %), почти недостоверны, т. к. находятся всего в пределах 4 %. Этот факт, а также отмеченная выше стабильность возрастного состава съеденных особей мелкого рогатого скота для выборок из всех слоев Казанского кремля, позволяют еще раз обратить внимание на ритуализацию — явную «праздничность» потребления мяса этого вида. Не менее 80 % от тех малых объемов баранины, потребление которой зафиксировано на материалах Казанского кремля, давали молодые животные — начиная с 3-4-х месяцев до 2-х лет (табл. 3). Это мясо, несомненно, лучшего качества должно было поставляться на стол главным образом богатых горожан, которыми, очевидно, во все времена и являлись жители кремля.
Обратим внимание также и на максимальные значения удельного потребления конины, зафиксированные в «золотоордынский» (слой IV — 45 %) и «ханский» (слой III — 43,5 %) периоды. Мы уже говорили о повышении военной роли лошади на этом отрезке истории города. Однако именно в это время, если не считать современный период, по нашим материалам фиксируется и максимальное удельное потребление мяса молодых лошадей — не старше трех лет (14,7-17,8 %). Вероятно, это, так же, как и в отношении баранины, могло быть обусловлено высоким социальным положением обитателей кремля в то время.
Наши предположения об изменении со временем социального статуса обитателей Казанского кремля подтверждаются и различиями, зафиксированными по кухонной раздробленности остатков крупных животных. Так, наиболее высокий коэффициент «дроблености» костных остатков крупного рогатого скота зафиксирован в «домонгольский» период, что можно интерпретировать как свидетельство еще низкого социального статуса населения, проживавшего на данной территории (см. табл. 8). Уже в «золотоордынский» период (слой IV) раздробленность костей этого вида уменьшается, достигая минимальных значений в «ханский» период (слой III), когда высокий социальный статус обитателей Казанского кремля не вызывает сомнений.
Таблица 8. Степень «дроблености» костных остатков крупного рогатого скота из раскопок Казанского Кремля.
Первое появление костей домашних свиней среди материалов «золотоордынского» времени (табл. 6,7), несомненно, отражает исторические процессы разрастания города и усиления торговли и также подтверждает сложение особого статуса жителей Казанского кремля именно в этот период. Только в этом случае могло стать реальностью компактное проживание на территории кремля небольшого количества немусульманского населения, которое и использовало в питании мясо этого домашнего вида. В «русском» слое количество костей свиней увеличивается почти в три раза, что связано уже с изменением хозяйственной ситуации после того, как Казань вошла в состав Российского государства.
Сравнивая данные из синхронных городов — Москвы и Казани, можно говорить о предпочтениях в мясном питании, связанных с культурной принадлежностью населения, которые складывались в течение столетий. Так, население Москвы в преобладающем большинстве питалось говядиной и свининой, а конина и баранина, в отличие от Казанского кремля, были наименее востребованным видом мясной продукции [Цолккн 1956]. В Казани же, несмотря на изменение ее статуса и присоединения к Российскому государству, влияние болгаро-татарских культурных традиций по-прежнему было настолько сильно, что приоритеты мясного питания населения оставались постоянными на протяжении тысячелетия (табл. 7).
При обсуждении вопросов о направлениях скотоводческой деятельности населения Среднего Поволжья в средневековье, мы руководствуемся общепринятыми представлениями об обусловленности видового состава стада природными факторами. Каждой природной зоне присущ исторически (эволюционно) адаптированный к ней набор видов определенных животных, как домашних, так и диких. Животноводы стремятся поддерживать такой состав стада, который экологически наиболее устойчив в определенных климатических условиях. Так, в лесных районах Среднего Поволжья с древнейших времен преобладало разведение крупного рогатого скота и лошадей, в лесостепных — крупного и мелкого рогатого скота и свиней, а в степных южных районах — крупного рогатого скота и овец [Петренко 1984].
Видовой состав коллекции из Казанского кремля с преобладанием остатков крупного рогатого скота и лошади оказался типичным для лесной зоны. А в остеологических материалах из Билярского городища и в Болгаре среди домашних видов животных превалируют уже кости крупного и мелкого рогатого скота (соответственно — 45,9 % к 46,5 % на Билярском городище, и — 20,8 % к 66,9 % в Болгаре [Петренко 1984]) что несомненно связано с более южным лесостепным их расположением и естественно более сильным влиянием соседей степняков.
Установленное нами преобладание удельного потребления мяса крупного рогатого скота и лошадей у населения Казанского кремля позволяет утверждать, что именно эти виды достигали наибольшей численности в разводимых стадах ближайшей сельской округи Казани. Очевидно, что эти крупные копытные (с длительным циклом воспроизводства и минимальным числом новорожденных) могут быть использованы в качестве главного источника мясного обеспечения для городского населения только при условии их значительной численности в стадах [Антипина 1997]. Впрочем, возникавший недостаток мяса у местных поставщиков мог компенсироваться и компенсировался, как мы показали выше, широкими торговыми связями города.
Естественно, мясная направленность в эксплуатации крупного рогатого скота в значительной степени превалировала почти во все периоды существования Казани. Однако несомненно, что во все времена в сельскохозяйственной округе Казани существовало также и молочное направление, и выращивание тяглового скота, в частности волов. Соотношение этих разных форм скотоводства, как правило, не удается достоверно зафиксировать по остеологическим материалам. Вместе с тем мы смогли по возрастной структуре документировать различные приоритеты по направлениям в эксплуатации этого вида для двух периодов: для «золотоордынского» (слой IV) — это почти исключительно мясное, а для «русского» (слой II) — значительное усиление молочной направленности (см. выше описание особенностей возрастной структуры для крупного рогатого скота и табл. 2).
При анализе породной морфологии видно, что скот из «золотоордынского» слоя II представлял собой животных с высотой в холке 99,9-148,3 см. Такой значительный размах изменчивости мог возникнуть только при содержании животных в разных экологических условиях или при принадлежности их разным породным группам. Обнаружение этих животных в одном месте — на территории Казанского кремля подтверждает возможность поставок крупного рогатого скота на рынки Казани из достаточно отдаленных регионов — и лесостепных, и даже степных. Среди них выделяются две группы животных — с высотой в холке 101,0-105,0 см и 106,0-110,0 см, причем более рослые особи второй группы составляют 36,5 %, а низкорослые — 27,0 % от общего количества.
Мясное направление в разведении лошадей обусловлено, несомненно, культурными традициями населения Казанского кремля, хотя роль лошадей в военном деле также была значительной. Можно даже предположить, что интенсивная работа по улучшению породности военной лошади через раннюю выбраковку параллельно поддерживала и мясное направление в эксплуатации этого вида. Это предположение подкрепляется некоторыми результатами изучения породной морфологии лошадей из наиболее многочисленной остеологической выборки «ханского» периода (слой III).
Морфологические исследования показали, что лошади «ханской» Казани принадлежали к породным группам, с градацией по росту на «низкорослые» и «среднерослые» [Витт 1952]. Население сел лесной округи Казани довольно интенсивно разводило местные «лесные» породы лошадей, а кочевники, несомненно, пригоняли табуны «степняков» в обмен на пушнину и зерно. Встречены также животные промежуточных размеров — как результат метизации указанных породных групп. Одной из пород лошадей, выведенных во времена Казанского ханства, были «казанки», которые известны до настоящего времени.
Лошади «русского» периода относились уже почти только к полутонконогим «низкорослым» и «средним» по росту особям, причем «низкорослые» особи были в большинстве. Высота в холке лошадей «русского» периода составляла 122.0-142,8 см, при основной массе лошадей с высотой в холке в пределах 128.1-136,0 см — именно эта градация высоты в холке характерна для «низкорослых» лошадей [Витт 1952]. Такие низкорослые лошади, вероятно, наиболее эффективно использовались в упряжке, как транспортное средство.
Небольшие объемы удельного потребления баранины населением Казанского кремля не позволяют делать какие-либо достоверные выводы о приоритетных направлениях в разведении этого вида как в ближайшей сельскохозяйственной округе Казани, так и, естественно, в более отдаленных лесостепных и степных районах. Особенности установленного нами возрастного состава мелкого рогатого скота с преобладанием молодых животных, которые могут быть интерпретированы как свидетельство значительного развития мясного направления в овцеводстве, по нашему мнению все таки обусловлены в первую очередь пищевыми и ритуальными («праздничными») предпочтениями городского мусульманского населения. Более того, результаты изучения морфологии показали наличие в материалах остатков двух породных групп овец: мелкой «лесной» с высотой в холке 61,0-65,0 см, близкой к аборигенным длиннотощехвостым овцам, и более крупной «южной» с высотой в холке 66,0 — 75,0 см — «среднеазиатского» типа, близкой по экстерьеру к современным «черкасской» и «гиссарской» породам, описанным Н. П. Чирвинским [1951] и М. У. Мансуровой [1965]. Такая дифференциация остатков мелкого рогатого скота по породным группам подтверждает предполагаемую нами поставку овец для населения Казанского кремля не столько из ближайшей округи, сколько из достаточно удаленных регионов.
III. Заключение
В заключение необходимо особо подчеркнуть, что наше исследование остеологической коллекции из Казанского кремля показало, прежде всего, специфику кухонных остатков древнего города. Эта специфика обуславливает все возможности и ограничения в интерпретации этих интереснейших материалов. А полученные результаты касаются главным образом особенностей мясного потребления у жителей Казанского кремля.
Наиболее ярким результатом нашим исследований стало обнаружение поразительной устойчивости пищевых приоритетов населения Казанского кремля, связанных с болгаро-татарскими культурными традициями, когда конина не уступала по удельному потреблению говядине, а в определенные исторические периода даже, вероятно, несколько превышала его. Удалось зафиксировать также некоторые изменения в системе мясного потребления (появление и разведение свиней) и связать их с историческими событиями, в частности с влиянием русского населения и с присоединением Казани к Руси.
Однако комплексный анализ видовой структуры, половозрастных характеристик и породной морфологии для наиболее многочисленных видов домашних животных позволил получить определенную информацию и высказать также некоторые предположения об основных направлениях скотоводческой деятельности сельскохозяйственной округи Казани, практиковавшихся на протяжении тысячелетия.
Литература
Антипина Е. Е. Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. № 3.1997. С. 20–32.
Витт В. О. Лошади Пазырыкских курганов // СА. XVI. 1952. С. 163–205.
Город Болгар. Очерки истории и культуры. М.: Наука, 1987.
Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности. М.: Наука, 1988.280 с.
Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. М.: Наука, 1996.
Животноводство. М.: Колос, 1978.
Исследования Великого города. М.: Наука, 1976.
Карпов В. А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных. М.: Росагропромиздат, 1990.
Корневен и Лесбр. Распознавание возраста по зубам и другим производным кожи. М.: «Новая деревня», 1929.
Мансурова М. У. Анатомические, гистологические, химические и физические особенности скелета гиссарских, каракульских и тонкорунных овец Таджикистана. Автореф. дисс____канд. биол. наук. Душанбе, 1965.
Петренко А. Г. К методике определения возраста лошадей по коренным зубам // Сборник аспирантских работ Казанского государственного университета. Казань, 1965. С. 46–52.
Петренко А. Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. М.: Наука, 1984.
Петренко А. Г., Асылгараева Г. Ш. К истории хозяйственной деятельности булгаро-татарского населения (по остеологическим материалам) // Научное наследие А. П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. Материалы научной конференции. М., 2000. С. 340–347.
Ситдиков А. Г. Стратиграфия, хронология и топография Казанского кремля (XI–XVII вв.). Автореф. дисс____канд. ист. наук. Ижевск, 2000.
Уразманова Р. К. Праздники // Татары. М.: Наука, 2001. С. 376–403.
Халиков Н. А. Традиционное хозяйство // Татары. М.: Наука, 2001. С. 162–193.
Хузин Ф. Ш. Булгарский город в X — начале XIII вв. Казань, 2000.
Хузин Ф. Ш., Шарифуллин Р. Ф., Хлебникова Т.А, Набиуллин Н. Г., Ситдиков А. Г. Древняя Казань: некоторые итоги и перспективы археологических исследований. Казань, 1995.
Цалкин В. И. Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси // МИА. № 51. М., 1956.
Чирвинский Н.И Разводимые в России породы грубошерстных овец Избранные сочинения. Т. 2. М.: Гос. изд-во с.-х. литературы, 1951.
Ellenberger W., Baum H. Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. Berlin, 1943.
Zietshmann O., Krolling O. Lehrubuch der Entwicklungsgeschichte der Haustiere. Berlin, Hamburg, 1955.
G. Sh. Asylgaraeva
To the question about forms of stockbreeding activity of bulgaro-tatar population (on the example of ancient Kazan)
Summary
The osteological material from archaeological excavations of Kazan Kremlin — unique settlement with millennium history of development from XI century up to nowadays is used in this work. Bones, finding on the territory of Kazan Kremlin, identified as main domestic animals (cattle, sheeps and goats, horses and pigs) as wild hunting fauna.
As for meat food, Kremlin inhabitants prefer cattle, horse, sheeps and goats meat. Meat of domestic pigs was also using in small quantity by not Islam population. The forms of stockbreeding activity Bulgaro-Tatar population are investigated on the base of archaeozoological data: meat and milk direction of animal-breeding, wool direction of sheep-breeding and so on.
А. А. Карху, И. В. Кириллова, М. Г. Жилин
Охотничий промысел древнего населения стоянки Ивановское VII
Открытое Д. А. Крайновым и Н. А. Хотинским в 1973 г. многослойное поселение Ивановское VII расположено на мысу северного берега Ивановского торфяника, занимающего котловину озеровидного расширения долины р. Нерли Клязьминской в 20 км к северу от г. Переславля-Залесского Ярославской области (рис. 1). Характерной тафономической особенностью торфяниковых местонахождений являются анаэробные бактерицидные условия осадконакопления, обеспечивающие хорошую сохранность органического вещества. Благодаря этому в поселении Ивановское VII, наряду с археологическими объектами минеральной природы — каменными орудиями и керамикой, широко представлены изделия из кости, рога, древесины и волокнистых материалов, разнообразные археозоологические остатки.
В 1992–1997 гг. М. Г. Жилин исследовал хорошо стратифицированные голоценовые отложения в центральной части поселения Ивановское VII. В раскоп площадью 332 кв. м вошли погребенный суходольный мыс палеоозера, неоднократно заселявшийся в мезолите и неолите при низком уровне воды, и примыкающие к мысу шлейфы прибрежных озерно-болотных отложений, одновозрастные с древними поселениями. В настоящее время Ивановское VII является одним из наиболее представительных и полно исследованных многослойных торфяниковых поселений мезолита и неолита лесной зоны Восточной Европы [Жилин, Костылева, Уткин, Энговатова 2002]. Многолетнее комплексное изучение поселения Ивановское VII, помимо собственно археологических результатов, описаний литологии и стратиграфии вмещающих отложений, позволило получить сведения по радиоуглеродной хронологии и палинологии памятника, по составу костных остатков рыб, птиц и млекопитающих. Собранные данные предоставляют основу для реконструкции палеоэкологических условий обитания и различных аспектов хозяйственной деятельности древнего населения поселения Ивановское VII.
Судя по составу остатков млекопитающих и птиц единственным значимым агентом их накопления на стоянке Ивановское VII была промысловая деятельность древнего населения [Карху 1998; 2002; Кириллова 1998; 2002; Карху, Кириллова 1999]. В данной работе рассмотрены особенности охотничьего промысла обитателей стоянки Ивановское VII на различных этапах ее заселения в мезолите и неолите.
О значении отдельных видов зверей и птиц в структуре охотничьего промысла древнего населения можно судить по показателям относительного обилия — доле в общем количестве остатков и доле в общем минимальном количестве особей. Показатель количества идентифицированных остатков (КИО) больше отвечает целям выявления промыслового значения отдельных видов, поскольку преимущественная сохранность костей от видов более крупных размеров соответствует их большей промысловой роли, по крайней мере, в качестве источника пищи. К числу видов, имевших заметное хозяйственное значение, нами отнесены те, чья доля КИО более, чем в одном из культурных слоев стоянки Ивановское VII превышает 5 %. При этом в случае птиц принятый критерий обилия применен не к отдельным видам, а к однородным в промысловом отношении группам, состоящим из систематически и экологически близких видов.
Млекопитающих, имевших доминирующее промысловое значение для населения стоянки Ивановское VII, оказалось всего четыре вида: лесная куница, лось, бобр и водяная полевка. В двух культурных слоях (КС) принятый показатель обилия превышен также и по остаткам собаки. На долю этих пяти видов приходится от 82 (КС II) до 95 % (КС III) от общего количества остатков млекопитающих. Среди птиц основу добычи составляли гагары (2 вида), поганки (3 вида), гуси (4 вида), речные утки (7 видов), нырки (5 видов), крохали (3 вида) и глухарь. Основным промысловым видам птиц принадлежит от 82 (КС II) до 90 % (КС IV).
Стратиграфия раскопа представлена на рисунке 2. В раскопе выявлены 5 культурных слоев.
Нижний мезолитический слой — культурный слой IV — залегает в сером оторфованном песке (слой 7), а в северной части раскопа — также и в слоях рыжебурого торфа с песком (слой 6б), под линзами разнозернистого намывного песка.
Поселение, существовавшее во время образования нижнего мезолитического слоя, занимало низкий песчаный мыс у подножия суходола. В КС IV найдены изделия из камня, кости и рога, соответствующие раннему этапу бутовской культуры.
Радиоуглеродные датировки слоя: 9650±110 л.н. (ГИН-9520) и 9640±60 л.н. (ГИН-9516) [Зарещая, Сулержицкий, Жилин 2000; 2002]. Для самого низа сапропеля (слой 5), перекрывающего КС IV, получены датировки 9690±120 (ГИН-9367), 9500±110 (ГИН-9517) и 9500±100 л.н. (ГИН-9385). Наиболее вероятный возраст формирования КС IV -9700-9600 л.н.
Результаты спорово-пыльцевого анализа [Алешинская, Спиридонова 2002] позволяют отнести КС IV к первой половине пребореального периода. Во время образования этого слоя в окрестностях поселения Ивановское VII преобладали разреженные сосновые леса с примесью различных видов берез, включая карликовую. Травяной покров образовывали злаки, осоки и полыни при участии маревых — реликтов ксерофитной перигляциальной флоры. Разреженность лесов и сложная комплексность травянистых и кустарничковых сообществ были унаследованы от позднеледниковья. Озеро находилось в регрессивной фазе и на начальной стадии зарастания. Климат в период формирования КС IV был несколько более прохладным и сухим, чем современный [Величко, Андреев, Климате 1994].
Средний мезолитический слой — культурный слой III — в северной части раскопа залегает в слое рыже-бурого торфа (слой 6а), преимущественно в его верхней части. В южной, западной и восточной частях раскопа находки среднего мезолитического слоя происходят из верха оливкового сапропеля (слой 5), замещающего слой 6а. Поселение располагалось у подножия суходола во время небольшого понижения уровня воды в трансгрессивную фазу палеоозера. Каменные и костяные орудия говорят о принадлежности КС III к переходу от среднего к позднему этапу бутовской культуры.
Палинологический метод позволяет отнести КС III к первой половине бореала [Алешинская, Спиридонова 2002]. По вмещающим слоям — сапропелю и торфу получены радиоуглеродные датировки [Зарецкая, Сулержицкий, Жилин 2000; 2002]: 8780±120 (ГИН-9383), 8550±100 (ГИН-9366), 8530±50 (ГИН-9373 И), 8290±160 (ГИН-9372), 8200±300 (ГИН-9373 I). Перекрывающий его слой стерильного сапропеля отнесен по пыльце ко второй половине — концу бореала, что согласуется с радиоуглеродными датировками: 8630±120 (ГИН-9382), 8540±110 (ГИН-9365), 8530±100 (ГИН-9364), 8360±160 (ГИН-9371), 8080±100 (ГИН-9363) и 8020±160 л.н. (ГИН-9381). Большинство находок КС III происходят из верхов слоев 5 и 6а, наиболее вероятное время их образования — 8700–8500 л.н.
В период формирования КС Ш доминировали березовые и березово-сосновые леса. Влажные участки занимали заросли серой ольхи. Значительные пространства были покрыты заболоченными и разнотравными лугами [Алешинская, Спиридонова 2002]. Эго время отличает умеренно влажный и прохладный климат [Величко, Андреев, Климанов 1994]. К концу периода накопления КС III произошло потепление. Ивановский и другие торфяники Волго-Окского междуречья предоставляют доказательства трансгрессии палеоозер того времени, свидетельствующей о повышении влажности.
Верхний мезолитический слой — культурный слой IIа — залегает в верхней части слоя коричневого торфа (слой 3в). Слой оставлен кратковременным поселением, существовавшим в период регрессии озера. Непродолжительная трансгрессия, во время которой отложился слой 3в', привела к затоплению стоянки. Верх некоторых найденных здесь крупных костей залегает в низах слоя 3в', тогда как их основная часть — в слое Зв. Это предполагает, что в момент затопления кости находились на, или вблизи, поверхности. Каменные, костяные и роговые изделия из верхнего мезолитического слоя принадлежат к финальному этапу бутовской культуры. Радиоуглеродные датировки торфа [Зарецкая, Сулержицкий, Жилин 2000; 2002]: 7530±150 (ГИН-9361 1), 7520±60 (ГИН-9361 II), 7490±120 (ЛЕ-1260), 7375±170 (ЛЕ-1261) и 7320±190 л.н. (ГИН-9369 I). Наиболее вероятный возраст верхнего мезолитического слоя лежит в интервале 7530–7320 л.н.
Вмещающая КС IIа верхняя часть слоя 3в отнесена по пыльце к началу атлантического периода [Алешинская, Спиридонова 2002]. Слой образовался в условиях потепления и уменьшения влажности по сравнению с предшествующим периодом. Среди древесных пород преобладала сосна, участие березы в древостое уменьшилось, а ели — немного увеличилось. Хотя осоки и продолжали доминировать в группе травянистых растений, их доля уменьшилась, тогда как злаков — возросла.
Нижний неолитический слой — культурный слой П — отделен от верхнего мезолитического слоя тонкой стерильной прослойкой серо-коричневого торфа с примесью сапропеля или оторфованного сапропеля Зв' и связан со слоем 36 — четко выраженной погребенной торфянистой почвой, сформировавшейся в условиях пониженной увлажненности, вызванной регрессией озера. Основное поселение занимало вершину мыса, а прибрежная площадка служила местом разнообразной хозяйственно-бытовой деятельности. КС II представляет верхневолжскую культуру раннего неолита. По вмещающему культурные остатки торфу получены радиоуглеродные даты [Зарецкая, Сулержицкий, Жилин 2000; 2002]: 6690±110 (ГИН-9359I), 6670±140 (ГИН-9359 II), 6410±50 (ГИН-9378I), 6260±90 (ГИН-9378 II).
По палинологическим данным слой относится к первой половине атлантического периода [Алешинская, Спиридонова 2002]. Природные условия формирования КС II в целом сходны с таковыми КС IIа. Среди древесных пород абсолютно преобладала сосна. В группе травянистых растений увеличилась доля осок, а злаков — уменьшилась. В составе споровых возросло количество папоротников, но доминировали по-прежнему зеленые мхи. Около 6400 л.н. среднегодовая температура понизилась примерно на 1 °C, а влажность увеличилась, оставаясь при этом ниже современной [Палеогеографическая основа… 1994]. В это время отмечается дальнейшая регрессия палеоозера.
Верхний неолитический слой — культурный слой I — залегает в слое 3а. Оставившее КС I поселение располагалось на суглинистом мысу и занимало низкий заболоченный берег озера у подножия этого мыса, раскопом вскрыт прибрежный участок стоянки. Этот слой относится к льяловской культуре среднего неолита. Вмещающий культурные остатки торф дал следующие радиоуглеродные датировки [Зарещая, Сулержицкий, Жилин 2000; 2002]: 5830±90 (ГИН-9358 I), 5600±50 (ГИН-9358 II), 5320±50 (ГИН-9357 I), 5140±50 (ГИН-9357 II), 5120±50 (ГИН-9377I), 5000±40 (ГИН-9377II).
Палинологический метод позволяет отнести образование отложений, вмещающих КС I, к оптимуму атлантического периода [Алешинская, Спиридонова 2002]. В это время в окрестностях поселения Ивановское VII в составе древостоя преобладали ольха и широколиственные породы, главным образом, липа. Примерно в равных количествах присутствовали сосна, береза и ель. Пыльца травянистых пород отмечена в очень незначительном количестве. Среди споровых преобладали зеленые мхи и папоротники. В верхней части слоя доля пыльцы ольхи резко уменьшается, и на первое место вновь выходит сосна. Остается заметным участие широколиственных пород с преобладанием липы. Климат стал более теплым и влажным. Уровень палеоозера несколько повысился, и почвообразование у подножия суходольного мыса прекратилось.
Идентифицированный материал по млекопитающим стоянки Ивановское VII включает 4666 образцов (около 85 % всех остатков), представляющих 18 современных видов; 51 находка определена с точностью до рода. Среди остатков птиц видовое определение выполнено для 1042 находок (около половины от их общего числа), относящихся к 47 современным видам; для 166 костей птиц установлена родовая или подсемейственная принадлежность. Послойное распределение идентифицированных находок млекопитающих и птиц представлено в таблице 1. Изменение относительного обилия остатков основных промысловых видов млекопитающих и групп птиц показаны на рисунках 3 и 4.
Таблица 1. Слстав остатков млекопитающих и птиц стоянки Ивановское VII
Сохранность и полнота анатомического состава костей различных видов животных мало меняются от слоя к слою. Характер сколов костей указывает на то, что их механическое разрушение происходило до погребения. Остатки млекопитающих среднего-мелкого размерного класса (например, куницы, барсука, бобра, зайца), как правило, целые или мало поврежденные. Напротив, трубчатые кости крупных зверей (лось, медведь, кабан, северный олень), как правило, раздроблены. Высокая анатомическая полнота набора элементов скелета предполагает исходное присутствие на стоянке полных туш добытых животных, включая крупных. В отличие от сопоставимых по размерам млекопитающих, птицы представлены по большей части сильно фрагментированными остатками.
В нижнем мезолитическом слое находки млекопитающих наиболее многочисленны и разнообразны среди всех исследованных слоев — 1722 идентифицированных костей, относящихся к 16 видам. КС IV отличает также и сравнительно наибольшее количество остатков птиц: по 921 образцу установлено присутствие 34 видов. Общее количество идентифицированных остатков птиц в этом слое составляет около 53 % от костей млекопитающих.
Среди млекопитающих наибольшее промысловое значение в период формирования КС IV имели лось и бобр при небольшом перевесе в пользу первого вида: доли их КИО составляют 38,3 и 35,3 %, соответственно. Почти в четыре раза уступает каждому из этих видов лесная куница — 11,1 % от общего числа остатков млекопитающих. На долю КИО собаки приходится 5, а водяной полевки — 2,4 %.
Важнейшей промысловой группой птиц в КС IV, как, впрочем, и во всех остальных слоях, являлись речные утки — 36,4 %. Почти в два раза меньше добывалось поганок и нырков — 19,7 и 18,9 %. Далее следуют гуси (5,3 %), гагары (4,8 %) и глухарь (3,9 %). Наименьшее промысловое значение имели крохали (1,1 %).
Средний мезолитический слой значительно уступает предшествующему по числу определенных остатков млекопитающих и птиц-360 и 135, соответственно. Общее КИО птиц составляет всего 38 % от КИО млекопитающих. При этом по систематическому разнообразию птицы, тем не менее, в 2 раза опережают млекопитающих — 24 вида против 12.
В КС III треть всех определенных остатков млекопитающих приходится на долю водяной полевки (33,6 %). На втором месте стоит бобр — 23,1 %. Лесная куница и лось представлены примерно равным КИО — 15,8 и 15,6 %. КС III первенствует среди всех исследованных слоев поселения Ивановское VII по числу остатков собаки — 6 % от общего КИО млекопитающих, идентифицированных в данном слое.
Более половины — 52,6 % — всех остатков птиц в КС П1 принадлежит речным уткам. Примерно в 5–6 раз реже речных уток добывались поганки (9,8 %) и нырки (9 %). По сравнению с другими культурными слоями стоянки Ивановское VII, КС III отличает относительно наибольшее число остатков глухаря — 5,7 %. Не играли существенной роли в промысле птиц гагары (2,5 %), гуси (1,6 %) и крохали (1,6 %).
Верхний мезолитический слой. Общее КИО млекопитающих — 740 (12 видов), птиц-94 (22 вида). Остатки птиц составляют 13 % от числа остатков млекопитающих.
Примерно по трети от общего КИО млекопитающих приходится на бобра (34,1 %) и водяную полевку (32 %). В 2 раза реже встречаются остатки лося (17,2 %). Остатки лесной куницы составляют 8 % от общего КИО млекопитающих, а собаки — 3,5 %.
В КС На отмечено наибольшее среди исследованных слоев относительное КИО речных уток — 67,7 %. На долю нырков, второй по обилию в этом слое группе птиц приходится всего 10,9 % остатков. Почти столько же составляют совместно остатки гагар (1,4 %), поганок (2,7 %), гусей (5,3 %) и глухаря (1,4 %). Крохали в КС На не найдены.
Из нижнего неолитического слоя определены 915 костей млекопитающих и всего 39 — птиц что составляет 4 % от КИО млекопитающих. Но и в этом случае птицы первенствуют по числу видов — 17 против 14.
По сравнению с предшествующими слоями, в КС II заметно возрастает обилие остатков лесной куницы, занимающей первое место — 30,9 %. Следующими по вкладу в общее КИО млекопитающих идут бобр (23,7 %) и лось (20 %). На долю водяной полевки приходится 4,6 % остатков, собаки — 3,1 %.
Участие речных уток в остатках птиц снижается в КС II до 36 %. Поровну представлены 2 другие группы водных птиц поганки и нырки, — по 10,3 %. Немного больше крохалей — 12,8 %. На долю гагар приходится 7,7 % от общего КИО птиц глухаря — 5,1 %. Присутствие гусей не установлено.
Верхний неолитический слой стоит на втором месте после КС IV по общему количеству остатков млекопитающих — 980 — и на последнем месте по КИО птиц — всего 19 идентифицированных образцов. Из последних 9, или 47,4 % общего КИО птиц принадлежат 1 особи лебедя-кликуна; данные остатки не учитывались при рассмотрении состава охотничьей добычи. Общее число остатков птиц в КС I — около 2 % от числа остатков млекопитающих. Только в этом культурном слое видовое разнообразие остатков млекопитающих превышает таковое птиц — 11 и 9 видов, соответственно.
Абсолютно наиболее значимым промысловым видом млекопитающих в КС I являлась лесная куница — 75,1 % общего КИО. Показатели обилия лося и бобра весьма близки — 7,4 и 6,8 %, соответственно. На долю водяной полевки приходится всего 0,5 % находок млекопитающих.
Вследствие крайне незначительного общего КИО птиц показатели их обилия в КС I трудно сопоставлять с соответствующими показателями по другим слоям. Преобладают в КС I речные утки — 21,2 % остатков, за ними следуют крохали — 15,8 %, по 53 % остатков приходится на гагар и нырков. Поганки, гуси и глухарь не обнаружены.
Общей особенностью промысловых остатков из всех культурных слоев стоянки Ивановское VII является существенное количественное преобладание млекопитающих над птицами. Промысел последних имел сравнительно большое значение только в период формирования нижнего мезолитического слоя: общее КИО птиц превышает в КС IV половину данного показателя по млекопитающим. В более молодых культурных слоях общее КИО птиц последовательно уменьшается, достигая всего 2 % от общего КИО млекопитающих в КС I.
Лось, бобр и лесная куница являлись важнейшими промысловыми млекопитающими на всех этапах заселения стоянки Ивановское VII. Это характерно в целом для мезонеолитических поселений лесной зоны Русской равнины — стоянок Языково I [Кириллова 1990], Становое IV, Сулать (Кириллова, неопубликованные данные), Замостье [Choix 1996] и др.
Также типично для того времени абсолютное преобладание среди объектов птичьего промысла различных водоплавающих птиц в первую очередь, речных уток. На это указывают результаты изучения неолитических стоянок Языково I, Маслово Болото, Воймежная I [Карху 1990; 1992] и мезолитической стоянки Становое IV (Карху, неопубликованные данные). По усредненным показателям вслед за речными утками в охотничьей добыче на стоянке Ивановское VII следуют нырки и поганки, крохали и гагары, гуси. Глухарь занимает примерно промежуточное положение между гагарами и гусями. Общей особенностью костного материала по птицам из всех исследованных культурных слоев является крайне незначительная доля остатков молодых особей, что указывает на преимущественно весенне-летнюю добычу птиц до подъема молодых особей на крыло [Карху 2002]. Приуроченность птичьего промысла населения стоянки Ивановское VII к теплому времени года проявляется и в том, что среди всех 47 определенных видов полностью оседлы только глухарь и тетерев; ограниченно кочуют или оседлы длиннохвостая неясыть и серая ворона, а все остальные виды — перелетные.
При сопоставлении послойных особенностей состава археозоологических остатков следует учитывать, что они могут отражать влияние целого ряда факторов. Основными среди них являются следующие: (1) репрезентативность исследованного материала; (2) промысловая ориентация населения стоянки, обусловленная палеоэкологическими условиями; (3) сезонность промысла; (4) характер хозяйственного использования исследованных участков стоянки; (5) культурные особенности древнего населения. В случае стоянки Ивановское VII можно предполагать воздействие на состав промысловых остатков всех названных факторов.
(1) Наибольшее количество идентифицированных остатков млекопитающих происходит из КС IV — 1722, наименьшее — из КС III: 360. Три других культурных слоя представлены близким количеством остатков: КС IIa — 740; КС II — 915; КС I — 918. Можно полагать, что данные различия в количестве остатков млекопитающих позволяют достаточно обоснованно сопоставлять их состав. Напротив, в случае птиц различия в количественной репрезентативности послойных сборов весьма значительны: общее число идентифицированных остатков из КС IV более, чем в 3 раза превышает таковое из остальных четырех слоев вместе взятых, причем КС I уступает КС IV по данному показателю более, чем в 48 раз. Очевидно, что при такой количественной неравноценности обнаруживаемые различия в составе остатков птиц следует интерпретировать с большой осторожностью, не преувеличивая значение отсутствия отдельных видов.
(2) Промысловая ориентация существенно зависит от доступности объектов охоты. Она определяется, в частности, общей численностью промысловых видов на охотничьей территории, а также наличием пространственно-временных концентраций, вызывающих более или менее продолжительные локальные увеличения численности охотничьих видов. Таким образом, на промысловую ориентацию непосредственно влияют экологические условия. Очевидно также, что промысловая ориентация зачастую обусловлена сезонностью в появлении массовой добычи. И влияние всех этих факторов на структуру охотничьего промысла тесно взаимосвязано.
Именно данные по изменению экологических условий позволяют, например, понять странное, на первый взгляд, обилие водяной полевки в среднем мезолитическом слое. В КС III на долю этого вида приходится треть всех идентифицированных остатков млекопитающих, а занимающий здесь второе место бобр примерно в полтора раза менее многочислен. В то же время в нижнем мезолитическом слое, во многом сходном с КС III по составу археозоологических находок, остатки водяной полевки составляют всего 2,4 % от общего КИО млекопитающих. При этом состав находок млекопитающих и птиц в КС Ш не дает оснований предполагать наличие иных значимых агентов накопления костных остатков, помимо промысловой деятельности древнего населения [Карху 2002; Кириллова 2002]. В таком случае причину, объясняющую столь резкие различия в обилии остатков водяной полевки, следует искать в особенностях промысла этого вида. Наиболее добычлив промысел водяных полевок в период весеннего паводка, когда они вынуждены покидать свои норы и убежища, отрытые в берегах рек и озер и устроенные в зарослях камыша и кочках на болотах. Зверьки ищут спасения от наступающей воды на возвышенных местах — незатопленных островах, ветвях кустов и деревьев. В этом время добыча водяных полевок очень проста. Чем выше уровень подъема воды, тем больше нор и убежищ покидается полевками, тем меньше пригодных мест для пережидания паводка, и тем больше на них скопления зверьков. Сильнее весенний паводок — лучше условия для промысла водяной полевки. Как указано выше, нижний мезолитический слой сформировался в регрессивную стадию озера, средний — в трансгрессивную. Естественно предположить, что уровень весенних паводков на стадии трансгрессии озера был выше, чем на стадии регрессии. Таким образом, во время отложения КС III существовали экологические условия, делавшие промысел водяной полевки особенно добычливым.
В КС IIа водяная полевка уступает только бобру — доли этих видов составляют примерно по трети от общего КИО млекопитающих. Однако в КС II, для которого реконструируется сходная с КС IIа экологическая обстановка, доля водяной полевки составляет только 4,6 % остатков. Стоянки, оставившие эти культурные слои, функционировали во время регрессии палеоозера. Видимо, во время отложения культурного слоя Па отмечалось резкое увеличение численности водяной полевки, что периодически случается вне зависимости от экологических условий.
Влияние изменения экологических условий на составе птичьих остатков можно видеть в уменьшении в слоях атлантического периода — КС IIа и КС II — доли видов, придерживающихся открытой воды: нырковых уток, крохалей, гагар и поганок. Это, скорее всего, связано с уменьшением числа пригодных местообитаний в результате зарастания и заболачивания озерной системы, вызывавших сокращение общей площади и расчленение водной поверхности.
(3) Сезонность охотничьего промысла обусловлена постоянными годовыми изменениями в биологии объектов охоты — миграциями, размножением, линькой. Рассмотренный выше фактор промысловой ориентации характеризуется определенной направленностью, связанной с общими или частными, более или менее длительными тенденциями развития природного окружения. Напротив, сезонный фактор охотничьего промысла в силу цикличности своей природы можно считать ненаправленным.
Сезонность промысла проявляется, в частности, в особенностях состава архео-зоологических остатков из неолитических слоев. Среди млекопитающих здесь на первое место выходит лесная куница, занимающая в мезолитических слоях стоянки Ивановское VII только 3–4 места. В КС II доля куницы составляет примерно треть от общего КИО млекопитающих, в КС I — 3/4. При этом большая часть остатков куницы представляет целые скелеты, собранные в отдельных ямках. Вероятнее всего такая сохранность связана с добычей куницы в холодное время года — поздней осенью и зимой, когда промысел давал пушнину высшего качества. После снятия шкурок тушки зверьков промерзали, обеспечивая компактную сохранность скелетов.
В пользу осенне-зимней приуроченности остатков из КС П говорит и находка пенька от сброшенного лосиного рога. По современным данным [Филонов 1983], лоси в различных районах лесной зоны Русской равнины теряют рога с ноября по февраль, взрослые быки — раньше, молодые — позже. Предположение о формировании КС II и КС I в холодное время года согласуется и с относительно низким видовым разнообразием и малочисленностью найденных здесь остатков птиц.
Напротив, многочисленность и разнообразие остатков птиц при крайне незначительном количестве находок молодых особей предполагает, что образование мезолитических слоев стоянки Ивановское VII происходило в весенне-летнее время. Это подтверждают и данные по возрасту бобров, и наличие в КС IV и КС III остатков обыкновенного хомяка, впадающего в холодное время года в спячку [Кириллова 2002]. Рассмотренное выше обилие остатков водяной полевки в КС III и КС IIа также относит образование этих слоев к весенне-летнему периоду. В КС IV встречена скорлупа лесного ореха (даже со следами разгрызания его зубами, вероятно, человека), а также семена желтой кувшинки, причем не только в слое, но и в копролитах. Примечательно отсутствие каких-либо жилых сооружений в мезолитических слоях. Эти факты также указывают на теплое время года. Наличие же трех фрагментов черепов лосей с пеньками от сброшенных рогов в слое IIа [Кириллова 2002] говорит о посещении этой стоянки также и в холодное время года, вероятно, для охоты на лосей. Во время весеннего половодья и осеннего паводка низкая площадка, на которой располагалась стоянка, заливалась или подтапливалась, что исключает круглогодичное заселение.
(4) Состав археозоологических остатков может отражать и особенности хозяйственного использования отдельных участков исследуемых памятников. Так, судя по археологическим данным, мезолитические слои IV и IIпредставляют центральную часть стоянки Ивановское VII, а неолитические — периферию, которую использовали в качестве хозяйственных площадок, где ошкуривали и разделывали добычу. Особенно убедительна такая интерпретация в случае КС I, отличающегося низким общим разнообразием остатков зверей и птиц при резко выраженном преобладании куницы, сохранившейся в виде компактно расположенных целых скелетов.
(5) Влияние культурных особенностей древнего населения стоянки Ивановское VII на состав археозоологических материалов более всего выражено в случае собаки, являвшейся неотъемлемым элементом хозяйственного уклада. Собаки были среднего роста, примерно с русско-европейскую лайку, коренастые, с относительно массивными челюстями. Представлен весь возрастной спектр — от ювенильных до старых особей.
Хотя остатки собаки в многослойном памятнике Ивановское VII в целом относительно немногочисленны, по установленному критерию обилия собака отнесена к доминирующим видам. Остатки собаки найдены в четырех культурных слоях, а их отсутствие в КС I, скорее всего, связано не с ее отсутствием в хозяйстве древних охотников, а с тем, что материал собран на «разделочной площадке».
Судя по следам искусственного воздействия, наиболее используемыми элементами скелета собаки были нижние челюсти и крупные трубчатые кости — плечевые, бедренные, лучевые, берцовые (рис. 5). Отсутствуют или редки следы искусственного происхождения на позвонках, лопатках и метаподиях.
Наличие на костях следов, оставленных различными орудиями, свидетельствует, что собак, наряду с другими животными, использовали в пищу. Кости собак шли и на изготовление костяных изделий. Некоторые бедренные, плечевые, берцовые кости после удаления эпифизов служили в качестве игольников. При этом от плечевых использовали диафиз, от бедренных — дистальную часть, а от берцовых — проксимальную.
Изменения в морфологии скелета собак от слоя к слою не заметны. Нижние челюсти из КС IV и КС II морфометрически не различаются.
Вероятно, культурными традициями можно объяснить редкость в КС IIа и II остатков кабана, который несомненно был широко распространен в окрестностях стоянки в атлантическом периоде.
Данные по стоянке Ивановское VII, совместно с ранее полученными результатами по стоянкам Становое IV, Языкове I, Воймежная I, Маслово Болото, Замостье, Сулать и др. подтверждают, что промысел зверей и птиц являлся важнейшим, наряду с рыболовством [Сычевская 2002], способом жизнеобеспечения у населения лесной зоны Русской равнины в мезолите и неолите.
Основу промыслового набора зверей и птиц стоянки Ивановское VII составляли виды, приуроченные к лесным и водно-болотным биотопам.
Все три мезолитических слоя стоянки Ивановское VII сформировались в теплое время года. На это указывают многочисленность остатков водяной полевки, присутствие молодых бобров, хомяка и абсолютное преобладание в промысловом орнитокомплексе перелетных видов. При этом стоянка, в период формирования культурного слоя IIа, посещалась и в холодное время года для охоты на лосей. Исследованные части неолитических слоев образовались в осенне-зимний период, о чем свидетельствует многочисленность остатков лесной куницы в виде целых скелетов, редкость остатков водяной полевки и птиц
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 00-15-97754.
Алешинская А. С., Спиридонова Е. А. Природная среда и периодизация голоцена по стоянке Ивановское 7 // Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002. С. 85–92.
Величко А. А., Андреев А. А., Климанов В. А. Динамика растительности и климата Северной Евразии в позднеледниковье и голоцене // Короткопериодные и резкие ландшафтно-климатические изменения за последние 15000 лет. М., 1994. С. 4–60.
Жилин М. Г., Костылева E. Л… Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002.
Зарецкая Н. Е., Сулержицкий Л. Д., Жилин М. Г. Радиоуглеродные исследования хронологии поселения Ивановское 7 // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Т. 1. Тверь, 2000. С. 137–142.
Зарецкая НЕ., Сулержицкий Л Д., Жилин М. Г. Радиоуглеродное датирование поселения Ивановское 7 // Жилин М. Г., Костылева E. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002. С. 81–85.
Карху АА. Орнипжомплекс поселения Ивановское 7 // Жилин М. Г., Костылева ЕЛ., Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002. С. 102–105.
Кириллова КВ. Фауна млекопитающих поселения Ивановское 7 // Жилин М. Г., Костылева ЕЛ., Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002.
Палеогеографическая основа современных ландшафтов. М., 1994.
Сычевская Е.К Состав промысловых уловов и характер рыбного промысла у жителей поселения Ивановское 7 // Жилин М. Г., Костылева Е. Л., Уткин А. В., Энговатова А. В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки Ивановское 7. М.: Наука, 2002.
Chaix Louis. The Fauna of Zamostje // Lozovski V. M. Zamostje 2. Editions du CEDARC, Treignes. 1996. S. 85–95.
Data from Ivanovskoe VII site, also as earlier receiving evidences from Stanovoe IV, Yazyikovo I, Voymeznaya I, Maslovo Boloto, Zamostye, Soulat and other sites are confirming that hunter to animals and birds was major way of life support together with fishing for population of forest zone of Russian plain in Mesolithic and Neolithic periods. The main game from Ivanovskoe VII site were animals and birds species, encountered in forest and water-marsh biotops.
All three Mesolithic layers of Ivanovskoe VII site have formed in warm year period. Numerous remains of water voles, existence young beaver, hamster and absolute predominance of migrate species indicate to this hypothesis. However, site in the period of forming of cultural deposits П-a, was visited in cold year time for elk hunter. Researching parts of Neolithic deposits was formed in autumn-winter period, evidence of what is numerous remains (whole sceletons) of pine marten, small number of remains of water voles and birds.
П. А. Косинцев
Типология археозоологических комплексов и модели животноводства у древнего населения юга Западной Сибири[15]
Изучение древнего животноводства на основе археозоологических материалов имеет целый ряд методических трудностей, которые неоднократно отмечались [Паавер 1979, с. 212–216; Klein, Cna-Uriber 1984, p. 3–11; Reitz, Wing 1999, p. 110–141]. Большая часть этих проблем еще не имеет ясного решения. Автор полагает, что для общей характеристики животноводства того или иного периода и его динамики во времени и пространстве можно использовать первичные данные, полученные при изучении археозоологических коллекций по домашним животным из поселений: видовой состав костных остатков, соотношение остатков разных видов и возрастной состав забитых животных. Именно эти параметры будут использованы в работе.
Видовой состав костных остатков может быть интерпретирован по качественному и количественному наборам. Во всех анализируемых в работе выборках костей присутствуют крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (овца и коза) и лошадь, и только остатки двух видов домашних копытных — свиньи и верблюда — найдены не во всех выборках. Поэтому, различия качественного состава выборок костных остатков могут проявляться только в отношении этих двух видов. Учитывая единичность находок костей этих видов, качественный состав костных остатков домашних копытных рассматриваться не будет. Количественная структура выборки оценивалась по соотношению остатков крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и лошади. Сравнение выборок проводилось по относительным долям костных остатков этих видов. Поправки на разное число элементов скелета у парнокопытных и непарнокопытных — корригированное число остатков [Паавер 1979, с. 214], не вводились, так как это систематическая ошибка, и она не влияет на результаты. То же самое относится и к различиям в плодовитости (количестве приносимых детенышей) разных видов домашних копытных [Краснов 1971, с. 143]. Эти различия следует учитывать при попытках реконструкции реального состава стада, а на результаты сравнения выборок костных остатков из разных поселений они не оказывают влияния. Следует особо подчеркнуть, что соотношение костных остатков домашних копытных, полученных при раскопках поселения, вероятнее всего, не соответствует соотношению особей в реальном стаде этого поселения, поэтому не может прямо использоваться для палеоэкономических реконструкций.
Возрастной состав забитых животных определяется по состоянию зубной системы [Silver 1969, р. 282–300]. Анализ соотношения полученных возрастных групп позволяет реконструировать некоторые особенности хозяйственного использования домашних копытных. Эти реконструкции основываются на следующих теоретических посылках. При разведении животных на мясо, наиболее выгодно их забивать в относительно молодом возрасте, так как чем старше животное, тем меньше прирост веса. В этом случае среди забитых животных будет велика доля молодых особей. При развитом молочном направлении животноводства дающих молоко животных (коровы, кобылы, козы) содержат до старости, так как молоко дают полувзрослые и взрослые особи. Поэтому среди забитых животных должна быть относительно велика доля взрослых и старых особей. В случае широкого использования животных для тяговых и хозяйственных работ (волы, лошади) так же должна быть относительно велика доля взрослых и старых особей. Использование лошадей в военных целях наиболее эффективно в возрасте 4-10 лет. Поэтому, при широком использовании лошадей в военном деле, значительное количество особей должно забиваться в возрасте старше 10 лет. В случае разностороннего использования животных должны забиваться особи разных возрастных групп, без доминирования какой-либо из них, то есть соотношение возрастных групп должно быть относительно равномерным. Следует еще раз подчеркнуть, что изложенные выше модели хозяйственного использования животных и соответствующие им структуры возрастного состава забитых животных являются теоретическими. Необходима их проверка с использованием методов определения возраста и сезона забоя особей по регистрирующим слоям зубов [Клевезель 1988, с. 194–244]. Тем не менее, эти модели позволяют получить содержательную информацию о характере использования домашних копытных при сравнительном анализе возрастной структуры забитых животных из памятников разных археологических культур.
Лесостепная зона Западной Сибири и север степной зоны Казахстана представляют собой в естественно-историческом аспекте единую территорию, на которой природные процессы в голоцене имели общее направление. Их связывает гидрографическая сеть (рис. 1), которая облегчала взаимопроникновение фауны и флоры. Исторический процесс, по крайней мере, с рубежа среднего и позднего бронзового века, так же был единым. В начале II тыс. до н. э. здесь существовала андроновская культурно-историческая общность, на основе которой в конце позднего бронзового века сформировался ряд родственных культур. Заметные различия произошли в раннем железном веке, когда население степной зоны перешло к кочевому типу хозяйства, а население лесостепной зоны сохранило относительно оседлый образ жизни. Следует отметить, что имеется преемственность между культурами бронзового века и раннего железного века региона.
Первые домашние копытные появляются в регионе не позднее III тыс. до н. э., но археозоологические материалы о животноводстве этого времени немногочисленны. Впервые развитое животноводство по археозоологическим материалам фиксируется на рубеже III–II тыс. до н. э., когда к востоку от Урала появляется население абашевской культуры. С этого времени в хозяйстве населения региона доминирует животноводство. Соответственно, целью данной работы является рассмотрение пространственных и временных особенностей животноводства у населения региона и, по возможности, выявление факторов, их обусловивших.
Теоретически основных факторов, определивших особенности животноводства, может быть три: культура, природная среда и хозяйственная специализация. Особенности состава стада и, соответственно, состава костных комплексов конкретных поселений так же определяются этими факторами. Следует отметить, что на отдельных поселениях состав костных комплексов может отличаться от их состава на большинстве других поселений той же культуры. Это может быть связано с особенностями ландшафта, окружавшего поселение и/или с его функциональными особенностями, например — сезоном обитания на нем людей. Одним из методов анализа состава и структуры костных комплексов с целью объяснения особенностей животноводства разных культур и разных поселений может быть применение методов типологии. Эти методы объединяют объекты с близкими значениями анализируемых признаков в отдельные группы. Анализ состава выделенных типологических групп может выявить факторы, объединившие объекты в эти группы, и объяснить наблюдаемые явления. В этой работе будет применен кластерный анализ для выделения типологически однородных групп поселений по соотношению костных остатков основных видов домашних копытных.
Материал и методика
В настоящее время изучены археозоологические коллекции из более 120 поселений эпохи поздней бронзы и около 50 поселений раннего железного века рассматриваемого региона. Часть этих материалов опубликована [Абдулганеев 1996, с. 149; Ахинжанов и др. 1992, с. 56–116; Васильев, Чемякина 1999, с. 317; Гальченко 1990, с. 59; Молодин и др. 2001, с. 158; Полосьмак, Гребнев 1986, с. 76; Потемкина 1985, с. 309, 310; Смирнов 1975, с. 38, 39; Черников 1960, с. 112; Шамшин, Гальченко 1997, с. 99–115; Цалкин 1972, с. 68, 69], около половины материалов обработано автором.
На большинстве поселений объем выборок костных остатков небольшой. На части поселений выборки сформировались в результате смешения комплексов костей разных культур и не могут быть использованы для характеристики животноводства конкретных хронологических периодов. Поэтому сначала была проведена сортировка выборок костных остатков. Были отобраны только те выборки, где количество определенных костных остатков домашних копытных было более 400 экземпляров, и происходили они из поселений с доминированием керамики одной или синхронных археологических культур. Объем выборки в 400 экземпляров определимых костных остатков выбран эмпирически. Этого же минимального объема придерживаются и другие специалисты [Антипина 1997, с. 22]. Отобранные местонахождения объединялись в культурно-хронологические группы в пределах лесостепной и степной лаццшафгных зон [Ступина 1963, с. 316].
Выделение культурно-хронологических групп представило достаточно сложную задачу, так как практически на всех поселениях найдена керамика разных культур. Поэтому отнесение поселения к той или иной группе производилось на основании доминирующего керамического комплекса, найденного на нем. Во многих случаях в одну группу объединялись поселения с керамическими комплексами разных, но синхронных культур. Например, федоровской и алакуль-, ирменской и корчажкинской, саргатской и гороховской и т. д. Выделение ландшафтных групп так же представляло определенные трудности, связанные с мозаичностью ландшафтов. Это, прежде всего, касается степной зоны, где в некоторых регионах широко развиты лесные массивы, например — Южное Зауралье, Северный Казахстан, предгорья Алтая. Ряд поселений формально отнесены к степной зоне, а на местности они могли находится в лесостепных ландшафтах. Однако определить реальное ландшафтное положение всех поселений невозможно. Поэтому распределение поселений по природным зонам (лесостепь и степь) было проведено в соответствии с их границами [Ступина 1963, с. 316].
Время перехода от среднего к позднему бронзовому веку и начало позднего бронзового века (XX–XVI вв. до н. э.) — 4 поселения:
абашевская культура: Мало-Кизильское (I)[16];
синтсаитинская культура: Аркаим (2), Устье (3);
петровская культура: Петровка II (4).
Поздний бронзовый век (ХУ1-УП1 вв. до н. э.) — 19 поселений:
андроновская культурно-историческая общность (алакульская, федоровская и родственные им культуры, ХVI-ХII вв. до н. э.): Кулевчи III (5), Мирный III (6), Мирный ГУ (7), Атамановка V (8), Ильяска II (9), Лисаковское (10), Шандаша(II), Ушкатга (12), Новоникольское I (13), Канай (14);
культуры вапиковой керамики (XII–VIII вв. до н. э.): Черкасы (15), Алексеевское (16), Конезавод III (17), Саргары (18), Чаглинка (19), Жарагач (20), Новоильинка (21), Мало-Красноярка (22), Трушниково (23).
Ранний железный век (VII до н. э. — ГУ в н. э.). Данных нет, так как постоянные поселения отсутствуют.
Время перехода от среднего к позднему бронзовому веку и начало позднего бронзового века (ХХ-ХУ1 вв. до н. э.) — 2 поселения:
кротовская культура: Черноозерье VI (24);
елунинская культура: Березовая Лука (25).
Поздний бронзовый век (ХУ1-УШ вв. до н. э.) — 26 поселений:
андроновская культурно-историческая общность (алакульская, федоровская и родственные им культуры, XVI–XII вв. до н. э.): Черемуховый Куст (26), Сухрино III (27), Кипель (28), Камбулат I и II (29); Язево I (30), Переезд (31);
черкаскульская культура (XV–XII вв. до н. э.): Березки V (32), Ольховское (33);
ирменская культура (XII–IX вв. до н. э.): Сибирская Саргатка I (34), Омь 1–1 (35), Ирмень I (36), Быстровка IV (37), Красный Яр I (38), Кротово 18 (39), Быково III (40), Милованово III (41), Фирсово ГУ (42), Чекист (43);
культуры конца позднего бронзового века (красноозерская, пахомовская, кор-чажкинская, еловская и другие, Х11-1Х вв. до н. э.): Ново-Шадрино VII-1 (44), Пахомовская пристань (45), Камышное II (46), Дружный I (47), Танай 4 (48), Рублево VI (49), Калиновка 2 (50), Еловское (51);
культуры переходного периода от позднего бронзового века к раннему железному веку (IХ-VII вв. до н. э.) — 6 поселений:
Ново-Шадрино VII-2 (52), Красногорское (53), Чича 1–1 (54), Чича 1–2 (55), Завьялове V (56), Мыльниково (57).
Ранний железный век (VII в. до н. э. — IV в. н. э.) — 19 поселений:
саргатская культура: Павлиново (58), Прыгово (59), Рафаилово (60), Рафаилово-остров (61), Омь 1–2 (62);
иткульская культура: Иртяш I (63), Малый Вишневый I (64), Березки VВ (65);
гороховская культура: Чудаки (66);
саргатская и другие культуры раннего железного века: Узловское (67), Воробьевское (68), Баитово (69);
большереченская культура: Карагат 4 (70);
быстрянская культура: Точильное 1 (71), Точильное 3 (72), Точильное 8 (73), Рублево V (74);
староалейская культура. Малый Гоньбинский кордон 1 (75), Турина Гора П (76).
Для выборки из каждого поселения было определено соотношение (%%) костных остатков крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота (овца, коза) и лошади. На нескольких поселениях найдены кости домашней свиньи и домашнего верблюда, но они не включены в анализ из-за крайней редкости и малочисленности.
Для анализа полученных данных был применен кластерный анализ. Выборки были объединены методом одиночной связи.
Соотношение остатков, объем выборки, а так же наличие верблюда и свиньи приведено в таблице 1. Расположение поселений приведено на рисунке 1. Номера в списке поселений, таблице и рисунке соответствуют друг другу. Количество поселений — 76, общее количество костных остатков — 136994 экземпляра.
Таблица 1. Состав и соотношение (%%) остатков домашних копытных из поселений позднего бронзового века и раннего железного века лесостепной и севера степной зон Западной Сибири и Казахстана.
Обзор видов домашних копытных
Ниже дается краткий обзор данных по домашним копытным рассматриваемой территории. Сейчас невозможно дать сколько-нибудь полной характеристики их возрастного состава, размеров и породных особенностей, так как для ряда территорий и археологических культур имеется только определения видового состава костных остатков с поселений. Большая часть приводимых ниже данных получена автором.
Крупный рогатый скот появляется в степной зоне Казахстана не позднее III тыс. до н. э., а учитывая материалы с соседних территорий, вероятно, в IV тыс. до н. э. Находки роговых стержней крайне редки на поселениях всех культур бронзового и раннего железного века. Почти все найденные в жертвенных комплексах могильников и на поселениях черепа принадлежали комолым особям. Все это позволяет полагать, что крупный рогатый скот в это время был представлен в основном комолой формой. Изучение пропорций метаподий из могильников [Цалкин 1972, с. 71] и поселений эпохи поздней бронзы [Косинцев 1989, с. 92] показало, что некоторые из них принадлежали волам. Возрастной состав животных в разных ландшафтных и культурно-хронологических группах поселений приведен в таблице 2. В лесостепной зоне наблюдается во времени единая тенденция изменения возрастного состава: уменьшение доли молодых особей и увеличение доли полувзрослых и взрослых особей. Так доля особей до 1,5 лет уменьшается от 34 % на поселениях андроновской культурно-исторической общности до 18 % на поселениях раннего железного века. Доля особей старше 30 месяцев, соответственно, увеличивается с 45 % до 56 % (табл. 2). Эта тенденция отражает увеличение молочного направления в скотоводстве. В степной зоне эта тенденция не прослеживается. Здесь с самого начала позднего бронзового века было велико значение крупного рогатого скота для получения молока. Так, на поселениях синташтинской культуры доля остатков взрослых животных составляет 65 %, что больше, чем даже на поселениях раннего железного века в лесостепи — 56 % (табл. 2).
Таблица 2. Возрастной состав (%%) крупного рогатого скота из поселений западных районов лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана.
По имеющимся данным, мелкий рогатый скот появляется на рассматриваемой территории одновременно и вместе с крупным рогатым скотом. На всех поселениях их остатки сопутствуют друг другу. Среди остатков мелкого рогатого скота на всех поселениях преобладают кости овцы. Исключением является поселение кор-чажкинской культуры Фирсово-18, на котором костей козы больше, чем овцы. По соотношению остатков козы и овцы в рассматриваемом регионе можно выделить два ареала поселений — восточный и западный. Восточный ареал включает поселения лесостепного Приобья, а западный — поселений в бассейнах рек Тобол, Ишим и Иртыш. На поселениях всех периодов восточного ареала доля остатков козы выше, чем на поселениях западного ареала. Так на поселениях конца позднего бронзового века доля остатков козы в восточном ареале в среднем составляет 23 %, а в западном ареале — 14 %. На поселениях раннего железного века, соответственно — 18 % и 8 %. Из этих данных видно, что в обоих ареалах доля остатков козы в раннем железном веке уменьшилась по сравнению с поздним бронзовым веком.
Таблица 3. Возрастной состав (%%) мелкого рогатого скота из поселений западных районов лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана.
Возрастной состав мелкого рогатого скота имеет одинаковую тенденцию изменения во времени как на поселениях лесостепной, так и степной зон (табл. 3). Происходит уменьшение доли особей в возрасте до 1 года. В лесостепной зоне их доля уменьшается с 32 % на поселениях андроновской культурно-исторической общности до 9 % на поселениях раннего железного века. В степной зоне это уменьшение не так ярко выражено — с 13 % на поселениях синташтинской культуры до 9-10 % на более поздних поселениях. Параллельно увеличивается доля особей старше 2 лет, соответственно, с 40 % до 57 % на поселениях в лесостепной зоне и с 46 % до 56 % на поселениях в степной зоне. Эти изменения, на мой взгляд, отражают изменения в хозяйственном использовании мелкого рогатого скота. В более поздние периоды возрастает его роль, как производителя шерсти. Следует отметить, что среди остатков овец очень мало фрагментов роговых стержней, а большая часть черепов принадлежала комолым особям. В то же время, среди остатков козы, фрагменты роговых стержней встречается сравнительно часто, а почти все черепа имеют рога. Это позволяет полагать, что большая часть овец прежде всего самки, были комолыми, а почти все козы имели рога.
Время появления домашней лошади в рассматриваемом регионе является дискуссионным. Часть исследователей относят Северный Казахстан к первичным центрам доместикации лошади [Макарова, Нурумов 1989, с. 48; Зайберт 1993, с. 230, 231]. Другие исследователи отрицают это [Benekke, Drish 2000, р. 12; Косинцев 2002, с. 50]. Я полагаю, что первые домашние лошади появились здесь в Ш тыс. до н. э. с территории Волго-Уральского междуречья. Однако постоянным и многочисленным домашним видом лошадь становится со II тыс. до н. э. Возрастной состав этих животных имеет одинаковую тенденцию изменения во времени как в лесостепной, так и в степной зонах. Она проявляется в выравнивании долей основных возрастных групп. На самом раннем этапе на поселениях синташтинской культуры доминируют две возрастные группы — молодые и взрослые. Им принадлежали, соответственно, 37 % и 53 % особей. Группы полувзрослых и старых крайне малочисленны 7 % и 3 % (табл. 4). На поселениях андроновской культурно-исторической общности различия между группами не так сильно выражены. В лесостепи молодые и взрослые составляют 34 % и 49 %; в степной зоне — 34 % и 39 %. В степи эти изменения произошли за счет увеличения группы старых особей — с 3 % до 19 %. На поселениях конца эпохи бронзы в лесостепной зоне увеличивается доля старых особей — с 3 % до 18 %, а в степной зоне увеличивается доля полувзрослых особей — с 8 % до 16 %. Таким образом, к концу эпохи бронзы возрастная структура лошади становится одинаковой в лесостепной и степной зонах (табл. 4). В лесостепи выравнивание возрастной структуры продолжается и в раннем железном веке — в это время еще больше увеличиваются доли полувзрослых и старых особей — до 19 % и 20 % соответственно (табл. 4). Интерпретация этих изменений может быть следующая. В хозяйстве синташтинской культуры использование лошадей было специализированным. Часть особей забивали на мясо в возрасте 1–2 года. Большую часть особей содержали до 10–12 лет, после чего тоже забивали, а до старости (более 15 лет) держали единичных особей. Лошади в возрасте 5-10 лет являются уже полностью сформировавшимися особями и обладают наибольшей резвостью и выносливостью. Группа лошадей этого возраста использовалась для выполнения каких-то работ, где требуются именно эти качества. Возможно, они использовались для запряжки в колесницы. С увеличением возраста, когда эти качества утрачивались, животных забивали. С течением времени, к концу эпохи бронзы, потребность в такого рода работах сократилась или исчезла, и лошадей стали более широко и разнообразно использовать в хозяйстве. В том числе и на работах, не требующих особой резвости и выносливости. Вероятно, так же больше стали использовать кобыл для получения молока и, в целом, больше использовать конину в пищу. В результате, большее количество особей доживало до старости. В раннем железном веке коневодство стало одним из основных источников молока и мяса.
Таблица 4. Возрастной состав (%%) лошадей из поселений западных районов лесостепи и степи Западной Сибири и Северного Казахстана.
Самая ранняя и самая северная находка кости верблюда сделана на поселении Сухрино III (N8), где большая часть керамического комплекса относится к культурам андроновской общности (табл. 1). Но есть и керамика конца бронзового века, поэтому данную находку можно датировать не позднее этого времени. В степной зоне, на целом ряде поселений этого времени найдены кости верблюда (табл. 1). Но везде они единичны. Очевидно, что верблюд не имел сколько-нибудь большого значения в хозяйстве населения региона. С большой долей вероятности можно полагать, что все кости принадлежат особям, которых привел человек из более южных районов. В раннем железном веке значение верблюда в хозяйстве не увеличилось, но его остатки чаще встречаются на поселениях. Вероятно, в лесостепную зону он попадал с караванами из степной зоны.
Остатки свиньи найдены в небольшом количестве только на поселениях начала эпохи поздней бронзы (синташтинская культура), поселениях черкаскульской культуры и некоторых самых ранних поселениях андроновской культурно-исторической общности (табл. 1). Во всех случаях их доля не превышает 0,2 % от количества костных остатков домашних животных. Разведение свиней населением этих культур связано с их генезисом и объясняется только традицией. Дело в том, что в хозяйстве населения абашевской культуры, которая оказала значительное влияние на формирование этих культур, свинья играла заметную роль. И по традиции население культур начала поздней бронзы еще некоторое время также разводило свинью. Но за Уралом для содержания свиньи недостаточно природной кормовой базы, а земледелие было развито крайне слабо и не могло обеспечить для них кормовую базу. Поэтому свинья быстро исчезает из состава стада у населения к востоку от Урала. На подавляющем большинстве поселений андроновской культурно-исторической общности и более поздних культур кости свиньи отсутствуют (табл. 1). Она вновь появляется здесь только с приходом русского населения в XVII в. н. э. В подавляющем большинстве кости принадлежат молодым особям. Размеры костей взрослых особей очень крупные и их значения частично перекрываются с размерами костей дикой свиньи.
Типология костных комплексов
Как уже отмечалось выше, для выявления типологических групп был применен кластерный анализ с использованием метода одиночной связи. Полученная дендрограмма приведена на рисунке 2. На ней выделяется 5 основных групп кластеров. Первые четыре кластера включают по одному поселению: Черноозерье IV, Березовая Лука, Красногорское и Мало-Красноярское. Первые два относятся к близкородственным кротовской и елунинской культурам переходного периода от среднего к позднему бронзовому веку и находятся в лесостепной зоне. Третье поселение датируется временем перехода от бронзового века к раннему железному веку и так же находится в лесостепной зоне. Четвертое поселение датируется концом позднего бронзового века и находится в степной зоне. Пятый кластер включает все остальные поселения. Таким образом, четыре кластера высокого ранга образованы как поселениями близкородственных культур из одной природной зоны, так и поселениями разных хронологических периодов из разных природных зон. Следует подчеркнуть, что последние два поселения являются одними из многих, для которых отмечены выше трудности в отнесении их к соответствующим хронологическим и природным объединениям (смотри раздел «Материал и методика»). Все это указывает на то, что выделение этих поселений в кластеры высокого ранга не определяется факторами «культуры» или «природной среды» а, очевидно, отражает локальные особенности животноводства у населения этих поселений. Вероятно, это связано с функциональной спецификой этих поселений.
Пятый кластер следует рассматривать более подробно. Здесь можно выделить несколько кластеров более низкого ранга. Автор полагает, что таких кластеров оптимально можно выделить 13. В таблице 5 приведены характеристики всех кластеров, включая кластеры высокого ранга. Из 13 кластеров, шесть включают по одному поселению. Пять поселений находятся в лесостепной зоне, но относятся к культурам разных хронологических периодов: андроновской культурноисторической общности (Камбулат I, II), черкаскульской (Ольховское), конца бронзового века (Камышное II) и иткульской (Березки VВ и Иртяш I). Одно поселение абашевской культуры (Мало-Кизильское) расположено в степной зоне. Остальные семь кластеров включают от 4 до 19 поселений (табл. 5; рис. 2). Кластеры 5.6, 5.7, 5.8 включают только поселения из лесостепной зон, остальные кластеры включают поселения как лесостепной, так и степной зон. Два кластера — 5.10 и 5.12 состоят только из поселений позднего бронзового века, но разных культур. Остальные кластеры включают поселения и позднего бронзового века и раннего железного века. Таким образом, отсутствуют кластеры, образованные поселениями из одной природной зоны и/ или одной археологической культуры.
Таблица 5. Соотношение (%%) домашних животных в основных кластерах.
Рассмотрим соотношение остатков домашних животных в выделенных кластерах (табл. 5). Выделяется кластер 5.6., где доминируют кости лошади (56 %). Он образован тремя поселениями раннего железного века и поселением конца бронзового века. Кластер 5.8. характеризуется очень небольшим количеством мелкого рогатого скота (7 %). Он состоит, за одним исключением, из поселений раннего железного века. Кластер 5.10. отличается очень большим количеством крупного рогатого скота (70 %). В этот кластер входят только поселения андроновской культурно-исторической общности. Кластер 5.9. выделяется по преобладанию остатков мелкого рогатого скота (41 %), а кластер 5.11. - по небольшому количеству лошади (16 %). В обоих этих кластерах по одному поселению раннего железного века, а остальные — относятся к эпохе поздней бронзы. В кластерах 5.7. и 5.12. соотношение остатков относительно выровненное, в первый входят поселения обоих хронологических периодов, а во второй — только эпохи поздней бронзы.
Из всех кластеров: 12 образованы поселениями обоих хронологических периодов, расположенными в лесостепной зоне; 1 — поселением степной зоны и 4 — поселениями лесостепной и степной зон. Среди 7 кластеров, состоящих более, чем из одного поселения, только 2 образованы поселениями одного хронологического периода — эпохи поздней бронзы. Остальные включают поселения и эпохи поздней бронзы и раннего железного века.
Лесостепная зона характеризуется наибольшим разнообразием природной среды, поэтому наибольшее количество кластеров (12 из 17) образовано поселениями из этой зоны. Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что главным фактором, объединяющим поселения в группы, является природная среда. Влияние культурно-хронологического фактора, если и было, то весьма малым. Влияние фактора хозяйственной специализации сейчас оценить невозможно, но, исходя из теоретических представлений, оно может быть значимо. Таким образом, соотношение костных остатков на поселениях эпохи поздней бронзы и раннего железного века лесостепи и степи Западной Сибири в основном определялось фактором «природная среда» и, вероятно, в меньшей степени их, хозяйственной специализацией. При этом наибольшее влияние оказывала природная среда, окружавшая каждое поселение, а не в целом природная зона.
Для оценки устойчивости полученных результатов были применены другие методы кластерного анализа — полных связей и невзвешенных. Полученные в результате их использования типологические группы так же состояли из поселений разных хронологических периодов и из разных природных зон, что подтверждает сделанные выводы.
Очень слабо обоснованным сейчас могут быть какие-либо реконструкции состава стада домашних животных по соотношению костных остатков из древних поселений. Тем не менее, самые приблизительные оценки состава древнего стада эти соотношения могут дать. Индикатором типа животноводства — оседлое или кочевое, может быть количество овец и коз. В XIX в. н. э. у полукочевых казахов их доля в стаде была около 50 %; у кочевых казахов — 70–75 %; доля лошади составляла соответственно 30 и 15 % и крупного рогатого скота — 18 % и 6 % [Потемкина 1985, с. 315]. Можно предполагать, что при кочевом типе животноводства на поселениях должны преобладать кости мелкого рогатого скота. Тем более, если учитывать его высокую плодовитость, по сравнению с крупным рогатым скотом и лошадью. Среди рассмотренных поселений, только памятники кротовской и елунинской культур соответствуют этим соотношениям (табл. 1, 5). Однако, без специального анализа также археологического материала, сейчас нельзя однозначно относить их животноводство к кочевому типу. На всех остальных поселениях доля костей мелкого рогатого скота менее 50 %. Следует также отметить, что на поселениях, где велика доля костей мелкого рогатого скота, там преобладают кости крупного рогатого скота (табл. 1). Поэтому, вероятно, в эпоху поздней бронзы на территории лесостепной зоны Западной Сибири и на севере степной зоны Казахстана, скотоводство кочевого типа отсутствовало. Не было его и у населения лесостепной зоны в раннем железном веке. Состав костных остатков с большой вероятностью позволяет предполагать, что у населения всех рассмотренных культурно-хронологических периодов были придомный, придомно-отгонный и отгонный типы животноводства. В большей степени, вероятно, был развит придомно-отгонный тип. Большая часть мелкого рогатого скота и лошадей и часть крупного рогатого скота в теплое время года выпасалась вдали от поселения. Однако на основании состава костных остатков сейчас невозможно однозначно определить тип поселения — постоянное или сезонное.
Для лесостепной зоны можно отметить одну тенденцию в изменении во времени состава костных остатков: увеличение доли костей лошади и уменьшение доли костей мелкого рогатого скота (табл. 1). Вероятно, это связано с ухудшением в раннем железном веке (субатлантик) природных условий для содержания мелкого рогатого скота, в связи с увеличением толщины снежного покрова. В этих условиях лошадь получила значительные преимущества, так как она хорошо тебенюет. Для всего региона можно отметить общую тенденцию в использовании домашних копытных от начала — к концу эпохи поздней бронзы. Эго ослабление специализации нашло отражение в изменении возрастного состава забитых животных (табл. 2–4). Особенностью животноводства региона является отсутствие свиньи в составе стада практически на протяжении всего бронзового и раннего железного века. В целом, животноводство на юге Западной Сибири имело много общего с животноводством в лесостепной и степной зонах Восточной Европы в это время [Антипина 1997, с. 27–30].
Автор выражает глубокую благодарность и признательность археологам Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Омска, Барнаула, Караганды за предоставленные для изучения археозоологические коллекции и постоянные консультации по археологическим проблемам.
Литература
Абдулганеев Н. Т. О хозяйстве населения лесостепного и предгорного Алтая в скифское время // Археология, антропология, этнография Сибири. Барнаул, 1996.
Антипина Ек. Е. методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. № 3.1997.
Ахинджанов С. М., Макарова Л. А., Нурумов Т. Н. К истории скотоводства и охоты в Казахстане. Алма-Ата, 1992.
Васильев С.К., Чемякин М. А. Скотоводство по данным остеологического анализа материалов памятника Омь-1 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. T. V. Новосибирск, 1999.
Гальченко А. В. Фаунистический анализ остеологического материала из андроновских поселений Алтайского края // Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. Барнаул, 1990.
Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.
Клевезелъ Г. А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях. М., 1988.
Косинцев П. А. Охота и скотоводство у населения лесостепного Зауралья в эпоху бронзы // Становление и развитие производящего хозяйства на Урале. Свердловск, 1989.
Косинцев П. А. Лошади Ботая и Синташты: сравнительная морфометрическая характеристика // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск, 2002.
Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Европы // МИА. № 174. М., 1971.
Макарова Л. А., Нурумов Т. Н. К проблеме коневодства в неолите-энеолите Казахстана // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1987.
Молодил В.И, Парцинтер Г., Гаркуша Ю. Н., Шнеевайс Й, Гришин А. Е. и др. Чича — городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. Новосибирск, 2001.
Паавер К. Л. Методы оценки обилия субфоссильных костей. М., 1979.
Полосъмак Н. В., Гребнев ИЕ. Особенности естественно-географической среды и хозяйственная деятельность населения Барабы в раннем железном веке // Палеоэкономика Сибири. Новосибирск, 1986.
Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. М., 1985.
Смирнов Н. Г. Ландшафтная интерпретация новых данных по фауне андроновских памятником Зауралья // Вопросы археологии Урала. Вып. 13. Свердловск, 1975.
Ступина Н. М. Зона лесостепи, зона степей // Западная Сибирь. М., 1963.
Шамшин А. Б., Гальченко А. В. Хозяйство населения Баранаульско-Бийского Приобья в эпоху поздней бронзы и в переходное время от бронзы к железу // Источники по истории Республики Алтай. Горно-Алатайск, 1997.
Цалкин В. И. Фауна из раскопок андроновских памятников Приуралья // Основные проблемы териологии. Тр. МОИП. Т. XLVIII. М., 1972.
Benecke N., A. von den Driesch Results of the study on horse bones from Botai (Northern Kazakhstan) // Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe. V. 1. Cambridge, 2000.
Klein KG., Cruz-Uribek. The Analysis of Animal Bones from Archeological Sites. Chicago and London, 1984.
Reitz E. J., WingES. Zooarcheology. Cambridge, 1999.
Silver J. A. The ageing of domestic animals // Science in archaeology. L., 1969.
P. A. Kosintsev
Livestock breeding in the forest-steppe and steppe areas of Western Siberia in the late bronze and iron ages
Summary
Two parameters of osteological collections have referred in this paper — the composition of bone remains as to the species and age of the animals killed for meat. Claster Analysis had be used to select the typologically homogeneous groups of settlements in proportion to the bone remains of the main domestic animals. As result for the forest-steppe zone there is one tendency of change in the structure of bone remains. It is the increase of the proportion of horse bones and decrease in the number of sheep and goat bones. This might possibly be connected with the fact that the climate became colder in the early Iron Age (sub-Atlantic) and it became more difficult to breed sheep and goat owing to a thicker layer of snow on the ground. In these conditions the horse was much more at an advantage because it can push the snow aside with its hoofs. This region is characterized by a general tendency to breed domestic ungulates from the beginning up to the late Bronze Age. This meant a weakening of the meat-producing factor (cattle, sheep and goats) and a specialization (the horse), a factor reflected in the changes of the age structure of the animals killed for meat/ A specific feature of this livestock-breeding region during the whole Bronze and early Iron Ages was the absence of the pig in the herds. Generally speaking, livestock breeding in the south of Western Siberia had a lot in common with livestock breeding in the forest-steppe and steppe zones of Eastern Europe in the same period.
А. Г. Петренко
К истории появления животноводческих основ в среднем Поволжье и Предуралье[17]
Животноводство — один из важнейших факторов экономики многих древних племен, без изучения которого невозможно научное восстановление истории ранних этапов того или иного общества. Освоение его происходило в различных районах земного шара в разное время, различными путями, что объясняется рядом причин как физико-географического, так и исторического порядка. Огромное значение этого процесса повсюду оставалось неизменным. Что касается специфики возникновения и дальнейшего развития животноводства в различных областях, то выявление этих закономерностей является и сегодня одной из важнейших задач, которые должны решаться совместно биологами и историками.
Современные этапы изучения истории появления сельскохозяйственных животных и истории охотничьих промыслов древности характеризуются привлечением для этой цели, прежде всего, такого научного источника как остеологические материалы из археологических памятников. Только этот источник может дать возможность изучения ранних стадий животноводства, по которым мы не располагаем никакими письменными документами, а древнейший отрезок истории достаточно велик и важен для выяснения вопросов становления животноводства и охоты. Одним из основных методов изучения этого материала являются сравнительно-анатомический и биометрический методы исследования.
Особую значимость при изучении костных остатков приобретает последовательное выяснение ряда морфологических особенностей древних сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных на всех этапах развития человечества, в том числе и в условиях первобытного строя.
Это дает возможность понять не только некоторые аспекты эволюции домашних животных, но и в целом животноводческой деятельности, особенно на высших этапах развития общества, что усиливает научную значимость исследуемого вопроса.
Работами археологов Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана, Самарского края были исследованы интереснейшие памятники глубокой древности Среднего Поволжья и Предуралья и получены новые данные в плане археозооло-гических изысканий. Они представили возможность прояснить ряд вопросов по истории появления и содержания сельскохозяйственных видов животных у древнего населения края, а также определить значение животноводства в его жизни.
Появление человека в крае многие археологи относят к среднему палеолиту (100 тыс. лет назад), когда ведущую роль в хозяйственной жизни играла охота. Климатические условия эпохи верхнего палеолита в крае оставались по-прежнему суровыми, близкими к тундровым, а основной отраслью хозяйствования была охота на шерстистого носорога, гигантского оленя, первобытного быка [Васильев, Матвеева 1986, с. 15, 16].
Экологические изменения (резкое повышение среднегодовых температур) конца плейстоцена планеты совпали с проникновением в лесные районы значительных групп населения из более южных областей. Произошедшие экстремальные климатические изменения привели к резкому сокращению биомассы в южных регионах и тем самым экономически вынудили древнего человека искать более надежной пищи и мест постоянной успешной охоты, с одной стороны, а с другой — овладевать методами увеличения производства продуктов питания. Пути к овладению новыми методами использования природных ресурсов были различными и определялись они, в основном, природными факторами, т. к. изменения климата по-разному отражались на хозяйствовании человека в разных экономических зонах. На севере Европейской части таял ледник, а на юге, в саваннах, исчезала биомасса и происходила миграция травоядных на север. Вслед за животными, в поисках пищи двигалась и значительная часть людей.
Эпоха мезолита (10 тыс. лет назад) знаменуется улучшением климатических условий, которые становятся более близкими к современным. Но растаял ледник, и вымерли крупные травоядные.
Остатки костей с мезолитических памятников в крае представлены в незначительном количестве, причем они очень сильно раздроблены на мелкие фрагменты, и происходят от более мелких видов, чем ранее. Так, обнаруженные находки на стоянках Деуковская II и Баринка I [Петренко 1984], расположенных на р. Ик и р. Кильмезь в лесах Удмуртии и Татарстана, свидетельствуют о том, что в мезолите население изучаемой части края еще не было знакомо с навыками скотоводства (табл. 1; рис. 1). Основой их жизни были охота на лося, медведя, кабана, бобра, зайца, северного оленя. «На рубеже VI — начале V тысячелетия до н. э. древнее население края вступает в завершающую и последнюю стадию эпохи камня-неолита (новокаменный век)» [Габяшев 2001, с. 34].
Начиная с 1963 года археозоологические исследования под руководством В. И. Цалкина и имея к сегодняшнему дню многолетний опыт работ с остеологическими материалами не только из многочисленных могильников, оставленных языческим населением с ритуальными жертвенными комплексами животных, но и с материалами древнейших и средневековых поселений, представляющих собой «кухонные» остатки, считаю и по сей день разумным придерживаться методики оценки материалов как по количеству костей, так и по минимальному числу особей. Несомненно, многое зависит от археологической специфики, насколько объемен материал, какова его степень сохранности (дробленость). Представляя в настоящей работе диагностические данные по костям из древнейших археологических памятников, в которых уникальные коллекции порой представлены единичными находками, автор придерживается традиционных оценок того или иного вида, руководствуясь как числом костей, так и возможным числом особей, согласно принятым ранее методикам [Цалкин 1956, с. 120–124; Паавер 1958; Бекени 1969, с. 69–71; Петренко 1984 с. 18–20].
За последние десятилетия археологами ряда республик региона в лесном Прикамье, являющемся частью исследуемого края, были раскопаны новые неолитические и энеолитические памятники, которые позволяют сегодня ориентироваться в вопросах о времени появления в крае первых сельскохозяйственных видов, с одной стороны, а с другой — предполагать характер животноводческой занятости древних людей. Марийский край в археологическом отношении является одним из наиболее полно изученных районов лесной полосы Среднего Поволжья [Никитин 1996; Соловьев 2000]. И в этой связи чрезвычайно интересными представляются сегодня остеологические материалы из двух неолитических стоянок, расположенных на территории Марийской республики и раскопанных В. В. Никитиным. Это Дубовская III и Отарское VI — поселения (рис. 1) с накольчатой керамикой [Никитин 1996, с. 101]. На стоянке Дубовская III, датированной концом неолита, были обнаружены фрагменты костей первых в лесных районах края сельскохозяйственных видов. Остеологический анализ показал наличие костных остатков домашнего быка, лошади и овцы (табл. 1). В коллекции Дубовская III отдельные разрозненные зубы лошадей происходили от трех разновозрастных особей. Одна — 3-х лет, вторая — 5 лет, а третья — 8–9 лет[18]. Диагностированы также зубы крупного рогатого скота от особей старше 3-х лет.
Таблица 1. Видовое соотношение между костными остатками животных из древнейших археологических памятников лесной зоны Среднего Поволжья.
При продолжении раскопок в 1991 году поселения Отарское VI эпохи неолита В. В. Никитиным были вновь обнаружены единичные «кухонные» остатки лошадей, которые также нами были диагностированы. Они имели сравнительно удовлетворительную сохранность и позволили получить дополнительные данные. Промеры на локтевой и лучевой костях засвидетельствовали естественную высоту в холке животного, а также индекс для оценки массивности его конечностей. В результате был установлен факт находки в неолитическом памятнике лесного Прикамья остатков коня возраста 5 лет по данным отдельных разрозненных зубов черепа, имевшего высоту в холке не более 123 см, при индексе «массивности» лучевой кости — 11,1 %. Это был тип животного «лесной» популяции, который впоследствии на протяжении многих веков бытовал в хозяйствах древнего населения лесного Прикамья Восточной Европы в раннем железном веке [Цалкин 1962, с. 45]. Несмотря на малочисленность костей в лесных неолитических стоянках, что является характерным для песчаных грунтов, на которых находятся памятники с накольчатой керамикой, эти остеологические остатки все же были зафиксированы.
Считаем целесообразным отметить, что по найденным коренным зубам черепа (рисунок и размеры протокона) и по массивности конечностей лошадей из стоянок Марийского края нами не обнаружено никаких диагностических признаков, отличающих их от известных домашних форм лошадей [Цалкин 1958; 1962; Кузьмина 1997, с. 181–190]. Более того, находки были встречены с остатками домашних овец и коров (табл. 1). Автор раскопок Никитин В. В. [1996, с. 102, 103] датирует эти материалы (на основе Си) не выходящими за пределы III тыс. до н. э., относит их к развитому неолиту и считает археологические материалы со стоянок Дубовская III и Отарская VI аналогичными памятникам лесостепного Дона с накольчатой посудой, где обитатели уже имели навыки содержания основных сельскохозяйственных видов [Шнирелъман 1989, с. 176], которые и могли эпизодически появляться с этим населением в Среднем Поволжье.
Однако, следы животноводческой деятельности в крае были обнаружены и в неолитических памятниках лесостепи — в южном Предуралье на стоянках Муллино, Давлеканово (стоянки из Башкортостана) и в неолитическом слое Ивановской стоянки[19]. Остатки сельскохозяйственных видов встречены также на Виловатовской стоянке[20], расположенной уже в степной зоне (табл. 2; рис. 1). На всех вышеперечисленных памятниках в археозоологических «кухонных» материалах найдены кости от домашних быков и коров, лошадей, овец и коз. Тогда как костей домашней свиньи в них не встречено. Чрезвычайно интересными представляются находки в неолитическом слое стоянок Мулл и но и Виловатовской остатков костей от животных степной фауны — речной черепахи и сайгака (табл. 2). Эти факты являются подтверждением относительно высоких среднегодовых температур в эпоху неолита и значительных смещений к северу основных современных зоогеографических зон, и в том числе степных, т. к. сайгаки — исконные обитатели сухих типчаково-ковыльных степей.
Таблица 2. Видовое соотношение между костными остатками животных из древнейших археологических памятников лесостепья Среднего Поволжья и Предуралья.
На поселении Муллино археозоологический материал в 1979 году был диагностирован нами и опубликован как по раскопам, так и по отдельным хронологически различным слоям [Петренко 1982-а, с. 302, табл. 2]. Весь представленный на определение материал был равен 2,5 тысячам, а при анализе его было зафиксировано 2047 костей. Кости из нижнего неолитического слоя 1979 г. раскопок составляли в сумме 826 костей от 64 особей (табл. 2) и, в большинстве своем, были представлены костями охотничье-промысловых видов (91,1 % по числу костей и 71,9 % по числу особей — табл. 3), тогда как число костей встреченных здесь домашних животных оказалось равным 8,9 %, а минимальное число особей, которым они принадлежали — 26,5 % (табл. 3).
Таблица 3. Видовые соотношения между числом костей и особей (в %) животных из неолитических памятников лесостепья Среднего Поволжья и Предуралья.
Домашние животные в Муллино представлены тремя основными видами: крупным и мелким рогатым скотом, лошадью. Причем, по числу особей, поголовье лошадей в хозяйствах древних поселенцев неолита (по данным 1979 г.) было представлено в большинстве и составляло до 18,7 %, тогда как крупный и мелкий рогатый скот разводился приблизительно в равных количествах — по 4,7 % (табл. 3). Диагностированные кости от крупного рогатого скота принадлежали трем животным 2-3-х летнего возраста. Костей домашней свиньи в неолитическом слое нами обнаружено не было.
Из числа охотничье-промысловых видов из коллекций 1979 и 1981 гг. представлены костные остатки от лося, бобра, медведя, северного оленя, косули.
Еще ранее в 1962 и 1963 гг. Г. Н. Матюшиным было раскопано древнейшее поселение Давлеканово на территории южного Предуралья (рис. 1), остеологический материал из которого был определен В. И. Цалкиным и любезно предоставлен нам еще при его жизни для сопоставлений [Петренко 1982-а, с. 304, табл. 6].
Сложная послойная стратиграфия этого памятника затрудняла четкий отбор остеологического материала. Но неоднократные пробы, тем не менее, зафиксировали наличие остатков костей домашних животных в слоях неолита на этом поселении. Есть основания предполагать, что уже в эпоху неолита были созданы условия для частичного перехода местного населения к основам производящего хозяйства — содержанию сельскохозяйственных животных. Кроме вышеуказанных археологических памятников Южного Предуралья, здесь же были исследованы Морозовым Ю. А. стоянки рубежа неолита-энеолита: Чишминская, Гумеровская, Средняя Ока, а также — дополнительно раскопанное Муллино в 1981 г., где опять диагностированы кости домашних животных от крупного, мелкого рогатого скота и лошадей (табл. 2).
Относительно раннее появление на Южном Урале элементов производящих основ в хозяйстве по сравнению с лесными районами Среднего Поволжья и его видовые отличия (отсутствие домашней свиньи и довольно многочисленные находки остатков лошадей) от производящего хозяйства причерноморских степей в эпоху неолита позволяют предполагать, что последнее проникло сюда из Восточного Прикаспия, через Южный Урал [Формозов 1972, с. 22].
При раскопках в 1977–1980 гг. многослойного археологического памятника — Ивановской стоянки (рис. 1) Н. Л. Моргуновой были обнаружены значительные остеологические материалы. Эти коллекции были также переданы нам автором раскопок для определения. По данным исследователя памятника, материал подразделяется на три слоя: неолитический, энеолитический и поздней бронзы.
Нижний слой — неолитический, был датирован Н. Л. Моргуновой в рамках VI тыс. до н. э. — серединой V тыс. до н. э. Средний слой — энеолитический — вторая половина IV тыс. до н. э. [Моргунова 1980]. Верхний слой относится к срубной культуре эпохи поздней бронзе (середине II тыс. до н. э.). Расположен археологический памятник на правом берегу р. Сок (приток р. Самары), в 5 км к югу от села Ивановка Красногвардейского района Оренбургской области (рис. 1).
Общее количество имевшегося у нас на определении остеологического материала составляет 9518 костей. Сильная раздробленность и плохая сохранность костных остатков объясняется использованием мяса животных, которым они принадлежали, в пищу.
Весь остеологический материал Ивановской стоянки из неолитического слоя включает 1385 экземпляров костей и принадлежит девяти видам (табл. 2). Несмотря на древность слоя, большинство костей (71,7 %) и особей (52,4 %) отнесены к сельскохозяйственным животным (табл. 3), что уже является свидетельством наличия навыков содержания и разведения основных домашних видов — коров, овец коз, лошадей. Остатков домашних свиней не зафиксировано.
Наличие в неолитическом слое фрагментов костей от пяти таких охотничье-промысловых видов, как заяц бобр, барсук, медведь, лось, со значительным преобладанием остатков бобров и лосей, свидетельствует о все еще большом интересе обитателей стоянки к охоте на этих животных. По-видимому, добыча не только их мяса, но и шкур, были основными причинами столь значительного внимания древних охотников к этим видам. Кроме того, это было обусловлено и местными природными факторами, благоприятствовавшими обитанию здесь указанных животных.
По хозяйственной значимости в питании населения первое место среди домашних видов, несомненно, принадлежало лошадям. Несмотря на внушительные размеры коллекций костей Ивановской стоянки и, в том числе, от домашних животных из неолитического слоя, остатки их настолько раздроблены, что возможности получения промеров для уточнения ряда морфологических признаков были большой редкостью. И тем не менее промеры единичных метаподий, фаланг I и И, которые приведены в таблице 4, позволяют предполагать домашний характер представленных в древних слоях остатков лошадей, так как такие размеры редко встречаются у диких лошадей Восточной Европы [Цалкин 1970, с. 189]. Из имеющихся отдельных зубов лошадей в неолитической части коллекции Ивановской стоянки большинство маркирует остатки от особей 5–6 лет и около 9 лет, меньшинство — от особей до 5 лет. Характеристики степени срастания эпифизов трубчатых костей с диафизом свидетельствуют о том, что около 50 % костей оставлено от особей до 3-х лет.
Таблица 4. Промеры костей лошадей Ивановской стоянки из слоя эпохи неолита (в мм).
Судя по видовым данным, число костей лошадей в коллекции преобладает и составляет 42,2 % (табл. 2,3). По числу же особей диагностировано больше овец Но если учесть коэффициенты, позволяющие представить объем удельного потребления мяса тех или иных видов сельскохозяйственных животных в питании населения, то несомненный приоритет может быть признан за мясом лошадей (кониной).
Более того, несмотря на то, что костей и особей крупного рогатого скота было меньше, чем овец и коз, большая разница опять же по весовому выходу мяса от этих видов скота дает право полагать, что по удельному потреблению мясо лошадей и коров было основным в питании. Немалым подспорьем в питании было мясо таких охотничье-промысловых видов как лось и бобр, о чем свидетельствует количество и степень раздробленности трубчатых костей этих видов, диагностированных в «кухонных» материалах неолитического слоя. От общего числа остатков кости и особи лосей составляют соответственно 13,8 % и 7,7 %, а бобров — 13,4 % и 23,1 %.
Исходя из данных живого веса особей различных видов, предложенных Класон А. Т., в сравнении с весом овцы в 25 кг, бык домашний весом в 700 кг эквивалентен 28 овцам, а лошадь в 600 кг — 24 овцам, лось в 355 кг — 14 овцам, а бобр — 1 овце [Clason 1973]. Автор из Голландии выбрала для сопоставления лошадей и быков крупных пород. Но, какой бы приблизительный живой вес для наших древнейших восточно-европейских лесостепных и даже мелких лесных коров, лошадей и овец мы не приняли для ориентировочных сравнений, любая лошадь и корова будут во много раз тяжелее овцы. Поэтому, если условно принять средний вес особи крупного рогатого скота за вес коровы аборигенной калмыцкой породы в 450 кг, средний вес лошади — в 350 кг из группы казахских, башкирских, вятских породных категорий, имеющих сравнительно небольшую высоту в холке (136,0-142,0 см), а из огромного разнообразия современных пород овец выбрать близких к аборигенным породам — цигайскую, романовскую или каракульскую, с усредненным весом животного в 50 кг [Животноводство 1978], то возможно получить коэффициент для пересчета соотношения живого веса основных видов сельскохозяйственных животных. Это поможет ориентироваться в вопросах удельного потребления или значимости мяса того или иного вида в питании древнего населения. И теперь, если принять вес овцы за 1, то весовые оценки для лошадей и коров будут иметь коэффициенты 7 и 9.
Исходя из вышеизложенного и судя по материалам неолитического слоя, значимость отдельных домашних и диких млекопитающих, с точки зрения обеспечения древнего населения Ивановской стоянки мясными продуктами, представляется следующим образом: лошадь — 53,4 %, крупный рогатый скот — 34,3 %, овцы — 12,2 %. Из этого следует, что лошадь имела, несомненно, главенствующее положение по удельному потреблению ее мяса, на втором месте у жителей был крупный рогатый скот и лишь потом — мелкий рогатый скот.
Остеологический материал из синхронных Ивановской стоянке слоев неолита Виловатовской стоянки Самарского Поволжья [Петренко 1984, с. 149] представлен одиннадцатью видами (табл. 2), из которых пять — домашние. Это крупный рогатый скот, овца, коза, лошадь, собака. Остатки диких животных принадлежат семи видам — это лось, косуля, сайгак, медведь, выдра, заяц бобр. Соотношение между домашними и дикими видами животных в материалах Виловатовской стоянки позволяет говорить о некотором преобладании по числу особей охотничье-промысловых видов над домашними, что свидетельствует о все еще немаловажном значении мясной охоты в жизни людей, населявших границу степи и лесостепи, с одной стороны, и о богатстве видов дикой фауны в крае, с другой. Лошадь и крупный рогатый скот и в этом памятнике занимали главенствующее положение среди домашних видов по удельному потреблению их мяса (табл. 2).
Отсутствие на исследуемой территории диких предков овцы и козы, а также факты чрезвычайно редкого нахождения костей дикого быка в Прикамье, не позволяют даже предполагать их местное одомашнивание. Мы можем свидетельствовать о появлении здесь этих видов уже в одомашненном виде в эпоху неолита, а затем и энеолита, возможно, от населения Подонья, либо Средней Азии, которые, в свою очередь, имели тесные контакты с районами Ближнего Востока, где переход к земледелию и скотоводству восходит к Х-УШ тыс. до н. э. [Петренко 1984].
Исследование вопросов хозяйственной деятельности древнего населения Среднего Поволжья и Предуралья в эпоху раннего металла представляет еще больший интерес, т. к. это было время кардинального переворота в жизни человечества, время активной животноводческой занятости на значительной территории региона, повлекшее за собой серию экономических и социальных перемен [Матюшин 1982].
Малочисленностью остеологического материала по этому периоду истории в крае В. И. Цалкин объяснял отсутствие достоверных характеристик животноводческой деятельности людей в энеолите Среднего Поволжья и Предуралья.
Организация больших работ, проведенных археологами ряда НИИ и ВУЗов края, по изучению археологических памятников эпохи энеолита дали новый остеологический материал, который был проанализирован нами и обобщен. Этот материал в совокупности с имеющимся ранее дал возможность представить картину становления и развития основ производящей экономики в крае в эпоху раннего металла.
Местоположение региона, удивительно сочетающего условия разных природных зон (леса, лесостепи и частично степи), на главной волжской водной артерии Европейской части России, вдоль которой издревле проходили многочисленные караванные пути, соединяющие Европу и Азию — древнейшие цивилизации юга с северными районами края, обусловили необычно сложную картину становления и начальных этапов развития животноводческой деятельности и морфологических особенностей самих сельскохозяйственных животных в крае.
Наличие развитого животноводства в эпоху энеолита в IV–III тыс. до н. э. для территории южных лесостепных и остепненных районов края, а именно Самарского Поволжья, Приоренбуржья и районов Башкорстана сегодня уже не вызывает больших споров и вполне подтверждается палеозоологическими материалами из археологических раскопок [Петренко 1984]. И тем не менее, чтобы представить картину развития животноводческой деятельности населения края в эпоху энеолита, считаем целесообразным напомнить данные анализа остеологического материала как из памятников ранее исследованных, так и вновь открытых.
Особенности животноводческой деятельности населения, обитавшего в эпоху энеолита в зоне южных остепненных районов южного Предуралья, могут быть охарактеризованы остеологическими материалами из энеолитического слоя стоянки Ивановской, местоположение которой было представлено выше. Слой был датирован автором раскопок Н. Л. Моргуновой второй половиной IV тыс. до н. э. и отнесен ко II этапу самарской культуры.
В энеолитическом слое было диагностировано всего 6116 фрагментов от 175 особей, среди которых 3562 фрагмента от 80 особей домашних видов животных и 2554 кости минимально от 95 особей диких видов (табл. 5). Остатки костей домашних видов в большинстве. Однако значительное число остатков диких видов служит убедительным подтверждением большой значимости в питании людей мяса от охотничье-промысловой фауны и особенно от таких животных, как лось и бобр. Остальные виды в меньшинстве. Однако, несмотря на существенную роль охоты в мясном питании энеолитического населения стоянки, по удельному потреблению мясо домашних животных, и особенно лошади, имело большую значимость.
Так из костей домашних видов, лошадям принадлежало 2442 кости от 43 особей, что составляет соответственно 39,9 % и 24,6 % (табл. 5, 6). В большинстве своем это — фрагменты раздробленных в момент приготовления пищи длинных трубчатых костей конечностей. Несколько лучшую сохранность имели такие кости нижнего отдела конечностей, как фаланги, метаподии, а также выпавшие из альвеол верхних и нижних челюстей отдельные разрозненные коренные зубы.
Результаты анализа возрастных характеристик на этих зубах и степени прирастания эпифизов на трубчатых костях свидетельствуют о том, что около 60 % лошадей забивалось на мясо в возрасте 2–4 года, меньшее количество — в 5–8 лет. Кости от животных старше 10 лет — единичны. По остаткам сравнительно удовлетворительной сохранности — метаподиям, первым фалангам и костям скакательного сустава, были взяты промеры, которые позволили представить некоторые морфологические особенности древних лошадей.
Так, плюсна с наибольшей длиной в 271 мм при наименьшей ширине диафиза в 37 мм, а также две пясти с наибольшими длинами в 218 мм и 226 мм при ширине диафиза первой кости 35 мм, позволяют реконструировать высоту в холке одного животного — около 142 см, а для двух других — соответственно 136 и 139 см, что свидетельствует о существовании в то время на поселении «средних» по величине лошадей [Витт 1952]. В совокупности все эти лошади по оценке массивности дистальных частей конечностей принадлежали к группе «полутонконогих» животных [Браунер 1916].
Таблица 5. Видовой состав животных из памятников энеолита и эпохи бронзы Среднего Поволжья и Предуралья.
На основании полученных промеров можно предполагать близость внешних породных показателей ивановских энеолигических лошадей с современными аборигенными «казахскими». Подтверждением этому служат взятые морфологические промеры на других целых костях — передних и задних больших фалангах, а также на пяточных и таранных. Так, наибольшая длина первых передних фаланг варьирует в пределах 82,0-96,0 мм, а задних — 78,0-92,0 мм. Наибольшая длина пяточной кости — 107,0-123,0 мм, таранной — 55,0-66,0 мм.
Таблица 6. Процентные соотношения числа костей и особей различных видов животных из археологических памятников энеолита и ранней бронзы Среднего Поволжья и Предуралья.
Из общего числа диагностированных костей обнаружено 697 фрагментов от 13 особей крупного рогатого скота, что составляет в процентах соответственно 11,4 % и 7,4 % (табл. 6). И, хотя в коллекции от крупного рогатого скота зафиксированы остатки почти всех элементов скелета, среди них нет ни одного обломка от стержней рогов, а также костей метаподий. Большинство обломков трубчатых костей и отдельные разрозненные зубы крупного рогатого скота оставлены от особей возраста до 3-х лет, и только 25 % принадлежали животным старше 3-х лет. Эго может быть свидетельством того, что мясное направление являлось основным при разведении этого вида, и лишь четвертая часть коров содержалась для получения молочных продуктов и воспроизводства стада. Из числа костей удовлетворительной сохранности в коллекции имеются лишь четыре больших фаланги с наибольшей длиной 57,0-66,0 мм и шириной диафиза 23,0-32,0 мм, что соответствует промерам аналогичных костей из стоянки Муллино.
Зафиксированные две кости свиньи представляются фактом возможной примеси из вышележащего срубного слоя.
Кости овец в энеолитическом слое Ивановской стоянке малочисленны и составляют по костям и особям, соответственно, 6,8 % и 11,4 % от остатков всех видов. Сохранность их исключительно плохая. Представлены они в основном разрозненными зубами и единичными костями нижнего отдела конечностей. Наибольшая длина пяточной кости равна 62,0 мм, а у таранных по 32,0 мм. Используя пересчетный коэффициент высоты в холке овец по длине пяточных костей [Teichert 1975], можно предположить, что в «кухонных» остатках энеолити-ческого слоя Ивановской стоянки зафиксированы фрагменты костей от овец с высотой в холке равной 70 см. Обломков стержней рогов не обнаружено.
Ритуальные остеологические материалы из Хвалынского могильника, раскопанного С. А. Агаповым, И. Б. Васильевым, и В. И. Пестриковой в 1977–1978 гг. были также диагностированы и опубликованы нами [Петренко 1984]. Археологи датировали его эпохой энеолита второй половины IV — начала III тыс. до н. э. [Агапов, Васильев, Пестрикова 1979; Васильев, Матвеева 1986, с. 45]. Этот памятник расположен к югу от города Хвалынска Саратовской области, на границе современной лесостепной и степной зон (рис. 1). Остеологические данные по этому уникальному памятнику заслуживают особого внимания в связи с тем, что остатки древнейших сельскохозяйственных животных встречаются уже не в «кухонных» остатках, а в ритуале захоронений людей. А это, по нашему мнению, означает, что зафиксированные в могилах остатки таких видов, как крупный и мелкий рогатый скот, уже давно не только вошли в «память» народа, но и были известны в хозяйственной и духовной жизни, в традициях и обрядности. Тогда как кости лошади, более редко встречающиеся в захоронениях этого могильника и только в виде единичных фаланг, являются свидетельством более позднего их появления в рассматриваемом регионе.
Морфологический анализ, проведенный по ряду промеров на костях животных из Хвалынского могильника, позволил сделать выводы о древнейших связях населения лесостепного и степного мира с югом Европы [Васильев, Матвеева 1986, с. 45; Петренко 1982-6]. Однако преобладание крупного и мелкого рогатого скота в ритуале могильника еще не является свидетельством преобладания этих видов в стадах у населения, оставившего Хвалынский могильник. Чтобы представить состав такого стада сельскохозяйственных животных, необходимо исследовать хотя бы один остеологический комплекс с родственного в этническом отношении поселения. Но, к сожалению, подобные памятники пока не известны. Некоторый интерес в этом отношении имеет Виловатовская стоянка, расположенная в аналогичных Хвалынскому могильнику природных условиях и относящаяся к неолиту-энеолиту. Для остеологических материалах этой стоянки, представленных выше, отмечено полное отсутствие каких-либо костей домашних свиней [Петренко 1984]. Как видно, население Виловатовской стоянки этот вид сельскохозяйственных животных не знало; нет остатков этого вида и в ритуальных остатках Хвалынского могильника.
Фаунистический материал из энеолитического слоя стоянки Муллино III представлен диагностированными остатками, насчитывающими в сумме 722 кости, минимально от 59 особей. Среди них 170 костей от 21 особи сельскохозяйственных и 552 кости от 38 особей диких видов (табл. 5). Эти данные свидетельствуют о том, что охота в жизни людей энеолитического периода существования поселения имела все еще большее значение, нежели занятие животноводством. Число особей диких животных составляет 65,6 %, домашних — 34,4 %, а по числу костей соответственно диким животным принадлежит 76,5 % остатков, домашним видам — 23,5 %. Из общего числа остатков домашних животных 112 костей от 9 особей отнесены к крупному рогатому скоту, 15 костей от 4 особей — к овцам, и 43 кости от 18 особей — к лошадям. Костей домашней свиньи в энеолитическом слое, как и в более раннем неолитическом, также не обнаружено (табл. 6). Можно говорить о том, что лошади и коровы составляли в сумме 21,4 % по количеству костей и 28,9 % по числу особей от остатков всех видов и преобладали среди домашних животных в хозяйстве энеолитического населения Муллино. Говядина и конина, наряду с несомненно высоким потреблением мяса лося, являлись основой мясного питания людей. Возрастные данные, полученные при анализе отдельных разрозненных коренных зубов крупного рогатого скота и степени прирастания эпифизов на трубчатых костях, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев коров и быков забивали на мясо в возрасте около 2–3 лет. Этот факт позволяет предполагать, что скотоводство на ранних этапах его развития в крае имело преимущественно мясное направление, и изначальное появление здесь сельскохозяйственных животных, объяснялось не только необходимостью создания надежных запасов мясных продуктов для подстраховки от неудач на охоте, но и традициями, которые существовали у населения, пришедшего в край Предуралья из более южных районов — возможно, Прикаспия — где уже имелись навыки разведения домашних видов [Матюшин 1982, с. 295]. Промеры на зубах, имеющих удовлетворительную сохранность, показали наибольшую длину М3, равную 38,0-42,0 мм со среднеарифметической величиной 40,6 мм. Наибольшая длина больших фаланг равна 61,0-63,0 мм, что также подтверждает принадлежность их к домашнему скоту. Судя по промерам этих и других отдельных костей, скот из энеолитического слоя Муллино по своим внешним признакам был близок к более позднему срубному степному скоту, а также особям этого вида, остатки которых встречены в ритуальных комплексах Хвалынского могильника [Петренко 1982-а].
Остатки овец из энеолитического слоя Муллино представлены незначительным числом костей и в большинстве единичными разрозненными коренными зубами и обломками трубчатых костей, почти непригодными для промеров и породных морфологических исследований.
Среди костей лошадей, так же как и среди остатков, принадлежавших крупному рогатому скоту и овцам, сравнительно часто встречаются отдельные разрозненные коренные зубы. Возраст этих животных старше 6–7 лет. Нередки также находки и молочных зубов и зубов лошадей в возрасте до 5 лет. В целом анализ возраста лошадей стоянки Муллино по их зубной системе позволяет предполагать использование этого домашнего вида не только для получения запасов мяса, но и для перевозки тяжестей, либо для верховой езды. О внешнем облике лошадей можно составить представление лишь по некоторым отдельным хорошо сохранившимся костям метаподий. Так, промеры плюсны (наибольшая длина 265 мм и наименьшая ширина диафиза 33 мм) позволяют предполагать прижизненную высоту в холке животного равную 138 см, принадлежавшего к категории «средних» по высоте лошадей с индексом массивности плюсны 12,5 %, который соответствует тонконогим особям. Имеющиеся промеры трех передних больших и четырех задних фаланг (наибольшая длина, соответственно, 83,0-96,0 мм, и 86,0-90,0 мм), свидетельствуют о сходстве энеолитических лошадей из стоянки Муллино со срубными, показывая при этом существенные их отличия от диких лошадей Пржевальского и тарпана [Петренко 1984, с. 71; Макарова, Нурумов 1989; Кузьмина 1997].
Не менее интересными для выяснения соотносительного значения животноводства и охоты древнего населения являются данные о преобладании в остеологическом комплексе стоянки Муллино костей лося — основного охотничье-промыслового животного, являющихся в большинстве своем остатками нижних челюстей и отдельными выпавшими из альвеол коренными зубами с определяемым по ним индивидуальным возрастом особей 1,5–2 года. Эти данные позволяют говорить об интенсивной охоте на лосей. Так же как и кости лошадей, большие трубчатые кости лосей чаще всего оказываются разбитыми вдоль и представляют собой выбракованные обломки от костяных орудий труда, либо сами заготовки, появившиеся в процессе их производства. Стоит упомянуть еще и находки костей бобра, медведя, косули, северного оленя, мясо которых также служило продуктом мясного питания древних людей стоянки.
Таковой представляется нам хозяйственная деятельность древнего населения в эпоху энеолита в южных лесостепных и частью степных районах края.
В публикациях прошлых лет, подготовленных по материалам имевшихся тогда остеологических коллекций из древнейших памятников лесных — таежных областей края (территория современной Марий Эл), обращалось внимание на отсутствие достоверных сведений о наличии в хозяйствах населения волосовской энеолитической культуры каких-либо признаков содержания сельскохозяйственных животных [Халиков 1969; Петренко 1977]. За последнее десятилетие были раскопаны новые древнейшие поселения в лесной зоне, которые позволяют сегодня по-новому осветить вопросы появления животноводческих основ в указанных районах края. Эти археологические памятники с диагностированными костями животных представлены тремя группами. С палеозоологической стороны первая группа характеризуется находками отдельных единичных фрагментов костей сельскохозяйственных животных среди «кухонных» остатков. Сами же археологические материалы памятников этой группы носят характер южного происхождения от степных культур Подонья. Ко второй группе можно отнести памятники развитого этапа волосовской культуры, в которых не зафиксировано следов наличия в «кухонных» остатках костей домашних животных. И, наконец третья группа многослойных памятников с разнокультурными слоями, в которых явно обозначаются как поздневолосовские — энеолити-ческие, так и балановские и чирковско-сейминские черты — уже эпохи ранней бронзы, где животноводство, наряду с древнейшими навыками охотничьей деятельности, уже составляет основу производящего хозяйства (табл. 5,6). Кости домашней свиньи впервые обнаружены на территории лесной зоны Среднего Поволжья лишь в этих памятниках. К числу их относятся Юринская стоянка, поселение Таланкина Гора, VII Удельно-Шумецкая, нижний Ш слой Васильсурского поселения, в остеологических материалах которых нередко преобладают кости сельскохозяйственных животных, а доля остатков охотничье-промыеловых видов указывает чаще всего на их относительное меньшинство. Так, в коллекции диагностированных костей из Таланкиной Горы было определено из слоя всего 638 костей, минимально принадлежавших 35 особям (табл. 5,6). По числу костей и особей преобладал крупный рогатый скот, что свидетельствует о большинстве голов этого вида животных в хозяйстве населения, оставившего этот памятник (табл. 6). Авторы раскопок этих археологических памятников датировали их первой половиной II тыс. до н. э. [Соловьев 2000].
Немногочисленными, но несомненно интересными представляются полученные Б. С. Соловьевым костные остатки животных из поселения VII Удельно-Шумецкого [Петренко 2000], включавшего напластования волосовской и балановской культур и расположенного в лесной зоне края на левом берегу р. Волги в Юрьинском районе Республики Марий Эл (рис. 1; табл. 5). Остеологическая коллекция этого памятника насчитывает всего 47 диагностированных костей, минимально принадлежавших 4 особям животных, из которых 25 костей от двух особей лося возраста 3–5 лет, 20 костей одной особи крупного рогатого скота возраста до трех лет и 2 кости домашней свиньи от одной особи. И, наконец имеющиеся остеологические данные по Ш слою Васильсурского поселения достоверно подтвердили наличие уже в слое ранней бронзы, оставленном населением балановской культуры, комплекса остатков домашних животных со значительным количеством костей домашних свиней (определено В. И. Цалкиным см.: [Халиков 1969, с. 350]). А. Х. Халиков [1969, с. 340] сообщал, что «огромное значение для развития производящих отраслей хозяйства в Среднем Поволжье в эпоху раннего металла имело включение в край скотоводческо-земледельческих племен балановской культуры». Им были уже известны почти все виды домашних животных, а в Балановском могильнике, оставленном этим населением в ритуале найдены кости быка, барана, лошади и свиньи. В слое определено 303 кости от 50 особей. Из них 195 костей от 33 особей принадлежало крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, лошадям. Причем, как по количеству костей — 35,4 %, так и по числу особей — 50,0 %, преобладали свиньи. Остальные 108 костей от 17 особей принадлежали охопгничье-промысловым видам, среди которых остатки лося — в большинстве (табл. 5,6).
Имеющиеся остеологические комплексы из ранее описанных археологических памятников свидетельствовали о том, что уже на рубеже III–II тыс. до н. э. на территории современной республики Марий Эл бытовало население, в хозяйстве которого имелись все основные сельскохозяйственные животные, за исключением домашней свиньи, появление которой отмечается позже и совпадает с приходом населения балановской культурной группы в начале II тыс. до н. э.
Приведенный выше анализ имеющегося сегодня фактического материала из древнейших памятников с территории края позволяет представить некоторые закономерности в вероятной историю становления животноводства у древнего населения Среднего Поволжья и Предуралья.
Территории таежные, лесные со стабильно богатой охотничье-промысловой фауной даже в периоды временных климатических изменений в сторону резкого понижения, либо увеличения влажности и температурного режима были для местного населения надежным и благодатным местом обитания, нежели районы остепненные. Поэтому-то присваивающее хозяйство людей лесной зоны сохраняется значительно дольше, чем в районах лесостепных и тем более остепненных. Население последних из указанных районов значительно раньше осваивает разведение и содержание сельскохозяйственных животных, дабы подстраховать себя от временных неудач, связанных с неожиданностями климатических изменений. Кроме того, с появлением животноводческой деятельности, одной из основ производящего хозяйства, люди приобрели возможность широких перекочевок и освоения новых, более удобных в природном отношении территорий.
Первичной целью нашего исследования и обобщения имеющегося на сегодня археозоологического материала из древнейших памятников Среднего Поволжья и Предуралья было выяснение вопроса о самом факте наличия либо отсутствия в «кухонных» остатках поселений неолита и энеолита «следов» животноводческой деятельности населения. И для решения этого вопроса нам представляются достаточным обнаружение даже единичных остатков животных сельскохозяйственных видов на исследованных памятниках. В основном же автор придерживается мнения, что при построении исторических хозяйственных моделей требуется наличие многочисленных археозоологических выборок [Антипина 1997, с. 22].
Принимая эти посылки, нами и была предпринята попытка проанализировать состав сельскохозяйственного стада, характер использования домашних видов и некоторых породных особенностей животных на основании таких значительных по числу костных остатков коллекций, какими представляются на сегодня остеологические сборы из поселений Муллино, Давлеканово, Виловатовская, Ивановское, результаты чего и были рассмотрены выше. Исследование именно этих коллекций позволило сформулировать следующие выводы, чрезвычайно важные при реконструкции древнейшей экономики края:
1. Наиболее значительные процентные колебания по численности как костей, так и особей наблюдаются для мелкого рогатого скота, лошадей, домашних свиней. Остаткам от крупного рогатого скота свойственно относительно постоянное приоритетное присутствие во всех археологических памятниках не только древности, но и более поздних, независимо от числа костей в коллекции.
2. Характеристику соотношения остатков именно трех вышеуказанных сельскохозяйственных видов можно считать показателем тех или иных особенностей животноводческой деятельности, а вместе с этим и традиций. Последнее неразрывно связано с выявлением ряда исторических факторов этнокультурного спектра взаимовлияния.
3. Немаловажным в этом же плане является и определение соотносительного значения степени занятости животноводством и охотой. Издревле и до средневековья огромная значимость традиционной охотничьей деятельности являлась отличительной чертой народов северных лесных районов края, у которых вплоть до I тыс. до н. э. сохраняется почти исключительно «мясное» ее направление с активным отловом таких видов как лось, северный олень, косуля, медведь.
4. Высокие проценты костных остатков лошадей на вышеуказанных четырех памятниках, скорее всего, свидетельствуют о многочисленных контактах с районами южного Предуралья и Оренбургских степей — возможно, потенциальному месту одомашнивания диких коней, что в своих работах предполагал и В. И. Цалкин [1970, с. 203].
5. Домашние свиньи, по нашим предположениям, были заимствованы местным финно-угорским населением лесостепных районов края от индоевропейцев балановской культуры на рубеже III–II тыс. до н. э.
Агапов С. А., Васильев КБ., Пестрикова В.К Хвалынский могильник и его место в энеолите Восточной Европы // Археология Восточно-Европейской лесостепи. Воронеж, 1979. С. 35–48.
Антипина Е. Е. Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. № 3. 1997. С. 20–32.
Бекени Ш. Новый метод вычисления количества особей животных в остеологическом материале из археологических местонахождений // Бюллетень МОИП. Отдел биологии. Т. 74. Вып. 6. М., 1969. С. 69–71.
Браунер А. А. Материалы к познанию домашних животных России. 1. Лошадь курганных погребений Тираспольского уезда Херсонской губернии // Записки общества сельского хозяйства Южной России. Т. 86. Кн. 1. Одесса, 1916. С. 49.
Васильев И. Б., Матвеева Г. И. У истоков истории Самарского Поволжья. Куйбышев, 1986.
Витт В.О. Лошади Пазырыкских курганов//СА. XVI. 1952. С. 163–205.
Габяшев Р. С. Нижнее Прикамье в эпоху неолита // Очерки по археологии Татарстана. Казань, 2001. С. 34–43.
Животноводство. М.: Колос, 1978.
Кузьмина И. Е. Лошади Северной Евразии от плиоцена до современности // Труды Зоологического института РАН. Т. 273. СПб., 1997.
Макарова Л. А., Нурумов Т. Н. К проблеме коневодства в неолите-энеолите Казахстана // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 122–131.
Матюшин Г. Н. Энеолит Южного Урала. М., 1982.
Моргунова Н. Л. Ивановская стоянка эпохи неолита и энеолита в Оренбургской области // Проблемы эпохи энеолита степной и лесостепной полосы Восточной Европы. Оренбург, 1980. С. 7, 8.
Никитин В. В. Каменный век Марийского края // Труды Марийской археологической экспедиции. T. IV. Йошкар-Ола, 1996. С. 179.
Паавер К. Л. К методике определения относительного значения видов и групп млекопитающих в остеологическом материале из раскопок археологических памятников // Известия АН Эстонской ССР. Серия биологии. Т. 7. Вып. 4. Тарту, 1958. С. 277–290.
Петренко А. Г. К методике определения возраста лошадей по коренным зубам // Сборник аспирантских работ Казанского государственного университета. Казань, 1965. С. 46–52.
Петренко А. Г. Костные остатки животных с поселения Муллино // Матюшин Г. Н. Энеолит Южного Урала. М., 1982-а. С. 301–307.
Петренко А. Г. О морфологических особенностях костей скелета крупного рогатого скота из археологических памятников Среднего Поволжья // Новое в археологии и этнографии Татарии. Казань, 1982-6. С. 46–52.
Петренко А. Г. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. М., 1984.
Петренко А. Г. Результаты видового анализа костей животных с поселений эпохи бронзы Марийского Поволжья // Соловьев Б. С. Бронзовый век Марийского Поволжья. Йошкар-Ола, 2000. С. 156, 157.
Соловьев Б. С. Бронзовый век Марийского Поволжья. Йошкар-Ола, 2000.
Формозов А. А. К истории древнейшего скотоводства на юге СССР // Основные проблемы териологии. Тр. МОИП. Отдел биологии. T. XLVIII, М., 1972. С. 19–25.
Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.
Цалкин В. И. Фауна из раскопок памятников Среднего Поволжья // МИА. № 61. Т. 1. М., 1958. С. 221–281.
Цалкин В. И. Животноводство и охота в лесной полосе Восточной Европы в раннем железном веке // МИА. № 107. М., 1962. С. 5–96.
Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы // МИА. № 161. М., 1970.
Цалкин В. И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы в эпоху поздней бронзы. Сообщение 4 // Бюллетень МОИП. Отделение биологии. Т. 77. Вып. 4. М, 1972. С. 60–74.
Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. М., 1989.
Clason А. Т. Some Aspects of Stock-Breeding and Hunting in the Period after the Band Ceramic Culture North of the Alps. D. G. Budapest, 1973. P. 205–211.
Teichert M Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Wiederristhohe bei Schaffen // Archaeozoological Studies. Amsterdam, 1975. P. 212–265.
Data from Ivanovskoe VII site, also as earlier receiving evidences from Stanovoe IV, Yazyikovo I, Voymeznaya I, Maslovo Boloto, Zamostye, Soulat and other sites are confirming that hunter to animals and birds was major way of life support together with fishing for population of forest zone of Russian plain in Mesolithic and Neolithic periods. The main game from Ivanovskoe VII site were animals and birds species, encountered in forest and water-marsh biotops.
All three Mesolithic layers of Ivanovskoe VII site have formed in warm year period. Numerous remains of water voles, existence young beaver, hamster and absolute predominance of migrate species indicate to this hypothesis. However, site in the period of forming of cultural deposits Il-a, was visited in cold year time for elk hunter. Researching parts of Neolithic deposits was formed in autumn-winter period, evidence of what is numerous remains (whole sceletons) of pine marten, small number of remains of water voles and birds.
Osteological materials from 22 archaeological sites of Middle Volga region and Pre-Ural territory of Neolithic, Halcolithic and early Bronze are using in this investigation. Cattle, sheeps and goats, horses as the first domestic animals are traced at the beginning of V millennium B.C. in Neolith and at the second part of IV millennium B.C. in the economy of region. Domestic pigs are appeared later, with arrival in the region the population of Balanovskaya culture on the bound of HI — H millennium B. C. In early historical phases the character of stock-breeding and the hunter activity were determined by the nature factors.
Н. Д. Оводов
Плейстоценовый снежный баран Сибири
Известно, что Вениамин Иосифович Цалкин немалое внимание в своей научной деятельности уделял изучению представителей рода Ovis, их морфологическому разнообразию, происхождению и вопросам расселения по территории Северной Азии и Америки. По мере возможности он уделял внимание и фактам обнаружения ископаемых остатков этих животных. За пол века после выхода известной монографии В. И. Цалкина [1951] накопилось относительно немалое число обнаруженных исследователями на территории Сибири местонахождений остатков снежного барана преимущественно плейстоценового времени, обсуждению чего и посвящена настоящая статья.
Первым для территории Сибири упоминает о нахождении остатков снежного барана И. Д. Черский [1891, с. 262, 263]. Фрагменты двух черепов этого зверя, оказавшиеся в коллекции А. А. Бунге и Э. В. Толля, происходили из нижней части долины р. Яны, то есть из пределов современного ареала чубука. По мнению Черского оба фрагмента «отличаются слишком свежей наружностью, чтобы считать их современниками мамонта».
Следующая находка, отмеченная в литературе больше половины века назад, стала первым свидетельством существенного сокращении сибирской части ареала этого зверя, произошедшем скорее всего в финале позднего плейстоцена. Ею оказался обломок черепа снежного барана с роговым стержнем, обнаруженный В. И. Громовым среди 1500 других костей из материалов раскопок М. М. Герасимова и Г. П. Сосновского в 1934 году палеолитической стоянки Мальта, что близ Иркутска [Громов 1935; 1937; Громова 1941]. Геологический возраст стоянки находится в пределах 19900-21700 лет [Медведев и др. 1996] Териологический состав тафоценоза помимо чубука представлен мамонтом, носорогом шерстистым, лошадью, северным и благородным оленями, бизоном, львом пещерным, серым волком, лисицей, песцом, росомахой, бурым медведем и зайцем. О наличии снежного барана в мальтинском тафоценозе по материалам прежних раскопок упоминает Н. М. Ермолова [1978]. В той же монографии [с. 30] Н. М. Ермолова опубликовала снимок рогового стержня самца снежного барана из палеолитической стоянки Бадай-2 с реки Белой в Иркутской области. В связи с этими находками несколько странно читать слова Н. К. Верещагина и Л. В. Сопина [1980, с. 4]: «В. Громова [1941] считала, что в эпоху палеолита в Прибайкалье обитали снежные бараны. Наши материалы показывают, что здесь жили архары». Видимо, точнее было написать, что в Приангарье в позднем плейстоцене водились оба вида баранов, — та самая симпатрия, о которой пишет Г. Г. Боескоров [2001].
Следующая находка толсторога плейстоценовой сохранности (часть черепа), найденная на реке Барзас в Кемеровской области, кратко опубликована В. И. Громовой [1947]. Еще один обломок черепа этого животного, не имеющий стратиграфической привязки, найден в отрогах Салаира возле деревни Большой Керлегеш в лессовидных суглинках на глубине 9 м [Алексеева 1970]. Ею же описан фрагмент черепа снежного барана из Кузбасса с р. Кара-Чумыш [Алексеева 1980]. Эти пункты удалены от ближайшей границы современного ареала снежного барана к западу на полторы тысячи километров.
Для Средней Сибири из числа опубликованных сведений о находках снежного барана, не считая ошибочного дважды опубликованного мнения А. К. Агаджаняна [2001; 2001а] относительно остатков чубука в верхнеплейстоценовых отложениях пещеры Тоннельной, расположенной на левом берегу Енисея вблизи Красноярска, надо упомянуть мустьерский грот Двуглазка в Хакасии, исследованный 3.А. Абрамовой в 1970-х годах. Определением фаунистических остатков Двуглазки занималась Н. М. Ермолова, отметившая в нескольких публикациях остатки 26 видов млекопитающих. С любезного согласия З. А. Абрамовой при последующем просмотре не полностью сохранившейся в ЛОИА коллекции палеозоологического материала из Двуглазки, удалось к опубликованному списку позвоночных добавить 9 видов млекопитающих и 23 вида птиц [Оводов, Мартынович 1992; Мартынович 2001]. Особый интерес среди новинок представляла находка в 4 слое фрагмента черепа самца снежного барана, залегавшего совместно с остатками зайцев, пищух, сусликов, сурков, мелких хомячков, степной пеструшки, серых полевок, волка, лисицы, пещерной гиены, мамонта, лошади, носорога, благородного оленя, косули, северного оленя, бизона, яка и архара. У черепа снежного барана из Двуглазки (рис. 1) отсутствует лицевая часть, правый роговой стержень почти до основания обгрызен, у левого повреждена лишь верхушка. Хищниками разрушена также и мыщелковая область. Уцелевшая часть позволяет сделать ряд промеров, свидетельствующих о принадлежности черепа к виду Ovis nivicola:
Там же, в Хакасии в ритуальной (?) пещере-ловушке Чулок, расположенной в долине Белого Июса, спелеологами наряду с остатками людей, черепами медведей и костями домашних копытных найдена «… лобная часть черепа животного с короткими (15 см) рогами, толстыми (у основания 7–8 см)…» [Чигряй 1994, с. 160, 161].
Вполне возможно, что этот череп принадлежал самке снежного барана и, следовательно, район пещеры, как и Двуглазки, некогда входил в пределы ареала толсторога.
В Иркутской области к находке снежного барана из культурных слоёв Мальты и стоянки Бадай-2 следует добавить плейстоценовой сохранности лобную часть черепа этого вида из Бодайбинского района, хранящуюся в музее политехнического института г. Томска [Алексеева 1974, с. 31].
В 1989 году И. Е. Гребнев предпринял разведочные раскопки пещеры Куртун-1, расположенной в Приморском хребте по р. Куртун (это примерно на половине расстояния по северо-западному побережью Байкала от истока Ангары до острова Ольхон). Щебнисто-глинисгые отложения на глубине 0,9–1,0 м от поверхности грунта датированы по древесному углю 44715±5740 (СОАН-2902). Другая, дата, выполненная по костям бурого медведя, составила 33500 лет (ГИН-5823). По мнению А. Г. Филиппова и его соавторов [Filippov & other 1995] пещера была обитаема в основном хищниками: пещерной гиеной, бурым медведем, лисицами и волками.
М. А. Ербаевой и Ф. И. Хензыхеновой из рыхлых отложений пещеры Куртун-1 в интервале глубин 0,5–1,3 м определены мелкие млекопитающие: заяц северная пищуха, белка обыкновенная, летяга, бурундук, сурок, суслик длиннохвостый, мышь, мышь-малютка, хомячок (Cricetulus sp.), лесной и копытный лемминги, пеструшка и полевки: красная, красно-серая, высокогорная, водяная, узкочерепная, обыкновенная, экономка. По оценке комплекса мелких млекопитающих «преобладают лесные виды горно-таежной ландшафтной зоны с элементами луговых и реже степных биотопов» [Филиппов и др. 1995, с. 46]. Такой же вывод можно сделать и по отношению к комплексу крупных млекопитающих, список которых И. Е. Гребнев предоставил А. Г. Филиппову [1996]: волк, лисица, красный волк, бурый медведь, соболь, росомаха, колонок, степной хорь, барсук, выдра, гиена пещерная, пещерный лев, рысь, мамонт, лошадь, шерстистый носорог, кабан, кабарга, благородный олень, косуля, лось, северный олень, як байкальский, бизон, сибирский горный козёл и архар. Зная относительно небольшой опыт Гребнева в палеогериологической работе, не научную её направленность и отсутствие собственных публикаций с морфометрической характеристикой образцов, трудно быть уверенным в полной достоверности приведенного списка. В любом случае к списку зверей следует добавить снежного барана, судя по найденной в первом слое пещеры Куртун-1 пястной кости этого копытного, промеры которой, выполненные Гребневым, помещены в таблице 2. Возможно, именно эта кость дала повод к определению СНчз агпшоп в Куртунском тафоценозе [Медведев 2001].
На северо-востоке острова Ольхон на высоте 60–70 м от уровня Байкала в небольшом гроте длиной 5 м и шириной 1,2 м, давно носящем громкое название «Узурская пещера», А. А. Кульчицкий по следам Н. М. Ревякина и П. П. Хороших заложил небольшой раскоп. С глубины 20–80 см среди обломочно-песчаных слабо сцементированных отложений было собрано около 150 костей крупных млекопитающих. Л. Н. Иваньев, определивший их, не приводит количественного повидового соотношения и наряду с остатками снежного барана упоминает серого волка, росомаху, лисицу, колонка, лошадь, косулю, северного оленя, быка (?) и архара [Адаменко и др. 1973]. Сопровождающая фауна мелких млекопитающих также в значительной степени свидетельствует, что в период финала плейстоцена — начала голоцена на Ольхоне существовала обстановка открытого ландшафта [Филиппов и др. 1995], во многом сохранившаяся до нашего времени.
Теперь отправимся к северо-восточной оконечности озера Байкал, где близ поселка Северо-Байкальск между устьями р. Тыя и ручья Курла иркутскими исследователями в 1975 году впервые на побережье Байкала обнаружено шесть стратифицированных позднепалеолитических стоянок. Радиоуглеродное датирование культурных слоев позволило представить их возраст: 1) 13160±350 лет (кость, СОАН-1396-К) и 15200±1250 лет (уголь, СОАН-1396) — из первого культурного горизонта стоянки Курла-III; 2) 24060±5700 (уголь, СОАН-1397) — из второго горизонта стоянки Курла-III; 3) 14150±960 лет (уголь, СОАН-1398) — из стоянки Курла-VI. Л. Н. Иваньевым из слоев этих поселений определены остатки благородного и северного оленей, снежного барана, косули, быка, зайца, песца и некоторых грызунов [Ендрихинский и др. 1978].
В 1976–1977 годах исследование стоянок Курла-I–III было продолжено археологом П. Е. Шмыгуном. Переданный мне для изучения остеологический материал второго и третьего культурных горизонтов стоянки Курла-I и второго горизонта памятника Курла-II содержал по моим определениям остатки минимум 10 видов млекопитающих: донской заяц (334 кости), волк (1), лисица или песец (2), росомаха (4), нерпа (16), благородный олень (1), лось (1), северный олень (178), бизон или як (1) и снежный баран (138). Кроме этого, в коллекции найдены единичные остатки белой куропатки (определение Н. В. Мартыновича) и рыбы.
Таблица 1. Размеры астрагалов снежного барана (мм).
В сравнении с современными снежными баранами позднеплейстоценовые звери близ северной оконечности Байкала были более крупными, о чем можно судить по компактной кости заплюсны — астрагалу (табл. 1).
В «Каталоге местонахождений ископаемых фауны, флоры и фитолитов территории юга Восточной Сибири» [том 3, лист 0,50.1987, г. Иркутск] значатся три пункта с ископаемыми остатками снежного барана: 1) точка № 246 [с. 90], определение Б. А. Трофимова, 1964; 2) № 268 [с. 107]; 3) № 289 [с. 112]. К сожалению, мне не удалось найти на прилагаемой картосхеме указанные пункты для их географической привязки и потому все три местонахождения приходится отнести к «территории юга Восточной Сибири».
Л. В. Сопин в монографии по снежному барану [Ревин и др. 1988] приводит новые данные об ископаемых остатках черепов этого животного, хранящихся в фондах Иркутского краеведческого музея: 1) из Баргузинской котловины, 2) в районе Бодайбо, 3) из окрестностей оз. Баунт (Забайкалье); кстати, иркутский охотовед Д. Г. Медведев считает, что этот образец черепа принадлежит архару (устное сообщение). Он же [Медведев 2001, с. 274] пишет о Баунтовском районе Бурятии без ссылки на фактический материал: «Здесь же в прошлом обитал снежный баран». Череп снежного барана неизвестного геологического возраста обнаружен Д. Г. Медведевым [1998; 2001] на дне одного из оврагов мыса Бурхан.
В верхнем течении р. Лены недалеко от поселка Качуг в 1971 году была открыта палеолитическая стоянка Макарово-III. Из малого количества обнаруженных остатков млекопитающих Л. Н. Иваньев, кроме снежного барана, определил мамонта, шерстистого носорога, первобытного быка, северного и благородного оленей, медведя и волка [Стратиграфия… 1990, с. 97]. Геологический возраст местонахождения составил 31200±500 (ГИН-7067).
Особенно примечателен в географическом отношении плейстоценовый череп снежного барана с бичевника реки Вилюй у села Намцы ниже города Верхневилюйска [Ревин и др. 1988], поскольку эта находка является как бы вехой между современными популяциями чубука в Приленском очаге на территории Якутии и западным изолированным очагом на плато Путоран в Средней Сибири.
В Якутии по материалам из палеолитических стоянок [Мочанов 1977, табл. Г] остатки толсторога обнаружены по определению О. В. Егорова только в Дюктайской пещере, расположенной в бассейне верхнего течения р. Алдан. Единичные кости снежного барана приурочены к слоям 7-а, 7–6,8. Другие составляющие тафоценоза, возраст которого 13–14 тыс. лет, представлены мамонтом, бизоном, лошадью, северным оленем, волком, лисицей, песцом и зайцем.
Таблица 2. Ископаемые и рецентные метакарпалии снежного барана.
Ещё одно местонахождение ископаемых геологически разновозрастных остатков чубука в юго-западной части Якутии отмечено недавно для пещерной стоянки Хаергас, приуроченной к долине р. Лены близ устья Малого Патома [Каспаров 1998]. В пятом и шестом слоях, датированных от 16000±300 лет (ИМ-887) до 10 тыс. лет. Наряду с обломком черепа, пятью изолированными зубами и несколькими костями посткраниального скелета снежного барана были учтены остатки песца, лисицы, соболя, благородного оленя, косули, северного оленя, архара, зайца-беляка, северной пищухи, белки обыкновенной, бурундука и длиннохвостого суслика [Боескоров 1998]. Столь же немногочисленные фрагменты скелета снежного барана отмечены этим автором и для средне- и верхнеголоценовых отложений пещеры Хаергас. По-видимому, плотность популяций снежного барана в плейстоцене Якутии была не слишком значительной. Во всяком случае в процессе целенаправленных сборов ископаемых остатков млекопитающих в Алданской котловине [Русанов 1968; Разрез… 1973] костей этого зверя не было отмечено, что возможно, объясняется тафономическими причинами. Г. Г. Боескоров в недавно опубликованной работе [Боескоров 2001] приводит по музейным материалам дополнительные ранее неизвестные места находок ископаемых остатков снежного барана для территории Якутии.
Из опубликованных данных необходимо ещё отметить достаточно сенсационную находку костей чубука на острове Сахалин. В 1994 году археолог С. В. Горбунов, проводя исследования сахалинских карстовых полостей, вскрыл шурфом рыхлые отложения пещеры Останцовая на горе Вайда. Наряду с археологическими предметами были собраны кости млекопитающих: северного оленя, лошади, песца, медведя, кабана, изюбря, и снежного барана [Алексеева 1995]. Последнему виду принадлежала 61 кость минимум от восьми взрослых особей. По мнению Э. В. Алексеевой остатки барана имеют позднеплейстоценовый возраст. Заслуживают внимания мелкие размеры взрослых снежных баранов с острова Сахалин. По личному сообщению Э. В. Алексеевой длина двух пястных костей этого животного равнялась 165 и 161 мм.
В связи с сахалинскими находками можно вспомнить не менее редкий факт наличия части скелета барана (вид?) в плейстоценовых отложениях пещеры Географического Общества на юге Приморья [Оводов 1977], - это обгрызенная хищниками плюсневая кость довольно крупного размера, ныне хранящаяся со всей коллекцией в фондах Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге. По существу, этим, очевидно, и ограничены на настоящее время литературные сведения о находках ископаемых остатков снежного барана в Азии. Географическое положение перечисленных пунктов, как и других описанных ниже находок остатков Ovis nivicola, приведено на рисунке 2 (ареал и точки ископаемых находок).
В последние годы некоторое количество костных остатков толсторого в были обнаружены в окрестностях г. Красноярска по обоим берегам Енисея. В коллекции Красноярского краеведческого музея есть из сборов 1988 года Н. В. Мартыновича в пещере Маячной две пястных кости (табл. 1) и одна плюсна (табл. 2) взрослого снежного барана позднеплейстоценового возраста, судя по сохранности костного вещества. Кости имеют типичную для пещерных захоронений буровато-желтую окраску. Пещера находится примерно в 70 км к юго-востоку от Красноярска в истоках р. Казанчеж, притока Есауловки, впадающей справа в Енисей. По словам Н. В. Мартыновича и спелеолога В. Е. Михеева, многократно исследовавшего пещеру, полость начинается узким входом, горизонтально ведущим вглубь скального массива, и через несколько десятков метров за 15-метровым отвесом следует ряд гротов впечатляющих размеров. Общая длина полости порядка 1200 м. Ближе ко входу среди обвальных камней были обнаружены не только упомянутые кости снежного барана, но и плейстоценовые остатки красного волка, бурого медведя и несколько зубов носорога. Из более поздних, голоценовых находок в пещере Маячной следует отметить единичные кости серого волка, барсука, зайца-беляка и остатки минимум 40 рысей.
На противоположном, левом берегу Енисея в 200 км выше г. Красноярска сотрудниками Лаборатории археологии и палеогеографии Средней Сибири на протяжении нескольких лег было собрано на искусственных пляжах Красноярского водохранилища в Курганском археологическом районе большое количество сред-не-позднеплейстоценовых остатков крупных млекопитающих [Хроностратиграфия… 1990]. К сожалению, Д. Г. Медведев [2001] ошибочно отнес этот пункт к Саяно-Шушенскому водохранилищу, а это существенно южней. Столь же неверно Г. Г. Боескоров [2001] приурочил Куртакское местонахождение к долине р. Чулым. Среди большого количества ископаемых остатков крупных млекопитающих на берегу Красноярского водохранилища оказались как кости архаров (17 пястных, 22 плюсневых), так и несколько фрагментов скелета снежного барана, в частности, 3 пястных кости и одна нижняя челюсть. Явная картина, как и в пещере Двуглаз ка, численного преобладания архара над снежным бараном в позднем плейстоцене по югу Средней Сибири. Окраска костей с водохранилища желтовато-серая; сохранность их относительно хорошая.
Лишенная резцов и окрашенная в неровный бурый цвет, левая половина нижней челюсти взрослого толсторога из Куртака имеет хорошую сохранность (рис. 3). На принадлежность челюсти барана к виду Ovis nivicola помимо небольших размеров в сравнении с таковой архара указывает наличие всего двух премоляров, наблюдающихся у 40–45 % рецептных толсторогов [Млекопитающие… 1963, с. 1063]. Размеры нижней челюсти снежного барана с левобережья Енисея следующие (мм): 1. Длина — 199. 2. Длина от заднего края до подбородочного отверстия — 162. 3. Альвеолярная длина зубного ряда — 79.4. Коронарная длина премоляров (Р3-Р4) -18,5. 5. Коронарная длина коренных зубов (М1-М3) — 47. 6. Высота нижней челюсти за Р4 — 30. 7. Высота нижней челюсти за М3 — 46. 8. Ширина основания восходящей ветви — 52. 9. Длина и ширина М3 — 29 и 11,5.
Foramen mandibulae и foramen mentale наеденной челюсти забиты сцементированной карбонатизированной массой, факт — косвенно свидетельствующий о существенной древности находки. Часть собранных здесь же среднеплейстоценовых (?) остатков крупных млекопитающих: волка, малого пещерного медведя, носорога, лошадей, мамонта, лося, благородного оленя и некоторых других видов заключены в известковистые конкреции. Этот признак по мнению Н. И. Дроздова, В. П. Чехи и Е. В. Артемьева [1992] позволяет предварительно сопоставить фаунистические находки с данного участка с «нижнеплейстоценовым аллювием погребенной долины» [там же, с. 88]. Но возможна и более молодая дата — средний, начало позднего плейстоцена.
Еще одна пясть снежного барана была обнаружена в местонахождении Усть-Обор, расположенном в среднем течении долины р. Хилок (Западное Забайкалье). Первые сборы ископаемых остатков млекопитающих проведены на Усть-Оборе в 1971 году археологом М. В. Константиновым, приславшим кости для определения в Институт археологии и этнографии (Новосибирск). По наблюдениям М. В. Константинова (личное сообщение): «Местонахождение представляет собой эрозионный уступ высотой 10–15 метров, рассеченный рядом оврагов. В одном из них я собрал сначала подъемный материал, а затем заметил костеносные линзы на глубине 5,25 м, из которых извлек ряд костей».
Из присланной небольшой коллекции Усть-Обора автору удалось кроме пястной кости и двух обломков плюсны снежного барана определить следующих млекопитающих: Panthera spelaea, Praeovibos sp., Equus ex gr. mosbachensis-germanicus, Coelodonta sp., Spirocerus sp..
Поскольку до недавнего времени нижний возрастной предел снежного барана был определен как поздний плейстоцен [Каталог… 1981, с. 407], особый интерес представляет геологический возраст тафоценоза Усть-Обора, что вернее всего можно определить по найденному там же, к сожалению, единичному образцу пястной кости лошади.
Размеры и пропорции (по методике Айзенман) пястной кости лошади из Усть-Обора с очевидностью свидетельствуют о принадлежности этого животного к группе эквид, обозначаемой как Equus mosbachensis-germanicus и позволяют датировать пясть лошади и соответственно снежного барана средним плейстоценом, чему не противоречит и находка пястной костиPraeovibos sp. (табл. 3). Возможно, сходной по возрасту с усть-оборской находкой является какая-то часть скелета Ovis nivicola [Боескоров 2001] на реке Буотама в Центральной Якутии.
Теперь обратимся к некоторым морфологическим особенностям скелета конечностей снежного барана в связи с их ископаемыми находками. Известно, что для горно-скальных копытных в сравнении с равнинными животными характерна укороченность дистальных отделов ног [Егоров 1955]. К примеру, у современного снежного барана длина пясти по отношению к сумме длин плечевой и лучевой костей по моим промерам (n=6) составляет 38,9 — 40,1 — 41,4 %; соответственно плюсневая кость по отношению к сумме длин бедра и голени выражена цифрами 33,2 — 33,7 — 35,1 %. У архара (n=5), как обитателя более пологих склонов.
Таблица 3. Пясть лошади Equus sp.. из Усть-Обора.
Этот порядок соотношений выражается для передней конечности 44,4 — 46,0 -49,0 %; для задней конечности — 36,8 — 38,7 — 41,9 %. То есть, пропорции основных элементов, составляющих конечности, дают толсто рогу преимущество в силе, а архару в скорости передвижения, что для каждого вида оказывается выгодным при спасении от четвероногих хищников и, возможно, от древнего человека.
Обращаясь к таблице 2, видим, что ископаемые метакарпы толсторога в среднем на 10 % длиннее рецентных пястных костей этого вида (170,0 — 181,1 -189,5 мм против 152,3 — 163,0 — 171,1 мм) при относительно более широком диафизе (индекс 4:1), сохраняющем в сечении одинаковые с пястными костями современного снежного барана пропорции (индекс 5:4).
По соотношению длины метакарпа и размеров сечения его в срединной части различают среди мелких полорогих виды, приспособленные к обитанию в равнинных условиях, либо, напротив, — в биотопах с резко выраженным рельефом [Егоров 1955, табл. 3, 4 и 10]. Применяя этот подход к нашему материалу, получаем несколько парадоксальный результат. Отношение длины пясти к ширине диафиза дают разброс цифр для фоссильных метаподий толсторога окрестностей Красноярска и в Усть-Оборе: 8,2–8,5 — 8,6; для рецентных костей чубука из Корякского нагорья и низовьев Лены имеем соответственно 8,6–9,2 — 9,5 (у архара по Егорову: 9,45–10,3 — 10,9; у сибирского козерога: 6,65 — 7,45 — 8,16). То есть плейстоценовые толстороги, обитавшие на просторах Южной Сибири с относительно плавным рельефом, по некоторым пропорциям метакарпа были более приспособленными к передвижению по крутым скалистым склонам, чем его ближайший современный северо-восточный сородич. Аналогичный вывод можно сделать, обратившись к сравнимым пропорциям между длиной метакарпа и передне-задним диаметром диафиза этой кости (индекс 1:5, табл. 2). Тот же результат дает несколько более сложный индекс массивности пястных костей, а именно, отношение длины пясти к полусумме ширины и поперечника диафиза. Используя собственные данные и материалы, опубликованные О. В. Егоровым [1955, табл. 10], получим соответствующий последовательный ряд (%):
То есть, судя по пропорциям пястной кости, снежный плейстоценовый баран по своим качествам при передвижении по крутым склонам превосходил рецентные популяции чубука и приближался к современному сибирскому козерогу. Архар в этом отношении за десятки тысячелетий остался неизменен. На рецептном материале для указанных видов подобный вывод сделан по соотношению длины пястной кости и длины грудопоясничного отдела позвоночного столба [Сутула 1990, табл. 3].
Подвидовое деление современных азиатских снежных баранов в соответствии с их географической локализацией построено в большинстве своем на различиях в окрасе, формах, размерах роговых чехлов и роговых стержней (у самцов), а также некоторьгх деталей строения и размеров черепов. Единого мнения о количестве рецентных подвидов у специалистов нет. Существенные морфологические отличия некоторых элементов посткраниального скелета плейстоценовых толсторогов южной части Сибири от современных представителей этого вида убеждают в необходимости выделения первого на ископаемом посткраниальном материале для территории Сибири подвида снежного барана. Не исключено, что с накоплением нового более полноценного плейстоценового материала появится потребность выделения особого вида. Известная гипотеза заселения баранами Северной Америки через Берингийский мост с территории Азии в начале четвертичного периода пока остается гипотезой, поскольку детально не обоснована достаточным палеофаунистическим материалом.
Каковы же причины сокращения ареала снежного барана в позднем антропогене? Ф. Б. Чернявский [1962, с. 25], касаясь этого вопроса, пишет: «Значительное сокращение ареала толсторогов, происходило, по-видимому, под влиянием изменения климатических и соответственно фитоценотических условий; антропический фактор мог иметь значение лишь в самое последнее время». Не исключено, что вымирание толсторогов в финале плейстоцена на территории юга Средней и Прибайкальской Сибири кроме этого было связано с иными причинами. Во-первых, конкурентное сосуществование на одной территории с архаром решалось не в пользу снежного барана, поскольку численность последнего в условиях холмисторавнинного рельефа Южной Сибири была значительно меньше. При малой плотности популяции снежного барана и его относительно слабой резвости в сравнении с архаром пресс со стороны четвероногих хищников-южан: красного волка, пещерной гиены, снежного барса, по-видимому, был существенно ощутим, чего в полной мере не испытывали северные популяции чубука. Об успешной охоте пещерной гиены и, вероятно, волков на таких копытных, как баран и горный козел свидетельствует процентное количество костных остатков последних в исследованных нами пещерных убежищах гиен. Например, в гроте Проскурякова (Хакасия) остатки Capra-Ovis составили 11,3 % от числа определимых костей остальных 17 видов промысловых млекопитающих. Для пещеры Логово Гиены (Алтай) аналогичная цифра составила 8,4 %. Красный волк, чьи ископаемые остатки обнаружены в пещерах по отрогам Восточных Саян и на Алтае, как известно из литературных источников, был один из настойчивых и удачливых преследователей копытных. Факт обитания в позднем антропогене на территории Алтае-Саянской горной области снежного барса отмечен пока только находками фрагмента нижней челюсти его в хакасском гроте Проскурякова и в Малояломанской пещере на Алтае, что может косвенно свидетельствовать о встречах этого хищника с горными баранами. Помимо этих трех видов в опустошении плейстоценовых популяций чубука, вероятно, играли существенную роль и широко распространенные не только по южной полосе Сибири, но и к северу серый волк, пещерный лев и росомаха, чьи остатки неоднократно встречены исследователями в культурных слоях палеолитических памятников Сибири и вне участков обитания древнего человека.
Сколько-то решающее значение в истреблении южных популяций снежного барана могла иметь и охотничья деятельность палеолитических племен бассейна Енисея и Прибайкалья. Пример тому, — палеолитические стоянки Мальта, Бадай-2, Курла-1, а также возможно, грот Двуглаз ка в Хакасии.
Название подвида дано в соответствии с выявленным на уровне современных знаний ареала плейстоценового снежного барана, расположенного намного южнее его современного родича.
Голотип. ККМ (Красноярский краеведческий музей)№ 1800, левая пястная кость из пещеры Маячная окрестностях Красноярска (Средняя Сибирь); поздний плейстоцен.
Паратипы. Пястная и плюсневая кость из Маячной пещеры. Три пястных кости и нижняя челюсть снежного барана с левого берега Красноярского водохранилища в 200 км выше Красноярска; средний — поздний плейстоцен. Пястная кость из пещеры Куртун-1 (Прибайкалье); поздний (?) плейстоцен. Пясть из местонахождения Усть-Обор (Западное Забайкалье); средний плейстоцен.
Диагноз. Кости значительно более крупные чем у современных чубуков с Корякского нагорья; по длине в среднем на 9 %, по ширине диафиза, — на 1,5 %, по ширине нижнего эпифиза, — на 9,5 %.
Промеры типовой серии: смотри таблицу 2.
Сравнение. Плейстоценовый подвид Ovis nivicola meridialis существенно отличается по морфологическим особенностям метаподий от современных снежных баранов северо-востока Азии. По соотношению длины пястных ископаемых костей к полусумме продольного и поперечного диаметров их диафиза в сравнении с подобными данными для рецентных материалов выясняется, что плейстоценовые снежные бараны по силовым параметрам стоят между современными чубуками и горными козлами (Capra sibirica).
1. В настоящее время известно минимум 30 местонахождений плейстоценовых остатков снежного барана, большинство из которых свидетельствует о широком распространении в прошлом этого вида к югу от современного ареала (Кузбасс-Сахалин). Остатки рассматриваемого представителя парнокопытных в Усть-Оборе (Западное Забайкалье) позволили удревнить до среднего плейстоцена время обитания снежного барана на территории Сибири.
2. Морфологические особенности пястных костей плейстоценового чубука характеризуют его как более крупное животное и более приспособленное к передвижению по крутым склонам в сравнении с современными представителями вида.
3. На основании морфологических отличий метаподиальных костей плейстоценовых снежных баранов (за исключением сахалинских находок) от их современных родичей, обитающих на северо-востоке Азии, выделен подвид Ovis (Pachyceros) nivicola meridialis Ovodov, ssp. n.
4. Основными причинами сокращения к финалу плейстоцена былого ареала южного подвида снежного барана явились, кроме расширения лесной зоны Сибири в то время, также и конкурентные отношения с архаром, и пресс со стороны четвероногих хищников: красного и серого волков, пещерной гиены, снежного барса и др. Аналогичное влияние оказывала и охотничья деятельность палеолитических обитателей Прибайкалья и южной части бассейна Енисея.
Агаджанян А. К. Пространственная структура позднеплейстоценовой фауны млекопитающих Северной Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. Новосибирск: изд. ИАЭТ, 2001. С. 2–19.
Агаджанян А.К Пространственная структура мамонтовой фауны Северной Евразии // Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М.: ГЕОС, 2001а. С. 228–243.
Адаменко Р. С., Иваньев Л. Н., Кульчицкий А. А. Узурское пещерное местонахождение фауны млекопитающих на Ольхоне // Геологические и гидрологические исследования озер Средней Сибири, Лиственичное на Байкале. 1973. С. 43–50.
Алексеева Э. В. Находки ископаемого снежного барана в Кузбассе // Краевед Кузбасса. Вып. 2, Новокузнецк, 1970. С. 270–279.
Алексеева Э. В. Млекопитающие плейстоцена юго-востока Западной Сибири (хищные, хоботные, копытные). М.: Наука, 1980.
Алексеева Э. В. Ископаемые остатки снежного барана на Сахалине // Вестник ДВО РАН. № 6.1995. С. 92, 93.
Боескоров Г. Г. К вопросу об изменении состава териофауны Якутии с конца плейстоцена и в голоцене (по археологическим материалам) // Млекопитающие антропогена Якутии. Якутск, 1998. С. 126–137.
Верегцагин Н. К., Сопин Л. В. История изменений ареала архара (Ovis ammon L. 1758) в Южной Сибири // Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический. Т. 85. Вып. 6.1980. С. 3–11.
Громов В. И. Некоторые новые данные о фауне и геологии палеолита Восточной Европы и Сибири // Палеолит СССР. Известия ГАИМК. Вып. 118. 1935. С. 249 (подстрочное примечание).
Громов В. И. Фаунистический состав и геологические данные о палеолитической стоянке Мальта под г. Иркутском // Труды совещаний секции международной ассоциации изучения четвертичного периода (INQUA). Вып. 1. Л., 1937. С. 296–301.
Громова В. И. Фауна верхнепалеолитической стоянки Мальта близ Иркутска // Доклады АН СССР, новая серия. Т. 33. № 1.1941. С. 94–96.
Громова В.И К вопросу о прежнем распространении толсторогов Ovis nivi-cola Eschsch // Доклады АН СССР, новая серия. Т. 57. Вып. 5.1947. С. 493–495.
Дроздов Н.И, Чеха В. П., Артемьев Е. В. Местонахождения раннего палеолита // Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян). Красноярск, 1992. С. 53–94.
Егоров О. В. Экология сибирского горного козла (Capra sibirica Meyer) I! Труды Зоологического института АН СССР. Т. 17.1955. С. 7–314.
Ендрихинский А. С., Панычев В. А., Плюснина Л. В., Сизиков А. М., Шмыгун П. Е. Геологическое строение и возраст Северо-Байкапьского палеонтолого-археологи-ческого памятника // Доклады Академии Наук СССР. Т. 243. № 3.1978. С. 719–722.
Ермолова Н. М. Териофауна долины Ангары в позднем антропогене. Новосибирск: Наука, 1978.
Каспаров А. К. Млекопитающие стоянок позднего каменного века Южной Якутии // Млекопитающие антропогена Якутии. Якутск, 1998. С. 138–150.
Каталог млекопитающих СССР. JL: Наука, 1981.
Мартынович Н. В. Новые материалы по плейстоценовым птицам из мустьерско-го грота Двуглазка (Хакасия) // Эволюция жизни на Земле. Томск, 2001. С. 503, 504.
Медведев Г., Ков Н, Воробьева Г. и др. Мальтинское палеолитическое местонахождение (по итогам полевых работ 1995 года). Иркутск, 1996. С. 17, 18.
Медведев Д. Г. Историческое и современное распространение ирбиса и его жертв в Восточной Сибири // Труды Байкало-Ленского природного заповедника. Вып. I. М.: Инкомбук, 1998. С. 120–123.
Медведев Д. Г. Ископаемые дикие бараны Байкальской Сибири // Современные проблемы Евразийского палеолитоведения. Новосибирск, 2001. С. 273–276.
Млекопитающие фауны СССР. Ч. 2. М.-Л.: изд. АНСССР, 1963. С. 641–2000.
Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком северо-восточной Азии. Новосибирск: Наука, 1977.
Оводов Н.Д Позднеантропогеновая фауна млекопитающих (Mammalia) юга Уссурийского края // Фауна и систематика позвоночных Сибири. Труды Биологического института. Вып. 31. Новосибирск: Наука, 1977. С. 157–177.
Оводов НД. К истории снежного барана (Ovis nivicola) // VI съезд Териологического общества. М., 1999. С. 180.
Оводов Н.Д Судьба южных популяций снежного барана // Молодая археология и этнология Сибири. XXXIX РАЭСК. Ч. 1 Чита, 1999а. С. 73–76.
Оводов НД. Судьба снежного барана // «Охота и охотничье хозяйство». № 10. 2000. С. 10, 11.
Оводов Н. Д., Мартынович Н. В. Новые данные по млекопитающим и птицам грота Двуглазка в Хакасии // Проблемы археологии, этнографии, истории и краеведения Приенисейского края. Т. 1. Красноярск, 1992. С. 78–83.
Разрез новейших отложений Мамонтова Гора (авт.: А. К. Агаджанян А.К., Боярская Т. Д., Глушанкова Н. И. и др.). М.: изд. МГУ, 1973.
Ревин Ю. В., Сопин Л. В., Железное Н. К. Снежный баран. Морфология, систематика, экология, охрана. Новосибирск: Наука, 1988.
Русанов Б. С. Биостратиграфия кайнозойских отложений Южной Якутии. М.: Наука, 1968.
Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск, 1990.
Сутула В. А. Адаптивное значение опорно-двигательного аппарата копытных II Морфология млекопитающих и проблемы локомоции. Труды Зоологического института АН СССР. Т. 215. Л., 1990. С. 137–151.
Филиппов А. Г., Ербаева М. А., Хензыхенова Ф. И. Использование верхнекайнозойских мелких млекопитающих юга Восточной Сибири в стратиграфии. Иркутск, 1995.
Филиппов А. Г. Четвертичные фауны из пещер Саяно-Байкальской горной области. 1996. Рукопись.
Форонова И. В. Ископаемые лошади Кузнецкой котловины. Новосибирск, 1990.
Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири (бассейн Енисея). Новосибирск, 1990.
Цапкин В.И Горные бараны Европы и Азии. М.: МОИП, 1951.
Чернявский Ф. Б. О систематических взаимоотношениях и истории снежных баранов Старого и нового Света // Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический. Т. 67. Вып. 6.1962. С. 17–27.
Чернявский Ф. Б. Таксономия и история снежных баранов (подрод Pachiceros) // Териофауна России и сопредельных территорий. Материалы Международного совещания 6–7 февраля 2003 г. М., 2003.
Черский ИД. Описание коллекции послетретичных млекопитающих животных, собранных Новосибирскою экспедициею 1885-86 г. // Приложение к 65 тому Записок императорской Академии Наук. № 1. СПб., 1891.
Чигряй Л.И. Пещеры Хакасии // Проблемы сохранения природы и культурноисторического наследия Хакасии. Вып. 1. Абакан, 1994. С. 157–161.
Filippov A. G., Goryunova O. I., Vetrov ИМ, Berdnikova N. E. Application of Baical caves in human life// Acta carstologica. XXIV. Ljubljana, 1995. P. 215–220.
Taking into account some new finds there has been given a survey of the fossil remnants of the bighorn sheep on the territory of Siberia. The morphological peculiarities of the pleistocene metacarpale bones of the bighorn sheep have made it possible to distinguish a new subspecies — ovis nivicola meridialis. By its physical peculiarities it surpassed the contemporary specimen in strength (while moving along steep slopesand rocks). There were several reasons for the disapperance of pleistocene South-Siberian form of the bighorn sheep. First, the population of this species was considerably less in comparison with the larger food competitor, argali, also inhabiting the South of Siberia. And apparently, the bighorn sheep experienced even a more serious pressure from carnivores, such as the snow leopard, the red dog, the cave lion (Panthera spelaea), the hyena (Crocuta spelaea), and also the man.
On the basis of the new fossil finds it has been possible to ascertain a more ancient geological age of the Siberian bighorn sheep up to the Middle Pleistocene Age.
А. А. Формозов
Вспоминая В. И. Цалкина
Вениамин Иосифович Цапкин стал сотрудником Института истории материальной культуры АН СССР (ИИМК) в 1946 г. Ему было 43 года, и он прошел большой жизненный путь. После окончания университета (1928) служил в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева, в Институте морского рыбного хозяйства и океанографии, в Московском зоопарке, Зоологическом музее и на Биофаке МГУ. К 1946 г. он опубликовал более 20 статей по биологии млекопитающих, пользовался авторитетом у коллег, завершал уже докторскую диссертацию «Горные бараны Европы и Азии» (защищена в 1947 г., издана в 1951 г.). Парнокопытными Цапкин занимался до конца своих дней, выпустил еще ряд чисто зоологических работ по этой группе животных, в том числе монографию «Олени СССР» (1947, совместно с В. Г. Гептнером), и до 1950 г. оставался сотрудником МГУ. Но с полной уверенностью можно сказать, что именно в ИИМК — ИА за последнюю четверть века своей жизни В. И. Цалкин внес наиболее весомый вклад в науку.
В этом были и элемент случайности и глубокая закономерность. Случайность заключалась в том, что на службу в ИИМК Цалкин пошел ради приработка. Только что окончилась Отечественная война. Люди жили очень трудно. Совместительство позволяло несколько улучшить свое материальное положение. Вениамин Иосифович женился на Нине Юрьевне Соколовой (1916–1995), дочери известного фольклориста Ю. М. Соколова. Она закончила Биофак МГУ в 1939 г. по кафедре биологии беспозвоночных, была ученицей акад. Л. А. Зенкевича и ближайшей сотрудницей проф. Я. А. Бирштейна. В 1979 г. уже после смерти мужа защитила докторскую диссертацию и работала в МГУ до конца своих дней. Это была обаятельная женщина — миниатюрная хрупкая блондинка с большими выразительными глазами. Вениамин Иосифович был очень привязан к своей семье, жене и маленькой дочери Шуре.
Закономерность заключалась в том, что разработка проблем палеозоологии в СССР давно назрела. Возникла эта область знания в середине XIX в. после исследований И. Стеенструпом костных остатков из кьеккенмеддингов в Дании и Л. Рютимейером — фауны из свайных построек Швейцарии. В России новое научное направление получило успешное развитие в капитальном труде А. А. Иностранцева «Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера» (1882). В подготовке этой книги участвовали ведущие наши естествоиспытатели. Кости рыб из неолитических отложений описал К. Ф. Кесслер, кости птиц — М. Н. Богданов, кости собаки — Д. Н. Анучин а других млекопитающих — сам А. А. Иностранцев. Дальнейшего развития этот удачный опыт не получил. Виной тому консерватизм археологов. Сплошь и рядом они бросали костные остатки на месте раскопок, в лучшем случае определяли их сами на глазок. Только в 1899 г. Императорская археологическая комиссия при выдаче открытых листов стала рекомендовать раскопщикам не выбрасывать кости людей и животных, а привозить их в Петербург на определение.
Мало изменилась ситуация и после революции. До 1940-х гг. раскопки в стране были невелики по объему. Небольшие коллекции костей так или иначе пристраивали на определение то к палеонтологам В. И. Громову и В. И. Громовой, то к зоологу А. Н. Формозову, то еще к кому-нибудь. Зачастую определения давали сами археологи, а то и оставляли кости неразобранными на месте раскопок. Если мы возьмем библиографию «Советская археологическая литература 1918–1940 гг.», то обнаружим, что раздел о естественно-научных методах в археологии содержит около ста названий, включая популярные очерки о происхождении домашних животных и растений, статьи по палеоботанике, пыльцевому анализу и т. д. Для огромной страны со множеством археологических памятников это ничтожно мало.
Ситуацию надо было переломить. После конца Отечественной войны раскопки разворачивались все шире. Нужен был квалифицированный специалист-биолог, готовый взять на себя разбор и изучение остеологических материалов из раскопок. И приглашение на эту роль Цалкина оказалось очень удачным. При работе над своей докторской диссертацией он промерил более 1200 черепов горных баранов из музейных коллекций, приобретя опыт работы с остеологическим материалом. Цалкин был не эколог, не зоогеограф, а морфолог, систематик. Он отличался большим трудолюбием, добросовестностью. Пригласил Цалкина в ИИМК заведующий лабораторией института М. В. Воеводский, не без консультаций с А. Н. Формозовым (Цалкин и Формозов были земляками, нижегородцами, знали друг друга с 1920-х гг.).
Вениамин Иосифович взялся за дело сразу же. Уже в 1946 г. он разобрал, описал и опубликовал костные остатки из раскопок А.Л. Монгайта в Старой Рязани. В дальнейшем увидело свет до пятидесяти его публикаций такого же плана. Среди них книги «К истории животноводства и охоты в Восточной Европе» [МИА. 1962. № 107], «Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии» [МИА. 1966. № 135], «Древнейшие домашние животные Восточной Европы» [М. 1970]. Археологи знают и статьи Цалкина в КСИИМК, СА, МИА, но надо помнить, что большая часть (около 20) сообщений об остеологических коллекциях из раскопок издана не в археологической периодике, а в «Бюллетене Московского общества испытателей природы, отдел биологический».
Сотни тысяч костей прошло за четверть века через руки Вениамина Иосифовича, сплошь и рядом не отмытых от раскопочной земли. Лаборантов не было. Все эти горы костей надо было разобрать, разложить по лоткам отдельно остатки каждого вида, составить статистические таблицы, отмыть и очистить наиболее выразительные образцы, сделать множество промеров. В своем маленьком кабинете на первом этаже здания на ул. Дм. Ульянова или в разборочной, в цокольном этаже ученый сидел целыми днями. На фоне многих наших археологов, любивших полевую работу, но тяготившихся разборкой коллекций, трудолюбие Цалкина вызывало глубокое уважение, желание подражать. Однако отношение археологов к палеозоологии было очень разным, в чем я убедился, когда в 1963 г. посетил раскопки поселения I тысячелетия до н. э. Кучук-тепе в Узбекистане. У подножия холма я увидел груду костей и спросил руководителя раскопок Л. И. Альбаума, что он собирается с ними делать. «В конце сезона засыплем землей», — ответил он. Я стал убеждать его прислать кости в Москву, договорился с Цалкиным, что он проведет их исследование, сообщил об этом Альбауму, но кости так и не были присланы.
Первоначально Вениамин Иосифович надеялся на то, что коллекции из раскопок позволят обогатить наши знания о былом распространении диких животных. Кое что, действительно, обнаружилось. Раскопки Неаполя Скифского дали кости бобра, дикого кабана, кулана, сайгака — ныне в Крыму полностью исчезнувших. В Гродно костей диких животных было больше, чем домашних — 57 %. Это свидетельство об охоте хозяев феодального замка. Выявились материалы, важные также и для истории зубра. Но в основном на определение поступали кости из поздних памятников, особенно из древнерусских городов (Новгород, Псков, Старая Рязань, Старая Ладога, Москва). Неолитом занимались считанные единицы археологов, да и кости в неолитических слоях обычно плохо сохраняются. Материалы же из поселений эпохи бронзы, городищ раннего железного века и из средневековых памятников состояли почти целиком из остатков крупного и мелкого рогатого скота, лошади и свиньи. Районы, откуда Цалкин получал материал для обработки, это прежде всего Центральная Россия, Украина, Молдавия, Поволжье, Северный Кавказ. Коллекции из Прибалтики, Сибири, Средней Азии доходили до Москвы реже, хотя Цалкин обработал костный материал из раскопок в Хорезме, писал о лошадях из Курганов Алтая.
При такой ситуации нужно было решить, что же делать дальше — ограничиться только формальным определением видов, составлением их кратких списков для археологов (что многих вполне устраивало), или в сущности освоить новую специальность, занявшись изучением пород древнего скота. Вениамин Иосифович пошел по второму пути и сделал много ценного для изучения истории скотоводства в нашей стране.
Динамику развития скотоводства и изменения морфологических особенностей скота Цалкин рассматривал в связи с эволюцией природной среды на той или иной территории. Сложнее обстояло дело со стыковкой выводов биолога и построениями археологов. Большинство археологов реконструировало хозяйство древних людей по собственному разумению, лишь заглядывая в заключения предоставленные зоологами, а то и без этого.
Тяжелая обстановка, сложившаяся в советской биологии после пресловутой сессии ВАСХНИЛ 1948 г., вынудила Вениамина Иосифовича покинуть Зоологический музей и Биофак МГУ. В 1950–1970 гг. ИИМК — ИА АН СССР стал единственным местом его работы. Он знал всех наших археологов 1940-1960-х гг., с кем-то подружился (особенно с А. Л. Монгайтом), кого-то уважал (Б. Л. Гракова, В. Д. Блаватского, Н. Н. Воронина), кого-то отвергал. Помню его слова об одном известном археологе, которого часто называли землепроходцем: «Он скорее землепроходимец». О другом видном археологе говорил: «Имярек всегда работает на аудиторию. С разбойниками — он разбойник, а с честными людьми — пречестный человек». Юмор, переходивший в сарказм, был очень свойствен Вениамину Иосифовичу. Но даже с людьми, ему чуждыми и антипатичными, он неизменно держался вежливо, корректно.
Он посмеивался над тем, как археологи неграмотно пользуются биологической терминологией, над словами Е. Ю. Кричевского: «Животные разных пород: коровы, свиньи, лошади», над пристрастием археологов к выражению «ареал распространения» (что равносильно «масляному маслу»). В целом принятый тогда у археологов подход к науке казался ему — человеку, воспитанному в биологическом мире, приверженцу твердо доказанных фактов, системного мышления — легковесным, дурной беллетристикой, а не подлинной наукой.
А. Л. Монгайт и я внушали Вениамину Иосифовичу, что мы ждем от его трудов не только заключений зоолога, но и критики построений археологов о характере хозяйства древних людей. Он долго от этого уклонялся — конфликтов хватало и в биологической сфере.
Первый же опыт, в который я его втянул, оставил неприятный осадок. Еще до войны Д. А. Крайнов раскопал пещерный навес Таш-аир под Бахчисараем — памятник, вполне обычный для мезолита и неолита Крыма, содержащий пачку малонасыщенных культурных слоев. Крайнов увидел тут нечто иное. Слои охватывают, якобы, огромный период — от мадлена до неолита, а находки в них доказывают зарождение скотоводства в конце палеолита и полное развитие его в мезолите. Основывался этот сенсационный вывод на определении костей из навеса, проведенном другом Крайнова Н. А. Сугробовым, по образованию археологом, а отнюдь не зоологом.
На заседании сектора неолита и бронзового века я возражал против публикации работы Крайнова без проверки определений костей Цалкиным. Заведующий сектором С. В. Киселев со мной согласился. Но Крайнова поддержал тогда A. Я. Брюсов, позволивший себе сказать публично, что Сугробов погиб на фронте, а Цалкин, отсиживавшийся в Ашхабаде, оплевывает светлую память героя. Вениамин Иосифович смотреть кости из Таш-аира отказался.
В итоге остеологический материал все же пришлось переопределить B. И. Громовой и ее ученице Е. Л. Дмитриевой. Как и следовало ожидать, определения Сугробова оказались ошибочными. Кости домашних животных были только в слоях с керамикой. Ю. Г. Колосов убедительно показал, что основные слои Таш-аира — позднемезолитические, палеолита там нет. Но Крайнов повторил свои прежние выводы в опубликованной книге, и кое-кто (например, В. М. Массон) ссылается на эти недобросовестные выводы как на святую истину.
Этот эпизод ухудшил положение Цалкина в институте. С. В. Киселев ввел его после защиты докторской диссертации в состав Ученого совета. Новый руководитель института Б. А. Рыбаков вывел его оттуда. При огромном объеме работы с остеологическими коллекциями зоологу нужен был лаборант. Долго этот вопрос не могли решить. Потом появился Борис Сушко, но вскоре его уволили за чтение недозволенной литературы. Только за два года до смерти Цалкина в штат института была взята В. П. Данильченко.
Мое желание как-то соотнести палеозоологические наблюдения с построениями археологов в конце концов осуществилось. Я был редактором последней книги Цалкина «Древнейшие домашние животные Восточной Европы» и настоял на том, чтобы, говоря об остеологических материалах из трипольских, майкопских и других памятников IV–III тысячелетий до н. э., автор остановился и на реконструкции хозяйства людей, живших на этих поселениях, согласно работам археологов.
Так вспоминается треть столетия спустя деятельность В. И. Цалкина в Институте археологии. Он играл важную роль в жизни нашего института и оставил большой след в развитии палеозоологии. Но главным для него всегда была ситуация в биологическом мире. Более тридцати лет он был тесно связан с Московским обществом испытателей природы. Основанное в 1803 г. и уцелевшее при закрытии большевиками подобных организаций это Общество в 1930-1960-х гг. превратилось в очень важный объединяющий центр для зоологов и ботаников Москвы, где тогда не было академических институтов биологического профиля. Член МОИП с 1938 г. Цалкин был активнейшим его деятелем.
Когда президентом Общества стал учитель его жены Л. А. Зенкевич, в 1953 г. Цалкина назначили заместителем редактора журнала «Бюллетень МОИП, отдел биологический». С 1966 г. он — вице-президент МОИП. В 1955–1967 гг. Общество возглавлял акад. В. Н. Сукачев. Вместе с ним Цалкин развернул борьбу за возрождение подлинной биологии в СССР, печатал статьи гонимых Лысенко ученых и по мере возможности критику псевдонаучных упражнений лысенковцев.
Наши «шестидесятники» шли двумя путями, условно говоря, солженицынским и сахаровским. Первый предполагал неучастие в официальной жизни страны, второй — использование всех легальных возможностей во благо человека и культуры. Цалкин разделял сахаровскую позицию.
После смерти Сталина было позволено вынести на страницы журналов научные дискуссии. «Бюллетень МОИП» воспользовался этим и начал атаку на рассуждения Лысенко о виде в биологии, утверждавшего, что рожь может породить овес, а пеночка — кукушку. Надзиравшие за наукой чиновники ЦК КПСС забеспокоились и вызвали редколлегию журнала для проработки: почему де журнал печатает статьи одних «консерваторов от биологии», игнорируя «передовых ученых». Цалкин посетил всех видных лысенковцев, предлагая им выступить. Все отказались. Ведь сказать-то им было нечего. Тогда в «Бюллетене» просто перепечатали бредовую статью Лысенко «Вид» из Большой советской энциклопедии.
Замечу, что отнимавшая массу времени и сил, душевных и физических, работа в МОИП велась, что называется, «на общественных началах», т. е. никак не оплачивалась.
Закат лысенковщины после падения поддерживавшего это направление Хрущева окрылил Вениамина Иосифовича. Он покупал в огромном числе экземпляров и раздавал всем знакомым издания, где рассказывалось о трагедии советской биологии. Но вдруг все публикации на эту тему прекратились. Большинство соратников Лысенко сохранило свои позиции. Это было огромным разочарованием.
Другим тяжелым для Вениамина Иосифовича переживанием стал разлад с любимой дочерью. Она окончила Биофак МГУ и аспирантуру, успешно защитила кандидатскую диссертацию, начала работать в том же направлении, что и ее мать, но в 1960-х гг. решила уехать из СССР. Отец был категорически против. Александра Вениаминовна ушла с работы еще при его жизни, а уехала вскоре после его смерти. Сейчас голос Александры Финкельштейн часто можно услышать по радиостанции «Свобода» из Праги, где она дает обзор прессы.
Переживания подорвали здоровье Цалкина. Он через силу занимался привычным делом и в ИА и в МОИП, но болезнь одолела. В конце 1969 г. я привез ему в академическую больницу макет обложки его книги «Древнейшие домашние животные Восточной Европы» и едва узнал в исхудавшем желтого цвета человеке с замутненным сознанием всегда элегантного и остроумного Цалкина. Он умер 10 марта 1970 г.
The main stages of V. I. Tzalkin's science way as a morphologist as an arhaezoologist is represented in the form of private memorials. The role of this brilliant researcher in Russian archaeology, his analytic and public person talent is showed in the article. Some difficulties and questions, arising in his study of fundamental problems of origin and histoiy of animal breeding are considered there. Some results of these investigations are published in such scientific works as «To the history of animal breeding and hunting in East Europe» [1962], «Ancient animal breeding of East Europe and Middle Asia tribes» [1966], «Ancient domestic animals of East Europe» [1970] и so on.
Наши авторы
АГАДЖАНЯН АЛЕКСАНДР КАРЭНОВИЧ
— доктор биологических наук, заведующий отделом млекопитающих Палеонтологического института РАН, ул. Профсоюзная, 123, Москва.
АНТИПИНА ЕКАТЕРИНА ЕВСТАФЬЕВНА
— кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории естественно-научных методов в археологии, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва.
АСЫЛГАРАЕВА ГЮЛЫПАТШАРИЛОВНА
— кандидат сельскохозяйственных наук, Национальный центр археологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии Наук Республики Татарстан, Казань.
ДИНЕСМАН ЛЕВ ГЕОРГИЕВИЧ
— доктор биологических наук, главный научный сотрудник, научный консультант группы Исторической экологии, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Ленинский пр., 33, Москва.
ЖИЛИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
— доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела каменного века, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва.
КАРХУ АЛЕКСАНДР АЛЬФРЕДОВИЧ
— кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, ул. Профсоюзная, 123, Москва.
КИРИЛЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
— кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, ул. Профсоюзная, 123, Москва.
КОСИНЦЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
— кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заведующий музеем, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург.
ОВОДОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
— кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, лаборатория археологии и палеогеографии Средней Сибири при ИАЭТ СО РАН, Красноярск.
ПЕТРЕНКО АИДА ГРИГОРЬЕВНА
— доктор биологических наук, Национальный центр археологических исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии Наук Республики Татарстан, Казань.
САВИНЕЦКИЙ АРКАДИЙ БОРИСОВИЧ
— доктор биологических наук, старший научный сотрудник, руководитель группы Исторической экологии, Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Ленинский пр., 33, Москва.
СМИРНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
— доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Историческая экология, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, Екатеринбург.
ФОРМОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
— кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и методики, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва.