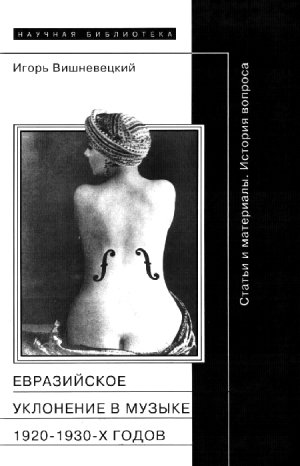
ИСТОРИЯ ВОПРОСА[*]
Мысли бегут. А Чингисхан и Карокорум? Евразийский контраст Акрополя? Я не знаю с уверенностью, что меня больше волнует: известные пейзажи Парижа, связанные с историческими моментами чужой (или общечеловеческой?) истории, или хватает за душу воспоминание о каком-нибудь моменте или лице в азиатском нашем раздолье? От Азии я, во всяком случае, оторвать своего Я не могу и чувствую ложь, однобокость в рассудочной настроенности в отношении Запада. Корни мои не здесь! — Словом, юный скиф Анахарсис. Хотя и не юн и далеко не скиф. Если дано было бы продумать или, это крепче, прочувствовать ход развития культуры, не получился бы замкнутый круг? А этого инстинктивно боишься, хотя к этому стремишься, но надеешься всегда на срыв в параболу, на отлет.
Василий Никитин 25 декабря 1925 г. Париж
Истории русской музыки не существует в научном смысле.
Она существует лишь в индивидуальном сознании музыкантов и в их непосредственном творчестве.
Это глубоко знаменательный факт.
Артур Лурье Апрель 1920 г., Москва
1. Введение
Проекция евразийского мировоззрения в область музыкальной эстетики и творчества, а также то, насколько проекция эта повлияла в 1920–1930-е годы на дебаты о путях развития западной музыки, требует всестороннего исследования. Такая тема претендует на книгу, не меньше. Ниже на суд читателей и представляется эта самая книга, состоящая в первой части из монографического исследования, а во второй — из текстов и материалов тех, кто принял участие в музыкальном проекте евразийцев. Тексты по большей части были опубликованы в труднодоступных современному читателю музыкальных, политических или литературных изданиях (в основном вне России). Не рискуя определять музыкальное евразийство как отдельное эстетическое направление, я все-таки полагаю, что можно говорить о своеобразном эстетико-политическом уклонении в творчестве нескольких связанных обшей судьбой композиторов и музыкальных теоретиков.
Как мы теперь знаем, с евразийскими идеями были знакомы и в большей или меньшей степени симпатизировали им оказавшиеся за рубежом русские композиторы Игорь Стравинский (1882–1971)[2], Сергей Прокофьев (1891–1953)[3], Владимир Дукельский (1903–1969)[4], Александр Черепнин (1899–1977)[5]; черты, близкие евразийскому мирочувствованию, можно обнаружить у юного Игоря Маркевича (1912–1983)[6], лишь в 1940-е годы переключившегося с сочинения музыки на дирижирование. Список этот впечатляет. Благодаря активности названных, оказавшихся вне пределов России/СССР композиторов (Сергей Прокофьев в 1936 г. возвратился в СССР[7]) комплекс эстетических идей, которые я буду увязывать ниже с евразийством, получил распространение в среде западно-еропейских и американских музыкантов и, уже вне связи с евразийским течением, стал предметом оживленного и заинтересованного внимания современников.
Чем же объяснить успех евразийства именно среди композиторов, а не, скажем, среди оказавшихся за пределами отечества русских художников? Ответ прост: Петр Петрович Сувчинский (1892–1985) и Артур Сергеевич Лурье (1891–1966), входившие в число участников евразийского движения, были и активными музыкальными деятелями[8]. Сувчинский проявил себя в 1910-е годы в России как издатель журналов «Музыкальный современник» и «Мелос», а после, в эмиграции, — как заинтересованный советчик Дягилева, Прокофьева и Стравинского, автор запомнившихся многим статей в «La revue musicale»[9] и части текста гарвардских лекций Стравинского (1939)[10], легших, в свою очередь, в основу книги Стравинского «Музыкальная поэтика» (1942)[11]. Лурье в музыкальном плане был известен как оригинальный композитор и ближайшее доверенное лицо Стравинского в 1929–1939 годах, а также как недюжинный теоретик и организатор. До октября 1917 г. он был близок футуристам, а после возглавил Музыкальный отдел (МУЗО) Наркомпроса. Однако, оказавшись в начале 1920-х годов в Берлине, Лурье предпочел задержаться в Западной Европе, сделавшись невозвращенцем. Два левоевразийских издания — парижские сборники «Версты» (1926–1928) и выходившая в Кламаре, под Парижем, еженедельная газета «Евразия» (1928–1929), оба издававшиеся при редакторском участии Сувчинского (а «Евразия» еще и при редакторском участии Лурье), — были заполнены интереснейшими статьями на музыкальные темы, принадлежавшими перу как самого Лурье, так и другого жившего тогда в Западной Европе русского композитора, Владимира Дукельского. Кроме того, и Сувчинский и Лурье публиковались в 1920–1930-е во франко- и англоязычной, а Лурье еще и в русской эмигрантской прессе (Сувчинский эмигрантской прессы избегал). Парижские премьеры сочинений Лурье давали современникам представление о том, какой может быть музыка, максимально соответствующая «евразийскому мировидению». Не следует сбрасывать со счетов и близкой дружбы Лурье, католика по вероисповеданию, с ведущим философом-неотомистом Жаком Маритеном[12], защитником идеи «порядка» в эстетике и философии, так гармонировавшей с эстетико-политическими взглядами самого Лурье[13], и, конечно же, все расширявшихся контактов другого евразийца, Сувчинского, с западноевропейскими музыкантами и его все возрастающей роли в их среде как уникального арбитра в вопросах эстетических, да и не только в них. Музыка рассматривалась Сувчинским и Лурье как поле приложения определенных историко-политических концепций, как средство их пропаганды, но ближайшим объектом пропаганды были, конечно, не западные европейцы, а русские экспатрианты. Сувчинский стремился приобщить к близкой евразийцам проблематике Прокофьева (поначалу не слишком удачно[14]). И Сувчинский и Лурье были близки со Стравинским, который сам пришел к прото-евразийским идеям еще в середине 1910-х годов[15], а также с юным Дукельским, вскоре, в 1929 г., уехавшим в Северную Америку и для дальнейшей пропаганды евразийских идей более не достижимым, но зато создавшим в Новом Свете очень близкую духу евразийства ораторию «Конец Санкт-Петербурга» (1931–1937)[16]. Дукельский, в свою очередь, был очень дружен с Прокофьевым и — через «Конец Санкт-Петербурга», с партитурой которого последний был знаком и даже заинтересовал ею Мясковского[17], — повлиял на две экспериментальные советские кантаты Прокофьева, «К XX-летию Октября» (1936–1937) и «Здравицу» (1939).
Я постараюсь продемонстрировать, как композиторство, писание музыкально-эстетических работ и философско-эстетические размышления на музыкальные темы становились формой политической деятельности, а также результаты предложенного зарубежными русскими музыкантами сплава эстетики и политики. Может быть, учитывая использование ряда идей евразийства разными по ориентации политическими силами внутри современной России, данный анализ послужит уроком на будущее — если, конечно, мы допускаем, что кто-либо когда-либо учится на опыте других.
Следует начать с кризиса музыкального национализма. Данное выражение употребляется здесь, как и в современной западной литературе, скорее в смысле «национального, патриотического направления», которое не следует путать с направлением шовинистическим и ксенофобским. Мечта о согласии разума нации (интеллигенции) с ее телом, двигавшая начиная со второй половины XIX в. огромным числом русских философов, писателей, политиков и музыкантов, породила, среди прочего, и русскую композиторскую школу.
Школа эта была озабочена созданием музыки, ни в чем не уступающей, скажем, Вагнеру (желание Римского-Корсакова), не говоря о французских образцах. В XX в. Дебюсси, Равель и «Группа шести» уже многому учились у своих восточных коллег.
Однако к началу XX в. популистское мышление целостного, органицистского толка как в русской философии и политике, так и в искусстве, в том числе музыкальном, превратилось в рутину, лишь по недоразумению ассоциировавшуюся с чем-то «передовым». Такой, к примеру, много обещавший композитор, как А. К. Глазунов (1865–1936), в целом к 1910-м годам превратился в местного аналога поздних романтиков Рихарда Штрауса и Эдуарда Элгара и, как и они, продолжал производить масштабные музыкальные полотна (в данном случае балеты, симфонии и концерты) с единственной целью — поддержать статус-кво того, что еще понималось как «национальная школа», но на деле превратилось в общеевропейский стиль и исчерпало эстетический заряд обновления.
Собственно, изменения, происшедшие в восприятии русским образованным обществом музыки с 1860-х годов — времени, когда были сформулированы цели и задачи национального музыкального строительства, — по 1910-е, оказались столь велики, что жизни одного человека на осознание этих изменений не хватало, даже если это и был такой высокоодаренный композитор и педагог, как Глазунов. Ведь в начале 1860-х профессиональная музыка занимала достаточно маргинальное положение в русском обществе, а в культуре в целом уступала по значимости живописи, литературе и даже естественным наукам[18]. Иными словами, мало что предвещало резкую перемену в отношении к музыкальному искусству. Но благодаря созданию консерваторий в крупнейших городах, а также просветительской деятельности руководимого поначалу «музыкальным немцем» Антоном Рубинштейном (1829–1894) Императорского русского музыкального общества (ИРМО) и успеху выдвинутой патриотически настроенными композиторами эстетической программы, за какие-нибудь сорок лет, т. е. на памяти всего двух поколений, была наконец сформирована оригинальная композиторская и исполнительская школа, и дальнейшее развитие русской музыки оказалось возможным в двух направлениях: во-первых, в сторону интенсивного освоения очерченного «национального звукового пространства», во-вторых, в сторону экстенсивного его расширения. Естественно, путь освоения только что осознанного как своё виделся наиболее разумным, экономичным. Кроме того, стала появляться широкая, хотя еще и не массовая, аудитория, интересовавшаяся именно тем, что тогда понималось под русским национальным направлением в музыке. Подробнее о росте популярности концертов русской музыки нужно говорить с цифрами в руках, однако необходимая статистика еще не опубликована. Поэтому набросаем лишь главные детали изменившейся картины.
Уже в 1900-е годы посещение концертов образованными классами, а также обучение детей основам исполнительства (без намерения продолжать серьезную музыкальную карьеру в дальнейшем) стало явлением столь же привычным, сколь привычным и необходимым для детей из определенных семей — изначально дворянских, но с ростом интеллигенции все менее и менее сословно замкнутых, — было обучение в высших учебных заведениях и знание языков. Я не случайно касаюсь социологии явления. Успех был обусловлен как деятельностью самих музыкантов, так и ответом на нее общества. Изменение статуса музыки поддерживалось также успешным оформлением единого выразительного языка «русской школы», который к 1900-м годам осуществил себя как язык позднеромантический. Композиторы и исполнители, с одной стороны, конденсировали эмоции и чаяния «мыслящих людей», что сближало их с ролью писателей и критиков в тогдашней русской литературе, обеспечивая успех таких композиторов, как Чайковский и Рахманинов; с другой же стороны — им исподволь уготавливалась роль жрецов и даже «сверхчеловеков», что обусловило успешный дебют целой плеяды исполнителей-виртуозов, выучеников русских консерваторий, разъехавшихся вскоре по всему свету, а также сенсационно-кратковременную популярность Скрябина. Сочетание общественной значимости и «жреческого», «жертвенного» характера деланья настоящей музыки стало в конце концов восприниматься как нечто специфически русское.
Описанная парадигма не умерла и в советскую эпоху, сохранившись как минимум до начала 1990-х. Актуальность этой парадигмы для русских слушателей позволила Артуру Лурье именовать Шостаковича — основываясь на критериях его успеха — «Чайковским» своего времени[19]. Теми же причинами был, думается, обусловлен в 1970–1990-е высокий культурный статус Альфреда Шнитке. Точности ради заметим, что почти ничего специфически русского — хорошо ли, плохо ли — в подобном взгляде нет; ближайшую параллель ему находим в традиции австро-немецкой, откуда это понимание и было заимствовано русскими наряду с ключевыми для зрелой русской композиторской традиции жанрами: симфонией, инструментальным концертом, сонатой, отчасти романсом и оперой (в последних двух случаях сказались на раннем этапе также итальянские влияния). Да и сама система образования в стране была выстроена по немецкому образцу. Россия, в сущности, шла к тотальной профессионализации (и массовизации) музыкального исполнительства, которую в 1930 г. с изумлением наблюдал в Германии Николай Набоков (1903–1978), активный участник так называемой «парижской группы» русских композиторов. Упомянем тех, кто принадлежал к этому интересному нам «западному» (но отнюдь не западническому!) крылу композиторов, наиболее активному в 1920–1930-е годы и объединявшему почти всех, кто по причинам эстетическим и политическим — причем эстетика, как правило, и равнялась для них политике — оказался в Западной Европе. Помимо самого Набокова, к «парижской группе» русских композиторов могут быть причислены Иван Вышнеградский, Владимир Дукельский, Артур Лурье, Игорь Маркевич, Николай Обухов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Александр Черепнин и живший в 1920-е и в начале 1930-х в основном в Германии Николай Лопатников. Три уехавших на Запад «корифея» русской предреволюционной музыки — Александр Глазунов, Николай Метнер и Сергей Рахманинов — держались от парижан в стороне. Продолжал сочинять, но в прежней манере, и живший в Париже отец одного из «младших парижан» Николай Черепнин; Александр Гречанинов, тоже обосновавшийся в 1925–1939 годах во французской столице, занимал настолько эстетически консервативную позицию, что из живого музыкального процесса выпадал даже больше, чем Глазунов, Метнер, Рахманинов и Черепнин-старший. Именно поэтому заграничное творчество последних — Сувчинский иронически именовал его «складом старинных вещей»[20] — остается за пределами настоящего изложения.
Обратимся к впечатлениям Николая Набокова. Вот обширная выдержка из его очерков музыкальной жизни Веймарской республики, опубликованных в парижских сборниках «Числа». Очерки эти написаны по свежим впечатлениям от поездки к жившему в Берлине двоюродному брату, писателю Владимиру Набокову-Сирину.
На новые постановки в каком-нибудь Веймаре тратится больше денег, чем в год в парижской опере.
И в каждом городе сидит по дирижеру, иногда замечательному — всемирно знаменитому, иногда просто хорошему капельмейстеру, но всегда опытному технику оркестра, знающему свое дело, ремесленнику. У дирижера серия симфонических концертов. <…>
Кроме того: — дети в школах поют, поют в два голоса, чинно и скучновато девушки по субботам на улицах, поют в Bierfest’ax [праздниках пива. — И. В.] студенты, административные власти маленького городка, пожарные, полиция, рабочие и крестьяне. Поют по-школьному, в два голоса, фальшивя и часто с такими нюансами, от которых страшно становится, но всегда с увлечением, серьезно относясь к делу, следя по нотам за песней и стараясь петь чисто. <…>
Музыка для немца есть насущная потребность, без которой он не может жить. <…> Он ею питаем, она для него необходимое условие жизни, как необходимы ему еда, сон, пиво, модернизация домов и квартир, сигара, семья, книги, работа, мечты — т. е. все, чем заполняется существование среднего немца. Звучит все это очень некрасиво, но как это хорошо! <…> Говоря экономически: на все это производство есть массовый потребитель. Постоянный обмен между потребителем и производством и рождает ту высокую, первокачественную немецкую музыкальную культуру, равной которой не существует ни в какой другой стране[21].
Мнение Николая Набокова характерно, потому что оно фокусирует в себе крайнюю заинтересованность, косвенную попытку мерить родным аршином (а как было бы у нас в России? наверное, без подобного усердия…) и критику буржуазного массового общества слева. Далее в очерках Набоков называет композитора — для массового общества лишь производителя востребованного товара — «крепостным поставщиком»[22]. Подобные высказывания в устах композитора, после Второй мировой войны ведавшего музыкальной реконструкцией в американской зоне оккупации Германии и во многом способствовавшего изменению художественного климата оккупированной страны, а в конце жизни именовавшего себя «демократическим социалистом» и входившего в левую администрацию западноберлинского мэра Вилли Брандта в качестве советника по культуре, совсем не случайны. Пафос очерков Николая Набокова во многом определяется требованием справедливого распределения музыкального продукта среди масс — очевидно, уже тогда противоположным и превращению его в капиталистический товар, и жреческой мумификации в качестве «академической», «национальной» и пр. ценности, — а также стремлением преодолеть гегемонию просвещенного цивилизаторства над «варварским», т. е. идущим не от знания и мастерства, но от «внутренних импульсов», эмоциональным отношением к культуре и ее формам. Отличие же России 1910–1920-х от наблюдаемой Николаем Набоковым Веймарской Германии — чисто хронологическое: у последней за плечами было как минимум два столетия непрерывной профессионализации и движения профессионального музицирования в массы. Что и позволило нацистскому музыковедению в 1930-е объявить музыку «самым немецким из искусств»[23]. У русской музыки — при стремительной профессионализации и повторении немецкой модели — тоже были все потенции стать «самым национальным» из искусств, тем более что, как и Германия, Россия в 1920-е годы стояла на пороге превращения в массовое общество. Так бы и произошло, не возникни мощной реакции против стремительного подавления профессиональным музицированием неокультуренной, идущей от умения эмоционально, а не только интеллектуально, по рациональному «академическому» стандарту, брать сам предмет музыки — реакции эксцентрической по отношению к цивилизаторскому национализму, сознательно «провинциальной», «периферийной» и, конечно же, «варварской». Эта реакция была наиболее ярко представлена Стравинским периода от «Весны священной» до «Свадебки», Прокофьевым в 1910-е, 1920-е и даже в 1930-е годы, а также несколькими русскими композиторами, чье зрелое творчество протекало за пределами страны и осталось в ту пору не востребованным прозападноевропейски настроенными музыкальными кругами внутри России. Я имею в виду в первую очередь Артура Лурье конца 1920-х и 1930-х годов и Владимира Дукельского в 1930-е годы. Отчасти примыкают к этой тенденции юный Игорь Маркевич, от композиторства в 1940-е годы отказавшийся, и ранний Александр Черепнин. Независимая по своим целям и задачам от западных коллег, но географически «западная группа» русских композиторов отвергала заимствованный у австро-германской профессиональной музыкальной традиции стандарт национального, часто идентичный конвертируемому в массово употребимое. Как не без гордости говорил в начале 1930-х Лурье,
благодаря Стравинскому, новая русская музыка на Западе вышла на международную арену. Она не утратила при этом национального характера, но отличительной особенностью нашей западной композиторской группы является то, что в ней ликвидированы те установки на «экзотику», которые считались прежде необходимой принадлежностью русского стиля, как кавиар, водка и балалайка. <…> После Стравинского молодые на Западе уже как бы по традиции идут за ним по пути разрешения общих проблем, а не специфически национальных[24].
«Разрешение общих проблем» было по сути своей бунтом против городской «культурной колонизации», цивилизаторского подчинения исторически сложившегося, «низового» гармонического, ритмического и мелодического языка территорий, ассоциировавшихся в начале XX в. с «периферийной Россией», — ее проевропейским культурным центрам. Как свидетельствовал в книге «Made in Italy» Игорь Маркевич, сам выходец из верхушки вестернизированного культурного слоя, «сверхспешная модернизация лишила верхние классы укорененности в стране. Вследствие вестернизации они начали вести себя в собственной стране, как англичане в Индии»[25]. Отклик критика «The Sunday Times» Эрнста Ньюмана на лондонскую премьеру «Свадебки» Стравинского: «…музыкальная Европа более чем чуть-чуть подустала от мужика с его плохо пропеченным мозгом… Вся партитура наделе есть продукт музыкального атавизма» («…musical Europe is already more than a little tired of the moujik and his half-baked brain… The whole score is, indeed, a piece of musical atavism»)[26] — как нельзя более точно описывает существо конфликта. «Музыкальная Европа» — это, конечно, подлинное мерило рационального и цивилизованного, которому противостоит «плохо пропеченное» низовое (в системе координат цивилизаторов) культурное сознание географических окраин, которое еще надлежит хорошенько пропечь. Лингвист и один из будущих идеологов евразийства кн. Н. С. Трубецкой (сын знаменитого философа-идеалиста) в книге «Европа и человечество» (1920) — первом манифесте нарождающегося евразийского движения — прямолинейно и резко говорил о культурном империализме современных ему западных европейцев. Утверждаемая ими повсеместно европейская (т. е. единственно правильная западная) культура, по мнению Трубецкого, «не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной и определенной этнической и этнографической группы народов, имевших общую историю»[27]. Но «триумфальное шествие „цивилизации“ должно будет прекратиться: одни романогерманцы без поддержки уже европеизированных народов будут не в силах продолжать дело духовного порабощения человечества»[28]. Кажется вполне символическим, что изо всех помянутых Ньюманом в негативной рецензии участников лондонской премьеры — во время которой партии четырех роялей исполняли французы Орик и Пуленк, итальянец Риети и русский Дукельский — именно юному Дукельскому выпала, по взаимному жребию, честь вывести зарвавшегося цивилизатора за нос (довольно длинный) из театра, где шли представления «Свадебки». Критик бежал, не дожидаясь публичного позора[29].
Первым, кто выступил против академического национализма (т. е. буржуазного цивилизаторства), был в глазах многих русских музыкантов Скрябин. Характерными чертами, определившими «точно с луны упавшесть» Скрябина, были: во-первых, ничем не сдерживаемый культ независимого, индивидуалистического «я», отличный от центральной для тогдашней русской традиции веры в единство художнического ума и народного тела; во-вторых, оценка собственной музыкальной деятельности как поступательного приближения к акту мистериального, космического развоплощения этого творческого, индивидуалистического «(сверх-)я», намеченного к свершению где-то в географическом сердце Евразии, в столь любимых русскими теософами (а Скрябин был увлеченным теософом) горах Индии или Тибета, т. е. упор на революцию в сознании одного и многих соучастников грядущего действа; в-третьих, вынос себя самого — москвича по рождению — за географические скобки тогдашнего русского пространства: жизнь в Швейцарии, Англии, поездки в США… Между тем «Скрябин не упал с луны на русскую музыку, как это казалось и до сих пор еще кажется многим», — писал в 1944 г. Артур Лурье, сам в прошлом «скрябинист»:
Он был субстанционально связан с русской музыкой, с ее традицией, и уж, конечно, он был проявлением русского духа. <…> Для Скрябина, так же как и для Мусоргского, музыка была не самоцелью, а только средством общения с людьми, осуществления — для Мусоргского — идей внемузыкальных; — для Скрябина — сверхмузыкальных[30].
Восприятие «феномена Скрябина» тогдашним русским обществом точнее всего было бы называть «скрябиноманией»: чрезвычайно велико количество посвященных ему статей, выступлений, книг, тогдашних исполнений его произведений и т. п. Статистика по одному только Петрограду-Ленинграду за первое пореволюционное десятилетие (1917–1927) показывает, что до весны 1920 г. фортепианная музыка Скрябина по числу исполнений значительно превышала исполняемость сочинений для фортепиано любого другого европейского композитора, а в 1922–1923 гг. оркестровые композиции Скрябина уступали по исполняемости только неизменным фаворитам концертной публики Бетховену и Чайковскому[31]. Москва, родной город Скрябина, продолжала чтить его и в лице новоявленных «пролетарских» музыкантов, чей орган «Музыкальная новь» в 1924 г. утверждал буквально следующее: «Мы можем глубоко жалеть, что он не дожил до наших дней, когда ему легче было бы уловить психологию побеждающего пролетариата…»[32]
Интересная как социальный феномен, скрябиномания не может быть здесь подробно рассмотрена, но отметим, что в той или иной мере Скрябиным были задеты все те, о ком пойдет речь в нашем очерке, посвященном истории «музыкального евразийства».
Музыкальное лицо русского евразийства определялось пятью именами.
Во-первых, это композитор и теоретик Артур Сергеевич Лурье (1891–1966), известный также как Артур-Винцент-Перси-Биши-Хосе-Мария Лурье[33], чье настоящее имя тем не менее было Наум Израйлевич Лурья, а родился он не в Санкт-Петербурге, как указано во многих справочниках, а в украинском местечке с дивным названием Пропойск[34]. «Соблазнение» Лурье скрябинской эстетикой случилось в годы обучения в Петербургской консерватории, что видно, например, по раннему циклу 5 préludes op. 1 («préludes fragiles»). По позднейшему признанию Лурье, «при жизни вокруг него [Скрябина. — И. В.] создался культ, и молодежь видела в его музыке осуществление своих чаяний»[35].
В 1915 г. Лурье опубликовал в околофутуристическом сборнике «Стрелец» заметки «К музыке высшего хроматизма», иллюстрированные четырнадцатитактовым Прелюдом для рояля в высшем хроматизме, ор. 12, № 2[36]. Заметки Лурье следует рассматривать в контексте дискуссии о гармоническом наследии Скрябина, протекавшей в 1914–1916 гг. на страницах «Музыки» и симпатизировавшего авангардным практикам, издававшегося Андреем Римским-Корсаковым и Петром Сувчинским журнала «Музыкальный современник» (подробнее об этом см. ниже).
Дело в том, что Л. Л. Сабанеев, столь же преданный популяризатор творчества Скрябина, сколь и произвольный его интерпретатор, пытался в 1914–1915 гг. представить композитора провозвестником «проблемы ультрахроматизма». «Лозунгом его должно быть положение: все звуки суть достояние музыкального искусства, а не только те 12, которые нам представлены темперированным строем»[37]. Ультрахроматизм виделся Сабанееву закономерным результатом эволюции рационалистического восприятия гармонии: «История развития гармонического созерцания человечества <…> есть именно история постепенного обострения способности разбираться в сложных и все усложняющихся комплексах единовременных звучаний»[38]. При этом Сабанеев со свойственной ему внутренней противоречивостью пытался сидеть сразу на двух стульях — критического рационализма и органического и даже интуитивистского видения истории музыки. «Я указываю на эту вполне органическую, заключенную в самой природе звучания концепцию музыкального искусства…» — утверждал он, рассуждая об ультрахроматизме[39].
Артур Лурье, переименовавший ультрахроматизм в «высший хроматизм», пытался практически применить рекомендации Сабанеева. Начало его заметок 1915 г., опубликованных в «Стрельце», прямо отсылает к тезисам Сабанеева: «Введение четвертных тонов — начало в полном смысле новой „органической“ эпохи, выходящей из граней воплощения существующих музыкальных форм»[40]. Осуществиться эта органически-революционная эпоха должна была за счет перетемперации инструментов и введения строго рациональной системы музыкальной записи, отличающейся «экономностью и стильной начертательностью»[41]; впрочем, в свете позднейших практик предлагаемые Лурье «четыре обозначения одной и той же ступени в равномерном повышении»[42] кажутся довольно скромным вкладом вдело гармонической революции. А помещаемый вслед за заметками Прелюд Лурье[43], как и написанные несколько лет спустя первые микротоновые сочинения Ивана Вышнеградского (1893–1979), представляют собой только интересный опыт, не более. Тем не менее сочинения Вышнеградского послужили основанием для дальнейшей разработки им самим ультрахроматической теории[44]. Знаменательно, что Вышнеградский подчеркивал решающее воздействие на него Скрябина, между тем как правильнее было бы говорить о воздействии не Скрябина, но сабанеевской интерпретации его. Кстати, Вышнеградский сообщает, что в течение ряда лет Лурье «сам пытался устроить постройку четвертитонового фортепиано на предприятии братьев Дидерихс, но война и революция помешали осуществить этот проект. В конце концов Лурье отбросил идею»[45]. Очевидно, не одни только внешние обстоятельства были в этом повинны: из письма Лурье другу юности Ивану Яковкину узнаем об определенной раздвоенности сознания в период вдохновленных Скрябиным гармонических поисков. Приходилось выбирать между творчеством и теорией, а Лурье не хотел отказываться ни от одного, ни от другого: «Слишком уж меня волнуют вопросы чисто теоретические современного искусства, чувствую потребность в абсолютно субъективных приемах работы, но тут придется отказаться от всей эволюционной преемственности…»[46]
Композитор и теоретик А. М. Авраамов, возражая в 1916 г. на страницах «Музыкального современника» не только Сабанееву, но — вполне возможно — и тогдашнему практику высшего хроматизма Лурье, указал в продолжение дискуссии[47] на: а) исключительный рационализм ультрахроматизма, б) непреодоленный тональностный характер ультрахроматического письма, нацеленного на ни много ни мало полное снятие утвержденной Бахом якобы кабальной темперации тонового строя, в) на то, что Скрябин — и это подтверждается у Авраамова анализом его произведений — «совершенно не считался с „тональными“ функциями своих гармоний»[48], а к «единообразию нотации» относился вполне анархически, полагая первичным инструмент (фортепиано) и порождаемые его существующей темперацией — которая, хороша ли, плоха ли, а принята миллионами слушателей и музыкантов — отношения, а не возможное слышание инструмента в иной системе слуховых координат. То есть ни ультрахроматиком, ни рационалистом Скрябин, по мнению Авраамова, не был. В то же время путь ультрахроматизма ведет, по мнению Авраамова, к сужению свободы:
…если все авторы, не порвавшие с тональным письмом, строго различают употребление того или иного знака альтерации, справедливо усматривая в педантической строгости применения принципов нотации единственный путь к сознательному восприятию произведения исполнителем, ибо тогда лишь ему ясны тональные функции встречающихся в произведении гармоний, — кольми паче строг к нотации должен быть ультрахроматик, чающий в более или менее близком будущем исполнения своих произведений на реформированных инструментах в вожделенной чистоте и точности строя?[49]
Авраамов был прав: при всей теоретической занимательности микротоновой музыки, она так и осталась одной из многих авангардных, вполне головных и рационалистических практик, а произведения русских догматических последователей этой линии, таких как Иван Вышнеградский, музыкально не убеждают (автора этих строк, во всяком случае). Вскоре Авраамов попытается осуществить собственную «неравномерную темперацию» оркестрового ансамбля[50], которая должна была исправить рационалистические крайности предложенной ультрахроматиками перетемперации отдельно взятых инструментов (впрочем, и Лурье в 1915 г. признавал возможность «воспроизведения высшего хроматизма в оркестре»[51]). К концу же 1930-х годов Авраамов перейдет и вовсе в другую область: к визуальному (именно так!) записыванию музыки на пленку с возможностью дальнейшего звукового воспроизведения, предвосхитив своими экспериментами электронное синтезирование звуков и тембров[52]. Что же до эволюционного ультрахроматизма, то его акустико-математическое обоснование в направлении, параллельном опытам и теориям Вышнеградского и юного Лурье, будет разрабатывать Георгий Римский-Корсаков (внук Н. А. Римского-Корсакова)[53]. Интересы Лурье сместятся в другую сторону. Но возникший не без близости к теоретическим построениям Сабанеева своеобразный эволюционизм, понятый как движение от низшего строя к высшему самораскрытию внутренних потенций новой музыкальной формы (о чем см. ниже), останется существенной чертой его эстетического мирочувствия. Свои авангардные наклонности Лурье будет успешней проявлять не в рационализации тонального языка, а через сближение в 1910-е годы с кубо-футуристами. В январе 1914 г. он составляет с Бенедиктом Лившицем и Георгием Якуловым протоевразийский манифест «Мы и Запад» — первый более или менее политический текст, под которым поставлено его имя, а в 1917-м сочиняет музыку к драме Велимира Хлебникова «Ошибка барышни Смерти»[54]. В апреле того самого 1917 г. — в продолжение футуристической критики Запада — Лурье обращается к «юношам-артистам Кавказа» с призывом:
…проблема Азии, тот аспект России, который мы видим в его азийном раскрытии, должен, наконец, стать и для вас близким и ясным…
Органичность русского искусства в его тяготении к Азии и Востоку — пламенный отказ от тлетворности изжитого Запада (не в территориальном смысле, но в плане его духа)[55].
Вскоре после октябрьского переворота Лурье, как мы уже говорили, становится председателем музыкального отдела (МУЗО) Наркомпроса. Около этого времени Скрябин уже воспринимался Лурье как сомнительное противоядие от академического рационализма, ибо способствовал временному уловлению его самого в рационалистические сети. В речи, произнесенной на торжествах в Москве в пятую годовщину смерти Скрябина (апрель 1920), Лурье так объяснил отказ от дальнейших опытов в русле высшего хроматизма:
Достижения Скрябина в области гармонии, воплощенные им в его произведениях, послужили поводом к созданию целого ряда мертвых схем и отвлеченных измышлений. В частности, его пресловутый ультрахроматизм породил «литературу», может быть, важную для «теоретиков», но для искусства это особенной роли не играет. Художественная практика современности совершенно не дает эволюции скрябинских гармонических принципов и, наоборот, указывает на любопытные уклонения по другим путям…[56]
В 1932 г., окончательно ревизовав свое былое восхищение, Лурье утверждал, что «в зрелый период своего творчества он [Скрябин. — И. В.] окончательно ушел от всех традиций русской школы и стал в такой же мере абсолютистом западничества [и рационализма], в какой Мусоргский был националистом [и революционером]»[57]. Характеристика эта столь же страстно неточна, сколь и симптоматична: в начале 1930-х евразиец Артур Лурье отвергал в Скрябине собственную былую интерпретацию его творчества, о неверности которой предупреждал в дискуссии 1914–1916 гг. А. М. Авраамов.
Вторым по активности лицом в музыкальном евразийстве был Петр Петрович Сувчинский (или Шелига-Сувчинский, ибо фамилия украинских предпринимателей Сувчинских была шляхетского, даже графского корня; 1892–1985), один из ведущих теоретиков политического евразийства и влиятельнейших умов в русской и западноевропейской музыкальной культуре XX в. Сувчинский начинал с издания — вместе с А. Н. Римским-Корсаковым — журнала «Музыкальный современник» (1915–1917). Сдвоенная четвертая/пятая книга журнала посвящалась памяти Скрябина. Прекращение издания было связано с отказом Андрея Римского-Корсакова напечатать положительную статью Игоря Глебова (Б. В. Асафьева) о Стравинском. Собственные евразийские музыкально-эстетические работы Сувчинского относятся к 1930-м, 1940-м и 1950-м годам, когда движение уже распалось, исчерпав свой энергетический заряд и пафос. В 1920-е он был более всего активен как политический публицист и заинтересованный собеседник Стравинского, Прокофьева, Дукельского. В письмах к P. O. Якобсону кн. Н. С. Трубецкой свидетельствует об увлечении молодого Сувчинского «футуризмом».
Третий активный музыкальный евразиец, Владимир Александрович Дукельский (1903–1969), родился на маленькой станции в Западной Белоруссии (отец его был железнодорожным инженером), жил в Кунгуре на Урале, в Крыму, затем в Киеве (где успел поучиться в очень юном возрасте в консерватории), сумел полюбить Петербург и остался равнодушным к красотам Москвы, этого, по его позднейшему слову, «Парижа для русских»[58], хотя впоследствии полюбил Париж настоящий. Одновременно был страстным футуристом, «раскрашивал щеки, носил лиловую хризантему в петлице и подвывал „под Маяковского“ в разных кафе поэтов»[59]. Испытал он и увлечение Скрябиным:
Не писать à la Скрябин было знаком провинциальности; имя его имитаторам в каждом русском городе было легион. <…> На краткий срок я тоже попал в его нети и произвел несколько неубедительно скрябинианских опусов, но стиль был абсолютно чужд для меня, и влияние осталось без последствий[60].
Наконец, Игорь Федорович Стравинский (1882–1971) и Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953), связь которых с евразийством не была прямой и применительно к которым приходится говорить о большей или меньшей степени вовлеченности в евразийский проект, испытали как временный интерес к эстетике Скрябина[61], так и гораздо более продолжительную симпатию к русскому футуризму. Футуризм, особенно в хлебниковском уклонении, был типологически близок им, хотя оба, кажется, предпочитали Хлебникову Маяковского.
Нельзя не упомянуть и еще двух композиторов: Игоря Борисовича Маркевича (1912–1983), в ощущении своей музыкальной избранности очень схожего со Скрябиным и в раннем творчестве продолжившего расширение пределов музыкального сознания, начатое его русскими предшественниками, в первую очередь Стравинским «варварского» периода, а также Александра Николаевича Черепнина (1899–1977), о котором современная ему западная критика еще в 1933 г. писала: «Черепнин считает, что синтез Европы и Азии является идеалом и подлинной сущностью русской музыки»[62].
Заинтересованность в эстетическом эксперименте так или иначе определяла лицо Лурье, Сувчинского, юного Дукельского, а также Стравинского второго периода и молодого Прокофьева и, разумеется, шедших по стопам Стравинского и Прокофьева — Маркевича и Черепнина. Нетрудно увидеть, что вовлеченность композиторов в революционный проект евразийцев — а на меньшее, чем «революцию в сознании» (кн. Н. С. Трубецкой), это интеллектуально-политическое движение не рассчитывало — находилась в прямой зависимости от их тогдашней наклонности к художественному эксперименту.
Хотелось бы не упустить и географического фактора. Сторонники евразийского уклонения в музыке — Лурье, Сувчинский, Дукельский — провели юность на территории нынешней Украины. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что детство на Украине провел и близкий многим аспектам евразийства Прокофьев, а Стравинский, которого Ричард Тарускин склонен считать еще одним ведущим адептом доктрины[63], вдохновлялся архаическим фольклором Волыни, который для него не отличался существенно от севернорусского. Наконец, уроженцем Киева и этническим украинцем, не без сербской примеси, был вывезенный в младенчестве на Запад Игорь Маркевич[64] (хотя отношения его с евразийством и общерусской традицией были своеобразными). Очевидно, было что-то в срединном положении нынешней Украины — на равнине между горными грядами Восточной Европы и степями, с которых, собственно, и начинаются бесконечные степи Азии, — что делало ее некой географической «скрепой», переходом из одного типа пространства в другой.
С одной стороны, к западу от Украины, в так называемой «Европе», концепция которой придумана греками[65], пространство пересечено горными хребтами, реками и открывается в моря: на юге — в Средиземное, на севере — в Северное и Балтийское, на западе — в Атлантику. С азиатской, восточной стороны выход к морям заменен океанической по разбегу сухопутной равниной, которая лишь при переходе в равнинную сибирскую тайгу да на удаленном юго-востоке прерывается горными хребтами. Иными словами, «Евразия» не есть ни тяготеющая к морям и внутренним разделениям Европа, ни континентальная Азия, но, по дефиниции П. Н. Савицкого, «континент-океан»[66]. Именно нынешняя Украина, рассекаемая напополам Днепром-Борисфеном, делает переход из пространства, условно говоря, «европейского» в пространство, столь же условно, «азиатское» — ибо материк един — видимым. В Центральной же России, т. е. в местах, где в позднем Средневековье и после осуществлялся этногенез современной русской нации и где по сию пору живет большинство русского народа, переход этот и порубежность, в отличие от Украины, неощутимы. Пространство Среднерусской возвышенности довольно гомогенно — отсутствие значительных горных массивов, леса, пересеченные реками, — и вполне адекватно взятой на себя его обитателями роли культурного и экономического сердца нации. Здесь едва ли кто мыслит себя хоть сколько-нибудь азиатом. Идея евразийства могла зародиться и зацвести только у жителей периферийных по отношению к равнинному «российскому центру» и переходных областей (Украина, вышедший к морю Петербург, где сформировался как минимум один идеолог евразийства — Л. П. Карсавин) либо у тех, кто всерьез соприкоснулся с периферией, как москвич кн. Н. С. Трубецкой, оказавшийся в конце 1910-х годов на юге нынешней России, в Донском крае.
Самое же интересное, что к началу 1920-х, когда произошло оформление евразийства как идеологии культурной порубежности и композитности, сама концепция насчитывала как минимум несколько веков истории. Правда, вместо «Евразия» было принято говорить «Сарматия», но территория эта, порубежная между Европой и Азией, совпадала с нынешними Украиной и Южной Россией, столь вдохновившими первых идеологов евразийства.
Начало, как всегда, положили греки с их разделением степной равнины, где проживали сарматы, на Сарматию Европейскую (современная Центральная и Восточная Украина) и Сарматию Азиатскую (современная Южная Россия), причем граница проходила по Танаису-Дону. Не обращаясь к красочным и нередко фантастическим греческим описаниям Сарматии, отметим, что античная концепция Сарматии как особого пространства между знакомым эллинистическим и неведомым варварским пережила века, и уже на картах пятисот-, четырехсот- и даже менее чем трехсотлетней давности по-прежнему встречаем — вопреки фактам — все то же неверное местоположение возвышенностей и низменностей, а также когда-то реально существовавших и вымышленных племен и городов, все те же якобы отделяющие степную Сарматию от обстоящего ее потустороннего хаоса горы, что и в описаниях древних авторов.
Мне довелось ознакомиться с тремя европейскими картами Сарматии, относящимися к периоду Возрождения и Нового времени. На самой ранней из них, специально посвященной Азиатской Сарматии и именуемой Secunda Asia Tabula (составлена в 1490 г. в Риме), античные рекомендации выдержаны с точностью исключительной. Рифейские горы (граница между Сарматией и засарматским хаосом), начинающиеся, согласно итальянскому картографу, где-то в районе нынешнего Харькова, охватывают полукругом степную равнину, отделяя ее от области «сарматских гипербореев» и лежащего в их стороне — там, где Балтика! — Сарматского океана; в предгорьях нынешнего Кавказа высится невесть как туда забредшая «колонна Александра», а местоположение некогда реального города Танаиса (покинутого жителями в IV в. по P. X.) относительно русла реки Танаиса (Дона) указано ошибочно. На более поздней карте Европы, составленной в 1566 г. Каспаром Фопеллем (Caspar Vopell), сохранены многие фантастические топонимы и этнонимы, но сделана попытка добавить реалии Украины, именуемой у Фопелля «Рутенией или Малой Россией» (Ruthenia sive Russia inferior; область географически совпадает с Киевщиной), Смоленщины, Новгородчины, Псковщины и даже Московского государства (Die Moschua). Наконец, на составленной Конрадом Шварцем и изданной в 1731 г. в Лейпциге карте Сарматии (см. ил.) наблюдается возвращение к античным образцам. Несмотря на относительную точность в изображении морей и течения рек (хотя античный город Танаис размещен по-прежнему на левом, а не — как это было в действительности — на правом берегу Дона), встречаем на месте Среднерусской возвышенности аж целые две горные гряды: Рифейскую и — севернее — Гиперборейскую, а также замечательные поименования местных племен, как то: сарматы-лошадееды, трупоеды, танаиты и т. д. Говорить о том, что Конрад Шварц мог бы свериться с доступными картами тогдашней России и окрестных земель или, по крайней мере, не заселять обжитого тогда уже пространства экзотическими племенами, — бессмысленно. Перед нами карта не реальная, но карта умозрительная, концептуальная, долженствующая дать образ пространства, переходного от цивилизованного Европейского Запада к неведомой, дикой Азии. Это подтверждается и изображением в правом верхнем углу вышедшей из юрты семьи «сарматов», в которой мужчины с элегантно ухоженными бородами и усами обуты в модные европейские сапоги и — это-то и подтверждает переходность и композитность пространства — одеты в экзотические шубы и шапки: не то из шкур, не то из перьев.
Карта Сарматии (уменьшено) из книги
Notitia Orbis Antiqui sive Georgaphia Plenior…
Illustratuit auxit L. Io. Conradus Schwartz, Eloq. à Graec. Ling. P. P. O. in Caliniriano
Lipsiae: Apud Ioh. Friderici Gleditschii, B. Fil., MDCCXXXL.
From the American Geographical Society Library,
University of Wisconsin — Milwaukee Libraries
Следует отметить, что к моменту издания разбираемой нами карты самоидентификация с географически и культурно переходной «Сарматией» давно уже стала общим местом в мироощущении правящего слоя Речи Посполитой — украинской и польской шляхты, составлявшей до 10 % населения страны. Так называемый «сарматизм» (sarmatyzm по-польски) проник и в литературу, и в покрой одежды (скопированный шляхтой у этнически близких сарматам персов), и в идеологию конфедеративного королевства-республики. И хотя собственно «сарматские» земли отошли к моменту издания карты к России, господствующего положения «сарматизма» как идеологии это не пошатнуло. Еще в XV в. Ян Длугош считал «сарматами» как собственно «поляков», так и «русинов». Первое известное мне упоминание Сарматии как культурной концепции в восточнославянской художественной литературе встречается в стихотворной надписи 1632 г. на клейнот (герб) литовско-украинских князей Корибут-Вишневецких. Один из них, Димитрий Иванович, известный также под прозвищем Байда (т. е. «двухпарусная лодка»), ушел с казачьим войском в Азиатскую Сарматию, где прославился в 1550-е годы рядом военных авантюр, был недолгое время и на московской службе; другой, Михаил, в 1669 г. будет избран королем (по-современному президентом) Польской Речи Посполитой. Как это и свойственно барочному сознанию, безымянный киевский стихотворец вписывает историю неспокойной семьи в античный мифологический контекст. В стихах упомянуты «Фортуна», «Юно», «Апольлио», «Харитес», «Марс» (кажется, лишь последний по полному праву; сходное вписывание в античность попробует осуществить с русской и евразийской историей в своих вокально-оркестровых композициях Дукельский), а заключается стихотворение характерным восклицанием: «О значна Савроматов з Вышневецких Слава!»[67]
Но подлинный расцвет сарматская тема обретает в польскоязычной поэзии XVII в. В позднейшей литературе стало хорошим тоном порицать сарматизм за культурную ксенофобию, чванство мифологическим прошлым (как будто есть что-нибудь сильнее мифа!), недооценку плодов цивилизации. Академическая история польской литературы, подготовленная в 1960-е годы московским Институтом славяноведения и балканистики, содержит фразу, которая бы истинно повеселила кн. Н. С. Трубецкого и многих евразийцев, ибо почти слово в слово повторяет позднейшие аргументы против собственно евразийского мироощущения: «Сарматизм возводил в норму изоляцию от передового европейского идеологического и культурного развития, стал оправданием социально-бытового консерватизма» (Л. B. Разумовская, Б. Ф. Стахеев)[68].
Обо всем этом стоит помнить, когда речь пойдет о порубежном по отношению к полюсам «Европы» (чистый Запад) и «Азии» (чистый Восток) самосознании музыкального евразийства.
2. Теория и практика музыкального евразийства у Артура Лурье:
критический взгляд на Запад с Востока
Обращение бывшего скрябинианца и футуриста Артура Лурье в евразийцы имело свою предысторию. Как мы уже упомянули, еще в 1914 г. он вместе с Б. К. Лившицем (тоже уроженцем Украины) и Г. Б. Якуловым составляет манифест «Мы и Запад», прочитанный и опубликованный в связи с приездом в Петербург итальянского футуриста Маринетти. В развернутой форме, как доклад, манифест «Мы и Запад» был оглашен Бенедиктом Лившицем на заседании в зале Шведской церкви в Санкт-Петербурге 11 февраля 1914 г., проходившем под председательством лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ. В докладе, в частности, говорилось об отсутствии в русском искусстве «посредствующих звеньев между материалом и творцом» (т. е. о совпадении субъекта и творимой им художественной формы, об их изоморфности), о строительстве русского искусства «на космических началах» (что, очевидно, следует понимать как неподчиненность человеческому регламенту и стихийность) и, наконец, вполне в духе будущих политических заявлений евразийцев — о том, что, «только осознав в себе восточные истоки, только признав себя азийским, русское искусство вступит в новый фазис и сбросит с себя позорное и нелепое ярмо Европы — Европы, которую мы давно переросли»[69]. Заявления о необходимости развернуться «лицом к Востоку» не были такими уж новыми: они звучали еще за без малого полвека до того из уст Владимира Стасова (1824–1906), в работе «Происхождение русских былин» (1868) утверждавшего, что «былины заключают более всего сходства с поздними и буддийскими восточными первообразами, и преимущественно с поэтическими созданиями восточных народов, географически близких к Руси»[70]. Стасов даже настаивал на том, что сюжеты русских былин, скорее всего, восходят к древнеиндийской и тибетской литературе (и, как следствие этого, поражают странным смешением индуистских и буддийских элементов), а поведение героев-богатырей и их обычаи прямо позаимствованы из тюркского и монгольского эпосов, подвергшихся, в свою очередь, сильнейшим индо-иранским и тибетским влияниям. Это приводило Стасова к довольно радикальному выводу о пропасти, лежащей между, с одной стороны, письменным древнерусским эпосом — в лице «Слова о полку Игореве», с другой — устным эпосом остальных славянских народов (сербов, болгар и др.), близких славянам германцев и даже окруженных славянами и германцами и многое у них позаимствовавших западных угрофиннов, — и самими русскими былинами. Незаимствованных образцов народного творчества следует, по мнению Стасова, искать лишь в малых формах фольклора, «которые издревле существуют в среде нашего народа и многими столетиями предшествовали появлению у нас былин с их монголо-тюркскими формами. Это — песни обрядные, хороводные, свадебные, заплачки, заговоры, загадки, пословицы и т. п.»[71]. В исследовании же «Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева)» (1872) Стасов настаивает на необходимости отделения русского народного декоративного искусства от декоративного искусства Украины и южных славян, несмотря на общее языковое и религиозно-мифологическое наследие (язычество, а затем и греческое православие). По мнению Стасова, русское народное искусство было сформировано в нынешнем виде в XIII–XIV вв. под сильнейшим финноугорским («восточным финским», как он называет его) и индо-иранским («персидским» в терминах Стасова) влиянием, причем последнее для Стасова намного очевиднее и сильнее:
Русская орнаментистика — это позднее эхо орнаментистики азиятской, это уцелевший осколок древнего мира, но осколок значительно попорченный, сокращенный и, что хуже, такой, значение которого давным-давно потеряно для употребляющих орнаментистику[72].
Спорить со всем этим трудно: колонизуя новые территории, русская нация вбирала в себя и финноугорское (Москва и окрестные земли), и индо-иранское (от Донских степей до Алтая), и, конечно, монголо-тюркское (еще со времени первого нашествия Золотой Орды) наследие. Главное же в установках Стасова то, что «Новая русская музыкальная школа», провозвестником и защитником которой он вскоре станет, несла в своем творчестве, вместе с возвратом к национальности, и сильный «восточный» элемент, завязанный на том, что питающая новую русскую музыку культура непрофессионального исполнительства оставалась жива в стране (в то время как Вагнер, по мнению Стасова, вынужден был ее реконструировать)[73]. Таким образом, утверждения Лурье прямо наследуют народническому протоевразийству Стасова, хотя последний и прославился как защитник «реализма», а первый — как последователь, а затем жесткий критик «модернизма».
Собственно евразийские сочинения Лурье — это статьи в сборниках «Версты» (Париж, 1926–1928), выходивших, как заявлено на их обложке, «под редакцией кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии Алексея Ремизова, Марины Цветаевой и Льва Шестова», почти все (за исключением очерка о Клемперере) музыкальные статьи в еженедельной газете «Евразия» (1928–1929), редактировавшейся Л. П. Карсавиным, но в числе соредакторов которой был и сам Лурье, а также тематически связанные с ними статьи в «Modern Music», «The Musical Quarterly», «Числах» и даже — намного позднее — в «Новом журнале», «Воздушных путях» и во франкоязычной книге «Поругание и освящение времени: Музыкальный дневник за 1910–1960 гг. (Profanation et sanctification du Temps: Journal musical 1910–1960)»[74]. Это следующие тексты: «Соната для фортепиано Стравинского» (1925)[75], «Музыка Стравинского» (1926)[76], «Две оперы Стравинского» (1924–1927)[77], «По поводу „Аполлона“ Игоря Стравинского» (1927)[78], «Неоготика и неоклассика» (1928)[79], «Кризис искусства» (1928)[80], «О Рахманинове» (1928)[81], «Бела Барток» (1929)[82], «О мелодии» (1929)[83], «Пути русской школы» (1931–1932)[84], «О музыкальной форме» (1933)[85], «О гармонии в современной музыке» (1937)[86], «На тему о Мусоргском» (1943)[87], «О Шостаковиче (Вокруг 7-й симфонии)» (1943)[88], «Линии эволюции русской музыки» (1944)[89], «Приближение к массам» (так переводится английский заголовок[90], французское название — «Народничество в искусстве», 1944[91]), «Феномен и ноумен в музыке» (1959)[92]. К евразийскому списку следует отнести и музыкальные сочинения Лурье: Concerto Spirituale для фортепиано, солистов, хора и оркестра духовых, ударных и контрабасов (1928–1929), родственный ряду сочинений Стравинского, в которых Р. Тарускин находит музыкальное преломление карсавинского учения о «симфонической личности»[93], и две сопутствующие Concerto Spirituale симфонии — «Sinfonia Dialectica» (1930), подающая музыкальную логику Запада сквозь «восточное» мирочувствование, и «Кормчая» (1939), имеющая прообразом «восточный» богородичный акафист, а также «восточно-западную» оперу-балет «Пир во время чумы» (по Пушкину, 1930-е) и более раннюю Sonate liturgique: en forme de quatre chorals pour orchestre da camera (1928; есть и версия для хора альтов, фортепиано и контрабасов). Интересна с точки зрения преломления европо-азийской проблематики и сочинявшаяся в 1949–1961 гг. опера «Арап Петра Великого» (по неоконченной повести Пушкина)[94].
На примере Лурье видно, что теоретические разработки и декларации предшествовали практике, долженствующей суммировать результаты критических размышлений о судьбах современного композитору искусства, а художественные произведения были подступом к разрешению философских и религиозных задач. Постараемся разобраться в эстетической позиции Лурье в том виде, в каком она сложилась к середине 1920-х годов.
После эмиграции из СССР (невозвращения) и произошедшего уже в Западной Европе сближения со Стравинским Лурье посвящает несколько лет обдумыванию новых задач и вызовов, брошенных ему, еще вчера активному организатору музыкального строительства в Советской России, западноевропейским художественным контекстом. Это был, условно говоря, период «второго ученичества» Лурье, уже казавшегося вполне сформировавшимся, состоявшимся композитором; и, в отличие от первого периода, отмеченного «скрябинизмом», проходило «второе ученичество» в диалоге со Стравинским. Ответом Лурье на аргументы старшего соотечественника стали партитура «Маленькой камерной музыки», сочиненной в 1924 г. в Висбадене и Париже, и краткая неоконченная монография о Стравинском (1924–1928), опубликованная в виде двух статей в евразийских сборниках «Версты» (Вып. 1 и 3, 1926 и 1928[95]) и других материалов. Среди прочего, статьи эти ознаменовали присоединение Лурье к новому политическому движению. В какой степени он участвовал в деятельности Евразийской организации, сказать пока трудно, но роль его была не из последних.
Евразийство было вызвано к жизни опытом революции и Гражданской войны (и особенно поражения сил, не симпатизировавших коммунизму), переживанием экстатического имперсонального присутствия в судьбе каждого из свидетелей и участников этих событий и осознанием неадекватности импортированного с цивилизаторского Запада видения происходящего как борьбы «прогрессивного класса» с «реакционным» (это общая установка западного прогрессизма, не обязательно марксистского по окраске), ибо значительная часть по-западному прогрессивного класса оказывалась в новой России как раз не у дел. Сувчинский, один из идеологов евразийства и главных героев нашей книги, даже говорил о равной революционности «красного» и «белого» движения; только в революции победили те, кто в нужный момент смог оправдать себя «исторически»[96].
Парадоксом родившегося буквально в первые же месяцы эмиграции — в 1920–1921 гг., когда в России еще продолжалась Гражданская война, — евразийства было соединение революционного пафоса с открыто антизападноевропейской целостной идеологией, выходящей за пределы «цивилизованной» оппозиции политически левого (прогрессизм) и правого (консерватизм). Сама идея «движения вперед» была поставлена евразийцами под сомнение как конструкт индивидуалистического, буржуазного сознания. Имперсоналистичность евразийских построений сказывалась в «изгнании оценочности» (кн. Н. С. Трубецкой), ибо таковая считалась ими источником «эгоцентризма», не допустимого ни с научной (большинство лидеров помимо деятельности политической смогло успешно реализовать себя в лингвистике, этнологии, литературоведении, музыковедении, богословии и философии), ни с религиозной точки зрения: серьезное отношение к собственным христианским убеждениям доминировало в евразийских кругах. В плане практической эстетики — а нас занимает больше всего именно эта сторона евразийства — П. П. Сувчинский утверждал, что известной религиозной настроенности отвечает адекватный ей стиль — в музыке ли (наш «лад»), в живописи (перспектива, не стиль, а так видит, не может иначе изобразить), в зодчестве (готика есть уже развеществление, камень уходит в кружева, пролеты, уход от материи; а византийский купол приближает Твердь небесную к земле и человеку; само слово хорошее)[97].
Евразийцы отказывались признавать себя «европейцами» или чистыми «азиатами», левыми или правыми, что и позволяло в рамках движения сосуществовать столь политически разным людям, как «красные» кн. Д. П. Святополк-Мирский, А. С. Лурье, P. O. Якобсон, отнюдь не симпатизировавшие «левым» Л. П. Карсавин, кн. Н. С. Трубецкой и занимавшие политически парадоксальную позицию — коллективистская экономика, футуризм, религиозные устои — П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, а на раннем этапе евразийства и Г. В. Флоровский[98]. Евразийство мыслилось ими как проект не менее революционный и амбициозный, чем сама вызвавшая его к жизни русская революция. Целью движения полагалась «революция в сознании, в мировоззрении интеллигенции» (из письма кн. Н. С. Трубецкого к P. O. Якобсону от 7 марта 1921 г.)[99], «умоперемена-метанойя» (Л. П. Карсавин, вторая половина 1920-х), которая вывела бы сознание нации из плена европейского прогрессизма, являвшегося, по мнению Трубецкого, маской культурного империализма, колонизации и разрушения всего типологически чуждого ограниченной цивилизации европейского «Запада». «Надо всегда и твердо помнить, что <…> истинное противопоставление есть только одно: <…> Европа и Человечество», — безапелляционно утверждал он[100]. Эволюционный иерархизм Трубецкой предлагал заменить революционно-анархической горизонталью. Более того, объявление одних культур превосходящими другие виделось ему неверным и грешным с религиозной точки зрения, а по-человечески неумным: «Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похожих на нас высшими, а непохожих низшими — произвольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо», — писал Трубецкой в «Европе и человечестве»[101]. В цитированном же выше письме к Якобсону он выражался еще более определенно:
Практически, разумеется, путь лежит через физическую борьбу, восстание «стонущих племен» и т. под. Но без революции в сознании и без сознательного облагороженного эгоцентризма, словом, без истинного национализма — все это ни к чему не приведет[102].
Иными словами, евразийцы стремились заменить возникший с оглядкой на европейский Запад проект коммунистической и потому по интенциям буржуазной, цивилизаторской революции проектом революции антицивилизаторской, антибуржуазной, антиколониалистской. Это поразительным образом предвосхищало переинтерпретацию национальной программы революционных марксистов, вскоре, в апреле 1924 г., предложенную Сталиным:
Революционный характер национального движения в обстановке империалистического гнета вовсе не предполагает обязательного наличия пролетарских элементов в движении, наличия революционной или республиканской программы движения, наличия демократической основы движения. Борьба афганского эмира за независимость Афганистана является объективно революционной борьбой, несмотря на монархический образ взглядов эмира и его сподвижников, ибо она ослабляет, разлагает, подтачивает империализм…[103]
Именно этот — единственный! — момент совпадения евразийцы и попытаются в дальнейшем использовать для идеологического внедрения в СССР. Но сами они, совпав по одному-единственному пункту, резко расходились с большевиками в остальном: ни о какой солидарности, или, как выражался Сталин, «связи освободительного движения своей страны с <…> движением господствующих стран» Запада[104], для евразийцев речи быть не могло: слишком великим оказался культурно-географический разлом. О степени радикализма их проекта снова лучше всего свидетельствуют слова Трубецкого из многократно цитированного письма 1921 г.:
Коммунистическое государство, как его понимают и хотят строить наши большевики, есть наиболее законченная, «обнаженная» форма романо-германской государственности. Эти вожди восстания «стонущих племен» не только не дают отдельным людям и народам познать самих себя и стать самими собой, но даже, наоборот, заставляют их быть не тем, что они есть, и затемняют сознание. При таких условиях весь истинный смысл народного движения извращается[105].
Альтернативой такому «затемнению сознания» была, по мнению евразийцев, самоорганизация «стонущих племен» под воздействием общей для них, языково и этнически разных, культуры в государственное образование, которое бы способствовало формированию новой по самосознанию нации. Культура такого образования должна была обрести свое наивысшее выражение в наиболее адекватной для нее религиозной традиции. Для большинства евразийцев такой традицией было православие. П. С. Арапов[106], доводя исходный посыл евразийства до логического завершения, писал 4 октября 1925 г. Сувчинскому, что необходимо стремиться «к творчеству культуры, долженствующей сменить европейскую». И далее: «В иерархии ценностей государство стоит ниже культуры, но выше нации („благо народа“, свобода личности). Нация и территория определяются государством, а не наоборот (ибо не нация строит культуру, а культура нацию)…»[107] Первое слово при такой позиции принадлежит культуре: государство — плод культуры и, в свою очередь, творит нацию. В письме к Трубецкому Арапов подводил логическое основание и под столь своеобычное государственничество и грядущее воцерковление культуры: «Смысл мира — в конечном его Преображении, но предварение Преображения осуществляется в окачествлении исторического процесса. Окачествление же это достигается организацией среды и называется культурой»[108]. Трубецкой соглашался с Араповым в главном, отказываясь, правда, совсем уж пренебречь самостоятельностью «частночеловеческой личности и нации-личности» по отношению к государству[109], ибо кто же осуществляет «окачествление» исторического процесса, как не творящая культуру личность, хотя и понимаемая своеобразно? Но для нас важно вот что: творчество новой культуры — в том числе культуры музыкальной — должно было, по единодушному мнению евразийцев, сформировать не только будущее государственное устройство и национальное самосознание России-Евразии, но и окачествить, преобразить ее историю. Типологическое сродство с построениями русских футуристов и мировой мистерией Скрябина здесь особенно явно, как бы большинство евразийцев ни напирало на преимущественно политический, а не эстетический характер движения, как бы музыкальные евразийцы ни открещивались от построений композитора-мистика.
Имперсональная и детерминистская, с одной стороны, и исходящая из революционности осуществляемого народнического проекта, с другой, наследующая — пусть критически — Скрябину и футуристам, музыкальная эстетика Артура Лурье прекрасно вписывается в общий контекст евразийства. Вот ее краткое изложение (на основе источников, указанных в разделе 2а).
Согласно Лурье, русское музыкальное сознание и выражавшая его национальная композиторская школа вступили в начале XX в. в стадию стремительной трансформации[110]. Трансформация эта должна была привести к формулированию нового, не-западного слышания составляющих музыкальную форму элементов, к выявлению особой диалектики их развития, т. е. к новой, выражаемой через музыку философии культуры и в конечном счете к закреплению мирового лидерства русской музыкальной школы, ибо — в отличие от немецкой и французской школ, уже получивших, как рассуждал Лурье, историческую возможность высказаться[111], — русским такой возможности еще не было дано, а у русской композиторской школы имелось что сказать нового по существу. Важным для Лурье было и то, что Россия-Евразия воплощала в себе культурно-географическую порубежность (не окруженная морями Европа, не континентальная Азия, но — по приведенному выше определению П. Н. Савицкого — «континент-океан»). Она давала возможность взглянуть на любой западный опыт одновременно и изнутри, и извне.
Позиция Лурье была столь же проективной, устремленной в будущее, сколь и опиравшейся на реальный потенциал группы композиторов, к которой он принадлежал. Действительно, в истории западного искусства (подчеркиваю: западного!) XX век, скорее всего, будет вспоминаться как век русской музыки.
Начиная с 1900-х русское музыкальное искусство переживало решительное освобождение от внутренно чуждых схем (речь идет в первую очередь о вагнерианском сдвиге у позднего Римского-Корсакова и о возврате к импортированным из Германии крупным музыкальным формам у второ- и третьестепенных композиторов «беляевского круга»). Предстояло полностью осознать самостность русской традиции, выйти из-под «цивилизаторского» гнета правил, годных разве что для дисциплинирующего ученического послушания. Выход этот виделся Лурье через диалектическую триаду действий, которая, по справедливому наблюдению Андрея Белого, А. Ф. Лосева — русских эстетических мыслителей, современников Лурье, — есть наделе тетрактида. Диалектичен и тетрактичен был и проект евразийской революции музыкального сознания у Артура Лурье.
Первым его компонентом — аналогом «тезиса» — был тональный бунт Скрябина, стоявшего «на крайней левой» модернизма[112]; бунт, имевший — выражаясь философски — не только онтологический, но и эпистемологический характер; бунт, связанный с эпохой 1900-х — начала 1910-х годов и суммируемый Лурье следующим образом:
Что принес Скрябин с собой в русскую музыку? Экстаз, — экстаз как форму постижения и как форму музыкального воплощения. <…> Скрябин окончательно разрушил основу тонального равновесия, державшуюся на так называемом отношении тоникодоминантовой гармонии, которая для него уже оказалась совершенно изжитой. В действительности, не говоря о других, уже Мусоргский осуществил то же самое в своем подлинном (нецензурированном) творчестве. <…>
Скрябин вел интуитивно творческим путем значительно раньше других поиски синтеза гармонии и тембра. <…> В поздних гармониях Скрябина восточный лад отсвечивает уже чистый, без специфической примеси фольклора и этнографической экзотики. Поиски нового звукового лада смогут привести в будущем к созданию новой звуковой субстанции, уже чистой в порядке музыкально-созерцательном, а не чувственно-эмоциональном[113].
Не хотелось бы здесь вдаваться в серьезный разговор о том, насколько гармонии Скрябина восточны, но к фольклору Скрябин был равнодушен, это верно, и в процитированном определении нам важна общая тенденция Лурье. Если верить имеющимся свидетельствам, то и в самые последние годы жизни он продолжал говорить о катарсическом, освобождающем «от зла» характере «музыкального экстаза», который был для него в первую очередь состоянием сознания, а не «наслаждением каким-то великим музыкальным сочинением»[114].
Следующим шагом — «антитезисом» — в воплощении развернутого «лицом к Азии» русского музыкального проекта становилось, по Лурье, освобождение ритма, достигнутое Стравинским: «Стравинский „взбудоражил“ ритм, как Скрябин до него „взбудоражил“ гармонию. Стравинский начал свою деятельность полным высвобождением ритма как стихийной силы физической, моторнодвижущей»[115]. Лурье говорит о наличествовавшей у раннего Стравинского «метрической строфе», «еще традиционной и типичной для корсаковско-балакиревской группы»[116], т. е. не выходящей за рамки более или менее академического национализма, и брошенные вскользь наблюдения его заслуживают самого серьезного внимания. Однако движение в сторону имперсонального, преимущественно онтологического музыкального сознания, которое Лурье именует в 1920-е годы «объективным методом», привело Стравинского в «Весне священной» к освобождению
от всякого до нее существовавшего в русской музыке подчинения западным формальным устоям. <…> В творчестве Стравинского «Весна» всегда была моментом наивысшего становления и одновременно моментом разрыва. Становлением было утверждение азийного духа России, и оно же было разрывом со всем, что этому духу было враждебным не только на Западе, но и в России. <…> «Весна священная» — уже вне личного начала. <…> В смысле чисто музыкального движения — «Весна» статична. Весь огромный динамизм, в ней заключенный, — биологического порядка. <…> Ритм в ней скорее ноуменальный, чем музыкальный[117].
Т.е. ритмы Стравинского от «Весны священной» (завершенной в 1913 г.) до «Свадебки» (завершенной в 1923-м) связаны с проживанием глубокой, до-цивилизационной, биологической архаики, ритм у Стравинского существует вопреки рационалистической концепции западной музыкальной формы и присущему ей психологическому динамизму. Это ли не воплощение давней мечты Владимира Стасова о возвращении в эпоху, когда индо-иранские, семитские, тюркские и монгольские влияния перекрещивались в культурном треугольнике Иран — Месопотамия — Северная Индия, когда происходило «обновление человечества посредством новых элементов, шедших с Востока»[118]? Говоря о динамической статике Стравинского (все подвержено диалектическому развитию, но основа остается прежней) и о снятии Стравинским ключевой для западного, и в частности западного модернистского, мышления оппозиции «прогрессивного» и «консервативного», Лурье резко противопоставляет Стравинскому «прогрессиста» Шёнберга и его школу, у которой Лурье находит лишь «всегда эгоцентрическое <…> утверждение себя или личного принципа»[119]. Антитетичность же Стравинского по отношению к Скрябину и господствовавшему в русской музыке на момент создания «Весны» и других важнейших его партитур рационалистическому «скрябинианству», понятому в одном из преломлений как ультрахроматизм, вывела композитора в конечном итоге за пределы национальной школы[120] — к отказу от всего, что, по мнению Лурье «мешало чистому, формальному процессу, упраздняя все то, что становилось в нем дезорганизованной силой и инородным телом»[121]. Более того: «По существу это был ликвидационный процесс, начавшийся реакцией против тупиков, в которых оказалось искусство модернистической эпохи»[122]. Несомненной заслугой Стравинского среднего периода является, по Лурье, то, что «впервые русская музыка теряет свое „провинциальное“, „экзотическое“ значение…»[123]. Но вот результат: «От произвольно созданных форм периода „Весна“ — „Свадебка“ Стравинский возвращается сознательно к западноевропейской „классической первооснове“, возрождая формы-типы»[124]. Лурье же в конце 1920-х и в позднейшее время — при всей личной близости к Стравинскому — продолжала волновать проблематика евразийская. И форма виделась им не в феноменальном (типовом), но в ноуменальном аспекте[125], выявлявшем «музыку в бесконечности»[126].
Знаменательно, что осуществляемое Лурье вписывание Стравинского в евразийский музыкальный проект породило целую дискуссию о «порядке» в искусстве, коснувшуюся основ отношения к внеэстетическим, в том числе и политическим, феноменам. Как известно, ряд французских композиторов — Орик, Мийо, Онеггер, Пуленк — испытали сильное влияние неоклассической эстетики и связанных с ней идей. Ричард Тарускин напрямую увязывает интерес Стравинского к доисторической, биологической архаике и инициированную Лурье дискуссию о «порядке» в искусстве с тоталитарной политикой. Однако Тарускин спрямляет аргументацию Лурье, что приводит его к ошибочным умозаключениям. Гармоническая революция Скрябина и ритмическая революция Стравинского должны были, как думал Лурье, привести не к контролю над музыкальным материалом и слушателем, но к диалектическому поглощению двух элементов музыкальной формы новым мелодизмом.
Этот третий компонент диалектического построения, возникающий на основе первых двух и «синтезирующий» их, Лурье, как кажется, находил в начале 1930-х у Прокофьева (здесь он был не одинок: в 1930-м о том же писали эстетически близкий Прокофьеву, да и самому Лурье, Дукельский[127], а также испытавший сильное влияние Прокофьева Николай Набоков[128]). Однако в 1944 г. Лурье пришел к убеждению, что «новый мелодизм» еще предстоит создать: «В перспективе будущего мы находимся перед третьей музыкальной стихией — перед мелодией. Ее проблема может быть решена только созданием нового синтеза в тесной связи с проблемами гармонии и ритма»[129]. Но даже и появление такого мелодизма не означало полного осуществления евразийского проекта. Самым важным для Лурье было не закрепление достигнутого, а соединение элементов в трансцендентирующем произошедшие изменения музыкальном произведении, в свою очередь гипостазирующем вне-музыкальный порядок. Таким образом, в концепцию революции (полного, возвращающего к истокам обращения) музыкальной формы вводится четвертый элемент, объемлющий первые три.
Подчеркивая трансцендентирующую природу четвертого элемента, Лурье позднее упорно говорил о ноуменальном его характере[130]. И хотя это не эксплицировано у Лурье, нетрудно понять, что позиция его как внеположного наблюдателя совпадает с указанным четвертым: включением в себя трех компонентов и снятием их. Аналогичный четвертый элемент диалектической триады-тетрактиды находим, как приходилось уже отмечать, в работах Андрея Белого, который, как Николай Трубецкой, Лурье и другие, «волил революции» в сознании, а также Алексея Лосева, разработавшего в 1920-е годы концепцию художественной формы как диалектической тетрактиды. Мимо Андрея Белого в 1910–1920-е пройти было невозможно — даже советский наркомвоен Троцкий находил время, чтобы читать неутомимого символиста и полемизировать с ним. Упоминание Лосева не должно смущать тоже: выпускаемые ограниченными тиражами книги его доходили до Парижа, и статус философа среди зарубежных русских, в том числе среди евразийцев, был достаточно высок. Та же «Евразия» поместила в номере от 29 декабря 1928 г. обширную рецензию В. Сеземана на «Диалектику художественной формы» (1927)[131]; известно о высоких оценках Лосева другим автором «Евразии», А. В. Кожевниковым[132]. Трудно отделаться от ощущения — хотя прямых доказательств тому нет, — что Лурье лосевскую тетрактиду в своих теоретических построениях учитывал. Несущая в себе эстетический, богословский, космический и исторический заряды тетрактида Лосева являет, как сказано в «Диалектике художественной формы», единство (i) категориального принципа, (ii) «множества» или «числа», (iii) алогического становления и (iv) «факта», «наличности»[133]. Напомним, что в эстетике Лурье мы имеем дело с изначальным категориальным принципом гармонии, следующим за ним как антитезис числовым ритмом и новым мелодизмом, вполне «алогичным» по своей природе. Четвертым же, по логике Лурье, и будет евразийская музыка, увенчивающая антимодернистский, освободительный эстетический проект и способствующая осуществлению антибуржуазной (и следовательно: некоммунистической) интеллектуально-политической революции на пространствах Евразии.
Речь в конечном итоге идет — ни много ни мало — о создании новой, незападной музыкальной формы, этой революции способствующей, когда «каждый из трех элементов музыкальной формы (ритм, гармония, мелодия) приобрел новый смысл, отличный от того, каким он был у классиков и романтиков»[134]. Антибуржуазные, нацеленные против западного массового общества народнические интенции евразийского музыкально-эстетического проекта подтверждаются хотя бы таким высказыванием Лурье (кстати, отличным по расстановке акцентов от культуроцентрических утверждений Арапова):
Нельзя сказать, что народ некультурен; он сам по себе выше культуры. Он хранит в себе культуру как высшую ценность, которая может быть признана только с тем, чтобы быть понятой, — и в этом задача гения. <…> Объединение же масс завершается только бес-культурием. Бытовые привычки дают массам явное однообразие чувства и вкуса, используемых на потребу практическим целям и интересам, к ущербу искусства и прибыли эксплуататора. И в этом-то и заключается опасность коммерческого искусства: неверно используемое (а оно почти всегда используется неверно), оно может при помощи технических усовершенствований радио, кинофильмов стать антикультурным инструментом ложных реакций и искусственных потребностей[135].
Но и это было еще не все. Музыкальная революция, по Лурье, в соответствии с былым футуристическим замахом, должна была возвратить ее участников к исправленному космосу — здесь возникает тень вроде бы отвергнутого Скрябина, верящего в себя как в орудие спасающего, экстатического преображения мирозданья. Лурье был убежден в сопричастности музыки морали[136] и тому, что Алексей Лосев относил к сфере абсолютной мифологии: «Художник, артист Божьей милостью, должен был бы заменить священника. Но есть ли в нашу эпоху такие артисты?»[137] И даже: «Три христианские ипостаси равноценны трем ипостасям музыки — мелодии, гармонии и ритму. Музыка обладает [также и] несказанной свободой»[138]. Напомним, что в лосевской тетрактиде четвертый элемент — то, что Лурье обозначает как выявление «несказанной», ноуменальной свободы, — может трактоваться и как (возможная, добавочная) ипостась абсолютного. Такое соотношение музыкально-революционного проекта со свободно понятым христианским космосом привело Лурье от сочинений, расширяющих пределы музыкальности, особенно в пору экспериментов 1910-х — начала 1920-х годов, к музыке модальной, лучший образец которой в его творчестве — Concerto Spirituale, о котором речь пойдет ниже. Ведь лад еще со времен Боэция увязывался с этическим.
Словом, под евразийской «революцией-умопеременой» в русском музыкальном сознании понималось не обретение разумом каждого из вовлеченных в процесс музыкантов контроля над австро-немецкими, втянутыми в неорганический для них культурный космос музыкальными формами: как это истолковали бы в свете картезианской абсолютной монархии разума или конституционного правления оного в традиции кантианства многие, но, конечно, не все, западные европейцы. Не следует забывать, что именно на европейском Западе развились и традиция гегельянской диалектики, снимающей оппозицию разума и телесной природы в пользу абсолютности первого, и морфологизм Гете, радикально сместивший акцент в сторону природных форм. Нет, перемена мыслилась Лурье, а также Дукельским, Стравинским, Прокофьевым и другими как восстановление баланса между телесным, стихийно-импульсивным, биологическим и интеллектуальным, формирующим. Ведь не секрет, что музыкальное, словесное (в основном поэтическое), театральное и кинематографическое творчество, основанные на разных формах записи и их представлении в действии, телесны по преимуществу, ибо, в отличие от наиболее изощренных форм философии и традиционной живописи-скульптуры, не могут осуществляться «в умозрении» (как об этом прекрасно написал кн. Е. Н. Трубецкой, считавший, что, например, иконописи, в отличие от кинематографа, свойственна «истонченная телесность»[139], указывающая на «сверхбиологический смысл жизни»[140]). Умоперемена-революция мыслилась как освобождение дорационального энергетического заряда «стихийных, моторно-движущих» сил, как соединение экстатической самопогруженности, биологических, естественных, телесных ритмов творчества и коммуникативной мелодической речи в целостном акте, который потребовал бы максимальной мобилизации всего существа творящего, соединял бы запись и импровизацию. Лурье был склонен понимать такой акт как философию в музыкальном обличье, т. е. прорыв от телесности к умозрению. Дукельский (о чем см. ниже), скорее всего, толковал то же самое в визионерском (психоаналитическом) ключе — как обретение голоса подсознанием, что сближало его с Дали. Сувчинский был ближе к Лурье, а Стравинский и Прокофьев, в той мере, в какой они симпатизировали евразийской проблематике, склонны были видеть в ней политический аргумент. Позиции Александра Черепнина и Маркевича были гораздо сложнее, и их мы рассмотрим особо.
Говоря о евразийской революционной трансформации русской музыки, Лурье имел в виду практическую альтернативу культурной модернизации общезападного типа и критику торжествующего модернистского мировоззрения. Именно поэтому отвергалась и текущая политика коммунистического правительства в самой России 1920-х, воспринимавшаяся евразийцами в целом как провинциальный вариант модернизации буржуазного типа (т. е. ориентированного на урбанистическую массовую культуру), хотя сам Лурье принимал поначалу активное в ней участие. Эстетическую программу для «евразийской» музыкальной революции надо суметь увидеть в правильном контексте: она должна была вместе с новым мирочувствием в русской литературе и кино (особенно евразийцами ценились немые фильмы Всеволода Пудовкина) расположиться в основании культуры грядущей Pax Eurasiana (термин Петра Сувчинского, 1929) — особого политико-географического образования, соединяющего «первичную религиозно-культурную субстанцию» с «трудовым антикапиталистическим государством» (Сувчинский)[141]. В конечном итоге эта музыкальная революция должна была стать частью возвращения к себе самим, способом осознать заключенный в не заимствованном у других образе себя потенциал.
Замечательно, что исполнение задачи создания революционной, трансцендентирующей, да к тому же еще незападной, музыкальной формы Лурье возлагал целиком на «западную группу» русских композиторов, считавшую своим центром Париж, ибо оставшиеся в России коллеги погрязли, по его мнению, в «провинциальном модернизме»[142], эстетически не приняв Стравинского и повторяя зады скрябинианства либо западноевропейской музыки 1910-х. Само понятие «модернизм» звучало в устах Лурье и таких эстетически солидарных с ним композиторов, как Владимир Дукельский, как слово бранное, обозначая ретроградный и общепринятый товарный ярлык, наклеиваемый на все, противоположное живой и подлинной современности[143]. Именно такой им виделась массовая культура буржуазного общества, к заведомо обреченному на проигрыш соревнованию с которой стремилась массовая культура коммунистической России.
Итак, евразийское музыкальное мирочувствие воспринималось как мирочувствие антимодернистское, модернизм в себя включающее и диалектически его снимающее, ибо модернизм зациклен на сознании как разуме, а музыкальное евразийство понимало под сознанием гармонию мыслительных и телесных функций. Мыслилось музыкальное евразийство и как мирочувствие, выносящее целеполагание за пределы искусства. Насколько оно оказалось в этом близко послемодернистским практикам[144] — на этот вопрос может ответить анализ собственно музыкальных сочинений Лурье, Стравинского, Александра Черепнина, Дукельского, Прокофьева и Маркевича. К нему мы и перейдем.
При знакомстве с композиторским наследием евразийцев удивляет то, что для осуществления чрезвычайно радикальной задачи они используют вполне традиционные, «общезападные» по видимости средства. Вместо полуимпровизационных композиций для шокирующих ансамблей мы встречаем тщательно нотированные сочинения для привычных составов (если не считать состава исполнителей в нескольких экспериментальных сочинениях Стравинского 1910-х), отсылающие к жанрам «кантаты», «оратории», «инструментального» и даже «духовного концерта». Однако «традиционность» и внешняя «западность» — это лишь попытка излагать на понятном аудитории наречии не доступные ей покуда смыслы.
Как мы уже упоминали, Ричард Тарускин находит параллели между некоторыми произведениями Стравинского 1910–1920-х и концепцией «симфонической личности», разработанной одним из будущих лидеров евразийства Л. П. Карсавиным[145]. Неизвестно, читал ли Стравинский те философские и политические работы Карсавина, на которые указывает Тарускин, но то, что их читал Лурье, гораздо более склонный к теоретизированию и с Карсавиным связанный общей евразийской работой, сомнению не подлежит. Речь, конечно, не идет о следовании Лурье теоретическим построениям Карсавина — для этого он был слишком независим интеллектуально, и даже не об определяющем влиянии Карсавина (определяющими на Лурье были совсем другие влияния), но общность контекста, в котором в середине и конце 1920-х работала теоретическая мысль Карсавина и Лурье, может разъяснить многое в концепции главной музыкальной вещи Лурье, созданной им в евразийские годы, — «Духовного концерта» для хора, медных духовых, органа, фортепиано, контрабасов и ударных. Остальные его сочинения того же периода выполняют роль сателлитов по отношению к «Концерту». Поражающее мощью и красотой сочинение настолько выделяется на фоне других композиций Лурье и сочинений многих его современников, что трудно не согласиться с утверждением французского критика и дирижера Фредерика Гольдбека, увидевшего в нем «редчайший музыкальный шедевр настоящего времени»[146].
Concerto Spirituale распадается на две неравные части: 1. Prologue (Bénédiction du feu), т. е. Пролог («Благословение огня»), и II. Concerto (Bénédiction des fonts), т. е. сам Концерт («Благословение источников»). Часть II содержит большое число контрастных эпизодов и противопоставлена цельности и простоте музыкального решения статичного Пролога, исполняемого ансамблем духовых и певцов, причем ведущие партии в Прологе не у человеческих голосов, а у духовых инструментов (оркестр и хор как бы меняются местами). Отметим также, что «благословение» существовало как словесно-музыкальный ритуал еще со Средних веков, хотя официально было введено в состав католической мессы только в 1958 г., через сорок лет после написания «Концерта». В качестве текста Пролога использовано начало латинского гимна «Днесь веселись», исполняемого утром в Страстную субботу в католических церквах при освящении огня, высекаемого кресалом. Горящие пасхальные свечи разносятся потом по домам. За Прологом следует основная часть концерта «Благословение источников» на текст 2-го — начала 8-го стиха 41-го псалма Давидова. Часть эта соответствует обряду освящения воды во время утренней католической службы в Страстную субботу. Таким образом, тема концерта — все, что предшествует преображающему мир воскресению Христа, но не само воскресение, находящееся для верующего уже за пределами человеческого творчества — в пространстве космической истории. Лурье останавливается там, где искусство должно остановиться (Скрябин, напротив, рвался перейти через эту черту). Общеизвестно, что Пасха — главный праздник лишь для восточных христиан. Для западного же христианского сознания наиболее важным является Рождество Мессии. Католик Лурье поступает как культурно русский композитор, для которого восточнохристианская традиция все равно важнее. Что же до благословляемого в Прологе огня, то он связан с «дыханием» Духа Св. Имперсональность подачи такого «благословения» Духом, в «огне» нисходящим, подчеркивается — симметричностью ансамблевого построения — восемь живых голосов и восемь инструментальных;
— «белизной» письма, при которой основные оркестровые голоса (четыре трубы, три тромбона и туба) берут за точку отсчета фригийский, а четыре баритона, поющие в унисон четырем басам, гиподорийский лад;
— многократным повторением простейших аккордов, например, до-мажорного (могущего быть услышанным и как гиполидийский лад) у труб при колебании между тоникой соль-мажора и до-мажора, если слышать это колебание тонально, и миксолидийским и гиполидийским ладами, если слышать его модально (что представляется более правильным), у тромбонов и тубы, или — соль-мажорного (миксолидийский лад, повторенного 17 раз кряду!) и ми-минорного (включая ми-минорный секстаккорд, могущий означать и фригийский лад) у труб на фоне гиполидийского/фригийского ладов у тромбонов и тубы;
— в самом начале — тремя квартами у труб (диалектическая триада, вписываемая в тетрактиду);
— неоднократным повтором мелодико-ритмических фигур у поющих в унисон хористов.
Как мы видим, несколько умозрительная символика — рассчитанная на восприятие и слухом, и глазом, и умом — заявляет о себе уже с первых страниц партитуры, а свойственные новоевропейской музыке тональные отношения размыты до такой степени, что в своем отклике на премьеру Concerto Spirituale Гольдбек вынужден был отметить: «Нонконформизм опасен: модальный стиль встречаем изрядным неприятием»[147]. В Прологе также отсутствует определенный метр, и доступная мне партитура вся размечена проясняющими исполнение карандашными указаниями счета — очевидно, принадлежащими дирижировавшему премьерой Шарлю Мюншу или одному из его помощников. Все это заставляет слышать строящийся и перестраивающийся из простейших элементов магический и заклинательный Пролог в чисто минималистском, «орфическом» ключе и видеть в модальном письме и ладово-числовой символике умышленное сближение с музыкой Средних веков. Композитор как бы обращает — в этом и заключается смысл revolutio — сознание исполнителей и слушателей ко времени, предшествовавшему расцвету индивидуализма в новоевропейской музыке.
Важна и отсылка — через музыкальное воссоздание стихии огня — к общему для русских символистов и футуристов (и не только для них) солярному мифу, включающему в себя как гелиомахию (например, в квазиопере Матюшина — Крученыха — Хлебникова — Малевича «Победа над солнцем», 1913), так и гелиолатрию (сборник «Будем как солнце» Бальмонта, 1903, и мн. др.). Восходящий к древнеславянскому костру Сварога, дарующему жизнь и очищающему от скверны, образ солнца становится у Бальмонта, Белого, Сергея Соловьева, Кузмина, Городецкого, Клюева, Есенина, Маяковского, Хлебникова, Крученыха буквально общим местом и лишь потому одной из специфически национальных черт русской поэзии 1900–1910-х. А поэзию эту Лурье знал как никто другой из композиторов.
Музыкально стихия огня подана у Лурье прежде всего повторами у медных духовых инструментов. Сходными смыслами наполнено звучание меди и в заключительной части «Симфонии псалмов» (1930) Стравинского, и в апокалиптическом вступлении к «Кантате к XX-летию Октября» (1936–1937) Прокофьева (ниже я поясню, что имею в виду). Не подлежит сомнению и то, что все три композитора не могли не помнить о связи космического солнечного огня с образом Христа-мессии, существующей еще со времен гимнов Синезия и раннехристианских мозаик того же времени[148]. Несколько по-другому, но опять-таки в согласии с солярным мифом (восходящее светило, отбрасывающее на землю свет) будет звучать медная группа оркестра во вступлении к неоязыческой «Здравице» (1939) Прокофьева, буквально в первых строках текста которой «вождь народов» Сталин сравнивается с силой, проясняющей свет «солнца на земле»: что, учитывая христианские убеждения Прокофьева, о которых так много находим в его дневнике 1920–1930-х годов, устанавливает дистанцию между композитором «Здравицы» и содержанием славословия (сила эта может толковаться и как изменение света, ибо самим светом не является). Однако возвратимся от этих произведений к совершенно иному по настрою Concerto Spirituale Лурье.
Основная часть концерта, «Благословение источников», распадается на четыре стыкуемые по принципу контрастного цикла эпизода. Первый из них, широкий по дыханью Tempo maestoso — tempo di ballada — tempo I, отходит от протоминималистического письма Пролога и представляет собой маленький концерт для хора и оркестра весьма своеобразного состава (контрабасы, литавры, фортепиано), — причем фортепиано, как и в «Свадебке» Стравинского, звучит скорее ударно, — концерт, предвосхищающий либо повлиявший на первую часть «Симфонии псалмов», хотя сам Стравинский будет такое влияние, как и вообще знакомство с музыкой Лурье, после их ссоры отрицать (чему определенно нельзя верить)[149]. Текст начального эпизода позаимствован из 41-го псалма (стихи со 2-го по начало 6-го) и завершается вопросом, в стандартном русском переводе звучащем: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Второй эпизод основной части, чисто фортепианная Cadenza-импровизация (tempo rubato) — комментарий к «унывающему» и «смущающемуся» видению мира, — умышленно имитирует психологизм раннего Скрябина с его, по слову самого Лурье, «совершенно традиционным, типичным для русского музыканта», притом явно «трагическим лиризмом»[150], и Рахманинова, в любви к которому «без оговорок» Лурье будет признаваться на страницах «Евразии» в пору работы над Concerto Spirituale, выделяя то, что рахманиновская «эмоциональность и стихийная темпераментность выражаются совершенно рационалистическими средствами»[151] (а ведь в преодолении европейского рационализма формы и был пафос евразийской эстетики Лурье!). Рапсодическая, фортепианная, определенно тональная и ритмически четкая каденция кажется поначалу кричаще выпадающей из имперсонального «Концерта». Но, во-первых, диапазон инструмента в каденции тяготеет к среднему регистру — миру человеческого, если интерпретировать это в соответствии со средневековой традицией; верхний регистр, согласно той же традиции, принадлежал области ангельского и даже абсолютного. Во-вторых, принцип стыковки материала у Лурье в Concerto Spirituale, как мы уже заметили, контрастно-циклический, «монтажный», отчасти восходящий к Пудовкину и Эйзенштейну, когда важнее эффект, производимый целым, нежели каждым эпизодом (или кадром) в отдельности. Тот же прием, как мы увидим, будет задействован и в оратории «Конец Санкт-Петербурга» (1931–1937) Владимира Дукельского. Дукельский, кстати, побывал в июне 1936 г. в Париже на премьере Concerto Spirituale и восторженно отозвался о произведении Лурье как «тяжелом от музыки и переполненном религиозным пылом»[152]. Пыл этот не дает ничем о себе знать вплоть до финала: следующий за фортепианной Каденцией третий эпизод основной части «Концерта», Tempo moderato е molto cantabile для трех хоров, контрабасов, фортепиано и литавр, вновь продолжает психологическую, мелодически русскую линию вокальной музыки Рахманинова. И лишь в финальном, синтезирующем, как положено в цикле, четвертом эпизоде, Tempo risoluto— tempo appassionato e finale (начинают два хора и оркестр, к которому добавлен орган; к ним присоединяется третий хор), происходит диалектическое возвращение к апсихологической и имперсональной, метрически неустойчивой музыке начала основной части «Концерта», не без минималистских, известных по Прологу повторов, но без чрезмерной статичности оного.
«Благословение источников» возвращает в более свободный, в понимании Лурье, диалектически целостный мир, помнящий о первоначальном «благословении огня», стоящем поверх всякого движения, воплощаемого во второй части Concerto в образах воды. Кстати, четыре эпизода основной части Concerto Spirituale идеально соответствуют четырем составляющим музыкально-диалектической тетрактиды: (i) ноуменальная гармония, (ii) ритм, (iii) алогический мелодизм, (iv) их единство и трансценденция. Я не случайно говорил о диалектическом развитии внутри концерта. Как воплощение занимавших Лурье сверхмузыкальных, ноуменальных чувствований, «под знаком» которых живут, как он говорил, «подлинные музыканты», а «некоторые из них обожжены огнем ноумена», — форма Concerto Spirituale стоит совершенно отдельно во всем творчестве композитора. Даже такие замечательные произведения, как написанная вслед за ним «Sinfonia Dialectica», являются лишь комментарием к заявленному в Concerto Spirituale, развитием и дополнением его. Concerto Spirituale предстает пратекстом евразийского периода у Лурье, к нему сходятся все разъяснения и построения: причем лучшие из них, как теоретические, так и музыкальные, были написаны уже после разбираемого нами концерта. Это и свой Concerto Spirituale Лурье имел в виду в 1933 г., когда утверждал, что: «Русская музыка <…> после войны 1914 года <…> не ставила себе целью превзойти немецкую диалектику, но она создала диалектику в качестве композиционного метода после того, как метод этот был на долгое время утерян вагнерианством и модернистами»[153]. Более того, в лице автора Concerto Spirituale мы имеем редчайший тип композитора-философа, притом берущего и музыкальное творчество, и философскую эстетику не любительски (именно жутким любительством отличалась «философия» Скрябина), а профессионально. В этой порубежности дара заключалась особенность мышления Лурье, сферой одной только музыки не ограниченного.
В чем же, может поинтересоваться читатель, все-таки проявляется сродство музыкально-философского Concerto Spirituale с чистыми философскими умозрениями Карсавина? В первую очередь в том, что Карсавин попытался дать сходную диалектику общего и частного, Абсолюта и твари, бытия и инобытия и согласовать ее с ключевой для русской философской традиции концепцией ноуменального всеединства. В статьях, опубликованных в евразийских сборниках, и в главном своем философском труде «О личности» (1929), основные идеи которого он высказывал в печати начиная с середины 1920-х, Карсавин говорит о данной диалектике подробно и развернуто. В наипростейшей выжимке она может быть сведена к следующему: бытие предполагает небытие (и инобытие) и через единство с ним результирует в бытии абсолютном (бытии Бога), но одновременно с этим инобытийное небытие, предполагающее бытие, результирует в такой же полноте инобытийного небытия (т. е. небытии твари), которая тем полнее, чем полней полнота самостного бытия абсолютного. «Раз я познаю инобытие, — писал Карсавин в „О личности“, — я в некоторой степени с ним един, хотя, конечно, и разъединен более, чем собственно с „моими“ моментами. Процесс познания мною инобытия есть процесс моего соединения с ним»[154]. Что приводит философа к следующим умозаключениям: нет отдельных психических индивидуальностей, сознание не ограничено пределами данной его актуализации, вся «реальность» может быть понята как моменты и качествования более цельной личности, которую он и именует «симфонической». Антииндивидуализм концепции Карсавина, родившейся у него из первоначального диалога со средневековой, латинской (т. е. западной) схоластикой, оплодотворенного затем размышлениями Карсавина над Шеллингом и Гегелем, очевиден: «Симфоническая личность разъединяет свои моменты как тела, саморазъединяется в них как телах и в каждом своем моменте противопоставляет себя как тело себе же как духу»[155]. Евразийство же Карсавина проявлялось, по верному замечанию С. С. Хоружего, в (а) чисто философском «исходе» от западной средневековой схоластической теологии к теолого-философской традиции христианского Востока[156], (б) понимании народов и культур как «симфонических личностей»[157] и (в) определенном историческом «футуризме»[158]. Ту же развернутость с Запада на Восток, не говоря уже о морфологии русской музыки и футуризме, находим у Лурье: отталкиваясь от формы западноевропейского (духовного) концерта, он, не забудем, католик по вероисповеданию (католицизм был принят А. Лурье в 1912 г.[159]), оживил ее свободным включением концертно-фортепианных и песенно-рапсодических эпизодов, а также модальным письмом и в заключительном эпизоде «Концерта» попытался дать диалектический синтез своих альтернативных по отношению к западной традиции формальных поисков.
Мы также видим, что для искусства, воздействующего эмоционально, не обязательно очень уж назойливо обозначать свою принадлежность к определенной традиции; особость Concerto Spirituale, сочиненного на латинские тексты, — что в свете предпринятого здесь разбора кажется не самой важной подробностью, — явна и без дополнительных подсказок. Установка на экзотику ликвидирована, и в «Концерте» традиция, альтернативная западной, говорит с этой традицией на понятном ей языке. Фредерик Гольдбек, на мнение которого мы уже не раз ссылались, именно так и воспринял Concerto Spirituale. Сквозь его партитуру ему был виден в полный рост «русский музыкант, со всей своей этнической силой высвобождающий мусоргское начало, которое Дебюсси принял и улучшил»[160].
3. Музыкальное время и музыкальный феномен по Петру Сувчинскому
Если Лурье интересовала диалектика самораскрытия ноуменальной музыкальной формы, то Сувчинского — феноменология проживания музыкального времени, которое он именовал хроносом. Возник этот интерес на фоне напряженных размышлений об альтернативности «евразийского мира» (Pax Eurasiana) миру европо-американскому. С характерной для его умственного склада диалектикой Сувчинский выдвигал в качестве главной претензии современному Западу отрицание им собственных революционных начал:
Принцип личных свобод и индивидуального самоопределения, выдвинутый всеми европейскими революциями, с течением времени обратился в жесткий социальный индифферентизм, при котором судьба и социальное положение каждого человека не гарантируются ничем, кроме его самого. И даже право на гражданство должно, в сущности, каждым завоевываться, и при этом в условиях всеобщей и беспощадной конкуренции, что должно утомлять и ожесточать не одних отсталых и выбитых из строя неудачников[161].
Однако, по Сувчинскому, желательно не отрицание, но включение отрицающего современность во имя будущего революционного принципа в современное нам сознание — при, разумеется, снятии «отрицательного аспекта» революционности[162]. Более того, необходима перестановка акцента «культурного делания»[163] с проектирования будущего на «бессознательное и непосредственное тяготение ко всей совокупности явлений и фактов конкретной жизни, [на] включение в их стиль, исторический смысл и перспективу»[164]. Евразийство определялось Сувчинским в 1929 г. как установка на «современность» по преимуществу[165]. О конфликте между мировоззрением «модернизма», этого последнего плода современного евразийцам Запада, с подлинной музыкальной «современностью» будет говорить на страницах «Евразии» и Владимир Дукельский[166]. В такой ситуации Европа и Америка, бывшие для прежнего русского сознания, по характеристике Сувчинского, миром «разрешенных проблем», что объяснялось «свойством русского месторазвития и самой типологией русской жизни»[167], оказывались теперь в отношении к Евразии лишь двумя другими слагаемыми «системы мирового районирования»[168]. Имитация Европы для новой автономной России-Евразии будет означать лишь «политико-экономическую деградацию» и «не может не быть сопутствуема новым эксцессом культурного европоклонства, который на этот раз окончательно выбьет Россию с своего собственного исторического пути»[169]. Столь же неплодотворна будет для России и американская модель все-таки индивидуалистического сверхкапитализма. Современный политико-экономический тип Соед[иненных] Штатов не может быть повторен уже потому, что он является органическим результатом взаимодействия условий меторазвития, постепенной иммиграции и смешения рас и национальностей[170].
Евразия, в соответствии с политической мыслью Сувчинского, призвана осуществить себя как культурно-политическая альтернатива, как иное по отношению к двум другим моделям западности европейской и американской, как Новый «Запад» (Сувчинский пишет это слово в кавычках), т. е. место, откуда придет обновление всей западной жизни:
Когда-то Запад влек к себе беспокойных русских людей, задыхавшихся под низкой крышей России, своим океаническим ветром, легким и просторным. Не наступит ли время, когда этот ветер, все более затихающий в Европе, поднимется над континентом Евразии, и не станет ли очень скоро для новых европейских поколений этот континент тем, чем когда-то была «океаническая» Европа для русских «бегунов» и искателей правды — новым океаном, где легко дышится, — новым Западом[171].
Сувчинский был готов совершить личный исход на этот Новый «Запад», чтобы принять «действительное соучастие» в «некоторой новой монистической системе широкого человеческого общежития»[172]. Однако в 1921–1922 гг. его отговаривал от слишком раннего возвращения не кто иной, как Прокофьев, сам в конце концов в Россию вернувшийся:
Вашу мысль отправиться осенью в Россию в погоне за «жизнью с искусством» считаю ошибкой. Я думаю, что там теперь все лицо искусства перекошено голодом, пощечинами и слезами за окружающее. Лучшее, на что Вы можете рассчитывать, это какая-нибудь должность под началом у Лурье и, в виде утешения, несколько вздохов на плече Асафьева.
(Из письма Прокофьева к Сувчинскому от 8 июля 1921 г.)[173]
С точки зрения эмоциональной, необходимо решить: закисаете ли Вы сейчас от безделья (точнее, от отсутствия полноты деятельности) — или же чувствуете себя свежим, работающим и готовым к работе. Если первое, то надо ехать <…> и рискнуть встречей с тамошними минусами, иначе грозит сход с рельсов и потеря прямой линии. Буде же Вы чувствуете, что, наоборот, силы у Вас накопляются, или если не накопляются, то хранятся без утечки, или, наконец, просто, что Вы сможете превозмочь засос эмиграции еще в течение нескольких лет, то ехать не надо, ибо свежие силы пригодятся не только при вколачивании свай, но и при возведении стен.
(Из письма Сувчинскому от 30 июля 1922 г.)[174]
Прокофьев возвратился в Россию/СССР только тогда, когда «силы» пригодились «при возведении стен»: на максимально благоприятных для себя лично условиях, в качестве определяющего построение здания новой советской музыки живого классика. А в 1930 г., когда, согласно Дневнику Прокофьева, Сувчинский все-таки решил, что ехать на родину пора[175], остановило его лишь вмешательство жившего в Италии Горького, который не только убедил Сувчинского, что, «работая за рубежом России, Вы и Ваша группа принесете значительно больше пользы родине» (письмо от 17 февраля 1930 г. из Сорренто)[176], но и, упреждая обращение Сувчинского за советским паспортом, сообщил те же мысли в посланном одновременно письме к Сталину. «Вместе со Святополком-Мирским Сувчинский был основоположником „евразийской“ теории и организатором евразийцев, — разъяснял Горький советскому диктатору[177]. — <…> У нас им делать нечего. Но я уверен, что они могли бы организовать в Лондоне или Париже хороший еженедельник и противопоставить его прессе эмигрантов»[178]. Во въезде в СССР по советскому паспорту Сувчинскому было отказано. Мог ли он знать, что его не пустили лишь потому, что Сталин имел на руках одно из его писем к Горькому! Едва ли Сувчинский до конца понимал, на какую роль его заочно наметили (роли этой — рупора сталинизма — он, как мы увидим, не исполнил). В Россию вернулся близкий соратник по евразийскому делу, критик и историк литературы кн. Д. П. Святополк-Мирский (1890–1939), впоследствии погибший в заключении. Сохранилась относящаяся к 1927 г. совместная фотография Прокофьева, Святополк-Мирского и Сувчинского: правда, довольно плохого качества[179].
В статьях 1928–1929 гг. Сувчинский говорил о трансцендентировании революционности и о современности евразийства; буквально то же самое утверждал в отношении собственного творчества в многочисленных интервью середины 1920-х годов Стравинский[180]: «Слово „модернизм“ развенчано. Намерение модерниста и состоит только в том, чтобы шокировать буржуазию. Моя музыка не „футуристична“ и не „passé-ist“ (франко-немецкое: „устарела“; может быть также прочитано как „пассеистична“. — И. В.], а только музыка сегодняшнего дня» (Из интервью Стравинского, опубликованного 6 января 1925 г. в «The New York Times»)[181]. И даже:
Не хочу в этой связи называть конкретные имена [речь идет о Шёнберге. — И. В.], но мог бы рассказать о композиторах, тратящих все время на изобретение музыки будущего; это ведь, в сущности, говорит о непомерной самонадеянности, а она не уживается с искренностью!
(Из интервью, взятого у Стравинского в январе 1925 г. Святославом Рерихом)[182].
Ключевое же для утверждения России как Нового Запада заявление Сувчинского:
Под нависшей сложностью социальных проблем и политических затруднений европейский потолок за последние десятилетия безмерно снизился. Но более всего начинает давать о себе знать [неблагополучие в самом основании западной культуры[183] —
является ответом на слова Прокофьева из цитированного выше письма к Сувчинскому от 30 июля 1922 г., в котором Прокофьев упрекал пореволюционную Россию в заниженном «потолке» культурной деятельности и свобод: «при взмахе молоток будет ударяться о притолку»[184].
В 1936 г. Сувчинский предпринимает последнюю и самую отчаянную попытку внедрить евразийский элемент в мифологию революционного марксизма: составляет для Прокофьева текст «Кантаты о Ленине». Этой в высшей степени необычной и уж совсем не вписывающейся в рамки «социалистического реализма» кантаты, так никогда и не исполненной при жизни Прокофьева, мы коснемся в главе 6-й. А в 1937 г., согласно некоторым исследователям[185], Сувчинский все-таки едет в СССР. Известна помеченная 16 июля 1937 г. его открытка Стравинскому с восклицанием: «Хорошо во Франции после Казани!»[186] Хотя близко знавший Сувчинского в поздние годы Вадим Козовой отрицал факт путешествия: «Такая поездка совершалась бы в одну сторону, без возврата…»[187] Из сегодняшнего дня это должно нам казаться полным безумием, но мысли о возвращении в СССР в 1937 г. — на гребне развязанного Сталиным массового террора — были присущи не одному Сувчинскому. Дукельский тоже всерьез раздумывал об этом и даже переслал Прокофьеву для исполнения на родине партитуру «Конца Санкт-Петербурга»[188].
К концу 1930-х Сувчинский постепенно переходит от идеи Рах Eurasiana к размышлениям о «музыкальном времени»-Хроносе, столь повлиявшим, в свою очередь, на зрелого Стравинского и Лурье (взаимоотношения Стравинского и Лурье были вполне дружескими до 1939 г.). Актуализация темпоральности у Сувчинского была развитием одной из сторон евразийства — его понимания времени (и других фундаментальных категорий, которыми оперирует человек) как статико-динамичного начала — и происходила в ущерб континентальной культурно-политической пространственности, становившейся для его сознания все более и более умозрительной. В 1939 г. Сувчинский публикует, может быть, самую главную свою эстетическую работу «Понятие о времени и музыка (размышления о типологии музыкального творчества)»[189]. Уклон Сувчинского в сторону темпоральности должен был неизбежно привести его к сближению с «прогрессивным» крылом западноевропейского музыкального авангарда, что и произошло после Второй мировой войны. Темпорально им отныне толкуется и «пространство русской музыки» — как в первую очередь исторический проект[190].
Сувчинский понимал музыкальное время как формообразующую и укорененную в себе «срединную сферу» между «внутренней» и «внешней» формами творящего сознания, что было во многом параллельно концепции литературного языка, как она изложена в 1927 г. в работах лингвиста-евразийца кн. Н. С. Трубецкого. Как и литературный язык у Трубецкого (отдававшего безусловное предпочтение письменному варианту языка перед разговорным)[191], музыкальное время-хронос у Сувчинского было доступной человеческому сознанию формой бытования максимальных, даже абсолютных значений, стоящих выше всего психологического и частного. Музыку, в которой царствовало онтологическое время-хронос, Сувчинский именовал музыкой хронометрической, в противоположность передающей субъективные психические отношения музыке хроно-аметрической. Хронометрической или онтологической музыке, которую Сувчинский увязывал с творчеством Стравинского и которая выступала у него ипостасью космоисторической процессуальности, были свойственны сознавание «равновесия, динамический порядок и нормальное и последовательное развитие: в области психических реакций она вызывает особое чувство „динамического спокойствия“ и удовлетворения»[192]. Сходство мысли Сувчинского и Лурье разительно. Не боясь излишних спрямлений, можно сказать, что если литературный язык, по Трубецкому, есть человечески постижимая фиксация энергийного Логоса, то музыкальный хронос, по Сувчинскому, есть наиболее ощутительная и человечески доступная форма избывания субъективного и приближения ко Времени Абсолюта.
Чисто политически концепция «реального времени, времени онтологического» может быть истолкована как ключ к конфликту музыкального теоретика-евразийца с восторжествовавшим-таки на родине, в России/СССР, историческим «психологизмом» и западным «прогрессизмом». Ведь совсем не обязательно быть поглощенным «психологическим временем», пребывать внутри многоэлементного продвижения русской жизни на том или ином отрезке истории, чтобы способствовать ее улучшению. Можно переместиться с уровня «времени психологического» на уровень «времени онтологического» и предлагать не частичные реформы и модификацию существующего эстетического канона, а революцию мышления, радикальное изменение самого взгляда на канон.
Музыкальный феномен давал, по Сувчинскому, возможность «слышать время». Только музыка, отказывающаяся транслировать внеположные ей идеи и состояния — как пытались их транслировать Вагнер, Римский-Корсаков, отчасти Чайковский, — «только эта музыка может стать мостом, связывающим нас с бытием, в котором мы живем, но которое в то же время не является нами»[193]. Из понимания музыкального феномена проистекает радикальная критика советского музыкального искусства, изложенная Сувчинским в 1938 г. в русских заготовках к «Музыкальной поэтике» Игоря Стравинского, использованных в гарвардских лекциях и в книге, но впервые — в той форме, в которой написал их Сувчинский, — опубликованных лишь в 1999 г. Сувчинский уравнивает советскую музыкальную эстетику с трансляцией внеположных музыке тем и состояний, т. е. с упомянутой линией Вагнера, Римского-Корсакова, Чайковского-человека, стремившегося выразить свою чисто человеческую специфику в музыке. Занимая, как и Лурье, народническую позицию, Сувчинский упрекает оставшихся в СССР коллег также в смешении «вопросов музыкальной этнографии с вопросами музыкальной творческой культуры»[194]. Именно в производстве псевдонародного (ибо творчество в СССР оставалось авторским) и псевдоэкспериментаторского (ибо авторство в СССР становилось коллективным) искусства он видит серьезную ошибку советских музыкантов, уже опережавших музыкантов Западной Европы и Америки в процессе создания репродуцируемой, стандартизированной, массовой музыки:
Конечно, хорошо, что советские пианисты и скрипачи получают премии и призы на международных конкурсах (если вообще подобные конкурсы нужны и если признавать, что эти конкурсы что-либо и когда-либо дали или открыли для музыки!); конечно, хорошо, что в России все танцуют вприсядку и трепака и поют колхозные и «производственные» песни, но можно ли эти вторичные, производные факты и количественные факторы считать симптомами «большой» и творческой музыкальной культуры, истоки и условия которой, как и всякого творчества, вовсе не в массовом потреблении искусства, не в массовой самодеятельности, всегда похожей на дрессировку, а в чем-то совсем другом, о чем в современной России забыли, или разучились говорить и думать?[195]
В сущности, Сувчинский, как и цитированный выше Николай Набоков, выступает одним из первых критиков музыкальной эстетики массового общества еще до того, как факт возникновения этого общества был по-настоящему осознан современниками. Изо всех теоретиков 1920–1930-х годов ближе всего к ним должен стоять другой левый — Вальтер Беньямин, утверждавший в конце эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936), что единственно правильным ответом на вызов отчуждающего всех от всех и стандартизирующего любую ценность массового общества может быть только растоваривание искусства, возвращение ему отсеченного уровня сверх моментально тиражируемых смыслов, новое вовлечение художника в общественно значимое действие:
Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот что означает эстетизация политики, которую проводит фашизм. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства.
Однако политизация музыки, по Сувчинскому, была столь же своеобразной, сколь и любые моменты внешнего схождения с коммунистической левой. Речь шла о (вос)соединении политики, размышлениями над музыкой порожденной, — музыкальный подтекст ощутим даже в лишенных каких-либо упоминаний об искусстве статьях Сувчинского, печатавшихся в «Евразии», — с тем, что евразийскую политику их автора инициировало: возникал полный оборот диалектической спирали.
Однако при всем пересечении эстетических и политических интересов и симпатий чисто концептуально Сувчинский и Лурье работали в разных направлениях. Их эстетические взгляды лучше всего рассматривать в отношении взаимной дополнительности. Хронологически более поздняя (конец 1930-х годов) концепция музыкального времени Сувчинского может восприниматься как дальнейшее углубление замечаний Лурье о форме. Более того, очевидно, что Лурье принял ее как необходимое дополнение к собственным эстетическим идеям, что подтверждается названием его последнего крупного музыкального сочинения «Погребальные игры в честь хроноса» (1964).
Строго говоря, ничего специфически «евразийского» в философско-эстетической (но не в историко-политической) части построений у обоих нет. У Лурье, как мы уже не раз отмечали, прослеживаются удивительные совпадения с диалектической эстетикой его русских современников — Андрея Белого (концепции трехчленной «символической революции» и четырехчленного онтологического символа) и Алексея Лосева: не только с легшей в основу лосевской «Диалектики художественной формы» (опубликована в 1927 г.) идеей художественной формы как диалектической тетрактиды, но и с книгой «Музыка как предмет логики» (опубликована в том же 1927 г.). У Сувчинского присутствует связь с платоновским мимезисом и гуссерлианской феноменологией, а также близость к толкованию музыкального времени в заключительном разделе лосевской «Музыки как предмета логики»[196]. Неважно, имело ли место заимствование или сказывался общий контекст; исключительно интересные сами по себе, эстетико-политические построения Сувчинского и Лурье уникальными не были. Наконец, их критика эстетики массового общества была во многом созвучна вальтер-беньяминовской.
«Евразийский» акцент позиции Сувчинского и Лурье заключался, пожалуй, в профетизме, с которым они утверждали, что революционное осуществление новой музыкальной формы и онтологическое проживание музыкального времени придут в мировую музыку именно через связанную с Парижем группу русских композиторов, вросшую органично в западную традицию и уже диктующую ей свои законы (хотя бы в лице Стравинского), однако по-прежнему в значительной мере обращенную «лицом к Азии» и готовую противостоять торжествующему на европейском и американском Западе массовому обществу.
4. До и после евразийства:
Игорь Стравинский и Александр Черепнин
Итак, Стравинский своим творчеством вдохновлял эстетические размышления и Сувчинского и Лурье и даже способствовал закреплению творческого поворота Лурье от рационалистического «ультрахроматизма» и скрябинианства к евразийству, а в случае с Сувчинским помог своими высказываниями яснее сформулировать политическую программу зрелого евразийства (трансценденция революции, органическое врастание в современность). Ричард Тарускин утверждает со свойственной ему категоричностью, что Стравинский был музыкальным евразийцем номер один, главным инспиратором всего направления. Между тем никакого прямого упоминания евразийства — как оно упоминается в дневниках и письмах Прокофьева или в немецком интервью Александра Черепнина (к нему мы еще вернемся), — никакого активного участия в евразийских начинаниях — как у Сувчинского, Лурье, Дукельского — за Стравинским не замечено. Однако он своим творчеством способствовал освобождающему развороту русских композиторов к доисторической, доцивилизационной архаике, и уже одного этого достаточно, чтобы согласиться с тем, что Стравинский — больше, чем кто-либо из отечественных музыкантов, — стоял у истоков евразийского уклонения.
В мае 1935 г., вскоре после принятия Стравинским французского подданства и накануне неудачной баллотировки в члены Академии изящных искусств Франции (в 1936 г. композитор проиграл порядком забытому ныне Флорану Шмитту, получившему в последнем туре 17 голосов, в то время как Стравинский сам в первых двух турах набрал только 5 и 4 голоса соответственно[197]— унизительный, но предсказуемый результат[198]), «Советская музыка» поместила выдержку из не изданного еще дневника Ромена Роллана времен Первой мировой войны[199]. Значение этой публикации трудно переоценить. Роллан фиксирует откровенный разговор со Стравинским, состоявшийся у него 26 сентября 1914 г., а потом приводит и письмо композитора, написанное сразу после их разговора. Замечателен контекст публикации. С одной стороны, Стравинскому из России напоминают о том, от чего он отказался. С другой стороны, в журнале буквально из номера в номер идут сообщения об увеличивающемся контроле над музыкальной жизнью Германии со стороны национал-социалистов. Информация эта играет двоякую роль: во-первых, пробудить в читателе чувство солидарности с австро-немецкими коллегами — и здесь оказываются забытыми даже былые нападки советской критики на преследуемых нацистами в качестве «культурбольшевиков» Шёнберга, Кшенека, Хиндемита («Гиндемита» в орфографии 1930-х годов), а конфликт Фуртвенглера с Геббельсом явно преувеличивается; во-вторых, унификация культурной жизни, проводимая поборниками «средневековья» и «антицивилизаторства» (как определяет программу национал-социалистов «Советская музыка»), молчаливо сравнивается с управлением искусствами со стороны руководства СССР. Читателям как бы предлагаются возможные варианты поведения в сходной ситуации, обсуждается их результативность. Антигерманские диатрибы молодого Стравинского здесь приходятся как нельзя к месту.
Дневниковая запись Роллана — первое свидетельство глубоких перемен, произошедших у былого ученика Римского-Корсакова. Стравинский заявляет Роллану, что из русских композиторов «он ценит Мусоргского и (немножко) Римского-Корсакова, который был расположен к нему»[200]. Трудно найти более жестокие слова для бывшего учителя, долгие годы занимавшегося исправлением гармонических и контрапунктических «несообразностей» у Мусоргского. Суждения Стравинского о пангерманской традиции, слишком повлиявшей на русскую музыку XIX в. и русское музыкальное образование, резко отрицательны, и диктуются они явным соперничеством. «Он не любит почти ни одного из выдающихся мастеров: ни Иоганна Себастьяна Баха, ни Бетховена. <…> Из истых немцев (так как Моцарт, по его мнению, больше чем наполовину итальянец) он любит только Вебера, который, впрочем, тоже проникнут итальянщиной»[201]. Надежда Вагнера на синтез искусств, который — как, например, в «Парсифале» — должен заменить собой прежнюю литургию, представляется ему «несбыточной»[202]. «Поведение немецкой интеллигенции внушает ему безграничное отвращение. У Гауптмана и Штрауса, говорит он, лакейские души»[203]. В последнем случае камень со страниц «Советской музыки» снова летит в национал-социалист(иче)ский огород, ибо 15 ноября 1933 г. Рихард Штраус стал председателем Музыкальной палаты рейха и объявил задачей сокращение иностранного присутствия в репертуаре немецких оперных театров на треть. Лишь после публикации интервью Стравинского разразился неизбежный конфликт между Штраусом и режимом — из-за либреттиста его оперы «Die schweigsame Frau» («Молчаливая женщина», 1933–1934) неарийца Стефана Цвейга, и 14 июля 1935 г. пожилой композитор подал в отставку с поста заведующего всей музыкой рейха «по состоянию здоровья»[204]. Гауптман тоже занимал в высшей степени двусмысленную позицию по отношению к «национальной революции» Гитлера и Геббельса, успев в самом конце жизни быть обласканным и «рабочей властью» в Восточной Германии. Стравинский идет в идейном антигерманизме настолько далеко, что даже «частично приписывает жестокости царизма немцам, внедрившимся в России, которые держат в руках главные рычаги управления и администрации»[205]. При этом по эстетическим своим взглядам Стравинский — не верящий в «органическую форму» романтик и уж точно не классик, а скорее укорененный в биологических ритмах футурист с характерным для русского футуризма культом молодости и весны:
Он мне сказал, что в искусстве, как и во всем, любит только весну, новую жизнь. Зрелость ему не нравится, ибо это начало заката. Поэтому совершенство, по его мнению, — низшая ступень жизнеспособности. И классиками он считает не тех, кто посвящал себя целиком созданию новой формы, а тех, кто работал над организацией форм, созданных другими[206].
Зеркальность позиций Стравинского образца 1914 г., свидетельство о которых находим у Роллана, по отношению к его же позициям через 10 лет, как они зафиксированы в упоминавшихся, в связи с Сувчинским, интервью середины 1920-х (в них Стравинский уже не революционер и не футурист), и в особенности по отношению ко взглядам конца 1920-х, как они изложены Лурье в программной статье «Неоготика и неоклассика» (1928), — поразительна. О статье Лурье мы будем говорить несколько ниже. Но особенно удивительно то, что во взглядах Стравинского меняются только знаки: то, что было минусом («классицизм») у молодого композитора, — становится у «зрелого» Стравинского плюсом и, таким образом, не отменяет суждения 1914 г. — сомневаться в его подлинности нет резона — о «низшей» жизнеспособности классического искусства по сравнению с проективным изобретательством, с творчеством новых форм жизни. Постарев и поумнев, композитор отходит на более безопасные позиции.
Дальнейшие рассуждения Стравинского в передаче Роллана звучат просто предвосхищением критики ограниченной романо-германской цивилизации Запада у кн. С. Н. Трубецкого и других евразийцев — критики, напомним, сформулированной евразийцами не до, как у Стравинского, а уже после русской революции и мировой войны 1914–1918 гг. Стравинский говорит о том же самом в начале великого кризиса западной цивилизации:
Варварство! Верно ли это определение? Что такое варвар? Мне кажется, что варвар является носителем культуры другой концепции, чем наша. И хотя она совсем иная, чем наша, все же это обстоятельство не исключает того, что в ней заключается такая же огромная ценность, как и в нашей культуре. Но современную Германию нельзя рассматривать как носительницу новой культуры. Это страна, являющаяся частью Старого Света. Ее культура так же стара, как и культура других западноевропейских народов. Именно поэтому я осмеливаюсь утверждать, что народ, который в мирное время воздвигает ряд памятников, подобных Siegesallee [Аллее побед. — И. В.] в Берлине, а во время войны насылает орды, разрушающие такие города, как Лувен, и такие памятники старины, как собор Реймса, является народом, который нельзя отнести ни к варварам, ни к цивилизованным народам. Ведь трудно предположить, что таким путем Германия предполагает омолодиться. Если это так, то следовало начать с памятников Берлина[207].
Читатель снова без труда вычитает невольную отсылку к национал-социалистам, с одной стороны провозглашающим «антицивилизаторство», с другой — славящим отнюдь не варварских, а, напротив, очень «западных» и культурных Вагнера и Ницше. И хотя Стравинский обещает поддержать призыв Роллана против уничтожения памятников романо-германской «старины», поддержка его звучит довольно двусмысленно: она, по мнению Стравинского, «в общих интересах всех народов, ощущающих еще необходимость дышать воздухом своей здоровой старой культуры…»[208]. Россия, впрочем, к числу таких народов не принадлежит, воздух ее культуры другой, а путь — совершенно отдельный от Западной Европы. Стравинский в разговоре с Ролланом
приписывает России роль прекрасной и мощной варварской страны, беременной зародышами новых идей, способных оплодотворить мировую мысль. Он считает, что подготовляющаяся революция по окончании войны свергнет царскую династию и создаст славянские соединенные штаты. <…> Он превозносит старую русскую культуру, которая остается неизвестной Западу, художественные и литературные памятники, находящиеся в северных и восточных городах. Он также защищает казаков от обвинений в жестокости…[209]
Это, несомненно, точка разрыва со всем общезападным в культуре современной ему России (и предвосхищение панславистского варианта евразийства, пропагандировавшегося в 1920–1930-е годы P. O. Якобсоном[210]), когда избравший добровольное изгнание на европейском Западе Стравинский становится в собственных глазах воплощением всего революционного и способствующего здоровому росту в новейшей русской музыке[211], может быть, самым русским изо всех русских композиторов, певцом доисторической прото-России (ur-Russia, как определяет ее Тарускин) — страны, заслоненной в сознании тех, кто остался на родине, желанием либо соответствовать западной моде, либо двигать и далее художественный прогресс («далее» для Стравинского периода между «Весной священной» и «Свадебкой» означает «в сторону»; познание и самопознание происходят «вовнутрь»). Прото-Россия Стравинского — не рационалистически построяемое будущее, но она есть биологическая органика существования, его витальная основа, предпосылка выживания всего, что связано с Россией нынешней.
По свидетельству Роллана, Стравинский, работавший в ту пору над «Прибаутками» (Роллан называет их «очень короткой сюитой для оркестра и голоса — „Dicts“»[212]), искал чистой музыкальной процессуальности, освобожденной от груза культурных смыслов, своего рода зауми, основанной на (а) первичности «только образных и звуковых ассоциаций», (б) отсутствии рациональной мотивации переходов «от одного образа к другому, совершенно противоположному и неожиданному»[213]. Подобный подход получит наивысшее оформление в экспериментальных композициях Стравинского середины конца 1910-х, но более всего в «русских хореографических сценах с пением и музыкой» — в «Свадебке» (1914–1923). Отзвук его легко услышать и в Concerto Spirituale Лурье.
О построении «Свадебки», истории ее создания и возможных подтекстах написано столько, что я не могу тешить себя надеждой добавить к этому что-то новое, да и не ставлю подобной задачи. Отсылаю читателей к соответствующим страницам двухтомной монографии Тарускина о Стравинском[214], а также к исследованиям Маргариты Офи-Мазо[215]. В центре «Свадебки» та же тема, что и в центре «Весны священной»: жертвы, приносимой во имя продолжения космического цикла и рода. Если «Весна» кульминирует в ритуальном убийстве намеченной к жертве избранницы, то в «Свадебке» смерть — символическая: в жертву приносится лишь девственность невесты. Такая смерть подразумевает рождение (к) новой жизни: в плане биологическом, и не только; неудивительно, что по завершении «хореографических сцен» атеист Стравинский пережил религиозный кризис, а в 1926 г. решил наконец возвратиться к православию[216]. Тарускин именует «Свадебку» «туранской [евразийской, говоря на более понятном языке. — И. В.] вершиной» творчества Стравинского. Однако после «Свадебки» Стравинский создал, по крайней мере, еще один шедевр — «Симфонию псалмов» (1930), сыгравшую столь значительную роль в продолжающемся жанровом диалоге внутри «парижской группы» русских композиторов: эхо «Симфонии» различимо и в «Конце Санкт-Петербурга» Дукельского (1931–1937), и в «Псалме» (1933) Маркевича.
Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающий охват феномена «Свадебки», попытаемся уяснить себе место, какое занимает антииндивидуализм «хоровых сцен» и их коллективный субъект как в творческой эволюции самого Стравинского, так и в сознании наиболее внимательных из его современников — в первую очередь русских из «парижской группы». Начнем с того, что, хотя работа над партитурой длилась целых девять лет (1914–1923) — больше, чем над любым другим произведением Стравинского, — основная ее часть сложилась очень рано, между 1914 и 1917 гг., далее Стравинский искал лишь адекватного инструментального оформления сопровождающего ритуал оркестра (в окончательной редакции четыре фортепиано и ударные), т. е. речь шла не о самих составляющих, а об их раскраске и равновесии звуковых масс. При всем метро-драматургическом разнообразии, если не калейдоскопичности «Свадебки», при всей экстремальности, даже заумности русского языка хореографических сцен с пением (Стравинский намеренно выбирает тексты на северо-восточном диалекте, нарушающие все правила литературных фонетики и синтаксиса), основное впечатление от чтения партитуры[217] и прослушивания — динамический покой и возвышенная умиротворенность. Лурье определял это как «спокойствие и „тихость“ иконы»[218]. Балетный критик Андрей Левинсон выражался гораздо точнее: «…неизменные от Велеса до Ленина формы крестьянского быта <…> На рюмке водки, подносимой свату, играет тот же луч, как в чаше Грааля»[219]. Перед нами не отдельные голоса, но коллективный субъект, «варварское» освобождение от западноевропейских канонов и осуществление ставшей после Вячеслава Иванова и других символистов общим местом идеи
«хорового действа», на которую думали опереть русскую общественность славянофилы. Это — феократическая синархия, в противоположность юридизму Средневековья западного (стиль контрапунктический) и просвещенному абсолютизму Нового времени — будь то империализм или демократия, — что соответствует стилю гармоническому (Павел Флоренский, сам славянофильству не чуждый, о непрофессиональной русской музыке; 1918 [?] г.)[220].
Оставив в стороне политико-богословское измерение таких рассуждений, хотя Стравинский был не чужд ни одному, ни другому, подчеркнем: «коллективное действующее лицо» сочинения — а под ним следует понимать весь ансамбль исполнителей, в каждой из групп, кроме ударных, кратный четырем: четыре певца-солиста, четырехголосный смешанный хор, квартет фортепиано и, разумеется, ударные, вносящие необходимую погрешность в математический баланс, — все-таки достигает эффекта, которого так страстно, но неосуществимо желал в своих звуковых мистериях Скрябин. Только достигает динамической, из себя выходящей (экстатичной) процессуальности Стравинский, начиная с прямо противоположного. Им движет не утверждение, а отрицание субъективного. Очевиден внутренний анархизм «Свадебки»: отношения в партитуре, как и в мышлении Стравинского того времени, чисто горизонтальные. Коллективный субъект допускает только два иерархических отношения — нисходящее между ним и индивидом и восходящее между ним и Абсолютом. Нет и существенной разницы между желаемым, но практически недостижимым сверх-«я» Скрябина и осязаемым, не-«я»-процессом у Стравинского (Маркевич назовет это внеличной «звуковой перспективой»). Как говаривал об эффекте «хоровых сцен» намеренно подменявший анархическую горизонталь лишь одному ему мерещившейся вертикалью («иерархией рода») советский музыковед и вдохновенный ультрамодернист Альшванг (его высказывание по поводу «Свадебки» свидетельствует больше о самом авторе высказывания, чем о предмете, и ценна в нем только заключительная часть),
страшная иерархия рода, полная ничтожества, как бы неосуществление отдельной личности, до конца подчиненной жестоким интересам неподвижного родового быта, — все эти элементы «исконной» [почему кавычки и о какой «исконности» в насквозь умышленной конструкции может идти речь? — И. В.] крестьянской «русской» [??] культуры представлены Стравинским как непреодолимая сила, исполненная сумрачного величия[221].
Дукельский, будущий исполнитель партии одного из роялей во время лондонской премьеры, услышав «Свадебку» 28 июня 1924 г., написал матери: «Музыка сверхгениальная»[222], — и от своего восторженного мнения никогда не отступал. В 1930-м он называл ее в американской печати «без сомнения, вершинным достижением композитора»[223]. Характерно свидетельство Николая Набокова, в композиторском творчестве стоявшего довольно далеко как от евразийской проблематики, так и от Стравинского «варварского» периода и, в общем, скорее парижанина, чем русского парижанина. Композитор-эклектик, Набоков сочетал в 1920–1930-е годы широкого дыхания незаемный лиризм с откровенными имитациями Глинки, Чайковского (музыкальных «западников»), зрелого Прокофьева и Стравинского послерусского периода. Как взгляд эстетически не заинтересованного лица, хотя и связанного — впоследствии — личной дружбой со Стравинским, свидетельство Набокова имеет особую ценность:
Впервые я слушал «Свадебку» в 1924 г., год спустя после ее мировой премьеры. Труппа Дягилева перебралась из «Gaité lyrique» в театр «Sarah Bernhardt». Я отправился туда слушать «Свадебку» в компании немецкого коллекционера Удэ и молодого польского писателя Ярослава Ивашкевича. Все мы были сбиты с толку тем, что «случилось» в этот вечер. <…>
Наши роли (мы сидели на самом верху галерки) разделились. Удэ, как знаток искусства, играл «созерцателя» — он наблюдал за хореографией Нижинской и декорациями Гончаровой. Ивашкевич, прекрасно знавший русский язык, пытался понять слова песен, но не мог понять, поются ли они на русском или же на санскритском языке. Я пытался связать в нечто целое разрозненные звуки, которые достигали моих ушей из всех этих разнообразных углов сцены и оркестрового «подвала».
В перерыве все мы согласились, что то, что мы слышали, выходит за пределы нашей способности «непосредственного восприятия» и что путь, которым мы это восприняли, был, вероятно, «неправильным». Удэ сказал на своем родном немецком: «So’ntierischer Ernst» (буквально означающем «животная серьезность», имея в виду угрюмый взгляд коровы, взирающей на человека). Все мы также согласились, что в «Tierischer Ernst» этого исполнения было что-то неверное[224].
Разброс мнений — от «музыка сверхгениальная» (Дукельский) до «то, что мы слышали, выходит за пределы нашей способности „непосредственного восприятия“» (Набоков) — характерен для двух подходов: скорее национально-русского и скорее общезападноевропейского. На русский взгляд, выражаемый Дукельским, «Свадебка» лишена экзотизма (подчеркиваемого во впечатлении от хоровых сцен у Набокова и его друзей: либреттисту Шимановского и уроженцу Украины Ивашкевичу непонятно, «поются ли они на русском или же на санскритском языке»), а кумулятивный эффект партитуры скорее относится к невербализуемому, очевидно, касаясь довольно глубоких пластов (пред)сознания. Строго говоря, «хоровые сцены» — на пределе профессионально осмысленного творчества, дальше должен вступать в права ритуал, исключающий индивидуальность.
«Свадебка» была наивысшей точкой экспериментального периода у Стравинского. Исчерпав потенциал обновления и возвратившись — насколько это было возможно — к органическим началам музыки, вернув ей «коллективного субъекта», Стравинский встал перед двумя возможностями: либо замолчать как композитор (по свойствам его темперамента молчание было не представимо, хотя двадцать лет спустя другой Игорь — Маркевич — изберет в сходной ситуации именно молчание), либо отступить на осознанные еще в середине 1910-х годов запасные позиции, на которых ни о какой новой революции не могло быть речи, но зато допустимо было «дышать воздухом <…> здоровой старой культуры»[225]. В конце концов, у всякого возраста своя динамика, и Стравинский, столь укорененный в человеческом, психосоматическом, выбрал второе. Место коллективного субъекта занял у него субъект частичный, дробный — отчасти типизирующий себя, отчасти ритуально (ритуал торжествует и в «Свадебке») повторяющий и смешивающий известные прежде элементы, перешедший от творчества с нуля на мастерскую комбинаторику. Лурье застал Стравинского в фазе перехода и озвучил в «Неоготике и неоклассике» владевшие Стравинским в конце 1920-х настроения:
Вся задача Стравинского <…> в преодолении соблазнов фетишизма в искусстве, как и индивидуалистической концепции налагаемого на себя эстетического принципа. С такой точки зрения искусство есть нормальная функция и проекция опыта. Принцип здесь утверждается ограничением «я» и его подчинением высшим и вечным ценностям[226].
Сувчинский, как и Лурье, углублявший в своих размышлениях эстетическую линию нового Стравинского, предлагал Стравинскому использовать русский текст «Заметок о типологии музыкального творчества» (размышлений об онтологическом времени) во второй гарвардской лекции по музыкальной поэтике[227], что композитор отчасти и сделал, сославшись на идеи Сувчинского[228]. Полный текст работы во французском переводе был опубликован, как мы знаем, на страницах посвященного Стравинскому специального выпуска «La revue musicale». Впрочем, Борис Шлецер, шурин и пропагандист Скрябина (и уже потому мало кого любивший из русских современников), неодобрительно отозвался о размышлениях Сувчинского, подробно разобранных в предыдущей главе, как об инспирированных в меньшей степени музыкой, а в большей — «Бытием и временем» Хайдеггера: «К сожалению, автор сих страниц (переведенных с русского, и весьма дурно переведенных) пускается не в анализ музыки или музыкального опыта, а в хайдеггеровскую по происхождению метафизику, которая так очевидна сама по себе, судя по наивно-догматическому тону»[229]. Однако это только часть правды. К размышлениям о бытии и времени зрелый Стравинский провоцировал не меньше, чем Хайдеггер.
То, что переход Стравинского к «формам-типам» был еще не окончательным, свидетельствует другая его вокально-оркестровая партитура — «Симфония псалмов» (1930). Сочиненная для мужского хора, хора мальчиков и оркестра духовых, двух фортепиано, ударных и струнных без скрипок на латинские тексты[230], она оказалась последней вспышкой прежних чувствований и попыткой вернуться к принципам «Свадебки» на западноевропейском материале. Как часто случается, сила возобновленного порыва повела за собой и взорвала изнутри возрожденную Лурье (а самим Лурье — скопированную у западных европейцев) модель духовного концерта. Владимир Дукельский до конца жизни считал «Симфонию псалмов» последним из четырех «бесспорных шедевров» Стравинского: первыми тремя были, по его счету, «Петрушка», «Весна священная» и, конечно, «Свадебка». Об этом говорится в англоязычном, подписанном именем Вернона Дюка, памфлете «Деификация Стравинского» (1962)[231]. А в русской стихотворной сатире того же времени «Путь композитора» (1961) Дукельский дал волю горечи по поводу того, что ему виделось как предательство Стравинским себя самого:
Уязвленный, Стравинский отвечал в 1962 г. (при участии Роберта Крафта), что «идеальной мишенью [для подобных нападок], естественно, и должен был быть некто, чья история похожа: ну, например, еще один русский, у которого последовательно были французская и американская карьеры»[234]. Однако факт остается фактом: вся дальнейшая музыкальная биография Стравинского — развитием ее никак не назовешь — проходила под знаком возрастающего дистанцирования от себя самого периода «Весны» — «Свадебки». Ричард Тарускин, столь проницательный, когда речь заходит о Стравинском, остроумно подметил — в переводе сохраняем слог американского музыковеда, — что
смущение Стравинского являет собой элегантное подтверждение тезиса князя Николая Трубецкого в его горькой, кусачей «Европе и Человечестве», что просвещенная космополитичность Запада в действительности есть форма шовинизма — он называл его «панроманогерманским шовинизмом» — и что зараженные им русские не в состоянии не перейти во враждебное к России отношение. Никому не нужно доказывать ныне, что и Стравинского поразила эта чума. <…> Как только Стравинский перешел на другую сторону моста, все прошлое стало для него ненужным[235].
Вопрос, вынесенный в заглавие раздела, может показаться странным. По собственному признанию — несомненно да. По мнению большинства рассматриваемых композиторов — Стравинского, Прокофьева, Лурье, Дукельского (мнение Маркевича нам неизвестно, да и вряд ли он имел особое о Черепнине мнение), — пожалуй, нет, ибо композитор находился на периферии поисков «парижской группы»: он физически много присутствовал на географическом Востоке (Китай), но недостаточно — на Западе, в Париже, где обосновался, когда пик активности группы пошел на убыль. Эстетически же Черепнин был недостаточно своим: многие темы «музыкальных евразийцев» у него наличествовали, да вот в эстетико-политической дискуссии он на их стороне не замечен; ни в евразийских изданиях он, как Лурье и Дукельский, не печатался, ни особых творческих или личных контактов с идеологами, такими как Сувчинский, у него, в противоположность Стравинскому и Прокофьеву и даже Маркевичу[236], не было.
Тем не менее вклад Черепнина в общее дело евразийской (парижской) музыкальной группы, даже если он не признавался ее активными участниками за такового, может быть сведен к трем моментам:
— грузинский по происхождению звукоряд («интрапункт»), не восточный и не западный, использованный им впервые в Концерте для флейты, скрипки и камерного оркестра (1924), а также сознательная работа с закавказскими ритмами и гармониями без заимствования мелодий — т. е. «ориентализм наоборот» — в Грузинской рапсодии ля-минор для виолончели и камерного оркестра (1922, написана в Париже) и многих других сочинениях;
— незападный тематический материал фортепианных концертов (впрочем, здесь Черепнин был ближе к «академическим националистам», русские парижане избегали прямого заимствования или стилизации фольклора): грузинский по окраске, хотя и не без влияния Скрябина, в Первом (сочиненном в Тбилиси, 1920), египетский — в Третьем (1931–1932), китайский — в Четвертом;
— контакты с музыкантами с восточной оконечности евразийского мира.
А кроме того, он говорил о себе в 1933 г. в третьем лице:
…Черепнин считает, что синтез Европы и Азии является идеалом и подлинной сущностью русской музыки. <…> Россия для него Евразия, и раздумья о сути русского национального характера, а также восприятие голоса крови и попытка по-своему осмыслить инстинктивно созданное — все это укрепило Черепнина в его убеждении, что он как русский должен в искусстве выполнить «евразийскую миссию»[237].
Но в целом его линия была довольно умеренной. Нам же интереснее художники радикального запала, тяготевшие к доведению своих творческих позиций до логического конца — в чем бы он ни выражался.
5. Ностальгический взгляд на Восток с Запада:
«лирическое евразийство» Владимира Дукельского
«Евразийское» в наследии Владимира Дукельского — это две небольшие, юношеские по духу и задору статьи, «Дягилев и его работа» (1927, опубликована в «Верстах», сб. 3, 1928) и «Модернизм против современности» (газета «Евразия», № 9 и 17, 1929), к которым примыкает англоязычная статья 1930 г. о Прокофьеве «По справедливости, с восхищением и дружбой: от Дукельского — Прокофьеву, с оглядкой на Стравинского» (опубликована в газете «Boston Evening Transcript»), а также орфическая трилогия, которую сам композитор определял в конце жизни как «мои музыкальные магнум опусы»[238]. Трилогия состоит из оратории «Конец Санкт-Петербурга» (задуманной в 1928 г. и осуществленной в 1931–1933 гг., вторая расширенная редакция — 1937), кантаты «Эпитафия» для сопрано, смешанного хора и оркестра (1931) и концерта для сопрано, фортепиано и оркестра «Посвящения» (1934–1937). Вне всякого сомнения, эти три композиции должны не только исполняться вместе — их общая длительность равняется одному часу, — но и рассматриваться как три части музыкального целого.
Несмотря на учебу в Киевской консерватории в возрасте 11–15 лет, Дукельский по-настоящему дебютировал как композитор лишь за пределами России. За исключением небольшого числа романсов, все первые его сочинения в основных жанрах были написаны вне отечества: Первая соната для фортепиано соль-минор (1920–1921) — в Константинополе, Фортепианный концерт до-мажор (1923) — в Нью-Йорке, первый балет «Зефир и Флора» (1924) — по заказу Дягилева во Франции, а Первая симфония (1926–1928) — по заказу Сергея Кусевицкого в Англии и Шотландии. В этом было его главное отличие от Лурье, успевшего составить себе в России имя, не говоря уже о Стравинском и Прокофьеве, по-настоящему признанных и в России, и за ее пределами. Дебютировав на Западе, Дукельский сознательно желал утвердить себя в русской традиции, что не могло не вызывать удивленной симпатии старших коллег. Даже если бы он и не разделял до конца политических и эстетических интересов Сувчинского, Прокофьева, отчасти Стравинского и Лурье — а похоже, что в значительной степени разделял, — игнорировать то, что связывало этих оказавшихся на Западе русских музыкантов, было, находясь рядом с ними, невозможно. Поэтому выбор Дукельским «евразийской ориентации», не будучи столь основательно продуманным, как, например, у Лурье, представлялся вполне естественным. Евразийство Дукельского было не теоретизирующего, но лирического рода и как таковое лучше запечатлелось не в статьях, а в музыкальных композициях. Дукельский, может быть, острее, чем кто-либо из близких ему в 1920-е годы русских музыкантов, сознавал окончательность разрыва с музыкальным и культурным наследием петербургской России и то, что связь с прошлым может быть восстановлена только усилием, опирающимся на внутренние органические резервы творящей личности. Но такое восстановление было для Дукельского столь же заманчиво, ибо отвечало магической, орфической природе музыкального творчества, сколь и бесперспективно. Отношение к западнической петербургской России, а затем и к европо-азиатской континентальности у него можно определить как ностальгический взгляд на оставленный культурный Восток с исторического и культурного Запада, граница которого в сознании композитора все более и более смещалась в сторону Атлантики (из Франции — на Британские острова, куда Дукельский переселился после парижского дебюта середины 1920-х), а затем и вовсе оказалась по ту сторону океана: в Северной Америке, у береговой черты Нью-Йорка, ставшего с лета 1929 г. новым домом композитора. По существу, перед нами следующий фазис в развитии евразийского музыкального мирочувствия: помещение его в диалектически иноприродный контекст — сначала западноевропейский, а затем североамериканский — новое качествование. И все-таки коснуться эстетических взглядов юного Дукельского, как они выражены в публикациях на страницах евразийских изданий, хотя бы бегло имеет смысл. Ибо они — по сравнению со взглядами Лурье, Сувчинского и даже Стравинского — содержат существенную поправку к контексту, в котором Дукельскому суждено было работать с самого начала.
В статье «Модернизм против современности» Дукельский говорит о бессознательной, органической, адогматической укорененности художника в «ощущении звукового мира, построенного когда-то Бахом», т. е. в новоевропейском многоголосном контрапункте. Но контрапункт этот должен быть расширен, как настаивает Дукельский, за счет многоголосия тональностей, вводимого близкими ему русскими композиторами — например, Прокофьевым в Третьем фортепианном концерте (1921), а вслед за Прокофьевым и западноевропейскими коллегами Дукельского, Пуленком и Ориком, и окончательно утверждаемого русским же Стравинским в «Аполлоне Мусагете» (1928). Не ясно, разумеется ли под этим политональность, но это близко к словам Лурье о гармоническом компоненте евразийской музыкальной революции. Отвержение машинной, т. е. технотронной, цивилизации в статье вызывает в памяти атаку русских футуристов на певца машин «тоже футуриста» Маринетти (в которой принимал участие и Лурье, см. выше о манифесте «Мы и Запад»), Наконец, Дукельский говорит и о других компонентах современного музыкального мировоззрения, противопоставляемого им модернистскому небрежению органикой настоящего: о восходящей к Стравинскому «страсти к ясности, четкости „ритмического“ рисунка, при максимальной бережливости средств» и об обязательном «наличии неподдельного мелодического дарования», которое многие современники находили не только у Прокофьева, но и у самого антимодерниста Дукельского. Мы уже знаем, что противопоставление современности модернизму в искусстве и политике было, начиная с середины 1920-х, основой позиции Стравинского и Сувчинского. Таким образом, возможно говорить о принципе, разделяемом парижской группой в целом. В область модернистского небрежения современностью попадают в статье Дукельского как экспериментаторский титанизм (в античном смысле: именно как спор с «хаосом»), так и отчуждение модернистского продукта и превращение его в порабощающий сознание ярлык, наклеиваемый на органически чуждые друг другу явления (см. нелепый список «модерных» феноменов в начале статьи: астрономические открытия, косметика, юмор Майкла Арлена, музыка «модернистов», наконец), т. е. в единицу капиталистического товарообмена. Современность и адекватное ей искусство ни в титанических играх «переучившихся», ни в творческой капитуляции, в удовлетворяющем массы «пастише» «недоучек», по мнению Дукельского, не нуждается[239].
Просматривается также частичная параллель с трехчленным основанием музыкальной революции у Лурье, для которого каждое последовательное выявление одного из компонентов антимодернистского проекта связывалось с определенным русским композитором, знаменовавшим целую стадию исторического освобождения: 1900-е — начало 1910-х — со Скрябиным, развязавшим гармонические путы новоевропейского музыкального языка (у Дукельского Скрябин выпадает совсем, но зато речь идет о полифонии тональностей), 1910-е — начало 1920-х — с учитывавшим опыт Скрябина Стравинским, утвердившим верховенство четких «азийных» ритмов (до выхода его за пределы национальной проблематики), а 1920-е — начало 1930-х — с восстановившим права мелодизма и учитывающим опыт гармонической и ритмической революций Скрябина и Стравинского Прокофьевым, вставшим на тот момент «во главу национальных тенденций школы»[240]. Задача евразийцев сводилась при этом к завершению, увенчанию музыкального проекта, т. е. к сочинению музыки, которая бы диалектически снимала опыт Скрябина, Стравинского, Прокофьева. Именно это — вослед за Лурье — попытается осуществить в трех своих наиболее значительных партитурах Дукельский. Напомню, что все три были написаны им в США, в Нью-Йорке.
Замысел главного русского сочинения Дукельского возник у него, по собственному признанию, в 1928 г., после просмотра в Берлине экспрессионистского фильма Всеволода Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга» (1927)[241]. Созданный, как и «Октябрь» Эйзенштейна, к 10-летию революции и разделяющий с последним фильмом некоторые принципы — например, совершенно исключительную роль монтажа, — «Конец Санкт-Петербурга» Пудовкина тем не менее резко отличается от «Октября» заострением экзистенциально-философского аспекта революции и связанной с великим городом культурной памяти. Ведущими в фильме являются темы отчуждения и отчаяния, преодолеваемых в революции, а также нечеловеческой красоты утопического Петербурга, контрастной биологическому циклу рождения — борьбы — умирания, движущему бессознательным человеческим существованием, циклу ужасающему, отталкивающему и трогательному одновременно. В фильме визуализована оппозиция цивилизованного, рационального, умственного, связываемого с западническим архитектурно безупречным Петербургом и его буржуазным укладом (некоторые ракурсы фильма явно вдохновлены «Петербургом» Белого, а массовые сцены, как сцена на бирже, — фильмами Фрица Ланга) и степной (именно так!), пространственно открытой России, живущей внутри названного биологического, стихийного цикла. Один из запоминающихся эпизодов: ветер, дующий в крылья мельниц, под низким небом бесконечной континентальной равнины. Стоит ли говорить, что последнее было особенно близко сердцу любого евразийца. Это и есть зримое осуществление метафоры «океанического ветра» внутреннего освобождения, о котором писал в «Новом „Западе“» Сувчинский, — «ветра, все более затихающего в Европе», но поднимающегося «над континентом Евразии»[242].
Пудовкин вообще был ценим в евразийских кругах как художник родственного мирочувствия, сочетавшего революционный пафос с историософским разворотом «к Азии», и его следующему фильму «Потомок Чингисхана» кн. Д. П. Святополк-Мирский посвятил специальный разбор на страницах «Евразии». Особенно впечатлил критика финал: «Ветер („буря над Азией“), несущийся над восставшими монголами, дан совершенно неестественной силы. Весь этот конец невольно напоминает героические гиперболы Маяковского (особенно 150 000 000)»[243]. Тот же метафорический ветер с востока будет озвучен в последних частях «Конца Санкт-Петербурга» Дукельского.
К работе над ораторией Дукельский приступил только в 1931 г. и писал ее урывками, в перерывах между сочинением коммерческой музыки, приносившей ему хлеб. Сочинение посвящено выкликанию пересекшей Стикс истории «души Петербурга» для прощания с ней: через надгробную песнь, кенотаф из слов и звуков городу и культурному явлению, навсегда исчезнувшему — в понимании евразийцев: как исторически обоснованная целостность, не физически, конечно, — с культурной карты России. Имея в виду именно это уклонение замысла, Сергей Прокофьев написал Дукельскому о своем отношении к проекту «Конца Санкт-Петербурга»:
Что за упадочническая идея писать монументальную вещь на умирающий Петербург! Тут все-таки печать, которую накладывает на Вас общение с усыхающей эмиграцией, этой веткой, оторванной от ствола, которая в своем увядании мечтает о прошлых пышных веснах. Уж если писать, то «Ленинград» или «Днепрострой»[244].
Но ни Дукельский, ни даже сам Прокофьев, подумывавший о возвращении в Россию, к написанию «Днепростроя» покуда не были готовы.
Текст составивших первую редакцию восьми частей оратории был заимствован Дукельским у восьми русских поэтов XVIII–XX вв.: Ломоносова (одна строфа из ранней оды), Державина (отрывок из «Шествия по Волхову Российской Амфитриты»), Пушкина (отрывок из «Медного всадника»), Анненского (первые три строфы из «Петербурга»), Тютчева (сильно сокращенное «Глядел я, стоя над Невой…»), Кузмина («Как радостна весна в апреле…»), Ахматовой (баллада «Тот август как желтое пламя» с изменениями в тексте, подчеркивающими метрическую иррегулярность стихотворения) и Блока (хрестоматийное «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека») — именно в таком порядке. Лишь два текста — Кузмина и Блока — использованы в оратории в их изначальном виде. Нарушена и хронология: строфы из Анненского предшествуют стихам Тютчева (датируемым 21 ноября 1844 г.), стихи Ахматовой (опубликованные в 1915 г.) — стихам Блока (сочиненным в 1912 г.). Наконец, пять из восьми текстов, использованных в первой редакции «Конца Санкт-Петербурга», написаны четырехстопным ямбом, основанным на импортированной Ломоносовым и в известном смысле утопической франко-немецкой метрической модели; при этом расшатывание ямба, достаточно строгого у Ломоносова, достигает предела (по числу пиррихиев) у Кузмина. Баллада же Ахматовой, содержательно центральная для всей оратории, написана акцентным стихом и олицетворяет собой выход за пределы позаимствованного с Запада «метрического сознания» в мышление, трансцендентирующее основанную на франко-немецких моделях метрику и ее рациональную феноменальность (о феноменальной и ноуменальной форме см. выше). С добавлением же — во второй редакции оратории — девятой части на слова Маяковского роль метрических моделей окончательно проясняется: мастерски составленное либретто «Конца Санкт-Петербурга» (тут, конечно, сказывался и литературный талант самого Дукельского, весьма оригинального поэта) дает «очерк истории русского стиха», воплощающего в себе как в монаде историю культурного сознания петербургской эпохи, вплоть до обретения этим сознанием — сквозь исторические катаклизмы — самостной свободы: под ритмы «восточного ветра», славящего «ковыли приволжских степей», как сказано в последних двух строках баллады Ахматовой. Вспоминается и данное Эдвардом Станкевичем определение отношения метрического и неметрического в поэзии, создаваемой на языках славянских стран, как дихотомии лирики (ср. выше о психологичности рациональной формы в музыке), сочиняемой преимущественно метрическим стихом, и стихотворного эпоса. Неудивительно, что сочетание так составленного либретто с музыкой заставляло Дукельского искать более точного определения жанра своего сочинения, которое в одном недатированном письме середины 1930-х годов к дирижеру С. А. Кусевицкому он именует «моя эпопея (бывший „Петербург“)»[245].
Композиция «Конца Санкт-Петербурга», как и в Concerto Spirituale, контрастно-циклическая, монтажная. Ряд частей напрямую соотносится с эпизодами фильма Пудовкина.
К сожалению, законченная 1 мая 1933 г. рукопись первой редакции оратории не сохранилась, и мы при дальнейшем разборе будем пользоваться партитурой второй редакции (1937), по которой оратория и была исполнена 12 января 1938 г. в Карнеги-холле в Нью-Йорке, а также исправленным в 1960 г. клавиром[246].
33 такта оркестрового вступления к первой части — неизвестно, присутствовавшего ли в первой редакции, — вполне могли бы указывать на возраст композитора к моменту завершения им партитуры (12 марта 1937); они же служат довольно неожиданным по лиризму предисловием к до-мажорному (с модуляциями) песнопению «О, чистый невский ток» на текст 31-й строфы из оды Ломоносова, сочиненной по случаю возвращения императрицы Елизаветы из Москвы в Петербург в 1742 г., после ее коронации. Песнопение, поначалу исполняемое антифонно мужской и женской группами хора, звучит подлинеарный аккомпанемент фортепиано, виолончелей, контрабасов, деревянных и медных духовых — ансамбля, приближающегося по составу к оркестру «Симфонии псалмов» и Concerto Spirituale. Параллель со Стравинским, а значит, и с Лурье, настолько очевидна, что присутствовавший на премьере американский композитор Эллиотт Картер заговорил о прямом влиянии как «настойчивых ритмов», так и «сухой, нерезонантной оркестровки» вокальной симфонии Стравинского на первую часть «Конца Санкт-Петербурга»[247]. Интересно, что бы он сказал, зная Concerto Spirituale (а Дукельский его знал и ценил)! Показательно и замедление исходного метра стихотворения (четырехстопного ямба) «дактилическим» счетом оркестровых партий (размер 6/8). Дукельского интересует зазор между выражаемым и более глубинным, т. е. его подход до известной степени «психоаналитичен», обращен к дорациональной подоснове, «затененной» архитектурным фасадом жанровой музыки и метризованного слова.
Контрастом двум последующим, архитектурно выверенным частям — хору «Вижу Севера столица» (Державин; Deciso е brioso) и арии тенора «Люблю тебя, Петра творенье» (Пушкин; Calmato) — оказывается хор «Желтый пар петербургской зимы» (Анненскии; Allegro росо), который завершается подлинно «леденящей», как определил ее сам композитор, оркестровой кодой, рисующей «просторную пустоту площадей»[248] Санкт-Петербурга. В немом фильме Пудовкин визуализует звучание архитектуры переменой ракурсов чрезвычайно подвижной камеры. Дукельский же достигает этого в «Вижу Севера столица» и «Люблю тебя, Петра творенье» разнообразием ритмических ходов и движением от очень низких к очень высоким регистрам — некоторой, как и у его старшего друга Прокофьева, «пианистичностью» в подаче оркестра и живых голосов.
Ария баритона «Глядел я, стоя над Невой» (Тютчев; Andantino con moto) и дуэт сопрано и тенора «Как радостна весна в апреле» (М. Кузмин; Allegro) служат лирической связкой с центральной частью оратории «Тот август как желтое пламя» (Ахматова; Pesante е risoluto), соответствующей сценам начала мировой войны в фильме. По жанру пассакалия, эта часть была построена Дукельским по тому же принципу, что и начало сцены в спальне графини в «Пиковой даме» Чайковского[249], только фигура «сердцебиенья судьбы» у струнных заменена остинатным повтором мужской частью хора названия рокового месяца — «август». Это остинато, очевидно, и должно олицетворять пробуждение культурно периферийных сил, приходящих, как говорится в положенной на музыку балладе Ахматовой, с восточными ветрами с «приволжских степей».
Первоначальное завершение оратории — «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека» (Блок; Allegro moderato), солисты и хор — поражает безнадежностью и соответствует напряженному ожиданию последних предреволюционных дней в заключительной части фильма. Эпизод построен на контрасте между ритмодекламацией блоковских стихов о цикличности времени у мужской части хора, пением у женской части с «замкнутыми ртами» и шестнадцатыми у скрипок, на этот раз снова напоминающих о ритмической фигуре «сердцебиенья судьбы» из «Пиковой дамы». Цикличность оказывается разорванной: начало музыкальной транскрипции стихотворения ритмически не совпадает с концом. То же стонущее пение с замкнутыми ртами — хотя Дукельский мог об этом и не знать — использовал в первой части блоковской кантаты «В кумирню золотого сна» (1919) Лурье[250]. Хотя о реакции Блока мы ничего не знаем, на жену поэта, присутствовавшую на премьере кантаты (в мае 1920), такое решение произвело очень сильное впечатление[251]. Интересно и то, что вслед за ораторией Дукельского крещендо хора, поющего с закрытыми ртами, использовал в музыке к сцене убийства князя Владимира Старицкого во второй серии «Ивана Грозного» Сергей Прокофьев. Первая редакция оратории Дукельского завершалась погружением Санкт-Петербурга во мрак исторического небытия; трагедия, как и положено, вела к гибели главного героя, но на сцене оставался ошеломленный хор. Цитата же из Чайковского служила напоминанием об историософском измерении оратории.
Во время очередного приезда Прокофьева в США зимой 1937 г. Дукельский, всегда делившийся с ним своими планами, обсуждал и судьбу любимого детища. Прокофьев — явно с надеждой на возможное исполнение в СССР — предложил дописать к оратории новое окончание, выбрав текст кого-нибудь из более оптимистических поэтов. Дукельский остановился на оде «Мой май» (1922) Маяковского, которого Сталин уже успел объявить «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»[252]. У Маяковского революция трактуется в ключе, близком национализму раннего Стравинского (и зрелого Хлебникова[253]): как возврат к хтоническим началам, как освобождение от плена технотронной цивилизации, как обретение родной земли и всеобщий «весен разлив»[254]. То, что идея финала оратории принадлежит Прокофьеву, подтверждается письмом Дукельского к Кусевицкому от 13 сентября 1937 г. из Голливуда: «Произведение было значительно упрощено и обрело триумфальное завершение, которое я написал по предложению Прокофьева»[255].
Еще раз повторим: Дукельский выбрал оду Маяковского не из личной (как у Прокофьева, немало проводившего времени с Маяковским во время приездов последнего в Париж в 1920-е и такой выбор, очевидно, одобрившего) или эстетической (как, например, у Стравинского) близости к поэту. Просто такой текст Маяковского прекрасно укладывался в общую евразийскую концепцию «Конца Санкт-Петербурга», а кроме того, усиливал надежды на исполнение на родине. Дукельский при этом считал нужным специально подчеркивать свой политический «нейтралитет» (neutral attitude) и в данном накануне премьеры оратории интервью говорил, что он «не ждет никаких аплодисментов из СССР» (doesn’t expect any applause from the U. S. S. R.)[256].
Рондообразная форма финала использует прием столь же неожиданный, сколь и неотразимый. Здесь сказывался «пианизм» музыкального мышления Дукельского. Струнные выводят нечто подозрительно напоминающее хроматические упражнения для гибкости пальцев, а в голосах вступающего хора a cappella звучат параллельные октавы.
Это вызывает в памяти прокофьевскую «Здравицу» (1939), в которой композитор для иллюстрации «целостного сознания» славящих «великого вождя» народов Сталина идет еще дальше, чем Дукельский, и заставляет оркестр играть восходящие-нисходящие упражнения «по белым клавишам»[257]. Вполне возможно, что финал «Конца Санкт-Петербурга» действительно повлиял на Прокофьева. В первой, американской версии своей монографии о Прокофьеве, вышедшей в 1946 г. в Нью-Йорке и с пристрастьем прочитанной Дукельским, И. В. Нестьев, с партитурой «Конца Санкт-Петербурга» не знакомый, тем не менее отмечает при анализе «Здравицы» моменты указанного здесь сродства: «рондообразная» композиция, «крайняя простота гармонии и общая ясность рефрена, соединенная с исключительно сложной внутренней раскраской до-мажора и связанных трезвучий»[258].
Четырнадцатиминутная кантата «Эпитафия на могилу Дягилева для сопрано, смешанного хора и оркестра» (именно таково полное название сочинения) была написана Дукельским в апреле — мае 1931 г., т. е. когда он уже давно думал над «Петербургом»[259]. Композитору потребовалось почти два года, чтобы найти верную форму для музыкального поминовения того, с чьей смертью (1929), как он сам написал впоследствии, «солнце европейской культуры закатилось — для меня, по крайней мере»[260]. Характерно, что европейская культура для Дукельского, находящегося по ту сторону океана, оказывается равной «восточному» ее уклонению, не европейскому вовсе, с точки зрения правоверного «западного человека» того времени.
Построение «Эпитафии» отчасти напоминает «Конец Санкт-Петербурга»: длинное оркестровое вступление, трагический хор, окаймляющий краткое ариозо сопрано. Текст для «Эпитафии» подобран с поразительным тактом: ночные, посвященные театру и смерти стихи Осипа Мандельштама «Чуть мерцает призрачная сцена» (1920) из сборника «Tristia» (Берлин, 1922). Парадоксален топос стихов. Холод и север традиционно ассоциируются с неподвижным и неприютным посмертием, а «легкий жар» юга — с движением, жизнью. Однако в стихах Мандельштама холод, его бодрящая статика связаны с настоящим, а средиземноморский «легкий жар» итальянской оперы с отошедшим в небытие, благодаря чему устанавливается связь с огненным Флегетоном, в то время как настоящее соотносится в худшем случае с порубежьем «здесь» и «там» — берегом ледяного Коцита. Петербург же, возникающий снова в стихах Мандельштама и кантате Дукельского, может быть понят как морок на Ахерусийских топях. Настоящее при этом принимается и оправдывается как естественное и богатое смыслами состояние близости к глубинным пластам памяти (к подсознанию, если хотите) — состояние, в котором лучше понимается будущее, обещающее, снимая прошлое, включить в себя некоторые его формы:
Третья строка приведена здесь в редакции Дукельского, лишний раз подчеркивающего связь приполярного холода и жизни; у Мандельштама «ибо в нем таинственно лепечет»[262].
По традиции «Чуть мерцает призрачная сцена» прочитывают как ламентацию о судьбе итальянской оперной певицы Бозио (1830–1859) — «бабочки», «розы», «голубки-Эвридики» (Мандельштам), умершей от простуды в холодном Петербурге (на такую связь указывал сам поэт), а также как проявление парадоксального отношения Мандельштама к новой России, мотивированного, очевидно, былыми эсеровскими симпатиями; не приемля «государственного социализма» (программа партии социалистов-революционеров считала его формой буржуазного контроля над личностью), поэт, как известно, был более всего признателен революции за то, что она «отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту…»[263]. Сходные чувства по отношению к революции испытывало, как мы видели, большинство евразийцев.
«Эпитафия» открывается сорокапятитактовым оркестровым вступлением: прием, уже знакомый нам по «Петербургу». Разные оркестровые группы создают полный музыкальный аналог атмосферы стихов: скорбный мотив появляется сначала у деревянных духовых, поддерживаемых группой струнных, порой звучащих в унисон, а иногда перехватывающих мотив у духовых. Помянутые у Мандельштама «арфы» отсутствуют в оркестре вовсе и заменены двумя гитарами и солирующим фортепиано, отчего сам «чужеземных арф родник» звенит холодно и сухо. Духовые (деревянные и медные), звучащие довольно жестко, как в «Симфонии псалмов» или в первой части «Конца Санкт-Петербурга», настойчиво повторяют изоморфные ритмические фигуры, очень напоминающие прием Стравинского — его безошибочно отличимую музыкальную «подпись». В средней же части кантаты гротесково-балаганная, отсылающая к «Петрушке» окраска проступает в соло трубы, воссоздающей атмосферу зимнего театрального разъезда: вслед за строкой у хора — «розу кутают в меха». В те же годы к сходным отсылкам к Стравинскому будет прибегать юный Шостакович[264]. Одновременно заметно движение от самых низких басов к предельно высокому регистру оркестра и поющих голосов: черта, считающаяся сугубо прокофьевской (в доступном мне дирижерском экземпляре партитуры многие такие очень высокие фрагменты в партиях обведены красным карандашом — Сергея Кусевицкого?). Однако и стравинскианские ритмические фигуры, и напоминающий Прокофьева диапазон предстают у Дукельского лишь позаимствованными составляющими его оригинального стиля[265]. В чем же проявляется свое, «дукельское» в этой довольно сдержанной «Эпитафии»? В первую очередь, в нарушениях ожидаемого и всевозможных смысловых и ритмических сдвигах, а также в гармоническом языке. На этом, собственно, и строится постоянное уловление слушателя в сети и обман его: привычная идиома звучит словно намеренно не так, и мы, сбитые с толку, начинаем понимать, что свое у Дукельского выявляется косвенно, по пунктиру этих обманутых звуковых (и словесных) ожиданий, и уже по-иному оцениваем слышимое — ища других «сбоев» и «сдвигов» как смыслового ключа.
Так, в музыкальной передаче русских поэтических текстов особое значение приобретают смещенные ударения, когда, как в соло сопрано в «Эпитафии», естественная (в уме исполнительницы и слушателей) схема ударений написанного акцентным стихом текста вступает в спор с системой «музыкальных акцентов», вызывая иллюзию замедления, трудности музыкального произношения (нечто сходное происходило в первой части «Конца Санкт-Петербурга»), Здесь Дукельский выдает себя как композитор, сознающий ломкость модернистского музыкального сознания (напомним, что отношение его к модернизму было крайне критическим), как художник, обращенный, вслед за Лурье и Стравинским, к более «устойчивым» досознательным пластам, как тот, кто понимает ненадежность доставшегося ему от предшественников гармонического (а также ритмического) языка. В центре его критики — концепция все той же «европоцентрической» музыки, какой она унаследована не только через критический модернизм Скрябина, но и через Стравинского, Прокофьева, изрядно потрудившихся над ее преодолением, но по-прежнему использующих «старые мехи» (хотя бы традиционные оркестр и темперацию инструментов) для вливания новых вин. Следующим логическим шагом должен бы явиться полный отказ от «старых мехов», переход к другой слуховой логике, к изменению перспективы слышания: Дукельский останавливается, этого шага не делая. Из «бывших русских» этот шаг совершит Игорь Маркевич — в своих «Полете Икара» (1932) и «Псалме» (1933), — за что вскоре и поплатится осознанием того, что музыку сочинять по-прежнему уже невозможно. Осознание этой невозможности приведет его к композиторской немоте. Дукельский же за пределы музыки, какой она ему была известна, не рвался. Иными словами, критика его имела свои пределы, смысл ее был в сохранении и утверждении всего эмоционально-органического, что существовало в современном ему музыкальном сознании.
Наиболее законченное воплощение его музыкальное видение — а о визуализации музыкального слуха Дукельского говорит многое, в том числе факт, что импульсом к оратории о Санкт-Петербурге послужил немой фильм, — обрело в концерте для женского голоса, фортепиано и большого оркестра «Посвящения» («Dédicaces») на слова Гийома Аполлинера, задуманном в 1934 г., вскоре после окончания первой редакции «Петербурга».
Состав исполнителей свидетельствует об остроте музыкального воображения и о некоторой потенциальной рапсодичности вещи. Однако в действительности голос (сопрано) звучит только в начале — эпиграфом и в самом конце — в качестве постскриптума к концерту. В рукописи концерт называется по-французски «Dédicaces» и по-русски «Посвящения»; первоначально он был посвящен Баланчину[266]. Дукельскому потребовался как минимум год, чтобы завершить «Dédicaces» вчерне (1934–1935), еще два года ушли на доработку и выверку оркестровки (1935–1937), последняя точка в которой была поставлена в ноябре 1937 г. (в 1965-м Дукельский, раздумывая над несостоявшимся исполнением всего цикла, внес в партитуру не очень значительную правку). Согласно титульному листу партитуры в «Посвящениях» четыре части: I. Вступление. II. Городу. III. Деревне. IV. Морю. Эпилог[267]. Трудный и, как сам это прекрасно понимал автор, неблагодарный для исполнительницы[268] ритмический рисунок Вступления (сопрано и оркестр) передает сбивчивую метрику отрывка из «Путешественника» Гийома Аполлинера (сборник «Алкоголи»), Привожу ниже русский перевод М. Кудинова, хотя он и требует существенных оговорок, — у Аполлинера в последней строфе отрывка речь все-таки идет о «широком и теневом потоке», над которым раздается голос «летаргического птаха».
Символика поэтического фрагмента очевидна: «кипарисы» (les cyprès) — деревья мертвых, «[эта] ночь» (cette nuit) — небытие, притом небытие «предосеннее» (au déclin d’été), покой переходящего в умирание существования. Столь же ясна и семантика использования женского голоса, который, судя по всему, и есть голос той «летаргической птицы» (un oiseau langoureux; по-французски она мужского рода) — души поэта, озирающей прошлое. Благодаря такому пониманию эпиграфа-вступления концерт предстает музыкальной медитацией на тему расставания голоса-души с собственным телесным (для музыканта прежде всего: инструментальным) опытом. Структурный прием «Dédicaces» — обрамление инструментального концерта пением скорбных французских стихов Аполлинера — как раз и должен свидетельствовать об этом.
Голос-душа у Дукельского уже готова отбросить инструментальную оболочку. Пространство «Посвящений» не рассчитано на простое эмоциональное вхождение — как не рассчитан на него опыт смерти: пусть даже смерти символической; нет в «Посвящениях» — вопреки специфике жанра — и настоящей рапсодичности, описательной широты. Дукельский специально настаивал на «неописательности» трех основных частей концерта. А ведь именно за такие инструментальные картины — бурной урбанистической («Городу») и буколической сельской («Деревне») жизни и изображение бесконтрольного выплеска водной стихии («Морю») — их хотела бы принять пришедшая зимой 1938/1939 г. на бостонскую и нью-йоркскую премьеры «Dédicaces» и явно сбитая с толку публика и музыкальная критика. Между тем и у Аполлинера, и у Дукельского речь идет о путешествии мифологическом, раскрывающем область досознательного, об инстинктивном переживании пути как временного (пространство у обоих лишь функция времени) расставания с прошлым опытом. В отклике на нью-йоркскую премьеру «Посвящений» Эллиотт Картер находил, что за тканью как оратории, так и концерта проступает «удивительная, измученная личность» автора[270].
Высокая степень имперсональности, апсихологизм (как у Лурье) и окончательность разрыва с оставляемой за океаном традицией и своим прежним «я» (как у Стравинского послерусского периода) характеризуют эту последнюю часть музыкальной трилогии. Если Concerto Spirituale и отчасти «Симфония псалмов» апеллируют к музыкальным образам огня, то ключевые образы у Дукельского — водного потока (замедленно текущей реки, ее каналов и паров в «Конце Санкт-Петербурга», снега в «Эпитафии», Леты и Океана в «Посвящениях») и стоящего на его берегу человека. Можно сказать, что музыкальный миф о разделительном потоке — альтернативе европо-азийской континентальности — ключевой для Дукельского. Он нашел себе место и в популярных его композициях, подписанных именем Вернона Дюка; достаточно назвать одну из лучших песен Дюка «Вода под мостом» («Wfrter Under the Bridge», 1933), в которой движущийся поток олицетворяет собой вечно изменчивую подоснову жизни: настоящее, всегда превращающееся в прошлое, и невозможность овладеть им целиком и восстановить в чистоте циклический оборот событий и чувств. Здесь «Вернон Дюк» оказывается лишь видоизменением, мутацией Владимира Дукельского. В целом музыка Дукельского гораздо более отвечает диалектической трансценденции трех элементов музыкально-революционной тетрактиды, чем сочинения Лурье, яснее воплощающие связь и взаимное противоборство этих составляющих. Трилогия стоит ближе к намеченному Лурье идеалу антимодернистической музыки и даже, можно сказать, доводит до логического завершения собственно евразийское уклонение в музыке. Последующие «советские» сочинения Прокофьева, знакомого со всеми частями трилогии, будут уже выполнять роль постскриптума к музыкальному евразийству. Как и экстремальные — для своего времени — опыты со звуковой перспективой у Маркевича. Однако и сам Дукельский написал к евразийству своеобразный постскриптум — правда, уже в качестве Вернона Дюка, американца.
Дягилев всячески осуждал экскурсы Дукельского в область «легкой музыки». В письме от 30 марта 1926 г. к английскому музыкальному импресарио Чарльзу Кохрану, с которым они разделяли сферы влияния (Дягилеву в Европе принадлежал экспериментальный музыкальный театр, Кохрану — развлекательный), директор Русских балетов писал: «Позвольте мне очень дружески прибавить, что я в целом весьма сожалею о манере, в которой Вы эксплуатируете русских артистов, открытых и воспитанных мною: Дукельский, пишущий дурные фокстроты для оперетт, не исполняет того, что он предназначен исполнить…» (в оригинале по-французски). На что не желавший конфликта Кохран отвечал 12 апреля 1926 г. (по-английски): «Принимаю, со всею скромностью, Вашу критику на предмет манеры, в которой я эксплуатировал некоторых из артистов, имевших честь быть открытыми и развитыми Вами»[271], — и продолжил успешную «эксплуатацию» Дукельского. Прокофьев же выражался по поводу популярной музыки младшего товарища гораздо резче: для него все, чего Дукельский в ней добился, было лишь «проституционными» успехами[272], «подрабатываньем передком»[273]. Хотя неясно, чего в такой оценке присутствовало больше: подлинного эстетического отторжения или досады, что у него самого, как и у Стравинского, писать по-настоящему популярную музыку тогда не выходило. Несмотря на все попытки со стороны их обоих сочинять джаз, а со стороны Прокофьева, в конце 1930-х годов даже выучившегося танцевать под него[274], всерьез обсуждать джаз в советской печати[275], из всех русских композиторов подлинный джаз, притом принятый там, где он зародился, в Америке, за свою, американскую музыку, сочинял только Дукельский. Писал он его, правда, под именем своего бродвейского и голливудского двойника «Вернона Дюка», которое путем усечения и нехитрого превращения Владимира в Вернона придумал для него Джордж Гершвин (тоже имя выдуманное, подлинное — Джейкоб Гершович). Более того, Прокофьев наиболее успешных бродвейских партитур Вернона Дюка — музыки к шоу «Ziegfeld Follies 1936 (Безумства Зигфельда 1936)» (1935) и комедии «Cabin in the Sky (Хижина в небе, или, как сам композитор переводил ее название: Домик в небесах)» (1939) — не знал, а Дягилев до них не дожил. Те из уроженцев России, кто, подобно балетмейстеру Георгию Баланчину или художнику Борису Аронсону, с бродвейской и вообще «легкой» музыкой Дукельского были знакомы, считали совместную с ним работу за большую удачу. Например, Баланчин поставил в конце 1930-х — начале 1940-х на музыку Дюка-Дукельского 11 балетов: от коротких номеров до спектаклей, длящихся весь вечер, включая и два кинобалета — пародийные «Ромео и Джульетту» и «Водяную нимфу» (оба в 1937 г.)[276]. Вот их-то Прокофьев и видел в последний свой приезд в США в 1938 г.[277], что, насколько можно судить, сильно смягчило его отношение к экскурсам друга в область популярного искусства. А если прибавить к списку совместных работ Дукельского и Баланчина так никогда и не доведенный до сцены серьезный балет «Антракт» (1938), то число их совместных работ достигает дюжины! Желал сотрудничества с Верноном Дюком и Сальвадор Дали: сохранился написанный им сценарий неосуществленного сюрреалистического мюзикла «Облака», музыку к которому должен был сочинять Дюк-Дукельский, диалоги — Джон Лятуш, а хореографом предполагался снова Баланчин[278]. Вместо мюзикла Дукельский сочинил полупародийную «Сюрреалистическую сюиту» для фортепиано (1939), а Дали создал серию изобразительных вариаций на темы столь занимавших его «Облаков» — на том замысел и исчерпался, увы. Кроме того, не следует забывать, что сам Дукельский резко, почти по-манихейски разграничивал собственную русскую, серьезно-народническую по интенциям, и американскую, массовую (но здесь все тоже было не так просто), ипостаси, продолжая вплоть до конца 1930-х говорить, что самое главное для него самого — карьера русского композитора. Однокашник Прокофьева по Петербургской консерватории композитор, критик и собиратель еврейского фольклора Лазарь Саминский считал такое творческое сосуществование двух «я» внутри одного композитора ненормальным, происходящим от «основательного надлома в глубочайшем углу творческого существа, от недостатка целостности или единства, а не от одной только слабости к благам мира сего»[279]. Саминскому предпочтительнее был Дукельский — русский композитор, «натура прекрасно одаренная, глубоко умная и привлекательная», подтверждение чему он находил на страницах высоко ценимого им «Конца Санкт-Петербурга»[280]. Любя, порой через меру, дразнить гусей, наш композитор как-то, с подачи Баланчина, зазвал своих нью-йоркских коллег на прием, посвященный «Владимиру Дукельскому, эсквайру»[281]. «Гордость моя была уязвлена, — вспоминал он о неудавшейся шутке, — когда большинство моих гостей пожелало знать, кем, черт побери, был этот Дукельский; двое же или трое присутствовавших дукельскианцев выразили полную неосведомленность о том, кем был Дюк…»[282] Более того, Дукельский пытался контрабандой протащить элементы дукельской эстетики в творчество Вернона Дюка. Именно об этом и пойдет речь в дальнейшем.
В дополнение к выявлению русской и даже идеологически близкой евразийцам подосновы у Дюка я постараюсь ниже доказать и то, что, вопреки ригоризму таких судей, как Прокофьев и Саминский, периодические превращения Дукельского в Вернона Дюка совсем не вредили композитору, а даже делали его идеологичнее и прямее.
Начнем с того, что сам Дукельский больше всего ценил в джазе не фольклорно-импровизационный, а необычный для русского и западноевропейского уха гармонический и интонационный элемент и «расслабленную» (relaxed по-английски) манеру исполнения. Джаз ночных клубов Нового Орлеана привлекал Дукельского меньше, чем приспособление его для нужд профессиональной сцены и смешанных вкусов не на одном только джазе возросшей аудитории[283]. Известное нам суждение о джазе Прокофьева, кажется, лишь повторяет мнение, услышанное от младшего друга. По возвращении из заграничной поездки 1938 г. Прокофьев говорил московским коллегам, что
джаз, в сущности, мало связан с подлинной народной музыкой, но представляет собой синтез крепких и своеобразных негритянских ритмов и англосаксонских мелодий и главным образом шотландских интонаций. Если этот синтез органичен и достигает полной выразительности, то разрываются, в сущности, узкие рамки джаза[284].
Когда Дукельский, его приятель поэт-песенник и либреттист Джон Лятуш (несмотря на французскую фамилию — уроженец американского Юга) и двое выходцев из России — киевлянин художник Борис Аронсон и петербуржец Георгий Баланчин, в конце 1930-х — начале 1940-х неизменный, как мы знаем, сотрудник Дукельского, решили создать негритянскую музыкальную комедию (к ним присоединилась в качестве костюмерши еще одна русская — легендарная Варвара Каринская[285]), то многих сложностей, которые испытывали бы при этом белые американцы, для них не существовало.
Начнем с того, что негритянская община США до сих пор, вопреки сильной моде на «чернокожий» тип одежды и музыку, не включена в мейнстрим американской жизни. Еще справедливее это было д ля 1930-х, когда неф всячески экзотизировался белым большинством, особенно его либеральной верхушкой, совсем как рабы-пейзане у просвещенных русских бар XIX в. Стереотипом был поющий — то псалмы, а то зажигательные песенки, — импровизирующий джаз и радостно живущий в нищете этакий современный «дядя Том» (образ, который афроамериканцы ненавидят). Способствовал укреплению стереотипа и успешный экспорт поющих и танцующих негров в Западную Европу — от всевозможных «джазовых деток (Jazz Babies)» до Джозефины Бейкер, настолько офранцузившейся в Париже, что и по-английски-то потом говорившей с трудом. Кстати, Дюк и Баланчин в свое время создали для специально ради того выписанной из Парижа Бейкер один из лучших своих совместных номеров — сюрреалистический балет с пением «Махарани» (он появился в бродвейском ревю «Безумства Зигфельда 1936»), До «Cabin in the Sky» Дюка — Лятуша — Баланчина — Аронсона музыкальные комедии, посвященные негритянской жизни, отличались сентиментальностью и часто нестерпимой фальшью, а чернокожих в них нередко играли белые актеры, говорившие не на литературном английском, а на утрированном диалекте. И это при том, что не очень далеко от Бродвея, на том же Манхэттене, располагался Гарлем с великолепными ночными клубами и кипевшей в 1920–1930-е годы музыкальной жизнью. Типичным примером такого снисходительно-слащавого сентиментализма могут служить «Зеленые пастбища» («The Green Pastures», 1930) Марка Коннелли, вдохновленные книжкой «Ol’ Man Adam An’ His Chillun», название которой, очевидно, следует переводить на русский как «Старена Одам и йиво детки» (теперь русскому читателю легко представить, какое впечатление на афроамериканца производит такая, с позволения сказать, орфография). Лятуш, как южанин, знавший негритянскую жизнь не понаслышке, едва ли мог симпатизировать подобному маскараду. Что же до трех остальных участников проекта, то Дукельский, Аронсон и Баланчин, будучи пришлецами в Новом Свете, барственно-сентиментального умиления по отношению к чернокожим не испытывали. Более того, исходя из собственного психологического опыта, они могли легче ассоциировать себя с негритянским меньшинством, чем с живущими по психологически совершенно другим законам потомками белых европейцев. Идея спасения через индивидуальное богатство и эгоистически-соревновательный труд, составляющая основу американского милленаризма, до сих пор так и не прижилась в негритянской общине США, существующей во многом в коллективистском социуме. Общими там являются набор жестких правил, трактуемых остальным населением страны как достойные сожаления «нежелание растворяться» и «асоциальность» (ср. выше то, что Стравинский говорил о якобы «варварстве» «носителей культуры другой концепции, чем наша»[286]), экономический уровень — определяемый идеологом левого белого либерализма, видным членом демократической партии Гэлбрэйтом как «островная нищета» в богатейшем обществе (Гэлбрэйт считает, что здесь проблема скорее психологическая, и с ним трудно спорить), а также солидарность афроамериканцев против внешнего вторжения в их жизнь, при том, что подлинного единства внутри их общины нет. Говорю это как человек, несколько лет преподававший по вечерам в «черных» районах американских городов вузовские гуманитарные классы для работающих студентов, знающий их проблемы из первых уст и обязанный на ходу решать их (такого опыта у большинства известных мне коллег-преподавателей попросту нет; объяснять Софокла, Кольриджа и Стравинского афроамериканской аудитории им не приходилось). Сходным с «черной общиной» образом, заметим, устроен любой эмигрантский социум, а афроамериканцы намеренно ведут себя как эмигранты в родной стране, ибо слишком многое их там не устраивает. Более того, будучи натурами творческими, Дукельский-Дюк, Аронсон и Баланчин были самим характером своего труда ориентированы на сотрудничество — со зрителями, актерами, музыкантами, на неизбежный коллективизм, оказываясь кем-то вроде «белых негров» (выражение, которое Дукельский использовал часто по отношению к старшему товарищу — Прокофьеву[287]).
С самого начала они решили работать только с чернокожими актерами, а на главную роль Петунии была приглашена великая Этель Уотерс. Этнографический элемент в музыке, сценическом оформлении, танцах был отвергнут. Причастность к музыкальному евразийству очень помогла Дукельскому: его «чернокожая» музыка — столь же результат творческого переосмысливания джаза и спиричуэле (подобно тому как Стравинский переосмыслил и переконструировал русский крестьянский фольклор в «Свадебке»), сколь и лишена экзотики, неизбежной до того в бродвейском представлении негритянской жизни. Композитор вспоминал, что, хотя либретто Линна Рута сразу увлекло его и Баланчина (характерно, что негритянская труппа отнеслась к либретто очень сдержанно: чужие пишут о нас) «ровно настолько, насколько я восхищался негритянской расой и ее музыкальной одаренностью, я не ощущал себя достаточно музыкально приспособленным к негритянскому фольклору»[288]. Путешествие с Лятушем на побережье Виргинии в поисках нужного фольклорного материала завершилось неизбежными на Юге США неумеренными едой и возлияниями и характерным решением: «Напичканные южными разговорами и негритянскими спиричуэле, мы решили держаться в стороне от педантической подлинности и сочинять „цветные“ песни в собственном ключе»[289]. Аронсон тоже пошел по пути не стилизации, а работы с красками и формами, усвоенному за годы сотрудничества с русским конструктивистским и экспериментальным еврейским театром. Сами костюмы, как уже говорилось, были элегантно пошиты Варварой Каринской, в прошлом, как и Дукельский с Баланчиным, сотрудницей Дягилева. А Баланчин продолжил разрабатывать технику «современных танцев», соединявших классический балет с неклассическими методами, — на этот раз вместе с танцовщиками труппы Кэтрин Данэм, классического балетного образования не имевшими, но зато виртуозно исполнявшими танцы негритянские. Известно, что Баланчин предоставил труппе Данэм немалую свободу (некоторые источники указывают на то, что хореография наполовину, если не больше, принадлежала самой Данэм[290]), оставив за собой общую режиссуру. Современники вспоминают о горячих словесных перепалках — по-русски — между композитором, балетмейстером-постановщиком и художником-сценографом, вполне привычных для тех, кто представляет, как у русских происходит совместная работа, и вызывавших любопытство у негритянской труппы. «Некоторые участники труппы, — свидетельствовал Дукельский, — были настолько встревожены нашими тарабарскими речами, что всерьез подумывали об уроках русского, чтобы принимать и самим участие в перепалках»[291]. Результатом стала самая успешная бродвейская постановка Баланчина и Дюка и один из наиболее запоминающихся спектаклей Этель Уотерс.
В 1942 г., когда Дукельский был призван в армию, режиссер Винченте Минелли превратил, с рядом изменений, музыкальную комедию в фильм, благодаря чему игра Уотерс в основных моментах зафиксирована на кинопленке, однако голливудский вариант далек от соответствия бродвейскому оригиналу: в нем много новой музыки, дописанной, за отсутствием композитора, другими, — притом музыки не всегда высокого качества. Не осталось и следа от удивительной сценографии Аронсона и костюмов Каринской, а танцы ставили уже не Баланчин с Данэм. Однако и в сильно модифицированной форме «Хижина в небе» встретила враждебность на расово расколотом Юге, так что федеральному правительству пришлось силой обеспечивать прокат фильма.
По сюжету своему «Хижина в небе» — типичная моралите. Герой, слабовольный и добрый «маленький Джо», подвергается испытанию азартными играми и чарами сильной и независимой Джорджии Браун (роль без пения), которой противостоит не менее внутренно сильная его жена Петуния Джексон (на роль которой и была приглашена Уотерс); борьба за душу «маленького Джо» происходит и между воплощениями противоположных начал — Генералом Господа и Люцифером-младшим; фоном борьбы и соблазнения служат массовые сцены, видения, хоры; в конце концов Джо и Петуния гибнут в игорном притоне, застреленные ревнивым обожателем Джорджии Браун (той самой, что уже успела соблазнить Джо), но души их допущены в рай. Строго говоря, сходный сюжет — испытание, измена, неизбежная гибель, моральное спасение — уже был в опере близкого друга Дукельского Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», однако Гершвин шел от популярной музыки к «высоколобому» искусству, привнося в него прежде невозможные элементы — чего стоят оркестровка и джазовые фуги в его опере! Дукельский же, превращаясь в Дюка, совершает обратный путь: привнося взятые у классической музыки элементы в музыкальную комедию[292].
Критика оценила достигнутый результат чрезвычайно высоко. Влиятельный Брукс Аткинсон опубликовал 3 ноября 1940 г. в «The New York Times» рецензию под характерным заголовком «Прочь с проторенного пути — мюзикл, в котором появляется Этель Уотерс», где утверждал, что
это лучший негритянский мюзикл, который припоминает автор настоящей колонки, на равных с любым из мюзиклов последних лет. <…>
Вернон Дюк написал бурную партитуру, а Джон Лятуш подобрал к ней нравоучительные слова. Что же до сценографии и костюмов, то Борис Аронсон как художник устроил праздник в окружении радующих форм и живых красок. Танцы, поставленные Джорджем Баланчиным, потрясающи; в них стиль и ярость, превосходящие другие бродвейские шоу сезона. «Хижина в небе» наполнена жизнью и юмором. Хоть раз осуществлено нечто творческое!
И лишь рецензент «Modern Music» и композитор консервативного направления Сэмюэль Л. М. Барлоу, в прошлом сотрудник Дукельского по камерным «Высоко-низколобым концертам» (High Low Concerts, 1938), на которых звучала новейшая русская и американская серьезная музыка вперемежку с первоклассным джазом, написал об успехе «Хижины в небе» в тоне недружественном, а местами и озлобленном[293]. Поскольку тон этот вскоре станет тоном американской музыкальной критики по отношению как к бродвейской продукции Дюка, так и к новым премьерам Дукельского, то стоит процитировать пассаж целиком:
…Второсортной была в очень успешной «Хижине в небе» партитура Вернона Дюка. Редко случались постановки с таким видимым несоответствием. Акт I пьесы Линна Рута — на пятерку. Декорации Аронсона, костюмы, пьеса, тексты песен, направление — все слилось в злобной и восхитительной буффонаде: одной ногой в Гарлеме, другой в раю. Есть стиль и движение. С Актом II начинается ужас сползания с четверки на тройку. Сюжет становится водевильным; то, что было прямолинейным, превращается в похоть; стиль становится вульгарным. Но даже и так сдержанное величие Этель Уотерс и Дули Уилсона дотягивает вечер до конца. А что странно и мучительно, так это то, что музыка г-на Дюка никогда не достигает фантастического, жалостливого и наивного качества первой части, если мы выделим либретто. Либретто — правильное расовое либретто, в нем есть расовая концепция. В музыке же видна старая добрая славянская раса. Поскребите г-на Дукельского, и вы уж точно не найдете в нем африканца. Раз или два, как в «Dem Bones», есть переход от осьмушки негритянской крови к более [расовым] чистым чертам. Есть хорошие, свежие танцы; но должно заметить, что танец, получивший больше всего аплодисментов, был маленьким шарканьем, со смазанной и стыдливой веселостью исполненным Петунией и Маленьким Джо в начале II акта. Возвращаюсь к г-ну Дюку: мое разочарование есть, в конце концов, комплимент: мы-то знаем, как он может отлично работать[294].
И это все, что рецензент может сказать о самой успешной, даже считающейся ныне классической бродвейской партитуре композитора. Перед нами образец идеологической критики, ставящей во главу угла «этнос», или, как говорили в Европе и Америке в нежные до- и раннегитлеровские времена, «расу», т. е. попросту этнографический подход, до боли в зубах знакомый Дукельскому по линии «академического национализма», с которым русские парижане расквитались еще лет за двадцать — двадцать пять до того. Именно на основе этой расовой чуждости и отвергается партитура «Хижины в небе». Но музыкальная идиома «Хижины» — определенно джазовая, и как таковая она не может быть идиомой славянской, или «русской», что точнее, ибо никакой единой славянской идиомы в музыке нет. Эта идиома и не чисто африканская, конечно, ибо джаз компромиссен и представляет собой адаптацию африканского ритмо-инструментального наследия ко вкусам неафриканской аудитории. Будучи компромиссной, идиома «Хижины в небе» — вполне американская, и это больше всего и злит Барлоу, готового приписать успех спектакля чему угодно, но не музыке. По убеждению Барлоу, Дукельскому, уже утвердившему себя в своей расовой («славянской») музыкальной идиоме, не место в другой расовой идиоме (афро-американской). А слова об «ужасе сползания с четверки на тройку» в музыке второго акта комедии выдают музыкальную глухоту Барлоу, который в состоянии похвалить только «маленькое шарканье» в «In my old Virginia home». В действительности второй акт мелодически и вообще музыкально богаче первого. Что ни номер, то маленький шедевр: «Love me tomorrow», печальный, как и положено, блюз «Love turned the light out», саркастические джазовые куплеты «Honey in the honeycomb» и, наконец, обязательная в большинстве серьезных и популярных партитур Дукельского-Дюка иберийская либо, как в данном случае, латиноамериканская стилизация — зажигательная «Саванна». Латинскую кровь Дукельский унаследовал от бабушки по материнской линии (прямо скажем, для уроженца России случай нечастый) и потому считал весь испаноязычный мир себе не чуждым.
Конечно, в статье Барлоу можно усмотреть определенный изоляционизм, распространившийся по Америке в начале 1941 г. накануне неизбежного вступления в войну, перешедший в последующие годы в то, что Дукельский назовет в своем последнем письме к Прокофьеву «определенным шовинизмом <…> — особенно в творческой сфере»[295]. Но для нас важны не исторический момент и вызываемые им преходящие эмоции, а установки критика. Его, разумеется, больше всего задело, что у Дукельского-Дюка имеют место не стилизация негритянской музыки, а ее переизобретение (аналог метода Стравинского по отношению к восточнославянскому фольклору в «Свадебке»), торжество ритуальных моделей (и ритуальных форм) над индивидуалистическим самовыражением, нерепродуцируемая изощренность ритмического и гармонического языка (заметные и в другой бродвейской музыке Дюка 1930-х), делающие «Хижину в небе» отнюдь не продуктом для масс, и даже больше — требующие от слушателя «подтягивания» до предлагаемого уровня и т. д. Понятно, что композитор не пошел бы на это, не будь у него за плечами опыта участия в музыкальном проекте евразийцев. Решения, предложенные Дюком для американской популярной музыки, опережали восприятие местной критики и вообще тех, кто устанавливает неписаную табель о рангах, — но не публики! — лет на пятнадцать — двадцать. Заметим, что такое же отставание окружающих коллег от собственных внутренних часов ощущал в СССР Прокофьев. Это потом станет не только нормальным, но даже престижным уметь писать в Америке и музыку для знатоков, и музыку популярную, добиваться успеха и в Карнеги-холле, и на Бродвее, и в Голливуде (как добивались его Дюк и Дукельский). Никто не удивляется, что Бернстайн был автором симфоний, балетов и «Вестсайдской истории»; еще меньше удивления вызывает сознательная установка одновременно на серьезного знатока и неподготовленного слушателя у американских минималистов. Но Дюк-Дукельский был первым, кто пересекал границы жанров и стилей, полностью реализуя себя как «crossover composer», и причастность новаторским установкам русско-парижской группы эстетически играла тут самую существенную роль. Сейчас принято сокрушаться, почему так сложилась его композиторская судьба, почему те, кто, очевидно, обладал меньшим талантом, вошли в фавор у историков музыки и ее исполнителей, и сетовать на различные внешние причины: трудный характер композитора, неумение бесстыдно пропагандировать себя в серьезной или популярной ипостасях, недостаточную радикальность (в приемлемо-безопасном, лабораторно-экспериментальном ключе) либо, напротив, недостаточную консервативность, неукорененность в одной традиции только. Но Дукельский, даже становясь Дюком, оставался сыном определенной традиции, которой и посвящена вся эта книга. Судьба его сложилась так потому, что он был первым. Она могла сложиться и намного хуже.
Представим на минуту, что Дукельский, чья «серьезная» музыка, пусть и не достигая статуса музыки Стравинского и Прокофьева, всегда исполнялась лучшими дирижерами (такими как, например, Кусевицкий), а балеты ставились у Дягилева, де Базиля, Ролана Пти, чья музыка популярная, пусть и не превосходя в сознании американцев музыки Гершвина (ибо, чтобы стать до конца своим, нужно вырасти в стране), была на слуху, тиражировалась миллионами грампластинок, — решил последовать влечению сердца и вернулся, как его звал Прокофьев, в Россию. Ведь в 1946 г. он, уже американский гражданин, получил официальное приглашение «лететь в Москву» с заманчивыми и одновременно стандартными гарантиями квартиры, дачи, издания всех сочинений, финансовой поддержки (гарантиями, не представимыми в США или Западной Европе даже у самого успешного композитора)[296]. Как бы сложилась его жизнь тогда и о чем пришлось бы сейчас сетовать? Уж точно не об отсутствии полного понимания у современников. Благоразумный Дукельский предпочел остаться в Америке, хотя то, что ему предлагали, по словам его вдовы, певицы Кэй Дюк Ингаллс, было «очень ему интересно». «Ну, мог бы он позволить себе в СССР говорить об официальных композиторах то, что он говорил и печатал в Америке про Копленда и Стравинского? — риторически спрашивала в беседе со мной, вспоминая Дукельского, пианистка Натали Мейнард-Рышна и прибавляла от себя: — Ему бы моментально заткнули рот». А как — мы можем легко себе представить.
6. «Советский» Прокофьев:
диалог со Стравинским и Дукельским (1936–1939)
Где же все-таки пролегает граница между Прокофьевым — русским парижанином и Прокофьевым — членом Союза советских композиторов? Есть ли стилистическая разница между написанным за рубежом (1918 — первая половина 1930-х) и по возвращении в Россию (начиная с середины 1930-х)? Резкой разницы, вплоть до осуществленного Ждановым в 1948 г. погрома и — в качестве последнего предупреждения композитору — ареста Лины Прокофьевой, матери его детей[297], — нет. Прокофьев остается вплоть до описанных событий, которые могли подавить человека даже такого исключительного самостояния, как он, все тем же цельным и прямолинейным художником и личностью. Жившие за пределами СССР друзья и коллеги никогда не забывали о том, с чем Прокофьеву приходилось сталкиваться каждый день. По некоторым свидетельствам, Дукельский в 1940–1950-е годы по одному ему ведомым каналам (предполагаю, через контакты Лины Прокофьевой с западными посольствами в Москве) получал достоверные сведения о старшем друге: американская пианистка Натали Мейнард-Рышна прекрасно запомнила, как подавлен был Дукельский, узнав о кровоизлиянии в мозг, случившемся у Прокофьева при падении в начале 1945 г. Он определенно решил, что падение было подстроено[298]: не исключаю, что таковым было и мнение Л. И. Прокофьевой. В опубликованных в 1955 г. англоязычных воспоминаниях Дукельский (теперь уже Вернон Дюк) признавался: «Я думал о недипломатичном, неуступчивом Прокофьеве <…> в своей „социалистической“ земле обетованной, и сердце мое обливалось кровью»[299]. Неизменно же восхищавшийся Прокофьевым Николай Набоков, политически, как мы знаем, придерживавшийся левых убеждений[300], вообще с трудом мог уразуметь, каково может быть место у художника склада Прокофьева в сталинском СССР: «Ибо в глазах тех, кто правит сейчас [в начале 1950-х. — И. В.] судьбами народов России, он символизирует ее былую связь с современной культурой западного мира, с его великой освободительной традицией и духом интеллектуальной и художественной свободы»[301]. При этом от прошлого своего Прокофьев в 1930–1940-е годы не отказывался, и комплексов неполноценности по отношению к «пройденным этапам» у него, в противоположность Стравинскому, не было.
Заведовавший в 1930-е кафедрой композиции в Московской консерватории молодой тогда еще Генрих Литинский рисует характерный образ Прокофьева во время его первых консерваторских семинаров:
Прокофьев как человек был полная противоположность Мясковскому[, также преподававшему композицию в консерватории. — И. В.]. Этот был сфинкс. А Прокофьев очень открытый, прямой человек. <…> Педагогическая работа у Сергея Сергеевича как-то не клеилась. У него был критерий: «Это в Париже не понравится!» Студенты приходили ко мне жаловаться: «Генрих Ильич, что ж он все время говорит: „В Париже не понравится“». Я им сразу: «Если хотите, я вас в другой класс переведу». Но уходить от Прокофьева никто не хотел[302].
Чтение собранных и откомментированных Виктором Варунцом интервью, заметок и выступлений Прокофьева, помеченных серединой — концом 1930-х[303], подтверждает, что композитор неуклонно говорил то же самое как в СССР, так и коллегам вне страны (это зафиксировано в их воспоминаниях, в письмах к ним Прокофьева)[304]. Есть и прямые совпадения с платформой, на которой в своей евразийской ипостаси стояли Сувчинский, Дукельский и молодой Стравинский, а также с эстетическими суждениями позднего Дягилева. И хотя Прокофьев впускает в свой язык некоторую советскую лексику, меньше всего такая позиция «советская» (если в случае Прокофьева это слово вообще что-либо значит), и уж соцреализма в исконном, сталинском смысле — как стремления к искусству, национальному по форме и социалистическому по содержанию[305], — у Прокофьева не найти точно. Исключительность ситуации заключается и в положении Прокофьева: он не просто «представитель», но фактически лидер (после отхода Стравинского на неоклассические позиции) всей парижской группы, оказавшийся теперь в совершенно отличном от того, в каком действовали остальные парижане, контексте. Новая музыкальная форма, по Прокофьеву, должна быть включенной в диалог как с коллегами в Западной Европе и Америке, так и со всеми, кто впервые знакомится с «большой музыкой», и, живя долгие годы внутри СССР, привык только к «музыке массовой»[306]. Должна она быть и проективной, устремленной к подлинно ощутительной, при таком взгляде на вещи, категории будущего. Здесь намечается некоторое расхождение с ратовавшими за современность Стравинским, Сувчинским и Дукельским, однако тут же оно и снимается аргументацией Прокофьева. Если Россия действительно Новый Запад, то категория будущего оказывается в ней снятой, перемещенной в современность. В ноябре 1934 г. Прокофьев обращается к широкому читателю со страниц «Известий»:
Музыку прежде всего надо писать большую, то есть такую, где и замысел и техническое исполнение соответствовали бы размаху эпохи. Такая музыка должна прежде всего двигать нас самих по путям дальнейшего развития музыкальных форм: она и за границей покажет наше подлинное лицо. Опасность опровинциалиться для современных советских композиторов, к сожалению, очень реальна[307].
Подлинно национальное в его понимании — это продолжение линии «парижской группы», все еще пребывающей под некоторым подозрением в музыкальных кругах СССР, а социалистическое — в первую очередь, преодолевающее индивидуализм дореволюционной академической и современной ему австро-немецкой «прогрессивной» эстетики. «Да, я много бывал на Западе, — подчеркивает Прокофьев 9 апреля 1937 г. на собрании актива Союза советских композиторов, — но это не значит, что я сделался „западником“. Ведь не „западники“ же наши инженеры, или Форд, вывезенный в Советский Союз…»[308] И следом за этим: «О некоторых молодых композиторах говорят: „симфония написана в лучших классических образцах…“ Осторожно, они лишь ученики! <…> Политически мы не только современны, но мы — страна-будущее…»[309] И даже, в духе произносимых вокруг него оценочных лозунгов: «Преступно давать музычку!»[310] Последняя мысль (хватит «музычки»!) — общая для тех, кто сотрудничал с Дягилевым в конце 1920-х[311], — настойчиво повторяется Прокофьевым вплоть до весны 1940 г., несмотря на то что старые коллеги один за другим публично отрекаются, как Асафьев в мае 1936-го, от эстетического критерия, от «привычки оценивать музыку только по верстовым столбам — по великим произведениям» и капитулируют перед «массовой социалистической культурой»[312]. Для Прокофьева массовая культура и производимая ею «музычка» остаются равно неприемлемыми — независимо от того, идет ли речь о «социалистическом» СССР, «буржуазной» Западной Европе или США, двигающихся в годы «нового договора» по третьему пути. И никакие слова о «рождаемом массами новом мире» (Асафьев)[313] заставить его поменять позицию не могут. В конце прокофьевского «Приветствия радио» (18 марта 1940) читаем: «Радиокомитету не стоит настаивать на этих „музычках“ под предлогом, что они имеют успех. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет, так как они не развивают, а только портят вкус»[314]. В ответе на первомайскую анкету «Правды» Прокофьев снова повторяет культуроцентрическую (культура творит нацию, а не народные массы культуру) и народническую (Прокофьев говорит о народных массах), по-прежнему обращенную в будущее позицию:
Я мечтаю, что музыка еще шире охватит народные массы, что композиторы в своем творчестве будут смелее и что пошлая музыка [, которой так много сейчас, — зачеркнуто Прокофьевым. — И. В.] перестанет отравлять вкус советских граждан.
(Ответ помечен 27 апреля 1940 г.)[315]
Беда, по Прокофьеву, заключается в том, что он находит пресловутую музычку в избытке даже у самых талантливых советских коллег. Вот дневниковая запись от 23–27 апреля 1933 г.:
…Сюита из «Болта» Шостаковича: блестяще поднесенная пошлятина, будто «карикатура на пошлятину», словом, то что меня уже десять лет возмущает в Париже («Голубой поезд» Мийо, Пуленк, Согэ, Орик). Ансерме сказал: это бы в парижскую «Серенаду».
Двадцать четвертого камерный концерт, в котором Шостакович играл 24 Прелюдии, тоже подражание всем стилям и ни одного своего приема. Вообще же занятно и хорошо поднесено, и как раз поэтому досадно, что в корне такая ерунда. Передовой советский композитор пишет типичную упадническую музыку «гнилого Запада» ПРОКОФЬЕВ 2002, II: 827..
Другой особенностью Прокофьева было органическое неумение смешиваться с толпой. Ему везло: в момент первой советской кампании «против формализма» в музыке, жертвой которой стал Шостакович, Прокофьев находился в длительной гастрольной поездке по Западной Европе и Северной Африке. Это был момент когда сломался и отрекся от веры в не зависимого от мнения большинства художника-гения даже прежний союзник Асафьев[316] Мясковский, меланхолично сообщал Прокофьеву за рубеж о «наделавших шума статьях в „Правде“ о Шостаковиче» и характеризовал положение в музыкально-издательском мире как «хуже быть едва ли может» (из письма от 20 февраля 1936 г.)[317]. Когда же в 1939 г. потребовалось сказать слова в поддержку Шостаковича, Прокофьев завел речь не о музыке — тут отношение часто бывало, как мы видим, критическим, — а о человеческом облике коллеги: «Очень неплохо о нем поговорить, прежде всего потому, что у него нет стадного начала, которое, к сожалению, имеется у большинства наших молодых композиторов»[318]. Наделенный исключительным даром слова[319], Прокофьев был на редкость спор и часто убийствен в характеристиках окружающих. Такое острословие, разумеется, не прибавляло ему друзей, в том числе и среди тех, кто был связан с ним общей музыкальной работой и мог бы рассчитывать на большую терпимость и солидарность. Отношения композитора с Лурье, Стравинским и Маркевичем особенной сердечностью не отличались, и едва ли только по вине последних. «Та сволочь, которую Вы так куртуазно называете Артуром Сергеевичем», — пишет он, узнав о переселении Лурье на Запад, Мясковскому 6 февраля 1923 г., ибо винит Лурье, как бывшего главу МУЗО Наркомпроса, в гибели части собственных рукописей, оставленных в 1918 г. в Петрограде[320]. А в 1929 г. с гордостью записывает в Дневнике, что повел себя с ним, после похвал собственному «Блудному сыну», отчужденно и таким образом сорвал написание Лурье статьи о балете для «Евразии»: «Пусть на первое время останется с похвалой внутри себя»[321]. А жаль! Стравинский, явно ревнуя к успехам Прокофьева, внешне выказывает знаки дружбы, за глаза же говорит совсем другое; Прокофьев в долгу не остается. Характерный эпизод: Стравинский, начав выступать в качестве концертирующего исполнителя (с точки зрения гениального пианиста Прокофьева — исполнителя довольно скверного), зарисовывает свою руку в альбом светской даме, обведя контур пальцев карандашом. Прокофьев, увидев этот рисунок, записывает в том же альбоме: «Когда я начну обучаться игре на духовых инструментах, то нарисую свои легкие». История получает огласку в печати[322]. Часто имя Стравинского фигурирует у Прокофьева в связи с самым юным из зарубежных русских — Игорем Маркевичем, к ранним успехам которого Стравинский и Прокофьев относились одинаково ревниво. Побывав 4 июня 1930 г. на премьере кантаты «Ода» Маркевича в парижском «Théâtre Pigalle», Прокофьев записывает в Дневнике: «В снобистических кругах Парижа Маркевич нашел поддержку и деньги для устройства концерта. <…> Сама „Ода“ не плоха, но и не то чтобы очень интересна. Много хиндемитовских формул»[323]. И тут же советует начинающему композитору: «— Посвятите ее Бекмессеру. Маркевич: — Кто это, Бекмессер? Я: — Un poète»[324]. Словно презрительного указания на самовлюбленного и докучливого городского письмоводителя (и тоже певца) Сикста Бекмессера из «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера было недостаточно! 26 августа 1930 г. Прокофьев с сарказмом сообщает Мясковскому по поводу обоих Игорей: «Про этого Игоря Маркевича ходил такой анекдот: сын Стравинского спросил его — „Вероятно, вам очень неприятно быть тоже Игорем?“ — на что тот ответил: „Мне кажется, еще неприятнее быть тоже Стравинским“»[325]. А 29 сентября 1935 г. Прокофьев пишет из СССР в США Дукельскому: «Слушки о дружбе с… Игорем [Стравинским. — И. В.] сильно преувеличены, полу-Игоря же [Маркевича] я вообще переношу с трудом»[326]. Причина проста: «Маркевич… на родном языке не может сказать двух слов, не запнувшись»[327].
Отношения Прокофьева с теми, кто жил в СССР, несмотря на огромное любопытство с обеих сторон, тоже складываются небезоблачно. Страна, которую Прокофьев увидел после девятилетнего отсутствия в январе 1927 г., фигурирует в его дорожном дневнике не иначе как «Большевизия» (в пику подлинной России — Евразии), а о жителях ее столицы — после радушного обеда у Яворского и Протопопова — сказано следующее: «…москвичи ругают теперешнюю Москву, но болезненно ждут, чтобы ее похвалили»[328]. Москвичи, улавливая настрой Прокофьева, платят ему той же монетой. Даже относительно умеренный журнал «Музыка и революция» в статье Матиаса Гринберга (Сокольского), характерно озаглавленной «Сергей Прокофьев (К его выступлениям в Москве)», в феврале 1927 г. обвиняет композитора как раз в том, в чем он и сам, как мы видели, был не прочь упрекнуть своих французских и многих советских коллег: в производстве легковесной «музычки» (musiquette). Вот выпад Гринберга:
И все-таки, по существу, мы не можем Прокофьева назвать вполне нашим, до конца нашим композитором. <…> Его «Апельсины» блестящи, его «Шут» — остроумно-забавен. Но есть в этих сюжетах для нас какая-то легковесность, незначительность; не наши это сюжеты, так же, как не наши, по-другому, сюжеты его «Бальмонтовских» стихотворений, его мистического «Огненного ангела». И здесь-то, может быть, больше всего сказалось на Прокофьеве разлагающее влияние Запада. В сфере чистой, непрограммной музыки Прокофьева — при всей своеобычной выразительности, его музыкальный тематический материал все-таки не глубокие, яркие, обобщающие темы-символы, не то значительное по содержанию искусство, к которому мы стремимся, первые цветы которого нам радостно отметить в нашей поэзии, литературе, которого ищут в нашей живописи и которого мы ждем в современной музыке[329].
Разумеется, таким виделся композитор тем, кто многое в общезападном контексте утрировал, а также и вправду болезненно ждал похвал в свой адрес и пребывал где-то между Вагнером и Скрябиным («глубокие, яркие, обобщающие темы-символы»). Однако суждение Гринберга показательно. Вот что говорил в № 1/2 за 1927 г. издаваемого Московской государственной консерваторией журнала «Музыкальное образование», превратившегося во второй половине 1920-х, как и сама консерватория, в полигон Российской ассоциации пролетарских музыкантов, некто, подписавшийся одной только буквой — Ь:
Прокофьева у нас чуть ли не причислили к лику пролетарских композиторов, солнечных и жизнерадостных, наговорили множество умных вещей о созвучии его творчества с переживаемой нами эпохой. А между тем, начав с озорства и «футбольного» буйства, он во время Гражданской войны попадает за границу, где окончательно формируется его музыкальный облик. <…>
Европейская атмосфера послевоенного периода, эпоха глубочайшего внутреннего разложения, приняла Прокофьева, в известной степени обласкала и… зло отмстила. <…>
Прокофьев не оправдал тех надежд, которые возлагались на него. Судя по отдельным моментам в его более ранних сочинениях, он мог бы вырасти в явление мировой значительности.
Он не сумел, не захотел, не смог преодолеть своего паясничанья и весь целиком уложился в схему того, что немцы называют — Unterhaltungsmusik [легкой музыкой. — И. В.][330].
Если слова об «атмосфере разложения», господствующей в Западной Европе, говорились бы Дукельским или Лурье, а не консерваторским умником, скрывшимся за шестой от конца буквой алфавита, Прокофьев выступал бы у них, работающих внутри общезападного контекста, альтернативой зашедшему в тупик модернистскому сознанию[331]. Но все дело в точке зрения. В случае русских парижан перед нами взгляд из более продвинутой (необязательно более правильной, но уж более продвинутой точно) ситуации, угол же зрения авторов «Музыкального образования», как и угол зрения американских критиков Дукельского, выдает отставание лет этак на пятнадцать. Буквально в следующем сдвоенном выпуске (№ 3/4) за 1927 г. журнал обзывает постановку «Любови к трем апельсинам» в Большом театре «выстрелом из пушки по воробью»[332], и тут же следует рассказ о состоявшемся 21 марта 1927 г. концерте РАПМовцев Белого, Шехтера и Чемберджи, причем о Борисе Шехтере читаем, что он «наиболее зрелый из них, опирается в своем творчестве на традиции лучших представителей последнего поколения русских композиторов. В его произведениях можно совершенно явственно проследить влияние Метнера, Скрябина и, в последнее время, Мясковского. Эти влияния — продукт органической музыкальной эволюции…»[333]. Преувеличенно расхваливается и приехавший в СССР Николай Метнер. Происходит это в том же № 1/2 за 1927 г., в котором Прокофьева обвиняют в производстве «Unterhaltungsmusik». Некто Ларев намеренно кадит, как выражался по поводу аналогичной критической практики Белинского Баратынский, эстетическому староверу, если не «мертвецу» (цитата из Баратынского) Метнеру, чтобы «живых задеть кадилом»[334]:
Современность и Метнер? Прокофьев и Метнер? Созвучно ли творчество Метнера нашей эпохе и в какой мере?.. <…> Если бы молодые советские музыканты спросили, какую из двух культур можно было бы предпочесть для стройки нашего искусства, Прокофьева или Метнера, то <…> все же нужно было бы ответить, что культура Метнера ближе нам, чем культура Прокофьева и Стравинского с их пряностью, остротой и фокусничеством[335].
Прокофьев, побывав на одном из московских концертов Метнера, записывает не без ехидства в Дневнике:
Метнер прибыл в СССР несколько позднее меня и совершал свой цикл концертов приблизительно в тех же городах, что и я <…> но зато за Метнера держалась группа старых теоретиков и профессоров Московской консерватории, которые даже поднесли ему адрес по старой орфографии, чтобы этим подчеркнуть свою точку зрения.
Сегодняшний концерт Метнера проходил в Большом зале Консерватории. Играл он по обыкновению хорошо, но скучновато. Загубил же концерт хромой певец, который скрипучим и неясно интонирующим голосом пел цикл однообразных романсов и тем вогнал нас в спячку.
(Запись от 25 февраля 1927 г.)[336]
А спустя пять лет, уже без малейшего снисхождения, Прокофьев напишет Мясковскому о впечатлении от, на этот раз парижского, концерта Метнера:
Метнер играл только свои сочинения, на две трети новые; это была такая сушь, архаика, такое тематическое и гармоническое убожество, что казалось, передо мной сидел человек, внезапно сошедший с ума и, потеряв понятие о времени, упорствующий в писании на языке Карамзина.
(Письмо от 18 марта 1932 г.)[337]
Можно представить, какую тоску наводили на Прокофьева как регулярное зачисление Метнера и Скрябина в «последнее поколение русских композиторов», так и разговоры об «органической эволюции». Вот уж действительно «удушливая атмосфера провинциального модернизма и декадентства», как определял основной настрой советской музыки конца 1920-х — начала 1930-х годов Артур Лурье[338].
Ситуация меняется с выходом на музыкальную сцену внутри СССР молодого поколения, эстетически уже близкого западной парижской группе: Гавриила Попова (1904–1972) в Ленинграде, Александра Мосолова (1900–1973) и Виссариона Шебалина (1902–1963) в Москве. В 1932 г. Генрих Литинский (1901–1985) возглавляет кафедру композиции Московской консерватории, выдвинув первым условием своей работы удаление наиболее одиозных коллег из числа бывших РАПМовцев[339], устроивших, как Прокофьев давно уже знал от Мейерхольда, и против него самого «формальную травлю в стенах Московской консерватории»[340]. В 1933 г. Литинский отвергает запрос Арнольда Шёнберга, стоявшего перед необходимостью как можно скорее покинуть нацистскую Германию, о предоставлении ему профессуры по композиции в Московской консерватории и приглашает на это место продолжавшего жить то в Москве, а то в Париже Прокофьева[341]. Ситуация знаменательная: Шёнберг ведь тоже мог (и честно пожелал!) стать «советским» композитором, и, хотя наверняка подвергся бы в нужное время, как и Прокофьев, травле за «формализм» и еще Бог весть за что, своим авторитетом прежде поспособствовал бы развороту музыкальной молодежи в СССР в сторону западного «прогрессизма». И гармонию в российских консерваториях учили бы сейчас по Шёнбергу. Отказав Шёнбергу, Литинский — не важно, осознанно или нет как бы говорил от имени всей новейшей русской школы[342]. Композиция же в Ленинградской консерватории и история музыки в Ленинграде оставались во многом в руках клана Римских-Корсаковых, поспособствовавшего в свое время вытеснению Игоря Стравинского из России[343]. Андрей Римский-Корсаков (1878 1940), имя которого уже возникало в настоящей книге в связи с уходом молодого Сувчинского из «Музыкального современника» и которого его бывший друг Стравинский не слишком справедливо аттестовывал в середине 1930-х как «старого мракобеса»[344], продолжал играть существенную роль: заведовал после революции всеми музыкальными фондами Публичной библиотеки и в течение ряда лет вел историю музыки в университете[345]. А любимый студент и зять Н. А. Римского-Корсакова, скучнейший (как композитор) Максимилиан Штейнберг (1883–1946)[346] преподавал композицию в консерватории, а в 1917–1931 гг. еще и заведовал соответствующим факультетом. Шостакович, ученик Глазунова и Штейнберга, о котором последний так и говорил: «мой лучший ученик»[347], — оказался эстетически главным наследником либерально-академической линии, первым среди музыкальных внуков Римского-Корсакова. И Прокофьев не мог этого не чувствовать.
Но даже произошедшая в начале 1930-х явная перемена в Москве в пользу Прокофьева не смягчает резкой настороженности композитора. В помянутом письме к Дукельскому от 29 сентября 1935 г. он так характеризует наиболее активных советских коллег: «Шостакович талантлив, но какой-то беспринципный и, как иные наши друзья, лишен мелодического дара; с ним здесь преувелич[енно] носятся. Кабалев[ский] и Желоб[ин]ский sont des zéro-virgule-zéro [суть ноль целых ноль десятых. — И. В.]»[348].
Всего этого не стоило бы касаться, если бы названные отношения не очерчивали контекста, в котором оформился к концу 1930-х годов ответ Прокофьева на евразийский вызов. Ни Лурье, ни Маркевич серьезного внимания, по мнению Прокофьева, не заслуживали. Причины в обоих случаях к эстетике отношения не имели. Композиторы в СССР, за редкими исключениями (в первую очередь, Попова, Мосолова и Хачатуряна, к таланту которого Прокофьев относился с «великим доверием»[349]), не стоили внимания также. Что определяло прокофьевский ответ на евразийский вызов — так это соперничество со Стравинским и явная заинтересованность в творчестве лишь одного из младших зарубежных русских — Дукельского: в нем Прокофьев находил нечто глубоко сродное себе. Прокофьеву предстояло показать тем, кто в СССР был ориентирован на эстетику либо позднеромантическую, либо раннемодернистскую, что возможно говорить совершенно не их языком на их пореволюционные темы. Прокофьев также не мог не видеть, что за спорившими между собой разными интерпретациями «пролетарской», «советской» или «социалистической» музыки скрывались как минимум три непримиримые позиции: во-первых, тех, кто все равно шел на сближение с западным крылом русских музыкантов; во-вторых, сторонников традиционного модернизма не дальше Метнера и Скрябина и, в-третьих, поднимавшего голову, казалось бы, поверженного в 1910-е годы «академического национализма» дореволюционного образца. А в том, что речь шла о борьбе именно этих трех партий, притом хорошо осведомленных о позициях противоположных сторон, убеждали публикации на страницах советских музыковедческих изданий: например, печально знаменитая статья скрябиниста Арнольда Альшванга «Идейный путь Стравинского» (1933)[350] — ее автора Дукельский запомнил по совместному обучению в Киевской консерватории как «типичного консерваторского зануду, предающегося долгим речам и завороженного техническими терминами»[351]. Статья содержала несколько раскавыченных (по цензурным условиям не обозначенных в тексте) цитат из работ евразийца и невозвращенца Лурье «Музыка Стравинского» (1926), «Неоготика и неоклассика» (1928) и первой версии «Путей русской школы» (1931–1932). Аргументы Лурье в пользу Стравинского интерпретировались Альшвангом как лишнее доказательство эстетического банкротства последнего. Вот альшванговская характеристика «статичной формы», прекрасно нам знакомая по работам Лурье; при этом Альшванг зачисляет «Весну священную» в «импрессионистические» произведения (заранее прошу прощения у читателя за вязкий слог «типичного консерваторского зануды»):
При наличии крупнейших общих недостатков импрессионистического метода, сводящихся в основном к отсутствию внутреннего развития, статичности и, следовательно, к поверхностности в передаче вещей, с одной стороны, и к замене передачи реальных процессов живой действительности — передачей лишь ощущений, выдаваемых за единую истинную действительность, с другой, — при наличии этих недостатков Стравинскому все же удалось выйти за пределы порочного метода и в ряде эпизодов передать действительные процессы реальной жизни[352].
Лурье, напомним, говорит о смелом обуздании психологического динамизма у зрелого Стравинского: «В смысле чисто-музыкального движения — „Весна“ статична. Весь огромный динамизм, в ней заключенный, — биологического порядка. <…> Ритм в ней скорее ноуменальный, чем музыкальный»[353]. То есть аргумент «за» использован у Альшванга в качестве аргумента «против». А вот что пишет Альшванг о Стравинском послерусского периода:
Искусство становится высшей самоцелью, оно призвано выражать возвышенное <…> Это «чистое» искусство, освобожденное от своих прикладных функций, естественно, имеет своей философской основой новую метафизику и сводится к попыткам образного выражения «потусторонних ценностей»[354].
И снова не составляет труда поймать переимчивого «теоретика» за руку. Оригинал, правда, изрядно перевран; вероятно, умышленно. Лурье говорит не о метафизике, а о новой музыкальной диалектике у Стравинского: огромная разница для всех, кто хоть что-нибудь понимает в философии. Для Лурье «музыкальная диалектика есть чистое развитие музыкальной мысли, т. е. нечто, в себе заключенное» («Музыка Стравинского»)[355]; зрелый Стравинский, по его мнению, замкнулся «исключительно в область формальную и дидактическую» («Пути русской школы»)[356] и стремится к «ограничению я и его подчинению высшим и вечным ценностям» («Неоготика и неоклассика»)[357].
Но, как часто случается, в борьбе на выживание победила не парижская школа и ее последователи, не раннесоветские модернисты, а не мешавший их жестокой схватке третий участник поединка — «академический национализм» корсаковско-штейнберговского образца, ставший во второй половине 1940-х годов, после ждановского погрома, официальной эстетикой последних лет сталинизма. Хотя в 1930-е годы этого не мог предвидеть никто.
В известном смысле то, что Прокофьев делал и говорил в конце 1920-х и все 1930-е, было окончательным и самым весомым аргументом в споре о путях новой русской музыки. Однако политическая ситуация внутри СССР в 1936–1939 гг. уже не предполагала никакой дискуссии, кроме как через творчество и то — с известной долей осторожности. На протяжении 1930-х Прокофьев со свойственным ему упорством продолжал верить, что дискуссия, даже проходящая в строго очерченных рамках, все-таки будет результативна. Вера в успех приобретала у него религиозный почти характер. Церковь Христианской науки (Christian Science), к которой он принадлежал, укрепляла его в убеждении, что любые болезни смертного ума преодолимы. Вот характерная запись разговора композитора с приятелем юности Борисом Демчинским (1877–1942):
Он пробует произвести атаку на бодрость и радостность. Музыка должна передать общую тревогу, когда ни наука, ни общественность не дает исхода. Я: если море бушует, то тем ценнее твердая скала среди волн. Он: но никто ее не поймет; и на чем основано это спокойствие — на здоровье, на самоуверенности, на личном я? Я: на упоре в Бога.
(Дневник от 3 декабря 1932 г., Ленинград)[358]
а) Первая редакция: «Кантата о Ленине» (1936)
Все, что мы знаем о «Кантате о Ленине» — первой, как сообщает Сувчинский, редакции «Кантаты к XX-летию Октября», — это ее название и то, что текст был составлен самим Сувчинским[359]. При всей живости и трезвости суждений Прокофьева о политике — а их немало в дневнике композитора — ни сам Прокофьев, ни кто иной из его музыкальных друзей в СССР или за его пределами не знал так хорошо текстов классиков революционного марксизма, как чуть было сам не вернувшийся в СССР евразиец Сувчинский; ему-то и выпало подобрать приемлемые цитаты из работ Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Ни единого слова в тексте кантаты не сочинено «от себя». Однако характер выборки выдает весьма своеобычный замысел. Ведь если, как Прокофьев надеялся, кантата была бы исполнена во время массовых торжеств на Красной площади, то какую бы редкую возможность высказаться, пусть и через чужое слово и музыку, получил бы сам Сувчинский!
Есть все основания полагать, что первая редакция начиналась, как и в окончательном варианте, оркестровым Вступлением, возвещающим конец старой Европы — «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», — и обрывалась на восьмой части окончательной редакции — «Клятве» над гробом Ленина (текст из речи, произнесенной Сталиным в 1924 г.). Уж слишком явно IX часть окончательной редакции «Симфония» и X часть «Конституция» на текст из речи Сталина 1936 г. кажутся подшитыми к музыкальному целому первых восьми частей произведения. Если моя догадка верна, то первая редакция «Кантаты», скорее всего, включала следующие части, оставшиеся и в окончательном варианте:
I. Вступление (оркестр; эпиграф — начальные слова «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса)
II. Философы (оркестр и хор; 11-й тезис Маркса о Фейербахе)
III. Интерлюдия (оркестр)
IV. «Мы идем тесной кучкой» (оркестр и хор; отрывок из «Что делать?» Ленина)
V. Интерлюдия (оркестр)
VI. Революция (оркестр, чтец и хор; отрывки из статей Ленина октября 1917 г.)
VII. Победа (оркестр и хор; из работ Ленина 1920 г.)
VIII. Клятва (оркестр и хор; отрывки из речи Сталина 1924 г.) —
и представляла собой род трагического дифирамба. Начиналась «Кантата», как мы видели, с предвестия конца европейской культуры, которое приобретало характер космического пророчества в последующем хоре «Философы лишь различным образом пытались объяснить мир, но дело заключается в том, чтоб его изменить», что в музыкальной трактовке Прокофьева находилось в прямой связи с финалом 1-й картины (сцена колдовства) и 2-й картиной (аудиенция у Агриппы Неттесгеймского) второго акта его собственной оперы «Огненный ангел» (единственный акт, прозвучавший при жизни композитора[360]). Напомню, что в самом конце второго акта мудрец и чернокнижник Агриппа, говорящий о себе: «Я не маг, я (NB!) ученый и философ», отвечает назойливо расспрашивающему его о природе магии Рупрехту: «Истинная магия есть наука всех наук, объяснение всех тайн, явленное магам разных веков, разных стран и народов»[361]. Аналогия с заклинательным определением марксизма по Ленину: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» — не требует комментариев. Заранее хочу оговорить, что Прокофьев и не думает вводить положительной или отрицательной моральной оценки в «Кантату о Ленине»: сделать это означало бы совершить самоубийственный шаг. Однако в условиях СССР простое дистанцирование говорит об очень многом. Определенную свободу интерпретации Прокофьев оставляет и в «Огненном ангеле»: просто всякая преобразующая деятельность воспринимается им как магически-заклинательная по преимуществу; это позволит понять и морально внеоценочный взгляд на предмет восхвалений в другой экспериментальной политической кантате композитора — «Здравице» (что бы мы ни думали о зловещем объекте восхвалений). Титанический персонаж, Ленин, высвобождающий стихии, идущие смести старую Европу (Рената и Рупрехт занимаются во втором акте «Огненного ангела» выкликанием духов), появляется лишь в VI части (партия чтеца), а стихиям придан голос (слова из статей Ленина у мужской и женской частей хора), и здесь правомерна давно отмечавшаяся — очевидно, сознательная — музыкальная аналогия с остававшимся не исполненным целиком «Огненным ангелом»: с хорами духов из финального акта оперы (сцена экзорцизма)[362]. Однако все писавшие о «Кантате» прошли мимо присутствующих в VI части цитат из хора вольницы в «Борисе Годунове» — сцены, в высшей степени амбивалентной у Мусоргского. Понятно, что Прокофьев, России ленинской не знавший, с 1918 по 1927 г. постоянно живший за рубежом, мог приблизиться к раннесоветской истории только через миф, что он честно и делает. Как и положено, дифирамб заканчивается гибелью героя-титана и произнесением хором освобожденных стихий надгробной клятвы. Финал такой представляется гораздо интереснее окончательного, в котором хоровой постскриптум слишком уж затянут.
Очевидно, что Прокофьев учел в построении «Кантаты о Ленине» опыт первой редакции «Конца Санкт-Петербурга»: взяв, как и Дукельский, за основу имитацию древнегреческого театрального представления, и даже финал в обоих случаях не слишком оптимистичен.
Новое в «Кантате» — появляющийся впервые в «Стальном скоке», но лишь в «Ромео и Джульетте» и в «Кантате» получающий настоящее развитие чрезвычайно широкого дыхания мелодизм, особенно в хоровых эпизодах произведения. Такова основная тема в «Философах» и вся «Победа». Из «Кантаты» этот мелодизм перекочует в «Здравицу» и особенно в музыку к «Александру Невскому» и к «Ивану Грозному». Как пример «большой музыки», чередующей сложность (разумеется, сложность не для музыкальных гурманов, а для народных масс) и доходчивость, «Кантата о Ленине» — показатель огромных перемен у Прокофьева. Без сомнения, родословную «Кантаты» можно проследить через «Скифскую сюиту» самого Прокофьева до «Весны священной» Стравинского, но по форме она скорее связана с «Концом Санкт-Петербурга», «Симфонией псалмов» и Concerto Spirituale — сочинения Лурье Прокофьев, скорее всего, не знал, но Дукельский и Стравинский-то знали! Разница заключается в том, что ни Стравинский, ни тем более Лурье обращенного к народным массам дифирамба написать не захотели и не смогли (Лурье, впрочем, и не ставил перед собой такой задачи). Прокофьев же, учитывая опыт предшественников, смог выйти, через первый вариант «Кантаты», к будущим стилистическим прорывам киномузыки, которую он писал для Сергея Эйзенштейна, к адекватному выражению «коллективного субъекта» и — через него — к мифологизации и преображению истории и к новому мелодизму, притом без какого-либо снижения эстетической планки. Автор, каким он предстает в партитуре «Кантаты», имеет мало общего с эхом «процессов, протекающих в массово-музыкальном сознании» (Асафьев в 1936 г.)[363] и очень много с позицией Стравинского времен «Весны священной» и особенно «Свадебки». Прокофьев тем самым занимает место, вакантное со времени отдаления Стравинского от задач русской национальной школы. Не будет преувеличением сказать и то, что евразийский исторический миф, подкрепленный отсылками к древнегреческому литургическому действу и жанровыми поисками русских парижан, начинает в «Кантате» жить самостоятельной жизнью, вбирая в себя — как частность — и неизбежно снимая советский исторический миф.
б) Вторая редакция: «Кантата к XX-летию Октября» (1936–1937)
Время, когда трагический дифирамб о Ленине превратился в славословие двадцатилетию Октябрьского переворота, определить довольно легко. 5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР, и это не могло не быть отражено в произведении, на исполнение которого в ходе массовых празднеств Прокофьев рассчитывал. Нет никаких оснований думать, что, положив фрагменты еще одной речи Сталина на музыку, Прокофьев, как утверждают некоторые его биографы, пытался тем самым указать на несоответствие между заявленным в Конституции и реальностью диктаторского режима или даже напомнить, что Конституция была написана не Сталиным, но его будущей жертвой — Бухариным, «подчеркивая фальшь речи Сталина» на VIII съезде Советов (Дэниэл Джаффе)[364]. Автору настоящей работы попросту трудно представить ситуацию, в которой Прокофьев пошел бы на такой риск. К факту же принятия новой Конституции композитор относился предельно здраво, подчеркивая в публичных высказываниях положительную сторону события. Вот слова Прокофьева, напечатанные в журнале «Советская музыка» в октябре 1936 г.: «Новая Конституция — акт большого доверия к советскому гражданину. Нет лучше способа поднять морально человека, чем оказать ему доверие»[365]. И это при том, что музыкальные модернисты Фейнберг и Александров, не говоря уже о меньших величинах, публикуют рядом со взвешенными словами Прокофьева бессмысленно-восторженные отговорки в духе передовиц официальных изданий. «Проект Сталинской Конституции является величайшим документом, воплотившим все лучшие чаяния и надежды Великой пролетарской революции», — утверждает скрябинист Самуил Фейнберг[366]. И так далее.
Еще более мифологична (и мифогенна) «Здравица» к шестидесятилетию Сталина «на русский, украинский, белорусский, кумыкский, курдский, марийский и мордовский народные тексты»[367], — подбор которых, если не авторство, принадлежит, без сомнения, самому Прокофьеву. Историческая ирония заключается в том, что Прокофьев — в прошлом излюбленная мишень скрябинианцев и провинциальных модернистов от пролетарской музыки[368] — именно в прославляющей «вождя народов» кантате исполняет их мечту о «создании здоровой эротической музыки, бодрой любовной песни», непременно в мажорном ключе, способствующей
упрощению и оздоровлению взгляда молодежи на половые отношения.
Такая музыка может иметь значение громадного агитационного фактора за создание новой, здоровой пролетарской этики[369].
Особенность «Здравицы» заключается в том, что в ее тексте — не без отсылок к хорам «Свадебки» — повествуется о сборах некой Аксиньи «как невесты» в Москву, в Кремль. В начале же «хореографических сцен» Стравинского подружки поют о заплетанье свадебных лент в косу Настасьи Тимофеевны. Кстати, в определенном смысле близка, ибо связана с ритуалом, и семантика обоих имен: «воскресающая», «восстающая ото сна» (от др. — греч. ἡἀνάστασις) у Стравинского и «гостеприимная» (от др. — греч. εủξινη) у Прокофьева. Но то, что было пересозданием «варварского» родового ритуала у Стравинского, в «Здравице» сдвигается в сторону пересоздания ритуального брака власти и земли, власти и народа. Сталин, идущий на смену трагически погибшему и не оставившему потомства титаническому герою — Ленину, просто обязан, по логике мифа, исполнить совсем другую роль.
поет хор у Прокофьева: первые две строки сопрано, последние две — мужские голоса (теноры и басы). Как если бы этого было недостаточно, «оздоровленный взгляд на половые отношения» заметен по всему тексту кантаты: вскоре после вступления в первом эпизоде «Здравицы» мужская часть хора запевает (на тему из оркестрового вступления):
Образ цветения, традиционно ассоциирующийся с женской сексуальностью (и половыми органами)[370], при перемене точки зрения с женской («оповещающей») на мужскую («наблюдающую») превращается в объект вожделения, определяя главный подтекст кантаты. Основным грехом царского режима объявляется то, что «женщин без мужей он оставлял», что цветение их было неплодным. Но теперь все переменилось: у всех невест и безмужних женщин есть Сталин — олицетворение жизни и здорового продолжения рода, «крови нашей — пламя» (еще один определенно сексуальный образ). Теперь не стыдно желать, чтобы каждый их ребенок с благодарностью рисовал «в тетрадке <…> сталинский портрет». В «Здравице» Сталин представлен как некое фаллическое божество: всеобщий «муж» и «отец». Кантата начинается и завершается утверждающим целостную простоту до-мажорным аккордом, а в кульминационный момент славословий («Много, Сталин, вынес ты невзгод / И много муки принял за народ. / За протест нас царь уничтожал. / Женщин без мужей он оставлял»), когда оркестр — струнные, духовые, арфа и фортепиано — играет по «белым клавишам», звучит лидийский лад.
Конечно, возникают и неизбежные вопросы о пределах допустимого по отношению к тому очевидному злу, каким была диктатура Сталина, — вопросы, сформулированные в разговоре двух заключенных в «Одном дне Ивана Денисовича», обсуждающих виденную ими сцену в соборе из запрещенной второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейна — Прокофьева. Допустимо ли показывать зло красиво, когда оно ничтожно и буднично? Не свидетельствует ли это об ущербности самой претензии искусства судить о действительности? Для взгляда, подчиняющего искусство большей, чем оно само, цели, ответ ясен: «Нет, недопустимо так показывать». Для взгляда, видящего наивысшую ценность в самом искусстве, ответ столь же ясен: «Искусство свободно выражает любые смыслы, мораль не его задача». Для большинства же композиторов парижской группы, и в их числе Прокофьева, ни тот ни другой ответы не удовлетворительны: поставив своей задачей революцию в музыкальном искусстве, «преодолеть» искусство они не могут по определению, но и ограничить себя только его сферой они тоже не могут. Прокофьев, несомненно, понимал, с каким зловещим материалом ему приходилось иметь дело в «Здравице»: на уровне эстетической традиции, к которой он принадлежал, и вообще глядя sub specie aeternitatis, композитор вышел из положения блистательно, обезопасив себя от любых подозрений в сервильности. Образ вождя, к которому в Кремль на символическое заклание ведут невесту-жертву, далек даже от минимальной однозначности. А ведь «Здравица» регулярно исполнялась после 1939 г. ко дням рождения «вождя народов»! Более личный ответ Прокофьев дал музыкой к двум сериям «Ивана Грозного». Особенно это очевидно после недавней полной публикации партитуры и отдельной от звуковой дорожки фильма ее перезаписи. «Иван Грозный» Прокофьева оказался сложным музыкальным повествованием о соперничестве трех начал — стихийной одержимости (хоры опричников и соответствующие инструментальные эпизоды), традиционного благочиния (многочисленные цитаты из церковной музыки предшественников, написанной порой под западноевропейскими влияниями, анонимных распевов православного обихода плюс несколько композиций на тексты из Писания, сочиненные самим Прокофьевым[371]), а также характеризующей западника Курбского чисто парижской по духу музыки, которая могла бы быть одобрена и участниками «Группы шести». Соперничество это служит ключом к внутренней драме музыкально молчащего царя Ивана. Дополнительную тень на прокофьевский ответ отбрасывают отсылки к ультраромантической, мейерберианской опере Чайковского «Опричник» (особенно вся хоровая линия, связанная с опричниками) и прикровенный, но ясно ощутимый у Чайковского и откровенный у Эйзенштейна и Прокофьева (гомо)эротический характер ритуалов в опричном братстве.
Если гениальной по музыке «Здравице» повезло, то обладавшая колоссальным зарядом «Кантата» так и не была исполнена при жизни Прокофьева; а сам он впоследствии был официально обвинен в «формализме»: обвинение не совсем несправедливое терминологически, хотя те, кто его выносил, думали о политическом приговоре, а не об эстетике. Что ж, Лурье и Сувчинский вслед за Аристотелем считали (а Прокофьев осуществлял это практически), что содержание неотделимо от эстетической формы, и, следовательно, чем радикальнее форма, тем радикальнее содержание.
7. Новый век Игоря Маркевича
Прокофьев был абсолютно неправ в отвержении музыки Маркевича на том основании, что в ней было больше французского, чем русского, да и сам автор не мог «сказать» на материнском музыкальном языке «двух слов, не запнувшись»[372]. Диалог, хотя и крайне непростой, с русской традицией у Маркевича существовал всегда. В юные годы — в форме наследования Скрябину, Стравинскому и — тут Прокофьев мог думать все что угодно, но факт остается фактом, — Прокофьеву; а также в желании победить диктат того, что Маркевич именовал «музыкальной перспективой», в возвращении к искусству до свойственного предшествовавшим векам индивидуалистического искажения. Примерно в те же годы, в начале 1920-х, о преодолении перспективы в живописи и необходимости вернуться к обратной — не мой глаз, но глаз иного — перспективе заговорил о. Павел Флоренский, работ которого Маркевич, конечно же, не знал, но контекст у них был общий. Флоренский исходил не только из теологии средневековой православной иконы, но и из опыта современной ему авангардной живописи[373]. Известно об огромном влиянии живописи на музыкальное мышление Маркевича, в последние десятилетия жизни перешедшего от всегдашнего интереса к изобразительным искусствам к активному вмешательству в их развитие и финансовой поддержке независимых художников внутри СССР (сам он продолжал жить в Западной Европе). Давали себя знать и художественные наклонности семьи: унаследовав от отца-пианиста музыкальность, Маркевич приходился по материнской линии внуком украинскому пейзажисту-самоучке Ивану Похитонову (1850–1923). Эстетически Маркевич стоял еще дальше — в смысле завершения поисков парижской группы, — чем Прокофьев. Возможно, именно это, а не якобы слабое знание русской традиции, в котором упрекал Маркевича Прокофьев, и служило причиной раздражения. Более того, именно тогда, когда Прокофьев больше всего критиковал Маркевича, в 1932–1933 гг., начинающий композитор встречал наибольшую поддержку и интерес у зарубежных русских, таких как франкоязычный поэт и музыкальный критик Леон Кошницкий[374], евразиец Петр Сувчинский[375] или в прошлом записной скрябинист Борис Шлецер[376], и к разговору об этом мы еще вернемся. Наконец, начало серьезного композиторского пути Маркевича было связано с интересом к нему (личным и творческим) Дягилева в 1929 г. и неосуществленными проектами постановки на музыку Маркевича в «Русских балетах», а также с предложением Сергея Эйзенштейна в 1930 г. вернуться в СССР и работать совместно над звуковыми фильмами. Впоследствии эту работу осуществили Гавриил Попов — для «Бежина луга» и Прокофьев — для «Александра Невского» и «Ивана Грозного». Но ведь первый выбор Эйзенштейна пал все-таки на совсем еще юного, зато подающего огромные надежды Маркевича! Девятнадцатилетний Маркевич ограничился сочинением «Cinema-Ouverture (Кино-увертюры)» (1931)[377] и долго жалел, что отказался от возвращения: этому воспротивилась эмигрантка-мать. (Характерен мотив несостоявшегося возвращения, повторяющийся из биографии в биографию наших героев: Сувчинского, Дукельского, Маркевича… Десятилетия спустя Маркевич, уже итальянский подданный и больше не композитор, часто приезжал в СССР, выступал и записывался с российскими оркестрами, вел семинары в Московской консерватории, а его сын Олег учился в Ленинградской.) Конец же активного композиторства — семнадцатиминутные «Variations, Fugue et Envoi sur un thème de Haendel (Вариации, фуга и посвящение на тему Генделя)» (июль-октябрь 1941)[378], посвященные близким друзьям Маркевича Ирине и Никите Магаловым, были завершены перед глубочайшим душевным и физическим кризисом, пережитым композитором, эмигрантом без гражданства, но с нансеновским временным паспортом, застигнутым началом Второй мировой войны на территории фашистской Италии, которая объявила войну столь близким ему России и Франции. Нападение Германии на СССР было для него окончательной катастрофой: подтверждением неспособности собственного, индивидуального творчества, — а Маркевич продолжал вплоть до зимы 1941/1942 г. верить в провиденциальность своего композиторского предназначения, — предотвратить происходящий вокруг обвал. Симфоническая поэма, созданная Маркевичем в 1937 г. как музыка новой солидарности между исполнителями, слушателями и самим композитором, называлась «La Nouvel âge (Новый век)». Л. Кошницкий писал по прослушивании «Нового века» в серии «народных концертов» во Дворце изящных искусств в Брюсселе:
Часто говорится, что существует разрыв между композиторами <…> и массами, жадными до музыки.
Для Игоря Маркевича такого разрыва не существует. Он восстановил контакт с широкой публикой, с толпами.
Это действительно гениально.
Затруднительно, после одного-единственного прослушивания и не взглянув на партитуру, давать отчет о такой вещи, как «Новый век». Благородство пропорций, возвышенная архитектура произведения, лучезарная мысль, господствующая над ритмическим возбуждением, — вот что поражает прежде всего внимательного слушателя, уже знакомого с творчеством Игоря Маркевича[379].
Б. Ф. Шлецер писал о впечатлении от более раннего (1936) исполнения в том же Дворце изящных искусств в Брюсселе оратории Маркевича «Потерянный рай» (1934–1935, по Мильтону):
Большим событием Брюссельских вечеров была оратория Игоря Маркевича «Потерянный рай», исполненная под управлением автора, обернувшаяся полной победой; и это понятно: вещь прямо воздействовала на слушателей великолепием звукового устройства <…> она «снова вочеловечивает» (réhumanise) музыку, причем избегая ловушки субъективизма, потому что ее содержание совсем не психологическое, а духовное[380].
Новый век, увы, оказывался ограниченным сознанием самого творца и нескольких сотен, ну, максимум, тысяч, первых восторженных слушателей.
Все-таки постараемся очертить, каково было отношение юного композитора к наследию музыкальных «отцов» и «старших братьев». Многое, о чем уже говорилось в связи с поисками Стравинского, Лурье, Дукельского и Прокофьева, мы обнаружим без труда у Игоря Маркевича. Есть у него и своеобразный эволюционизм, и крайний эстетический (а впоследствии и политический) радикализм, в первую очередь понятый как необходимость исправить основы мироздания, вернуться к исходному и неотменимому, и общая антиромантическая настроенность («в сущности, есть вероятность, — говорил Маркевич в 1959 г., — что через несколько столетий романтизм будут рассматривать как очень кратковременное явление»[381]), и неприятие психологизма и индивидуализма, делающего, например, музыку нововенцев не удобной к практическому использованию, ну хотя бы на балетной сцене («Причина очень проста: музыка нововенской школы мало пригодна для танца. Одна из ее особенностей — ритмическая бесхребетность»[382]), и острый интерес к «ритмическому многообразию»[383], к гармонии (желание «выправить искажение слуха»[384]), но, увы, отсутствие острого интереса к мелодии (что роднит его со Стравинским), хотя к написанию своеобычных мелодий Маркевич был способен, и, наконец, стремление к соединению эстетики и политики. В радиобеседах с Клодом Ростаном, относящихся к началу 1959 г., Маркевич, еще в начале 1940-х отказавшийся от композиторства, что он сам расценивал как способность «совершенно неожиданным способом исцелить чудесную болезнь романтизма — исцелить исходя из самой жизни»[385], говорит о своих эстетико-политических убеждениях так:
Я думаю, что когда — позднее — будут оценивать первую половину XX века, то увидят в ней длительный переходный период от единственного ко множественному, захват сознания чувством коллективизма, иногда даже преувеличенный интерес к тому, что называют социумом; обнаружат рождение артиста-социалиста, то есть артиста, который должен представлять этот социум[386].
Композитор — все-таки индивидуалист по природе, как бы он (в лице тех же Стравинского, Лурье, Дукельского или Прокофьева) ни хотел в определенные моменты жизни обратного. Исполнитель, в частности дирижер, вынужденный работать в ансамбле, — индивидуалист и даже индивидуалист-«тоталитарист» (в терминах Маркевича), подавляющий тех, кто выступает в одном с ним ансамбле, только по личному выбору. Природа его деятельности основана на сотрудничестве. Противоположную индивидуализму точку зрения Маркевич именует «гуманистической» (мы бы, пожалуй, не стали пользоваться этим термином, слишком уж окрашенным эксцессами Возрождения). Не забудем, что говорится это лицом, «чудесную болезнь» индивидуального творчества преодолевшим. Все шестнадцать лет его активного композиторства (1925–1941) — символическое время взросления личности — были попыткой такого преодоления. Теперь (в цитируемых радиобеседах 1959 г.), глядя из лично для себя совершенно другой ситуации, Маркевич признается: «В целом моя обеспокоенность относительно современных молодых композиторов связана с тем, что они оказываются больше тоталитаристами, чем гуманистами»[387].
Между тем композиторское творчество Маркевича всегда имело объективным посылом преодоление индивидуалистического, субъективного и в конце концов исправление исходящей из центральности творящего «я» слуховой перспективы, переход к системе слышания доиндивидуалистической, в этом смысле обратной сходящемуся к этому самому солипсическому «я», нечто сродное предложенной Эдмундом Гуссерлем в начале XX в. έποχή[388] — феноменологической редукции субъекта философского знания. Речь шла, как и в философских построениях Гуссерля или в эстетическом богословии Флоренского, не о замене одного субъекта другим, но о трансценденции субъективного, переходе в транссубъектное состояние. В случае с Маркевичем можно даже говорить о возрастании полисубъектности, что делает его собственную музыку необычайно интересной и почти невыносимой для длительного слушания: после 15–20 минут происходит, как, например, у автора этих строк, расшатывание слухового баланса, отключение выработанных определенным — конечно же, западноевропейским в основе — музыкальным воспитанием механизмов коррекции и защиты. Достигается это посредством парадоксального усиления чисто субъективного начала: введением того, что композитор именовал «слуховой перспективой». Благодаря доведению своего «астигматического слуха» (как характеризовал его в 1932 г. Сувчинский) до крайности, Маркевич через балет «Полет Икара» (1932), в котором он, пятнадцать лет спустя после первых микротоновых экспериментов Лурье и Вышнеградского, возвратился к оркестру, часть инструментов которого была настроена в четвертитоновой темперации, а также через цикл из трех оркестровых «Гимнов» (1932–1933), идет в 1932–1933 гг. к границам определяемого опытом «я», снимая тем самым эти границы. Обратимся к пояснениям самого Маркевича.
Как-то летом во время каникул, насколько помню, я прогуливался со своей младшей сестрой, — рассказывал он Клоду Ростану. — Мне завязали глаза, и я старался, основываясь на том, что слышу, описать все, что нас окружало. Однажды я поразил приятеля, шедшего с нами, сказав ему, что на яблоне сидят три пчелы: я различил три разных тона жужжания. Должен прибавить, что часто страдаю от этой гиперчувствительности слуха. Я «вижу» ухом. <…> Я думаю, что сделал интересное наблюдение: чем более отточен слух, тем меньшее расстояние он способен охватить. <…> [Мои личные особенности заставили] меня изобрести одну вещь, которую никогда не использовали: речь идет о звуковой перспективе. Не стремясь сравнивать себя с таким великим человеком, как художник Учелло, думаю, что всю жизнь был одержим поисками перспективы, как и он. Действительно, когда в двадцать лет я сочинял «Икара», то лелеял мечту, что акустика станет средством выразительности. Заметьте, я подходил к этой проблеме не как теоретик, а как артист, никогда не упуская из виду эстетическую сторону. Считал, на основании своих наблюдений, что ухо искажает то, что слышит, как и зрение; и такое удивительное жульничество, каким является перспектива, может открыть небывалые возможности. <…> Вот вам пример, легкодоступный и немузыканту: когда у нас аккорды в очень широком расположении, мы стремимся их снова сжать и в конце концов записываем их неправильно, чтобы они хорошо звучали для уха. Точно так же рисуют «неправильно», чтобы добиться естественности в перспективе[389].
Здесь очень многое по-прежнему требует пояснений. Любая перспектива, любая оптическая или звуковая коррекция для Маркевича уже жульничество, ибо выдает субъективно приемлемое за жизненно существующее. Музыка, разумеется, не была лишена перспективы и до Маркевича, просто он с особой ясностью осознал силу этого приема, как осознали важность введения обращенной к человеку «я»-перспективы в эпоху Возрождения. Между тем Маркевич начинает с ограниченности слышимого самым острым слухом, т. е. с пределов человеческого (а сам он, судя по собственным признаниям, слышал намного больше, чем от обычного человека, даже музыканта, ожидается). Вывод? Усилие по внедрению «звуковой перспективы» в творческий обиход композиторов отнюдь не увеличивает индивидуалистического произвола: наоборот, демонстрирует пределы такого «жульничества». Что же получаем в результате? Обращение индивидуалистической перспективы, ее революцию. Чрезвычайно плодотворные размышления на эту тему находим в «Обратной перспективе» (1919) Флоренского: «Как ближайшее распространение приемов обратной перспективы следует отметить разноцентренность в изображениях: рисунок строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя свое место»[390]. На ту же тему высказывался в опубликованной в 1927 г. «Перспективе как символической форме» и Эрвин Панофский.
А вот как это слышалось со стороны. Сувчинский еще в 1932 г. утверждал, что «процесс творчества у Маркевича прямо зависит от чисто слухового вдохновения, от „слышимой материи“, без предварительного вмешательства психологических элементов или формул»[391]. Эта своеобразная гипертрофия слышимости звуковых объектов и умаление роли «я» в процессе записи, сведение «я» к роли регистратора слышимого, показывающего, насколько условно и подвержено искажениям превращение слышимого в инструментальные звучности, свидетельствовали, как думал Сувчинский, об особом дефекте слуха у Маркевича — разумеется, речь шла о «дефекте» лишь в сравнении с условной «правильностью» слуха тех, кто не мог слышать так, как юный композитор:
Деформация органов чувств позволяет иногда объяснить возникновение новых элементов в искусстве. В обычных и хорошо знакомых для нас объектах эти аномалии проявляют неожиданные стороны, дают новое представление о действительности, увеличивают эмоциональную силу этих объектов, творя, таким образом, новый эмоциональный заряд и качественно новое чувство[392].
Дукельский, побывавший 18 июня 1936 г. в Зале Плейель на парижской премьере «Потерянного рая», а также слышавший в Америке музыку из балетов Маркевича «Ребус» (1931) и «Икар» (1932), соглашался, что главным открытием младшего соотечественника была «новая звучность» («new sound»). Суждение Дукельского, местами язвительное, но гораздо более объективное, чем то, что говорили о Маркевиче Стравинский и Прокофьев, нам особенно важно, ибо принадлежит современнику-композитору из одного с Маркевичем круга, а не теоретику (как Сувчинский) или историку и критику музыки (как Кошницкий или Шлецер). В 1955 г. Дукельский вспоминал, что
«Четвертый сын» Дягилева [первыми тремя «музыкальными детьми» импресарио объявил Стравинского, Прокофьева и самого Дукельского. — И. В.], тонкий как карандаш, черноволосый Игорь Маркевич <…> был в 1936 г. в Париже композитором еп vogue [модным]. Его ранние вещи, такие как «Ребус» (сыгранный в Штатах Кусевицким) и «Икар», оказались действительно замечательны и обладали «новой звучностью» за годы до того, как изобрели «новую внешность». Слушалась его музыка захватывающе, но при более внимательном изучении оказывалась странно лишенной сути, хотя никто никогда не сомневался в гениальной оркестровке молодого человека. В салонах рассказывали про обожествление молодого мэтра слегка дьявольской наружности (ставшего впоследствии одним из способнейших дирижеров Европы) со стороны Марии-Лауры [графини де Ноай, тогдашней возлюбленной Маркевича]. Я пошел на лекцию Нади Буланже о грядущем «Потерянном рае» — огромной оратории, только что завершенной Маркевичем, и, к моему изумлению, услышал, как достойная женщина заверяет своих элегантных слушателей, что, хотя они и не имели чести «присутствовать при рождении Христа, им будет дарована верховная честь присутствовать при рождении „Потерянного рая“ Маркевича». Рай, увы, обернулся полной потерей, и пол-аудитории ушло задолго до завершения; вещь была неостановимой, неуклюжей и монотонной, упорно какофоничной. Мне бесконечно больше понравился Concerto Spirituale Лурье (сыгранный на другом концерте под управлением Шарля Мюнша); это тяжелое от музыки и переполненное религиозным пылом произведение заслуживает скорейшего возрождения[393].
Для более предметного разговора о том, как выстраивались отношения Маркевича с собственно русской традицией, я решил выбрать не самое знаменитое его сочинение — балет «Икар» (1932), созданный, по мнению большинства современников, в продолжение линии и отчасти как соперничающая с «Весной священной» имитация образца, не следующие за ним «Гимны» (1932–1933), не вызвавшую столь разноречивые оценки ораторию «Потерянный рай» (1934–1935), в которой Серж Морё[394] и Дэвид Дру[395] увидели возрождение раннемодернистских стратегий «Прометея» и «Предварительного действа» Скрябина, а стоящий на полпути между «Икаром», «Гимнами» и «Потерянным раем» «Псалом» для сопрано и малого оркестра на тексты французских переводов из 8–9-102–59-148–150- и 65-го псалмов Давидовых в свободной редакции самого Маркевича (с добавлениями и перестановками). «Псалом» сочинялся с августа по октябрь 1933 г. в швейцарской деревушке Шезьер-сюр-Ойон (Chésière-sur-Ollon), где Маркевич поселился Марией-Лаурой де Ноай из-за (неоправдавшихся) подозрений на туберкулез, в максимальной изоляции среди, как он писал голландской пианистке Алекс де Греф, «лесов и полей»[396] кантона Вод. Разумеется, выбор места для сочинения диктовался не одними опасениями за здоровье, но и тем, что разреженный воздух швейцарских Альп, в которых композитор провел детство, вдохновлял его больше других стихий. Мы уже отмечали, что бывший киевлянин Дукельский, вероятно сам того не сознавая, создавал многочисленные музыкальные образы водяного потока, восходящие к большой реке детства — Днепру, и, говоря языком мифа, колебался между «водяной» и «солнечной» стихиями. Между водяным «движением» и огненной «динамической неподвижностью» как бы зависает Лурье, сознательно работающий в Concerto Spirituale с музыкальными образами стихий. Прокофьев создал череду запоминающихся звуковых воплощений «солнечно-огненного» начала, а Стравинский, столь же сознательно, сплавляет его с «биологическими ритмами» оплодотворяемого тела и прорастающей весенними побегами земли (по крайней мере, с тем, как он сам это себе представляет). После Сувчинского стало общим местом говорить о «тенденции Маркевича к сочинению медленных звуковых полотен»[397]. Замедленные куски его партитур, часто пиано и пианиссимо, а именно таковы вторая часть (Lentamente) и финал (Sostenuto е molto tranquillo) «Псалма», в буквальном смысле обрывающегося, зависающего без разрешения, «искусство различающихся уровней звука в пределах в целом низкого динамического диапазона (р, рр), снижающегося до предела слышимости аккомпанирующих голосов, — это, кажется, и есть специальность Маркевича» (румынская музыковед Алиса Мавродин, сотрудничавшая с ним в 1970–1980-е)[398]. Изо всех стихий такие зависающе-прозрачные звучания ассоциируются прежде всего с воздухом; ритмическое же построение партитур Маркевича естественным образом вызывает в памяти переменчивое биенье крыльев — не случайно наиболее внутренне сродный себе миф композитор воплотил в трагическом «Полете Икара» (1932), в котором пассажи замедленного письма сочетаются с ритмической иррегулярностью, а в оркестр введены, как определял их композитор, «корректирующие инструменты» четвертитоновой темперации: «их роль заключалась единственно в том, чтобы выправлять искажения [традиционного] слуха»[399]. Интересно, что и отрекшись от композиторства в пользу карьеры дирижера Маркевич продолжал выделять в своих интерпретациях у композиторов-современников и классиков прошлого именно такой пространственно-прозрачный элемент[400].
Маркевич неоднократно возвращался к истории создания и исполнения «Псалма»; сохранились и многочисленные письма к де Греф, благодаря чему — редкий случай — мы знаем в подробностях, как проходила работа и что занимало композитора на разных ее этапах. Это была пора, когда Маркевич, по собственному признанию, «пошел достаточно далеко по тому пути, что был намечен в первых тактах „Весны священной“», а именно — по пути «ритмического многообразия»[401]. Стравинский несомненно довлел его сознанию как знаменитый соотечественник и образец экспериментатора, которого надлежало победить в честном соревновании на его же музыкальной территории. Сознавал угрозу со стороны Маркевича и сам Стравинский, признававшийся Сувчинскому еще весной 1930 г.: «Я очень любил Сережу Дягилева, и, может быть, нехорошо то, что я сейчас скажу, но, право, лучше, что он умер, а то бы в этом сезоне выпустил на меня этого мальчишку». На что Сувчинский, возлагавший в ту пору на Маркевича очень большие надежды, возражал с юмором: «Что вы, Игорь Федорович, точно Борис Годунов, в каждом младенце видите претендента на престол»[402]. Как и другие русские парижане, Маркевич числил «Симфонию псалмов» среди произведений, принадлежащих к линии, начатой «Весной священной». Более того — она была для Маркевича последним словом в этой линии. Его собственный «Псалом» должен был стать всем тем, от чего Стравинский после «Симфонии» отрекался. 6 августа 1933 г. Маркевич сообщал де Греф:
У меня имеется необычайная идея для «Псалма», который будет петься женским голосом на четырех языках одновременно; отсюда и чувство «большого мира» — идея куда более чистая и универсальная, чем латынь у С[травинского], которой никто не понимает и которая держит мертвой хваткой его музыку[403].
Можно предположить, что четыре языка — это известные Маркевичу в ту пору французский, русский, английский и итальянский (в окончательном тексте остался только французский). А дополнение женского голоса в третьем эпизоде «Псалма», Con fuoco, ансамблем из шести поющих в унисон сопрано превращало большую концертную арию, которой и был «Псалом» изначально, в нечто, близящееся к кантате, — хотя хором унисон семи голосов не назовешь: при исполнении это звучит как усиленное странным эхом соло. К 21 августа Маркевич, засев за специально доставленный ему в горы рояль, уже завершил 7 страниц партитуры[404]. А 18 сентября 1933 г. сообщал де Греф, что оставляет изо всех вариантов музыкального развития только самые простые, неотменимые: «…я достиг середины „Псалма“, почему и могу писать [письма]… В нем такая простота, что я свихиваюсь от изумления, что никто не нащупал таких нот прежде»[405].
Характерно, что сам Стравинский категорически не принимал продолжения своей же былой линии. 13 марта 1934 г. он счел нужным обратиться к Маркевичу с письменным репримандом: «Во многих Ваших сочинениях я заметил влияние этой вещи [„Весны священной“. — И. В.], от эстетических тенденций которой в том, что я делаю уже больше пятнадцати последних лет, удаляюсь все дальше и дальше»[406]. А в одном интервью 1936 г. Стравинский высказывается не менее резко, хотя его собственные суждения 1930-х годов и надлежит принимать cum grano salis: как высказывания человека, имеющего лишь паспортное сродство с Игорем Стравинским 1910-х годов:
Двадцать лет назад «Весна священная» расценивалась как современная; сегодня она уже принадлежит прошлому. Музыкант, который продолжает направление «Весны»[407], вместе с теми, кто слишком уж полагается на джаз[408], представляется мне неискоренимо устаревшим[409].
Существенным отличием «Псалма» от хоровых композиций Стравинского, Лурье и Прокофьева является сольный характер «славословия» и концертообразный поединок сопрано с оркестром (Дукельский обратится к сходному поединку инструмента и голоса с оркестром в «Посвящениях»), Здесь нет никакого коллективного субъекта — лишь экзальтация несчастного одинокого сознания, переходящего от славословий первой и третьей частей — Allegramente и Con fuoco (оркестр и семь женских голосов в унисон!) — к скорби неотвеченной мольбы и даже музыкальной «застылости» медленных и приглушенных (пиано, пианиссимо) второй и четвертой частей — Lentamente (соло флейты и пение в начале, полифоническое прозрачное письмо для солирующих духовых и группы струнных с пением и ритмодекламацией у женского голоса) и Sostenuto е molto tranquillo. Что бы ни думал в середине 1930-х о продолжении линии «Весны» сам Стравинский, известна сделанная Маркевичем в конце жизни запись, на которой «Псалом» звучал как раз сразу после «Весны священной». Напоминавшей протесты на премьере «Весны» была и реакция аудитории при исполнении «Псалма» 4 апреля 1934 г. во Флоренции на двенадцатом фестивале Международного общества современной музыки; сам Маркевич относил ее впоследствии на счет возросшей в 1930-е годы культурной изолированности Италии:
Там разразился такой скандал, что с трудом можно было расслышать музыку. Это, несомненно, стало причиной ее последующего триумфа. <…> Не забывайте — то был период расцвета фашизма, и, хотя фашизм претендовал на авангардность, Италия была очень изолирована от мировой культуры, так что любые нововведения легко вызывали подозрения[410].
А руководитель влиятельного парижского «La revue musicale» Анри Прюньер не без цветистости написал в номере своего журнала за апрель 1934 г. о впечатлении от флорентийской премьеры «Псалма» (преодолевший в себе прежнее русское и только что обратившийся с резким письмом к «дерзкому юноше» Стравинский должен был, читая, кусать локти):
После «Весны священной» музыка не знала откровения, сравнимого с «Падением Икара»[411] и «Псалмом». Здесь царствует глубоко религиозное вдохновение, но без конформистской набожности[412]. Маркевич — мистик-визионер. Эта музыка как вера, что вздымает горы. Это ураган огня, сметающий все перед собой, он же — временами — океан любви. Когда же голос предается нежной молитве поверх плетений флейты и гобоя, испытываешь подлинное впечатление иного мира. <…> …В лице Игоря Маркевича мы имеем творца такого гения, какого нам придется ждать еще долго[413].
Наконец, что бы Маркевич ни говорил в дальнейшем о своей недостаточной политизированности в 1930-е годы — а все, что композитор делал в 1920–1930-е, действительно блекло по сравнению с партизанской войной, в которой он принял участие в середине 1940-х, — «Псалом» был одним из самых откровенно политических его сочинений наряду с «Новым веком» (1937) и неоконченным концертом для сопрано и 12 инструментов «Выкройка человеческая» (La Taille de l’Homme, 1938–1941)[414]. Правда, Маркевич еще написал партизанский «Гимн национального освобождения» (Inno della liberaione nazionale, 1943–1944), но это случилось, когда он уже отходил от веры в собственное композиторское избранничество, становясь прежде всего коллективистом и социалистом и в таковом качестве — не романтическим творцом, но дирижером-соучастником и исполнителем.
В плане политического содержания «Псалма» достаточно показателен следующий фрагмент текста третьей, самой бурной его части («Con fuoco»). Слова позаимствованы композитором из 148-го псалма и приводятся ниже в русском переводе, за основу которого взят синодальный; все вольности французской версии Маркевича, сохраняемые в переводе, оговариваются в примечаниях. Речь, как мы видим, идет о возникающем единстве противоположностей, вовлеченных в целостный сознательный порыв:
Романтическое еще, ибо по-прежнему созерцаюше-отделенное от «коллективного субъекта», прославление космической солидарности в «Псалме» как пути к освобождению и выправлению мироздания приобретет более конкретные очертания в «Новом веке», где место поединка голоса и оркестра занимает согласно звучащий большой оркестр, а ее, солидарности, противоположность — космическая отчужденность человека-индивидуалиста — достигнет глубины отчаяния в так и не завершенном концерте для женского голоса и камерного ансамбля «Выкройка человеческая». Конфидентка Маркевича Алекс де Греф, предваряя флорентийское исполнение «Псалма», писала — скорее всего, со слов самого композитора, — что: «Бог возвеличен здесь через провозглашение безмерности вселенной, экзальтацию неисчислимых славословящих Его и отвержение ими их собственного одиночества»[421]. В «Псалме» Маркевич еще стоит на распутье, но уже в «Выкройке человеческой» ступает на территорию, на которой эстетические проблемы не разрешаются в рамках одного искусства только. И потому — в заключение — несколько штрихов, столь же характерных, сколь и неизбежных для тех, кто не видит разницы между революцией эстетической и политической (социальной, религиозной…), — а все описанные в настоящем исследовании музыканты, не только один Маркевич, не делали такого различия.
В годы Второй мировой войны композитор присоединился в конце концов к итальянским партизанам, но его чуть было не расстреляли союзники, не поверившие невероятной истории, — если русский и знаменитый композитор, то почему такой молодой и полный оборванец, и вообще, что он делает на оккупированной немцами итальянской территории? — пока один из допрашивающих действительно не признал в нем юнца, дирижировавшего еще до войны оркестром Би-би-си[422]. Италия стала для Маркевича подлинным домом; он, столько лет колебавшийся культурно между Россией и Францией, принял итальянское подданство, которое, правда, за год до смерти сменил на французское (французское гражданство было ему даровано личным указом президента-социалиста Миттерана), женился вторым браком на итальянке графине Топации Каэтани, родившей ему двух дочерей Аллегру и Натали и двух сыновей, младший из которых Тимур умер в детском возрасте, а старший Олег стал впоследствии тоже музыкантом (сын от первого брака Вацлав был внуком Нижинского). И тут всплывает на поверхность история столь же головокружительно-безумная, сколь и характерно маркевичевская.
В 1999 г. комиссия итальянского сената, состоявшая в основном из левых (реформированных коммунистов и зеленых), предала огласке подозрения, что после похищения в 1978 г. бывшего премьер-министра и лидера христианско-демократической партии Альдо Моро приют похитившим Моро членам радикально-коммунистической группировки «Красные бригады» дал на флорентийской вилле своей жены не кто иной, как Маркевич. А то, что труп убитого Моро найден был буквально возле римского дворца Каэтани, породило и гораздо худшие подозрения: радикально левый по своим убеждениям, Маркевич мог быть не просто одним из сочувствующих марксистам-террористам, но и активным участником, если недуховным отцом, операции. Подругой же, еще более головокружительной, версии, Маркевич — посвященный 51-й степени (Grado LI, Maître du Glaive, т. е. «Властелин меча») в розенкрейцерской организации (а тайные общества играли существенную роль в итальянской политике 1970-х) — вел вместе с английским аристократом Губертом Говардом, связанным, как и Маркевич, семейными узами с Каэтани, переговоры об освобождении Моро, а то, что труп последнего был оставлен возле римской резиденции семьи, означало месть за попытку спасти пленника. Напомним, что Моро, сторонник исторического компромисса между двумя крупнейшими национальными партиями Италии — левыми (коммунистами) и католиками-центристами (демохристианами), был похищен в самый канун голосования в парламенте (сорванного, как и надеялись похитители), когда коммунисты должны были поддержать правительство и перейти от оппозиции к управлению страной. Неизбежное участие коммунистов в правительстве, диктовавшееся желаниями большинства самих итальянцев, порождало не только ужас по обе стороны Атлантики, в СССР и США, ибо означало расшатывание с таким трудом созданного геополитического баланса эпохи «холодной войны» с буквально непредсказуемыми последствиями, но и — в глазах наиболее радикально настроенного сектора итальянского общества — знаменовало окончательное превращение коммунистов из партии протестной, революционной в партию смирную, реформистскую. Как бы то ни было, на устранении Моро, как и на предложенном им историческом компромиссе, сошлось слишком много интересов разных сторон. Исторический компромисс в конце концов осуществился, но только в середине 1990-х, уже после конца «холодной войны» и крушения всей старой конституционной системы Итальянской республики. Именно тогда образовавшие на ее обломках единый блок «Оливковой ветви» бывшие коммунисты и левые демохристиане сформировали-таки правительство, сначала во главе со старым однопартийцем Моро Романо Проди[423], а после выхода крайне левых из правящего большинства, дабы удержать их от антиправительственной тактики, во главе с одним из бывших руководителей когда-то единой компартии (после — лидером т. н. «Левых демократов») Массимо д’Алемой. Но призрак неосуществленных возможностей и многих лет тупика и позора продолжает довлеть итальянской политике. То, что подозрения — ныне вроде бы официально отведенные — могли пасть на композитора (один из «бригадовцев», а также сын Маркевича дирижер Олег Каэтани выступили с опровержениями), говорит столь же много о самой Италии, где границы между интеллектуальными убеждениями и действиями не существует[424], сколь и о восприятии итальянцами экстравагантного Маркевича. С самого начала своей музыкальной карьеры он, «тонкий, с волчьим лицом юноша» (таким его запомнил по первой встрече Дукельский)[425], был окружен разговорами о «нечеловеческих» способностях, об «инфернальной» мегаломании, работавшими на образ этакой фаустианской личности. Необычайно выразительные — привлекательные и настораживающие одновременно — музыка и внешность молодого композитора сливались воедино; о первой характерно, хотя и преувеличенно, высказался дадаист Вирджил Томсон: «Всем нравится музыка Маркевича. Она мастерская и удовлетворяющая и лишенная какого-либо человеческого чувства»[426], о второй напомнил при публикации радиобесед Клод Ростан: «Тогда [в начале 1930-х. — И. В.] у него уже была репутация несколько „окаянного“ и „дьявольского“ человека. Это очень в парижском духе»[427]. Миф живет по собственным законам, и «окаянный» музыкальный экстремист Маркевич просто обязан идти рука об руку с политическим экстремистом. А как же иначе?
8. Музыкальное евразийство как критическая парадигма
Политическое измерение музыкального евразийства
Значение созданного Сувчинским, Дукельским и Лурье выходило далеко за пределы их собственной, пусть и весьма активной, деятельности. Стравинский смог выразить музыкально многое из того, что легло в основу эстетического проекта евразийцев еще до того, как проект этот был сформулирован, и это было важно хотя бы потому, что вдохновлявшая эстетические построения Сувчинского и Лурье музыка Стравинского сама по себе обладала колоссальным энергетическим зарядом. Инициированная Лурье и поддержанная Сувчинским дискуссия о трансцендентном порядке, который Стравинский зрелого периода нес с собой в западную традицию, позволила самому Стравинскому обрести новых союзников и адептов — сначала в лице французских, а затем и американских композиторов — и даже достичь того, что стравинскианский неоклассицизм стал в 1920–1950-е годы одним из ведущих больших стилей мировой музыки. «Евразийский» этап творчества Стравинского, кульминировавший в «Свадебке», остался к этому времени далеко позади.
Сам Лурье создал в 1928–1929 гг. свое лучшее сочинение — Concerto Spirituale, следуя рассмотренным выше идеям о диалектическом соотношении элементов в музыкальной форме. Дукельский написал в США, куда он перебрался в 1929 г., ораторию о крушении западнической русской культуры «Конец Санкт-Петербурга», находясь под впечатлением одноименного «евразийского» фильма Всеволода Пудовкина. Александр Черепнин заявлял в одном интервью 1933 г., что «он как русский в искусстве должен выполнить „евразийскую миссию“»[428] — и действительно выполнял ее, практически участвуя в музыкальной жизни Китая. Маркевич наделе осуществил иное слышание гармонии, ритма и мелодизма — настолько отличное от слуховой логики большинства его современников, что отрыв от аудитории привел композитора к творческому молчанию. Прокофьев, отдавший в свое время немалую дань высвобождающим поискам языка, отличного от западноевропейских моделей, и приближению к ноуменальной форме в «Скифской сюите», «Семеро их», Второй симфонии, «Огненном ангеле», продолжил своеобразный диалог с евразийским уклонением, и в первую очередь с «Концом Санкт-Петербурга» Дукельского, в созданных уже в СССР «Кантате к XX-летию Октября» (1936–1937), а также «Здравице» (1939). Наиболее интересным в этих двух произведениях Прокофьева является возвращение к музыкальным и даже политическим идеям об идущем на смену западной типовой форме новом эстетическом и политическом мирочувствовании, а также — особенно в «Здравице» — воссоздание архаического ритуала (совсем по Стравинскому эпохи «Весны» и «Свадебки») и присутствующие там отсылки к финалу «Конца Санкт-Петербурга» Дукельского. Маркевич же предпочел эстетически революционной музыке — именно в тот момент, когда осознал недостаточную силу ее воздействия на слушателей и миропорядок в целом, — пропаганду творчества других и вообще активную жизнь в социуме.
Удалось ли Сувчинскому и Лурье добиться главного — через пропаганду и воплощение собственной эстетической программы утвердить в сознании современников необходимость революции музыкальной формы, трансцендентального единства ее элементов и онтологизации музыкального проживания? Удалось ли им убедить не только непосредственно соприкасавшихся с ними современников (Стравинского, Прокофьева, Дукельского, Маркевича…), но и многих других, что их понимание формы и музыкального времени выступает ипостасью динамической солидарности и конечного покоя (единства) социальных и космоисторических элементов? А ведь именно таков был философский и политический замах евразийства.
И да, и нет. Ровно настолько, насколько идеи эти были частью общей интеллектуальной дискуссии 1920–1930-х годов, они нашли себе место на Западе и — в лице Прокофьева — в изолированном от остального мира СССР. Уже после Второй мировой войны Сувчинский сблизился с тогдашней западноевропейской музыкальной молодежью в лице Булеза, Штокхаузена и других, сочетавших формальный радикализм с онтологическим восприятием музыкального процесса, что не в последнюю очередь подкреплялось вниманием молодых музыкальных радикалов к незападным духовным практикам.
Однако, сказав все, что они имели сказать о музыке, о политике и о других предметах, евразийцы так и не смогли изменить эстетического и политического развития внутри России (ибо в большинстве своем находились вне ее), не сумели повернуть в другую сторону тот тип модернизации общества и его культуры, который они с таким несогласием наблюдали на родине. Хотя Сувчинский и утверждал, что «россияне в оседлости разлагаются, а становятся практиками и организаторами в кочевничьей оторванности, в кажущемся анархичном устремлении»[429], — при отсутствии реальных рычагов воздействия «кочевнического» интеллектуального авангарда на «оседлую» метрополию — попытки поддерживать контакт с СССР и даже отдельные поездки туда и самоубийственные возвращения оказывались каплей в море: иного результата и быть не могло.
Композиторское молчание Маркевича было, может быть, наиболее радикальным ответом на изменившиеся исторические обстоятельства, но — вполне в духе того, что испытывали другие зарубежные русские. Дукельский, другой чрезвычайно талантливый композитор-эмигрант младшего поколения, начиная с Третьей симфонии (1944–1946) обращается к восстановлению позднеромантического музыкального языка, а потом, к концу 1950-х, и вовсе переходит от активного композиторства к музыкально-просветительской деятельности в рамках созданного им «Общества забытой музыки» и к деятельности литературной — писанию мемуаров, английских и русских полемических статей и русских стихов. Сувчинский все более и более склоняется к поддержке близких его сердцу авангардных музыкальных практик, что и привело его к переориентации на «дармштадтцев» Штокхаузена, Булеза, Ноно и европейскую музыкальную молодежь в целом. Заинтересованность в художественном эксперименте победила в нем все остальное. Внимание же к творчеству тех, кто прежде определял в его глазах «евразийский» путь русской музыки, независимый от «убожества современной советской „эстетики“»[430], — в первую очередь к творчеству Стравинского и Прокофьева, но также и Лурье и Дукельского — перестало быть у него главенствующим, хотя личная дружба со Стравинским и в меньшей степени с Дукельским сохранялась. Характерны следующие высказывания из письма Дукельскому от 14 августа 1947 г.:
Несмотря на все твои успехи — и в Твоей жизни сказался факт, что мы, в конце концов, «апатриды». <…> Конечно, жить «апатридами» можно, но все-таки чего-то важного в нас не хватает, и, несмотря на всевозможные таланты и нашу приспособляемость, — мы все-таки поколение людей «ущербленных». <…> Мне кажется, что в политическом отношении европейское сознание должно быть нейтральным (между Россией и Америкой), т. е. независимым от обеих систем. И эта установка должна будет иметь большое влияние на все стороны культурной жизни. Все это я Тебе пишу для того, чтобы Тебе стала яснее моя радость, что Ты решаешь делать «ставку на Европу». По всем данным, Америка все-таки разлагает людей, и в какой-то момент нужно спасаться и срочно возвращаться к европейскому мироощущению и миросозерцанию[431].
Ни о какой «Евразии», как мы видим, речи уже не идет. Из трех доминировавших тогда моделей «западности» — евразийской, европейской и североамериканской — Сувчинский, вслед за Стравинским, выбирает европейскую (интеллектуально Стравинский остался западным европейцем и по переселении в Северную Америку: в 1950–1960-е годы он выступал главным союзником западноевропейского музыкального авангарда в США и даже завещал похоронить себя в Европе). Дукельский, однако, вопреки пожеланиям Сувчинского в «европейца» не превратился, а попытался быть русским и американцем одновременно.
Лурье оказывается в полном одиночестве и, хотя и остается верен идее «Евразии» до конца, отказывается в 1940-е годы от пропаганды «музыкального национализма» и упрощает свой музыкальный язык. Его «Погребальные игры в честь Хроноса» (1964) — значимое тому свидетельство. Таким образом, мы вправе сказать, что практическое снятие «евразийской музыкальной парадигмы» было связано с осуществлением заложенного в ней проекта. Каковы же были результаты этого осуществления?
Они оказались самыми положительными. Все музыкальные произведения, какие должны были быть написаны, были написаны и исполнены. Сейчас, по прошествии десятилетий, их исполняют вновь и впервые записывают. Значит, музыка эта не канула, осталась и в западноевропейской (которую евразийцы беспощадно критиковали), и в североамериканской, и в русской (к которой они себя причисляли) традиции. Однако безвозвратно изменился контекст, в котором эти произведения должны были звучать. Евразийский музыкальный проект, как мы имели возможность убедиться, был народническим, ибо еще существовал «народ», т. е. достаточно дифференцированная общность личностей, к которым можно было обращаться музыкально, пусть даже и не сразу, напрямую, но, учитывая ситуацию эмиграции, в некотором будущем. Однако если в коммунистическое время Россия так и не стала по-настоящему массовым обществом, то теперь после упиравших на вестернизацию без модернизации гайдаровских реформ, равных по разрушительной силе для прежнего русского уклада проигрышу Германии в Первой мировой войне и биржевому краху 1929 г. в Америке, говорить о многосоставном русском «народе», а не о «массе» в общем и для Европы (социальная демократия), и для Северной Америки (социальная олигархия) смысле не представляется возможным. У массового общества — особый тип культурного сознания, и живет оно по своим собственным законам.
В настоящее время делаются попытки вывести из радикальных эстетических построений Сувчинского и Лурье дефиницию их политических симпатий. Ричард Тарускин с явным перехлестом (к сожалению, свойственным его интереснейшим книгам) зачем-то заводит речь о «фашизме»[432]. Однако доподлинно известно о левой политической ориентации как Сувчинского, так и Лурье: ведь именно в их политической «левизне» укоренены присущие им идеи солидарности, диалектического целеполагания и разумного, но не рационального (эти понятия должны различаться) соотношения элементов эстетического — и политического — целого. Впрочем, их левизна и антибуржуазные взгляды должны быть скорректированы наличием пиетета к христианству, что неизбежно требовало вслед за принятием онтологического Абсолюта принять и «порядок» в маритеновском смысле. Едва ли можно говорить об изоляционизме обоих: для них евразийство, в том числе евразийство музыкальное, было «вызовом», радикальной критикой Запада, в первую очередь Запада европейского, но в рамках единого западного контекста (это часто, возможно намеренно, упускается из виду). Правильно было бы определять их взгляды как религиозный социализм целостного, но не тоталитарного типа, что делает понятным приведенное выше определение, данное Сувчинским мечтавшейся ему Pax Eurasiana как политико-географическому образованию, соединяющему «первичную религиозно-культурную субстанцию» с «трудовым антикапиталистическим государством».
Имеют ли что-либо общее эти взгляды с деятельностью политических сил внутри современной России, объявляющих о своем принятии евразийских идей? Это смотря каких. Эстетическая же программа Сувчинского и Лурье, будучи на деле осуществленной, кажется и вовсе снятой с повестки дня. То, что она нашла большее понимание не в России, к которой она была обращена, а за ее пределами, — уже другой вопрос.
Наиболее ценными и понятными останутся в музыкальном евразийстве, очевидно, его «футуристический» и лидерский пафос и полная независимость от позиции «западных коллег», т. е. стремление продолжать движение в сторону самопознания без диктата чуждых самопознанию схем. Заслуживает серьезного внимания и концепция музыкальной формы, родственная аналогичным эстетическим разработкам Андрея Белого (форма в словесном искусстве) и Алексея Лосева (эстетическая форма вообще). Учитывая же антимодернистский уклон евразийской музыкальной эстетики, ибо европейский Запад и был равен для Лурье, Дукельского, Сувчинского модернизму, особость понимания музыкальной формы евразийцами может быть выражена следующим образом:
«Музыкальное евразийство» // «Западный модернизм»целостная диалектика музыкальной формы //против// рационалистической метафизики формы
динамическая статика (снятие оппозиции «прогрессивного» и «консервативного») //против// психологического динамизма («прогрессист» Шёнберг, его школа и последователи[433]); имперсональной статики (неоклассицизм последователей Стравинского «послерусского» периода[434])
ноуменальность //против// феноменальности
попытка взгляда из «не-я» //против// «я»-перспективы.
Наконец, сами произведения евразийцев и тех, на кого они сильно повлияли, просто интересно читать и слушать.
Сейчас, как и в послепетровское время, Россия, прежде альтернатив(н)а(я модель), снова стала одной из «провинций Запада», европейского и североамериканского одновременно (которые ныне продолжают борьбу друг с другом за единственно правильное понимание западности). Каков будет антитезис этому — несомненно, нездоровому и отчасти шизофреническому — состоянию России, новому и старому одновременно, будет ли она и дальше молчать, психологически загнанная в угол, как хотят, вопреки одному из принципов западности — свободному критическому размышлению, наиболее недальновидные ее оппоненты, или страна сможет снова давать ответы на вопросы о дальнейших путях Запада; будет ли в этих ответах задействован, хотя бы и в сильно скорректированном виде, опыт русского музыкального евразийства, — покажет будущее.
2000–2004
СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ
При подготовке материалов настоящего раздела к печати за основу бралась почти всегда первая публикация или, в некоторых случаях, рукопись. Исправлены опечатки (и описки), пунктуация и орфография приближены к современным. В квадратные скобки заключены конъектуры, принадлежащие составителю; в угловых скобках сообщается информация, заключенная в такие скобки в предшествующих изданиях либо указывающая на время написания текста, если это время не проставлено в тексте либо проставлено ошибочно. Как правило, время написания/публикации помещается сразу после заглавия каждого текста в обычных скобках. Все сноски, обозначенные арабскими цифрами, принадлежат авторам. Все примечания, обозначенные звездочками, принадлежат составителю. Лишь в одном случае — в порядке исключения — составитель счел возможным сохранить примечания предшествующего публикатора, обозначив их римскими цифрами.
И. Г. Вишневецкий
В. Дукельский в 1937 году
А. Лурьев в 1916 году (рис. С. Сорина)
И. Маркевич
С. Прокофьев, И. Стравинский, Э. Ансерме, П. Сувчинский в 1929 году
С. Прокофиев в 1932 году
П. Сувчинский в конце 1940-х годов
Кн. Д. Святополк-Мирский, С. Прокофиев и П. Сувчинский в 1927 году (24 сентября)
1. Артур Лурье
а) Предъевразийский период (1914–1922)
Манифест «Мы и Запад» (1914)
Европу в ее творческих исканиях (достижений не было!) постиг кризис, внешне выразившийся в обращении к Востоку. НЕ ВО ВЛАСТИ ЗАПАДА ПОСТИЖЕНИЕ ВОСТОКА, ибо первым утрачено представление о пределах искусства (смешаны вопросы философии и эстетики с методами воплощения в искусстве). ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО АРХАИЧНО, И НОВОГО ИСКУССТВА В ЕВРОПЕ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, т. к. последнее строится на КОСМИЧЕСКИХ элементах. Все же искусство Запада ТЕРРИТОРИАЛЬНО. Единственная страна, доселе не имеющая территориального искусства, есть Россия. Вся работа Запада направлена на ФОРМАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ достижений старого искусства (старая эстетика). Все же попытки Запада в сторону построений новой эстетики, как априорные, а не апостериорные, ФАТАЛЬНО-КАТАСТРОФИЧНЫ: новая эстетика следует за новым искусством, а не наоборот. Признавая различие в ходе Западного и Восточного искусств (искусство Запада — воплощение геометрического мировосприятия, идущего от объекта к субъекту, искусство Востока — воплощение мировосприятия алгебраического, направляющегося от субъекта к объекту), мы утверждаем в качестве начал, ОБЩИХ для живописи, поэзии и музыки:
1) произвольный спектр,
2) произвольную глубину,
3) самодовление темпов, как методов воплощения, и ритмов, как непреложных;
и в качестве СПЕЦИАЛЬНЫХ
ДЛЯ ЖИВОПИСИ: 1) отрицание построения по конусу, как тригонометрической перспективы; 2) диссонансы. ГЕОРГИЙ ЯКУЛОВ.
ДЛЯ ПОЭЗИИ: 1) непрерывность единичной словесной массы; 2) дифференциация масс разной степени разрешенности: литоидных, флюидных и фосфоидных; 3) преодоление акциденталистического подхода. БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ.
ДЛЯ МУЗЫКИ: 1) преодоление линиарности (архитектоники) путем внутренней перспективы (синтез-примитив); 2) субстанциональность элементов. АРТУР-ВИНЦЕНТ ЛУРЬЕ.
Источник текста МАРКОВ, 1967.[435]
К музыке высшего хроматизма (1915)
Введение четвертных тонов — начало, в полном смысле, новой органической эпохи, выходящей из граней воплощения существующих музыкальных форм.
Помимо возможности в настоящее время воспроизведения высшего хроматизма в оркестре, реконструкция рояля (введение четвертных тонов) осуществится в ближайшем будущем ввиду деятельности лиц, работающих над реальным разрешением этого вопроса.
Предлагаемый здесь проект высшего хроматизма рассчитан на простоту применения.
Этот способ дает возможность сохранить временно существующий нотный стан и не разрушает прежних гармонических концепций.
Предлагаемый новый знак и 4(quartièse) — повышает на ¼ тона, в опрокинутом виде
Целесообразность предлагаемой системы в экономности и стильной начертательности новых знаков. Все прежние знаки сохраняют свою силу по отношению к хроматизму ½ тонов.
В старом хроматизме два звука равномерного повышения, обозначаемых нотой одной и той же ступени:
Высший хроматизм требует четыре обозначения одной и той же ступени в равномерном повышении.
То же в сторону равномерного понижения.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1915.[436]
Речь к юношам-артистам Кавказа (апрель 1917)
Друзья! Я пользуюсь своим пребыванием в вашем краю, для того чтобы передать вам привет от моих товарищей по искусству и единомышленников, объединенных одними задачами и единой волей в осуществлении чаяний, провозглашенных нами в произведениях и в нашей деятельности. В осуществлении лозунгов, выдвинутых за последние годы группами артистов — молодой русской школы…
Мы знаем и верим, что проблема Азии, тот аспект России, который мы видим в его азийном раскрытии, должен стать наконец и для вас близким и ясным…
Органичность русского искусства в его тяготении к Азии и Востоку — пламенный отказ от тлетворности изжитого Запада (не в территориальном смысле, но в плане его духа).
Эти положения, впервые в периоде нового искусства, остро поставленные в нашей декларации в январе 1914 года накануне мировой войны[437], вновь, совсем еще недавно нашли отклик в письме японцев к юношам русской земли и в прелестном ответе японцам поэта Хлебникова…[*]
За истекший трехлетний период, столь непродолжительный по времени, но столь грандиозный по историческим событиям во внешней и внутренней жизни нашей родины, положения, выдвинутые нами, не понятые и не оцененные критикой и публикой, в настоящее время для очень многих являются отнюдь не голословным утверждением или праздным измышлением одиноких, своеобразно мыслящих…
Вопрос о самоопределении русского искусства в аспекте Азии — стал самодовлеющим утверждением — магическим кристаллом большинства наших молодых артистов и выражен ими в их творениях. (В пластике, звуке и слове…)
В этом одно из главных значений художественной современности России, и, быть может, именно здесь коренной разрыв с теми, кто заставлял и заставляют русское искусство быть в рабском подчинении чуждым культурам, прививая развращающую безвольность и упадочность западного художественного темперамента и интеллекта со всею его исключительной пресыщенностью и бесплодностью устремлений. Нам бесконечно враждебны те, кто утерял все свои права на стихийную органичность и свежесть азийного восприятия в его высокой мудрости и вечной детскости, в его жертвенном отношении к творчеству как к акту мировой воли.
Не отрицанием огромной роли Запада являются эти слова. Смешно было бы и наивно утверждать подобное. Подчеркиваю еще раз, что Азию нужно здесь понимать не в смысле территориальном только, но, главное, как систему духовной конструкции, как план созерцаний, определяющий чувственный опыт Востока. (Современность знает азиатов по происхождению и территории, являющихся типическими западниками по своей духовной сущности, и обратное.) Мы констатируем лишь, что эволюция в последовательном, поступательном порядке привела Запад к катастрофичности творчества, к полному духовному банкротству, и в лице своих отдельных значительнейших артистов и мыслителей Запад сам нам являет отчетливый пример ухода к первобытным, цельным культурам Востока; ибо здесь, в купели первобытной целостности и чистоты художественного созерцания, мнится спасение и свобода…
Здесь, в колыбели народов, ищут забвения и исцеления многие из наших западных соседей…
Я говорю о разнице мировоззрений и мироощущений Запада и Востока, т. е. в вопросах искусства об отношении к материалу и воплощению.
Линеарное искусство Запада, фатально замкнутое в пределах двух измерений, обречено на вечное пребывание на «поверхности», ибо «разум» не в состоянии справиться и проконтролировать даже третьего измерения в «глубину». В силу этого достижения современности в плане хотя бы одного лишь третьего измерения в материалах искусства и в воплощении кажутся безумием и абсурдом всем тем, кто воспринимает творческий акт в его «разумной», «логической» конструктивности.
Таков он, этот западный рационалистический «разум»… В этом плане художественное восприятие неизменно превращается в прогулку на костылях «разума» по дивным творениям, с непременным (внутренне необходимым) условием — возможности абсолютного контроля на местах любой остановки. Отсюда нападки на современную живопись, поскольку она перестает быть двухмерной и отделяется от поверхности холста, и отсюда же возникают нападки на современную музыку, преодолевающую текучую архитектонику линеарных воплощений во времени (длительность и высота) и оперирующую с третьим измерением, направленным в «глубину» звуковых перспектив…
Со времен Алексея Михайловича «Тишайшего», царя, последнего хранителя и выразителя азийного духа нашей земли, в жизни России уход от Азии длился мучительно долго, начиная от Петра, повернувшего к «иноземным берегам» все корабли российской государственности, искусства и религии…
«Тяга на Запад» — проходит через все периоды после Петровской эпохи и является результатом этого наследия, нам навязанного Петром. Несмотря на то что в моменты наибольшей силы, в лице своих гениальных выразителей, русское искусство, даже в периоды насильственного подчинения, было чуждым западному духу и ему противоположным — только эпоха новейшей формации знаменует действительный внутренний разрыв с Западом и поворот к собственным берегам…
Азия — тяжелая радуга, дуга, брошенная над мирами… Закаленная сталь лунной мужественности и распыленное золото оплодотворяющих женственных солнц… Ее дерзания, всегда трепещущая плоть в вечном рождении новых материалов… Ее воплощения, монументальная суровость — глубинных постижений…
В тончайшей прелести, из неразгаданных тайн зарождения всех возможностей, раскрываются ее лики. Ее красота девственно-целомудренна, непостижима в своей глубине.
«Оседлать его — тем дальше уйдет,
Распознать его — тем истиннее».[*]
Европа, обреченная трагической жертвенности своего «разума», гибнущая в разъедающем критицизме своих умозрительных систем, органически чужда азийскому духу — чувственному мистицизму постижений чистых гармоний духа и материи, самодовлеющих ценностей и самопроизвольных, чужда гению, творящему мгновенным прикосновением, бесплотным…
«Перстами легкими как сон»…[*]
Вот чего мы волим — искусство, освобожденное от гиблого плена «разума» и очищенное от утилитарности даже в эмоциональном смысле (ложность «готовых» эмоций, вдуваемых)…
Утверждаем мужественность молнийную, пронизывающую миры творениями светлой игры чувств (преодоленных материй).
После величайшего катарсиса, который пережило человечество в период 3-летней войны, теперь, когда этот процесс жертвенного «очищения» близится к концу, не повторять историю Запада и его ошибок призваны мы волею божественных судеб, а свершить небывалое: чудо преображения народов. Россия является в настоящий момент страной, куда должны быть обращены взоры Запада, как к источнику исцеления, т. к. в противоположность Западу сила России в ее будущем.
Аспект России, понятый в его азийном раскрытии, — вершины, чаша мудрости и неизбывной красоты. Азия — в пленительных и тонких снах юношей-артистов нашей земли — станет светлым заветом, надеждой заповеданной России, и в золотое утро нашего воскресения, в освобожденных городах и весях, мы вновь говорим о самобытном искусстве русской земли. Пусть умолкнут голоса пугливых и сомневающихся, торопливо навязывающих нам государственность, истасканную Западом. Россия найдет свои формы, формы своего строительства государственного и религиозного и своего искусства; и даст их, как встарь, в творчестве народного духа в высшей кристаллизации…
Кавказ, Баку. Апрель 1917 г.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1917.[441]
Скрябин и русская музыка (апрель 1920)[442]
Скрябин был столь значительным событием в русской художественной жизни, что пятилетие, прошедшее после его смерти, позволяет нам остановить на момент общественное внимание в головокружительном водовороте событий наших дней.
Пять лет прошло с тех пор, как умер Скрябин, и теперь, за этот срок, все то, что связано с его жизнью и творчеством, стало достоянием прошлого.
Период русского искусства, связанный с именем Скрябина, составит ближайшие страницы из истории русской музыки. Быть может, ни один из столпов русской музыки не вызывал вокруг себя такой разноголосицы в мнениях и оценке, какой был окружен Скрябин при жизни.
Мы все помним эти годы ожесточенных дискуссий при исполнении его новых произведений, когда восторженность друзей сталкивалась с унылым пожиманием плеч и упорным отрицанием врагов. Все это в прошлом. О творчестве Скрябина написано и сказано было многое, но почти все это возникало при нем в атмосфере напряженно страстного отношения к нему друзей и врагов и связано было почти всегда с появлением тех или иных его новых произведений.
Теперь, когда отшумели и утихли вызванные им страсти, когда творчество Скрябина стало культурным достоянием русского искусства, и если отбросить то, что является общим местом в отношении к его творчеству, быть может, до некоторой степени созрела возможность объективного к нему подхода и установления художественной оценки в аспекте музыкально-исторической критики.
Я не собираюсь дать подробный, исчерпывающий ответ на поставленную мною тему о роли Скрябина в русской музыке, тема эта слишком сложна и обширна для данного случая и может иметь место лишь в исчерпывающей, специальной работе. Попытаюсь поставить хотя бы основные вопросы, вытекающие изданной темы, и найти их разрешение в аспекте хотя бы ближайшей и, быть может, приблизительной исторической оценки.
Истории русской музыки не существует в научном смысле.
Она существует лишь в индивидуальном сознании музыкантов и в их непосредственном творчестве.
Это глубоко знаменательный факт.
Мы не мыслим ни одно хоть сколько-нибудь значительное событие в русской художественной общественности, в каком угодно плане искусств, вне его связи с прошлым, и легко установить единую, непрерывную линию в художественной литературе, поэзии и живописи (независимо от методов и направлений), ибо писатель, художник или поэт, в особенности поэт, бесконечное звено одной и той же цепи, — в явлениях музыкального творчества в России мы наталкиваемся на расщепленные величины, редко между собою связанные и обособленно существующие в художественной жизни.
Как в основах русской музыкальной культуры, так и в критическом осознании русского музыкального творчества опыт установления преемственности и исторической связи, а равно и общности задач и художественных идеалов, отчетливо являет нам два основных направления, два пути, самостоятельных и параллельных в истории русской музыкальной науки и культуры и в эволюции музыкального творчества.
Эти пути предопределены были всем ходом русской музыки и общественной жизни и [заметны] в творчестве, начиная от Глинки. Чрезвычайно любопытным является то обстоятельство, что эти два основных направления, два пути, очень отчетливо проходящие через всю русскую музыкальную жизнь, находятся в обратных отношениях к явлениям музыкальной науки и культуры, с одной стороны, и художественного творчества, с другой, и заложены были в двух государственных центрах России, в Москве и Петербурге.
То, что являет собою подлинную сущность русской музыки в ее глубокой органической связи с народным песнетворчеством, начиная от Глинки, целая плеяда имен, связано с петербургской национальной школой.
Глинка, Мусоргский, Даргомыжский, Бородин, Балакирев, Корсаков, Глазунов и даже в наши дни Стравинский…
Параллельно тому с Москвой связана вереница больших русских мастеров, являющихся глубокими индивидуалистами по своему творчеству и художественному мировосприятию и ничем друг с другом не связанных, а равно не связанных и с основной русской школой: Чайковский, Танеев, Рахманинов, Скрябин и в наши дни Метнер, представляющий собою очень любопытное явление на фоне русской музыки…
Эта разобщенность является в некотором смысле глубоким разладом по существу — имевшим весьма серьезные последствия для всей русской музыкальной жизни.
В свое время связь пытался установить Чайковский с балакиревской группой, но она не удалась: здесь не место останавливаться на этом явлении, являющемся безусловным историческим фактом, но указания на эти основные пути в русской музыке необходимы для выяснения той позиции, которую занимает творчество Скрябина на этих путях.
Скрябин, конечно, всецело принадлежит к московской группе музыкантов. Эта связь, конечно, отнюдь не территориальна, здесь не играет никакой роли то, что Скрябин прожил значительную часть своей жизни в Москве, самое существенное то, что Скрябин никогда за всю свою жизнь и деятельность не искал установления для себя связи с основными путями русской музыки по существу. Все то, что было идеалом русской национальной школы, те заветы, которые были даны Глинкой, ему оставались глубоко чуждыми. Его художественным материалом никогда не была и не стала народная природа его искусства, каково было его отношение к общей русской культуре и к русской общественности, нам неизвестно[*], его сочинения не дают для этого материалов. С первых же сознательных шагов своего творчества он с исключительной жадностью стал впитывать в себя художественную культуру Западной Европы.
Приняв достижения западной художественной культуры и творчества за основу для своего искусства, он в своих монументальных заданиях сразу, с первых же шагов поставил перед собой задачи общечеловеческие и всенародные.
Крайний субъективизм Скрябина, конечно, в сильной степени находится в зависимости от господства индивидуалистических идей в художественных кругах его времени, это несомненная зависимость от эпохи, в которой он жил, все это так, но главное не в этом. Основные причины, предопределившие его художественное мировоззрение и весь его творческий путь, возникли вследствие его разрыва, бессознательного, ибо он никогда не останавливался на этом, с русской национальной школой и вследствие его попытки установления непосредственной связи с Западом. Он был первым русским музыкантом, принявшим для своего творчества за основу исключительно западную музыкальную культуру, в современном для него аспекте.
В этом сказалась новизна положения для него как для русского музыканта.
Действительно, в этой структуре художественной преемственности, которую можно установить на его произведениях, нет ни одного момента воздействия на него русской музыки, зато здесь налицо все поздние достижения романтиков: Шопен, Лист и Вагнер.
В основу творчества Скрябина вошло все то, что характеризует внешний расцвет западноевропейской музыки XIX века доскрябинского периода в России, т. е. до 80-х годов.
Здесь опять-таки произошло весьма знаменательное событие.
В то время как Скрябин в безудержном порыве новатора, стремящегося к новым берегам и новым путям, впитывает в себя западноевропейскую музыку, на Западе происходит обратное, там создается новая школа, возглавляемая Дебюсси, школа, которой в недалеком будущем суждено было стать школой национального возрождения для французской музыки, и ее деятельность проходит под знаком решительной реакции против музыки XIX в[ека], главным образом против гегемонии Вагнеровых идей, и взоры всех наиболее передовых музыкантов Западной Европы вместе с Дебюсси обращаются на Восток, к России…
Таким образом, ценой разрыва с путями русской музыки и принеся их в жертву, Скрябин явился оздоровителем одряхлевшей западноевропейской музыки, в которую он влил свежую кровь, свой огромный, стихийный темперамент русского музыканта. Путь, взятый Скрябиным, явился совершенно новым для русской музыки, не имевшим места в ее прошлом, но причины, о которых я говорил ранее, т. е., с одной стороны, разрыв с русской музыкой, в смысле ее исконных путей и задач, им не понятых, и, с другой стороны, решительный поворот, происшедший в передовых кругах европейских музыкантов, отбросивших изжитую и одряхлевшую культуру европейской музыки и устремившихся к варварской свежести Востока, т. е. погружение главным образом в русскую музыку с ее стихийной эмоциональной непосредственностью в песне, в дикой красочности колорита и упругости ритма, вот те причины, которые создали Скрябину трагическое одиночество и предопределили его крайний индивидуализм.
Апология индивидуализма, субъективизма, доходящего до крайних пределов, легла в основу мировоззрения Скрябина с первых же моментов его художественного самосознания и определила собою весь его творческий путь. Искусство, замкнутое в кругу посвященных, избранных, долженствовавшее своим активным магическим воздействием стать доступным понимаю и чувствованию всех.
В основу своего творчества Скрябин положил своеобразную эстетико-философскую систему, которой он придавал огромное значение.
Всем своим крупным сочинениям, симфониям и некоторым сонатам он предпосылал им самим сочиненные тексты в виде программ к музыке.
В тех же случаях, когда он не писал особых программных текстов, он до такой степени пронизывал свои сочинения литературной терминологией, в виде ремарок для исполнения, что это являлось всегда как бы программой к пониманию его замыслов.
Теперь, когда мы слушаем Скрябина, мы воспринимаем его произведения в их чисто музыкальном значении, и попытка связать их с программными текстами в сильной степени лишает нас той непосредственности восприятия и того воздействия, которые производит музыка.
В этом главное достоинство Скрябина, что был он прежде всего музыкантом, и говорил он изумительно на своем родном звуковом языке, и все программы, им написанные, не обязательны для тех, кто их не принимает, в то время как его симфонии живут и будут жить поразительной жизнью…
Скрябин как бы описал круг в безвоздушном пространстве, вокруг себя самого. Все его творчество оказалось замкнутым в нем самом. Отсюда все то кипение внешних страстей в оценке его произведений, которое вокруг него создавалось.
Разрывая все то, что могло бы его связать с прошлым, он создал внутренне и внешне законченный для себя самого мир идей и форм.
Основанием, на котором он строил свое творчество, служила для него своеобразная, полуэстетическая, полуфилософская концепция идей[*], которая явилась его художественным мировоззрением. Импульсивно отталкиваясь от этих своих оккультных полуфилософских, полуэстетических программ, он создавал в процессе экстатической взвинченности свои удивительные музыкальные произведения. Теперь, когда прошел пятилетний, столь продолжительный для темпа нашего времени период, мы знаем, что художественное достоинство его произведений, в смысле чисто музыкальном, к счастью, не находится ни в какой органической зависимости от его литературных программных предпосылок. И все те упреки, которые могут быть сделаны по адресу идеологии Скрябина, к его музыке относятся слабо. Скрябин прежде всего был и является музыкантом. Его мировоззрение является в значительной степени отражением направлений его эпохи в некоторой части философских, литературных и художественных кругов его времени и им лишь сгущено и доведено до исключительной настойчивости и напряженности. Его произведения живут вне круга идей его времени, и то, что оказалось фатальным для многих его современников, произведения которых отцвели вместе с увяданием художественных направлений их времени, — его не коснулось. При восприятии его произведений его музыка так же внепрограммна, в узком смысле, как музыка любого из больших мастеров прошлого.
Философия Скрябина очень важна лишь при изучении его произведений и исследовании их.
Изучая весь поступательный ход его творчества, мы наблюдаем, в какой поразительной и прямолинейной зависимости находились его произведения от его идеологии.
Он направил свой огромный художественный темперамент по определенному, им заранее выбранному пути и никогда не уклонялся с этого пути в сторону. Идея Мистерии была для него великой Химерой, к овладению и воплощению которой он стремился во всю свою жизнь, и его произведения являются лишь музыкальными проекциями этой одной огромной химерической идеи.
Здесь творческий процесс определился у него сразу. Крайне индивидуальное становление и кристаллизация субъективных переживаний во всем разнообразии музыкальных форм, сочиненных для фортепиано, и конечные утверждения как результат достижений в монументальной симфонической форме.
Свои симфонии он утверждал как всенародные и мыслил их ступенями, восходящими к окончательному завершению его идеи в Мистерии, во всенародном, соборном действии.
Скрябин опирался на свою идеологию, в которую он интуитивно и безусловно верил, как в свой внутренний творческий опыт, в его действенном религиозном смысле, и это был необходимый для него путь преодоления схоластической косности, условной схематичности музыкальных форм и эмоциональной атрофии изжитого звукового материала. Преодолевая схематизм музыкальных форм прошлого, он утверждал экстаз как бы в виде новой формы однажды им прочувствованного и продуманного творческого процесса от момента становления до момента утверждения. Эта форма творческого экстаза, повторная у него от одного произведения к другому, изменялась лишь в сторону все большего и большего расширения горизонтов, вовлекая в сферу своего воздействия все больше и больше сил и видоизменяясь лишь в напряженной и кипящей страстности. Эта как бы кристаллизация экстатической формы, очистительный огонь экстаза, то, что древние называли кафарсисом, у Скрябина в своей повторности наблюдается почти во всех его произведениях, даже в самых мелких формах, являющихся как бы маленькими кристаллами одного и того же формообразования. Скрябин, в сущности, всю свою жизнь писал одно и то же повторение.
Одно из центральных мест в творчестве Скрябина занимает его стремление к синтезу искусств. На этом нужно несколько остановиться. Искание синтеза стало основой творчества Скрябина, это было для него совершенно естественным следствием его идеи о мистерии как о синтетическом всенародном, соборном действии.
Тяготение к синтетическому искусству определяет собою вторую половину XIX в[ека] и начало XX в[ека] до наших дней. Эволюция Музык[альной] Драмы, по Вагнеру, шла в направлении синтетического действия. Но театр Вагнера дал механическое условное соединение разнородных искусств, а не их органическое взаимодействие, но с последней четверти XIX в[ека], начиная главным образом от Сезан[н]а в живописи, утверждается синтетическое направление, которое становится господствующим и наиболее сильным во всех областях искусства — в живописи, литературе, поэзии и музыке.
Синтетическое искусство становится задачей эпохи всего конца XIX в[ека] и начала XX в[ека] вплоть до наших дней. Но синтетическое искусство и синтез искусств, конечно, понятия совершенно различные. Скрябин совершенно формально подошел к вопросу о синтезе искусства, и его опыты были неудачны, но по существу его творчество было глубоко синтетичным, как в художественном материале, так и в методах воплощения. Здесь мы подходим к значению Скрябина как интерпретатора.
Скрябин как исполнитель своих произведений был совершенно изумительным артистом. Вся таинственная прелесть и очарование его интерпретации заключались в том, что его воспроизведение было исключительно синтетичным. Он обладал поразительно редким, почти утерянным в современности даром пафоса импровизации.
В моменты воспроизведения он творил свои сочинения как бы заново. То, что оставлено им в его тетрадях, является лишь шифром к его вещам, ключом к которому служит то непередаваемое и необъяснимое, что называется в музыке Tempo rubato. Это божественно свободный ритм, которым обладают лишь исключительно избранные и научить которому совершенно невозможно. Этот ритм возникает впервые у Шопена и пронизывает все его произведения. Органически связанный с гомофоническим стилем, этот ритм находит некоторое отражение у Шумана и очень слабое у Листа, в произведениях которого он почти теряется и переходит в инструментальные речитативы.
В произведениях Скрябина этот ритм вновь возрождается и находит свое исключительное воплощение.
Tempo rubato в музыке — это подлинный лирический пафос, то, что в поэзии называют голосом поэта.
Это та внутренняя свобода художественного темперамента, которая позволяет произвольно передвигать тактовую черту внутри музыкального произведения, не разрушая архитектоничность формы и не нарушая пропорций[*].
Для тех, кто этого не ощущает, фортепианные произведения Скрябина мертвы и бездушны. Быть может, именно этим объясняется то, что до сих пор нет, после его смерти, хотя бы приблизительно правильного подхода к истолкованию его произведений. Это совершенно трагично хотя бы для тех, кто слышал самого Скрябина. Скрябин был синтетичен в своем исполнении. Тезой для него являлось внешнее восприятие мира идей, чувств и форм, непосредственное ощущение жизни, антитезой он мыслил себя самого, как преодоление своего индивидуального «слишком человеческого», и синтезом являлась форма как воплощение целого. Этот органический процесс был в исключительной мере свойственен Скрябину в его творчестве и в исполнении. Синтетичность материала он знал в полной мере. Он знал органичность и взаимодействие ритмов, именно ритмов, а не метра, который в его произведениях почти не играет роли. Он знал и воплотил ритмы не только как временные и пространственные величины: но ритмы динамики, тембра и мелодии, и форма у него всегда синтетическое взаимодействие этих ритмов, вместе взятых. Даже зачастую внутри схематической, схоластической формы, внешне условно построенной, он творил форму органически синтетическую. Его подход к синтезу искусств был неудачен и безусловно неправилен вследствие того, что он явился преждевременным для его эпохи. Лишь в наши дни, когда выкован органический синтетический материал, очищенный от всех «примесей», когда вопросы изучения материала и методов воплощения стали самодовлеющими для каждого из искусств, лишь теперь становятся несколько более отчетливыми очертания синтетического взаимодействия разнородных искусств…
Творчество Скрябина за тот период времени, который нас отделяет от его жизни, уже в изрядной степени запылено теориями, хотя бы и «новыми теориями», но это дела не меняет. Достижения Скрябина в области гармонии, воплощенные им в его произведениях, послужили поводом к созданию целого ряда мертвых схем и отвлеченных измышлений. В частности, его пресловутый ультрахроматизм и породил «литературу», быть может важную для «теоретиков», но для искусства это особенной роли не играет. Художественная практика современности совершенно не дает эволюции скрябинских гармонических принципов и, наоборот, указывает на любопытные уклонения по другим путям…[*]
В частности, любопытное явление — один из ближайших восприемников скрябинских гармоний, в одном из первых периодов своего творчества, Игорь Стравинский отразил мистические звучности Скрябина на его «Прометея» почти непосредственно вслед за появлением этой поэмы, в своем произведении, которое возникло в известной мере как реакция против утонченной мистики, которой Скрябин наполнил русскую музыку в первом десятилетии XX века, — в народном лубке, почти программно описательном, — в «Петрушке»…[*]
Скрябин стоит на рубеже двух эпох в истории русской музыки. Завоевания, сделанные им, огромны, но они являются лишь первым шагом на пути к тем задачам, которые стоят перед русской музыкой.
Скрябин не имеет и не может иметь своей школы, это показали и минувшие пять лет, ему можно подражать, но его нельзя продолжать, ибо слишком законченным он является в самом себе, в этом его сходство с Чайковским, который также создал лишь подражателей, но не дал продолжателей. Несмотря на полярность, Скрябин из всех русских музыкантов ближе всего к Чайковскому.
К этому выводу с несомненной очевидностью должна будет прийти история русской музыки, если она в конце концов когда-нибудь возникнет вопреки всему. Ни Чайковский, ни Скрябин никогда не ставили перед собой внешних задач, во многом свойственных русской музыке[*]. Музыка Скрябина в действительности не колористична, мнение о его колоритах ошибочно[*]. Вся эта игра притушенными и открытыми звучностями, кипящая расплавленность металла, которую он вливает изобилием медных инструментов, ослепительная стена звучностей, которую он как бы декоративным приемом воздвигает с такой потрясающей силой в «Поэме экстаза», все это не колориты, а исключительно свойственная Скрябину огромная эмоциональная стихия, которая и отличает его, главным образом наперекор всей его идеологии, как русского музыканта.
Несмотря на разрыв Скрябина с русской музыкой, несмотря на то что с первых шагов в его творчестве он упорно преодолевал глубокое свойственное ему и органически заложенное в его музыкальной природе песенное начало — основное начало русской музыки, чему примером служат 1-я симфония, подлинно русская симфония, несмотря на «мировые» устремления, и фортепианный концерт[*]. Скрябин упорно преодолевал в себе песенную стихию русской музыки, он решительно порвал со словом и русской речью, не написав ничего для голосов, и даже там, где ему оказался необходимым хор, он его сделал немым, лишив его слов (в «Прометее»)[*].
Несмотря на все это, Скрябин остался глубоко русским музыкантом, трагически обреченным и великим артистом.
Чайковский и Скрябин — два этапа русского симфонизма, полярные по своему темпераменту и мировоззрению. Один из них доводит самозабвение до экстатического восторга, до пределов дерзновения, другой доводит самозабвение до тоски, до самоуничтожения. Но оба они полюсы, глубоко свойственные природе русского художественного темперамента. Оба они в равной мере выразители русской интеллигенции. В такой же мере, как Чайковский выражает русскую интеллигенцию 60[-х] и 70[-х] годов, Скрябин — выразитель художественных идеалов русской интеллигенции его времени.
Быть может, этим объясняется непосредственное, эмоциональное воздействие Скрябина на толпу, на слушателей. Даже в то время, когда он был окружен непризнанием и острым враждебным отношением большинства «специалистов», русской интеллигенцией он был принят безусловно и очень горячо.
История дает неожиданные параллели, и «ученые критики» порой ошибаются…
Позорно сейчас вспоминать об этом, еще совсем недавнем, периоде, когда травле и уничтожению было подвергнуто творчество такого большого русского художника, как Чайковский, в «модернистических» кругах, очень далеких от мысли о возможности такой исторической параллели между Чайковским, синонимом отсталости и реакции, и Скрябиным.
Творчество Скрябина, как творчество всякого большого артиста, было насыщено духом его эпохи, его ритмы были ритмами его времени, как и творчество Чайковского в его эпоху. Оба они в равной мере в наши дни канонизированы русской музыкой. Оба они причислены к веренице великих мастеров прошлого, в этом, кажется, больше не сомневается никто, и утверждение одного из них больше не нуждается в уничтожении другого.
Мятежность Скрябина и его дерзновенная Идея, которая зажгла люциферическим огнем его творчество и сожгла его жизнь, быть может, для будущего послужит преддверием, ключом к пониманию наших дней, и, может быть, установят, что симфонии Скрябина являются пророческим предвозвестием той музыки, которая наполнила своей звучностью всю нашу жизнь.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1921б.[452]
б) Тексты евразийского периода (1920–1930-е)
Главы из книги о Стравинском
1. Музыка Стравинского (1926)
Демон скуки овладел современной музыкой. То, что мы привыкли называть на протяжении последних 10–15 лет «модернизмом», — в действительности оказалось опустошением музыкального искусства. Это беспочвенное словечко стало клеймом распада. Веселая разнузданность развивалась параллельно деформации музыкального творчества. В последние годы дошло уже до полной анархии, — как всякая анархия, она обернулась на всех прежде всего прочего ужасающей скукой.
Исполинский паук сидит в современном концертном зале и держит в паутине скуки слушателя и исполнителя. Французская музыка — непрерывная борьба со скукой, немецкая обречена скуке и покорилась этому. Стравинский преображает концертный зал и вызывает активное к себе отношение. Наша эпоха в музыке проходит под знаком этого артиста. Он в числе тех немногих, кто в разных областях действенно выражают высший качественный смысл современности. В смысле формальном — Стравинский — сегодня прежде всего — призыв к порядку. Властный окрик среди распада, в котором музыка пребывает. Он диктатор, но по существу — его диктатура есть символ живого сознания. Догматика нового и подлинно современного мироощущения.
Мировосприятие, на котором возникло искусство прошлого столетия, ушло. Новое рождается на смену с огромным трудом. Девятнадцатый век был веком трудным, и вся первая четверть двадцатого ушла на преодоление его. В музыке, там, где держатся еще традиции недавнего времени, — растерянность и беспочвенность. Либо вялое изживание уже совершенного опыта, либо честный самообман. Декадентствующий модернизм все еще со щитом новаторства и «дерзновенья во что бы то ни стало», — но он уже больше никого не искушает. Еще недавно прельщавший чарами quasi[*] чистой эстетики, сегодня стал он едва ли не самой вульгарной ценностью художественного рынка[*].
У тех, кто творит живой опыт наших дней, пафос переживания явно сменяется пафосом сознания. В коллизии двух сил рождается новый стиль. С одной стороны, новая готика; понимаю под этим отнюдь не средневековый стиль, а стремление к выразительности, которое становится самоцелью, проявляясь через сферу личности, субъективизма, случайности и незакономерности. Это все тот же, но подновленный индивидуализм (прямая, атавистическая связь с XIX стол[етием]), и его естественное следствие — предельно выраженный экспрессионизм. С другой стороны, мышление геометрическое (чисто музыкальное), истинным выражением которого является пластический реализм. Точнее: чувствование неоромантическое, т. е. революционное преодолевается сознанием классическим или религиозным.
Эти две идеологии, основные для наших дней, — полярны. Они друг друга исключают. Первый путь всегда эгоцентричен, — в узком или широком смысле — безразлично. Он связан фатально с временем только «календарным» и ведет лишь к самоутверждению, массовому или индивидуальному — безразлично. Второй путь — теоцентричен. Он ведет к утверждению незыблемого и к единству. Его смысл в выходе из «календарного» времени в концепцию времени музыкального[*]. Стравинский существует в этой сфере. Он восстанавливает утраченное равновесие — формальное и духовное — и вводит непосредственно в музыкальную сущность мира. Его искусство в этом смысле одноприродно Баху, Палестрине, Моцарту, Глинке. Равновесие, им достигаемое, создает поразительную vitalité[*] его произведений. Животворящая, солнечная сила, данная нам в музыке Стравинского, его непостижимый, беспощадный оптимизм звучат для нас раскрытием смысла нашего времени.
На его искусстве нет трагических теней. В устойчивом оптимизме, единстве и целостности, столь редких качествах для искусства нашей эпохи, — исключительная ценность Стравинского. Он свободен от раздвоенности и шатаний, доставшихся нам в наследие от прошлого века.
Стравинский отвечает духу современного строительства, страстному порыву к прочности, простоте и непоколебимым основам. Он очень прочен, он тверже всего, что создавалось в музыкальном искусстве с очень давних времен. Техника его так же точна, как у хирурга за операционным столом или у акробата на цирковой трапеции. Диалектика его последних произведений настолько сильна, что в данный момент она не только непобедима, но даже немногими воспринята по существу.
Сняв все внешние покровы литературности, психологизма и пр., которыми музыка последних эпох обросла, как твердой корой, он возвращает нас к давно утраченным радостям, когда гений ремесла был основой искусства.
Самый волевой процесс строительства он делает наслаждением, утверждая эстетику именно этого порядка.
Разница между его методом равномерного распределения энергии в каждом из его произведений и методом «романтиков» — сумма его достижений. Его музыка реалистична и утилитарна в подлинном и простом значении этих слов.
Стравинский пришел непосредственно на смену Рих[арду] Штраусу, Скрябину и Дебюсси, которые были, каждый в условиях своей национальности, властителями дум как будто недавнего, но уже столь отдаленного прошлого. В действительности уже сейчас несомненно, что именно он оказался тем, кому суждено было воплотить новые основы, пришедшие окончательно на смену музыкальной культуры, созданной Вагнером, которая, отвечая духу XIX столетия, держала более полувека человечество в своей власти.
Выросшая на национальной почве, из мощного национального ствола, музыка Стравинского сейчас становится сверхнациональной и общечеловечной. Чисто русский ее смысл имеет теперь уже только частное значение. На примере его воздействия на молодую музыку Запада видно, как ассимилируются его принципы с особенностями музыкального языка и основами формального мышления той или иной страны. Огромное большинство современной музыкальной продукции подвержено его воздействию. Там, где наличие подлинных творческих сил дает живые всходы, это воздействие органично и плодотворно. В нем залог преодоления распада и нового расцвета.
В России никогда не было музыкального модернизма или импрессионизма. Был один лишь Скрябин, который построил свой бредовый и искусственный мир ценой сознательного разрыва с природой русской музыки. Скрябинская готика выросла в созвучии с символизмом и декадентством литературными и в их окружении. Сила скрябинского творчества, враждебная духу русской музыки, стоила ей немалого. Поколение музыкантов в России, отравленное скрябинизмом, до сих пор его изживает и находится в инерции. В отношении к чистым истокам русской музыки эти годы ознаменовались полным забвением Глинки и большим, чем когда-либо, пренебрежением к Чайковскому.
Стравинский никогда не был модернистом. Правда, он выступил в пору расцвета символизма и «Мира искусства», и в этом кругу его сочли своим, но это было заблуждением. Подлинной связи с эстетикой, среди которой он вырос, у него не было и тогда, но было внешнее ее воздействие, творчески преодоленное. Что общего между живой интонацией «Незабудочки» и «Голубка» и вялыми стихами Бальмонта?[*] Одновременно с декадентской живописью Рериха возникла «Весна священная».
Во всех юношеских сочинениях Стравинского (от 1-й симфонии до «Жар-птицы») была прямая связь с официальной русской школой, которую в это время возглавляли Р[имский]-Корсаков, Лядов, Глазунов. Эта связь чисто традиционная. Он утверждает ее прочно и отчетливо, завязав крепкие узлы. В этот юношеский период им сочинены: 1-я симфония (1905–1907), соната для фортепиано (1907 — рукопись[*]), сюита для пения с оркестром «Фавн и пастушка» (1907[*]), скерцо для оркестра «Пчелы» (1908)[*], «Фейерверк» для орк. (1908), Траурная песня (на смерть Р[имского]-Корсакова, рукопись[*]), этюды для ф.-п. и романсы на слова Городецкого и Верлена (1908–1911)[*] и «Жар-птица» (1909–1910). В этом первом своем балете он уже мастер, вооруженный «до зубов». Здесь он дает всю сумму достижений русской школы в том ее аспекте, выразителем которого был Римский-Корсаков. Эта вещь, построенная на корсаковском принципе звуковой раскраски, доведена до предельного блеска и пышности в оркестровом наряде. После «Жар-птицы» связь Стравинского с школой Корсакова прервалась. Красочная мозаичность «Жар-птицы» стала ему чуждой. В 1919 году он заставил себя вернуться к этому сочинению и переинструментовал его, сведя оркестровый прибор к минимуму и упростив колориты до необходимых соотношений. Любопытно сравнить обе партитуры. Появление новой редакции вызвало протесты сожаления французской критики.
«Tout en soulignant le vif intérêt d’une réorchestration comme cette de l’Oiseau de feu, oserai-je avouer qu’il n’est pas souhaitable de voir exemple suivi par d’autres musiciens? Strawinsky ne songe certes pas à renier l’Oiseau de feu, mais malgré tout, en réinstrumentant sa partition, il у a introduit inconsciemment quelques-unes de ses préoccupations auditives actuelles. Il l’a rendue certains effects de grâce qui ne l’intéressent plus, mais sur lesquels beaucoup d’auditeurs n’étaient pas encore biasés. En avait-il Ie droit?»
(Musique d’aujourd’hui, E. Vuillermoz. Paris, 1923)[*].
По мнению культурного французского критика, Стравинский не имел права менять свою партитуру, раз публика еще не пресытилась ее звуковой изысканностью. Стравинский же действовал, подчиняясь творческой необходимости.
В «Жар-птице» любопытны ритмические акценты, впервые появляющиеся у Стравинского (без изменений в обеих редакциях). Метрическая строфа здесь еще традиционная и типичная для корсаковско-балакиревской группы. Но появляются характерные синкопы, в дальнейшем приводящие к эволюции ритмических форм.
В последовавшие годы (1911–1914) Стравинский с поразительной быстротой создал ряд монументальных произведений. «Петрушка», «Весна священная» и «Соловей», возникшие на протяжении трех лет, составили музыкальную эпоху исключительного значения.
В Париже, в это время переживавшем полосу влюбления в русскую музыку, эти три сочинения открыли Игорю Стравинскому путь к мировой славе. В России уже «Соловей» вызвал вопль отчаянья, и именно в кругу, близком к Корсакову, до такой степени эта вещь уводила от корсаковской псевдонародной оперы, взошедшей на немецкой закваске[*].
Первый акт «Соловья» был написан в 1909 году, и он весь еще по материалу и приемам близок к «Жар-птице». Лишь после того, как были сочинены «Петрушка» и «Весна священная», Стравинский вернулся к своей первой опере и закончил ее. Между техникой 1-го действия и последних двух нет ничего общего. 2-й и 3-й акты «Соловья» — это предельное утончение приемов тембровой конструкции (которые шли от «Петрушки»), в соединении с объемными принципами «Весны». В «Соловье» Стравинский отказался от русской музыкальной стилизации Востока, восхитительной у Глинки и Бородина и ставшей слащавой у Корсакова. Восток в «Соловье» — это игра в chinoiserie[*], изысканная и вычурная, как «китайщина» XVIII века. Парадный спектакль и хрупкая лирика — игрушечная.
«Жар-птица» была завершением колористической техники инструментального письма. «Соловей» синтезировал в творчестве Стравинского период тембровой и объемной конструкции, в применении к большим оркестровым массам. Чрезвычайная изощренность фактуры «Соловья» — следствие этих уже до конца развернутых приемов.
В 20-м году он возвращается к «Соловью», чтобы, сохранив весь тематический и гармонический материал, создать симфоническую поэму («Chant du Rossignol»[*]). В этой партитуре (с минимальным составом) кристаллизованы формулы уже новых приемов.
«Петрушка» был реакцией против эротической мистики Скрябина. Рядом со скрябинскими «надземными» устремлениями «Петрушка» был гимном России, но России не реальной, а преломленной сквозь призму литературных и живописных видений эпохи. Эстетике одного порядка противопоставлялась эстетика другая. Это был сплав элементов быта народного и мещански-городского, создававший музыкальный портрет 30-х годов прошлого столетия. За этим внешним планом обнаруживается истинная природа произведения — в «Петрушке» впервые проявляется тяготение Стравинского к канонизации «сниженного» вида музыкальных форм. Это первое сознательное утверждение «вульгарных» музыкальных материй и возведение их в высший план. То, что считалось отбросами музыкального быта и находилось за чертой «настоящей» музыки, он взял за основу своего мелоса[*].
С другой стороны, эта партитура характерна столкновением народно-эпических элементов («хор») с драматизмом индивидуального действия («герой»). Песенный русский лад противопоставлен инструментально-интонационной хроматике. Музыкальный сюжет «Петрушки» это формально разрешенная борьба индивидуальности с хоровым началом. «Переживания» «индивидуалиста» Петрушки (трагическая, кукольно-деревянная его интонация) раздавлены инструментальными («хоровыми») массами, как мельничными жерновами.
«Петрушка» — последнее произведение Стравинского, в котором существует еще противопоставление этих двух стихий. В последовавших сочинениях герой перестает существовать как индивидуальное музыкальное начало. Он принесен в жертву «хору». В «Свадебке» драматического действия уже нет, потому что бывшие в разъединении начала срослись в одну плоть. Хор есть герой, а герои — части хора. Музыкальный сюжет «Свадебки» — это формально разрешенное слияние хора с индивидуальностью. «Петрушка» драматическое действие, «Свадебка» — религиозная мистерия.
В «Петрушке» Стравинский отбрасывает аналитические приемы инструментовки. Импрессионистической технике оркестровой раскраски и разложения звука противопоставлена органическая инструментальная фактура. Музыкальная материя неразрывно связана с формой инструментального письма. В основу взят тембр не в его вкусовой, колористической роли, а как конструктивное начало. Тембром здесь определяются формы сопряжения голосов, контрапункт, гармонии. Очень характерен в этом смысле знаменитый контрапункт в вальсе балерины и арапа, который сделан на соединении тембрированных планов в одновременном движении. Флейтам (в соединении с арфами) противопоставлены английский рожок с контрафаготом в двойных октавах, поддержанные pizz[icato] виолончелей и контрабасов. Вся прелесть этого контрапункта именно в том, что он не вкусовой, а конструктивный. Это соединение не отдельных голосов, а целых гармонических планов.
Дальнейшая эволюция мастерства Стравинского направлена в сторону наибольшей объективации формальных приемов и упразднения всего, что связано с субъективным и случайным. Он создал «Весну священную», в которой объективный метод стал уже самодовлеющей основой, и продолжает утверждать его непрерывно.
По поводу «объективного метода» Стравинского было сказано и написано множество слов. Этот пресловутый объективизм Стравинский не изобрел. Со времен Глинки он всегда был формальной основой русской культурной музыки. Эта объективная основа всегда была звеном, соединявшим всех русских музыкантов в одну семью, делавшую одно родовое дело, независимо от художественных стремлений каждого и несмотря на разницу в темпераментах, в индивидуальных вкусах и т. д. Один лишь Скрябин нанес временный удар — Стравинский его парализовал. Он восстановил объективный метод в русской музыке и придал ему новую силу.
В «Весне священной» стихия русской музыки выражена с силой и обнаженностью большими, чем кем бы то ни было прежде. Самая сущность звукового языка освобождена от всякого до нее существовавшего в русской музыке подчинения западным формальным устоям. В «Весне священной» все средства выражения, от первой до последней ноты, были новы и необычайны.
«Весна» возникла из непосредственного чувства веры в стихийную народную первооснову. Она впервые воплотила в музыке скифский аспект России. В творчестве Стравинского «Весна» была моментом высшего становления и одновременно моментом разрыва. Становлением было утверждение азийного духа России, и оно же было разрывом со всем, что этому духу было враждебным не только на Западе, но и в России. Ведь и «кучкисты» стремились к воплощению того же скифского лица России, но все они, кроме Мусоргского и Бородина, вливали русское вино в немецкие мехи. Поэтому в период «Весны» Стравинский близок только с Мусоргским и Бородиным. Он выпрямляет наследственную линию, шедшую от Мусоргского, и разрушает ложнорусские традиции, установленные Балакиревым и Р[имским]-Корсаковым ради «профессионализации» русской музыки.
Путь, преемственный от Мусоргского, в этот период был для Стравинского непреложным, но сходства в музыке «Весны» с музыкой Мусоргского нет никакого. Мусоргский был крайним индивидуалистом[*]. Он был романтиком, пользовавшимся натуралистическим методом. Творческие импульсы его возникали вне музыки, будь то психологический драматизм или речевая интонация. Он всегда был во власти внемузыкального сюжета, который развивал в нем творческую энергию. У Стравинского же эта творческая энергия возникает только от конкретного ощущения самой музыкальной материи. Мусоргский исходил из нарушаемого равновесия (аналогично Достоевскому), Стравинский после «Весны» шел к постепенному восстановлению и утверждению полного равновесия.
Музыка Мусоргского была «musica per poesia»[*]. Музыка Стравинского есть «poesia per musica»[*].
«Весна священная» — уже вне личного начала. Автор ее растворен в им самим воплощенной стихии.
В смысле чисто музыкального движения — «Весна» статична. Весь огромный динамизм, в ней заключенный, — биологического порядка. Движение в «Весне священной» — это органический рост звучащей материи. В этой динамике органического прорастания — стихийно-эмоциональный смысл «Весны». Ритм в ней скорее ноуменальный, чем музыкальный. В его специальном значении ритм был разработан Стравинским после «Весны» уже как самостоятельная проблема движения. В формах движения в «Весне» дано «устремление». Или же в ней «семенят», «втаптывают». А еще есть скользящая, как облако, ладья в хороводной сфере.
Привожу один из наиболее характерных ритмов «Весны». Симметрическое деление метра и несимметрическое перемещение акцента. Передвигаются части внутри строфы, но самая метрическая строфа еще и здесь остается неподвижной.
Сейчас «Весна» стала классическим произведением. Раскрыв многообразие русского музыкального лада, она утвердила в нем новые законы тяготений и по-новому определила его строй. То, что при появлении «Весны» казалось только произволом и случайностью, сейчас стало самым типичным и наиболее убедительным проявлением этого лада. Стравинский в «Весне» и последовавших за нею (до «Свадебки» включительно) произведениях осуществил то, что созревало в России десятилетиями, воплотил и завершил целую эпоху. Логическим следствием был его уход от этого исчерпанного им направления и метода.
После «Весны священной» им были созданы следующие сочинения: 3 пьесы для смычкового квартета (1914), «Воспоминания юношеских лет» (1913)[*], «Прибаутки» (1914), «Колыбельные кота» (1915–1916)[*], 3 песенки для детей (1917)[*], 2 тетради пьес для ф.-п. в четыре руки (1915–1917)[*], «Лисичка» (1916–1917)[*], 4 русских песни (1917)[*], «Свадебка» (1917–1922).
После «Весны» начинается у Стравинского сознательная работа над расчленением песенного и инструментального мелоса. В сочинениях, написанных до «Весны», инструменты имитируют пение. В оркестре чистая инструментальность нарушается инструментальной песенностью. После «Весны» этого нет больше. Песенные элементы отделены от инструментальной фактуры и сообщены живым голосам. В «Петрушке» было еще смешение песенных и инструментальных элементов.
Ср. эту мелодичную форму в «Петрушке»: с одной из типичных форм грегорианского хорала:
Это несомненно близкое сходство ясно показывает песенный лад оркестра в «Петрушке».
После «Весны» инструментальный аппарат, будь то большой состав оркестра или нарочито малый прибор, приобретает специфически инструментальный характер, без поползновений к имитации живых голосов. Песенный мелос из инструментальной области извлекается окончательно и замещается мелосом инструментальным в собственном смысле. Стравинский строит его на изобретаемой им ладовой полифонии, иногда натуральной, иногда искусственной. Эта его полифония является неким единством, как бы сплавом нерасчленимых элементов: метра, ритма, динамики и интонации. В «Свадебке» утверждено уже окончательно и четкое разделение на éléments chantés[*] и éléments sifflés et frappés[*].
В «Лисичке», «Прибаутках», «Колыбельных» и пр. — основной материал взят из тех же «недр», откуда вышла «Весна». Но здесь, разъединяя песенные элементы с инструментальными, Стравинский постепенно их все больше механизирует. Из «органического» метода постепенно вырастает метод конструктивный.
«Свадебка» с формальной стороны основана на соединении материй разных температур. С одной стороны, 4 рояля с набором ударных — инструментальный механизм. С другой стороны, хоровое действие, построенное в ладовом многоголосии. Независимость каждой из этих материй проявлена с «химической» точностью. Их соединение в одну живую плоть не поддается критическому анализу. Между «Весной» и «Свадебкой» заключен весь круг, пройденный Стравинским в этом периоде. Если «Весна» исходит из нарушения равновесия формального и эмоционального, что и характеризует ее как языческое действо, то «Свадебка» восстанавливает утраченное равновесие. Это мистерия православного быта, построенная на иконописных ритмах. «Свадебка» — динамична в смысле музыкальном, но в плане эмоциональном она насыщена спокойствием и «тихостью» иконы. В ней отсутствует экстатичность. Если бы равновесие во внутренней жизни этого произведения не было дано Стравинским с таким совершенством, ни в одном моменте не нарушенным, — «Свадебка» была бы хлыстовским радением.
В «Симфониях для духовых инструментов» — памяти Дебюсси (1920) — есть еще следы «биологического» роста. Но вместе с тем именно этим сочинением открывается ряд произведений последних лет, связанных единством метода и материала, с которым Стравинский и сам вышел на новую дорогу и открыл ее для современных музыкантов. От произвольно созданных форм периода «Весна» — «Свадебка» Стравинский возвращается сознательно к западноевропейской «классической первооснове», возрождая формы-типы. Если в основу «Симфоний для дух[овых] инстр[ументов]» положен хорал, притом не западного образца, а близкий к православному обиходу, то «Pulcinella» уже весь построен на возрожденной классике. Восстановлены увертюра, ария, тарантелла, и наконец намечается реставрация вариационной формы, мощно развернутая позднее в «Октете для духовых инструментов» (1923).
«История солдата» вся сплетена из классических форм. В ней даже tango и ragtime трактованы как классика[*].
В «Октете», Фортепианном концерте, Сонате и Серенаде — возрожденные классические формы-типы окончательно кристаллизованы.
Начиная с «Симфоний памяти Дебюсси» самая инструментальная база радикально меняется. Стравинский избегает смычковых инструментов, т. к. их теплая звучность — эмоционально-рефлективного порядка. В основу взяты духовые инструменты — их вне-эмоциональные температуры дают ему возможность создавать чистые музыкальные конструкции, в которых вес, плотность, емкость тембра каждого инструмента служат основой.
На этом принципе развернута вся его новейшая инструментальная техника.
В «Симфониях памяти Дебюсси» нет ничего общего с традиционной симфонией XIX века. Это, по существу, еще произвольная композиция, примыкающая к прежнему кругу сочинений. Создав впервые в этом сочинении композицию на основе духовых, Стравинский выявил природу этих инструментов. Игру звучностями — то отдельного инструмента, то целых семейственных групп — деревянных или медных — он сделал самоцелью. Напр[имер]: дуэт альтовой флейты с альтовым кларнетом или наигрыш альтовой флейты, опирающейся на тубу, и т. д. Отсюда и название: это не обозначение формы, а квалификация звучностей — «Symphonies».
Дальше, духовые утверждаются как конструктивная основа, и Стравинский пользуется ими уже в конкретных и точных композиционных целях. Так возник «Октет». Широкое вступление — род увертюры — вводит в сеть вариаций, построенных не на традиционно-аналитической схеме, существовавшей в XIX веке, а на синтетическом обобщении. Отсюда и конструктивный план этих вариаций: A-B-A-C-D-A-E, причем первая вариация (А) возвращается каждый раз в неизменном виде. Она — стержень, вокруг которого вращаются все остальные вариации. Последняя из них — furgato с каденцеобразным заключением, вводящая непосредственно в финал, свободно разработанный наподобие фуги. С этого финала начинается связь Стравинского с баховской диалектикой.
Инструментальная музыка в нашу эпоху потеряла чистоту своей природы. Уже музыка «романтиков» к концу XIX века выродилась в песенную риторику. Ею инструментальная музыка была подменена. Возврат к чистому инструментализму привел Стравинского к Баху, т. к. диалектика Баха оказалась единственной незыблемо уцелевшей после всех «потрясений основ». Баховское инструментальное мышление (которое синтезирует бывшую до него архаическую классику) послужило Стравинскому отправным моментом его последних произведений и дало новое становление в области чистой инструментальной музыки. «Октет для духовых», ф.-п. Концерт, Соната и Серенада для рояля возникли на этой почве. После всех завоеваний Стравинского, всеми признанных, этот новый его этап встречен новыми сопротивлениями и пока еще не понят. Моя статья о последнем из опубликованных Стравинским сочинений — ф.-п. Сонате — вызвала страстную и длительную полемику среди французской критики[*].
В диалектике Стравинского — доказательство жизнеспособности им возрождаемых классических форм. Споры, возникающие по этому поводу, не имеют под собой почвы. Они основаны на непонимании существа дела. Спорить можно было бы, только если бы этой диалектике была противопоставлена другая. Стравинский не теоретически, а творчески утверждает, что инструментальная форма — живая, а не схематически-традиционная, влачащая свое существование со времени ложноклассической немецкой традиции, — возможна только на основе диалектического метода[*]. Его диалектика близка мышлению Баха, на которое он опирался как на единственное для сей поры непреодоленное. В «Серенаде», последовавшей за «Сонатой» (1925), есть еще та же система мышления, идущая от Баха, но есть в ней и нечто новое.
От тех, кто в оппозиции, любопытно было бы услышать указание на чистую инструментальную форму — современную, основанную на иной диалектике, чем та, которую утверждает Стравинский. Если же отрицается и самый метод по существу, то не менее любопытна была бы ссылка на другой метод, в равной мере живой и убедительный. Что бы это могло быть? Может быть, инструментальная композиция, основанная исключительно на «непосредственном чувстве»? Где они, такие сочинения, не впадающие в риторическую сентиментальность, ничего общего с музыкой не имеющую?
25 лет тому назад величайший французский музыкант Дебюсси стремился приблизительно к тому же, что осуществляет теперь Стравинский. Но путь этот тогда еще не был расчищен. Музыка Дебюсси — полурапсодическая импровизация, восхитительного вкуса, опирающаяся на традиции классицистов XVIII века. Музыка Скрябина — результат подлинного творчества, но это индивидуалистическая экстатика, в которой «поэмность» связана с школьной, традиционной схемой. Параллель: Скрябин — Дебюсси отчасти аналогична параллели: Шёнберг — Стравинский. То же противопоставление стихии индивидуализма и субъективной экспрессии, экстрамузыкальной — началу внеличному, несущему с собой равновесие и единство.
В инструментальной диалектике Стравинского — пафос его музыкального мышления, сила которого, для данного момента во всяком случае, непреодолима. Последние его сочинения вызывают в Европе безотчетное и стремительное подражание архаике. Но, лишенное его диалектической силы, оно приводит большей частью к стилизации.
Поскольку музыкальная диалектика есть чистое развитие музыкальной мысли, т. е. нечто в себе заключенное и по-своему неоспоримое, как доказательство теоремы, единственным плодотворным способом борьбы с нею (для тех, кому она не по вкусу) было бы творческое осуществление иной диалектики, такой же чисто музыкальной. Математик опровергает математика — математикой, а не поэмой о любви к своей науке.
Против произведений, основанных на «чувстве», нельзя спорить. Их можно полюбить или отвергнуть. Диалектическое сочинение можно оспаривать. Даже баховской диалектике, самой неуязвимой и «железной», можно противопоставить диалектику Палестрины или Моцарта. Но надо уметь это делать так, как Стравинский, который, взяв за основу мышление Баха, сумел найти подлинное музыкальное выражение современного мироощущения.
От «органического» метода, от «скифства» «Весны» — через механизацию — к герметической фактуре и классическому канону в последних сочинениях — так можно обозначить весь путь, пройденный Стравинским. Он начал тем, что разорвал существовавшую прежде в России связь с западной традицией. Теперь, вернувшись к ней, он возродил ее уже на совершенно иных основаниях, чем те, на которых она существовала прежде.
Начиная с Глинки и до самого последнего времени в русском музыкальном опыте происходило всегда только повторение и своеобразное отражение того, что свершалось в опыте европейском. В наши дни русский музыкант Стравинский сам творит универсальный опыт, и европейское музыкальное сознание влечется за ним. Впервые русская музыка теряет свое «провинциальное», «экзотическое» значение и с музыкой Стравинского оказывается «во главе угла», становясь водительницей всемирного музыкального искусства.
То, что прежде Стравинский совершил в отношении русской музыки, он в настоящем периоде своей деятельности производит в музыке Запада. Он проверяет и выпрямляет линию ее развития и выясняет ее формальное наследство.
На протяжении всей статьи я ни разу не упомянул о «Мавре». Я сделал это сознательно. Об этой опере Стравинского нужно говорить особо. Здесь я скажу только, что по отношению к «Мавре» и русская, и французская критика совершила фатальную ошибку. Ее никто до сих пор не понял и не оценил. Между тем это, может быть, самое замечательное из всего, что создал Стравинский за последние годы. Ее огромное значение несомненно.
«Мавра» возрождает для Запада чистую оперную форму, забытую и утерянную. Для России она воскрешает неверно понятую и непродолженную линию Глинки и Чайковского. Глинка был забыт и сдан в архив. На Чайковского поплевывали всегда. Путь к ним был так засорен, что для того, чтобы «открыть» их снова, понадобились непреодолимое упорство Стравинского и его зоркость. «Маврой» Стравинский доказал, что для нашего времени весь «упор» в русской музыке там, где Глинка и Чайковский, а не там, где «кучкисты». Заблуждаются все те, кто считает «кучкистов» прямыми продолжателями Глинки. Настоящая связь существовала только между Чайковским и Глинкой. Стравинский теперь принял это наследство. «Мавра» — это путь от «Жизни за царя», через Чайковского — к возрождению оперы как самостоятельной области музыкального искусства.
Париж, апрель 1926
2. Две оперы Стравинского (1924–1927)
«Мавра»
Вторая опера Стравинского «Мавра» по своему значению находится в центре всего им созданного за последние годы. Она была сочинена и впервые исполнена в [19]22 году — и, однако, до сих пор еще не оценена и не признана. «Мавра» вызвала негодование одних, услышавших ее как «тривиальность», и равнодушие других.
Для круга, близкого к музыке Стравинского эпохи «Весны священной», «Мавра» стала неприемлемой по существу. Здесь создалась привычка, даже потребность — находить в каждом его новом сочинении «потрясающие звучности». У любителей выработались почти «традиции» стиля Стравинского. Ждали от его новых произведений — продолжения «Весны», ее стихийной силы и бунтарства.
Недоумевали, что этого больше нет, и не прощали. Недоумевали модернисты, обиженные тривиальностью и «шаблоном». Опера разочаровала, быть может, тех же людей, которые были свидетелями первых исполнений «Весны» и роста ее значения, разочаровала тех, кто, как казалось, проследил весь путь Стравинского за десятилетие, отделяющее «Весну» от «Мавры». Этим и объясняется неуспех «Мавры» и восторженность, с которой была встречена через год «Свадебка», показавшаяся (после «неудачной» «Мавры») возвратом на старую дорогу.
«Мавра» оказалась всего менее понятой, так как в ней Стравинский решительно и точно проводил свои новые принципы. В действительности этот новый его путь в музыке начался гораздо раньше — с «Истории солдата» и «Пульчинеллы». Там уже были даны те характерные черты новой формальной фактуры, которые в «Мавре» выражены с предельной законченностью.
Единственное, что отделяет «Мавру» от других вещей последнего периода, это ее коренная связь с русским искусством и культурой. В отличие от «Мавры», все остальные новые сочинения Стравинского строятся на основе как бы всенародной, вне национальных отличий стиля и музыкального языка. «Мавра» в этом смысле исключение. Она прежде всего национальная русская опера, как «Жизнь за царя» или «Евгений Онегин». А вместе с тем она дает и новые возможности возрождения оперной формы на Западе, если опере вообще суждено возродиться.
Упадок оперы на Западе — результат вагнеровского наследия. Так называемая музыкальная драма постепенно поглотила чистые оперные формы. Вырождаясь в псевдоромантику, post-вагнеровский театр своей риторической эмоциональностью уничтожил инструментальную пластику классического стиля. Для западной оперы «Мавра» может стать формальной опорой. Несмотря на глубоко русский характер «Мавры», определяющий в основе ее музыкальный язык и лиро-эпическую ее атмосферу, благодаря принципам ее конструкции, она может и должна быть постигаема под углом зрения вненациональным. Объективная ценность «Мавры» — в методе ее формального строя. В этом же формальном методе скрывается и причина ее непонятости до сих пор, ее «парадоксальности».
Возрождая русскую национальную оперу в ее классических линиях и наряду с этим создавая залог нового расцвета классической же формы оперы на Западе, Стравинский в «Мавре» возвращает нас к чистому первоисточнику — к операм Глинки прежде всего. Путь от «Жизни за царя» к «Руслану и Людмиле» — это весь путь, пройденный Глинкой. «Руслан» в свое время был логическим следствием «Жизни за царя». И что же? «Жизнь за царя» была (относительно) принята русским обществом — главным образом благодаря патриотическому сюжету. «Руслан» же оказался для современников неудобоваримым блюдом. От этой оперы попросту отмахнулись — и на изрядный срок. Глинка сам свидетельствует о первом исполнении «Руслана и Людмилы», оперы, которую он считал высшим своим достижением и которая стала основой для всей последующей русской музыки, в ее национальном идеале:
«Когда опустили занавес, начали меня вызывать, но аплодировали очень недружно, между тем усердно шикали, и преимущественно со сцены и оркестра. Я обратился к бывшему тогда в директорской ложе генералу Дубельту с вопросом: „Кажется, что шикают: идти ли мне на вызов?“
„Иди, — отвечал генерал, — Христос страдал более тебя“»[*].
«Руслан» при жизни автора не был понят вовсе. Он был оценен уже после смерти Глинки и стал фундаментом, на котором воздвигалось здание русской национальной музыкальной школы. «Руслан» был тем заветом, который приняла «пятерка» в первом периоде существования балакиревского кружка. Но ясного понимания той линии, которая шла от Глинки, у «пятерки» никогда не было. Уклон, ею взятый, в результате привел русскую музыку (главным образом в лице Римского-Корсакова) к псевдорусскому национализму, вскормленному немецкой схоластикой.
При внешней видимости связи с Глинкой, наследие его в ту пору русской музыкальной культуры было подвергнуто разработке и кажущемуся формальному расширению — но отнюдь не углублению и развитию чистой линии, им явленной. Линия Глинки в своем существе до сих пор продолжена не была. Независимо от этого отношение к «Руслану» русских передовых музыкантов того времени характерно для них в той же мере, как наше отношение к «Жизни за царя». Нам ближе теперь «Жизнь за царя» — чистотой примитивных форм и музыкальной целиной. Может быть, именно благодаря своему примитиву (при всей более значительной в прошлом роли «Руслана», которого мы ценим как совершенное воплощение русского музыкального ампира) нам «нужнее» «Жизнь за царя». Так и у Чайковского — «Евгений Онегин» нам ближе «Пиковой дамы», несмотря на большее формальное совершенство последней. Или у Баха — Johannes-Passion, а не Matthäus-Passion[*].
«Мавра» воскрешает нарушенную связь с линией Глинки, устанавливает ее на иных основаниях и рефлективно отражает Глинку — не «Руслана», а «Жизнь за царя». Независимо от роли, которую сыграла «Жизнь за царя» в создании «Мавры», — опера Глинки и в прямом смысле ждет своего восстановления.
Кроме Глинки, «Мавра» возвращает к Чайковскому, который стал в этом произведении связующим звеном между Глинкой и Стравинским. Генеалогическую линию «Мавры» можно определить так: от «Жизни за царя» через Чайковского к современному канону. Отношение к Глинке для Стравинского — вопрос чистоты национальной традиции и коренной связи. Общность с Чайковским — основана почти на семейном кровном сходстве, при всей разнородности темпераментов и вкусов…
Сознавая свою разобщенность с музыкальным модернизмом, оглядываясь на русскую музыку в прошлом, Стравинский должен был связать себя с Чайковским. Это было естественной реакцией против изжитого модернизма. Сродство с Чайковским, всегда существовавшее, сознательно раскрыто лишь в «Мавре», позже в «Октете». Возврат к Чайковскому, его переоценка, произведенная Стравинским в период создания «Мавры», и дальнейшее закрепление этой позиции — окончательно расшатали бывшую и без того безжизненной идеологию стана модернистов. Некоторые из передовых французских музыкантов нашли в Гуно своего Чайковского. Отмечая факт, воздерживаюсь от сравнений.
В музыке Чайковского были спрятаны ключи к подлинному реализму, который стал идеалом наших дней. Стравинский их нашел и овладел ими. Любя Чайковского, нельзя не влюбиться в «Мавру», — она живая память о Чайковском, чудесно воскрешенная Стравинским.
В «Мавре» прежде всего удивляет незначительность сюжета, как бы нарочитая его ничтожность. Для близоруких это убожество сценической фабулы низводит произведение на уровень театральной шутки, к «мелочам» такого рода, о которых не стоит говорить. Но дело в том, что сюжет «Мавры» — не анекдот, выхваченный из «Домика в Коломне». Ее сюжетом является чисто музыкальная формальная задача… «Мавра» построена на анекдоте по своему сценическому действию, но восходит к национальной лиро-эпической опере по своему действию музыкальному. Здесь обратное тем бесчисленным операм, которые, строясь на сложнейших сюжетах — мифологических, исторических, символических и пр., — музыкально их не разрешают никак. В «Мавре» связь с поэмой взята минимальная, только как точка отправления. Фабула «Мавры» — это только трамплин для прыжка на музыкальную трапецию, и в этом смысле она отвечает своему назначению. От пушкинской октавы в либретто оперы Стравинского ничего не остается, за исключением двух строк:
Стравинский не иллюстрирует «Домик в Коломне». Он создает произведение, однородное с пушкинским по типу и методу. Как и в «Домике в Коломне», и в «Мавре» центр тяжести в том, что находится около фабулы.
В плане интимно-вкусовом Стравинский воплотил в «Мавре» то, что он всегда любил: ту светотень русского городского мелоса и специфический бытовой колорит, песенный и инструментальный, которые ему всегда были милы. В «Мавре» он выразил это острее, чем когда-либо прежде. Но это момент личный в его творчестве, о котором сейчас судить не станем. Для нас важен интегральный характер произведения и объективная ценность, в нем явленная.
Генетическая связь с источниками возникновения русской оперы и отказ от всего, что было принято считать ее эволюцией, — вот то, что важно в «Мавре» прежде всего. Для каждой эпохи в искусстве характерно не только то, что утверждается, но в равной мере то, от чего отказываются. Это отрицание целых этапов прошлого музыкальной истории очень значительно для настоящего момента в творчестве Стравинского. Принятие «Мавры» обусловливает прежде всего выпадение из плана современности всего вагнеровского театра и музыкальной драмы по Вагнеру, проводившейся его последователями, во главе с Рих[ардом] Штраусом в Европе и Р[имским]-Корсаковым в России.
Примитивизм в «Мавре» — намеренный. Кажущиеся нищета и убожество — результат творческой воли и художественного сознания.
При ближайшем рассмотрении партитуры «вооруженным глазом» и проверке искушенным слухом примитивизм «Мавры» оказывается результатом синтеза, вне которого рождение примитива невозможно. «Мавра» в своей простоте таит весь опыт, проделанный Стравинским в прошлом, и есть следствие зрелого мастерства.
Музыкальный текст в «Мавре» строится на двух началах: 1) элемент песенности, делящийся на чистую лирику и бытовую интонацию, и 2) элемент инструментально-пластический. Метр и ритм служат целям координации и в отношении конструктивном имеют первенствующее значение. В «Мавре» метр формирует движение звуковой ткани, и это его назначение преимущественно сообщено инструментальному сопровождению. Ритм определяет строение и соотношение звуковых частей в песенном мелосе. Когда инструментальная часть перестает быть сопровождением и становится самостоятельной, ритм играет ту же роль по отношению к этим очень кратким, чисто инструментальным моментам.
При лирической основе вся опера в целом очень динамична. Музыкальный поток бежит в ней непрерывно, порою стремительным, порою ровным движением, с такой чистотой, что мы как будто видим, сквозь прозрачную звучащую пелену, русло, по которому он пробегает.
Динамизм, столь свойственный всегда Стравинскому, дан в «Мавре» усилением роли метров. Они в опере — как двигатели и рычаги. Метрам сообщено значение самостоятельное, они независимы от ритмической конструкции, но приведены к взаимодействию с нею. Они же частью определяют инструментальный колорит в опере, и характер ее чисто музыкального движения, в отличие от движения сценического в собственном смысле. В «Мавре» метрам и ритмам сообщен совершенно нейтральный, как бы безличный характер. Их задача — не в том, чтобы развивать эмоциональную энергию, как это было прежде, например, в «Весне». В «Мавре» (как и в других последних сочинениях) метр есть сила, приводящая в движение конструктивные звуковые объемы. Он определяет форму движения. Ритм — величина, строящая звучащие состояния. Он определяет форму строения. Темп — связь между ними, он регулятор скоростей. Эмоциональная динамика, на которой были основаны прежние его произведения (наиболее яркий пример в этом смысле — та же «Весна священная»), — преодолена. Утверждается динамика чисто музыкальная, вне эмоциональной инспирации. Цель, таким образом устанавливаемая, заключается в достижении почти механической «отрешенности». Приобретается точность двигательной силы метрических элементов, наибольшая их протяженность и устойчивость.
Музыкальный язык «Мавры» предельно прост и ясен. Он определяется преимущественно характером ее мелодий. Основа — тональная диатоника, реже ладовая — конструкция. Частое пользование чередованием одноименных мажора и минора, сопоставлением искусственного и натурального лада. Все претворено в чисто песенные линии, даже бытовые интонации. Нигде нет речитатива. Интегральность песенных форм — одна из наибольших ценностей этой оперы. В смысле технического мастерства конструкции опера построена безупречно.
Не прерываясь в движении, пропорции частей и музыкальных периодов слажены так, что примыкают друг к другу совершенно незаметно, без всяких промежуточных звеньев. Как китайские лаковые коробки, вложенные одна в другую. Расстояние между отдельными частями настолько точно и верно, что чувствуешь воздух, проходящий между ними, как между двумя смежными предметами. Это достигается умением давать широкие синтетические обобщения звуковых масс и линий, беспощадным уничтожением всего ненужного для движения и развития этих линий.
Кадансы и заключительные коды при переходах от одного эпизода к другому в «Мавре» упразднены и замещены тем, что может быть названо системой музыкальных «автоматических дверей», которые непосредственно вводят один эпизод в другой. В этих моментах (иногда это октава, иногда терция или септима) — скрытые обобщения, приводящие к самым простым отношениям традиционные музыкальные формулы, распылявшие в прошлом своим орнаментом и росчерком общую динамику целого. Стравинский применяет этот прием для скрепления между собою следующих один за другим эпизодов, создавая на этой передаточной цепи непрерывную стройность.
В классической опере существовала мозаика следующих друг за другом музыкальных частей, в романтической драме большая или меньшая их текучесть, Стравинский же создает синтетическую конструкцию целого.
Благодаря мастерству обобщений фактура произведения получается совершенно ровная, без срывов и разницы в звуковой напряженности. Формальный метод, положенный в основу, нормирует ее произведение и точно контролирует его температуру. Непосредственное вдохновенье и живая энергия распределены равномерно, как правильное кровообращение по организму. Вместе с тем при всей прямолинейной жестокости проведения формальный метод скрыт, и как целое опера воздействует эмоционально, не вызывая вопроса о том, как она сделана.
По своему оркестровому колориту «Мавра» не имеет самостоятельного значения. Ее оркестр является логическим продолжением инструментальных принципов, характерных для всех последних сочинений Стравинского. Здесь налицо то же построение на тембрах и объемах, основой для которого служит не звуковая раскраска («вкусовая»), а вес, плотность и проницаемость звуковых объемов, а также качество звуковых температур. Совершенно своеобразная прелесть инструментального колорита создана женскими голосами, «заколдованными» в медь.
Как русская опера, «Мавра» показала Западу ту сторону русской музыки, с которой европейскому искусству до нее не приходилось соприкасаться. Между тем «Мавра» явилась лишь новым проявлением этого стиля, издавна существующего. Это — культура русского городского, преимущественно петербургского, романса. Линия эта, идущая от Глинки и музыкантов его окружения, на Западе почти неизвестна, в противоположность той, которая идет от Мусоргского. Даргомыжский шел непосредственно за Глинкой, он еще носил в себе наследие той эпохи, но он же положил начало драматической музыке, которую позже утвердил решительно Мусоргский. Драматический эпос был создан Мусоргским — на основах народного песнетворчества. Уделом Глинки была романсная и песенная лирика. Обе эти линии одинаково значительны для русского искусства, и нельзя понимать русскую музыку, отвергая одну из них. Между тем только творчество Мусоргского внедрилось на Западе и воздействовало на европейскую музыку. Отношение к русской музыке было увлечением стихийной силой и главным образом — новой экзотикой. Чем больше насыщено было произведение народностью, тем больше оно впечатляло. Не ушло от этого и отношение к Стравинскому, которого считали едва ли не прямым продолжателем Мусоргского. Если в первом его периоде (от «Весны» до «Свадебки») для этого и были основания, то с «Маврой» Стравинский входит в совершенно новую для Запада природу русской музыки.
Фольклор как непременная основа музыкального сочинения в «Мавре» отсутствует, и вместо него взят городской романсный стиль, который после Чайковского был у русских музыкантов в пренебрежении, считался недостойным «высокого» искусства и из чистого художественного плана снизился к музыкальным произведениям 2-го и 3-го разряда.
Происхождение этого стиля сложно. Корни его уходят далеко в прошлое русской музыки. Гусляр Трутовский, в первом из известных нам сборников народных песен (XVIII век), уже показал первоначальные примеры деформации и смешения народной песенности с городской романсной лирикой, обнаружив уже тогда существовавшие влияния итальянской и французской музыки на русскую[*]. У него это влияние, отразившееся на формах музыкального быта в народе. Одновременно они появляются в городской жизни, и песенно-романсная лирика получает самостоятельное развитие, все более расширяясь — параллельно формам русской музыки, которые возникли на основе фольклора. Наконец в эпоху Глинки этот романсный стиль стал преимущественной основой музыкального творчества. После Глинки он падает все больше и больше, оставаясь исключительно в сфере музыкального быта города и салона. К этому же времени сюда привходит и цыганская струя. Высший расцвет петербургско-московского романсного стиля связан с эпохой русского empire’a. После этого он все больше вульгаризируется и одновременно расширяется в быту, становясь главным музыкальным выражением городского мещанства, и является аналогичным тем «вульгарным» формам псевдонародной песни, которые мы знаем в больших городах Запада.
Стиль этот — острый сплав элементов западной (преимущественно итало-французской) песенной лирики, иногда немецкой псевдоклассической, с цыганским и русским фольклором. После Глинки он переходит к Даргомыжскому, который выразил его в «Русалке», но от него ушел в «Каменном госте» — произведении, с которого начинается развитие в России музыкальной драмы. Дальше только еще Чайковский черпал из этого источника. После него этот стиль исчез из обихода русских музыкантов. К середине XIX в[ека] стихия романсной лирики, покинутая музыкой, уходит в русскую поэзию и создает такого замечательного поэта, как Аполлон Григорьев, целиком вскормленного ею. В наши дни очень ярким выразителем той же романсной стихии был Александр Блок. Но в музыке этот стиль был забыт. Стравинский вспомнил о нем и создал «Мавру».
Основная тенденция «Мавры» заключается в ее обнаженной прямолинейности, в системе музыкальных мыслей, переходящей порою к упрощенности. Это и составляет парадоксальность «Мавры».
Расцветшая у тех истоков русской музыкальной жизни, где русская музыка, в сущности, была утонченной культурой любителей, где профессионального музыкального искусства, в нашем смысле понимаемого, не было еще и в помине, — «Мавра», несмотря на все ее изумительное формальное мастерство и техническое совершенство, в целом сама отсвечивает этим дилетантизмом и почти неумением. В этом-то и есть, на мой взгляд, ее тончайшая прелесть и волшебство ее очарования. Порой не знаешь, что это — задушевная лирика или ироническая маска. Но весь смысл «Мавры» в том, что воспринимаешь ее как исключительно непосредственное произведение, веришь в безусловную искренность ее лирического пафоса. На уровень рядовой эстетической стилизации не удастся низвести ее никакому любителю этого рода сочинений.
В «Мавре» Стравинский дал опыт почти вне профессионального искусства. Стремясь к выражению наибольшей правды и простоты, «Мавра» пытается не быть профессиональной музыкой вовсе, если для поставленной здесь цели выпадение из профессионального опыта современности — неизбежно. Другое дело то, что, уйдя из опыта существующего, «Мавра» с силой и убедительностью, пока еще не многим видной, создает новый опыт, свой. Окажется ли он победителем, сумеет ли заместить существующие безжизненные оперные традиции? Или окажется индивидуальным эпизодом? Это вопрос будущего, относящийся не только к «Мавре», но и ко всему творчеству Стравинского в настоящее время.
[1924]
«Oedipus Rex»
После трех лет, отданных созданию фортепианных сочинений, Стравинский вновь выступил с театральным произведением. Он только что закончил третью оперу «Oedipus Rex», над которой работал почти полтора года.
«Эдип» назван Стравинским оперой-ораторией. Эта устарелая форма уже давно ушла из живой музыкальной практики. Она стала достоянием профессоров консерваторий и задачей для конкурсных соревнований. Нужна была смелость, для того чтобы вернуть ее к жизни. Оратория — это обширное музыкальное сочинение для сольных голосов, хора и оркестра, написанное на какой-либо возвышенный текст. Так говорит любое школьное определение, и оно эту форму исчерпывающе характеризует. Стравинский именно так ее и взял, создавая «Эдипа». Оратория как тип музыкального сочинения привлекла его не чем иным, как стертостью и безличием. Хочу этим сказать, что ораториальная форма уже столь многими поколениями была так хорошо забыта, что для нашего времени она стала tabula rasa, на которой уже нет ни малейших следов какого бы то ни было индивидуального вкуса. Это и нужно Стравинскому, который выбирает теперь форму для своей музыки, подобно хорошему хозяину, выбирающему прочные вещи для своего обихода. Точно так же и сюжет «Эдипа» привлек Стравинского только тем, что он общеизвестен, наднационален и тем самым доступен сознанию всякого. Ничего иного за выбором именно этого сюжета не кроется.
Расцвет оратории больше всего связан с именем Генделя, и действительно «Эдип» неожиданно нас к нему возвращает. Говорю неожиданно, потому что все последние произведения Стравинского, утверждая Баха, тем самым являлись отрицанием Генделя, поскольку Бах — Генделю естественно противопоставляем. Но уже в «Серенаде» есть уклон к генделевским неподвижным гармоническим сферам. Бах и Гендель полярны. Бах весь в динамике многоголосия. Гендель — в статике гармонических созерцаний. Баховская полифония автономна и самопроизвольна, и его гармонии звучат для нас непредвиденно, почти случайно. Его полифония подчинена своим законам, основанным на самостоятельной жизни голосов. Гармонические же сочетания возникают как приятная неожиданность, оставаясь на втором плане.
У Генделя полифония, так сказать, стабилизирована, она сохраняет только видимость своей самостоятельности. В действительности же она служит образованию гармоний, становящихся самоцелью. Гармония Генделя создается за счет непроизвольной утраты энергии и свободы голосоведения. Любя свободную природу многоголосия в музыке Баха, нам и гармония его дорога именно тем, что он ее не утверждает как нечто самостоятельное. У Генделя же, наряду с безжизненной полифонией, и гармония превращается в мертвую схему.
Отрицательное отношение к Генделю создалось как реакция современного музыкального сознания против чрезмерного развития гармонии и декаданса полифонии на протяжении XIX века. Ко времени «импрессионизма» полифония попросту стала фикцией. Специфическая гармония стала самоцелью, и музыкальное творчество свелось к изощреннейшим изысканиям только в сфере гармонических образований. Полифония превратилась в гармонические вертикали. Она потеряла не только живое голосоведение, но и ритмическую основу. Ритм атрофировался. Он либо вовсе отсутствовал, либо стал условным. Музыка застыла в гармоническом оцепенении. Даже лучшая музыка этой эпохи была «le pays de la belle au bois dormant»[*]. Для того чтобы пробудить ее к жизни, нужно было прежде всего вернуть ритмическую природу музыкальному творчеству. Стравинский выполнил это в свой юношеский период. Он сдвинул с места гипертрофические вертикали гармонии. «Sacre» есть героический порыв к движению. Неподвижные гармонические массы стали расплавляться. Полифония возродилась, но все еще сохраняя зависимость от гармонии. Дальше Стравинский не только вернул ритм музыке, но разработал проблему музыкального движения на новых основаниях, с тонкостью, до него неведомой. Дальнейшим этапом стало увлеченье музыкантов полифонией во что бы то ни стало. Создалась «атональная» музыка (связанная с именем Шёнберга), которая есть не что иное, как беспомощный возврат к многоголосию, основанный на «презрении» к гармонии, без знания канонов голосоведения. Наконец — теперь полифония создается на новых началах, приводимая же к органической связи с гармоническими принципами. Таким образом, столь недавний разрыв с прошлым оказался несостоятельным и не удался. Опыт прошлого века в области гармонии признан и взят за основу. Отсюда и современный эклектизм. Связь с прошлым установлена теперь как будто в целом, и вопрос о доминирующем влиянии того или иного из больших мастеров XIX века уже не имеет значения. Дело лишь в том, что связь устанавливается не с индивидуальностью того или иного из мастеров прошлого, а с опытом коллективным. Признаются только те формы из прошлого, возрождаются только такие формулы, которые оказались жизненными и способными к дальнейшей эволюции. Сейчас с большим основанием, чем прежде, можно говорить о музыкальном ренессансе, который отрицал решительно индивидуализм, восстанавливает безличные, но прочные формы прошлой культуры, заставляя их служить новому назначению. Итак, возврат к гармонии совершился. Остановимся на этом. В частности, отношение к Генделю для Стравинского в «Эдипе» не дело личной симпатии или индивидуального вкуса. Гендель, этот немецкий генерал от музыки, создавал в Лондоне безличную музыку, формальную как канцелярский язык. Музыка его скучна и стала для нас стертой монетой, но формулы его практически ценны. Стравинский взял их в «Эдипе», как переносят циркулем контуры, ибо они отвечали его практическим целям для данного момента. Отношение Стравинского к Генделю в «Эдипе» — это не что иное, как «tenue musicale»[*]. Одеяние, приличествующее данному случаю.
В «Эдипе» Стравинский ушел от Баха к Генделю, потому что Бах глубоко индивидуален, Гендель же совершенно безличен. Связь с Бахом помогла созданию диалектического метода, значение которого огромно. Гендель же, как наиболее типичный формальный выразитель гармонического начала, помог полифонию привести в связь с гармонией.
Прямого сходства с музыкой Генделя в «Эдипе» нет, но его воздействие сказалось в том, что гармония появляется в этой опере на основном плане.
В «Эдипе» гармоническая диалектика сменяет полифоническую. Мне кажется, здесь центральное значение этой вещи и ее актуальная роль. Опыт Стравинского, предшествовавший созданию «Эдипа», был диалектичен в смысле линеарной музыки. Он осуществлялся исключительно как бы в области пространственных музыкальных измерений. Его значение — в развитии музыкальной линии, ее устойчивости и протяженности и в конструктивном сочетании линий, образующих полифонические планы. В «Эдипе» центр тяжести перенесен в область гармонии. Предшествовавшая фортепианная «Серенада» была, в сущности, большим гармоническим этюдом к «Эдипу», и ее связь с «Эдипом» очень явственна. Уже в «Серенаде» контрапунктическое сложение не произвольно[*], как прежде у Стравинского. Оно начинает окрашиваться в определенную гармонию. В «Эдипе» это выражено точно и решительно. Полифония «Эдипа» складывается в гармонию, как детские кубики складываются в заранее составленный рисунок.
Полифония «Эдипа» не свободная и не динамическая. Она развивается в сфере гармоний, которые положены в основу оперы.
Прежде были опыты сращивания разнородных тональностей. Тональность расширилась и углубилась до установления полярных гармонических точек, в пределах которых она проявляется. В «Эдипе» это разрешилось тем, что свободное на вид голосоведение — насильственным, волевым порядком слагается в строгую, аккордовую гармонию, окрашиваясь в эту гармонию и сращиваясь с ней неуклонно. Контрапункт строится почти исключительно по аккорду, который его держит в подчинении. Создается некий идеальный синтез контрапунктического и гармонического начала, который вернее всего определить как «гармонизованный контрапункт». Хочу этим сказать, что здесь гармонизация не мелодии, а всего контрапункта, обращаемого в определенный гармонический рисунок. Не гармония следствие контрапункта, как это представляется традиционному понятию, а контрапункт — следствие гармоний, его образующих. Основы этого можно в зародыше найти в технике итальянского ренессанса, напр[имер] у флорентийских контрапунктистов XIV и XV веков. Диалектический смысл гармонии «Эдипа» — в том, какой силы и жизнеспособности полифоническую энергию она развивает, т. к. полифония в данном случае — только проекция этой гармонии. Гармония «Эдипа», по первому впечатлению, кажется школьной и банальной. В действительности она нова и необычайна. Она одновременно и элементарна, и многообразна. Диалектизм этой гармонической техники в том, как она проявляется одновременно в двух измерениях — плоскостном и объемном. И линия, и краска. Последняя — не в смысле тембра, а в смысле гармонического цвета.
Гармония «Эдипа» есть просто-напросто гармония тоническая.
Было бы заблуждением считать ее тональной. Тональность взята почти исключительно в первой ступени. Но эта тоническая гармония обладает необыкновенной гибкостью, и на протяжении одного и того же эпизода она мгновенно переименовывается, обращаясь (как стрелка компаса) из мажора в одноименный минор или в какой-либо иной строй. Огромные пространства музыки созданы в «Эдипе» на тонической гармонии. Они как бы закрашены одной гармонической краской. Музыка «Эдипа» поэтому кажется вся полированной. Отсюда и ее откровенная «красивость». Нет ни следа «сырых» звучностей, столь характерных для большинства его сочинений, основанных на независимом от гармонии, свободном, контрапунктическом сложении. Красивость этой музыки отвечает и патетическому стилю, весьма характерному для всего «Эдипа». Создавая патетический стиль, Стравинский в «Эдипе», конечно, остался верен себе. Прежде он пользовался нарочито «вульгарными» материями, создавая реалистические вещи. Особенно этим отличительна «Мавра». Теперь он взял штампованную лирику патетическую для выражения возвышенных чувств. Он ее не измышлял, а брал наиболее типичное и характерно банальное выражение музыкального пафоса этого рода.
Музыка «Эдипа» проста до примитивности, лапидарна, точна, сжата и количественно экономна до степени последней необходимости. Создается впечатление, что всей музыки вообще очень мало. Нет и следа того пиршественного великолепия, которое было в «Свадебке». Но это малое количество музыки проявлено в «Эдипе» с такой волевой силой и с таким удивительным мастерством, что он кажется бесконечно насыщенным. Мы видели, какая роль уделена гармонии. Но отношения метроритмические в «Эдипе» радикально изменились в сравнении с прежним творчеством Стравинского. Ритм здесь в строгом ограничении. Ему больше не представлено никакой самостоятельной роли. Ритмическая структура «Эдипа» вся определяется скандировкой латинского текста. Она служит исключительно этому назначению. Формы движения, в свою очередь, приведены к простейшим принципам. Никакого щегольства, никакого ухарства, никакой самопроизвольной игры движением ради него самого, вне связи с текстом.
В этом смысле в «Мавре» было обратное. Во многих случаях там даны метрические формы, прямо противоположные элементарной логике текста. Музыкальное движение в «Мавре» вполне сознательно противопоставляется движению сценическому. Эти два плана в «Мавре» существуют параллельно — движение чисто музыкальное и движение сценическое (театральное). В «Эдипе» — соподчинение. Метр по-прежнему формирует музыкальное движение. Он переводит его из одного вида к другому, ускоренному или замедленному, но в метрической пропорции. Сохраняется монометрическое единство основной единицы движения, никогда не нарушаемое, но делимое или складываемое. Ритм определяет скандировку текста, фиксируя ударяемые и неударяемые слоги. Выполняя эту роль, он нигде не становится автономным и не прерывается к самостоятельной жизни для произвольной игры, как это бывало прежде. Стихия ритма, столь вольного у Стравинского прежде, укрощена и введена в надлежащие границы.
Метрическая строфа, проработанная Стравинским на протяжении ряда его произведений, начиная с «Истории солдата», прошла через длительную эволюцию в преодолении самопроизвольной эмоциональной энергии музыкального ритма и завершается в «Эдипе» полным слиянием с скандировкой текста. Здесь можно поставить знак равенства между ритмом музыкальным и стихотворным. Индивидуальное отношение Стравинского к ритму «Эдипа» сказалось лишь в том, как он прочел этот текст.
Скандируя латинский текст, Стравинский в «Эдипе» возвращается к традиционной повторности отдельных слов и целых фраз. Это типично для традиционной оратории, мессы или кантаты. В старой музыке это объясняется тем, что количество текста, которым пользовался композитор при сочинении этих традиционных форм, бывало недостаточно (напр[имер], фразы из литургии), и он растягивал этот текст, искусственно пригоняя его к определенной схематической музыкальной форме. Если сочинялись фуга или канон в сложном контрапункте, пропорции этой формы имели приблизительно свои, заранее установленные границы, и текст искусственно пригонялся к этим формам, наполняя их возвращением слов. Этим объясняется абсурдное соединение текста и музыки вне какой-либо логики. Хорошо это было только в чистой классике, где форма создавалась не условно, а свободно, но в согласии с каноном, напр[имер], у Моцарта или у Палестрины, но все же условность и здесь существовала.
Стравинский, скандируя текст «Эдипа», этой скандировкой определил и формальную структуру своей оперы, поэтому связь между текстом и музыкой у него строго логична, наряду с сохранением традиционной условности, связанной с искусственным возвращением слов и фраз. Он берет готовые формулы: фугу, имитацию, канон, рондо, арию, речитатив и т. д.
Но всегда это только свободная интерпретация, связанная с традицией, никогда не становящаяся схемой или подделкой под классику.
Скандировка текста в «Эдипе» служит двоякой роли. Она определяет ритмическую структуру оперы, создавая единство слов и звука. Другая ее роль чисто техническая. Она ставит инструментальные и живые голоса в самую реальную позицию, создавая условия, наиболее выгодные для исполнения. Это, так сказать, техническая экспрессия вместо упраздненной экспрессии внешней — психологической и индивидуально-произвольной. Техническая экспрессия обеспечивает получение выбранного эффекта без всяких затруднений, при наличии одной лишь доброй воли со стороны исполнителя. Такой принцип технической разработки, проведенный в «Эдипе» очень тщательно, делает эту партитуру весьма доступной и почти не представляющей трудностей для исполнения. «Эдип», может быть, самая легкая для исполнения из партитур Стравинского.
Инструментовка оперы находится в живом согласии с этим. Она вся основана на нормальных тесситурах. В смысле инструментального письма эта партитура пленительна. Я не знаю ничего равного в современности. Только о Моцарте вспоминаешь, слушая или разглядывая ее точный, прозрачный и легкий рисунок.
«Эдип» относится к «Мавре» приблизительно так же, как «Свадебка» к «Весне священной».
«Эдип» ничего не повторяет в том, что было дано в «Мавре», как и «Свадебка» не повторяла «Весну», но связь между ними живая и органическая. «Мавра» была реставрацией чистых оперных форм в условиях и традициях национально-русского опыта. «Эдип» — развитие той же проблемы, созревшей в опыте наднациональной музыки. Это в вопросах формы. Во взаимодействии слова и звука — «Эдип» продолжает то, что дано в «Свадебке». Единственно в этом близость между этими произведениями. В «Свадебке» эту роль выполнял русский язык; в «Эдипе» — латинский.
Латинский язык привлек Стравинского тем, что он утратил всякое практическое значение для наших дней. Он стал объективной материей. Мертвый и сухой язык нотариусов и аптекарей и одновременно возвышенный язык католической литургии, латинский язык патетического толка, и с музыкой он сочетается органически. Но связь латыни с католической литургией создала прочное соединение этого языка с формами духовной песенности. Для светской музыки сочетание это непривычно и редко, впрочем, бывали примеры и прежде, например у Моцарта: Appollo et Hyacinthus. Comoedia Latina[*]. Стравинский в «Эдипе», преодолевая связь латинского языка с церковным стилем, нарушил эту условность, но в некоторых случаях она сознательно и явно выражена, напр[имер], в бесстрастных фразах «Эдипа», которые звучат как литургические возгласы, нечто вроде cantus firmus’a[*], взятого в голом виде.
Латинский язык в музыкальной интерпретации «Эдипа» — это, в сущности, соединение русского языка с итальянским. Стравинский пользуется в «Эдипе» чеканной и свободной интонацией русской речи так, как он применил ее в «Свадебке», но в соединении с итальянской песенной экспрессией в ее самом тривиально-типичном проявлении в смысле напевности.
«Эдип» совершенно статичен в смысле театральном. На сцене нет абсолютно никакого движения и ничего не происходит. Осуществляется только музыкальное действие. Опера раскрывается как чистая музыкальная форма.
Оправдалось пророчество Глинки, который говорил, что «поймут Руслана через сто лет…». Вспоминаю об этом в связи с тем, что «Руслана» в свое время обвиняли, в частности, и в том, что в нем нет сценического действия. По существу же «Руслан» был сочинен в приближении к типу оперы-оратории, которую создал Стравинский.
Если «Мавра» возвращает нас к «Жизни за царя», которая является ее прототипом, то «Эдип» — совершенно в ином смысле — напоминает о «Руслане». Но то, что в «Руслане» было дано почти ощупью — полубессознательно, в «Эдипе» стало волевой тенденцией. Всякое сценическое движение, связанное с традиционным представлением об опере, имитирующей драму, — исключено. Все направлено к осуществлению музыкального действия. В этом смысле, если угодно, есть общее со «Свадебкой». Действие возникает, развивается и разрешается не как нечто извне данное, а в самой материи. В «Свадебке» это в элементах православно-бытовой народности, в «Эдипе» это вовлечено в античный миф. Античный миф, транспонированный в латинство, и трагедия, выраженная не словом и не действием, а чистой музыкой.
Неподвижный сценический «Эдип» развертывается как монография мифа, рассказанная музыкой без какого-либо участия посторонних сил. Ни следа волнения, все удивительно спокойно и безучастно. Никакой суеты, никаких симпатий или антипатий. Моральный привкус только в том, какой музыкальной материей выражена та или иная ситуация. Герои действуют самостоятельно, без всякого посредничества. Появляются без всякой психологической подготовки и следуют друг за другом как ряд портретов. Портрет Эдипа, портрет Иокасты, Креона и т. д. Действие в музыкальных портретах. «Эдип» — не попытка музыкального мифотворчества, а музыкальный рассказ, такой, как если бы он был взят из дневника происшествий, с некоторым лирическим привкусом в виде хорового комментария, которым он снабжен по мере изложения «инцидента». В сущности, это не что иное, как музыкальный протокол.
Метафизический по сюжету, «Эдип» совершенно реалистичен по воплощению, что весьма характерно для этого произведения. Стравинский тронул в «Эдипе» мир трагедии, мифа и драматической лирики, но при этом он не отказался от реалистического существа своей техники, столь типичной для природы всей его музыки.
Как бы для самозащиты от трагедии, он этот реализм техники доводит в «Эдипе» до предельного выражения. Его формальный метод находится здесь в столкновении с трагедией, подчиняя ее себе. Как будто все препятствия заранее убраны с пути. Дорога вся расчищена. Нет неожиданности драмы, а уверенное, триумфальное шествие. Разгадка ясна уже в начале и неизбежно следует. «Эдип» Стравинского это антиномия столкновения метафизического и реалистического начал. У Стравинского доминирует формальная сторона и метафизика его темы не имеет над ним власти. Пафос «Эдипа» — не мифологическая тема и существо сюжета. Его пафос в музыкальном изложении этой темы. «Эдипа» можно считать «ложно»-классической музыкальной прозой, вспоминая по аналогии не музыку, а «ложно»-классический стих Расина. Музыкальная проза «Эдипа» представляет собою как бы эклектический синтез архаики и романтики. Архаичны в «Эдипе» его материя и почти весь его слог (сложение), но романтичен пафос этого сложения. При первом впечатлении музыка «Эдипа» кажется безличным возвратом к пройденным тропам музыкального классицизма, но, вглядываясь пристально, видишь, как изумительно «по-своему» сказан каждый отдельный такт этой композиции, неповторимо, своеобразно, с точностью выражения, не допускающей сомнений.
Музыка «Эдипа» кажется общей, потому что в ней нет никакой выдумки, никаких измышлений и вычурностей. Она нисколько не претендует на «новаторство», будучи нова по существу. Она скорее кокетничает тем, что возвращается в лоно «старой» музыки. В «Эдипе» Стравинский вернулся к основному и общему музыкальному языку. Утрата языка была основным злом новой музыки, которое привело к «вавилонскому столпотворению». Нужно ли создавать новый язык в музыке или же вернуться к тому, который всегда существовал прежде? Это вопрос специальный, выходящий из границ данной темы. Во всяком случае, язык «Эдипа» старый, исконный язык музыки, но претерпевший изменения в такой же мере, как современный французский в сравнении с языком Расина или Паскаля.
«Эдип» эклектичен. Он походит на прошлое, ибо он ничего «нового» не желает, но он по-новому осуществлен. Здесь мудрость постижения, а не дерзновение отрицания. Такое искусство трудно воспринимается, потому что оно как будто ничего не меняет в нашем отношении к вещам. В действительности оно прежде всего меняет наше отношение к самому искусству, и в этом главное значение вопроса. Произведения Стравинского последних лет, и «Эдип» в особенности, относятся к тому действительно чистому искусству (не в смысле эстетическом, а в смысле чистого тела, как бывают «чистые» и «нечистые» животные, о которых говорит древняя литургия), которое отказывается служить подмене, которой занималось искусство конца XIX и начала XX века. Искусство в эти эпохи стало, попросту говоря, суррогатом религии, это было его основным пороком. Отрицая истинную и вечную религию, оно вместе с тем паразитически питалось ею. Создавая индивидуалистический религиозный суррогат в эту эпоху, религиозный опыт подменивался опытом эстетическим. Теперь мы возвращаемся к тому, чтобы ввести искусство в область, ему довлеющую, отказываясь от искусства, самоутверждающегося и фетишистского. Стравинский в «Эдипе» явно занял позицию, «очищенную» от эстетического соблазна. Он неуклонно шел к этому издавна, путем все большего самоограничения и отказа. В прошлом и он не был свободен от смешения религии и эстетики. В эпоху, когда Скрябин создавал «Поэму экстаза» и «Прометея», Стравинский создал «Весну священную». Но у Скрябина это были радения чисто интеллигентские, у Стравинского же радение народное. Уже в этом была «дистанция огромного размера»[*]. В «Эдипе» нет никакой «прелести». Все соблазны преодолены. Кроме самого «Эдипа», в котором прелесть и есть основной соблазн, трагическое ощущение, слепота, бессознательность и обреченность. Смысл «Эдипа» в стремлении к выражению обнаженной правды и чистоты, в жертву которому приносится все остальное.
В «Эдипе» нет никакой иронии, этой едва ли не самой опасной болезни века. Под иронией скрыто в настоящее время все, с чем автор не может справиться в самом себе, но прежде всего ирония — это замаскированная трусость. В «Эдипе» нет и следа такого ощущения. Уже этого одного достаточно для того, чтобы считать «Эдип» вещью редкой и весьма значительной для наших дней.
«Эдип» Стравинского победа над темным началом в стихии музыки, и только в этом аспекте «Эдип» можно принять. Темный дух музыки проходит здесь лишь бледной тенью, рядом с этой простой и правдивой музыкальной речью.
Париж, май 1927
Источники текста ЛУРЬЕ, 1926 и ЛУРЬЕ, 1928а.[492]
3. Соната для фортепиано Стравинского (1925)
«Соната для фортепиано» — последнее произведение Стравинского — является логическим продолжением «Октета» и «Концерта»[*]. И все же даже для слушателя, хорошо знающего оба эти произведения, она неожиданна. Неожиданно прежде всего возвращение к изначальным музыкальным формам, которое противоречит не столько предыдущей технике композитора, сколько привычным ходам современной композиторской техники. Таково первое впечатление, и кажется, что реакционные идеи заводят Стравинского слишком далеко. Но возвращение не означает отказа от предыдущего опыта. Сами изначальные классические формы рождают новые идеи, облекаемые теперь в совершенно новые формы, — хотя внешне идея и форма кажутся устаревшими, — а исполненное таким образом произведение становится самодостаточным организмом. Создавая «Сонату», Стравинский намеренно забывает об эволюции, которую пережила сонатная форма после Бетховена в XIX веке, эволюции по направлению к псевдоклассической немецкой традиции. Неоклассическая соната, имеющая последние сонаты Бетховена в качестве отправной точки и вершины одновременно, в значительной степени сводится к драматическому действию, к противоборству индивидуально-эмоционального начала и самих основ звучания. Таково в античной трагедии противоборство героя и хора. Отсюда новая роль тематических противопоставлений и «развития». Форма, посвященная поединку темы и инструмента, рождает экспрессивный динамизм.
В процессе длительной эволюции романтическая соната теряет изначально присущую ей активность и инструментальную диалектику. На смену им приходит неорганическая схема, и она реализуется как псевдопереложение песни для инструментов — как настоящая вокальная риторика.
Сонаты Скрябина и Дебюсси — последние воплощения этой формы в современном искусстве. В обоих случаях возникает ощущение, что сама романтическая соната отдаляет нас от традиции XIX века. Композиция Скрябина — это всегда экстатическая поэма, искусственно заключенная в рамки экстрамузыкальной схемы. Дебюсси, опираясь на национальную традицию клавесинистов, развивает сонату в духе вокально-инструментальной рапсодии.
На этих произведениях и заканчивается живая традиция сонаты, в дальнейшем от нее остается одно лишь название.
«Соната» Стравинского намеренно уходит от этого декадентского пути развития. В основе ее снова инструментальный конфликт и органическая форма сонаты. Такова природа возвращения к оригинальной традиции XVIII века. Что логически обосновывает рождение формы-типа.
Так появляется «Соната» Стравинского: форма-тип, исходящая из изначальных основополагающих принципов [жанра].
В основе экспозиции лежит диалектический метод. Функции гармонии, ритма, полифонии и тональности предельно обобщены. Фортепианное легато — преобладающее инструментальное начало (отметим это отличие от «Концерта» и «Piano-Rag-Music»[*]).
Отрывистость остается элементом частным следствием предыдущего опыта — и вторичным. Эти два начала (отрывистое и слитное) — силы, то действующие параллельно, то в противоборстве друг с другом. Ткань произведения представляет собой распространяющиеся во времени звуки, воспринятые [как] после шока, и это определяет особое затухание движения. Если для простоты мы назовем:
— структурным временем — такое измерение музыки, в котором элементы видоизменяются (оно не имеет ничего общего с календарным временем)[*];
— структурным пространством — такое измерение музыки, в котором, как в механике, элементы перемещаются,
то соната реализуется в пространстве, подобном поверхности, следуя единству композиции во времени; и отсюда монометрический ритм. Метрика и ритм доводятся до высшей степени обобщения. Кроме лирической темы первой части, которая называется «Октет», прямых связей с содержанием предыдущих произведений нет. В целом инструментальный мелос возвышенно патетичен по контрасту с намеренно вульгарными элементами «Октета». Лиризм «Сонаты» сродни лиризму «Мавры»[*].
Фактура сдержанная. Пианистический колорит и основы звуковой ткани строятся исключительно на легато и стаккато. В динамике наличествуют два измерения: форте и пиано.
В предыдущих произведениях Стравинский освобождал инструментальную технику от современной манеры исполнения, смещая акценты. В «Сонате», используя чистое легато, он избавляется от туманного звучания. Ухо постоянно держит его под контролем. Стаккато создает ровную поверхность звука, исключающую возможность фальши. Нет больше прежнего дифференцированного согласия метрики и ритма. Пространство завоевано, и в нем утверждается линейная конструкция. Наличествует полная свобода по части смещения акцентов в звуковом пространстве, и в то же время музыкальным кривым придается регулярное движение. Таким образом, метрические рычаги становятся бесполезными. Синтетическое единство метрики и ритма проявляется в простейших соотношениях, таких как [счет на] два и три. Ранее обе проблемы — движения и выстраивания объема звука — решались Стравинским одновременно. В «Сонате» свободная пространственная линейная композиция реализуется в простейших метрических плоскостях, и это позволяет автору включать в нее ритмический рисунок исключительного композиционного изящества. Соната становится итогом творческих поисков композитора. Типическая форма осуществлена.
Метод инструментальной диалектики приобретает новое звучание — да такой мощи и логики, что заставляет вспомнить о Бахе.
Линейная пространственная композиция возрождается в классическом духе. Звучание — безупречной чистоты.
Смещение акцентов, игравшее важную роль в период «Весны [священной]», отброшено. Тогда оно заключало в себе эмоциональный подъем. В последующих произведениях оно уже нейтрализовано и является вспомогательным метрическим средством. В «Концерте» оно используется только при смене интонаций. В «Сонате» с ее свободной инструментальной интонацией к нему прибегают только для того, чтобы выделить каденцию или модуляцию.
«Соната» завершает период, начавшийся «Симфониями духовых инструментов». Стравинский превращает вспомогательные средства, изобретаемые им ради воплощения новой формы, — в tabula rasa[*]. Данная простая и прозрачная форма сворачивается, не успев раскрыться, поскольку она выходит за пределы метода, которым композитор уже воспользовался.
В «Сонате», «Октете» и «Концерте» композитор отказывается от построений по громкости и тембру звука и вступает в бесцветное линейное пространство. В этот период преобладает оживление линии. Аналогия из области живописи: отказ от кубизма и обращение к композициям на плоскости (у Пикассо).
Соната делится на три части: адажиетто обрамлено двумя аллегро с одинаковым движением и различной композицией. Аллегро I являет собой однородное непрерывное движение. Оно начинается с двух параллельных линий в до, отделенных друг от друга двумя октавами. Стравинский раскрывает природу октавы не как повторения, а как интервала. И этот интервал становится диссонансом и особенно резок в начальной и конечной точке мелодической линии.
Первые 12 тактов определяют движение и общий характер фрагмента, а также основы хроматического ряда. Октава «разрешается» в лирическую тему: sempre legato[*] правой руки и по контрасту с ним упорное staccato левой. Диалектика терций прелестным отклонением относительно гармонических полюсов через си, до-диез, ми и т. п. продолжает и, таким образом, разнообразит сюжет. Тема подобна образу, отраженному в зеркале. Интродукция повторяется в среднем регистре. Гибкая линия разработки строго лаконична; затем следуют краткая реприза и финальная каденция — как вздох, как дуновение синтетической гармонии.
Адажиетто следует классической форме рондо. С самого начала сила тонального строя ля-бемоль противопоставляется хроматическому ряду первой части. Обозначенные таким образом тональные полюса максимально удалены друг от друга в почти парадоксальной гармонии. Парадокс заключается в (искомом и обретенном) равновесии хроматической и тональной интонации. Хроматизм, лишенный внешних эффектов, стремится к симбиозу с основным тональным строем. Здесь, как всегда у Стравинского, хроматизм не становится независимым элементом, он — лишь проекция самой сути тональности, которая тем самым приобретает дополнительную глубину. Этот симбиоз чрезвычайно важен. Ощущение парадоксальности исчезает, гармония становится логичной. Адажиетто интересно прежде всего тем, как в нем решается общая проблема композиции. Мелодическая ткань тяготеет к форме вариаций, но не реализует ее и избегает таким образом опасности формальной схемы, обращаясь к орнаментальной барочной форме. По сути, это скрытая вариация. Корни обобщения — в победе над искушением создать аналитическую вариацию. Такая же фразировка питает мелизмы; отдельные фигуры становятся сплавами тональностей, стремящихся к полюсам основного тонального строя. Третья часть — истинный шедевр контрапункта, построенный на независимом движении каждой руки. Творческая манера (то имитация, то фуга) похожа на манеру фортепианных сюит Баха.
Стравинский с исключительным мастерством использует двухголосную композицию. Внешне неожиданное звучание этой части является трансформацией предыдущих тем той же части.
Скоро «Сонату» Стравинского узнают во всем мире. Хотелось бы, чтобы слушатели не ограничивались внешними эффектами и сумели увидеть поразительную силу ее диалектики.
Несмотря на внешнюю хрупкость, ее точность имеет монументальный характер. А тем, кто спросит, «что нового в этой сонате», ответим словами Паскаля, которые, возможно, актуальны в наши дни, как никогда:
«Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново уже само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но не с одинаковой меткостью. С тем же успехом меня могут корить и за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке — и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли»[*].
Источник текста LOURIÉ, 1925.[500]
4. По поводу «Аполлона» Игоря Стравинского (1927)
Г-ну Роберу Лиону
Дорогой друг,
Вы просите у меня статью о последнем произведении Стравинского для следующего номера Вашего журнала. Это интереснейший сюжет, но, к сожалению, сейчас я не могу им заняться. Произведение еще не закончено, и высказывать о нем мнение представляется преждевременным.
Появлению новых работ Стравинского всегда предшествует какая-то шумиха, вследствие которой в художественных кругах вокруг них создается ненормальная атмосфера. В данном случае шумиха действительно преждевременная, и это единственная причина, побуждающая меня внести некоторую ясность в данный вопрос.
Стравинский доставил мне огромную радость, ознакомив с произведением, над которым он в настоящее время работает. Это балет, задуманный в классических формах на тему Аполлона и Муз, он называется «Аполлон Мусагет» — иными словами, дирижер, начальник над музами. Однако, строго говоря, это не литературный сюжет, «Мусагет» являет собой пластическое воплощение сюжета исключительно музыкального, как, впрочем, это обычно и бывает у Стравинского. Литературные элементы изгоняются и уступают место явлениям чисто музыкальной природы и, в основе своей, явлениям конкретным.
Постепенно композитор избавляется от всего внемузыкального и утверждает истинно музыкальную субстанцию. Так — в целом и в частностях — он практически полностью изменяет сюжет, который считает формальностью, создавая исключительно музыкальные объекты. Преобразования носят декларативный характер. Как эпизод, так и сценическая обстановка заменяются конкретными объектами, которые предлагают не интерпретацию, а музыкальное воплощение. В «Мусагете», как и в «Эдипе» и во всех его последних сочинениях, композитор создает подлинные ценности.
Овладев основными звучаниями, он выводит их из состояния инерции и неподвижности и пробуждает к интенсивной жизни. Пафос «Эдипа» безукоризнен: голая правда, простота и логика, с которой разворачивается музыкальное действие, — неизбежное, которое, можно сказать, не зависит от желания автора. «Аполлон Мусагет» — новый аспект все той же силы и логики, которые у Стравинского всегда основаны на точнейшем расчете и максимальной экономии средств. К этому нужно добавить формальную точность, четкую, как статья Закона. Таким образом, Стравинский — величайший «законник» в музыке наших дней. Союз музыки и «алгебры», в прошлом считавшийся не «поэтичным», нашел в нем наиболее значительного представителя и на настоящий момент стал почти что догмой. «Мусагет» продолжает линию «Эдипа» в том, что касается возвышенного и торжественного аспекта, а также «милых» и приятных форм, которые композитор разрабатывал уже в «Сонате», «Серенаде» и «Концерте для фортепиано». В то же время Стравинский в этом новом произведении заявляет о своем стремлении следовать путем «очищения», «катарсиса», как его называли греки, путем борьбы против эстетического фетишизма, очарования им и его соблазнов.
Тенденция, отчетливо проявившаяся уже в «Эдипе», в настоящее время определяет все творческие порывы композитора. Эстетический принцип возвышается у него почти до нравственного пафоса. Не без колебания обращаюсь к этому термину, несмотря на узкий и банальный смысл, который ему часто приписывают; и все же надеюсь, что вы поймете его в истинном значении.
Должен здесь сказать, что, превозмогая стихию индивидуального, начало животное, музыка Стравинского все больше стремится к духовному. Тем самым она тяготеет к единству морального и эстетического — единству, давно уже потерянному. В последних произведениях выбор между «как» и «что» сделан: центр тяжести все очевиднее переносится на «что». «Эдип», последнее опубликованное произведение, и только что написанный «Мусагет» в этом отношении особенно показательны.
Само качество объектов, создаваемых Стравинским в «Мусагете», придает им первостепенную значимость и возвышает их надо всем остальным. Уже не важно, при помощи какой техники и для каких инструментов написана эта музыка. Это вопрос второстепенный, ибо ее можно исполнять на чем угодно. Раньше, когда все силы были сосредоточены на «как», было по-другому. Это же определяло и выбор материала, намеренно вульгарного и банального, что, казалось, лишь подчеркивает малозначительную роль «что».
Исходя из подобного принципа, Стравинский создал несколько произведений, где вульгарный материал возвышается до чистых форм. Затем был период равновесия «как» и «что». Сегодня последнее доминирует. Однако не стоит думать, что Стравинский жертвует формальной стороной ради этого принципа. Формальная сила его искусства не умалилась, становясь исключительно средством, а не целью самой по себе, как это было сначала. Стравинский устанавливает для себя ограничения общего порядка, подобно тому как в предыдущий период устанавливал их в более узких областях: ритма, полифонии, инструментализма и т. д. Формальная сила Стравинского не проигрывает от этих ограничений, напротив, они лишь прибавляют ей мощи и энергии.
«Мусагет» написан для струнного оркестра без членения на более мелкие группы. Поэтому он может исполняться и камерным секстетом. Я знаком едва только с половиной партитуры, но все, что я слышал, показалось мне исключительным. Это произведение, полное восхитительной свежести, достигающее идеальной простоты в рамках жесткого консервативного канона, по которому оно выстроено. Музыкальный замысел продуман до мельчайших деталей — невероятно изысканный и в то же время обладающий простодушным изяществом. Прежде всего нужно отметить восхитительную вариацию Аполлона, написанную для скрипки и в конце поддерживаемую легким движением в басах, аккомпанирующих танцу, или, к примеру, лирический канон для четырех голосов удивительной фактуры, в котором проявилось все мастерство композитора.
Стравинский пишет «Мусагета» по предложению Библиотеки вашингтонского Белого дома (Библиотеки Конгресса)[*], которая периодически представляет театральные постановки. Ей принадлежит право первой постановки балета, и она же приобрела у автора рукопись для своей коллекции. Вот практически и все, что я могу вам сказать об этом произведении, которое мы, я надеюсь, вскоре услышим в Париже.
Источник текста LOURIÉ, 1927а.[502]
5. Неоготика и неоклассика (1928)
Существенное изменение претерпевают эстетические взгляды художников, придающих настоящему периоду его жизненный смысл. На смену эмоциональному стимулу с очевидностью приходит интеллектуальный стимул. В столкновении двух этих тенденций рождается к жизни новый стиль. Одна из тенденций может быть определена как неоготика, под каковой я разумею не стилистический возврат к средним векам, но движение в сторону экспрессивного в искусстве, — тенденция, ведущая к собственному концу. Здесь, в слегка трансформированном виде, заметна старая струя индивидуализма девятнадцатого столетия, естественным результатом которой стала крайняя форма экспрессионизма.
С другой стороны, есть и пластический реализм, подлинный медиум чисто музыкальных идей. Чтобы быть уж совсем точным, эмоционализм неоромантики уступает дорогу интеллектуализму классики.
Эти две системы, глубоко укорененные в нашем времени, диаметрально противоположны: одно начало совсем исключает другое. Первое начало, всегда эгоцентричное, озабоченное только темпоральным и завершающееся утверждением себя и личностного принципа. Второе, ищущее утвердить единство и неизменную материю. Трансцендентируя пределы темпорального, оно стремится к определенному для себя месту в концепции музыкального времени[*].
Ниже я берусь проанализировать не абстрактные музыкальные формы, к которым ведут эти тенденции, но рассмотреть — по отношению к этим тенденциям — определенные важные характеристики обоих стилей как в недавнем прошлом, так и в нынешней фазе их кристаллизации.
Сейчас много говорится о «чистой» музыке. Все это давняя проблема. Желание чистого искусства возникает время от времени, когда дальнейший путь развития перегорожен и потеряно чувство направления. После чего на заднем плане возникают проблемы чистой формы и материала. Данная дилемма есть следствие умственного взгляда, унаследованного от конца прошлого века, от сочетания ценностей, завещанных нам в форме постромантической и индивидуалистической культуры. Усилия первой четверти двадцатого века были направлены отнюдь не на то, чтобы вступать в права такого наследства, а чтобы преодолеть его и расчистить дорогу для осуществлений нового. Достичь этого до сих пор не удавалось. Сейчас мы, похоже, наблюдаем последнюю фазу борьбы двух враждебных сил: одной — представляющей личный и романтический принцип, до сих пор не поверженный и действующий под личиной экспрессионизма, который я называю неоготикой и эгоцентрическим принципом; и другой силы — органически отличной от первой, стремящейся к созданию неоклассических форм через триумф над личным высказыванием и через утверждение, в качестве основы объективного стиля, сверхиндивидуального принципа.
Художники первой группы претендуют быть новаторами и провозглашают «революционность» собственной эстетической веры, в то время как вторые представляют собой консервативный и реакционный элемент. В целом возможно расположить современные музыкальные лагери следующим образом: на крайней левой — экспрессионисты, на крайней правой — неоклассицисты, в центре — последователи импрессионизма.
Несмотря на все эстетические бунты и революции, прокатившиеся по европейской музыке последних двадцати пяти лет с их неизменным лозунгом «разрыва с прошлым», в действительности связь с девятнадцатым веком прервана не была. Это уж абсолютно точно не подлежит сомнению. Напротив, вместо разрыва произошло только укрепление связи с музыкой предшествующего времени, столь презираемой радикалами всего света. Экспрессионисты в течение нескольких последних лет были принуждены возвратиться к ней: не без очевидного компромисса, в прямом противоречии со всей своей предыдущей деятельностью. Для неоклассицистов, с другой стороны, возврат был простым и спонтанным; для них это просто был выбор линии меньшей обороны.
Музыкальное наследие девятнадцатого века, недавно еще отвергаемое, ныне заново принято и служит для воздействия на современную музыку. Вслед за этим, вероятно, последуют усилия по созданию новой культуры (которая покуда не создана) — путем принятия и ассимиляции более раннего периода в периоде позднейшем и без мысли о какой-либо необходимости отделять одно от другого. Более того, фундаментально переменилось и наше отношение к минувшему веку. Мы сейчас далеки от смотрения вспять с презрением и снисхождением, от признания за прошлым ценности только посредственного порядка. Сегодня получила развитие противоположная точка зрения; если что-то и имеет место, так это избыточное примирение, избыточная наклонность к преувеличению определенных формул прошлого, часть из которых банальна и малозначительна. Мы даже дошли до того, что ворошим осколки прошлого лишь с тем, чтобы находить среди них присутствие доброго ремесленничества, внеличностности и усовершенствованной надежности; как если бы после обвала мы бы собирали предметы, избежавшие поломки, в особенности те, что еще можно пустить в дело. После всех «смелостей» радикалов, начало которым положено революцией, а конец приходит вслед за анархическим разрушением, мы погружаемся ныне в куда более мрачную скуку[, чем прежде][*].
В любом случае два противоположных лагеря сходятся на необходимости ревизовать музыкальные ценности предыдущего века. Оба лагеря просто обязаны развернуться на сто восемьдесят градусов и начинать все с самого начала.
Революция неизбежно ведет к анархии. Разрушение одного только смысла, долго считавшегося непреложным, достаточно для того, чтобы последовал общий обвал. Только один шаг отделяет шеститоновый аккорд Скрябина от додекафонной гаммы Шёнберга и дальнейшего беспорядка. С другой стороны, правда заключается и в том, что реакция привела в конце концов к ступору и инерции.
Только два или три года потребовалось, чтобы после недавно отданного приказания возвращаться к Баху (и, таким образом, к восемнадцатому веку) осуществлены были полная имитация и производство старых, изношенных формул. Во имя все того же неоклассицизма, музыка стала производиться на свет в манере Черни или даже Клементи. Не стоило бы уделять этому какое-либо внимание, если бы поставленные вопросы принадлежали исключительно к области музыкальной теории. Но факт заключается в том, что невозможно не соприкасаться с музыкой настоящего не сталкиваясь с общей ситуацией. Говоря конкретно, спор идет о сочинениях Шёнберга и Стравинского. Искусство обоих композиторов, стоящих в мире современной музыки на противоположных полюсах, точно выражает дуализм, который я описываю.
Перед нами две конфликтующие музыкальные концепции. Оба этих эстетических подхода, кажется, представляют собой и два различных взгляда на мир, причем в обоих случаях результат — следствие вполне осуществившегося опыта. Опыт этот видится слишком глубоко [жизненно] обоснованным, чтобы допустить полную перемену в последующей эволюции художников. Он может достигнуть только завершения и разнообразия или сделаться еще очевиднее. Более того, перемена лица тем труднее, что и Шёнберг, и Стравинский выбрали для себя почти итоговые позиции.
Если глядеть на вещи диалектически, то Шёнберг может быть сочтен за тезис, а Стравинский за антитезис. Тезис Шёнберга — эгоцентрическая концепция, в которой главенствуют личное и эстетическое начала, получающие значение фетиша. Здесь эстетический опыт подменяет собой религиозный, искусство превращается в род эрзац-религии. С другой стороны, вся задача Стравинского заключается в преодолении соблазнов фетишизма в искусстве, равно как и индивидуалистической концепции налагаемого на себя самого эстетического принципа. Искусство, с подобной точки зрения, есть нормальная функция и проекция опыта. Принцип здесь утверждается ограничением «я» и его подчинением высшим и вечным ценностям. Оба направления, столь характерные для современного художественного мира, разделяют его на два лагеря, каждый из которых, хотя и со множеством вариаций, следует в целом под одним из двух знамен.
Искусство Стравинского есть реакция против эстетики Шёнберга и всяческих концепций сходного порядка. Естественно, здесь рассмотрена лишь одна из сторон Стравинского — та, что едва ли до такой степени важна, если оценивать творчество композитора в целом. Реакция, возбужденная Стравинским, кажется прямым антитезисом неоромантическому индивидуализму, самым типичным представителем которого как раз и является Шёнберг. Приказание идти назад к Баху, отданное Стравинским, было подхвачено и широко оглашено во имя неоклассицизма, и в последние годы оно стало еще более ощутимым, более агрессивным, более властным и целиком современным, в то время как движение, представляемое Шёнбергом, пошло на убыль. Последние сочинения Шёнберга даже демонстрируют определенное сомнение, попытку адаптироваться к ситуации, в чем можно заметить нечто вроде уступки неоклассицизму. Музыкальный материал Шёнберга остается прежним, но композитор показывает изменение в отношении к форме. Шёнберг старается установить связь между произвольно созданной формой, каковой он ее мыслил прежде, и классической, т. е. типовой, формой.
Если отложить в сторону личный вклад в музыку со стороны Шёнберга и Стравинского, нам, говоря о направлениях, уже очевидно, что так называемая атональная музыка, созданная первым, и неоклассическая музыка, начало которой положил второй[*], уже миновали лучшую пору. Их уже нельзя считать активно действующими силами настоящего.
Ибо атональность ведет к созданию нового принципа музыкальной конструкции, который весь — в поисках за обузданием эмоционального начала и извлечением на свет очищенного и послушного материала и — как феномен — осознан лишь недавно. Чем дальше мы от периода, в котором создавались исходящие из такого принципа сочинения, тем больше они предстают нам в своем истинном свете; их сущность была субъективна и определялась психологическим началом, каковое внемузыкально по преимуществу.
Что же до неоклассицизма, рожденного под сенью свободной классической традиции, большинство его последователей скатываются к формализму и имитации классики. Его попросту упрощают до нынешней формулы — технического процесса, отмеченного печатью неглубокого эклектизма. Если предположить, что субъективное и эмоциональное, воспрещаемые направлением, будут избегнуты, неоклассицизм сохранит только видимость традиции. Подлинно классическое следует искать не здесь.
Высказавшись подобным образом о текущей ситуации, обратимся к вопросу об индивидуальном настрое Шёнберга и Стравинского в будущем. Чем бы они ни занимались, совершенно очевидно, что Шёнберг продолжит создавать неоготическую музыку, в то время как Стравинский попытается усилить творчество объективного стиля. Случай Шёнберга особенно деликатен. Он, вероятно, не сможет долго продолжать со своей атональной системой, хотя и развивается ныне «по науке». Причина заключается в том, что его сочинения «монометодны». Во всей его музыке главная отправная точка, процесс остается все тем же. Композитор только временами видоизменяет его форму. (Таким же в точности был случай Скрябина, во всем остальном столь отличного от Шёнберга.)
С другой стороны, Стравинский «полиметоден», но форма его метода неизменна. Процесс у него в «Петрушке» отличается от процесса в «Весне», то же верно в отношении «Истории солдата» и «Свадебки»; в «Царе Эдипе» процесс также не напоминает процесса в других его вещах. По правде говоря, Стравинский уже даже и не неоклассицист, ибо неоклассицизм приобрел черты, описанные выше. По сходным причинам и Пикассо отрекся от кубизма.
Пока еще не существует синтеза этих двух антагонистических концепций, и сомнительно, будет ли он когда-нибудь достигнут. Тем не менее можно себе представить чисто формальный синтез обеих систем, однако сего предмета не следует обсуждать в настоящей статье, ибо он требует куда более детального рассмотрения, чем допустимо здесь.
Источник текста LOURIÉ, 1928.[506]
Текст «Concerto Spirituale» (1928–1929)
I. Prologue (Bénédiction du feu) [Пролог (Благословение огня)]
4 трубы, 3 тромбона, туба, 4 баритона, поющих в унисон 4-м басам.
Ut, qui me non meis meritis intra Levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens cerei huius laudem implere perficiat.
дабы тот, кто меня, недостойного, отличил к сану левитскому причислением, света своего чистоту изливая, этой восковой славы достигнул исполнения
II. Concerto (Bénédiction des fonts) [Концерт (Благословение источников)]
a) Tempo maestoso — tempo di ballada — tempo I [Величественный темп — темп баллады — первоначальный темп]
Три хора (по 40 голосов в первых двух и 4 сопрано, 4 контральто, 4 тенора, 4 баритона и 4 баса в третьем), 10 контрабасов, литавры, фортепиано.
Tempo maestoso [Величественный темп]
Tempo di ballada [Темп баллады]
Tempo I [Первоначальный темп]
b) Cadenza (tempo rubato) [Каденция (резкий темп)]
Фортепиано соло.
c) Tempo moderate е molto cantabile [Темп умеренный и очень певучий]
Снова три хора (по 40 голосов в первых двух и 4 сопрано, 4 контральто, 4 тенора, 4 баритона и 4 баса в третьем), 10 контрабасов, литавры, фортепиано.
d) Tempo risoluto — tempo appassionato e finale [Решительный темп — страстный темп и финал]
4 трубы, 3 тромбона, туба, три хора (по 40 голосов в первых двух и 4 сопрано, 4 контральто, 4 тенора, 4 баритона и 4 баса в третьем), 10 контрабасов, литавры, фортепиано.
Tempo risoluto [Решительный темп]
Tempo appassionato е finale [Страстный темп и финал]
Два хора и солисты (сопрано, альты, теноры, баритоны, басы) поют без слов. Состав оркестра: 4 трубы, 3 тромбона, туба, контрабасы, литавры, фортепиано, орган.
Anno Domini
MCMXXVIII-MCMXXIX
Paris
[Лето Господне 1928–1929
Париж]
Источник текста — рукопись партитуры LOURIÉ, 1928–1929.[510]
Кризис искусства (1928–1929)
Оставляя в стороне вопрос об исключениях, пора наконец осознать то, что искусство наших дней стало искусством без искусства. Формула «искусство для искусства» (изжитая, но с которой мы все еще как-то связаны мучительной памятью, концами нервов) была создана поколениями людей, утративших веру и подменивших ее эстетическим идолопоклонством. Подмена духовного опыта опытом эстетическим совершилась давно. Огромная часть духовных сил конца XIX столетия и начала XX этому служила. Подменив подлинный духовный опыт эстетикой, ее утверждали как первичную ценность. Но то, что делали Вагнер, Бодлер, Ницше, Уайльд, Скрябин, Врубель, было не забавой и не баловством. Это было мифотворчество. Это была эпоха создания магических, искусственных миров. Гениальные творческие и духовные силы сбивались с пути, отдаваясь призраку ложного самоутверждения в искусстве.
Этих людей мы не можем не вспомнить, потому что для них, даже в помраченном аспекте, искусство было подлинным искусом. Они одни из последних, для которых искусство было еще выражением духовного опыта. Пришедшие за ними и зачеркнувшие их имена утратили уже какой бы то ни было духовный путь. Искусство без искусства выросло в последние десять лет само собой, незаметно, от пустоты. Оно делается людьми и для людей, которым уже вообще ничего не нужно. Но как только искусство теряет связь с подлинным духовным опытом, оно становится фабрикой вещей.
Из «вещего» оно стало «вещным». И так дело обстоит и на Западе, и в России. И тут и там «искусство без искусства», только на разных основаниях. В Западной Европе заняты корыстным производством вещей бесполезных. В России подведена марксистская база, искусство заставляют служить социальному процессу. И тут и там в равной степени нет живого искусства. Принадлежит ли искусство Богу (вместе с жизнью человека и в неразрывной связи с нею), служит ли оно социальному процессу — оно в обоих случаях находится в подчинении. Оно в равной мере в обоих случаях ценность не первичная. Но в первом случае это подчинение добровольное и неуловимое. Оно прямо пропорционально личному духовному опыту и через него и «общему делу», т. е. домостроительству, миростроительству. Во втором случае это подчинение насильственное, из которого духовный опыт вытравлен за ненадобностью.
«В Европе искусство и смерть» (Блок) душа ушла из искусства. В эстетической концепции современной России душа выведена из пределов и жизни, и искусства. Само собой разумеется, что, говоря об искусстве как о подлинной стихии, можно говорить только о подчинении высшему началу. Как это подчинение происходит и в чем оно выражается, дело особое, но никакое другое для искусства невозможно. Оно абсолютно свободно. Всякое другое насильственно. Марксисты, заставляя искусство служить своему «общему делу», материалистическому переустройству мира, не могут, по существу, не отказаться от подлинного живого искусства. То, что официально они называют искусством, есть уже только производная теория или пропаганда марксистских идей в эстетической форме.
Это, быть может, хорошо, поскольку служит «первоначальному накоплению», но все это вне сферы искусства. Итак, в России искусство, поскольку оно в подчинении у правящего класса, перестало быть искусством.
Различие производственных стилей России и Запада только в том, что производственная эстетика России признана служить пролетариату, а производственная эстетика Европы — уже служит буржуазии. Но не искушенный эстетически пролетариат явно предпочитает в искусстве буржуазное производство, а пресыщенная буржуазия — влечется к пролетарскому. Все это относится не столько к индивидуальным процессам отдельных художников, сколько к общему духу и строю времени. Пытаясь разобраться в том, что сейчас происходит в искусстве, поневоле приходится говорить о столь простых и общих вещах.
Социальный и политический опыт современной России, противопоставляя себя современному Западу, выдвинул проблему пролетарской эстетики. Теза пролетарского искусства до сих пор неотчетлива и существует лишь в тумане неомарксистской диалектики как догматическая предпосылка. Ее антитеза — «буржуазное», свободное искусство утеряло свой живой смысл, поскольку в Европе искусство утратило свое становление в сфере духовного опыта. Поэтому, не имея тезы, пролетарское искусство в то же время не может возникнуть, отталкиваясь от своей антитезы. Между тем и другим искусством, которые, казалось бы, в борьбе друг с другом должны были бы рождать новые подлинные ценности, можно поставить знак равенства. Революционный пафос, который вне тезы и антитезы, а самопроизвольно, своей взрывчатой силой мог бы вызвать к жизни искусство пролетариата, — отсутствует. Почему на Западе современное искусство утратило свой «божественный смысл», я не знаю, так же как не знаю, почему революция не породила революционный пафос в искусстве. Но в обоих случаях создалось уравнение, в том смысле, что и там, и здесь теперь уже только метод двигает искусство. В Европе метод формальный — эстетический. В России метод внутренний — диалектический. В Европе метод качественный (как), в России — смысловой (что). Искусство же, движимое только методом, и есть искусство без искусства.
Метод пожирает искусство. Искусство без искусства есть то же самое, что и «искусство для искусства», но в новейшей формации, т. е. окончательно опустошенной. В прежнем духовный опыт был подменен опытом эстетическим, теперь же формальный опыт подменивает опыт творческий. Живая плоть искусства, материя, вещество подмениваются бесцельным формальным становлением.
Искусство последнего десятилетия, как в России, так и на Западе, прошло исключительно под знаком формального становления. Методологический опыт был единственным эстетическим процессом этого времени. Метод диалектического оформления материи стал центральным и самодовлеющим, вытеснив все остальное. Одновременно был он и методом полемическим. Полемичностью определялась его актуальность. Единственно в полемике актуальность получала свое выражение, в чем-либо ином она уже не находила для себя никакого питания, ибо все прочее оказалось изжитым до конца. Не создание нового, а почти исключительно критический отбор в старом постулировал художественную продукцию, которая возникала на насильственном, волевом сращивании современного с давно совершившимися и отошедшими этапами прошлого. Происходило питание современного формального ощущения за счет энергии, которую в той или иной мере из прошлого можно было извлечь. По существу, это был ликвидационный процесс, начавшийся реакцией против тупиков, в которых оказалось искусство модернистической эпохи. Реакция эта не вызывала живой и действенной творческой силы. В своем бессилии она оказывалась вынужденной непрерывно возвращаться к старому, изживая его и тем самым окончательно ликвидируя в нем то, что еще уцелело и поддавалось творческому использованию.
Для примера: творческое возвращение к Баху в музыке или к Энгру в живописи («любить» или «не любить» их — это совсем иное дело) теперь стало уже невозможно. Все лучшее, что возникло в искусстве последнего десятилетия, может иметь идеологическим обоснованием слова Паскаля:
«Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau: la disposition des matieres est nouvelle…
J’aimerais autant qu’on me dit que je me suis aervi des mots anciens. Et comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition differente, aussi bien que les mêmes mots forment d’autres pensées par leur différente dispositions»[*].
Восходя на верхах современного художественного опыта к такому обоснованию, на общей линии фронта происходило вульгарнейшее снижение, сводившее искусство к грубому приспособлению и копированию, слегка приправленному легкой «отсебятиной».
Преимущественно живопись и музыка этих лет нашли свое полное выражение в формальном диалектическом методе. Никогда со времени давно минувших классических эпох диалектика формы и материала не получала своего выражения с таким блеском и с такой силой, как это осуществилось в живописи Пикассо и в музыке Стравинского в последнее десятилетие. И Пикассо, и Стравинский создавали в эти годы искусство, смысл которого был в утверждении наиболее организованного, наиболее несокрушимого метода диалектического оформления. Они выключали из искусства, уводя за его границы, все то, что мешало чистому, формальному процессу, упраздняя все то, что становилось в нем дезорганизационной силой и инородным телом. Оба они вынуждены были ликвидировать для этой цели прежде всего их собственное прошлое, что они и осуществили. Пикассо все же сумел увязать коричневые и серо-зеленые холсты своих формальных и эмоциональных преувеличений с новым каноном равновесия, синтеза и безличных фактур, к которому он пришел. Стравинский поступил решительнее. Он отказался от своего «sturm und drang»[*] периода и вступил в конфликт с современностью, которая отказывается за ним следовать, требуя от него возвращения к прежнему его опыту, для него исчерпанному и ликвидированному до конца.
Пикассо, разложив почти на атомы живописную природу, привел ее к организованному и органическому единству. Стравинский, обнажив до предела музыкальную стихию, взнуздал хаос, надев на него стальные удила. Оба, начав с идеально выраженного неравновесия и беспорядка, привели свое музыкальное и живописное хозяйство в идеальный порядок, вернув зримой и звучащей материи прочное равновесие и закономерность новой причинности. Оба, отправившись от революционной динамики предельного высвобождения, пришли к статике соподчиненного созерцания. Круг времени оказался завершенным и, по-видимому, должен начаться вновь с перемещением центра искусства в сторону наибольшего неравновесия, к новым взрывам творческой энергии, к взрыву новой динамики для новых продвижений в организации временного и пространственного строя.
Ни Стравинский, ни Пикассо в том, что они осуществляли, ни в коем случае не могут быть отнесены к той категории ценностей, которую я обозначил как «искусство без искусства». В музыке и живописи к ней относится то, что в современном официальном, т. е. признанном, искусстве находится на периферии этих артистов. Поскольку подлинное искусство не может не быть выражением национального или универсального опыта, даже тогда, когда оно отказывается от идеологической связи с ним и осуществляется помимо него в плане только формальном и методологическом, постольку Стравинский и Пикассо были выразителями всего, что произошло в минувшее десятилетие. Музыка Стравинского и живопись Пикассо — документальное свидетельство об исторической хронике этого времени, равно в аспекте эстетическом, как и этическом, политическом и социальном. Схемы Пикассо не были простой оглядкой на прошлое с целью реставрационной. Он создавал новые ряды отношений, только параллельные старой живописи, а не восстанавливающие ее. Формальный метод Пикассо, служа конструктивным целям, одновременно устанавливал уравнение между вновь возникающим и минувшим. Живописная природа Пикассо, будучи конкретным отображением современности, в то же время находится в добром согласии с любой подлинно живописно-конструктивной эпохой прошлого, будь то наивная варварская архаика или же геометрическое мышление раннего итальянского ренессанса. Стравинский от современности отвернулся с брезгливым чувством. Он на иных основаниях, чем Пикассо, ушел в прошлое, в котором возрождает к жизни то, что находит созвучным не столько общесовременному канону, сколько личному ощущению. Его экскурсы в прошлое обусловлены не столько принципами формально-конструктивными, как у Пикассо, сколько формально-этическими. Но и тот и другой упорно возвращаются к минувшим культурам, призывая ряд ценностей прошлого к вторичному существованию, в условиях уже современного нам бытия. Каждый из них делает это по-иному и на разных основаниях. В этом существенное различие между этими артистами, имена которых в современности все же уместнее всего называть рядом. И Пикассо, и Стравинский властно подчинили живопись и музыку своему опыту, поглотив все частные художественные процессы в современности, которые, вольно или невольно, оказывались вовлеченными в их сферу. Объяснение этому в том, что позиции, захваченные этими двумя, обозначили не только огромное поле деятельности в сфере современного искусства, но и уходят по радиусам во все те области прошлого, которые в какой бы то ни было связи с современным искусством могли быть установлены в этом плане. Конечно, лишь те частные процессы могут быть здесь уравнены, которые связаны одной общей линией, которые могут быть объединены господствующей в данный момент формально-эстетической концепцией как искусства формально объективированн[ого], т е. внеиндивидуального, безличного и внеэмоционального. Все индивидуалистические процессы в современном искусстве остаются здесь вне поля зрения для данного момента. Рядом с Пикассо и Стравинским должен быть назван Валери, эстетическая концепция которого является, по существу, раскрытием основных тенденций, властно утвердившихся в передовом кругу артистов этого направления в последнем десятилетии. Валери уводит в иную сферу, в область поэзии и поэтики. Об этом отдельно.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1928–1929.[513]
О Рахманинове (1928)
Скажу сразу, без оговорок. Я люблю Рахманинова — его силу, его старомодность, все бытовое в его музыке и в нем самом. И это не впечатления от его недавнего концерта[*], а давно определившееся отношение к нему. Его концертное выступление скорее внесло долю разочарования, поставив границы тому отвлеченному и романтическому представлению, которое создалось из почти детских воспоминаний. Впоследствии образ Рахманинова часто терял свое обаяние, при редких и разорванных столкновениях с его сочинениями (всегда досадно раздражавшими) и от молвы о его «сверхъестественном» пианизме. В Европе и Америке в толпе любителей музыки Рахманинов как композитор — самый популярный из русских. Тираж его сочинений огромен, как пианист Рахманинов является своего рода чемпионом мира, вроде Демпсея или Теннея в боксе…[*]
Я не вижу разлада между Рахманиновым-композитором и пианистом. Его искусство, композиционное и исполнительское, одноприродно. Одна и та же музыкальная культура питает оба рода его деятельности. То, что он так доступен массам, что его сочинения и его игра создают исключительно непосредственный контакт с толпой, «демократичность» его артистической природы — вот в чем одно из высших достоинств Рахманинова. В этом «гуманистичность», простая человечность его искусства, и этому он обязан своей всемирной славой. Иное дело то, чем он свою музыку «наполняет». В этом наполнении причина того, что создало ему справедливую оппозицию, давно возникшую и существующую до сих пор в передовых кругах. Рахманинов всегда был и остался вне передовой музыки. В период петербургско-московского модернизма на Рахманинова отчасти была перенесена та вражда, которая существовала в то время в русском (а теперь европейском) модернистическом обществе в отношении Чайковского, т. к. Рахманинов себя с Чайковским связывал. В тот период Рахманинов был едва ли не единственным из видных музыкантов (кроме С. И. Танеева), принявшим Чайковского, которого все «передовые» музыканты стыдились и замалчивали. Но большая публика Чайковского любила всегда и непосредственно, и, благодаря близости Рахманинова к нему, симпатии к Чайковскому отчасти по наследству перешли к Рахманинову и определили связь между ним и толпой. Это произошло быстро с выходом в свет его первых фортепианных пьес, которые сразу и исчерпывающим образом выразили всю музыкальную сущность Рахманинова. Дальше ему к этому почти что нечего было прибавить. В настоящее время вряд ли существует в любой стране дом, где имелось бы фортепиано и не было бы известной прелюдии в до-диез-миноре[*]. В свое время в России эту пьесу играли повсюду, в таком же гипнозе, как когда-то декламировали «Записки сумасшедшего» Апухтина или стихи Надсона. Даже Вербицкая упоминает о ней в своем романе «Ключи счастья».
Позднее Рахманинов пытался подойти к модернизму: его романсы на слова Блока, Брюсова и Белого и его концертные выступления, посвященные Скрябину (дань памяти тогда только умершего артиста враждебного и чуждого Рахманинову мира), свидетельствуют об этом. Эта попытка сближения с модернизмом успеха не имела. В дальнейшем Рахманинов остался окончательно в стороне от новых течений. Оставшись в стороне от всех, этот исключительно одаренный русский музыкант, казалось, все-таки был предназначен для большого и серьезного дела. Любовь его к Чайковскому была верным и чистым знаком для всего его пути. Теперь, когда модернизм отшумел и кончился, стало ясно, к сожалению, что из этой предназначенности ничего не вышло. Странно так говорить при огромной славе Рахманинова, но это ничего не меняет: ибо слава — славой, а дело, которое должно было быть и на которое он имел право, — не вышло. Антагонизм Рахманинова к современности обратился в упрямое и ложноакадемическое ретроградство. У него не оказалось ни чутья к поступательному движению, ни искания уровня современного музыкального сознания, ни подлинного стремления утвердиться в культурных основах прошлого. В отношении к Чайковскому Рахманинов стал поздним эпигоном, без понимания формального смысла Чайковского, его живой и современной природы и подлинного существа его творчества. К сожалению, сочинительство Рахманинова свелось на потребу тем, кому не нужны ни подлинная музыкальная культура, ни хотя бы вещи хорошего вкуса. Для Рахманинова собственная интерпретация стала дополнением к своему творчеству, все более иссякающему[*], а интерпретация чужого — живой поправкой к своей композиторской деятельности. Пианизм Рахманинова расцвел на этой почве с необычайной силой. Он раздвинул границы фортепьянной игры до каких-то нормально положенных пределов; кажется, что в таком типе виртуозности дальше идти некуда. Говорю нормально положенных, потому что Бузони (для которого, кстати, исполнительство также было поправкой к личному неудавшемуся творчеству) достигал ошеломляющих эффектов, но Бузони пользовался приемами искусственной техники и расцвечивая фортепьянную фактуру колористической звучностью, как бы инструменту[я] ее и играя преимущественно тембрами. Техника Рахманинова исключительно нормальная, она не выходит за границы фортепьянных звучностей в собственном смысле. Он — графичен и дает всегда сухой, в звуковом смысле, ясный и бескрасочный чертеж, не вводя в него никаких чуждых пианизму элементов. В этом смысле технику Рахманинова следует по праву считать классической. Она является высшим развитием концертно-салонного стиля XIX столетия, сохраняя живую связь с большой традицией этого стиля.
Характерно для пианизма Рахманинова, что его эмоциональность и стихийная темпераментность выражаются совершенно рационалистическими средствами. Позитивизм формального мышления, трезвый и ясный, сталкивается у него с непосредственным эмоционализмом. В этом Рахманинов близок Репину в живописи, Шаляпину в пении. Как и они, он самоизживает себя в каждый данный момент в натуралистических и рациональных средствах выражения.
Рахманинову-пианисту свойствен всего более импровизационный пафос. В нем он всего лучше себя выражает. Лишь момент отправления совпадает у него с точным смыслом исполняемого: в дальнейшем он сознательно расчленяет произведение и рассекает его на составные элементы, отчетливо и ясно обозначивая каждый из них в отдельности. Затем, как бы свободно импровизируя, он начинает воссоздавать все заново, присоединяя одно к другому и приводя все к одному знаменателю, в итоге чего происходит возвращение к начальному положению. Общий итог всегда верен, ничего не растеряно и не упущено, несмотря на то что в середине исполнения Рахманинов относится к исполняемому им сочинению максимально свободно и самостоятельно. (Любопытно в этом смысле было исполнение фантазии Шопена и Листа.) Рахманинов исключительно хорошо рисует музыкальные очертания того, что играет, он дает как бы только профиль, только линию пьесы, но зло, четко, властно и небрежно. Кажется, что ему интересны лишь контуры пьесы, а восстановление целого надоедает, и он делает это торопливо, как будто для того, чтобы отделаться от скучной работы, но возникает новый звуковой профиль, и рука опять становится точной, властной и пленительно-побеждающей.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1928б.[518]
Бела Барток (1929)
Бела Барток занимает значительное место в ряду современных музыкантов. Этот венгерский композитор делает у себя на родине приблизительно то же самое, что и Мануэль де Файа в Испании, причем музыка их нисколько не сходна. Несмотря на большую известность Бартока и его авторитетность в музыкальных кругах, широкая публика до сих пор его почти не знает. Устроенный на днях в Париже концерт из его камерных сочинений дал возможность ознакомиться с несколькими из его последних произведений и составил общее впечатление от его музыки. Бела Барток принадлежит к поколению композиторов, с которым связаны имена Шёнберга и Стравинского. Вместе с Файа его имя по праву должно быть поставлено рядом с ними. Музыка Бартока выросла на германской почве, на основе позднего романтизма под некоторым воздействием Листа и Рихарда Штрауса, но принципы немецкой техники он стал применять к разработке своего национального фольклора. Барток остался навсегда верен своему музыкальному национализму, и фольклористичность навсегда осталась главной основой его искусства. Он остался верен этому и по сию пору, когда столь модная недавно фольклористическая тенденция пошла в европейском искусстве на убыль и сменилась тяготением к безличному и «интернациональному» классическому формальному канону, сохранив некоторую, но уже изживающую себя силу только еще в Испании, где главным выразителем этого направления является Мануэль де Файа.
По формальным признакам музыка Бартока принадлежит к той категории, которую в Германии называют музыкой «атональной», т. е. свободной от прямой зависимости от какого-либо определенного тонального строя. Полоса атональной музыки настойчиво и властно утвердилась в Германии, где она продержалась до сих пор и только теперь, и то как будто неохотно, начинает уступать место новым веяньям. Националистические музыкальные тенденции определились и расцвели в тех случаях, где для этого была соответствующая благоприятная почва, т. е. там, где существовали залежи музыкального фольклора. Там, где этот фольклор был плохо или неверно разработан (как это тогда казалось), как, например, в России, он подвергся проработке на основании новых методов. В этом смысл того, что делал Стравинский в первом периоде своего творчества. Либо же фольклор бывал вовсе не тронут, в таком случае впервые возникали национальные школы: испанская, итальянская, польская, чехословацкая и позже всех бразильянская.
В такой высококультурной в смысле музыкальном стране, как Германия, для развития национальных тенденций на основе фольклора не было и не могло быть никакой почвы, так как песенный фольклор в этой стране давно исчерпан и растворился в технике инструментальной на протяжении всего XIX века и в хоральном протестантизме еще со времени Баха. В эту пору увлечения национальными тенденциями «во что бы то ни стало» Германия пошла по пути деформации инструментальных форм и инструментальной полифонии по преимуществу. Атонализм был связан с этим, равно как и кубизм. Чистый музыкальный кубизм, в том виде, как он возник в эту пору в Германии и Австрии, отличителен полным отсутствием в нем конкретной песенной природы. Все сведено в кубизме к абстрактному инструментальному мышлению, песенность же подменена в нем психологическим жестом (Шёнберг и его школа).
Музыка Бартока, возникшая на изменчивой почве, характерна столкновением отвлеченно-формального мышления в области инструментальной с конкретной природой песенности венгерского фольклора, который его питал. В этом отличительнейшая черта его музыки. В ней есть коллизия столкновения органически противоположных и чуждых друг другу сил. В том, как он насильственным, волевым порядком силится согласовать эти силы, сказывается развитие всего его мастерства. В этом процессе, на мой взгляд, самое любопытное — в его музыке, остальное менее интересно. Барток превосходный музыкант, но на редкость сухой. Он любит и пишет музыку сухую, как сухое вино, но в достижении той категории сухости, которую он ищет, ему мешает эмоциональная влажность, присущая всякому фольклору, а мадьярскому в особенности. Эту влажность Барток подсушивает на инструментальной механизации. Ему удается вырабатывать в конечном счете очень сухие фактуры, которые, сохраняя свою несомненную связь с атональным кубизмом, в то же время «отсвечивают» ладовой интонацией, изучаемой фольклором, с которым они связаны. Двойственная природа этой музыки сказывается в ней все время: отвлеченный инструментализм сталкивается с конкретностью песенного лада; стремление к сухой фактуре — с фольклористической раскраской, объективация материала (мелодического и гармонического) и метра — с индивидуализмом ритма, формы и стиля. В большинстве случаев эта двойственность не согласована и не обнажена сознательно, а проявляется как противоречие. В общем, впечатление от музыки Бартока — значительное и ценное. Любопытны затейливые и вычурные, но весьма влажные фортепианные пьесы: «Tamburins et fifres», «Musiques nocturnes» и «Musettes»[*]. По-видимому, они сделаны с большим усилием и расчетом, но впечатление от них создается свежее.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1929.[520]
О мелодии (1929)
Чем является для нас теперь мелодия? Мы не мыслим мелодию так, как ее понимали в XIX столетии, когда она вообще не была предметом особых размышлений; в прежнее время музыканты были заняты качеством мелодии, а не мелодией по существу. Как и всегда, в XIX веке тоже существовали музыканты, обладавшие мелодическим даром или лишенные его; но проблема мелодии как таковой для них не возникала. Вне зависимости от качественных оценок, можно, однако, сказать, что XIX век был по преимуществу веком мелодическим. В наше время — положение иное. Истинный мелодический дар стал частным случаем, как красивый голос, и к нему так и относятся. Но как субстанциональный элемент музыкального творчества мелодия совершенно утрачена современной музыкой; и это является своего рода признаком первородного греха в ней.
Музыка лишилась стихии мелодии в такой же мере, как поэзия лишилась стихии лирической. Ни мелодия в музыке, ни лиризм в поэзии не являются больше их главным двигателем. Нематериальная, неопределимая стихия мелодии и лирики заменены в обоих случаях материальностью и конструктивизмом. После того как они были органической субстанцией и основной движущей силой музыки и поэзии, и мелодия и лирика выключены из современного искусства. Мелодия и лирика находятся в пренебрежении; они едва терпимы, они — нечто, о чем не говорят. Мелодия и лирика заменены организационными принципами[*].
Музыканты и поэты, прошедшие через подобную стадию, до последних дней стыдились мелодии и лирики. Многие из современных музыкантов постеснялись бы подписаться под великолепными мелодиями, созданными старыми мастерами. Но в то же время современные музыканты охотно сделали бы это в порядке стилизации, т. к. тут не было бы субъективного соучастия, личной связи автора с такой мелодией. Мне кажется, что стыд этот не является ложным; его можно объяснить тем, что всякой мелодии свойственно обнаруживать правду, открывать первоначальную реальность — психическую и духовную — о том, кто создает мелодию. Мелодия раскрывает природу субъекта, а не объекта. Конечно, она может сочетаться с объектом, стать выражением этого объекта, но основное ее назначение состоит в раскрытии самой природы субъекта, из которого она возникает[*].
Такая реальность мелодического процесса находится в противоречии с принципами безличной эстетики и насильственной объективизации стиля, явившихся основной тенденцией последних лет. Практически этот конфликт разрешился в ущерб мелодии, оказавшейся в современной музыкальной проблематике отброшенной на задний план. Так происходило в случаях, когда для музыкантов все же возникал еще вопрос «о мелодии» или «о немелодии».
Пренебрежение мелодией началось одновременно с пренебрежением к субъективным принципам; утверждавшаяся новая эстетика, формально-объективная и безличная, рассматривала личные принципы как разрушительные. Вслед за этим музыканты решили, что «объективизация» мелодии возможна в той же мере, как и объективизация иных элементов музыки. Если же объективизация была невозможной, музыканты говорили: «Тем хуже для мелодии!»
Общей тенденцией был скорее отказ от мелодии, чем присутствие ее как субъективного начала, т. е. начала, разрушающего безличные нормы, которыми страстно увлекались музыканты.
Мелодический процесс, поскольку без него нельзя было обойтись, был подвергнут искусственной деформации, насильственной объективизации и механизации, а также полному подчинению иным музыкальным элементам, преимущественно ритму. Свободная стихия мелодии была скована новой дисциплиной, своего рода музыкальным аскетизмом, в то время возникшим. Подобная дисциплина дала возможность проявить героизм музыкантам, у которых было чем пожертвовать; но в силу этого же аскетизма многие стали сочинять по линии наименьшего сопротивления, т. к. жертвовать им было нечем.
Но даже в то время мелодия, хотя и скованная, продолжала существовать; не будучи всегда очевидной, она жила как подземная сила, питающая корни.
Теперь, когда музыкальная почва истощена окончательно, нельзя уже говорить о мелодии загнанной, т. к. живой мелодический процесс в новой музыке отсутствует. Это не пессимизм, но логическое следствие современной эстетики, которая должна начать видоизменяться после того, как объективность и безличие завели музыку в тупик.
Если признать за мелодией способность выражать правду, обнаруживать не искусственную, но живую природу, т. е. реальность, то мелодия, в определении эстетическом, а не формально-музыкальном, есть не что иное, как добродетель. Можно ли это отрицать? Если именно в правде мы видим главный признак того, что называется мелодией, тогда она прежде всего музыкальная добродетель, а затем все остальное.
Мы должны признать, что в современной эпохе господствует ложь. И не случайно наиболее выраженным типом современной мелодии является гротеск, т. е. гримаса, ирония и шутка. Ложь в музыке происходит оттого, что музыканты уклоняются от мелодического процесса как от прямой действующей силы, уклоняются от всякой личной ответственности, маскируясь ответственностью, будь то «мода» или «стиль эпохи».
Конечно, мелодия есть добродетель эстетическая, а не моральная; но все же мелодия каким-то неосязаемым образом связана с моралью вообще и относится к порядку морально-эстетическому, являющемуся одним из признаков, по которым узнается мелодия.
Эстетическая мелодия есть как бы биологическая основа музыкального произведения, но она также является и моральной его особенностью. Нельзя разделить эти категории, не разрушив одну или другую. Подобно трем богословским добродетелям, мораль постигается сама собою. Если же мораль не является выражением правды, она теряет всякое живое значение и становится только отвлеченной нормой поведения. Быть может, мы не сочиняем теперь больше хороших мелодий потому только, что мы стали очень злы.
Наши мелодические способности прямо пропорциональны нашим способностям к добру и любви, не в смысле сентиментальном, но религиозном. Злой мелодии быть не может; злая мелодия есть бессмыслица. Может существовать злой музыкальный мотив; можно мотивировать злую силу (Вагнер), но злой мелодии быть не может[*]. Мелодия есть добро в самом себе, вот почему она является выражением правды о том, кто ее создает. Мелодия есть как бы очищение исповедью; она обнаруживает реальность того, что существует, а не ложь, выдуманную композитором.
Таким образом, качество мелодии зависит исключительно от категории морально-эстетического единства. Даже эротическая мелодия, находящаяся в категории низшего порядка, возможна, только если мы способны переживать большие и сильные страсти.
Вот почему, вероятно, область современной музыки, где мелодия еще жива и действенна, — это область музыки танцевальной, уличной, поскольку последняя воплощает реальное и живое чувство[*]. В наши дни лирика и мелодия, независимо от их качества, находят свое выражение главным образом в этой низшей категории музыки, где они приютились, покинув профессиональный уровень искусства и высшей культуры.
Мелодия находится в органическом согласии с богословскими добродетелями. Поэтому не подлежит сомнению и то, что высшим ее выражением является мелодия религиозная, т. е. молитва.
В противоположность гармонии и ритму мелодия не поддается логике нашего сознания; наш разум всегда перед нею бессилен, т. к. мелодия иррациональна. Может существовать ангельская мелодия, но никак не ангельский ритм[*], т. к. в вечности времени больше нет, но существует и всегда будет существовать хвала.
Превосходство мелодии над ритмом несомненно. Ритм — это организация музыкального времени и музыкального пространства; ритм — это ценность относительная[*]. Мелодия есть освобождение от существования во времени и пространстве. Мелодия есть как бы мгновенье, в котором уничтожаются законы времени и пространства, и музыкальное «я» становится по отношению к ним свободным. Мелодия создает иллюзию остановившегося мгновенья и тем самым вызывает чувство принадлежности к категории вечности.
Неоспоримая метафизическая иррациональность музыки есть следствие этой способности мелодии нарушать пространственную и временную причинность земного существования. Ущерб, которому подверглась мелодия в современной музыке, возник от гипертрофического развития ритма.
В начале XX века произошла подобная же гипертрофия гармонии (от вагнеровского хроматизма к импрессионизму), приведшая к распаду ритмического начала вследствие перерождения гармонии. Возвращение к ритму было одним из основных моментов в борьбе против импрессионизма. Это находилось в согласии с общей проблемой современной культуры. Значение, которое придавалось ритму, дошло до такой степени, что ритм стал главным двигателем композиции. Один из наиболее характерных этому примеров — «Свадебка» Стравинского. Произведение это написано так, что слушатель не может ощутить ничего, кроме ритма; слушатель находится под непрерывным воздействием ритма этого сочинения, являющегося в нем самодовлеющим. При чтении этой музыки становится необходимым отделываться от ритма для того, чтобы ощутить ее. Ритм в «Свадебке» достигает максимума своего развития и воздействия, мелодия же целиком подчинена; она основана только на мотивах и служит мотивировке ритмической структуры.
Оставив в стороне несколько частных случаев, можно сказать, что в обеих главных тенденциях современной музыки свободный мелодический процесс отсутствует. У музыкантов, чьи сочинения покоятся на прямой ритмической базе, мы находим только мотивировку, основанную почти всегда на интонировании ритмических фигур. У экспрессионистов австро-германской школы мы тоже находим только «мотивировку», но основанную на интонировании психологического или драматического жеста. У одних — эта мотивировка обусловлена формальными и ритмическими данными. У других — она ничем не обусловлена и зависит только от психологической обстановки и индивидуальных восприятий, даже если эти восприятия приведены к некоторым «нормам». Ни в одном из этих случаев мы не имеем дела с мелодией, как со свободной и неподчиненной стихией.
Все согласны с тем, что мелодия — душа музыки. Но что такое мелодия? Не в смысле эстетическом, а в смысле формально-музыкальном?
Мотив, тема, мелодия — все они вращаются вокруг одного и того же предмета, оставаясь при этом абсолютно различными понятиями.
Традиционная теория считает мелодией попросту верхний голос сочинения. Конечно, это совсем не так. Попробуем разграничить эти понятия и упорядочить их. Прежде всего: что такое тема или мотив? Это звуковая последовательность, ведущая по необходимости к какому-либо действию. Без этого действия тема или мотив не имели бы никакого смысла. Поэтому фраза: «Объясните мне мотив вашего поведения» — не является произвольной, т. к. никак нельзя сказать: «Объясните мне мелодию вашего поведения». Различие между мотивом и темой заключается в том, что мотив всегда поясняет смысл музыкального действия, с которым он связан, в то время как сочинение, основанное на тематическом развитии, есть само музыкальное действие, которое показывает содержание темы, т. е. служит проявлению музыкальной энергии, заключенной в данной теме.
Мотив — это как бы недоношенная мелодия, остановившаяся в какой-то момент своего роста. Тема же, напротив, это как бы мелодия во вторичной стадии своего развития. Фуга является лучшим примером сочинения, где музыкальное направление совершенно невозможно без мотивировки, о которой она напоминает без конца, чуть только мотив кажется удаляющимся из памяти. Вождь в фуге XVIII века является высшим развитием мотива в той роли, о которой идет речь.
Соната (симфония) XIX столетия есть, со своей стороны, пример тематизма. Конечно, существует немало сочинений, где роль мотива и роль темы перепутаны, но это не ведет ни к чему положительному. XX век особенно повинен в создании этого беспорядка: в XX веке возникли мотивированные сонаты и тематические фуги. Тогда в особенности пользовались «мотивировкой» мело-ритмической или мело-психической в ущерб тематизму, характерной принадлежности XIX столетия. В этом смысле музыку XIX века характеризуют две тенденции: романтизм, ему присущий, создал мелодический пафос, преимущественно эмоциональный по своей природе; скептицизм же и рационализм послужили тематизации накопленного мелоса, прилагая к развитию схематических музыкальных форм, созданных в ту же эпоху, ложноклассическую схоластику в симфониях, сонатах и вариациях.
Шуберт служит великолепным примером этих тенденций. Его чудесный мелодический дар выражается в схемах формальных и условных. Шопен спасался тем, что не доводил музыкальную композицию до полного завершения и основывал ее исключительно на первенстве мелодии. (В сущности, tempo rubato есть не что иное, как музыка, сознательно не законченная.)[*]
В действии, связанном с мотивом, можно видеть развитие той силы, которая послужила бы перерождению мотива в мелодию. Концентрация музыкальной энергии в мелодии настолько сильна, что зачастую короткая мелодия служит выработке больших сочинений. Вероятно, именно этим объясняется то, что музыкальное действие, связанное с мотивом, безусловно более органично, чем музыкальное действие, связанное с темой. Последнее есть процесс, выражающийся не в прямом развитии, но в музыкальном суждении о сюжете. Поскольку тема содержит некоторое предложение, постольку разрешение этого предложения есть действие не прямое, но рассудочное.
Музыка XX века старалась освободиться от рационализма XIX века, основанного на тематическом материале. В противовес тематическому материалу музыка XX века утверждала мотивированное музыкальное действие. Мелодия сама по себе не связана ни с каким действием и не ведет ни к чему. Она как вещь в себе.
Мотив служит к оправданию действия. Тема есть средство развития мысли. Мелодия не служит ничему. Она дает освобождение. В любой момент музыкальной обстановки, логически сложной, появление мелодии приносит немедленное освобождение, в зависимости от качества возникшей мелодии. Мелодия живет сама по себе, а вся «музыка» есть сумма известных данных. И действительно, с мелодией «ничего нельзя сделать»[*].
Вот почему, когда речь идет о мелодии, говорят, что ее «обрабатывают», или что ее «сопровождают». Очень редко ее сочиняют. Лучший пример решения этой проблемы в прошлом не у Баха, а у Моцарта. Моцарт был рационалистичен, но не в мелодии, а в своих композиционных методах. Он создавал «музыку» и «мелодию» на совершенно различных основах, легко и свободно соединяя их вместе; он не воздействовал одним на другое. В этом заключается таинственный феномен, и, во всяком случае, совершенно исключительный.
Если искать чисто формальное определение мелодии, можно предложить следующее: мелодия есть такая последовательность звуков, в которой теряется функция интервалов. В освобождении от функции интервала и заключается иррациональность мелодического процесса. Чем это освобождение совершеннее, тем большую ценность имеет мелодия. Та же последовательность звуков станет мелодией у одного композитора, но не у другого.
У Дебюсси мелодия — это как бы метеор, превратившийся в звуковую пыль при падении на землю. Мелодия Дебюсси отрывочна; между тем музыка его основана исключительно на мелодии, которая и есть главная сила его самоосушествления. Но уже у Дебюсси мы видим начало мелодической стилизации и рождение гротеска. После Дебюсси возникли методы организационные и методы мелодической стилизации. В наше время возник новый род эклектизма: это или эклектизм стилизованный, или стилизация самого эклектизма.
Современники какой бы то ни было музыкальной эпохи всегда склонны думать, что эта эпоха менее мелодична, чем предшествовавшая. Поэтому Бетховена обвиняли в антимелодичности и противопоставляли ему Моцарта и Гайдна; затем противопоставляли Бетховена Шуберту, Шуберта Шуману и т. д. Этот род суждений ничего не значит. Современники эпохи обычно не в состоянии оценить эволюцию мелоса[529], которая происходит одновременно с эволюцией ритма и гармонии.
Обычно смешивают мелос с мелодией. Сочинение может быть абсолютно лишено мелодии, но сочинение, лишенное мелоса, не имело бы никакого права называться музыкальной композицией, потому что мелос есть звуковое и жизненное сочетание, действующее в музыкальном организме как циркуляция крови; без мелоса нет музыки. Музыкальное сочинение без мелоса было бы подобно телу, не отбрасывающему тени. Только фантомы не отбрасывают тени. Если допустить, что может существовать совершенно искусственное музыкальное сочинение, лишенное всякой органической жизни, то оно окажется лишенным мелоса и тем самым будет вне всякой музыки. Поэтому чем музыкальное сочинение искусственнее, тем менее выразителен и ощутим его мелос. Характер же мелоса меняется с каждой эпохой.
Ничего не может быть абсурднее, чем задаваться вопросом: необходима ли мелодия? Между тем модернисты серьезно, упорно и долго были этим заняты. Волевой процесс музыкального творчества нашей эпохи был в значительной мере методическим и методологическим усилием упразднить свободную мелодическую стихию, ставшую для современной музыки «камнем преткновения».
Упразднение мелодии проходило под знаком «конструктивизма»; быть может, близко время, когда этот камень, отвергнутый зодчими, будет снова положен во главу угла.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1962.[530]
Пути русской школы (1931–1932)
Перед войной существовали три стихии музыкального творчества: германская, латинская и славянская. Синтезом латинской музыкальной культуры к этому времени были музыка Дебюсси и достижения импрессионистской школы, которые стали национальным фактором французской музыки и были следствием периода длительной борьбы с германской гегемонией. Национальные достижения достались латинизму отчасти следствием преодоления, отчасти ценой разрыва с германизмом.
Славянская музыкальная культура, осуществлявшаяся тогда исключительно Россией (также как латинская Францией), послужила для латинской Европы союзницей. Она оказалась вспомогательной силой для преодоления непоколебленной до той поры власти германской музыки. Оглядываясь сейчас на это недавнее прошлое, мы можем уже с достаточной отчетливостью сделать этот вывод, констатируя его как исторический факт. Связь между французской и русской музыкой создалась не столько вследствие эстетических вкусов и влечений, сколько на почве антагонизма двух культур: латинской и германской, органически друг другу противоположных, как по материальной, так и по эстетической природе. Молодая сила русской музыки, с ее варварской свежестью и новизной, оказалась вовлеченной в эту борьбу. Русская музыка стала трамплином, отталкиваясь от которого французы пробудились к осознанию своего национального лица, утраченного ими к концу XIX столетия под воздействием немцев. Соки молодой русской музыки напитали здоровьем латинскую музыкальную Европу, вызвав ее к самостоятельной жизни, после длительного оцепенения, в которое она была погружена в конце прошлого столетия, т. е. в периоде ложноклассического и постромантического германского «владычества», казавшегося до этого контакта с русской музыкой несокрушимым. Чары Beyreuth’cкoro колдуна привели к оцепенению весь музыкальный мир. Не было большего гипноза, чем тот, который был создан Вагнером к концу XIX века. Непогрешимый в смысле своих критических и эстетических оценок, Бодлер был первым в Париже, поддавшимся этому гипнозу…
Русские музыканты прошли через длительный период влияния немцев. С момента возникновения музыкального искусства в России как самостоятельной национальной школы (т. е. начиная от Глинки) они добровольно шли на выучку к немецким мастерам, отдавая им первенство перед всеми остальными в мире. Позднее это стало прочной традицией, утвердившейся как в области профессионального музыкального образования в России, так и в академических музыкальных кругах. Между тем уже в периоде деятельности Могучей кучки существовала в России решительно выраженная тенденция преодоления зависимости русской музыки от немецких влияний, с целью создания своей музыкальной культуры, чисто национальной и органически самобытной. Высшими творческими выразителями этих стремлений были Мусоргский и Чайковский. «Западник» Чайковский был антиподом Мусоргского. Понимая смысл русской музыки как обработку национальной природы средствами западной техники, он находил немыслимым разрыв с западным каноном по существу. Но вместо немецкого канона Чайковский предпочел канон итало-французский, приняв его в том виде, как этот канон сложился к концу XIX столетия. Это поставило его в оппозицию к тем кругам русских музыкантов, которые считали связь с немцами для русской музыки чем-то бесспорным, непреложным. Мусоргский утверждал разрыв решительно и категорически с каким бы то ни было западным каноном. Его принципы в отношении Запада были анархичны. Мусоргский верил в необходимость для России специфически-национальной музыкальной культуры, абсолютно независимой от каких бы то ни было иноземных влияний.
Римский-Корсаков, помимо личного творчества отдавший много сил созданию прочных основ профессионально-музыкального образования в России, занял позицию, промежуточную между Мусоргским и Чайковским. Он не был ни чистым народником, как Мусоргский, ни решительным западником, как Чайковский. Его позиция была компромиссной как в отношении Мусоргского, так и Чайковского: к тому же он не принимал уклона Чайковского в сторону латинского Запада, а сохранял верность первоначальной традиции русской школы в ее подчинении немецким формальным методам. Такая позиция и предопределила как характер его культурной деятельности, так и его личное творчество. После него ту же линию подчинения русской школы немецкому формальному канону и композиционному методу упорно поддерживал Глазунов, принявший эту традицию по наследству от Римского-Корсакова и охранявший ее слепо, не проверяя и не переоценивая. Личное творчество Глазунова в сфере русского симфонизма имеет, на мой взгляд, самостоятельное значение. К нему со временем могут еще вернуться; но роль его культурной деятельности в отношении русской школы всецело определилась позицией, занятой им в прямой последовательности и зависимости от Римского-Корсакова.
Таковы были основные линии развития русской школы к тому моменту, когда оказался замкнутым круг деятельности Могучей кучки и ее достижения стали достоянием академизма. Влияние немцев на русскую музыку в ее младенческом состоянии было живым и плодотворным. Тогда это были контакт с классиками и воздействие ранних романтиков. В годы Римского-Корсакова и Глазунова связь с чистыми источниками германской классики и романтизма переродилась в подчинение ложноклассической схоластике, задрапированной в постромантическую идеологию, которой музыкальная жизнь этой эпохи и характеризовалась.
Мусоргский был первым выразителем «скифской» проблемы русской музыки. Он искал воплощения сырой народной стихии, полагая, что единственно она является органическим выражением России. В этом был его пафос. Теперь никто не оспаривал того, что на пути овладения народной музыкальной стихией Мусоргский создал и мир совершенно самобытных формальных ценностей, но еще недавно это упорно отрицалось в самом русском музыкальном кругу, в кругу академическом, разумеется, а не передовом. Понадобилось воздействие русской музыки на французскую в лице Дебюсси и импрессионистов и обратное воздействие этой французской музыки на русскую, для того чтобы и формальные достижения Мусоргского стали общим достоянием.
В начале XX столетия в России наиболее характерными выразителями новых течений были: Скрябин на крайней левой позиции и Метнер на крайней правой. Метнер и Скрябин были полюсами русского декадентства и модернизма. Скрябин появился в лоне русской национальной школы (1-я симфония), но, увлеченный в «экстрамузыкальные» миры, он счел национальную проблему русской музыки чем-то очень второстепенным и несущественным в сравнении с теми эсхатологическими мечтаниями, которые питали его музу. В зрелый период своего творчества он окончательно ушел от всех традиций русской школы и стал в такой же мере абсолютистом западничества, в какой Мусоргский был националистом Метнер, вскормленный всецело немецкой музыкой, занял в отношении русской школы как таковой позицию не столько радикально консервативную, как тогда казалось, сколько почти парадоксальную в том смысле, что для него русская музыка, как искусство самобытно-национальное, вообще была под знаком вопроса. Будучи консерватором и эпигоном постромантического наследия немцев, он в то же время искал новых форм и новой системы музыкального мышления, но в полном и решительном подчинении немецкой музыке, считая национальную культуру русской музыкальной школы как бы несуществующей. Мне кажется поэтому, что, независимо от индивидуального значения его музыки, из русской музыки он выпадает и что правильнее считать его [скорее] немецким музыкантом, чем русским[*].
В годы, когда кончилась в России живая роль национальной школы, осуществлявшаяся Могучей кучкой, в Германии считали, что немецкой музыкой исчерпывается вообще вся музыка в мире. К русской же музыке там продолжалось все еще отношение только как к «провинции» в своем же государстве. Метнер был выразителем этой тенденции в русском модернизме начала XX столетия.
Французы же в эпоху модернизма стали естественным образом союзниками русских, так как «скифская» проблема русской музыки оказалась в соответствии с созревшей к этому времени и для французских музыкантов необходимостью преодоления зависимости от немцев.
Стравинский появился в этой исторической перспективе. При нем живая связь между русской и французской музыкой стала уже совершившимся фактом. Его творчество в первом периоде послужило укреплению этой связи и обозначило еще большее разъединение между музыкой русской и французской, с одной стороны, и немецкой в ее тогдашней формации — с другой. В отношении русской национальной школы роль Стравинского в первый период его деятельности была как бы поправкой к Римскому-Корсакову и нарушением традиционной связи русской школы с немцами. Стравинский стал ярким выразителем «скифской» проблемы Мусоргского и проводил ее с большой силой и решительностью. «Весна священная» стала знаменем этой проблемы. Она стала знаменем всех тех русских музыкантов, кому был дорог Мусоргский и его подлинное, «неподчищенное» наследство. Молодая французская школа (уже после Дебюсси) приняла это знамя, которое в равной мере становилось как бы символом и ее национального дела.
«Весна священная» родилась из непосредственного чувства веры в стихийную народную первооснову, и для Стравинского «Весна» была моментом высшего становления и одновременно моментом разрыва. Становлением было утверждение азийного духа России, и оно же было разрывом со всем, что этому духу было враждебным и чуждым не только на Западе, но и в России. Ведь и «кучкисты» стремились к воплощению того же скифского лица России, но все они, кроме Мусоргского и Бородина, вливали русское вино в немецкие мехи. Стравинский выпрямил наследственную линию, шедшую от Мусоргского, и разрушил ложнорусские традиции, установленные Балакиревым и Римским-Корсаковым ради «профессионализации». Уход Стравинского в его дальнейшей деятельности от скифской проблемы к интернациональным берегам можно ли считать «изменой» русскому национальному делу? С моей точки зрения, нет, конечно. Скифская проблема была доведена до возможного предела. Идти дальше в этом направлении было тогда невозможно. Вернется ли русская музыка снова на этот путь или нет — это дело будущего. Что же до Стравинского, то он радикально изменил линию — именно в этом вопросе, уйдя из национального плана в план общечеловеческий. Радикальная перемена его стиля обусловлена переменой идеологии, которая, в свою очередь, обусловила и перемену всего формального процесса его музыкального мышления. Любопытно, что перемена стиля у Стравинского исторически совпала с политической и социальной проблемой современной России, в которой национальное сознание выросло в сознание сверхнациональное и в стремление к всенародному единству[*]. При оппозиционном политическом отношении к современной России Стравинский как будто бы осуществил в музыке тот же выход, который был подсказан социально-политической идеологией современной России, но на различных с нею основаниях, ибо, уйдя из сферы национальной, Стравинский не разрушил связи с прошлым. Сведя к минимуму идеологическую проблему искусства и замкнувшись исключительно в область формальную и дидактическую, он, отказавшись от национальной музыкальной проблемы, повернулся в сторону западных формальных канонов и, со свойственной ему прямолинейностью, установил прочную для себя связь с наследием западной музыкальной культуры. В этом его разлад с современной Россией[*]. В музыкальном искусстве в России проблема поставлена сейчас совсем по-иному. Она снова направлена в сторону разрыва, но на этот раз уже не только с Западом, а со всей прежней культурой человечества (и не только «музыкальной»). Проблема эта — в стремлении к созданию органически новой культуры, не национальной, а всемирной.
Таким образом, былая скифская проблема музыкальная становится в данный момент в современной России и для музыкантов проблемой пролетарской, т. е. музыкальной проблемой так называемой социалистической культуры.
Любопытно, в какой мере народнический сюрреализм Мусоргского находится в связи с проблемой пролетарской культуры[*]. Странно, что в России до сих пор в отношении к Мусоргскому этот вопрос не был даже поставлен. Согласился ли бы Мусоргский, если бы жил в наши дни, увидеть прямую связь между пролетарским искусством и тем, что он считал своей идеей? Я думаю, что вряд ли согласился бы, и независимо от той безвкусности, которая присуща этому искусству благодаря терпкой смеси его с политикой.
Период культурного обновления, последовавший после войны, ознаменовался повсюду в музыкальном искусстве тенденцией остро выраженного национализма. Никогда еще эта тенденция в музыке не выражалась на Западе с такой отчетливостью, как в эти годы. Вне зависимости от каких бы то ни было эстетических или формальных предпосылок, переоценка ценностей и взрыв новой творческой энергии в Европе приобрели повсюду специфически национальный характер. Почти во всех странах Западной Европы (а позднее и в Америке) создались музыкальные группировки, имевшие своим прототипом русскую школу в первый период ее формации, т. е. Могучую кучку[*].
Таково было настроение музыкантов в эти годы повсюду, кроме России. Состояние же самой русской музыки как школы стало с этого времени совершенно обособленным среди всех других национальных групп. Одной из главных причин явилось то, что в послевоенные годы, вследствие чисто политических причин, русская музыка оказалась расколотой на две части, которые в своем все более и более независимом существовании стали двумя самостоятельными величинами. Одна из них — русская музыка в современной России; другая — те, кто волей исторической и политической обстановки оказались вовлеченными в художественную жизнь на Западе и стали частью ее целого, т. е. частью общеевропейской культуры, и почти утратили связь со своей национальной почвой. Уже вследствие одного этого обстоятельства русская музыка находится сейчас в сложном периоде своего существования. Ряд любопытнейших вопросов скрещивается с проблемой русской музыки в данный момент. Ни для одной из существующих в мире музыкальных группировок вопросы эти так не сложны, как для русских музыкантов. Вопросы стиля, формы и языка находятся для них в живой связи с основной политической проблемой современной России. Поэтому, пытаясь определить состояние русской музыки как школы в настоящем моменте ее существования, мы должны рассмотреть обе ее части как самостоятельные величины, т. е. то, что происходит с музыкальным творчеством в СССР, и то, что совершается в русской музыке на Западе.
Когда в послевоенные годы в России музыка (так же как и все искусство в целом) оказалась спустя несколько лет под воздействием социально-политической обстановки, создавшейся там после революции, в первые годы революции не существовало контакта между искусством и политикой. Социально-политическая жизнь страны развертывалась в одном направлении, культурная и художественная ее жизнь в ином и почти независимо от политической обстановки. В первые годы искусство, и в частности музыка, были на положении аристократически привилегированном. Революция внесла новое только тем, что произошла деформация быта, когда оказались привлеченными к художественной жизни народные массы. Это отразилось только на исполнительстве и на педагогике. Музыкальное же творчество политикой не было затронуто. Предоставленное самому себе, оно замкнулось исключительно в свою профессиональную сферу, и в ней продолжалось изживание тех внутрипрофессиональных эстетических процессов, которые существовали в русской музыке в дореволюционную эпоху. Политическим деятелям было «не до музыки» — музыканты же закрывали глаза на политику и пытались до конца удерживать, в сущности, давно изжитую позицию «искусства для искусства». Позднее, когда политическая власть окрепла и произошло «углубление» революции, наряду с политическим и экономическим фронтами был объявлен и культурный фронт в СССР. С этого момента театр, литература и живопись оказались значительно быстрее в контакте с марксистской доктриной, чем музыка. Объясняется это вовсе не тем, что музыканты политически консервативнее, чем иные деятели искусства, а исключительно тем, что самый материал театра, литературы и живописи гораздо быстрее и легче поддается внешнему приспособлению и той или иной тенденциозной переработке в угоду новой идеологии. Изменение самих формальных методов в музыке гораздо труднее и сложнее, чем в других родах искусства, а внешне прикрепленные ярлычки или же наскоро пришитые литературные программы и пояснения ничего не меняют в самой музыке, природа которой нисколько не изменяется от того, что та или иная музыкальная материя пристегнута к «капиталистическому» или же к «коммунистическому» сюжету. Разве что в дальнейшем в России будет подвергнута переработке и органическому изменению самая материя музыки и процесс ее оформления, но это дело иное и очень сложное. Для этого нужно созревание новой культуры по существу, органически противоположной музыкальной культуре предшествовавшей, т. е. всему историческому ходу ее развития. Возможно ли это для музыки? Не знаю. Во всяком случае, несомненно, что в СССР проблему эту должны будут поставить на этот путь в дальнейшем, если проблеме пролетарской культуры суждено развитие. Изживание старого, дореволюционного культурного наследия в России еще не кончено. На мой взгляд, без исключения все профессиональные музыканты до сих пор заняты изживанием модернизма и декадентства. Композиторы современной России до сих пор «дорабатывают» модернизм преимущественно в тех композиционных методах и в том направлении, которые были даны Скрябиным и Метнером в начале XX столетия. Вся «эволюция» за последнее десятилетие сказалась лишь в том, что произошло некоторое заражение уже почти отжившими модернистскими тенденциями западной музыки послевоенных годов. Даже Стравинский до сих пор хоть сколько-нибудь серьезного воздействия на русскую музыку не оказал. Любопытно, что этот мастер, сыгравший такую значительную роль в западном музыкальном творчестве в годы после войны, на русскую музыку в самой России почти никакого влияния не имел. Его там до сих пор совсем не поняли, несмотря на то что были переиграны все его сочинения. Некоторое влияние на молодых оказал Прокофьев, но влияние это было чисто внешнее и поверхностное. Главной причиной этой отсталости является оторванность музыкантов советской России от современной жизни на Западе — отсюда неведение и непонимание того процесса, по которому развивается искусство в Европе. Вследствие этой отсталости музыкальное искусство в СССР опять вернуло русскую музыку к провинциальному в отношении Запада состоянию, в котором она пребывала некогда, когда еще плелась в хвосте западной музыки. Выход из этого провинциализма, мне думается, совсем не в том, что русская музыка в СССР будет догонять Западную Европу и будет проходить с сильным опозданием по всем проделанным здесь этапам, а в том, что она найдет новые пути и для себя, и для Запада, если она их найдет. Мне кажется, что это единственный выход, конечно возможный, только если появятся большие и индивидуальные творческие силы. Но это опять-таки не просто, поскольку индивидуализм является официально нетерпимой в России стихией при методах «диалектического материализма», утверждаемых как в экономическом, так и в культурном плане в СССР. Пока что музыкальное творчество в России задыхается в удушливой атмосфере провинциального модернизма и декадентства, в которые выродился модернистский стиль начала столетия. Музыка эта опутана сетями схематики в соединении с ничем не обоснованным произволом, которые беспомощно стараются казаться новаторством и дерзновением. Холодом ужасающей скуки и замученностью веет от этой музыки. В ней нет ни живой силы, которая могла бы быть выражением творческого пафоса новой страны, стремящейся явить всему миру пример строительства новой культуры и воспитания нового человека. Нет в ней и трагического пафоса неприятия этой жизни… Ни утверждение, ни гибель. Вместо того и другого мертвая маска профессионализма, скрывающая опустошенность и бессилие, как формальное, так и духовное. Единственное, что заметно у некоторых из композиторов, это попытка чисто внешнего приспособления к новым условиям жизни. Так как эти попытки основаны не на пафосе веры (независимо от того, будь то приятие или же отрицание), они сводятся только к чисто внешним вещам, к наивному применению в музыке литературно-эстетических приемов в связи с общими тенденциями, т. е., в сущности, только к названиям. Нет никакой разницы между пьесой, называемой «Электрификация», или же какими-нибудь «Листками из альбома» того же автора…[*] Почему-то излюбленной формой советских композиторов стала совершенно отрешенная от жизни, схоластическая фортепианная «соната», не имеющая в том виде, как ее там преподносят, ни значения, ни смысла. Когда проглядываешь этот безудержный поток фортепианных сонат, несущих из России, видишь, какая глубокая пропасть создалась там между музыкой и жизнью.
Тему своей статьи я ограничил исключительно вопросами о русской школе. Поэтому выводы, которые я делаю, не относятся к тому или иному композитору в отдельности, а к школе как таковой в ее целом.
Вот имена композиторов, составляющих фронт современной музыки в самой России. В Москве: Мясковский, Александров, А. Крейн, Мосолов, Оборин, Половинкин, Протопопов, Рославец, Фейнберг и Шебалин. В Ленинграде: Шостакович, Щербачев, Попов, Рязанов, Дешевов и др. Особое место принадлежит Мясковскому. Так же как и Прокофьев, Мясковский был вполне выраженной художественной величиной уже в дореволюционный период России. В самое последнее время появилась в Москве небольшая группа, называющая себя «пролетарскими композиторами». Музыканты этого толка не имеют профессиональных корней, в чем не было бы беды, если бы они были даровиты. Но то, что они сейчас делают, не представляет собою пока никакой художественной ценности, с какой бы точки зрения их ни рассматривать. Лишенные профессионального опыта и знаний, лишенные каких-либо формальных установок, они вооружаются исключительно демагогическими политическими приемами, чисто агитационного порядка. Основной тенденцией этой группы является провозглашение прямого контакта между музыкальным творчеством и коммунизмом. В советской литературе (и театре) этот «контакт» давно уже осуществился и дал свои последствия. Со стороны музыкантов пока это только запоздавшая попытка примкнуть к общему коммунистическому фронту в искусстве. Несомненно, что и эта музыкальная тенденция получит дальнейшее развитие в СССР. Так как осуществляется она преимущественно непрофессиональными музыкантами, то будет, по-видимому, развиваться по линии наименьшего сопротивления и в таком случае поглотит собою все, что еще осталось в СССР в наследие от прошлой музыкальной культуры. Говорить по существу о «пролетарской» музыке пока преждевременно. Подождем, пока появятся для этого какие-либо конкретные данные. Таким образом, в СССР русская музыка как школа перестала существовать. В профессиональном композиторском кругу она пребывает в состоянии упадочничества и модернистического вырождения. В кругу непрофессиональном начинается движение в сторону «пролетаризации», которое исключает национальную установку по существу. Что получится из столкновения этих двух групп, сейчас гадать трудно. Вероятнее всего, что старая профессиональная основа будет совершенно поглощена «пролетаризацией» и в ней растворится. Как бы там ни было в будущем, в данный момент эти два фактора обусловливают распад национальной музыкальной школы в СССР, и вероятно, на продолжительный период времени.
Западная группа состоит из следующих композиторов: Стравинский, Прокофьев, [Лурье], Дукельский, Набоков и Маркевич. Также Лопатников, Черепнин (Александр), Обухов и Вышнеградский.
Если бы не Стравинский, судьба русской музыки на Западе была бы сейчас, вероятно, совершенно иной. Благодаря Стравинскому новая русская музыка на Западе вышла на международную арену. Она не утратила при этом своего национального характера, но отличительной особенностью нашей западной композиторской группы является то, что в ней ликвидированы те установки на «экзотику», которые считались прежде необходимой принадлежностью русского стиля, как кавиар[*], водка и балалайка. Без наличия этой «экзотики» за русской музыкой не признавали в Европе права на свое национальное лицо. Теперь это уже в прошлом. После Стравинского молодые на Западе уже как бы по традиции идут за ним по пути разрешения общих проблем, а не специфически национальных.
Основное ядро русских композиторов на Западе образует упомянутая парижская группа. Независимо от идеологических или формальных тенденций и качеств каждого в отдельности из композиторов парижской группы, в целом она является современным выражением национальной русской школы как таковой. Группа эта вдвинута в западную культуру и разобщена с Россией. Отсюда и положительное, и отрицательное в ее деятельности. Положительное в том, что нет в ней провинциализма, существующего у музыкантов в СССР, и достигнута формальная вооруженность в уровень с современной техникой на Западе. Отрицательное — в том, что разрыв с Россией создал у некоторых из молодых идеологию упадочничества, некий род реакционного эстетизма. Музыканты эти питают свое творчество памятью о старой русской культуре, уже свершившейся и к которой нет возврата. Особенно в этом смысле характерен для них музыкальный эстетизм, основанный на стилизации 30-х годов прошлого столетия. Это существенное обстоятельство, которое, нужно надеяться, будет преодолено, так как оно часто превращает попытки создания нового в эпигонство[*]. Основным признаком, по которому эту группу можно по праву считать продолжением русской школы и ее современной эволюцией, является, несомненно, общий для всех язык, т. е. русский музыкальный язык. В остальном, поскольку эта группа непосредственно связана с современной музыкальной жизнью Запада, она находится в том же состоянии, в каком пребывает вся современная музыка вообще, формальные и идеологические перспективы и тупики, перед которыми находится вообще современное музыкальное творчество, являются общими и для нее.
Поскольку Стравинский «перерос» границы русской школы — наиболее типичным ее выразителем следует считать Прокофьева, который на протяжении всей своей деятельности был верен природе русской музыки и чем дальше, тем больше свою связь с нею укреплял. Творческий оптимизм и неистощимая, острая жизненная сила Прокофьева — тот высший дар, который он получил по наследственной линии от русской музыки и что ставит его сейчас во главу национальных тенденций школы.
Заветом русской школы всегда была ее сплоченность и ответственность друг за друга, независимо от «семейных» споров, когда бы и каковы бы они ни были. Духовная круговая порука, а не личные цели была главной основой школы. До тех пор, пока будет жив этот принцип национальной связи не для себя, а для России, будет жива и школа.
Первый вариант ключевой для Лурье статьи увидел свет в 1931 г. на страницах «La revue musicale» во французском переводе Генриетты Гурко (LOURIÉ, 1931). Второй, значительно более расширенный вариант увидел свет в лондонском «The Musical Quarterly» в английском переводе S. W. Pring (LOURIÉ, 1932). По-русски этот вариант был напечатан в парижских сборниках «Числа» (ЛУРЬЕ, 1933). Мы восстанавливаем опущенное при первой русской публикации в списке композиторов-парижан имя самого Лурье.
О музыкальной форме (1933)
Весть о цветке, чье имя у меня
И днем, и ночью на устах,
Сладчайшее из всех земных созвучий.
Данте. Рай. XXIII-88
К концу XIX столетия и началу XX Берлин был всемирным музыкальным центром. Первенство немецкой музыкальной культуры, тогда еще не утратившей своего авторитета, было основано на германском классицизме. Духовная сила немецкой музыки была создана титанами: Бахом, Моцартом, Бетховеном. Брамс был уже только гениальным истолкователем духовного смысла и творческой ценности этих трех. Музыка Брамса — это оригинальный комментарий к синтезу германской музыки; может быть, исключительно в этом и заключается значение этого композитора. Что же касается поэзии музыки Брамса в ее собственном смысле, она остается на втором плане, несмотря на всю свою прелесть. Главная ее сила в том, что, благодаря наиболее совершенной и тонкой для своего времени концепции, Брамс сумел вывести достижения того, что можно назвать германским классицизмом, из плана национального в план универсальный или общечеловеческий. Брамс создал мост, соединивший германский классицизм с универсальным методом композиции, который являлся принадлежностью XIX столетия.
Метод Брамса ни в каком смысле не актуален дня наших дней, но композитора этого никак нельзя обойти именно в силу истолковательного значения его музыки, которая содержит методологический порядок. Методология эта есть сила живая и организующая. Эволюция метода есть также эволюция самого искусства. Природа искусства неизменяема и постоянна; меняется только метод, как в произведениях различных артистов, так и в различных эпохах искусства. Природа искусства одна и та же и у Анри Руссо, и у Зурбарана[*]; различны лишь их методы в связи с их временем. Умное и умелое нарушение старого канона может привести к рождению нового канона и нового метода, в то время как рабское подчинение установленным правилам разрушает самую возможность эволюции метода; таким путем образуется академизм эпигонов. Но, с другой стороны, неумное и неловкое нарушение установленных канонов ведет только к анархии.
В 30-х годах XX века можно было наблюдать парадоксальную попытку создания «абсолютного» метода, нечто вроде архимедова рычага. Каноны и методы мастеров различных эпох последовательно применялись, один за другим, к современности. Таким образом, было понятно, почему Брамс, отвергнутый импрессионистами, был принят «неоклассицизмом». Ведь неоклассицизм, в своем лучшем проявлении, пытался создавать новое при помощи если не прямого подражания, то путем истолкования той музыки прошлого, которая казалась неоклассицизму наиболее созвучной настоящему.
Брамс был последним целостным и эмоционально уравновешенным музыкантом XIX века. После него начался упадок классицизма, и в начале XX века вспыхнул модернизм[540]. Господствующее место в музыке было Германией утрачено; оно было занято столицей латинской Европы. Париж сделался наследником Берлина. Влияние Берлина было утрачено, но Париж не сумел сохранить свою позицию. Отвергнув немецкую диалектику, французские музыканты не сумели утвердить новую диалектику, латинскую. Под диалектикой здесь разумеется та органическая и живая логика (род звучащего логоса), на которой осуществляется музыкальное произведение. Живое единство произведения направляется во весь его рост. Музыкальная диалектика не имеет никакой надобности пользоваться экстрамузыкальным сюжетом. Но едва музыкальная диалектика отброшена, сейчас же экстрамузыкальный сюжет становится необходимым трамплином.
Импрессионизм, создавая свою инструментальную форму, пытался обойтись без диалектики. Между тем природа чистой инструментальной музыки была всегда диалектична, и весьма вероятно, что она и не может быть иной.
Среди русских музыкантов Глинка был единственным наследником диалектики классицизма. Уже у Чайковского процесс композиции часто превращается в риторику. Мусоргский, в силу своего решительного сопротивления германскому ложноклассицизму (который и породил этот тип музыкальной риторики), пришел к полному отрицанию диалектического метода композиции. Мусоргский пошел иным путем, взяв за основу композиции песенную стихию и, поскольку ему была дана эта интуиция, инструментальную стихию народной музыки. Эта интуитивная вера Мусоргского в органическую силу русской музыки и составляет пафос его музыкального творчества.
Дебюсси, удаляясь от германизма и вагнеровского музыкального мышления, встретился с Мусоргским на том пути, который был найден русским музыкантом в полном одиночестве. Точное понимание и осознание роли Мусоргского в развитии путей русской музыки помогло Дебюсси найти подлинное выражение смысла национальной французской музыки. Значение Дебюсси намного перерастает роль импрессионизма, и его музыкальная форма обнаруживает для нас тонкую диалектику латинской мысли.
Путь, пройденный развитием музыкальной мысли со времени расцвета классицизма до 30-х годов XX столетия, подтверждает эту точку зрения. Длинный этот период охватывает упадок классических принципов, романтизм, рождение модернизма, его развитие, анархию, последовавшую за снижением импрессионизма, и, наконец, возвращение классической традиции, происшедшее в течение двадцати пяти лет до начала Второй мировой войны[*]. В течение всего этого периода музыкальной истории всякая попытка отказа от инструментальной диалектики в музыкальной мысли приводила к утрате самого процесса композиции. Подобная попытка уводила музыкантов в область, не имевшую ничего или очень мало общего с музыкой. Необходимо было отыскать новые пути, превосходящие диалектику германского классицизма, чтобы создать диалектику нового порядка. Русская музыка стала на этот путь после войны 1914 года. Правда, она не ставила себе целью превзойти немецкую диалектику, но она создала диалектику в качестве композиционного метода после того, как метод был на долгое время утерян вагнерианством и модернистами. Эта утрата создала продолжительный конфликт между старыми немецкими музыкантами и новыми, но все музыкальное движение в Германии возобновилось с того момента, когда там вернулись к диалектике. В то время диалектический метод был уже прочно установлен в новой русской музыке, и возвращение немецкой музыки к диалектике осуществилось под влиянием русской музыкальной культуры. Немецкие музыканты признавали прямую связь между музыкальной диалектикой и конкретной логикой русской музыки с основами немецкого музыкального языка и его музыкальной материей. Об этом хорошо свидетельствовала музыка Хиндемита и новая немецкая школа. Итак, качание маятника между Берлином и Парижем могло бы продолжаться бесконечно, вне перемены политического режима в Германии, который не привнес ничего существенного в развитие культурного процесса, но варварски разрушил самые основы немецкой культуры.
Возможен ли был синтез латинской и германской музыкальной культуры? Нет, он никогда не был осуществлен и решительно невозможен. Более того, столкновение этих двух культур станет еще более выраженным, если немецкой культуре вообще суждено будет возродиться.
Брамс связывал себя с классической традицией, т. к. он больше всего боялся утраты единства и разрыва с мировоззрением, выражавшим классическую культуру. Но Брамс и не чуждался в то же время сферы, где был выражен индивидуализм, начавший расшатывать наследие классиков прошлого века и их целостное постижение мира. Из этого дуализма родилась музыкальная форма Брамса. Она ни классична, ни академична, ни «эпигонистична», но она — все это, вместе взятое. Рассматривая ее в целом, можно сказать, что форма эта условна. Лишь частичные элементы ее структуры основаны на традиции. Брамс пытался примирить классицизм с романтизмом, и ему это удалось лишь отчасти. В действительности он больше связан с классицизмом, чем с романтизмом. В последние годы своей жизни Брамс пытался уйти от острого конфликта, создавшегося между классицизмом и романтизмом, и он опирался на свою формальную технику. Это привело его к академизму. Брамс для нас исключительно интересен тем, что, живя на границе двух противоположных эпох, он носил в себе созревавшие конфликты, которые позже уточнились в модернизме в виде целого ряда противоречивых тенденций.
После Брамса проблемы гармонии (а затем и ритма) надолго стали самодовлеющими. В модернизме эти проблемы были наследием прошлого. Стиль романтиков пытался еще сохранить по возможности равновесие трех основных элементов музыки: мелодии, ритма и гармонии. Но уже у романтиков гармония начала подавлять другие два элемента. К концу XIX века и началу XX гармония стала центральной осью, вокруг которой развивалось все музыкальное творчество эпохи. Преимущество гармонии создалось за счет сперва ритма, а затем мелодии, и все это вместе привело в модернизме к уничтожению полифонии, ее атрофии, что особенно чувствительно у импрессионистов. Полифония, поскольку импрессионисты еще ее сохраняли, существовала лишь как функция гармонии. Проявлялась тенденция к превращению полифонии в гармонические вертикали, т. е. тенденция к замене свободного движения голосов аккордовой вязью. Распад живой полифонии и исключительное утончение гармонии почти совершенно парализовали ритм. Возник культ переутонченной гармонии. Ритм потерял свое основное значение конструктивного принципа; роль его свелась к созерцанию звучностей. Исключительное утончение гармонии и утрата субстанции ритма привели музыку к тупику, очевидному для всех. Тогда начался обратный процесс: композиторы занялись ограничением гармонии и возвращением ритма к жизни. Конечно, это выразилось в новом эксцессе: «полифония во что бы то ни стало». В итоге тенденция эта восторжествовала. В течение нескольких лет можно было наблюдать возрождение полифонии на новых принципах, и ритм был восстановлен в своих правах. Долго сдерживаемая полифония приобрела характер разнузданной и беспорядочной стихии. Но она отличалась тем, что была решительно основана на синтезе всех новых гармонических достижений. Опыт гармонических исканий предшествовавших лет вошел полностью в новую зарождавшуюся форму. Каждый из трех элементов музыкальной формы (ритм, гармония, мелодия) приобрел новый смысл, отличный от того, каким он был у классиков и у романтиков. Форма, возникшая таким образом и основанная на свободной гармонической интонации, нанесла удар прежде всего тональному строю и тонико-доминантовым отношениям, на которых покоилось равновесие традиционной формы, как классической, так и романтической. Новый метод разрывает с этой традицией и ведет к крайнему неравновесию (Шёнберг и его школа). Метод этот противопоставляет себя методу классическому, ведущему форму к полноте равновесия и покоя. Этот новый метод, основавший конструкцию музыкальной формы на неравновесии, привел к утрате устоев музыкального языка, до тех пор незыблемых; к утрате порядка морального и порядка тонального. Это и есть господство условности, где, по капризу того или иного композитора, создаются бесконечные индивидуальные и совершенно искусственные наречия. Гармония, став единственной целью в импрессионизме, привела музыку к тупику. Со своей стороны атональная полифония привела к смешению языков; вместо единого музыкального языка образовалось множество наречий.
Таким образом, ритм снова потерял свою классическую роль организующего принципа музыкальной речи. Лишенный этой роли, ритм стал автономным принципом композиции. За счет чистоты музыкального языка создалось накопление (до тех пор неведомое) ритмических и метрических обогащений. Новая метрическая структура была основана на ритмической свободе. Это привело к тому, что тактовая черта перестала находиться в зависимости от слабого и сильного времени. Метр совершенно отъединился от ритма. И передвижение тактовой черты привело к максимальной разработке и ритма, и метрики.
Мы проследили две последовательные эволюции формы. Первая была основана на гармонической интонации; вторая — на ритмическом акценте. На второй линии всегда продолжается изживание прошлого и смешение целого ряда тенденций. Этот род музыкального производства не может ничего изменить или прибавить к новой форме, получившей свое крайнее выражение.
В 30-х годах нашего столетия музыканты, достигнув предела в разработке политональных и полиметрических форм, вошли в первый период «разоружения».
Метод «неоклассицизма» был методом полемическим. Неоклассицизм был актуален лишь постольку, поскольку он вел борьбу против модернизма, завершившего свой круг. Когда терпкость и острота этой полемики начали смягчаться, большинство сочинений, вдохновленных неоклассицизмом, начали терять свое значение. Их абсолютная музыкальная ценность, за редким исключением, была малозначительна. Когда чувство удивления, вызванное контрастом с модернизмом, рассеялось, то оказалось, что мы находились перед бессознательным подражанием прошлому. В сущности, неоклассическое движение выродилось в ложный классицизм. Полемическая форма породила академизм и паразитизм прошлого без всякого разбора. Плодотворным следствием этой борьбы явились поиски нового равновесия формы. Здесь начался процесс, обратный модернизму. После крайнего неравновесия, созданного модернизмом, пытались вернуть форме равновесие и классическое умиротворение. Такова была тенденция 20-х и 30-х годов. Но беззастенчивое подражание прошлому, бывшее следствием неоклассического движения, достигло чудовищных размеров. Вскоре зерно, посеянное в этом периоде, умерло и должно было породить новую форму. То, что называется здесь «полемическим методом», напрасно носило название «неоклассицизма»; новая классика была в то время неизвестным будущим, и полемический метод того времени был только предтечей будущего, которому приготовлялись пути.
В продолжение всей рассматриваемой нами эпохи, среди всего различия и противоположности усилий, тенденций и целей центром всего музыкального искусства была не какая-либо идеология, но лишь проблема формы. К этой проблеме все более было направлено усилие музыкального творчества до тех пор, пока музыканты не пришли к формализму узкопрофессионального ремесла. Говоря о проблеме формы, мы возвращаемся к терминологии, существовавшей в начале столетия. Тогда «форма» противопоставлялась «содержанию», и эстетика начала XX века была очень озабочена их взаимоотношением и преимуществом одного или другого. Следствием этих давно забытых разногласий явился бесспорный вывод, что форма неотделима от своего содержания. Синтез формы и содержания стал неоспорим. Но в процессе развития произошло следующее: в поисках новой формы то, что называлось «содержанием», отодвигалось все дальше и наконец было совсем отброшено. Как можно было объяснить сознательный или бессознательный отказ артистов от того, чтобы выражать их отношение к миру и жизни? Кажется, главная причина была не чем иным, как утратой духа музыки и крушением гуманистической культуры[*]. Искусство стало выражением того процесса механизации жизни, который охватил весь мир. Последним выражением гуманизма был крайний индивидуализм конца XIX столетия. Он был использован и побежден. То, что за ним последовало, было силой антигуманистической, и культ материализма вызвал к жизни тот безличный стиль, который стали называть «объективным».
В конечном итоге искусство рабски отразило пафос антидуховности, которым была насыщена эпоха. Искусство снизошло исключительно до производства вещей, «хорошо» или «дурно» сделанных. Принцип «хорошо сделанной вещи» был в искусстве самодовлеющим[*]. Не пора ли признать, что это производство художественных вещей, лишенных всякого духовного смысла, никому не было нужно? Необходимость предметов такого сорта есть концепция условная и спорная. Произведение искусства должно быть или должно стать абсолютной необходимостью, даже если в момент его появления такая необходимость признается лишь немногими, или даже никем не признается. Но необходимость произведения искусства зависит всецело от своей духовной насыщенности. Замыкаясь в границах узкой специфичности и профессионализма, музыка выключилась из духовного плана жизни и свелась к сухой и жесткой ограниченности. Это началось с реакции против той эпохи, когда музыка пренебрегала формой и была в то же время риторична и сомнительна по своему духовному содержанию. Подобная реакция была закономерна; и, по своей устремленности, модернизм казался ищущим единства формы и содержания в новом аспекте. Но дальнейшее развитие модернизма привело к его признанию абсолютного преимущества формального принципа. Весь комплекс духовных ценностей рассматривался как препятствие, которое удаляет мысль и художественные искания от ценности единственно важной, т. е. от искания новой формы. Именно здесь обозначался разлад между артистом и реальностью. Воздействуя абсолютным путем на форму и на материал, разъединяясь с идеей и живым чувством, создавали не живое искусство, но абстрактные ценности. Мир идей и переживаний, органически действовавший на подсознательное творческое ощущение, рассматривался как враждебная сила, которую следовало обезоружить для того, чтобы она не вводила художника в чуждые области и не отвлекала его от главной цели отыскания формы как таковой.
Итак, все, что не было прямым воплощением абстрактной формы, было объявлено «экстрамузыкальным». Так возникла эстетика конструктивизма. Создавая безличную форму, разъединенную с миром идей и чувств, эта эстетика дала нам музыку «объективную». Обманывая самих себя, эту музыку объявили «чистой» музыкой. Неужели придется в бесконечный раз возвратиться к этой концепции «чистой» и «нечистой» музыки? Современная музыка ничего не выяснила в этом смысле. Очевидно, что концепция чистой музыки не совпадает с музыкой «объективной». Объективная музыка есть не что иное, как сухая и механизированная фактура. Это еще не есть произведение искусства, а лишь эксперимент, проба.
Процесс борьбы за чистую форму и чистую материю как борьба за упразднение или подчинение всей духовной области привел музыку к пирровой победе. Для музыкантов перестала существовать вся область экстрамузыкального. Процесс «очищения» формы дошел до последней границы, и музыка оказалась в худшем из тупиков. Убийственный отказ художественного творчества от всякого «содержания» имеет своим возмездием тот факт, что форма стала врагом самой музыкальной материи. Дуализм формы и содержания привел к конфликту между музыкальной материей и ее обработкой. Проблема формы привела к столкновению между фактом и процессуальностью. Обработка этой материи, т. е. процессуальность, утвердилась как самоцель[*]. В этой борьбе за свое существование музыкальная обработка стала изгонять самую звуковую материю в такой степени, что в смысле чисто музыкальном в музыке вообще больше ничего не происходило; модуляция казалась событием; весь музыкальный факт сводился к игре интервалов. Если в виде абсурда предположить, что из музыки можно изгнать даже интервал, то не станет никакого различия между такого рода музыкой и любым организованным и неорганизованным шумом. Таким образом, единственно важное в музыкальном сочинении есть только интервал, и вся формальная сила произведения покоится исключительно на той роли, которую играет интервал в данной звуковой ткани. С другой стороны, путь музыки, стремившейся к делению уже самого интервала в порядке высшего хроматизма, пытался разрушить даже незыблемую устойчивость интервала. Но проблема высшего хроматизма вне тематики этой статьи.
Поиски формы ради самой формы были не чем иным, как новым академизмом; подлинную музыкальную продукцию, живую, свежую и непосредственную, следовало отыскивать в «катакомбах». Почти все, что появлялось в свете дня, билось в сетях схоластики и схематизма.
Новая форма возможна лишь с восстановлением утраченного равновесия между формой и содержанием. Путь к ней лежит в отказе от фетишизма формы. На этом пути необходимы духовные силы. Когда они появятся, тогда возникнет дух музыки и материя найдет то место, которое ей всегда принадлежало в мире, т. е. в подчиненности духу. С другой стороны, новая форма может возникнуть только тогда, когда она становится органической необходимостью, и это не происходит искусственным путем. Эволюция метода состоит в органической связи с живой эволюцией формы. Форма всегда создается заново, а не по рецептам и без повторения прошлого; она связана с очень личным и неподражаемым видением мира и вещей, которое и отличает подлинного артиста от ремесленника. Для тех, кто так думает, мир есть нечто навсегда застывшее и окаменелое; творчество мира продолжается и возобновляется в каждом моменте нашего существования.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1966.[545]
О гармонии в современной музыке (1937)
Если мелос в музыке есть то же самое, что логос в речи, то музыкальная гармония не имеет аналогов в других искусствах. Сегодня музыкальная гармония представляет собой область необыкновенно изменчивую и неопределенную, сложную и спорную. Однако именно этот музыкальный элемент музыканты прошлого считали установленным, неизменным «навеки». Бетховен считал теорию «генерал-баса» «катехизисом», не подлежащим критике.
Но сам Бетховен требовал от гармонии выразительности нового порядка. Не то чтобы до него гармония была лишена выразительности, но он перенес музыкальный центр тяжести с четко выверенных отношений между элементами звуковой ткани в область высочайшей психологической выразительности. Бетховен подчинял гармонию строгим правилам иерархии. Именно в его творчестве закрепляется железная клетка метра с прутьями тактов и монотонной последовательностью сильных и слабых долей. И, однако, Бетховен требовал от музыки максимума экспрессивности, почти выходя за рамки возможностей музыкальной ткани. Он также ввел в музыку новую мотивацию, скорее психологического, чем музыкального порядка. Мы прекрасно знаем, что вокруг этой музыки выросла целая «литература» и заслонила ее, и именно к ней апеллируют новейшие модернисты, считая необходимым «реабилитировать» Бетховена для нужд своего дела. Эта попытка не решает проблему, которую ставит его музыка, особенно последние квартеты и «Девятая симфония».
На наш взгляд, именно с Бетховеном связана музыкальная экспрессионистическая школа, а не, как часто утверждается, с Вагнером. Если проследить эволюцию современной гармонии в ее связях с ультрахроматизмом, связь с Вагнером неоспорима, но экспрессионизм остается наследием Бетховена. Убедительным примером тому служит его «Квартет-фуга»[*]. Квинтэссенция выразительности, каковой является эта фуга, становится прототипом лучших экспрессионистских произведений нашего времени.
Любители «чистой» музыки не смогут отмахнуться от проблемы, которую ставит «Квартет». Как воспринял бы Бетховен утверждение, что это фуга «экстра-музыкального» порядка? Титаническая структура этого произведения соразмерна его огромной психологической насыщенности; а безупречность его звуковой композиции удивительным образом уравновешивается его сверх-эмоциональной полнотой. Единство двух этих компонентов нерушимо, ибо органично, соприродно самому произведению.
Однако имитационное письмо привело этот композиционный жанр к стилистическим выводам. Из этой систематизации родилась школа экспрессионизма. Заметим, что экспрессионизм сегодня — это всего лишь манифест системы как таковой, а не следствие эмоциональной полноты. Экспрессионизм как школа связан с атональной гармонией и является физической, а не психологической функцией этой гармонии.
Для становления музыкальной формы экспрессионизму нужен мощный, дифференцированный аппарат динамических средств, регламентирующий каждый период и чуть ли не каждый звук в изложении, как у Шёнберга, а сама питающая ее атональная гармония остается неподвижной. И поскольку атональная гармония в этой школе превалирует над ритмом и мелодией, неудивительно, что Шёнберг, изобретатель атональной гармонии, и его ученик Албан Берг вынуждены были для развития музыкальных форм прибегать к свободной интерпретации традиционных тональных форм[*].
Связанный с атональной гармонией экспрессионизм создал наиболее конструктивистский тип современной музыки посредством не органической, а механической фактуры. Последние произведения Албана Берга стали здесь исключением. Он действительно попытался внести в сами рамки атональной системы личную свободу, и в этом случае атональный экспрессионизм подвергается давлению эмоциональной мощи художника.
Если конструктивизм является неотъемлемой частью экспрессионистской школы — атоналисты, что бы они там ни говорили о Вагнере, разрывают связь с ним, сознательно или нет, они возвращают нас к Бетховену.
Именно вокруг Бетховена могли бы сегодня объединиться те, кто считает свои принципы взаимоисключающими. Таким образом, при необходимости связать конструктивистские достижения нашего времени со стремлением к новому гуманизму, а также разочаровании от тупика, в который завел нас музыкальный «пуризм» последних лет, Бетховен мог бы стать новой точкой отсчета. Эта тенденция проявляется в музыкальной культуре повсюду в Европе, СССР, США.
Что касается Вагнера, по-видимому, современным теориям нечего у него взять. Этот гениальный рапсод-импровизатор XIX века остается привязанным к узкой области немецкого романтизма.
Экспрессионизм — единственное современное музыкальное течение, которое остается школой, способной на творчество. Возникший в 1920 году «неоклассицизм» истощился, хотя некоторые композиторы продолжают опираться на его фундаментальные принципы. Первое место здесь принадлежит Стравинскому. Импрессионистическая гармония не играет сколько-нибудь существенной роли; хотя школьная теория гармонии усвоила некоторые оригинальные положения импрессионизма.
Впрочем, в области гармонии молодые композиторы чувствуют себя потерянными и предоставленными самим себе.
Сегодня нет непререкаемого авторитета, которому молодежь могла бы следовать в страстном порыве, какой когда-то пробуждал Дебюсси. Действительно принципы и развитие гармонии происходят не из абстрактных теорий, а из впечатления, производимого магистральными произведениями великих композиторов. И ставшие сегодня хрестоматийными принципы в свое время породили этот живой источник.
Гармония, становясь автономной, действует как наркотик: требуются все более сильные дозы. Когда гармония выходит на первый план, ее восприятие притупляется, чего не происходит с мелодией.
«Новый» аккорд стал для музыкантов фетишем, в композиции в настоящее время преобладает непрерывное изобретение «новых» аккордов. Но под покровом новых аккордов, за кажущейся сложностью гармонических отношений, часто кроются традиционные формулы и банальнейшая музыка. Причиной тому беспорядочная композиция.
Прежняя гармония: консонанс, диссонанс. Новая гармония: диссонанс, консонанс, тембр.
Новая гармония основана на тембрах, так сказать, на соотношениях объема звука, в то время как прежняя гармония определялась ролью основного тона и аккорда, который их соединяет.
Настоящая эволюция гармонии, ее истинное обогащение происходит, кроме того, от самого обогащения контрапункта и развития полифонии. Гармония, как особый элемент музыки, не имеет права ни на внимание, ни на особую ситуацию. Мы возвращаемся к классическому принципу в гармонии: иерархия в гармонии — необходимость. Гармония ни в коей мере не представляет собой автономной реальности. В ней только одна скрытая возможность, одно из пересечений в игре всех элементов музыкальной формы — самое удачное пересечение, и оно напрямую зависит от мелодического развития композиции.
Источник текста LOURIÉ, 1966: 26–30.
в) Концептуально связанные с евразийским периодом работы позднейшего времени (1940–1950-е)
На тему о Мусоргском (1943)
Мусоргский — автор ряда произведений, имевших сложную и трудную судьбу, но в конце концов получивших общее признание.
Это бесспорно, ведь имя Мусоргского теперь известно всякому хоть сколько-нибудь культурному человеку, и не только русскому.
Что же скрыто за такой общепризнанностью? Прежде всего очень темная и весьма запутанная история о «подлинном» и «неподлинном» авторе этих произведений. История о стихийном темпераменте и диком, необузданном творчестве малограмотного музыканта, который прорвался за границы всякой меры и всякой художественной нормы, но был приведен в надлежащий порядок «дружескими руками».
И еще, параллельно этому, легенда об очень страшной, мучительной и загубленной жизни.
Вот в нескольких словах тема о Мусоргском в том виде, как она всем известна. Ее смысл и содержание зависят всецело от того, как к ней подойти: объективных данных здесь мало.
Но помимо этой есть ведь и другая тема, создавшаяся уже в перспективе времени и сделавшая Мусоргского фигурой, значительно перерастающей его профессиональную музыкальную деятельность, которой у него, в сущности, никогда и не было.
В перспективе истории автор «Хованщины» и «Бориса» связан с нашим представлением о Русском Мифе. Он единственный из музыкантов, поставленный историей в живую связь с теми, кто участвовали в XIX столетии в его создании. Миф этот о самой России, и приближение к нему немедленно наталкивает на все роковые вопросы: о русском народе и его судьбах, о противоположении Востока и Запада, Европы и Азии, христианства и язычества, православия, католичества, социализма, эстетики и морали и пр., и пр. Словом, вся издавна нам известная проблематика Вл. Соловьева, Константина Леонтьева, Достоевского, Гоголя, Хомякова, Аксакова, Тютчева, Розанова и даже Шестова. Мусоргский по праву принадлежит к этой семье, и кровная связь с нею становится главным онтологическим смыслом его темы. Логикой Мусоргского не взять. Он онтологичен, как и сама Россия. Его жуткое юродство — единственная форма самозащиты от людей и от жизни. Разве не такое же юродство было позднее у Розанова или под конец жизни у Андрея Белого?
Мало кто в России, из тех, кого терзали бесы, был свободен от этого… Трудно сказать, чем стала тема о Мусоргском в Современной России. Вернее всего, что на родине он утвердился на положении только «классика», хотя «подлинный и неподлинный авторы» и там все еще в столкновении.
До сих пор народная мистика и острый национализм Мусоргского были прикрыты. К нему было опасно дотрагиваться, как и к Достоевскому. Теперь война многое опрокинула и многое изменила. Ведь в связи с ролью, которую играет Россия в мировом кризисе, и бредовые мечты русских духовидцев как будто начинают оправдываться. Многое становится заметным и тем, кто до сих пор упорно не придавал никакого значения русскому духовному опыту, восхищаясь лишь русской «литературой» и русск[ой] музыкой. Между тем пресловутый «секрет» России, о котором сейчас столько говорят, заключается просто-напросто в том, что между физическим и духовным выражением ее силы нет никакого разлада. Разъединения материи и духа, ставшего главной причиной современного разложения, как выяснилось, не существовало только там, на «варварской земле»…
Но вернемся к Мусоргскому. Оказалось, что один лишь «Борис» противостоит до сих пор Вагнеру и его наследству. Это «противостояние» стало за прошедший период времени своего рода антитезисом к самой истории музыки, как бы оппозицией — всему, чем завершился немецкий post-романтизм и чем был немецкий модернизм начала XX века. Лучшие из музыкантов в свое время это поняли. В отношении же самой русской музыки Мусоргский стал символом предельно выраженной национальной проблемы, понимаемой не в смысле продолжения какой-либо из ее традиций, а в возможности для нее непрерывного становления, углубления и роста. Иначе говоря, музыкальная история шла своим путем, и в конечном счете все звенья музыкальных ценностей оказались тесно связанными, но Мусоргский таким промежуточным звеном не стал. Он до сих пор в музыке сам по себе, и, кроме как с Россией, у него никакой органической связи не существует. Ему нельзя было подражать. И если Глинка вел русскую музыку по пути сближения с европейской культурой, то Мусоргский производил как будто бы обратное действие. Он выключал русскую музыку из общего процесса развития, мыслил ее как некую стихию, органически самостоятельную, и всей данной ему творческой силой возвращал ее к народным первоосновам и первоисточникам. Короткий путь от Глинки к Мусоргскому — в сущности, весь путь, пройденный русской национальной школой. Первый оглядывался на Европу, второму до нее дела уже не было. Национализм Мусоргского был непреклонным и абсолютным проявлением его духа и его темперамента. То, что позднее импрессионисты подняли Мусоргского на свои щиты, дела не меняет, так как они приняли его для своих личных целей. Впервые тема о Мусоргском получает свое значение в деле возрождения французской музыки. Для нее Мусоргский послужил и примером и трамплином. Дебюсси не подражал Мусоргскому. В молодые годы он был под очарованием корсаковской экзотики и русского Востока, но, оглядываясь на Мусоргского, он вернулся к французским источникам. Он вспомнил клавесинистов и песни труверов и трубадуров. Через голову Мусоргского импрессионисты сводили уже счеты с Вагнером, освобождая Париж от сковывавшей его немецкой музыкальной рутины.
С тех пор имя Мусоргского остается символом возможности национального самоопределения и становления в условиях какой бы то ни было культуры. Так оно в действительности и было, и за последние десятилетия процесс подчеркнуто национальных тенденций имел место чуть ли не в каждой из стран Европы, а теперь намечается и в Америке.
Мусоргский ничего общего не имеет с тем, что принято называть модернизмом. Он вырос на эстетике «передвижников» и на идеологии народников-идеалистов. Но он оказался на самой грани модернизма, от которого его отделяет едва десятилетие, и модернисты сейчас же его подхватили. Им, как и всякому новому, сильному течению, нужно было оттолкнуться от неблагополучия, от неустойчивого равновесия. Мусоргский был в то время единственной подходящей для них фигурой в музыкальном мире. И жизнь и общество сделали его «таким», но отнюдь не его музыка, с которой он был всегда в ладу, а не в борьбе. Биографические черты не имеют большого значения в суждении о его музыке, которая остается целостной и независимой от всего остального, связанного с легендой о нем. Столкновение между ним и Р[имским]-Корсаковым происходит в сфере самой музыки, в ее процессуальности, а не относится к чертам его характера, образу жизни и пр.
Несмотря на свой столь выраженный национализм и на отъединение от всего нерусского, музыка Мусоргского стала общечеловечной и доступной всем, как музыка Моцарта или Бетховена. Этого нельзя сказать о Римском-Корсакове, восстававшем против варварства и «азиатчины» Мусоргского и считавшего себя европейцем. Р[имский]-Корсаков принят в общую музыкальную культуру как экзотический мастер, создававший нечто специфическое, слегка пряное, цветистое и узорчатое, а затем, когда это приелось, сошедший для музыкантов на роль профессора логики, рационалистической гармонии и практики оркестровой техники. Порою можно думать, что его произведения были написаны в подтверждение его теорий. Конечно, это неверно. Р[имский]-Корсаков был все же в большей мере художником, чем профессором, и только под конец жизни он настолько раздвоился, что одно было для него невозможно без другого. Рационалистическая сущность его мышления, наряду с теоретизмом и доктринерством, оказала в конце концов решающее влияние на всю природу его творчества. Конфликт между ним и Мусоргским был драмой его художественной совести и мучил его всю жизнь. Принять Мусоргского таким, каким он был, и оправдать его гений было абсолютно немыслимо для Р[имского]-Корсакова. Это было бы равносильно крушению всех его идей, развалу здания, построенного им на основе опыта всей его музыкальной жизни. Спор между ними продолжался и за гробом, и только сама жизнь ответила на него тем, что Мусоргский был принят в ряд величайших творцов музыки, вне его национальной специфичности, а Р[имский]-Корсаков остался мастером очень ценным, но второстепенного значения. Конечно, когда впервые прозвучало «Испанское каприччио», современники были ошеломлены блеском оркестра и великолепием красок, но ни этот блеск, ни позднее еще большее великолепие красок в «Золотом петушке» не опровергли перед жизнью и перед историей Мусоргского и не заглушили аскетическую суровость и почти монашескую бедность его колорита и звучащий правдой голос его… Тема о Мусоргском — это, сквозь призму его музыки, тема о русском народе. Она не была для него приемом стилистической игры или же снобистическим преодолением пресыщенности, не была она и демагогической диалектикой согласования несогласуемых противоречий. Она являлась только страстным исканием жизненной правды.
Никто, быть может, не стремился так к абсолютной свободе музыкального выражения, как он. Непрерывное творческое становление было у Мусоргского прямым следствием разрушенной им традиционной основы профессионального опыта и отсутствия устойчивой базы в композиционном методе. Он постоянно проверял создаваемое им, так как объективно-формальные принципы для него не существовали. Личное ощущение правды было главным критерием. Живая и органическая техника, та, которая находит средства для своего выражения всегда заново, в каждом отдельном случае, для каждого произведения, была для него необходимостью.
Такая техника не вызывает больше никаких сомнений для живописи или же поэзии, но среди музыкантов это до сих пор нечто неприемлемое. У них существует какое-то рутинное представление — предпосылка о непреложной и «прочно» установленной формальной и композиционной основе в музыкальном творчестве.
Искусство, замкнутое в себе, было Мусоргскому чуждо, а формалистическая сторона искусства, становящаяся целью, была ему ненавистна. Сравнение с Достоевским напрашивается само собой. Обоим была ненавистна «игра в искусство», и сферой обоих были живой человек и душа народная. Подобно Достоевскому, взрывавшему застывший и мертвящий мир рационалистической психики, Мусоргский взрывал рационалистическую основу музыкального мышления. Он разваливал своими сочинениями здание механизированного музыкального опыта, построенное на выработанных схемах, формулах и заранее установленных технических приемах. На этой почве и расцвела махровым цветом легенда о музыкальной невежественности и безграмотности Мусоргского. Римский-Корсаков был главным автором этой легенды. Он обладал в то время достаточным авторитетом, чтобы ему поверили. Поверили ему и в необходимости редактирования и «исправления» рукописей Мусоргского.
Творческая реабилитация Мусоргского началась только в связи с развитием французского импрессионизма. Дебюсси и Равель стали в это время едва ли не главными пропагандистами Мусоргского, и их влияние на молодежь в Европе и на передовые круги самой России изменило отношение к Мусоргскому, созданное Р[имским]-Корсаковым и его окружением. Но практически для восстановления подлинного творчества Мусоргского тогда ничего еще не было сделано.
И так возникло странное к нему отношение. Несмотря на всемирную славу, до сих пор подлинное лицо его остается закрытым для публики, и только специалисты знают, в чем дело. Остальным музыка Мусоргского, в главных его творениях, преподносится в «цензурированном» виде, лишенная своего настоящего запаха, вкуса, цвета и формы. Когда-нибудь и это кончится, и подлинное творчество Мусоргского, перестав быть достоянием музыкальной филологии, войдет в практику музыкальной жизни. Вопрос этот сложный, и потребуется немало еще усилий для его разрешения.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1943а.[548]
О Шостаковиче (вокруг 7-й симфонии) (опубл. 1943)
1. Своей необычной «биографией» симфония эта немедленно же стала центром внимания. Она попала в Америку в дни огромного нервного напряжения, созданного героическим русским сопротивлением и страшным одиночеством России в этом сопротивлении. Первое исполнение ее в Нью-Йорке было как бы музыкальным разрядом этого напряжения в общественном сознании, факт знаменательный, т. к. за эти страшные годы не было в искусстве еще ни единого события большого значения, связанного с войной. Но такая «символическая» окраска симфонии была скорее во вред Шостаковичу. Критика вне России сбивалась на суждения, к данному сочинению прямого отношения не имеющие. Воздух, создавшийся вокруг этой вещи в концертном зале, явно раздражал тех, кто хотел судить об этой музыке только «профессионально», и взвинчивал других, наэлектризованных политикой. Прошло полгода, и теперь хотелось бы говорить о ней в более объективных тонах. Сочинение это само по себе ясное, простое и определенное. Но, несмотря на события последних лет, о произведениях продолжают судить с отвлеченной точки зрения, а жизнь идет сама по себе. Симфония Шостаковича из «иного мира». Главное затруднение для правильной оценки создалось в порядке идеологического подхода к ней, который здесь не могут до сих пор ни понять, ни принять, и ко всей музыке Шостаковича с момента его переключения на официальную советскую идеологию. Спорной считается и музыка, и ее идеологический принцип. А в то же время Шостакович стал сейчас самым популярным автором в Америке после Чайковского. Концертные программы пестрят его именем. Какой странный парадокс.
2. Наиболее культурный и серьезный из американских критиков после первого же представления 7-й симфонии отнесся к ней враждебно. Смысл его утверждений был в том, что «никакой патриотизм» этой симфонии не заставит признать ее значительность, что она будет сброшена с весов истории и т. д. Но частое повторение того же мнения, под разными вариантами, звучало тревожной неуверенностью. Доводы его сводятся к тому, что эта музыка хороша «для советской массы, но не для „знатоков“». Со своей точки зрения критик был, быть может, прав, и нужно было мужество, чтобы пойти против течения. Но оценка была заблуждением, именно в силу ее идеологической ошибки. То, к чему он апеллирует, называлось когда-то «искусством для искусства». Но критерий этот уже давно устарел. На основе его давно уже ничего ценного не создается. Мы присутствуем теперь при окончательной ликвидации эстетики, которую можно было бы называть «искусством без искусства». Что придет на смену? Неизвестно. Мы сейчас на переломе. В России идет процесс новой идеологической установки. Мы привыкли думать, что искусство с идеологическим содержанием есть низший род искусства, но когда первичные этапы будут пройдены, возможно, что и самая идеология окажется переработанной и углубленной. В данный момент она находится в первоначальной стадии, и 7-я симфония Шостаковича есть только один из отрезков музыкального процесса, еще находящегося в развитии.
3. Программная связь симфонии Шостаковича с событиями войны — прямолинейная. Для музыки сюжеты экстрамузыкального порядка никогда не имели серьезного значения. Важно лишь чисто музыкальное решение сюжета внутренним, творческим путем. Не внешнюю сюжетность я имею в виду, когда говорю об идеологической основе музыки, а некую иную связь, более органическую и глубинную, определяющую самую природу языка и звуковую материю в ее кристаллизации. Разрешен ли сюжет 7-й симфонии Шостаковича не в виде только батальной композиции, а в порядке чисто музыкальном? С моей точки зрения — несомненно, и в этом ее ценность. Иначе не о чем было бы и говорить. Связь с войной в симфонии существует, и сочинение тем самым принадлежит к разряду программных. Тип этого рода сочинений давно вышел из моды, и Шостакович нас к нему возвращает. При поверхностном слушанье — это «батальное полотно» с лирическими отступлениями. Можно предположить, что его симфония была начата до нашествия немцев на Россию, а затем она с событиями войны срослась внутренне[*]. Вероятно, и форма ее определилась событиями войны. Но за этим первым планом есть другой, более значительный. После кризиса, через который он прошел, о котором много в свое время говорилось, после обвинений в «левацких загибах», «формализме», связи с европейской «упадочной идеологией» и пр. он был выбит из обычной колеи типичного для того времени модерниста. У него мог бы создаться протест против насилия и давления официальной доктрины, и тогда ему оставалось бы замкнуться в себе и замолчать. Но он не пошел по этому пути, а подчинился, что гораздо любопытнее. С этого момента начинался для него новый эксперимент. Официальная эстетика была принята им как догма, не подлежащая обсуждению. На этой догматике с тех пор идет развитие его музыкального мышления, и ей же подчинена категория его личных чувствований. Индивидуальное, свободное сознание и капризную волю артиста он хочет заменить сознанием коллективным. Но Шостакович не мог ограничиться слепым подчинением. Перед ним как музыкантом встали задачи, возникающие в связи с этим коллективным опытом, и он разрешал их самостоятельно. Первая из них — предельное упрощение техники с тем, чтобы сделать музыкальный язык общедоступным и выразительным. Вторая — добывание нового звукового материала, близкого массам слушателей, найденного в самой толще этой массы и являющегося ее собственным достоянием.
4. Вопросы об изменении принципов музыкального творчества и формы в связи с изменением идеологии народов и общих процессов культуры сложны. Упрощенные решения их ни к чему не приводят, кроме как к изменению названий сочинений. Нужны поколения, чтобы изменить хотя бы только интонационное начало музыкальной речи. В мадригалах итальянского и испанского ренессанса все же звучат церковные гимны. В революционных гимнах звучат порой протестантские хоры, если композиторы, сочинявшие их на революционные слова, не умели отделаться от 4-голосного протестантского хорала. Органически новое приходит на смену прошлому с большим трудом и через большие периоды времени. В России этот процесс изменения становится едва заметен только теперь. До сих пор задача русских музыкантов сводилась к тому, что они музыкальное наследство прошлого стремились перевоплотить, сделав его достоянием новой публики. Но вместо органической переработки обычно получалась упрощенная популяризация. Таковы были и 5-я и 6-я симфонии Шостаковича. Насыщенность дарованием чувствуется и в них, но сквозь насилие автора над самим собою. В 5-й есть моменты очень красивой музыки. Есть они и в 6-й, но это только отдельные вспышки, перемежающиеся с длинными периодами риторики.
Поскольку звуковая интонация есть первооснова музыкального языка, Шостаковичу пришлось заняться добыванием новых интонаций для выражений своих музыкальных идей. В 7-й симфонии есть уже не только поиски, но и достижения в области таких интонаций, и они уже гораздо меньше сбиваются на эклектику общеевропейского типа звучностей. Мелос Шостаковича все больше советизируется. В тех моментах, где он оригинален, его интонационная система основана на элементарной простецкой мелодике. Его мелос не народно-русский, крестьянский, а советско-городской, рабочий и пролетарский. Его русские корни в частушках, а не запеваниях-распевах Древней Руси.
Шостакович очень элементарен. Он ставит перед собой цели, предельно упрощая пути к ним. Если его музыка непонятна массам, значит, она плоха. Прежде композитор считал, что, если публика его не понимает, значит, плоха публика. Художник обязан быть доступным и понятным. Он на службе у народа и подчинен ему. В России существует живая связь между артистом и аудиторией. Шостакович правдив, когда говорит, что пишет для рядового советского слушателя.
Проблема упрощения техники и «приближения к массам» — не нова. Она периодически возникала в музыке. Бетховен в свое время казался грубым упрощением в сравнении с Моцартом. Лапидарный Стравинский «Весны священной» казался «грубой реакцией» после Скрябина и Дебюсси… Бетховен искал «сближения с массами» — Моцарт об этом не думал. В его время даже и понятия такого не существовало. Но Моцарт думал о публике, и связь с публикой осуществлялась для него через театр. С падением театра теряется последняя связь в музыке с большой аудиторией. Симфония XIX ст[олетия] пытается стать чем-то вроде театрального действия. Создается комплекс симфонии, связанный с личностью автора почти автобиографической связью. Технически изощряясь, симфоническая музыка замыкается в узкопрофессиональную сферу. Возникает благоприятная почва для опустошенного искусства. Музыка мешает «работе» композитора, мешает «конструкции». Значение Шостаковича в том, что он решительно «повернулся лицом к массам». Но если 5-я и 6-я симфонии шли к массам путем популяризации, то в 7-й есть двойная тенденция: и приближение к массам, и стремление приблизить их к музыке. Тенденция в сторону чистой музыки проявляется пока еще как бы в замаскированном виде: там, где Шостакович дает волю своему музыкальному воображению, это моменты самые ценные. В них есть и ряд формальных исканий, и острая, чисто музыкальная изобретательность.
5. Безусловно ценна вся экспозиция главной темы 1-й части симфонии. Затем почти вся вторая часть. Очень красив в ней лирический эпизод, в котором любопытно то, что аккомпанемент звучит значительнее, чем сама мелодическая линия солирующих деревянных. Очень занятен эпизод вальсообразной музыки, с «фальшивыми» нотами, терпко оттеняющими ритмические акценты. Наконец, в той же части прелестен заключительный период, когда в низком регистре басов неожиданно появляется тембр контрабасового кларнета в сочетании с арфами, взятыми в высоком регистре и связанными терциями флейт. Очень красива слегка архаизированная музыка вступительных тактов 3-й части, и в особенности эпизод траурной песни, изложенный в форме свободного хорала в широком движении гармонических вертикалей. Значительно слабее вступление одних струнных, откровенно напоминая типичную музыку итальянских concerto grosso. Странно, что Шостакович к концу этой части дает буквально репризу всего периода, в то время как нигде в симфонии буквальные повторения не встречаются. По-видимому, эта струнная музыка настолько ему понравилась, что он не смог отказать себе в удовольствии повторить ее. Все изложение главной темы 1-й части ряд критиков считают прямой копией «Болеро» Равеля. Но Шостакович взял у Равеля не музыку его «Болеро», и даже не форму пьесы, а только форму повторения все время одного и того же музыкального периода, развивающегося в динамической профессии. Все время повторяется тот же мотив, который непрерывно нарастает. Но тогда и Равеля можно было бы обвинить в том, что он эту форму взял у Грига (Gnomenreigen[*]), да и у других. Шостакович не повторяет механически свой мотив, как Равель в «Болеро». Он видоизменяет строфу асимметрическим ее повторением и ролью в ней мелодического каданса. Пошленький, нарочито глупый мотив появляется как бы насвистанный сквозь зубы, на фоне мелкой дроби барабанчика. Мотив этот звучит иронически, является как бы маской. Шостакович берет «первое попавшееся». Такой мотивчик может насвистывать любой советский прохожий, в нем есть нечто от зощенковских персонажей. А разрешается этот мотив в грозовые раскаты, приобретающие характер драматический и угрожающий… Отдаленное сходство скорее можно найти с мотивом берлиозовской симфонии («шествие на казнь»)[*]. Наименее удачна вступительная тема 1-й части, мало выразительная и слишком длинная. Coda симфонии, с ее заключительным нарастанием звучностей, кажется мне данью официальному оптимизму. Внутреннее напряжение в музыке падает, несмотря на огромный шум в оркестре.
6. Музыка Шостаковича дает большой простор произволу дирижера. Ее можно сжимать или же расширять в зависимости от ритмического истолкования и насыщения экспрессией, так как динамика у Шостаковича чаще всего не конструктивна, а эмоциональна. Но ведь то же самое можно сказать и о Чайковском, с которым у Шостаковича несомненно большая близость. Шостакович — это почти Чайковский, на советский лад. Оба склонны к эклектизму, у обоих музыка не первозданная, а взятая отовсюду. Чайковский субъективен со склонностью к надрыву, Шостакович — безлично объективен и внутренне уравновешен советской дисциплиной. Прямого сходства в самой музыке у них нет. Чайковского в свое время тоже обвиняли в вульгарности, подражательности и пр. Есть у них общее и в принципах оркестрового колорита, у обоих почти бескрасочного и основанного больше на экспрессии, чем на цвете. В частности, 7-я Шостаковича мне кажется ближе к 6-й Чайковского. Их сближает импровизационный пафос и свободная, разомкнутая форма. Прежде у Шостаковича было много озорства. При помощи темпераментной разнузданности и ухарства он хотел выразить советскую народность. 7-я симфония подкупает искренностью, взволнованностью и внутренней скромностью, что ставит ее в разряд значительных произведений времени. Не будем гадать о ее будущем, но для данного момента она является музыкальным портретом нашей многострадальной Родины.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1943б.[552]
Приближение к массам (народничество в искусстве) (1944)
Это предмет, по природе своей кажущийся удаленным от сферы эстетики. Даже думать о нем в подобной связи трудно. Самое лучшее, что можно здесь сделать, — это признать насущность проблемы, процитировать несколько важных суждений на данную тему и обсудить ее в связи с искусством и общей его эволюцией. Я помню, с чего началось данное направление, и уже могу предвидеть, как оно закончится, или, говоря точнее, наблюдать то, как оно движется к своему определенному завершению, действительно очевидному для всякого. В искусстве всеобщее признание направления есть безошибочный знак его скорее смерти, чем жизни, хотя движение и продолжается еще по чистой инерции.
Но в чем тогда заключается движение, которое мы обсуждаем? В приближении к массам, в искусстве для народа. Вот ядро проблемы, вокруг которого расположены вопросы «упрощения средств», «разрыва изоляции», «преодоления формализма», «средств выражения», «очеловечивания». Сами по себе они не новы, они существуют уже долгое время внутри модернистского движения. По контрасту с этим, «приближение к массам» — продукт последних двадцати пяти лет. Оно возникло в России и ныне уже проникло в Америку.
Две самые последние фазы в истории искусства могут быть сведены к двум лозунгам: к «искусству для искусства», при котором художник создает иллюзию полной свободы и выступает в определенной степени мерилом анархического организма, заложенного в обществе, и к «искусству без искусства» — нынешнему вырождению первого направления. Дойдя до дикарского формализма, цель коего именно в себе самом, вторая тенденция завершилась обесчеловечиванием на всех уровнях искусства. Эстетическим идеалом стала совершенная форма, абсолютно без какого-либо идеологического содержания.
Наконец, ныне возникает новая стадия, которую можно описать как поиск морально-эстетического единства. Эта социально-эстетическая проблема нова для Америки. В России же она представляет собой возврат на старые и давно оставленные позиции. Подобное движение существовало там с [тысяча восемьсот) шестидесятых по восьмидесятые годы; в символистском окружении оно снова явилось на свет, но на новых основаниях, уже после революции.
Проводя параллель с двумя народническими направлениями в России, восьмидесятничество можно было бы охарактеризовать как реакцию против чисто классического романтизма в пользу приближения к массам. Народническое искусство этого периода было крепко связано с идеологией нарождавшейся революции. Сегодняшнее народничество есть реакция против модернистского декаданса, приведшего к лишенному всего человеческого формализму. Оно подпитывается предписывающей народничество марксистской идеологией, из которой и вышло на свет.
Если взять вторую историческую фазу, а именно «искусство без искусства», преходящее и отрицательное вплоть до полного вырожденчества, то мы стоим тут перед двумя альтернативами. Первая — «искусство для искусства», основанное на извечной идеологии, интимной по своей природе, тайной и не вызывающей противоречий; другая — служение некой социальной общности. В нынешних условиях художник, если он ищет настоящей, практически осмысленной деятельности, обязан отречься от эстетического принципа искусства для искусства. Ибо этот принцип не соответствует никаким нуждам, кроме одной только нужды художника; принцип этот не смиряется ни с «социальными», ни с «коммерческими» нуждами; он не служит ни социалистическому, ни капиталистическому государству.
В действительности же рассматриваемая проблема распадается на целых три: проблему народного искусства, проблему пролетарского искусства и проблему искусства народнического. Время и место не дозволяют всерьез проанализировать здесь все три составляющие, но мы еще можем в один прекрасный день к этому возвратиться. Давайте просто обсудим основные фазы.
Народное искусство творится самими людьми при помощи их собственных органических сил. Оно исчезает, как только вместо людей активным становится профессиональный элемент, который подменяет специфическую природу народного искусства и пародирует ее. Но [простым] людям не нужен окарикатуренный образ. Как дети, они не могут вынести неправды. Для их творческого импульса основополагающим является преображение повседневности. Народное искусство существовало всегда, оно лежит в основании национальной культуры любой страны. Такова историческая реальность всей культуры. С другой стороны, пролетарское искусство есть теория, служащая неомарксистской догме и основополагающая для интернационального искусства.
Пролетарское искусство сводится к форме абсолютно новой эстетической культуры, не имеющей никакого сходства с культурой прошлого, которая, таким образом, сочтена за «культуру буржуазную». Оно предположительно должно было развиться из психологии нового человека, освобожденного от прошлого, и таким образом являть собой абсолютно новую проблему. Оно было одной из великих утопий русской революции, так никогда и не реализованной, хотя в течение длительного периода как профессионалы, так и даже сами массы сотрудничали друг с другом.
Народническое искусство России есть компромиссная попытка создать пролетарское искусство. Оно апеллирует скорее к массам, чем к народу. Вместо возвышения масс до искусства оно снисходит до их уровня и давит на них своим обманным видом. Народническое искусство, таким образом, есть фикция и практическое приноравливание ко вкусу и тенденциям момента. Настоящее состояние направления может быть обозначено как «народнически-модернистское», потому что черты модернизма сосуществуют в нем с народничеством, подобно тому как в искусстве первого периода — с шестидесятых по восьмидесятые — романтические черты (в большей степени, чем классические) сосуществовали с народничеством. Но, несмотря на упрощение и приноравливание техники, такая музыка отрывается от масс именно в тот момент, когда берется реализовывать чисто музыкальные задачи. Это, так сказать, результат личности самого музыканта. У музыканта непосредственная реализация всегда ведет к верным целям; отдаляется и хлещет волной по идеологической концепции как раз в момент, когда и случается приноравливание к внешним задачам.
Компромисса между искусством и идеологией не скрыть. Компромисс дает о себе знать через блокировку тонального материала, через характерно внемузыкальные черты, механизирующие творческий дух и даже технику. Компромисс приводит к скорби [, возникающей от зависания] между желанием связи с массами — стремлением к тому, чтобы быть легко понятым через обслуживание уже развившихся рефлексов толпы, — и желанием одновременно творить искусство, а не его симулякр (simulacrum).
Революции, войны, исторические катаклизмы прерывают поток вечных правд, которые — над временем, ставя нас лицом к непосредственным, временным и практическим, нуждам. Вот почему в бурные периоды мы встречаем усиленное упрощение, понижение качества и обеднение культуры. Подлинный дух русской культуры затемнен сейчас происходящей драмой. В Америке же культура требует внимательнейшего отношения, дабы нам не проглядеть ее юного духа в царящем беспорядке.
Я уже проводил различие между народом и массами. Основная проблема в том, что у народа есть традиции, у масс — нет. Я говорю о народе как об определенной силе, участвующей в национальной культурной жизни. Можно сказать, что в России активен народ, в то время как в Америке — массы, а народ еще не призван к действиям. Направление, в котором движутся в России, — от народа к массам, в то время как в Америке движутся от масс к народу. На этом основании возможно заключить, что в России культура пришла к народничеству, в то время как в Америке народничество должно еще быть преодолено и, таким образом, привести к культуре. Это и будет настоящим результатом «плавильного котла» — новой расой со своей специфической культурой.
Существует параллелизм между массами в России и Америке, переводящий специфические проблемы на культурный уровень. Близость легче установить между массами, чем между народами. Русское народничество здесь тепло приветствуется: наверное, потому, что разрушает те народные элементы, которые замыкают музыку на традиционный национализм.
Нельзя сказать, что народ некультурен; он сам по себе выше культуры. Он хранит в себе культуру как высшую ценность, которая может быть признана только с тем, чтобы быть понятой, — и в этом задача гения. Именно потому Мусоргский, вопреки тогдашней версии народничества, обрел прямую связь с народом. Объединение же масс завершается только бес-культурьем. Бытовые привычки дают массам явное однообразие чувства и вкуса, используемых на потребу практическим целям и интересам, к ущербу искусства и прибыли эксплуататора. И в этом-то и заключается опасность коммерческого искусства: неверно используемое (а оно почти всегда используется неверно), оно может при помощи технических усовершенствований радио, кинофильмов стать антикультурным инструментом ложных реакций и искусственных потребностей.
Основа художественного процесса никогда не меняется; главной необходимостью всегда остается воплощение художественной формы, несмотря на разнообразие методов и их модификацию. Но эмоциональное подсознательное искусства постоянно меняется. Состояние существования развивается вместе с внутренним опытом художника. Отречься от опыта значит отречься от самой жизни.
Однако желание активности практического порядка, неважно, каким образом обретенное, уже дало начало направлению упрощения. Именно это самое желание привносимой извне активности проникло ныне даже сюда и пропагандируется.
Чего же достигло народническое направление? Практически ничего. Музыка, создаваемая в сегодняшней России, ищет, как бы ей удержать связь с национальным началом, и одновременно уходит от него посредством упрощения, чуждого национальному языку. Русская народническая музыка отличается от аналогичной, создаваемой здесь, только тем, что она еще связана с традицией и остается музыкой скорее народной, чем народнической.
Народническое направление не есть проблема эстетики, это вообще не проблема, а просто вырождение народного искусства. И именно потому в начале настоящей статьи я пророчествовал о его конце. В нем тем не менее заключена бацилла важного будущего направления, ибо, лишь освободившись от народного, в основе своей национального искусства, народничество будет питать стремление к интернациональному, свободному искусству, творимому свободными людьми за пределами национальных границ.
Война придала сегодня нового дыхания народничеству, требуя удвоенного и действенного патриотизма со стороны музыкантов и других художников. Но как сверхпатриотизму манифестировать себя в музыке? Только через воздействие музыкой на массы, через создание стимула к самопожертвованию и самоотверженности. Словом, через работу с тональным материалом, ибо слова сами по себе слишком ничтожны.
Но тогда не было ли это всегда целью музыки? Ведь великая симфония XIX века отвечала в основе своей на те же проблемы. Содержа все элементы народного, она не имела в себе никакого смысла, кроме связи с большой аудиторией. Это было ораторское искусство по преимуществу. Но симфонические речи текли по путям, присущим музыке, в то время как народничество наших дней следует по пути наименьшего сопротивления. Возвращаясь к XIX веку, [следует сказать, что] последний пользовался уже испытанными, общими эмоциями, из которых черпал свою эклектическую природу и эпигонский стиль. Однако нынешнее народничество есть только временное состояние, ибо пути наименьшего сопротивления не могут привести к подлинной сердцевине искусства. Существует только одно подлинно творческое разрешение, и оно принадлежит сфере самой музыки. Необходимость установить новое согласие между индивидуальной волей художника и коллективным состоянием культуры представляет собой одну из великих трудностей, еще не преодоленных.
Естественным образом велик соблазн установить моментальную связь между историческими событиями и искусством, но такая связь не может быть насильной. Никакое событие не переменит тайного значения искусства, в котором и заключается вся его ценность. При любых исторических событиях художник обязан сохранять свою целостность. Никто не может лишить его этого. Nolite perturbare circulos meos[*]. Правда, Архимед заплатил жизнью за эти слова, но одновременно он показал независимость художника от окружающего мира.
«Выражением времени» является совсем не то, что народничество может быть оправдано в наших глазах. Поскольку мы исключили его из эстетической проблематики, вопрос о народничестве в искусстве в конце концов довольно утомителен. Больше, чем просто ставить его, означает пригласить солдат помогать Архимеду чертить его круги.
Источник текста LOURIÉ, 1944.[554]
Линии эволюции русской музыки (1944)
Тот, кто ищет первые следы музыки в России, находит их у скифов.
Историк, живший при императоре Коммоде (во II веке нашей эры), говорит, что скифы «дуют в кости орлов и коршунов наподобие флейт».
Великолепный образ, хотя эти кости были только переходом от тростниковых дудок к флейтообразным инструментам. И мы начнем наш обзор русской музыки не так далеко. К тому же нельзя вместить в рамки одной статьи всю русскую музыку, и мне остается остановить внимание только на самых значительных фактах и на тех музыкантах, которые создавали историю.
Кто не помнит загадочных стихов, которыми кончается «Евгений Онегин»:
Теперь, на расстоянии более чем ста лет, сам Пушкин стал «магическим кристаллом», сквозь который мы привыкли разглядывать прошлое русского искусства; стал как бы фокусом и перспективой русского духа, русского творчества.
Пушкин был «точкой отправления» и для русской музыки. Поэзия и музыка были всегда и повсюду в тесной связи, но нигде эта близость не была столь интимной и живой, как в России. В России рост национального духа в поэзии и в музыке шел из одного корня, но музыка прорастала, опираясь на поэзию.
Любопытно, что — живой источник русского искусства — Пушкин и Глинка не проникли в Европу. Несмотря на то что Пушкина много переводили, кажется, что мы его просто старались навязать европейской культуре. Все переводы дают настолько банальное представление о нем, что приходится верить русским «на слово», что он наш величайший поэт; что он был первый и единственный, кто осуществил в нашей поэзии — основной принцип искусства — идеальное равновесие. Пользуясь (за неимением другой) немного обветшавшей и напыщенной терминологией XIX века, противопоставлявшей Аполлона Дионису, можно сказать, что Пушкин — синтез того и другого начала. Ницше сказал бы, что Пушкин был воплощением орфического начала. Когда в 1922 году дирижер Эмиль Купер, Борис Асафьев (Игорь Глебов) и я создавали в Петрограде музыкальный журнал «Орфей» — первая книга его была посвящена Пушкину[*]. В ней был романс, сочиненный Ницше на стихи Пушкина, не очень оригинальный. Но перевод пушкинских стихов — великолепен, полностью перевоплощая хрупкую поэтическую субстанцию оригинала.
Это чудесно удавшееся равновесие Пушкина противоречит европейскому мнению о безудержном, диком и исступленном русском темпераменте. Пушкин был наиболее совершенным выражением русской мысли и духа. Это не было его личным качеством, но подлинной реальностью русской души. Его находишь в пластике тела, сдерживающего огромную силу, в пляске, в борьбе, в линиях народной песни, в иконописи. Оно сковывает хаос.
Глинка находится в плеяде спутников Пушкина. С него и начинается настоящий путь русской музыки, ее национальный путь. Пушкин создал и утвердил в русском искусстве новый канон, который пришел на смену XVIII столетию. Глинка связан этим каноном с Пушкиным. Но иным историкам музыки он кажется чуть ли не только подражателем Моцарта и Глюка; и, как Пушкин, он не проник в Европу.
Связь между Пушкиным и Глинкой не в том только, что и Глинка создал национальный источник искусства, но в том, что оба были совершенным выражением художественного равновесия в русском искусстве; равновесия, редкого в Европе, где художник постоянно колеблется между двумя полюсами: риторикой и экстазом. Такой совершенной гармонии не повторилось никогда и в России.
Я не устанавливаю художественной иерархии, но говорю лишь о равновесии и пропорции. Глинка не Пушкин, так же как Мусоргский не Достоевский и не Гоголь. Глинка не мог дышать горным разреженным воздухом Пушкина. В жизни он был ближе с Кукольником и его «братией», чем с Пушкиным. Но шедевр русского лирического театра — «Руслан и Людмила» был вдохновлен Пушкиным. Конечно, «Руслан» Глинки — это не пушкинский «Руслан», но мелодии в глинкинском «Руслане», волнующие нас до сих пор, все же те, которые связаны с несколькими подлинными стихами Пушкина.
После народной песни Пушкин был главным источником вдохновения русских музыкантов. «Борис Годунов», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Каменный гость», «Цыгане», «Скупой рыцарь», «Царь Салтан», «Золотой петушок», «Дубровский», «Бахчисарайский фонтан», «Мавра» (то есть «Домик в Коломне») — если ограничиться только операми[*].
Пушкин до сих пор сопровождает нас на нашем историческом пути. Речь Блока о Пушкине — последняя речь поэта — была как бы знаком того, что и революция приняла Пушкина. Сейчас в русском искусстве линия выпрямляется. Правда, меняется главным образом общая идеология, эстетический же процесс был до сих пор очень беден. Он был внутренне нарушен в угоду идеологии. Но можно надеяться на новое развитие долго сдерживаемых творческих сил.
Истории русской музыки не существует как науки, хотя рассказов о чередовании событий и фактов в хронологическом порядке — сколько угодно. Не существует исследования внутренней закономерности событий и связи между ними. Русская музыка очень молодое искусство, и история его коротка[*]. Оно развернулось с необычайной стремительностью на малом промежутке времени. Самая природа этого искусства [и то, что] с [первого] момента развернулось с необычайной стремительностью на малом процессе его развития, создали сейчас же столкновение противоположных идей. Причиной тому яркая выраженность и самобытность главных фигур в этом искусстве. Никому из них не приходила мысль заниматься систематизацией движения, когда оно было еще только в процессе роста. Позже, когда зародилась критическая мысль, эта эпоха уже закончилась. Моментом замыкания круга оказалась революция. До того русские исследователи ограничивались почти исключительно характеристикой двух соприкасавшихся эпох: сантиментального романса и первых опытов национального движения. Сантиментальный романс был как бы зародышем национальной музыки. В элементы русского фольклора, народной песни включились сплавы французского, немецкого, итальянского влияния. Ладовая основа народной песни обусловила специфическую сущность и русского романса в первом периоде его развития. Эта ладовая основа часто борется с европейским тональным принципом и его мажорно-минорным дуализмом и тем самым отличает русский примитивный романс этой эпохи от романса европейского.
Не парадоксально ли, что только революция начала ставить проблемы истории русской музыки, намечать внутреннюю связь явлений, приводить их к единству. В опыте отыскания и созидания новой идеологии в искусстве с большей отчетливостью, чем прежде, осознавались и откристаллизовались ценности прошлого.
Всего 82 года отделяют первую постановку «Жизни за царя» (1836 г.) и 1918 год, год революции, когда эта опера была снята с репертуара из-за ее названия. Эти две даты являются вехами русской музыкальной истории, охватывающими все национальное движение; его зарождение, его расцвет, его уклон и академизм, его конец и весь период развития русского модернизма. Поражает в эту эпоху кажущееся отсутствие связи между фактами, их противоречие и почти непрерывное столкновение. Два рядом стоящих произведения часто кажутся несовместимыми ни во времени, ни в строе идей. Но в этом столкновении вся динамика русской музыки, кипение ее творческих сил, ее молодость. В диалектике противоречий выкристаллизовалась ее логика. На первый взгляд, весь этот период кажется единым волевым движением. Все музыканты делали как будто одно общее для всех дело. Всех объединяло национальное самосознание, их отношение к искусству было не личным, не индивидуальным. То, что не успевал закончить один, продолжал другой. «Князь Игорь» Бородина был приведен в порядок, дополнен и оркестрован Глазуновым и Римским-Корсаковым. Сочинения Мусоргского почти целиком были переработаны Римским-Корсаковым и многими другими музыкантами.
В этом было и хорошее, и плохое. Такой род коллективной работы как бы восстанавливал средневековые цехи. Но деспотизм и нетерпимость нередко нарушали обстановку братского содружества. В частности, Мусоргский был изуродован Римским-Корсаковым, который, считая Мусоргского безграмотным музыкантом, навязал его произведениям свою техническую формулировку.
В русской музыке есть только одно бесспорное — Глинка. Он один во главе угла. Роль и значение всех остальных условны. Что же было между ними общего, в чем они между собой согласны?
Ответ на этот вопрос наметил бы объективную линию развития всей национальной школы.
При этом возникает ряд исторических перспектив, из них мы наметим лишь некоторые, наиболее существенные, в первую очередь линию Глинка — Мусоргский, наиболее ясную и краткую — прямолинейный и острый синтез развития национальной идеи.
Значение Глинки не в том только, что он был первым композитором, включившим русскую музыку в европейскую музыкальную культуру. И не в том, что его музыка все еще полноценна в силу ее чарующих качеств, а в том, что, будучи зачинателем русского национального движения, он дал одновременно и его синтез. Это был, правда, лишь примитивный и интуитивный синтез не только прошлого, но и будущего музыкального творчества в России. Синтез этот охватывает взаимодействие всех элементов музыкальной формы, отражает целый ряд проблем. Глинка был в русской музыке счастливой удачей, благодаря своей целостности и классической ясности. Он был принят всеми и в равной мере в двух противоположных станах: западников и славянофилов.
Будучи преимущественно оперным композитором, Глинка своими двумя операми сразу же отчетливо установил два главных направления, по которым пошло развитие всего русского музыкального театра. Эти два направления: историко-героическо-эпическое («Жизнь за царя») и сказочно-романтически-волшебное («Руслан и Людмила») — остались в русской музыке навсегда. Какую бы мы ни слушали из русских опер, возникших после него, она окажется включенной в тот или иной из этих двух рядов. Даже последняя, только что созданная опера Прокофьева «Война и мир» — опера историко-эпическая и героическая. Исключений почти не было. Даже Чайковский только один раз уклонился в сторону, создавая мелодраму «Пиковая дама».
Природа глинкинской музыки — романтическая, но этот романтизм не субъективен, как у романтиков его эпохи в музыке европейской. Он имеет классическую основу, в нем есть идеальное равновесие всех элементов музыкальной формы: то есть мелодии, гармонии и ритма, и каждый из этих элементов им широко разработан.
Среди достижений Глинки преимущественно значение получил в истории сказочно-фантастический элемент, найденный им в природе русской песенности и в русских сказках. Его «избушку на курьих ножках» позднее мы слышим в «Картинках» Мусоргского, в «Бабе-Яге» и «Кикиморе» Лядова, в «Сказке» Римского-Корсакова вплоть до «Жар-птицы» Стравинского и после нее у других…
Наряду с этим он создал в русской музыке восточный колорит. Он ввел его не только в русскую, но в большой мере и в европейскую музыку. Мы знаем, что Бетховен и Вебер пользовались ориентализмом до него, но очень редко и почти исключительно как декоративным элементом.
Глинка сделал восточные лады неотъемлемой органической частью русской музыкальной материи. Вряд ли найдется в России композитор, у которого восточный элемент, как ладовое начало или же хотя бы как декоративно-тональное, не был бы составной частью звуковой материи. И так от Глинки до наших дней. В этом есть аналогия и почти семейное сродство между русской и испанской музыкой, в связи с часто аналогичной у них структурой метрического и ритмического каданса (в метрико-ритмическом сложении). Опять-таки отсюда симпатии у Глинки к испанскому фольклору, а после него и у других русских музыкантов. На этой почве создалось в Европе неправильное отношение к русской музыке как к экзотике. Подлинно русской привыкли считать только музыку, которая ярко окрашивалась в восточный колорит и неслась на волнах упругих ритмов. Недоразумение это медленно рассеивается. Русский восток, конечно, не pittoresque[*], а один из основных и органически неотъемлемых элементов русского музыкального языка. В строении звукового лада, в его мажорно-минорной светотени (в связи с ритмической природой этого лада) находит выражение своего единства все тот же русский западно-восточный дуализм.
Заблуждение в том, чтобы видеть восточный характер русской музыки только как колористическую игру. От этого заблуждения не были свободны и многие из русских музыкантов.
Русская музыка отличается своим дыханием — иным, чем в музыке европейской. У нее свое чувство звуковой пропорции, иное строение периода музыкальной речи, в связи с ее собственной природой. У нее свое расширение и сокращение мелодической линии, своя природа полифонической ткани, свое ощущение гармонии и тембра.
Иначе говоря, — у нее свое ощущение звуковой перспективы, в живой связи с тем измерением, которое создает ее физическая и психическая природа. Это самое существенное. Всяческая идеологическая надстройка, выбор сюжетов и пр. — явления внемузыкального порядка, если нет врожденного чувства верности основному, то есть самой природе музыкального языка. Верность этому языку есть первый признак верности народу, так как язык есть неотъемлемое достояние народа, им самим творимое. Разрыв с языком обусловит всегда в конце концов и разрыв с народом, не только в словесности, но и в музыке, где языковая связь проявляется таинственнее и сложнее, чем в словесности. Синетический международный музыкальный язык до сих пор все еще не существует, несмотря на все попытки создать его. А сверхнациональной становится только такая музыка, которая, вырастая из национальной почвы, по своему человеческому значению перерастает свою сущность и роль специфически национальную, становясь достоянием общим.
Русская музыка выросла не на профессиональной основе, а на основе народной. Она вышла целиком из практики музыкальной композиции, а не из теорий. Как никому из русских музыкантов, Мусоргскому дано было почувствовать и понять природу русской музыкальной речи, в которую он свято поверил как в единственную творческую возможность. И если Глинка считал своим назначением сближение между западноевропейским каноном и русским музыкальным элементом, сочетая их «узами законного брака», как он говорил, то Мусоргский считал народную музыку единственно возможной основой для русской музыки. Он искал перевоплощения русской речи, во всем многообразии и богатстве ее интонаций, в речь музыкальную. Это стало его навязчивой идеей, и на этой же почве вырос его пресловутый натурализм. Он считал вполне осуществимым переключение какой бы то ни было речевой интонации в интонацию музыкальную, во всей гамме человеческих чувств и переживаний, со всеми возможными оттенками. Мы знаем, что ему это удавалось и что его звуковые портреты — причитания деревенской бабы, латинская зубрежка школяра-семинариста, монолог царя Бориса или плач юродивого, — все это не стилизация, а подлинно реальные звукообразы.
Помимо объективной ценности своих произведений, самим пафосом своей веры в народ, своим мученическим подвигом человека и артиста Мусоргский навсегда останется символом связи между народом и музыкой. Мусоргский повел дело Глинки с фанатической страстностью и непреклонным упорством. Его фанатизм затмил для него западноевропейский мир, а позднее создал пропасть между ним и русскими музыкантами, когда внутри самой национальной группы обозначились тенденции в сторону профессионализма, параллельные тенденции европейским. Влюбленный в Глинку, беззаветно ему преданный, Мусоргский замыкает круг и обрывает все дело Глинки тем, что отрывается от Запада. Глинка искал сближения с Европой, Мусоргский выключал все европейское из русской музыки.
Мы знаем теперь, что исступленная борьба Мусоргского с европейским каноном была в действительности только его возмущением против омертвевшего профессионализма. Он восставал против рутины и формул, но не против формы, то есть, иначе говоря, против инструментальной и вокальной риторики, в которую выродилась очень большая часть европейского музыкального искусства в его время. Между тем теперь, на расстоянии времени, мы легко различаем в его музыке следы и нерусские. Они заметны не в его технике, вполне самостоятельной и оригинальной, а в очертаниях его стиля, в котором мало отражается европейский XIX век, но неожиданно обнаруживается близость с итальянским музыкальным возрождением великой эпохи, с создателями итальянской оперы большого стиля начала XVII столетия, которых он совершенно не знал, как не знал этой музыки никто в то время, кроме нескольких специалистов истории музыки.
В аристократической, блестящей, но поверхностной обстановке петербургской музыкальной жизни, где царил итальянский вкус, Глинка почувствовал себя русским. Пришедший после него Мусоргский фанатично поверил в идею русской музыкальной самобытности и развернул эту идею до предельной возможности. Радикализм Мусоргского разрушил внутреннее единство и спаянность национальной группы, которая, потеряв Мусоргского, утратила и свое значение. После смерти Мусоргского роль ее была кончена. В ней обнаружились противоречия с основной идеей и тяготения в сторону приспособления к профессиональному движению общеевропейского толка. Связь с Глинкой в дальнейшем теряется. Его имя становится только почтенной традицией, ни к чему не обязывающей. Мусоргский кончил жизнь в полном одиночестве, и если его музыку и оценили несколько очень близких к нему людей, то идеи его и принципы остались совершенно не понятыми никем. После смерти долгие годы с ним ведется глухая, но упорная борьба в академических кругах. Это период очень выраженного музыкального профессионализма и рутины в консерваториях и вырождения национального движения в академизм. Подлинное творчество Мусоргского в эту эпоху уже изъято из музыкальной жизни, образ искажен, и музыка его становится известной только в том оформлении, которое ей придал Римский-Корсаков.
Между тем дух музыки Мусоргского проникает в Европу. Благодаря Дебюсси, Равелю и школе импрессионистов, он становится символом французского музыкального возрождения. Это подготовляет путь к раскрытию и изучению его подлинных музыкальных текстов в России во время революции.
Параллельно только что очерченной перспективе созрела и возникла другая: Глинка — Чайковский. Но был еще один композитор, который в хронологическом порядке находится между Глинкой и Мусоргским. Это — Даргомыжский. Он остался композитором чисто местного, провинциального значения, несмотря на свои большие достоинства. Но он оказал несомненное влияние на Мусоргского, положив начало тому музыкальному натурализму, который получил потом патетическое выражение в созданном Мусоргским романтическом реализме.
Возвышенный стиль Глинки начинает снижаться у Даргомыжского. У него впервые появляются черты русского гротеска и шуточные интонации, полународные, полугородские. Он создатель комического жанра и едкой карикатуры в русской музыке. Он первый записал лирические интонации мещанского и среднебуржуазного типа и ввел в музыку образы, родственные Акакию Акакиевичу. Глинка был всегда очень пластичен в выражении чувств. Даргомыжский нарушал все пропорции и стремился к напряженно-насыщенной экспрессии. Он был как бы прообразом современного экспрессионизма, его русским предтечей. Интонации его мелоса получают свое питание в самой жизни. Он их извлекает из окружающей его обстановки в большей мере, чем находит в канонических музыкальных формах, как это было у Глинки. Скачок от Глинки к Даргомыжскому, от «Руслана» к «Каменному гостю» огромный. От Даргомыжского уже прямой путь к Мусоргскому. Романсы Даргомыжского — по существу как бы зерна целых музыкальных драм, а реализм Мусоргского — развитие стиля Даргомыжского. Даргомыжский же впервые начал связывать интонацию речевую с интонацией музыкальной.
По странному капризу истории этот почти забытый композитор нашел своего продолжателя в лице Прокофьева, композитора с много более широким диапазоном, силой выражения, во всеоружии современных средств. Такие балеты, как «Шут» и «Стальной скок», его фортепианные «Сарказмы», «Мимолетности» и даже оперная его техника вплоть до «Войны и мира» по остро очерченным интонациям, по четкости упрощенного и жесткого рисунка, близкого к гравюре или офорту, — родственны Даргомыжскому.
Мусоргский и Чайковский — антиподы. Они были и лично в антагонизме и не любили друг друга. Оба жили в одно и то же время, но столь различно его пережили. Если сравнить страшный портрет Мусоргского, написанный Репиным за несколько дней до смерти композитора, с любым из портретов Чайковского — какой контраст! Между тем мы знаем, что жизнь Чайковского была совсем не так уж благополучна, какой она кажется по внешнему, весьма благопристойному его облику, по образу его жизни и по методичному и упорядоченному строю его мыслей. Но Чайковский умел по-своему бороться с жизнью и со своей судьбой. Его безразличное отношение к внешнему миру, ко всему, что было вне его личного опыта, постоянная, упорная сосредоточенность исключительно на самом себе создали для него удушливое состояние одиночества. У Мусоргского было обратное, у него не было внутренней борьбы с самим собой. Его драма была не личной, а в столкновении с миром, с людьми, с обществом. Мусоргский был новатором по самому существу своей натуры. Ему нужно было изменить самый порядок идей и вещей в мире и установить новую связь между искусством и людьми. Чайковскому же всякая идея «новаторства» была антипатична и чужда. Чайковскому ничего не нужно было менять в мире, ни в области социальной, ни в духовной или эстетической, кроме линии своей личной судьбы. В сущности, его идеал — полное обывательское благополучие. Его меланхолия — чисто личного порядка, плод его острого эмоционального субъективизма, одиночества и оторванности от мира. И если он поднимается в своем творчестве до трагического пессимизма, то только в силу своего огромного творческого темперамента, который возвышает его над самим собой и преображает личную психологию, поднимая ее на уровень возвышенных идей и общечеловеческих чувств. Техника Чайковского всегда академична и всецело подчинена существовавшим в его время общим формальным правилам. Прочно установленные принципы ремесла держали его неукротимый темперамент в постоянном подчинении и служили для него средством самозащиты от себя самого. Для него важна не реальность, а лишь его личные ощущения. «Онегин» Чайковского уже не пушкинский. Здесь не живая и органическая связь с Пушкиным, как у Глинки, а только воспоминание о Пушкине сквозь призму [18]80-х годов[*]. И если «Онегин» Пушкина кажется нам сыном Байрона, то у Чайковского они даже не в родстве. Создавая своего «Онегина», Чайковский словно бежит от своего времени в прошлое, поэтому эта опера, может быть, одно из самых светлых и «очищенных» его произведений. Она не насыщена пессимизмом и страстным изнеможением, как большая часть его музыки.
Чайковского влекла песенная сфера. Он отдал ей большую дань, написав ряд опер и множество романсов. Но, несмотря на количество и качество всего созданного им в этой области, его подлинная сфера — инструментальная. Чайковский был по преимуществу инструментальным композитором, создателем русского симфонизма, почти не существовавшего до него и в котором он стал мастером, не превзойденным до сих пор. Здесь основная сущность его творчества, в то время как Мусоргский был композитором оперным. Дело не в том, что Мусоргский почти не сочинял инструментальной музыки, а поглощен был песенной. Существенно, что Мусоргский создавал свои звуковые образы, объективируя их, выражая их в их собственной природе и независимо от себя самого; Чайковский же даже в песенной сфере всегда оставался лишь самим собой. И в театральных формах он создавал лишь иллюзию образа; поет в этих образах всегда сам Чайковский, надевая маску действующего лица. Вместо английского рожка или кларнета мы видим Лизу, Германна, Онегина, Татьяну; но голос слышен всегда все тот же, его собственный голос. У него редки живые образы и неличные интонации (няня в «Онегине»). Они удаются Чайковскому только тогда, когда он лично не взволнован текстом, когда слова его не «уносят». Даже в вокальных ансамблях почти всегда сохраняется тот же характер субъективной интонации. Только его хоры поражают тем, что являются для Чайковского выражением чего-то объективного: самой жизни, рока, обреченности[*].
С Чайковским кончился «пир» Мусоргского, Глинки, Бородина. Вместо былого богатства, расточительности и великолепия музыкальных сокровищ у Чайковского видишь уже очень прочно установленную профессиональную технику и ремесло. Как профессионал, он активен во всех областях композиции и пишет очень много в сравнительно короткий срок жизни. В его работе есть уже расчет, экономия средств и материала. Но если техника Чайковского рационалистична, он не рационализирует музыку. Какое же, в самом деле, рационализирование в спальне графини (в «Пиковой даме») с жутким хором приживалок, приготовляющих туалет графини так, как если бы он был погребальным, и напоминающих шекспировских парок? И какой рационализм во всей этой атмосфере смертной жути, которая как тень ходит за ним по пятам и всегда присутствует в его музыке? Все преувеличенная экспрессия и патологическая патетика в его музыке, откуда она? От невозможности выхода, ухода от себя. На примере Чайковского мы видим, что «верность самому себе» не всегда отрадное состояние. Форма у него не оригинальна, и все же — как это ни парадоксально — это не помешало Чайковскому создать музыку большого стиля. Но в этой музыке нет «кафарсиса», как говорят греки. Единственная возможность освобождения для него только в песенном самоуничтожении. Песенное изнеможение, надрыв, подъем, опять изнеможение и опять надрыв… И вместе с этим торжественный официальный стиль, соответствовавший стилю России конца его жизни, эпохи Александра III: ее прочности, непоколебимости ее устоев и норм закона.
Как и Глинка, Чайковский глубоко русский композитор, чего никак не хотели понять в Париже. Каким образом совершается его национальное становление — это его творческая тайна, тайна его темперамента, тембра его голоса, который ни с чем не смешаешь. Его расслышишь через разноголосицу всей музыки в мире. Связь с Глинкой у Чайковского интимная, семейного порядка. Она на линии приближения обоих к Западу, в то время как у Мусоргского связь с Глинкой была на линии удаления от Запада.
Любопытно, что симфонии Бетховена совершенно не задели инструментального стиля Чайковского, этого величайшего из симфонистов после Бетховена. Он отличается от Бетховена отсутствием динамической мысли, из которой вырастает бетховенский симфонизм. Чайковский пользуется готовыми формулами и, как только падает его эмоциональная насыщенность, заполняет пустоты риторикой, приближаясь к Шуману и Мендельсону.
Когда его не грызет тоска и меланхолия, он как бы «прогуливается в толпе», среди народа, образ которого он передает почему-то всегда веселым и пляшущим, или же бродит по петербургским салонам и балам, оттуда его вальсообразные ритмы. Его инструментальная форма растет всегда только из эмоционального насыщения, из «дыхания», и чувство пропорции определяется в большей мере эмоциональной экспрессией, чем самой звуковой материей. На вершине своего эмоционального подъема он доходит до состояния исступления и восторга, который можно бы назвать «интеллигентским радением», хотя эти два понятия как будто бы с трудом связываются (Мусоргский создавал радение народное). Это состояние радения — сфера сближения Чайковского с массами и его воздействия на них. Утратив эту силу воздействия в период модернизма, его музыка снова обрела ее уже после революции, хотя массы интеллигенции были уже нового типа.
Русский модернизм в музыке, как и в поэзии, получил явно символическую окраску, так как русское искусство всегда было ближе к миру идей, чем к миру конкретностей. Скрябин стал едва ли не самым ярким выразителем этого движения. Он ушел от национальной идеологии в искусстве без оглядки, опьяненный новым миром, открывшимся в начале XX столетия.
Скрябин был, конечно, очень значительным явлением в русской культуре. Прошло полвека с тех пор, как с него начался последний период русской музыкальной истории, кажется, еще столь недавней. В перспективе минувших десятилетий многое стало сейчас гораздо яснее, чем прежде. Скрябин не упал с луны в русскую музыку, как это казалось и до сих пор еще кажется многим[*]. Он был субстанционально связан с русской музыкой, с ее традицией, и уж, конечно, он был проявлением русского духа. При жизни вокруг него создался культ, и молодежь видела в его музыке осуществление своих чаяний. Потом о нем забыли. Реакция наступила чуть ли не сейчас же после его смерти и зачеркнула его имя на долгое время. Реакция эта создалась на почве смены культурных планов, смены идеологий, смены эпох. После декадентских и символических теорий и идей конца XIX и начала XX века, после расцвета крайнего индивидуализма пришли война и революция, которые опрокинули культ эгоцентрической личности в искусстве и в жизни и поставили снова проблему коллектива и сближения искусства с народом. О Скрябине создалось мнение как о большой неудаче и падении. Но бывают «неудачи», которые значительнее многих удач.
Для Скрябина, так же как и для Мусоргского, музыка была не самоцелью, а только средством общения с людьми, осуществления — для Мусоргского — идей внемузыкальных; для Скрябина — сверхмузыкальных. Но в то время как для Мусоргского музыка была связью с народом в простом и прямом смысле, в самой жизни, для Скрябина не было «народа» в простом значении этого слова. Его путь вел от интимного личного плана к общему, или же, как говорили на жаргоне символистов, от келейного начала к соборному. Связь между индивидуальным и коллективным осуществлялась путем внутренним, в живом опыте, а не внешним соединением. Это был путь духовный и почти религиозный. Он не стал религиозным в подлинном смысле, и Скрябин не нашел настоящей внутренней свободы и целостной истины. Поэтому и произошло его падение. Он не сумел уйти от эгоцентрического постижения мира, и его «коллектив», его «соборность» состояли для него только из «посвященных».
Апокалиптическая философия, эсхатология, эзотеризм — все это было разлито в воздухе во всем мире в эту эпоху «предчувствий» и «предугадываний». Скрябин стал жертвой своего времени. Он выразил в своем творчестве только процесс «предварительный» в отыскании новой связи между миром и людьми, к которой каждый раз наново ведет опыт подлинного артиста. Не случайно его творчество оборвалось на едва начатом произведении, которое он называл «Предварительным действием».
Вполне возможно, что, если бы жизнь Скрябина не оборвалась так трагически в самом расцвете его сил, история современной музыки была бы совершенно иной. Его эгоцентризмом были поиски через себя, но не для себя. Вместо Бога он подставлял самого себя, то есть артиста; вместо истины — искусство. Вагнер до него делал то же самое. Но Вагнер создал германский миф. Скрябин же не успел создать свой миф, он только искал его — через восток.
Что принес Скрябин в русскую музыку? Экстаз, — экстаз как форму постижения и как форму музыкального воплощения. Пусть на ложной идеологической основе, но музыка Скрябина была утверждением, утверждением творческого процесса, актом принятия жизни в противоположность Чайковскому, чья музыка была почти сплошным криком отчаяния. Но Мусоргский и Скрябин — явления одного и того же духа, только отраженные в разных культурных планах, с различным идеологическим основанием.
Первый период скрябинского творчества был совершенно традиционен, типичен для русского музыканта. Основной тон его сочинений — трагический лиризм, который лишь постепенно пронизывается озаренностью, из нее рождается идея экстаза. С этого момента он пишет до конца жизни уже как бы одно и то же произведение. Уход от себя, достигаемое самоосвобождение приносит новое сознание — через экстатический подъем к состоянию чистого творческого восторга. Экстаз становится, таким образом, формой музыкального воплощения и формой сознания. Это проявляется в каждом из его сочинений последнего периода, в маленьких пьесах для рояля так же, как в оркестре.
Теперь проблема связи между личностью и коллективом («соборность» в аспекте нового национализма) снова поставлена во главу угла в России. В связи с этим изменится и отношение к Скрябину: его по-новому поймут и переоценят. Круг времени снова замкнется в новом эстетическом опыте.
Что произошло за последние 20 лет в чистой эстетике, в вопросах музыкальной композиции? Говоря формальным языком, мы скажем, что Скрябин окончательно разрушил основу тонального равновесия, держащуюся на так называемом отношении тоникодоминантовой гармонии, которая для него уже оказалась совершенно изжитой. В действительности, не говоря о других, уже Мусоргский осуществил то же самое в своем подлинном (нецензурованном) творчестве.
Как только традиционная основа рационалистического музыкального мышления оказалась вынутой, провалились и устои прежнего формального равновесия и начались поиски равновесия нового. Они были Скрябиным же намечены в центрах полярного тяготения обертоновой и унтертоновой гармонии, то есть высших и низших призвуков, построенных по ступеням натурального звукоряда. Отсюда пошла вся новая так называемая модернистическая музыка. В Европе происходило параллельно почти то же самое, но только при иных эстетических предпосылках.
Скрябин вел интуитивно-творческим путем значительно раньше других поиски синтеза гармонии и тембра. С его смертью путь оборвался и повис над пустотой. После него в Европе возникла так называемая атональная музыка. Атональная гармония не принесла решения проблемы, она привела только к анархии и к тупикам, так как решение вопроса может быть найдено лишь творческим путем, а не построением теоретических систем. Достижения скрябинской гармонии для русской музыки сыграли огромную роль, еще до сих пор не освещенную, в частности в углублении проблемы музыкального востока. В поздних гармониях Скрябина восточный лад отсвечивает уже совершенно чистый, без специфической примеси фольклора и этнографической экзотики[*]. Поиски нового звукового лада смогут привести в будущем к созданию новой звуковой субстанции, уже чистой, в порядке музыкально-созерцательном, а не чувственно-эмоциональном.
Какова роль музыки Стравинского в исторической перспективе?
Для Стравинского музыка — это игра. Он всегда играет или, вернее, он стилизует: людей, вещи, идеи, чувства и самую жизнь; с таким мастерством, как редко кто из музыкантов до него. Так как он отрицает становление — оно у него отсутствует, в связи с этим отсутствует и трагическое постижение мира. Музыка для него не самоизживание. «Не ищите ничего за нотами, вы там ничего не найдете», — скажет вам Стравинский. — «До-диез — есть до-диез и ничего больше». Всякие поиски содержания — только иллюзия. Есть только голый процесс звуковой конструкции.
В исторической перспективе поразительно, в какой мере Стравинский является поправкой на Римского-Корсакова. Оба были убежденными профессионалистами. Культ ремесла (профессионального делания) у Стравинского доведен до полного его слияния с самой сущностью музыки.
По этому поводу интересно вспомнить рассказ Федора Толстого, друга Глинки. Глинка встретился с Толстым в Милане в 1834 году[*].
«Однажды, — говорил Толстой, — засидевшись поздно вечером на балконе Albergo del Pazzo, <…> мы разговорились о возможности выражения звуками различных душевных настроений. <…> Хорошо бы, — говорил Михаил Иванович, — написать нечто вроде баркаролы на следующую тему: месяц пронизывает лучами небольшую комнату <…>. В глубине на белоснежной постели покоится молодая, красивая итальянка. Шелковистые, густые черные волосы разметались и покрывают плечи и грудь, — но не совсем! (и Глинка подмигнул). Красавице не то чтобы душно, а так себе, очинно приятно — и нега и страсть просвечивают у нее в каждой жилке… А, как ты думаешь? Ведь все это как есть можно выразить в музыке. — Я расхохотался! „Ну, конечно, — ответил я, — и луну и черные волосы — все это можно целиком изобразить звуками!“ — Не говори пустяков, — внушительно возразил М. И., — черные волосы само по себе; но вот то душевное настроение, производимое подобным зрелищем, все это целиком можно выразить музыкою»[*].
Таков путь, пройденный от Глинки к Стравинскому.
Творчество Стравинского в совсем еще близком прошлом имело огромное значение, и его произведения и сейчас еще на первом плане современной музыкальной жизни. Но эстетика и идеология этого искусства, провозглашенные как символ веры, находятся в явном противоречии с русским духом.
Эта теория абсолютной или «чистой» музыки, музыкальной архитектуры не совсем нова. Она уже проповедовалась Гансликом в Германии в [18]70-х, 80-х годах и была поддержана в России Антоном Рубинштейном, который был первым пионером профессионального движения в России и яростным врагом националистов. Эта теория «о музыкальном прекрасном» (как она называлась по Ганслику) была сдана в архив до той поры, пока ее не подновили модернисты. Поскольку Стравинский исповедует эту теорию, он совершенно прав, когда говорит, что не считает себя больше русским музыкантом, а просто музыкантом.
Это не мешает тому, что его темперамент остается русским и выдает его в любой интонации его сочинений. Ряд его произведений глубок и насыщен подлинной человечностью. Есть противоречие между тем, что он проповедует, и тем, что он создает. Стравинский начал свой путь тем, что вернулся к истокам древнерусской музыкальной стихии. Языческое исступление «Весны священной» было формой экстаза и огромным творческим напряжением. Сознание, которое он принес из древнего хаотического мира, долго питало его последующее творчество.
Разнообразие стиля Стравинского достигается множеством методов, которыми он пользуется в связи с многообразием звуковой материи. Он предпочитает пользоваться материей уже существующей, готовой и, следовательно, нейтральной и безличной, чем создавать новую материю. Вот почему большинство его произведений — стилизации. Изжив прошлое и оборвав связь с Россией, Стравинский очутился в самом центре западноевропейского музыкального мышления, критически его развивая. Таким образом, он, один из первых, обнаружил тупики, перед которыми оказался музыкальный модернизм.
Если творчество Скрябина привело к созданию новой концепции музыкальной гармонии, то главный смысл творческой активности Стравинского был в перемещении проблемы из области гармонии в область ритма. Стравинский «взбудоражил» ритм, как Скрябин до него взбудоражил гармонию. Стравинский начал свою деятельность полным высвобождением ритма как стихийной силы, физической, моторно-движущей. В «Весне священной» ритм достигает мощи, до того неведомой. Затем он укротил эту силу, подчинил ее и свел ее к роли конструктивной в структуре звучаний.
В перспективе будущего мы находимся перед третьей музыкальной стихией — перед мелодией. Ее проблема может быть решена только созданием нового синтеза и тесной связи с проблемами гармонии и ритма.
В том же плане находится для Стравинского в данный момент и проблема того, что он называет Chronos’oм, или музыкальным временем. Но Chronos — это еще нечто иное, чем только ритмическая структура звучащего времени. Это музыкальный ритм самого языка, а не последование хорошо проскандированных слоганов. Таким образом, мы оказались снова перед проблемой музыкального языка[*].
Не профессионализм и не теории вызвали к жизни русскую музыку. Ее основа — вера в народ и органическая связь с ним: убеждение, что в музыке обнаруживается пустота, когда в ней отсутствует человек, который заменяется техникой. Техника необходима, но она не должна становиться самоцелью.
Одно из противоречий в музыке в том, что техника должна быть рациональна, в то время как дух музыки иррационален. Одни стремились подчинить техническую рассудочность творческому воображению (это редкие случаи — в России Мусоргский и Скрябин, в Европе — Шопен и Дебюсси), другие хотели сделать рассудочным самый смысл музыки — таково большинство европейских музыкантов XIX столетия и русские, за ними следовавшие: Римский-Корсаков, Стравинский. Для этих последних задача сравнительно легка: она сводится исключительно к ремеслу, они производят хорошие или плохие вещи.
Первых же мучает проблема необходимости пленить и воспроизвести свой внутренний мир. Но в музыкальной иерархии значительнейшее достигает высших ступеней вознесения духа тем, что мы можем назвать почти бесплотностью звуков.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1944.
Феномен и ноумен в музыке (1959)
Поскольку всякое музыкальное произведение воплощено и принимает форму, оно тем самым становится феноменальным, т. е. явленным. Ноуменальное же, неявленное его состояние есть состояние до-сотворенное, состояние пра-бытия; это — стихийное состояние одержимости музыкой, дионисийский дифирамб по определению древних, Ur-Musik, или даже «Ur-grund-musik», как сказал бы Яков Беме[*]. Ноумен, т. е. самоизживание в музыке, свобода симфонизма, приводит к симфонии, т. е. к необходимости формы, к трезвому, холодному, расчетливому ее воплощению и к утверждению канона.
Неизбежность перехода ноуменального в феноменальное и есть трагический парадокс музыкального искусства, на самом высшем его плане. Но удивительно, что после воплощения ноуменального в феноменальное совершается обратное движение от необходимости в свободу; конкретная, воплощенная форма возвращается в свое первоначальное состояние благодаря соучастию слушателей, бессознательно поддающихся чарам данного произведения. Девятая симфония Бетховена может служить примером того, как форма, при условии хорошего исполнения, возвращается к своему первоначальному, ноуменальному состоянию, которым был одержим Бетховен, ее задумывая. Еще одним примером возвращения формы в пра-бытие является Реквием Моцарта, где вспыхивают зарницы ноумена.
Симфонизм — это отказ от музыки, скованной тактовой чертой, ведущий к ритму свободной прозы. Симфония — это именно и есть музыка, скованная тактовой чертой. Здесь и заключается вечный конфликт между музыкой ноуменальной и музыкой профессиональной, т. е. феноменальной; или же между музыкой явленной-сбывшейся и неявленной-несбывшейся, но попытавшейся стать. Музыка ноуменальная неосуществима, конечно, как неосуществимо ноуменальное искусство вообще; но подлинные музыканты живут под знаком музыки неявленной, и некоторые из них обожжены огнем ноумена. Только этим они и отличаются от ремесленников.
Музыканты вынуждены довольствоваться конкретным музыкальным фактом, т. е. музыкой явленной и закрепощенной, но некоторые из них помнили о ноуменальном в музыке. Может быть, эта утрата ноуменального есть не что иное, как следствие первородного греха в музыке; не воспоминание ли о рае искусство, в его неявленном плане? Музыка, замкнутая только в профессиональный план, почти ничего не выражает; музыка, находящаяся под знаком ноумена, ведет к жертвенности и обреченности. Сознательно или бессознательно, подлинные музыканты всегда находились в столкновении между ноуменом и феноменом. Пребывание в духе музыки есть состояние ноуменальное, ничего общего не имеющее с профессиональной музыкой. Примирение с рационалистическими методами воплощения есть необходимость, но нет ни одного подлинного музыканта, у которого не было бы в какие-то моменты прорыва из этой необходимости в высшую свободу.
Шуман и Скрябин, б[ыть] м[ожет], являются наиболее трагическим примером столкновения ноумена с феноменом; в сильной мере ноуменом определилась судьба Мусоргского, почти не осуществившегося в феноменальном плане. Когда музыкант прорывается из необходимости в свободу, в его явленной, феноменальной музыке начинают мерцать отблески потустороннего.
О духе музыки яснее всех говорит Шекспир, заклинавший ее и обращавшийся к ней постоянно:
Духу музыки, ноуменальной музыке сфер, о которой говорит Платон, Шекспир противопоставляет раздор и хаос; Лоренцо в «Венецианском купце» говорит о том, что человек, не носящий в себе музыку, способен на измену, предательство и злодеяние. В каждом творении Шекспира утверждается вера в музыку как в спасительную силу.
Почти полвека тому назад Блок прочел свой знаменитый доклад «Крушение гуманизма в связи с утратой духа музыки»[*]. После Второй мировой войны пророческие слова Блока оправдались. Сартр объявил, что «ад — это другие (L’enfer c’est les autres)». В чем это выражается? Да уже в том, что «он» смотрит на «меня»!
Вторжение поэтического начала в музыку есть коллизия между ноуменальным и феноменальным. Равновесие между поэтическим началом и его профессиональным, т. е. музыкальным, оформлением и есть музыкальное искусство в его конкретном виде. Без ноуменальных ощущений музыка будет не чем иным, как жестким сочетанием звуков по математическому расчету. В лирической же стихии — ноуменальное начало есть начало основное, не поддающееся учету. Магия в музыке — это не искусственно вызванное состояние, не эмоциональное насыщение, но реальность иррационального порядка. Это как бы нарушение закона тяготения или же элевация[*] без помощи двигателя. Иррациональная сущность искусства заключается в том, что красота, как Психея, ускользает, чтобы оставаться вечно недостижимой и целомудренной. Озарение дается в искусстве только отдельными вспышками, пронзительным, мгновенным ощущением. Музыка — это маска целомудрия. За нею скрыто все, что нельзя произвести в силу скромности и приличия: Бог, совесть, любовь, чистота, девственность, вера, счастье, героизм.
Поэзия раскрывает сознание, проясняя его до предела. Слово, воплощенное в поэтическом образе, раскрывается в свете действительности, в сферах познания эмпирической реальности. Музыка уводит от сознания в иррациональное; в ней, как в темной бездне, растворяется конкретное, опытное постижение. От безнадежности и обреченности человек спасается бегством в музыку:
«Останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись.»[*]
Связь между лирической стихией и музыкой таинственна. Которая из них является первоисточником? Рождает ли музыка поэзию, т. е. рождает ли звук слово или же слово дает жизнь интонации чистых звучаний? Слова могут быть первоосновой, и тогда, отделенная от смыслового значения, интонация эмансипируется и становится самостоятельной сущностью, порождая музыкальную материю. Современная поэзия подтверждает это тем, что техника ее отводит значению фонетическому не меньшую роль, чем значению смысловому. Бесспорно, что Логос (Гераклита) является для поэзии тем же, чем Мелос является для музыки.
Двуединое начало (принцип) поэзии и музыки разъединяются в ином плане. С какой точки начинается их разъединение, уводящее к разным полюсам? То, что поэты называют музыкой, совсем не то, что думают о ней музыканты. Так же как для музыкантов музыка, поэзия для поэтов имеет свою сущность. Только дурная поэзия подражает музыке, и только очень беспомощная и вялая музыка ищет сходства с поэзией. Что же такое музыка для поэта? Поэзия для музыканта?
Поэт ищет метафизическую музыку, ноуменальную, как освобождение от законов причинности и необходимости, как высшую свободу своего искусства. Музыкант ищет поэзию как высшую ноуменальную свободу, как преодоление физических (акустических) законов материи. Поэзия творит мелос, творит мелодию, ее иррациональную сущность. И поэт, и музыкант ищут одно и то же, но на разных полюсах своего искусства. Конкретный мир его, т. е. воплощение формы, требует высшей свободы, которая называется «музыкой» в одном случае и «поэзией» в другом. Чем дальше стихи от музыки, тем они лучше, и чем дальше музыка от «поэтичности», тем она выше.
Помимо формальных признаков, на сближении и расхождении, на сходстве и различии основаны природа как музыки, так и поэзии. Преодоление феноменального опыта и стремление к ноуменальному постижению, может быть, и есть путь будущей музыки.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1965. Датировка по LOURIÉ, 1966.[573]
Из дневников 1946–1962
Ночью читал Хлебникова. Нахлынули на меня юношеские воспоминания, и повеяло опять ветром из Азии. Как я любил этот ветер в былые годы! Все европейское во мне — мертвое, упадническое, раздвоение, распад, сомнения, скептицизм и безволие, как у всех. Все азиатское — живое, подлинно-жизненное, веселое и светлое. Какое странное видение: Христос в Азии!
Источник текста КОРАБЕЛЬНИКОВА, 1999: 204.
Другие работы Лурье о музыке, в настоящее издание не вошедшие,
а также переписка, воспоминания и политическая публицистика
Лурье Артур. Простое слово о музыке. — Пб.: Государственное издательство, 1920. — (Музыкальный отдел НКП, Сер. «Народная музыкальная библиотека». Вып. 1).
Лурье Артур. Голос поэта (Пушкин) // Орфей: Книги о музыке. — Пб: Государственная филармония, 1922. — Кн. 1. — С. 35–61.
Лурье Артур. «Шестерка»: «Les Six» // Современный Запад: Журнал литературы, науки и искусства. — Пб.: Всемирная литература, 1922. — Кн. 1. — С. 106–111.
Л[урье] А[ртур]. Концерты в Париже: Отто Клемперер // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 8. — С. 8.
Lourié Arthur. Serge Koussevitzky and His Epoch: A Biographical Chronicle / Tr. from the Russian by S. W. Pring. — New York: A. A. Knopf, 1931.
Лурье Артур. Смерть Дон-Жуана (Из «Вариаций о Моцарте») // Числа: Сборники. — Париж, 1933. — Кн. 9. — С. 172–175.
Lourié Arthur. Musings on Music // The Musical Quarterly. — New York: G. Schirmer, Inc., 1941. — Vol. XXVII. — P. 235–242. (Частично и с добавлением значительного числа новых фрагментов переиздано по-русски под заголовками «Из дневника» и «Чешуя в неводе (Памяти М. А. Кузмина)».)
Lourié Arthur. Notes on the «New Order» // Modern Music: A Quarterly Review Published by the League of Composers. — New York, 1941. — Vol. XIX, Number 1. — P. 3–9.
Лурье Артур. Из дневника // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1942. — № 8. — С. 53–59. (Частично издано по-английски как «Musings on Music».)
Сергей Кусевицкий (при участии Артура Лурье[*]). Музыка и христианство; Об интерпретации; Несколько слов об американских оркестрах // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1943. — № 6. — С. 39–46.
Lourié Arthur. A Tribute to Koussevitzky / Tr. by G. R. // The Musical Quarterly. — New York: G. Schirmer, Inc., 1944. — Vol. XXX, № 3. — P. 270–276. (Русский оригинал статьи издан под заголовком «Сергей Кусевицкий и техника современного оркестра».)
Лурье Артур. Сергей Кусевицкий и техника современного оркестра // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1944. — № 14/15. — С. 67–73.
Lourié Arthur. Review of Gerald Abraham, «Eight Soviet Composers» (London: Oxford University Press, 1943) // The Musical Quarterly. — New York: G. Schirmer, Inc., 1945. — Vol. XXXI, № 1. — P. 127–129.
Лурье Артур. Творимая легенда // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1946. — № 26. — С. 76–79.
Лурье Артур. Чешуя в неводе (Памяти М. А. Кузмина) // Воздушные пути: Альманах. — Нью-Йорк, 1961. — Вып. II. — С. 186–214. (Частично издано по-английски как «Musings on Music».)
Лурье Артур. Вариации о Моцарте // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1962. — Кн. 67. — С. 78–96.
Лурье Артур. Детский рай // Воздушные пути: Альманах. — Нью-Йорк, 1963. — Вып. III. — С. 161–172.
Lourié Arthur. Profanation et sanctification du Temps: Journal musical 1910–1960. Saint-Pétersburg— Paris— New York. — Paris: Desclée de Brouwer, 1966. (Издание содержит французские варианты следующих статей: «О мелодии» (1929; в книге указана неверная дата — 1930), «О гармонии» (1937), «О музыкальной форме» (1933), «Уроки Баха» (1932), «Вариации о Моцарте» (1930), «Игорь Стравинский» (1944), «Народничество в искусстве» (название английской версии — «Приближение к массам», 1944), «Феномен и ноумен в музыке» (1959) — и воспоминаний 1910–1960 гг. «Ферруччо Бузони», «Видение Скрябина», «Смерть художника: Бела Барток», «Виртуоз», «Прокофьев — Рихард Штраус», «Детский рай».)
Лурье Артур. Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина // Воздушные пути: Альманах. — Нью-Йорк, 1967. — Вып. V. — С 139–145.
Лурье Артур. Наш марш // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1969. — Кн. 94. — С. 127–142.
Лурье Артур. Артисты и грех // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1996. — Кн. 201. — С. 287–294.
Мой первый друг, мой друг бесценный: Письма Артура Лурье к Ивану Яковкину (1912–1915) // Л. Белякаева-Казанская. Эхо Серебряного века. Малоизвестные страницы петербургской культуры первой трети XX века. — СПб.: Канон, 1998. — С. 131–162.
[Белякаева-]Казанская Л. В. Артур Лурье и его первая музыкально-критическая статья «Капризы и лики. Бетховен и Вагнер» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год / Отв. ред.: Т. Г. Иванова. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — С. 52–69. (Сама статья на с. 62–69.)
2. Петр Сувчинский
Три статьи из газеты «Евразия» (1928–1929)
Русская тяга к Западу являлась всегда одним из существеннейших инстинктов русского жизнеощущения. По-видимому, «давление» России, ее психологическое и внешне-пластическое воздействие, тяжелое и однообразное, вызывали во все времена у русских людей с повышенной восприимчивостью непреодолимое стремление к новым образам и искание другого жизненного «давления».
Оставляя в стороне общекультурные корни русского западничества, психологически оно имеет свое если не оправдание, то объяснение именно в этом свойстве месторазвития и самой типологии русской жизни. Не только западники типа Чаадаева или Бакунина, но и сам Гоголь томился Россией и создал себе двойную жизнь, одновременно далекую от нее и в то же время глубоко близкую. И еще в последнее время над мало выезжавшим из России Толстым веял «западный ветер», и в наше время Горький в Италии пишет об Артамоновых и Самгине. Нужно думать, однако, что давний спор между западниками и самобытниками если не разрешен в пользу какой-либо из сторон, то, во всяком случае, навсегда оборван революцией, и само соотношение этих понятий должно существенно перестроиться. В русском сознании Европа всегда считалась страной разрешенных проблем. В то время как Россия судорожно билась на месте, казалось, что Запад, легко и просто следуя за жизнью, без затруднения переходил от одной удачи к другой и безболезненно распутывал узлы жизни. Дело исторической синхрологии установить, насколько подобная расценка Европы в отношении России соответствовала в разное время действительному положению вещей. Важно было то, что подобный миф существовал, и им жили как Россия, так и сам Запад. Но еще важнее, что вера в этот миф теперь надломилась на глазах у всех, причем русская революция для этого надлома сделала больше, чем мировая война, с безысходностью всех ее последствий. Под нависшей сложностью социальных проблем и политических затруднений европейский потолок за последние десятилетия безмерно снизился. Но более всего начинает давать о себе знать [неблагополучие в самом основании западной культуры. Самый строй и обиход жизни классической Европы, слагающий ее традиции и силы, всегда ощущавшиеся закономерными и абсолютными, начинают раздражать и изнашивать значительно большее количество людей в самой Европе, чем это кажется с виду.
Принцип личных свобод и индивидуального самоопределения, выдвинутый всеми европейскими революциями, с течением времени обратился в жесткий социальный индифферентизм, при котором судьба и социальное положение каждого человека не гарантируются ничем, кроме его самого. И даже право на гражданство должно, в сущности, каждым завоевываться, и при этом в условиях всеобщей и беспощадной конкуренции, что должно утомлять и ожесточать не одних отсталых и выбитых из строя неудачников. Естественно, что среди непрекращающейся жизненной тревоги и бесплодной социальной динамики в широких массах начинает возникать жажда социальной стабильности и искания иной жизненной системы, при которой личная судьба человека гарантировалась бы какой-либо обязательной и объективной инстанцией. Именно в этом нужно искать корни европейского коммунизма и все растущее сочувствие «русскому» принципу несвободного равенства, выдвигаемого самой жизнью взамен распадающегося, ему противоположного «западного» принципа свободного неравенства, при котором действительно[е] неравенство прикрывается якобы свободой, а свобода погибает в неравенстве.
В некритическом сочувствии европейского пролетариата и радикальной интеллигенции всему происходящему в России есть много слепой наивности и непонимания. Возникнув в определенной исторической среде и развившись в прошлом по своим социальным закономерностям, русская революция как комплекс предпосылок и заданий для будущего европейскому, даже революционному сознанию в целом недоступна, в частности, непонятна и та переработка, которой подвергается в условиях советской государственной системы и самый руководящий принцип коллективизма, положенный в свое время в основание замысла русской революции. Реальное существование Советского Союза, требующее непрестанной координации принципа с жизнью, в процессе постепенного усложнения первоначальной революционной темы поставило как перед самой Россией, так и перед всем миром проблему нового типа государства, которое можно было бы назвать в противоположность нейтральной, безответственной государственности западных демократий государством страховым[575].
Основа принципа страхового государства, заданного в советской народной автократии, заключается в том, что не только права и обязанности, но и само понятие гражданства, понимаемого во всем объеме этого слова, должны быть первично и изначально гарантированы. Каждая личность в конечном итоге страхуется всем государством, путем установления восходящей и неразрывной пени последовательных «гарантийных инстанций», причем система экономических и социальных гарантий идет параллельно системе политического оформления, что дает возможность отождествить сферу политики со сферой экономики, безнадежно разъединенные на Западе. Таким образом, политика «экономизируется», а экономика «политизируется», в результате чего должна создаться некоторая новая монистическая система широкого человеческого общежития. Что же касается «последнего» обоснования подобной конструкции, то оно должно заключаться в первичном законе социальной этики, согласно которому этическая целеположенность жизни вообще для всех и каждого пропорциональна степени действительного соучастия всех и каждого. Иначе говоря, в нарождающейся социально-политической интуиции новой России понятие социального взаимоучастия имманентно понятиям жизненной цели и ее этического смысла.
Крайне неожиданно, что русская революция, зажженная восьмидесятническим коммунизмом, для которого верховным принципом является лишь гедонистический принцип справедливого распределения благ, в своей глубине неожиданно раскрывает «философию общего дела». Одна возможность подхода к разрешению через революцию основной проблемы современности — проблемы новой государственности — поднимает над Россией потолок на безмерную по сравнению с европейским уровнем высоту и делает территорию русской революции тем местом, где проблемы двадцатого века если не разрешены, то поставлены на разрешение, в то время как Запад в процессе защиты своих буржуазных основ эти проблемы не только не ставит, но и разучился их понимать. Как бы ни относились в Европе к тому, что делается за нынешними стенами России, можно, однако, с твердостью сказать, что без той травмы, которая была нанесена и по сей день наносится русской революцией социальной совести всех современных поколений, — первая четверть двадцатого века обозначилась бы в новой истории как эпоха безнадежной глухоты и морального окоченения.
Когда-то Запад влек к себе беспокойных русских людей, задыхавшихся под низкой крышей России своим океаническим ветром, легким и просторным. Не наступит ли время, когда этот ветер, все более затихающий в Европе, поднимется над континентом Евразии, и не станет ли очень скоро для новых европейских поколений этот континент тем, чем когда-то была «океаническая» Европа для русских «бегунов» и искателей правды — новым океаном, где легко дышится, — новым Западом.
Источник текста — первая публикация в: СУВЧИНСКИЙ, 1928.[576]
Оставляя в стороне идеологическую формулу современной России и подходя формально-аналитически к ее политико-экономической структуре, можно, пожалуй, определить Советский Союз как своеобразную форму политико-экономического этатизма[577]. Советский этатизм является перерождением революционного коммунизма, нашедшего в нем при переходе к организации политической жизни и народного хозяйства наиболее родственные себе формы государственной системы. Этим определяется его связь с революцией. Однако в равной мере политико-экономическая структура СССР может быть поставлена в связь не только с революционными русскими процессами, но и со всем строем современности. Советский этатизм, взятый чисто формально, несомненно является одним из возможных ответов на поставленную всей современностью проблему интеграции экономических сил, обобществления производственной культуры и универсализации социальных форм общежития. Опять-таки оставляя в стороне вопрос оценки, нельзя не усмотреть особого смысла в сочетании таких, может быть противоречивых, явлений, как растущие во всемирном хозяйстве концентрация финансового капитала и трестирование промышленности, связанные со стандартизацией и рационализацией производства, установление Лиги Наций как попытки надгосударственного объединения, все усиливающееся влияние американского капитала, выступающего как почти не имеющий себе конкурента регулятор международно-экономических отношений, не говоря уже о стоящих в другом плане интернациональных рабочих организациях. Все это показатели единого интегрирующего процесса, связанного с общим типом современной культуры. Поскольку эти тенденции далеки от установления всемирного согласия и единой формы организации человечества, постольку можно говорить о том, что система национально-государственного партикуляризма кончается и на замену ей устанавливается иная форма концентрации и равновесия, связанная с широким разграничением и «зонированием» политико-экономических миров — систем.
Русская революция отчетливо определила Россию как самодовлеющий евразийский мир. Самодовление это определяется, прежде всего, установлением новой формы политико-экономической централизации, которая могла создаться вследствие сочетания организационного централизма революции с конкретными географически-экономическими условиями России-Евразии.
Можно и должно признавать универсальное значение и влияние русской революции, и в частности значение ее рабоче-трудовых лозунгов, но независимо от действия и судьбы ее революционной идеи следует уже теперь видеть в чисто государственном оформлении новой России величайшее явление и фактор всей международной жизни.
Русский революционный этатизм не только спас Россию политически, охранив ее государственную цельность и экономически страхуя ее независимость, но и вывел Россию из ее дореволюционного провинциализма, поставив ее на передовую линию современных интегрирующих процессов. Поэтому революционный этатизм при всех его эксцессах правильно определил и стиль русского государственного самоутверждения как pax eurasiana
Таким образом, описывая намечающуюся тему мирового районирования и пытаясь обозначить основные средоточия политико-экономического равновесия, необходимо определить Советскую Россию как одно из основных слагаемых системы, в которую кроме нее входят Европа как некое континентальное объединение, определяющееся преимущественно тенденцией политического единства (Лига Наций), межконтинентальное британское объединение (Англия, доминионы и колонии) и, наконец, САСШ с их неограниченно растущей сферой влияния.
Всякое контрреволюционное разгосударствливание советской политико-экономической организации неминуемо должно деградировать политико-экономическое самодовление России и низвести ее формально и типологически на роль фактора (может быть, и существенного), но только внутриевропейского. Подобная политико-экономическая деградация не может не быть сопутствуема новым эксцессом культурного европоклонства, который на этот раз окончательно выбьет Россию с своего собственного исторического пути.
Также бесплодно и вредно думать, что Россия может встать на путь американского, все-таки индивидуалистического сверхкапитализма. Современный политико-экономический тип Соед[иненных] Штатов не может быть повторен уже потому, что он является органическим результатом взаимодействия условий месторазвития, постепенной иммиграции и смешения рас и национальностей.
Таким образом, Россия может и должна быть в системе мировых сил лишь аналогом Соединенных] Штатов, что может быть достигнуто осознанием и закреплением трех основных моментов русского исторического и современного типа. Эти моменты могут быть сформулированы следующим образом: первичная религиозно-культурная субстанция русско-евразийских народов; революция как совокупность идей и процессов, приведших к созданию современного типа России, и система следствий революции, выражающаяся формально в советском федерализме и экономическом этатизме. Этнографическое и географическое своеобразие России само по себе недостаточно для целостного закрепления будущей международной роли России. Это своеобразие должно быть нераздельно связано и [с]лито со своеобразием социально-экономической структуры, посредством которой Россия будет и в будущем осуществлять свою идеологическую и культурную мировую гегемонию. России органически чужда стихия империализма и колониального владычества. Идея и осуществление трудового антикапиталистического государства, вырастающего из русской революции, сочетаясь с этими основными свойствами русского типа, должны в будущем дать то духовное и материальное богатство и единство, которые на совершенно иных основаниях сделают Россию способной к соревнованию не только с Европой, но и с Америкой.
Источник текста — первая публикация в: СУВЧИНСКИЙ, 1929а.
Положительное отношение к революции, определяющее евразийство, глубоко отлично от всякого оппортунистического примиренчества и приспособления. Со стороны формальной положительное отношение к революции есть правильное историческое познание ее причин и логической необходимости ее развития. Подобное отношение может сочетаться даже с отрицательной оценкой (например, так относился к французской революции Ж. де Местр). Однако евразийство учит не только правильному пониманию исторического процесса. В XIX веке учению о культуре было свойственно перерождаться в только научный и бездейственный историзм, являвшийся, таким образом, одной из форм выпадения из современности и замены исторического и культурного деланья — познаваньем истории культуры. Познавать можно лишь прошлое культуры; современность раскрывается лишь при установке на конкретно-действенное участие в ней.
Можно установить две основные формы культурного сознания и дела: революционность и современность. Первая зарождается и осуществляется под знаком отталкивания от данной действительности и определяет собой кризис культуры. Вторая определяется бессознательным и непосредственным тяготением ко всей совокупности явлений и фактов конкретной жизни, включением в их стиль, исторический смысл и перспективу.
Евразийство, выросшее из революции, не может быть названо учением революционным в том специфическом смысле, который определил собой предшествующие русские поколения. Характерной и неповторимой чертой евразийства является его современность, причем это качество одинаково определяет как евразийство в целом, так и идейно-психологический строй каждого его участника.
Революционер, может быть, и часто бывал несовременным, то отвлеченно перерастая свою эпоху, то трагически отставая от нее. Евразиец же, не идущий вровень с современностью, есть явление не только бессмысленное, но и зловредное, т. к. современность и есть евразийство, всякий уклон от евразийства есть уход от современности, и обратно, всякое выпадание из современности несовместимо с евразийством. Евразийство всегда стояло перед испытанием современностью и, несмотря на научный историзм и статическую систематику россиеведения, всегда находило в себе силы исторические и географические категории связывать и уравновешивать с ощущением полноты современности.
Теперешний кризис, переживаемый евразийством, менее всего определяется тем, что можно было бы назвать идеологическим расхождением. Поэтому вся искусственно поднятая и истерически демонстрируемая на идеологических позициях полемика П. Н. Савицкого и Н. Н. Алексеева, несмотря на всю страстную кропотливость и ужаленность ее авторов, является лишь умышленным прикрытием других и истинных поводов расхождения, для них далеко менее выгодных[*].
Оставляя в стороне лично-демагогическую сторону этого откола, свидетельствующую о том, что для некоторых участников евразийства призвание к идеологически-культурному делу превратилось в раздробливую кружковщину, следует установить истинный смысл переживаемого евразийством самоопределения. Оно заключается в том, что евразийство объединило собою типологически различную среду, которая лишь до определенного срока мирилась со своей разнотипностью. Разность типологий и проявилась в отношении к современности, и прежде всего к революции как ее выражению. Все обвинения отколовшихся лиц, заключающиеся в том, что газета «Евразия» якобы «капитулировала» перед революцией, — обнаруживают, прежде всего, психологическую беспомощность и отсталость обвинителей; «запретность» для них революции и страх перед ней свидетельствуют, что самый факт революции ими внутренно не преодолен.
Для тех же, кто сумел сочетать евразийство с чувством современности, снимается сама категория революции в ее отрицательном аспекте, и вся проблематика революции, в том числе русский марксизм, столь одиозный П. Н. Савицкому, воспринимается в иной перспективе, становясь лишь поводом и исходным положением для конструкции сознания новой России. Спорить об этом, как показал опыт последних лет евразийства, бессмысленно и бесплодно, подобно тому как невозможно убедить большинство эмиграции, что революция не есть бессмысленный бунт…
Отыгрываться историческим, археологическим и географическим россиеведением нельзя, потому что ключ к пониманию России не в этом, а в непосредственном и безусловном утверждении ее исторической современности, определяющей ее дальнейший путь и судьбу. Русская революция понятна и не страшна только для сознанья, открытого русской современности, и лишь с высоты этой современности можно со всей свободой и оптимизмом охватить горизонты русского Общего Дела.
Источник текста — первая публикация в: СУВЧИНСКИЙ, 1929б.[579]
О музыке Игоря Маркевича (1932)
Для характеристики нового музыканта необходимо вначале выделить в его музыке те элементы, которые возникли из музыкальной культуры предшествующей эпохи, и те, которые не могут быть туда отнесены. Иногда эти элементы, на первый взгляд несоотносимые, находят свое объяснение в определенной традиции, прерванной в далеком прошлом. Но есть и другие элементы, рожденные из духа, слуховым воображением, возникшие, как кажется, «ех nihilo» (из ничего) и открывающие новые музыкальные пути.
Такой аналитический метод становится особенно плодотворным в изучении эпох в период роста, когда новаторские сочинения следуют друг за другом или даже сосуществуют. Определенность и неопределенность, связанность и разделенность проявляются тогда с наибольшей ясностью: ибо рост в искусстве всегда совпадает с кризисом, вызванным истощением старых ресурсов, и кризис делает эту диалектику непрерывного и дискретного своей главной темой.
В течение последних пятидесяти лет музыка знала множество таких взлетов, а точнее, она беспрерывно находилась в одном из таких кризисов, наиболее затянувшемся и наиболее плодотворном. Можно с уверенностью утверждать, что начиная с Баха не существовало подобной реформаторской эпохи, которая так бы изменяла музыкальные взгляды.
Всегда трудно найти начало какого-то течения или периода в развитии искусства, но можно, однако, определить те элементы, которые способствуют формированию наиболее важного течения современной музыки. Оно проходит через три точки: Мусоргский, Дебюсси и Стравинский. Нарушенное Вагнером и его выродившейся традицией (странная судьба этой традиции, не возродится ли она спустя какое-то время, вся или, по крайней мере, частично?), эти три вышеназванных композитора повели музыкальное развитие в неожиданном направлении, где музыкальное ухо улавливает тонкую дифференциацию, изысканную и новую, и чрезвычайно рафинированный уровень композиции. В то же время со Стравинского наблюдается возрождение наиболее точного понимания формы и главных музыкальных элементов.
Эти три творца абсолютно разнятся по «музыкальному типу», особенно если мы сравним сегодняшнего Стравинского с Дебюсси или «Эдипа» с «Женитьбой» Мусоргского; но через диалектические отношения эти три имени так связаны, как никакие другие.
Понимание формул и систем никогда не занимало Мусоргского, и это позволило в наибольшей степени развиться тому психологическому состоянию, которое предшествует у него созданию музыки. Впрочем, он не догадывался тогда, что выступает как пионер музыкального натурализма, и его слуховое воображение дало ему возможность сделать наиболее великие открытия. Его музыка обнаруживает изумляющую новизну даже в природе самой гармонии.
В отношении Мусоргского существует устойчивая легенда о взаимосвязи текста и музыки в его композициях (не нужно смешивать с силой драматического выражения), хотя целые и лучшие страницы его музыки не имеют ничего общего ни с метрикой, ни с текстом, на который они написаны. Длинные пассажи из «Бориса Годунова», «Хованщины» и других сочинений развертываются параллельно тексту и даже независимо от него, имея свою музыкальную логику и свое собственное движение.
Перед сочинением музыки на текст Мусоргский находится в таком психологическом состоянии, которое позволяет ему вначале воспринимать неясную интонацию, музыку, отображающую этот особенный сюжет[*].
Так же и у Дебюсси: только тогда, когда уже созрело психологическое состояние, предшествующее творчеству, вмешивается слух, музыкальное вдохновение. Хотя, может быть, было бы ошибочным и бесплодным искать аналогии между различными ветвями искусства, неоспоримо, что в определенные эпохи особая тема проявляется в самых различных художественных формах и даже на сцене. Мы можем также с долей осторожности сопоставить музыкальную выразительность Дебюсси, психологические основы Бергсона и стиль Пруста. Музыкальная форма у Дебюсси является поглотителем (абсорбентом), растворителем в общем течении: то же относится и к музыкальному времени, к музыкальному развертыванию.
Дебюсси вначале воспринимает музыкальное время как пустую форму; затем рождается музыка необычной красоты, свежести и точности. Это было первое превращение музыкального момента в музыкальное целое, в длящееся звучание. Музыка этого звучания, таким образом, представляет собой последовательность музыкальных состояний, каждое из которых обладает психологической тональностью и колоритом, которые вполне подлинны и имеют ту же длительность, что и само время.
В отличие от Мусоргского и Дебюсси, процесс творчества у Стравинского не автономен. У него во главе угла не психологические элементы, а формулы.
Произведения Стравинского — это результат веры; трудно найти во всей истории музыки подобный пример полемической энергии. Подтверждение общих принципов было для Стравинского необходимым моментом, который всегда предшествовал каждой из его музыкальных эволюций.
Оригинальные свойства его слухового воображения сродни Римскому-Корсакову. Они обогатились под влиянием гармонии Дебюсси. Успешное решение проблем метрики и ритмики, которые встали перед Стравинским в «Петрушке», вывело его из колористов в ритмисты. В то же время в результате его открытий в области инструментовки, где «Свадебка» является их наивысшим выражением, усиливается его чуткость к тембровой стороне. Его чувство полифонии нашло свое развитие в самое последнее время, что напрямую связано с обращением Стравинского к крупной форме и классическим средствам объективной выразительности.
Это приспособление звучащей материи к музыкальным концепциям составляет наиболее важную и интересную особенность музыкального гения Стравинского. Вот почему его музыкальная форма обусловлена звучащей материей (тогда как у многих музыкантов происходит наоборот), развертывающейся с такой широтой под напором его неопровержимой энергии стилиста.
Уровень современной музыкальной культуры очень высок. Имена Стравинского, Шёнберга, Хиндемита и сегодняшнее развитие традиции Шабрие — Сати — Дебюсси, которая в новых аспектах проявляется у нынешнего поколения, все это свидетельствует о редкой сложности и исключительной интенсивности переживаемого нами музыкального периода.
Технические основы современной музыки так разнообразны, так обширны и в то же время так зафиксированы, что все изменения в данной области в какой-то момент были невозможны и даже излишни. Трудно представить себе приход какого-нибудь реформатора, нового Стравинского. Сейчас существует термин «модернистская музыка», но он не несет в себе ясного смысла и его авторы не вносят ничего нового в развитие моделей культуры и музыкальных произведений, которые стараются воспроизвести. Высокий культурный уровень современной музыки не требует принципиальных инноваций. Только та музыка, которая будет основана на новом слуховом воображении, может выглядеть и считаться новой. Имя Игоря Маркевича, рассматриваемое с этих позиций, представляет особый интерес и даже становится символичным. В отличие от того, что мы только что говорили о Мусоргском, Дебюсси и Стравинском, процесс творчества у Маркевича прямо зависит от чистого слухового вдохновения, от «слышимой материи», без предварительного вмешательства психологических элементов или формул.
После его дебюта в 1929 году с Концертом для фортепиано и оркестра, исполненным в Лондоне между двумя балетами, Дягилев не без задней мысли сказал: «С Маркевичем в музыку вошло следующее поколение». Страстное внимание, не всегда благожелательное, с каким его принимал музыкальный мир, связано отчасти с этой чрезмерной легкостью его появления.
Учась у Нади Буланже, в 18 лет он среди всех отдавал предпочтение Стравинскому и Хиндемиту и, что самое важное, уже сложившимся музыкальным концепциям. Имея такой багаж, он попал в гущу музыкальных течений, как ребенок, «родившийся в полдень в воскресенье». Вначале полифоническая музыка, фуги и привлекающие его заманчивые формы. В этих первых сочинениях проявляется уже его индивидуальность, и здесь видно его чрезвычайно богатое воображение.
Так же как в жизни встречаются различные физические изменения (близорукость, дальнозоркость), очевидно, что аналогичные изменения встречаются в области слуха и могут сильно повлиять на музыкальное восприятие — подобное воздействие оказал астигматизм на живопись Сезанна. Позволив себе расширительное понимание слова «астигматический», мы можем, по аналогии, именовать «астигматическим» и слух Маркевича.
Деформация органов чувств позволяет иногда объяснить возникновение новых элементов в искусстве. В обычных и хорошо знакомых для нас объектах эти аномалии проявляют неожиданные стороны, дают новое представление о действительности, увеличивают эмоциональную силу этих объектов, творя таким образом новый эмоциональный заряд и качественно новое чувство. Разница между «обычным слухом» и «астигматическим слухом» может быть выражена в следующей формуле: обычный музыкальный слух чувствителен к диссонансам, «астигматический слух» создает новые соединения на основе консонансов. Такая организация музыкальной материи (с точки зрения гармонии, полифонии, ритма, регистров и тембра) делает уже знакомые и общепринятые звуковые сочетания совершенно новыми.
Таким музыкальным восприятием, основанным на консонансах, объясняется, вероятно, тенденция Маркевича к сочинению медленных звуковых полотен. Линии разворачиваются здесь в замедленных и протяжных вокализах, в воздушной полифонии, несут в себе чрезвычайное напряжение. В Concerto grosso, в Партите и в балете «Ребус», появившихся после Кантаты, в 1930 и в 1931 годах[*], все эти элементы музыки Маркевича еще более усилились. В этой музыке думаешь не о развитии темы, но об обычном течении мелодии. И более того, оркестровка там — естественное выражение темы, а не предлог для инструментовочных и тембровых находок. Все это придает музыкальной материи замечательную цельность, а ее характер сочетает в себе одновременно монументальность и детальность. Эта двойственность выражается в том, что у Маркевича узнается и классический интеллектуализм, и, с другой стороны, чуткость к гармонии и тембрам, что позволяет ему быть одновременно объективным и субъективным, что придает его музыке особую энергетику и выразительность. Его фуги и фугато поражают степенью такого высокого напряжения, которое позволяет верить, что высшие крупные формы полифонической выразительности будут ему вскоре доступны.
Слушая его музыку, поражаешься подталкиванию звучности к высочайшим регистрам. Это подталкивание — следствие множественности и широты его полифонических линий, что и возносит наиболее высокие из них невероятно высоко.
Невозможно предугадать, в каком направлении пойдет развитие артиста. Хотя сейчас определена только точка отсчета, мы можем, во всяком случае, определить художественную ценность его личности. И что касается Маркевича, очевидно одно: с ним в современную музыку вошло новое музыкальное видение, и все свидетельствует о том, что вскоре утвердится очень значительный музыкант большого стиля.
Источник публикации — СУВЧИНСКИЙ, 2001.[582]
Текст Кантаты к XX-летию Октября
1. Вступление (оркестр).
Эпиграф, не исполняемый вслух:
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».
К. Маркс, Ф. ЭнгельсМанифест Коммунистической партии
2. Философы (хор, оркестр). К. Маркс. 11-й тезис о Фейербахе.
ХОР: Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить.
3. Интерлюдия (оркестр).
4. Мы идем тесной кучкой (хор). В. Ленин. «Что делать?»
ХОР: Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решенью именно для того, чтобы бороться с врагами, но не оступиться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала обвиняют нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения.
5. Интерлюдия (оркестр).
6. Революция (чтец, хор, оркестр). В. Ленин (Статьи октября 1917).
ХОР: Кризис назрел. Нельзя ждать, можно потерять все. Взять власть сразу в Москве и Питере, неважно, кто начнет. Мы победим безусловно и несомненно. Вся честь партии большевиков стоит под вопросом. Изо всех сил убеждаю, товарищи, что теперь все висит на волоске. Момент такой, что промедление в восстании поистине смерти подобно.
Но против нас все. Мы недостаточно сильны, чтобы взять власть.
Но не взять власти теперь — значит погубить революцию.
Хлеба в Питере на два, три дня. Можем ли дать хлеб повстанцам?
Мы отнимем хлеб и все сапоги у капиталистов, мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.
У нас нет большинства в народе. Без этого условия восстание безнадежно.
Переменилось взаимоотношение классов. В этом суть! Не те классы стоят по одну и по другую стороны баррикады. Это главное.
Победа восстания обеспечена!
Мы должны, не теряя ни минуты, организовать штаб повстанческих отрядов. Распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты столицы. Мы должны мобилизовать вооруженных рабочих. Призвать их к отчаянному, последнему бою. Отрезать Александринку, взять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство. Послать к юнкерам и к дикой дивизии такие отряды, которые способны погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центрам города. Занять телеграф и телефон! Поместить там штаб восстания у центральной телефонной станции, связать с ним по телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной борьбы.
Мы отнимем хлеб и все сапоги у капиталистов, мы оставим им корки, мы оденем их в лапти.
ЧТЕЦ: Успех революции зависит от двух, трех дней. Погибнуть всем, но не пропустить неприятеля.
ХОР: Флот — Кронштадт, Выборг, Ревель — могут и должны идти на помощь. Погибнуть всем, но не пропустить неприятеля!
7. Победа (хор, оркестр). В. Ленин (1920).
ХОР: Товарищи, мы подходим к весне, пережив небывало трудную зиму холода, голода, сыпняка и разрухи. Сегодня мы можем праздновать нашу победу. При неслыханных трудностях жизни, при неслыханных усилиях наших врагов мы все же победили.
Лед сломан во всех концах мира. Тяжеловесная махина сдвинута с места, и в этом вся суть и есть.
Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата.
8. Клятва (хор, оркестр). И. Сталин. Речь на Съезде Советов, посвященном памяти В. И. Ленина (1924).
ХОР:
9. Симфония (оркестр).
10. Конституция (хор, оркестр). И. Сталин. Обращение к VIII Чрезвычайному съезду Советов (1936).
ХОР:
Об истории создания «Кантаты» известно немного. Судя по дополненному, очевидно со слов самого Сувчинского, русскому переводу (МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 1973–1982, V: 345) французской энциклопедической статьи о нем самом, написанной не кем иным, как ее героем (ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE, 1958–1961, III: 721), именно Сувчинский составил выборку отрывков из классиков марксизма-ленинизма для первой версии сочинения, тогда еще именовавшегося «Кантатой о Ленине» (во французском оригинале эти сведения отсутствуют). Разумеется, речи идеологов революционного марксизма для него служили «лишь поводом и исходным положением для конструкции сознания новой России» («О современном евразийстве», 1929). Обращает на себя внимание и то, что Сувчинский выбирал отрывки, отличающиеся ритмическим, синтаксическим и смысловым параллелизмом. Уже в словах этой первой «советской» кантаты Прокофьева Сувчинским (и Прокофьевым) намечены, с одной стороны, привычная евразийская тема об идущем на смену старой Европе Новом Западе — в лице пореволюционной России, с другой — идентификация революции с природным циклом, неостановимо ломающим «лед во всех концах мира» (часть 7-я, «Победа»), и, таким образом, дана чисто мифологическая интерпретация истории. Стоит также обратить внимание на чрезвычайную, даже по сравнению с отрывками из Ленина, ритмизацию фрагментов, извлеченных Сувчинским и Прокофьевым из речей Сталина (в юности — романтического грузинского поэта), подчеркиваемую в настоящей публикации разбивкой их на строки, а в первом из сталинских фрагментов — даже разбивкой на ритмические строфы и антистрофы, несомненно, присутствовавшие в сознании произносившего речь коммунистического «вождя».
В интервью «Вечерней Москве», опубликованном 28 января 1936 г., Прокофьев сообщает, что накануне нового отъезда за рубеж (дети его, напомним, продолжали оставаться во Франции) «задумал к 20-летию Октябрьской революции большую кантату на тексты из сочинений Ленина. Насколько мне известно, впервые слова Ленина будут лежать в основе музыкального произведения крупной формы» (ПРОКОФЬЕВ, 1991: 132). Очевидно, во время этой поездки он и получил от Сувчинского составленный им текст. В апреле Прокофьев «большую кантату» уже писал (Там же: 139). 22 июня 1936 г. он сообщал в новом интервью «Вечерней Москве», что сочиняется кантата «по заданию Радиокомитета» (Там же: 142). Однако следующее интервью газете, увидевшее свет 8 марта 1937 г., вносило в сообщенную прежде информацию коррективы: Прокофьев закончил лишь «план ленинской кантаты» (Там же. 151), что свидетельствовало о переменах в композиции произведения. Март-май 1937 г. ушли на досочинение новых кусков (одновременно Дукельский досочинял новый финал к оратории «Конец Санкт-Петербурга»), Наконец, 10 июня 1937 г. Прокофьев пишет из Москвы в Нью-Йорк Дукельскому: «…я только что закончил эскизы кантаты к двадцатилетию СССР — грузная машина для оркестра, двух хоров, военного оркестра, группы ударных и группы гармошек. Когда я думаю о количестве нот, которыми придется заляпать бумагу, оркеструя все это, я прихожу в ужас!» (VDC, Box 138; черновик письма в РГАЛИ (Ф. 1929. Ед. хр. 189); в оригинале — по-французски, русский перевод принадлежит Дукельскому). В опубликованной 21 декабря 1937 г. в «Правде» статье «Расцвет искусства» Прокофьев защищает эстетику все еще не исполненного произведения: «Я писал кантату с большим увлечением. Сложные события, о которых повествуется в ней, потребовали и сложности музыкального языка. Но я надеюсь, что порывистость и искренность этой музыки донесут ее до нашего слушателя» (ПРОКОФЬЕВ, 1991: 157). А 2 марта 1938 г. композитор с неудовольствием констатирует в адресованном Мясковскому письме из Голливуда в Москву, что московский дирижер «Гаук не учит кантаты» (ПРОКОФЬЕВ — МЯСКОВСКИЙ, 1977: 457), на что Мясковский отвечает 18 марта 1938 г. с привычным для него спокойствием: да, в Москве «кантату едва ли учат» (Там же: 459).
Остающаяся неопубликованной партитура Кантаты хранится в РГАЛИ (Ф. 1929). Кантата была впервые сыграна в Москве — с цензурными сокращениями — спустя целых тридцать лет после написания, 5 апреля 1966 г. в Большом зале Московской консерватории. Известны три аудиозаписи произведения: одна — сокращенная (с купюрами частей, написанных на слова Сталина) запись премьеры в исполнении Оркестра Московской филармонии под управлением Кирилла Кондрашина и Республиканской русской хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова (выпущена «Мелодией» в 1970 г.), две другие — в исполнении Филармонического оркестра под управлением Неэме Ярви и хора под управлением Саймона Хэлси с Геннадием Рождественским в роли чтеца (издана в 1992 г. английской фирмой Chandos: порядковый номер в каталоге Chan 9095) и в исполнении Нового филармонического оркестра (уменьшенного по сравнению с партитурой Прокофьева состава) и Санкт-Петербургского филармонического хора под управлением Александра Титова с Алексеем Емельяновым в роли чтеца (выпущена в 1998 г. фирмой Mazur Media: порядковый номер в каталоге записей BEAUX 38).
Из заготовок к «Музыкальной поэтике» Стравинского (1939)
Les 6. Leçons[*] V-я лекция[i]
Теперь я перехожу к последнему разделу моей лекции — к вопросу о современной русской — советской — музыке. Оговариваюсь сразу, что я ее знаю издалека. Но, вспоминая Гоголя, который говорил, что «издалека» своей «второй родины» — Италии ему легче «в полный обхват обнять Россию»[ii], — я думаю, что имею также некоторое право судить о ней из Европы и США; тем более что в настоящее время Россия находится в плену таких скрыто и явно противоречивых процессов, что судить о них вблизи и изнутри, по-видимому, почти что невозможно. Я буду говорить о музыке, но, для того чтобы обозначить, ситуировать эту частную проблему, мне придется, в самых общих чертах, высказаться о русской революции вообще.
Что прежде всего поражает в проблеме русской коммунистической революции — это то, что она разразилась в эпоху, когда идеологически принципиально Россия была накануне почти что окончательного преодоления революционных идей и материалистического психоза, господствовавших приблизительно с середины XIX века вплоть до первой революции 1905 г<ода>. Нигилизм, революционное народовольство[iii]. вульгарный материализм и мрачное террористическое подполье почти совсем исчезли из русской действительности, обогатившейся к этому времени новой религиозно-философской и исторической проблематикой (К. Леонтьев, Вл. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев, В. Несмелов, Н. Федоров[iv]); литературным символизмом (А. Блок, Зин. Гиппиус[v], Белый); художественным движением «Мир искусства» С. Дягилева и тем, что называлось тогда «легальным марксизмом», вытеснившим революционный марксизм Ленина и его эмигрантской группы. Многое в этом «русском Ренессансе» казалось тогда и кажется в особенности теперь неорганичным и беспомощным. Но, по сравнению с жуткой эпохой [18]60–80-х г<одов>, эпохой Чернышевского, Добролюбова и Писарева, когда из среды деклассированной интеллигенции, сноровившихся семинаристов и недоучившихся студентов поднялась злая волна ожесточенной профанации всех основ и понятий русской культуры и государственности, это предреволюционное двадцатилетие было, несомненно, коротким периодом русского просветления и оздоровления. Но этот культурный ренессанс не нашел себе адекватного выражения ни в области государственных реформ, ни в сфере социально-экономического строительства, и к началу мировой войны, т<о> е<сть> к 1914 году, русская действительность все еще парадоксально сочетала в себе диспаратные <от disparate — разнородные; фр.> элементы неизжитого феодального строя, европейского капитализма и примитивного крестьянского коммунизма (община). Естественно, что при первом же серьезном испытании, каковым явилась война 1914–1918 г<одов>, эта система, если тогдашний жизненный модус России может быть назван системой, не выдержала внутреннего и внешнего давления, и поднявшаяся революция, сочетавшая воедино марксистский радикализм русских эмигрантов с аграрным погромом и черным переделом всех частновладельческих земель, смела и смяла на своем пути все культурные надстройки довоенного времени и отбросила Россию в идейном смысле далеко назад, в мрачное подполье «Бесов» Достоевского, назад к воинствующему атеизму и примитивнейшему материализму[vi].
Можно сказать, что в эту пору в России произошла трагическая коллизия «двух беспорядков».
Революционному беспорядку — русское правительство смогло, беспомощно и малодушно, противопоставить лишь беспорядок реакционный. Ни власть, ни общественное сознание оказались не в силах не только осуществить, но даже сформулировать живой и творческой системы охранения, могущей сдержать и обезвредить натиск революционной интеллигенции, значительно ослабевшей и терявшей к 1910-м годам под собой почву для пропаганды и разложения. Этот паралич русской государственной идеи, имевшей вековую историческую традицию и, в сущности, восходившей к идее «Третьего Рима», — поистине необъясним. («Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три». В. Розанов[vii].)
Пора оставить банальную и так часто опровергавшуюся фактами точку зрения, согласно которой в структуре русского типа господствует начало стихийной иррациональности, предопределяющее собой якобы исключительную религиозную одаренность русского сознания. Отнюдь не отрицая этой стороны русского типа, следует, однако, не забывать и другой его стороны — а именно своеобразного, цепкого и часто элементарного рационализма, переходящего нередко в специфически русскую беспредметную критическую рефлексию и пустое резонерство.
В сфере религиозной это качество определило собой как типично русский воинствующий атеизм, так и все русское рационалистическое сектантство. В области же искусства — этот рационализм и беспредметный критицизм отравил и продолжает отравлять собой специфически русскую проблематику о «смысле искусства», о том, «что такое искусство» и каково его предназначение.
Сейчас же после смерти Пушкина эта тема вкралась, через Гоголя, в русское сознание и принесла русскому искусству много зла. Для одних смысл искусства заключался в бытовом обличительстве (начиная от Гоголя и кончая «передвижниками»[viii]) — для других этот смысл вовсе отрицался (знаменитое рассуждение шестидесятников о том: «что важнее — Шекспир или пара сапог?»); у Толстого эта проблематика уперлась в тупик морального императива и полного непонимания творческих истоков искусства; наконец, марксистская теория о том, что искусство есть «надстройка над базой производственных отношений» и экономики, практически свелась к тому, что все искусство в России стало орудием политической пропаганды коммунистической партии и правительства. Эта подрывная работа русского критического сознания не пощадила и музыку. За исключением Чайковского, все русские музыканты послеглинковского периода, вплоть до первого десятилетия XX века, в той или иной мере, задеты — одни — идеями народничества, другие — идеей революционного служения, третьи — элементом фольклора и навязывали музыке несвойственные ей задачи и цели. (В качестве курьеза могу вам процитировать мало кому известный факт, а именно, что А. Скрябин собирался снабдить партитуру своей мистико-эротической «Поэмы экстаза» эпиграфом: «Вставай, поднимайся, рабочий народ…») Эмансипация русской музыки, начавшаяся незадолго перед войной и связанная прежде всего с попыткой освободиться от опеки русской школы, «кучкистов» и в особенности школы Римского-Корсакова, ставшей к этому времени мертвым академизмом, была смята войной и последующими событиями, так что к моменту Октябрьской революции русская музыка внутри России оказалась на распутье и большевикам ничего не стоило повернуть ее развитие в нужную им сторону. Русское дооктябрьское искусство, в сущности, стояло вдалеке от вопросов революционного марксизма. «Символизм» (в лице Блока, Белого и Брюсова) и все течение, так или иначе группировавшееся вокруг него, принял революцию, но не стал ее выразителем. Горький, будучи лично связан со многими вождями коммунизма, после первых лет революции уехал надолго в Сорренто, с тем чтобы окончательно вернуться в Россию лишь за несколько лет до своей смерти, последовавшей летом 1936 года. Это долгое отсутствие Горького дало даже повод Маяковскому в 1925–1926 годах обратиться к Горькому с аррогантным <от arrogant — высокомерным; фр.> «Письмом» в стихах, в котором он упрекал Горького: «Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно вас на стройке наших дней. Думаете — с Капри, с горки вам видней?» Навстречу коммунистической революции, как это ни странно, пошел лишь футуризм, в лице талантливого поэта Маяковского, начавшего свою карьеру в «Сатириконе»[ix]. (В театре первое время — господствовал Мейерхольд.) В области музыки аналогичных им лидеров не нашлось и не оказалось. Поэтому на первых порах музыкальная политика сводилась лишь к запрещению или разрешению тех или иных произведений «буржуазных», как тогда называли, композиторов; схема была приблизительно таковой: то запрещался «Китеж» Римского-Корсакова, как опера «мистическая», и разрешался «Евгений Онегин» Чайковского, который признавался оперой «бытовой». То, наоборот, разрешался «Китеж», как народная драма, и запрещался «Евгений Онегин», как опера дворянско-помещичья!.. Стоит отметить как некий курьез, существовавший, однако, несколько сезонов, организацию «Персимфанса»[x] — т<о> е<сть> «Первого симфонического ансамбля» без дирижера, как наивную дань коллективистическому принципу, в противовес якобы авторитарному и диктаторскому началу «дирижера». С тех пор, как вы сами понимаете, многое в русской жизни изменилось…
В первый период большевистской революции, когда советской власти было не до искусства, господствовали самые разнообразные и противоречивые «теории»; господствовала, в сущности, «революционная отсебятина». Так, например, утверждалось, что «советская опера вообще не нужна», причем авторы подобного утверждения ссылались на якобы «церковное и феодальное происхождение оперной формы» (sic!), «на ее условность, противоречащую принципам художественного реализма, на замедленный темп развития в опере, что никак не вязалось с темпами новой социалистической действительности». Другие стояли за то, что в советской опере главным действующим лицом и героем должна быть «масса», что революционная опера должна быть «бессюжетна» и т. п. Все эти «теории» имели некоторый успех, и такие «бессюжетные» и «массовые» оперы, как «Лед и сталь» Дешевова и «Фронт и тыл» Гладковского, — тому свидетельства. Но наряду с этой доморощенной отсебятиной провозглашался, например, и революционно-романтический культ Бетховена. Финал 9-й симфонии Бетховена часто исполнялся рядом с «Интернационалом», сочиненным, как известно, французом Дегейтером. Ленин почему-то называл бетховенскую сонату «Appassionata» — «нечеловеческой музыкой»… Бетховен утверждался в стиле и жанре характеристик Р. Роллана, который, как известно, слышал в «Героической симфонии» «сабельные удары», «воинственный клич и стоны побежденных…». Вот как «анализирует» один видный музыкальный критик ту же 3-ю симфонию[xi]: «Вполголоса ведут свой сумрачный, полный горя напев скрипки. Высоко вздымается печальный голос гобоя, и опять в суровом молчании (?!) шагают бойцы, провожая в последний путь своего полководца. Но здесь нет места отчаянию. Великий жизнелюбец и оптимист, Бетховен слишком высоко ставил своего „человека“, чтобы утверждать презрительные (?!) слова Христианской Церкви: „земля есть, и в землю отыдеша“. В скерцо и в финале Симфонии он громовым голосом восклицает: „Нет, не земля, но властелин Земли!“, и вновь воскресает в стремительном скерцо, в сокрушительно-буйном движении финала блистательный образ героя…» Комментарии к подобного рода комментариям, мне кажется, излишни!..
Другой критик и музыковед, еще более известный[xii], чем только что цитированный, утверждает в одной из своих статей, что «Бетховен боролся за гражданственность музыки как искусства» и что в его произведениях не было «места для аристократических композиторских ощущений»…
Все это, как видите, ничего не имеет общего ни с Бетховеном, ни с музыкой, ни с подлинной музыкальной критикой. Следовательно, и теперь, как и раньше, во времена Стасова и гениального, но путавшегося во всем Мусоргского, русская «рассуждающая» интеллигенция хочет навязать музыке то значение и ту роль, от которых она и ее подлинный смысл отстоят на самом деле очень далеко[*].
Все эти громкие и пышные слова не помешали, однако, тому, что любимой и наиболее «доходной» оперой осталась все та же опера Чайковского — «Евгений Онегин»; впрочем, в свое время потребовалось для ее реабилитации довольно комическое разъяснение Луначарского о том, что конфликт двух любящих сердец не противоречит коммунистическому строю идей…
Пытаясь дать вам самый беглый обзор современного состояния советской музыки и тех «идей» и тенденций, которые возле нее бродили, бродят и паразитируют, я остановлюсь еще на нескольких фактах.
Два раза Сталин лично, открыто и демонстративно, вмешался в дела советского искусства. В первый раз — по поводу Маяковского. Как известно, после самоубийства Маяковского, последовавшего в 1930 г<оду> (факт, смутивший всех ортодоксальных коммунистов), поднялась настоящая травля его имени, которая началась, в сущности, за несколько лет до его смерти в связи с преследованиями «левых» тенденций в литературе вообще. Для того чтобы вернуть имени Маяковского его престиж и значение — понадобилось личное заявление Сталина, что «Маяковский является лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», эпитет, ставший для Маяковского, конечно, классическим, и который повторяется теперь тысячу раз в советской критике. Если я останавливаюсь в числе других и на этом «литературном» факте — то, во-первых, потому, что кафедра поэтики, которую я в данную минуту занимаю, мне это право дает, а во-вторых, потому, что по сравнению с бурной жизнью советской литературы — советская музыка всегда оставалась в тени и позади.
Впрочем, вторая интервенция Сталина коснулась как раз музыки и была вызвана скандалами возле оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» на сюжет Лескова и его балета на колхозные темы «Светлый ручей». Музыка Шостаковича и сюжеты его композиций были (на этот раз, может быть, не без основания) жестко и жестоко раскритикованы. Они были объявлены «фальшью», «формалистическим и антисоветским трюкачеством», «упадочным формализмом», и его музыка, наряду с музыкой Хиндемита, Шёнберга, А. Берга и других европейских музыкантов, была просто запрещена к исполнению. Дело в том, что после периодов революционного романтизма, конструктивизма и футуризма — после всевозможных дискуссий на тему «Джаз или симфония?» и мании грандиоза — советское художественное сознание, по причинам явно политического и социального характера, резко порвало с формулами «левого» искусства и встало на пути «упрощенства», нового народничества и фольклора. Восхождение композитора И. Дзержинского, поддержанного личным авторитетом Сталина, и его оперы на сюжеты романов Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина» — открыли ту якобы народническую тенденцию, в которой она и пребывает по сей день[598][xiii]. Mot d’ordre <пароль, лозунг; фр.> всего современного советского искусства — это т<ак> н<азываемый> «социалистический реализм».
Новый, массовый зритель якобы требует простой и понятной музыки; кроме того, национальная политика Советского Союза требует всяческого поощрения художественной самодеятельности всех 11 республик, входящих в систему Советского Союза. Эти два факта и определили собой стиль, жанр и тенденцию современной советской музыки. За несколько лет появилось бесконечное количество всевозможных сборников народных песен (украинских, грузинских, армянских, азербайджанских, кабардинских, осетинских, чеченских, балкарских, абхазских, бурят-монгольских, татарских, калмыцких, туркменских, киргизских, еврейских и т. п.). Сама по себе эта этнографическая и кодификационная работа, конечно, необыкновенно важна и интересна, но в современной советской России она сознательно смешивается с творческой музыкальной культурой, которая, естественно, имеет мало общего с этнографическими экспедициями, к тому же еще с политической подоплекой[600][xiv] (!) и с условными и, по большей части, сомнительными гармонизациями народных песен и тем. Интересно, что этот очередной и явно политический интерес[xv] к музыкальному фольклору, как всегда в России, сопровождается сложной и путаной проблематикой о «перерастании музыкальных культур братских республик в музыкальную культуру великой социалистической родины». Вот что пишет один видный советский музыковед и музыкант[xvi]: «Пора забыть феодально и буржуазно-высокомерное деление музыки на народную и художественную, как будто качество художественности присуще только индивидуальному изобретению и творчеству отдельных композиторов». Если развитие интереса к музыкальной этнографии и покупается ценой такой ереси и явно ложных идей, то, пожалуй, лучше, чтобы этот интерес вернулся к своим нормальным «дореволюционным» формам, иначе, кроме путаницы, он ничего другого в русскую музыкальную культуру не внесет. Однако на почве этого «фольклорного» увлечения появился целый ряд больших и малых музыкальных произведений (как то: оперы композитора Глиэра «Шах-Сенем», «Гюльсара», оперы грузинского музыканта Палиашвили «Даиси», «Абесалом и Этери», киргизские оперы Власова и Фере «Айчурек», «Алтын-Кыз», «Аджал Ордуна»[xvii], восстановленная опера Лысенко «Тарас Бульба» и т. п.) — произведения условно оперного типа, которые, конечно, никаких творческих проблем не разрешают и являются типичными[xviii] образцами лубочного, ложно-народного жанра. Сюда же относится и современное увлечение украинскими оперетками[xix], которые раньше назывались оперетками малороссийскими. Если современные советские музыканты, делающие политику, сознательно, а может быть, и по неграмотности, путают вопросы музыкальной этнографии с вопросами музыкальной творческой культуры, то подобное же смешение происходит и в вопросе об исполнительских кадрах и советской музыкальной т<ак> наз<ываемой> «самодеятельности». Конечно, хорошо, что советские пианисты и скрипачи получают призы и премии на международных конкурсах (если вообще подобные конкурсы нужны и если признавать, что эти конкурсы что-либо и когда-либо дали или открыли для музыки!); конечно, хорошо, что в России все танцуют вприсядку и трепака и поют колхозные и «производственные» песни, но можно ли эти вторичные, производные факты и количественные факторы считать симптомами «большой» и творческой музыкальной культуры, истоки и условия которой, как и всякого творчества, вовсе не в массовом потреблении искусства, не в массовой самодеятельности, всегда похожей на дрессировку, а в чем-то совсем другом, о чем в советской России забыли или разучились говорить и думать?..
Мне остается указать вам на две тенденции в жизни советской музыки, которые я считаю показательными и которые за последнее время особенно четко определились. Это, с одной стороны, усиление революционной тематики, требование остросовременных революционных сюжетов и, с другой — своеобразное и, пожалуй, нигде не виданное «приспособление» классических произведений к «нуждам» и требованиям современности. После опер на сюжеты романов Шолохова пошли оперы на сюжеты Горького, Гражданской войны, и дело дошло до того, что в одной новой опере под названием «В бурю» будет выведен сам Ленин (партия написана для баритона?!)[xx][*]. Что же касается до «транскрипций» классических произведений, то могу вам сообщить, что в этом году, во-первых, был возобновлен балет Чайковского «Щелкунчик», сюжет которого был, однако, переработан в смысле уничтожения «прежней мистической окраски», как вредной и чуждой для советского зрителя, и, во-вторых, была возобновлена после долгих колебаний и многочисленных проверок знаменитая опера «Жизнь за царя» Глинки под именем «Иван Сусанин». Слово «Царь» — заменено словами «Родина», «Земля» и «Народ». Апофеоз, как и прежде, был поставлен с «колокольным звоном», с «шествием духовенства в золотых ризах» и т. п. Смысл и цель этой «патриотической» постановки заключалась, конечно, не в музыке Глинки, а в оборонной пропаганде. Новый и вынужденный социал-патриотический пафос советской власти[609][xxi], не имея для своего выражения под рукой ничего современного и нового, заставил себе служить, путем насилия, одно из самых удивительных произведений русской классической музыки, задуманное и сочиненное по совершенно иному поводу и с совершенно иным смыслом.
Если русская музыкальная культура так богата и обильна, то почему же пришлось в нужную минуту совершить этот глинковский заем и подлог?
Проблема современной коммунистической России — вы сами понимаете — это, прежде всего, проблема миросозерцания, а миросозерцание — это система пониманий и оценок; это органический и живой отбор приемлемого и неприемлемого, это синтез опыта и его последствий, т<о> е<сть> выводов, которые определяют вкус и стиль каждой жизни и каждого поступка. Поэтому я не думаю, что миросозерцание может эволюционировать. Каждое миросозерцание — это круг, в котором можно пребывать или из которого можно выйти. Коммунистическое миросозерцание и является одним из таких замкнутых кругов, в котором люди либо целиком пребывают, либо целиком выходят из него. Для находящихся в нем все приобретает готовую и заведомую оценку, на все есть точка зрения, все строится согласно определенной иерархической схеме.
Я бы сказал, что для формулировки существа и задач музыки существует в советской России, так сказать, два стиля — высокий и низкий.
Для низкого стиля — могут служить образцом — весело и разумно танцующие под звуки «самодеятельного» оркестра колхозники, окруженные тракторами и автомашинами; для высокого — дело обстоит сложней. Тут музыка призывается на помощь «становящейся человеческой личности, погружающейся в среду своей великой эпохи»; музыка дает «законченную формулировку психологических переживаний», она «накопляет энергию» (А. Толстой)[xxii].
Тут «симфония социализма, начинающаяся с „ларго“ масс, работающих под землей», акчелерандо — соответствующее метро; «аллегро» — символизирующее «гигантский аппарат фабрики, побеждающей природу»; и «адажио» — представляющее «комплекс советской культуры, науки и искусства»; и скерцо, отражающее «спортивную жизнь» счастливых жителей Советского Союза, — и, наконец, финал, отражающий «благодарность и энтузиазм масс»[xxiii].
То, что я вам сейчас прочитал, не моя стилизованная выдумка — а точная цитата одного видного автора — музыканта из официального коммунистического органа. Она в своем роде законченное и совершенное произведение… безвкусицы, умственного убожества и полной жизненной дезориентированности. Но она — также результат и следствие законченного миросозерцания, из которого, слава богу, люди все-таки выходят и тем спасаются.
Но для меня, вы понимаете, оба стиля, обе формулировки — одинаково кошмарны и неприемлемы. Музыка — и не «танцующий колхоз», и не «симфония социализма» — и что она на самом деле есть — вы уже слышали и знаете от меня из предыдущих лекций.
Возможно, вам покажется, что эти размышления полны суровости и горечи. Они действительно таковы. Но что превосходит все остальное, так это удивление, я бы даже сказал изумление, в которое погружает меня проблема исторических судеб России — проблема, остающаяся вековечной тайной.
Великое противостояние «славянофилов» и «западников», ставшее основной темой русской философии и культуры, не разрешило, скажем так, ничего.
Обе системы показали равную степень несостоятельности в ходе революционного катаклизма.
Несмотря на мессианские пророчества «славянофилов», видевших исторический путь России абсолютно новым и не зависимым от старой Европы, перед которой эти «славянофилы» преклонялись так, как только можно преклоняться перед священным надгробием, коммунистическая революция бросила Россию в объятия марксизму — системе западной и европейской по преимуществу. Но, поразительная вещь, эта гиперинтернациональная система претерпевает стремительную трансформацию в духе наихудшего национализма и народного шовинизма, снова резко отграничивающих ее от европейской культуры.
Это означает, что после двадцати и одного года катастрофической революции Россия не может и не хочет разрешать своей великой исторической проблемы. Да и как она когда-либо осуществит это, если и прежде страна не была в состоянии стабилизировать свою культуру и консолидировать традиции? Она снова оказывается, как всегда оказывалась прежде, на распутье, лицом и одновременно спиной к Европе.
В разных циклах своего исторического развития и метаморфоз Россия бывала и прежде нечестна с самой собой, всегда подрывая основания собственной культуры и оскверняя ценности предшествующих этапов.
И теперь получается, что, когда по необходимости она вновь использует традиции, ей достаточно их схематического подобия: в совершенно безжизненной форме, без понимания внутренней ценности. Вот где завязка великой трагедии.
Обновление плодотворно, только когда следует рука об руку с традицией. Живая диалектика требует, чтобы обновление и традиция развивались и утверждали друг друга в одновременном процессе. Что ж, Россия видела только консерватизм без обновления, либо революцию без традиции, откуда и возникает гигантское колебание над пустотой, всегда вызывавшее у меня головокружение. Не удивляйтесь, что я прерываю лекцию столь общими рассуждениями; но, как бы то ни было, искусство не есть «надстройка над базисом производства», как того желают марксисты. Искусство есть онтологическая реальность, и, пытаясь постичь феномен русской музыки, я просто не могу избежать в моем анализе общих рассуждений.
Без сомнения, русские принадлежат к числу наиболее музыкально одаренных народов. К сожалению, хотя русский и умеет резонировать, созерцание и отвлеченное мышление едва ли относятся к числу его сильных сторон. Что ж, без спекулятивной системы и определенного порядка в созерцании, музыка лишается ценности и даже существования как искусство.
Если исторические колебания России дезориентируют меня, доводя до головокружения, то перспективы русского музыкального искусства приводят меня в не меньшее замешательство. Искусство предполагает наличие культуры, воспитания, интегральной устойчивости интеллекта, но сегодня Россия как никогда лишена этого.
Основной текст впервые увидел свет в: СУВЧИНСКИЙ, 1999: 276–283, в составе более обширной публикации Светланы Савенко «П. П. Сувчинский и „Музыкальная поэтика“ И. Ф. Стравинского» (Там же: 273–283). Настоящий комментарий написан до выхода в свет нового русского издания «Музыкальной поэтики», также подготовленного С. И. Савенко (СТРАВИНСКИЙ, 2004).
Согласно публикатору, «Стравинский вначале предполагал именно Сувчинского в качестве главного соавтора „Поэтики“» (СУВЧИНСКИЙ, 1999: 273), к чему, очевидно, располагал не только теоретизирующий склад ума Сувчинского, но и опыт написания французских воспоминаний Стравинского, соавтором которых был другой русский музыкальный деятель — В. Ф. Нувель. В период работы над французским текстом шести Нортоновских лекций, которые он должен был прочитать в Гарвардском университете в течение 1939/1940 учебного года (в английском того уровня, который требовался для престижного университета, Стравинский был нетверд), Сувчинский, по свидетельству Савенко и Варунца, предоставил композитору — около середины июня 1939 г. — русскую машинопись статьи «Заметки по типологии музыкального творчества» (Там же: 274; СТРАВИНСКИЙ, 1998–2003, 111: 681–682, 686), публикуемую ниже в обратном переводе с французского под заглавием «Понятие о времени и Музыка (размышления о типологии музыкального творчества)», а несколько ранее 23 мая 1939 г. (дата устанавливается по письму Сувчинского, целиком воспроизводимому в: СТРАВИНСКИЙ, 1998–2003, III: 676–678; у Савенко, в: СУВЧИНСКИЙ, 1999: 274, ошибочно указан 1938 год) посылает русский текст окончания 5-й лекции. Посылка сопровождалась следующими словами:
Посылаю Вам текст последней, V части. Вместо того, чтобы посылать Вам материалы, я решил их изложить и обработать для Вашего облегчения. По-моему, вышло довольно хорошо, но, конечно, многое нужно еще доработать или переработать. Напишите мне Ваш отзыв об этом; если Вы находите текст подходящим — я его покажу Ролан-Мануэлю и постараюсь успеть перевести его на французский язык до его передачи Вам. В противном случае — я думаю, что Феде [сыну Стравинского. — И. В.] не трудно будет сделать черновой перевод, и мы обработаем с Роланом-Мануэлем, когда он вернется от Вас. Насчет цитат — не беспокойтесь. Все точно.
(письмо от 23 мая 1939 г. из Парижа; СТРАВИНСКИЙ, 1998–2003, III: 677–678)
Вот ответ Стравинского:
Петр Петрович, дорогой, как только вернулся, прочел Ваше доброе письмо, а вечером и текст той части V лекции, которой она должна кончаться. Спасибо и за то, и за другое. Этот текст надо перевести на французский язык непременно, ибо я им воспользуюсь если не целиком, то во всяком случае большей его частью. Трудно сейчас мне дать добросовестный отчет (ибо я очень сейчас загружен делами, ответами на письма из Америки и другими), но впечатления от того, что Вы прислали, очень хороши. Я боюсь лишь за отдельные слова и фразы в кавычках. Кавычки — дело хорошее, когда читаешь про себя, но когда читаешь вслух, как Вы это выразите, особенно при том количестве слов, фраз и целых переходов, которые у Вас стоят (и резонно стоят) в кавычках.
(письмо от 25 мая 1939 г. из Сенсельмоза; Там же: 678–679)
Композитор, таким образом, отдает всю концептуальную часть на откуп Сувчинскому, волнуясь лишь об оформлении, стиле будущего французского изложения; ведь стиль, по известному изречению естествоиспытателя Жоржа де Бюффона, и есть человек. Впрочем, справедливости ради следует помнить, что Стравинскому принадлежал общий план, включая отказ от враждебности «к проявлению национального начала, разумеется, поскольку такое проявление бессознательно» (САВЕНКО, 2001: 278), противопоставление «двух России, России революционной и России консервативной, — двух беспорядков, которые трагически столкнулись перед первой мировой войной» и критику «нового советского фольклоризма» (STRAVINSKY, 1982–1985, II: 514–515).
Последующая переписка позволяет восстановить процесс доработки V Нортоновской лекции в подробностях. Вот только некоторые выдержки. Сувчинский отвечает после 26 мая: «Я рад, что наконец будут сказаны вещи, которые никто не смел открыто сказать, и какое счастье и какая удача, что это будет сказано Вами, именно Вами» (Там же: 681). Как и в случае с «Кантатой о Ленине», публицист предпочитает оставаться в тени, но иметь возможность высказаться устами куда более влиятельного современника и соотечественника. А еще месяц спустя, 23 июня 1939 г., убедившись в серьезности намерений Стравинского озвучить его собственные заветные идеи с кафедры Гарварда, обращается к композитору с новым предложением:
Дорогой Игорь Федорович!Мне вдруг показалось, что V лекция, в которой Вы говорите о советской музыке, — не имеет конца. Иначе говоря, мне кажется, что следует в конце, для симметрии, вернуться к общим вопросам, как бы снова поднять «изъяснение» до уровня начала. Поэтому я написал заключение к этой лекции, которое Вам и посылаю.
Мне кажется, что удалось хорошо сосредоточить несколько важных мыслей. Кроме того, по-моему, вышло удачное сопоставление понятий: «renouvellement» — «tradition» [ «обновление» — «традиция»] и «revolution» — «conservatisme» [ «революция» — «консерватизм»]. Как будто также вышло неплохо насчет «vertige» [ «головокружения»]. Буду ждать с нетерпением Вашего отзыва. Весь курс выдержан на такой высоте мысли и точек зрения, что без этого «подъема», по-моему, не обойтись.
(Там же: 691)
Перед нами старая евразийская установка на преодоление левого и правого, на сочетание исторического «футуризма» с неколебимыми «устоями». Стравинский соглашается и на это, прибавляя:
Заключение V лекции очень хорошо, но его общий характер смущает меня несколько: как бы не сказали — «ну, до музыки это далеко». Если бы Вы предпослали этому заключению несколько строк, в которых объяснили бы, что проблема музыкальной культуры не может быть рассмотрена вне общих вопросов российской культуры, то все стало бы на место и моя scrupule [щепетильность, скрупулезность] также.
(ответ из Сенсельмоза 25 июня 1939 г.; там же: 693)
Сувчинский — Стравинскому, 28 июня 1939 г из Парижа:
Очень обрадовался, что заключение Вам понравилось. Сегодня же написал добавление и отдал его Ролану-Мануэлю. <…> Не думаете ли Вы, что было бы правильнее называть «Пятерку» — не «музыкальными славянистами», а «музыкальными народниками» <?> Ведь почти все они были левые. Сцена под Кромами <в «Борисе Годунове»> была даже запрещена, хор из «Псковитянки» («Государи-псковичи») распевался студентами как революционная песня. Я не говорю уже о «Золотом петушке»…
(Там же: 695)
В заключение следует отметить, что Стравинский не только указал в «Музыкальной поэтике» на то, что ряд ее идей был впервые высказан Сувчинским, но и расплатился с ним за работу — из гонорара, предназначавшегося за соавторство. Как сообщал 29 июня 1939 г. Стравинскому Сувчинский:
«Вчера мы урегулировали с Роланом-Мануэлем наши расчеты. Он мне дал по нашему общему соглашению 1000 франков. Таким образом, и этот вопрос благополучно разрешился».
(Там же: 695–696)
Понятие о времени и Музыка
(размышления о типологии музыкального творчества) (1939)
Это, скорее, способ сцепления мгновений.
Итак, это знаменитое течение времени: о нем много говорят, но его не очень-то видят.
Жан Поль Сартр
Среди множества видов человеческой деятельности потребность выразить себя через искусство и одаренность, с помощью которой это осуществляется, принадлежат и будут принадлежать к самым темным и самым волнующим проблемам антропологии. Вещь совершенно естественная, потому что, в то время как творческая деятельность и творческая энергия человека выражаются и утверждаются в искусстве в виде самой очевидной реальности, творческий дар человеческой природы и способность творить ех nihilo так и останутся необъяснимыми явлениями.
Искусство и творчество как будто синонимичны, однако без креативного элемента не мыслится никакая человеческая деятельность и никакое произведение. При этом собственно творческий акт проявляется с наибольшей очевидностью и, так сказать, оправдывается в самом себе именно в произведениях искусства. К тому же творческий дар, явленный в искусстве, позволяет легче представить принцип самой структуры феномена этого человеческого дара, то есть таланта.
Талант человека следует рассматривать не как количественную концентрацию тех или иных способностей, той или иной индивидуальной склонности, но как систему данных, систему талантов, в которой элементарные дарования взаимно дополняют друг друга, помогают друг другу и проясняют друг друга ради «основного дара»: своим многоразличием они формируют один-единственный образ, одну-единственную силу, одну-единственную форму так называемого феномена творчества[614].
Именно этот конструктивный принцип одаренности человека, принцип, который определяет одаренность как многоэлементную систему, может стать в области искусства методологической основой для определения типологии творчества или, более точно, для определения, может быть, неожиданной классификации творческих типов.
Креативные системы могут быть типологически похожими и непохожими; сравнивая их, можно устанавливать роль, которую играет присутствие или преобладание тех или иных элементов, судить об их взаимоотношениях, определивших тот или иной творческий тип. Этот вид типологического метода (он, конечно, не должен превращаться в пустую схему), который прилагается одновременно и к анализу произведений искусства, и к анализу творческих приемов, не может не привести к интересным выводам. Эти выводы прежде всего подтверждают многообразие элементов, формирующих любую творческую натуру, ее склонности и разнообразие внутреннего опыта, которыми стимулируются и создаются эти элементы.
Поскольку эти «заметки» ограничены проблемами музыки, было бы интересно остановиться прежде всего на той исключительной и неисследованной особенности музыкального дарования, какой является опыт времени, опыт, который существует и который всегда, так сказать, строит музыкальное произведение. Исследование творческого типа каждого крупного композитора должно учитывать три основные категории.
1. Тема произведения, которая связана с основным устремлением композитора, всегда своеобразным, ограниченным и определенным;
2. Техника композиции, которая находится во взаимозависимости с главной темой произведения, и
3. То, что можно назвать личным музыкальным опытом композитора.
Этот опыт, который представляет собой врожденный комплекс музыкальных интуиций и возможностей, основан прежде всего на специфически музыкальном опыте времени — хроноса, — по отношению к которому музыка как таковая играет роль не более чем функциональной реализации.
Ожидание, тревога, боль, страдание, страх, созерцание, наслаждение — все это прежде всего разные временные категории, в недрах которых протекает человеческая жизнь[*]. Однако это разнообразие типов и модификаций психологического времени было бы неуловимым, если бы в основе всей сложности опыта не лежало первичное ощущение — часто подсознательное — реального времени, времени онтологического[*].
Особенность музыкального понятия времени состоит как раз в том, что оно рождается и протекает либо вне категорий психологического времени, либо одновременно с ними, что позволяет рассматривать музыкальный опыт как одну из наиболее чистых форм онтологического ощущения времени[617].
Музыкальное искусство, которое содержит в себе наиболее адекватные возможности опыта онтологического времени, не ограничивается простым отражением этого понятия. Обычно психологический рефлекс доминирует над творческим процессом: можно даже сказать, что его отсутствие в области творчества указывает на наличие особого таланта, который в чистом виде встречается весьма редко.
Опыт времени, то есть качество временного элемента, в творчестве разных музыкантов всегда свой, но его тип по преимуществу — онтологический или психологический — всегда можно определить и, следовательно, подвести подтипологическую классификацию.
В музыке существует особое отношение, нечто вроде контрапункта, между течением времени, чистой длительностью, и материальными и техническими способами, с помощью которых эта музыка выражена и записана.
Либо музыкальный материал адекватно заполняет ход времени, который, так сказать, «ведет» музыку и определяет ее временную форму, либо он покидает ход времени, сокращая, расширяя его или судорожно трансформируя свой нормальный ход.
В первом случае музыку можно назвать хронометрической, во втором — хроно-аметрической.
В хронометрической музыке смысл времени находится в равновесии с музыкальным процессом; иными словами, онтологическое время развивается полностью и единообразно в музыкальной длительности. В своей первичной креативной основе хронометрическая музыка характеризуется отсутствием эмоциональной и психологической рефлексии, что позволяет ей постичь процесс онтологического времени и проникнуть в него. Эта музыка типична именно наличием равновесия, динамического порядка и нормального, постепенного развития; в области психических реакций она вызывает особое чувство «динамического покоя» и удовлетворения. Хронометрическая музыка управляет слухом и сознанием через свой музыкальный ход, который выстраивает для слушателей тот самый внутренний порядок времени, который ощущал композитор в момент, когда вдохновение рождало его произведение.
Природа хроно-аметрической музыки всегда психологическая; только с ее помощью может быть выражена психологическая рефлексия. Эта музыка есть, так сказать, вторичная нотация первичных эмоциональных импульсов, состояний и планов автора. В этой музыке центр притяжения и центр тяжести, в сущности, смещены. Их нельзя найти ни в звуковом моменте, ни в музыкальном материале, они помещены всегда впереди или позади (по большей части, впереди), порывая таким образом с нормальным ходом музыкального времени и разрушая господство «музыкального момента». Музыка либо опережает реальное время, либо остается позади, что создает между ними особую интерференцию и приводит к утомительной тяжести или нестабильности хроно-аметрической музыки. Такая музыка не может вступить в гармонию с синтетическим музыкальным слухом, музыкальная восприимчивость которого избегает любой случайной ассоциации, чтобы ощутить ее в двух разных планах — звуковом и особого рода спекулятивном.
Если пытаться определить основные свойства креативной музыкальной типологии, то «проблема времени» должна главенствовать над любой другой проблемой, поскольку она существенным образом привязана к определению первичных категорий музыки.
Как для художника пространственный опыт, принцип перспективы и прозрачности, так и для музыканта основным элементом является ощущение времени, отражение универсального концепта, которым определяется сам тип и стиль творчества[*].
В противоположность количеству и бесконечному разнообразию человеческих дарований, виды творчества в искусстве крайне малочисленны из-за ограниченности видов человеческого сознания, видов понятий «я» и «не-я» и видов координации между «я» и «не-я» — вещей, которые лежат в основе любой креативной интуиции. Произведения искусства, разные по стилю и по конструктивной манере, представляют лишь вариации идентичного креативного опыта, который их объединяет.
Проблема времени в музыке интересна именно потому, что она побуждает к особой классификации музыкальных произведений, классификации, которая стоит над стилем или формой.
Стремление к тому, чтобы поймать реальное онтологическое время, чтобы перевести его в категории художественного творчества, всегда лежит в основе музыкальной интуиции.
Античные лады и тетрахорды, которые трансформировались в григорианские невмы раннего Средневековья и которые легли в основу единого и соответствующего стиля церковной музыки, подлинные народные песни с их рефренами, которые, подобно григорианским песнопениям, не пропевают слова, но тянут гласные (как временные интонационные единицы, лишенные любой дескриптивной интенции), психологически родственны таким, на первый взгляд, не похожим на них произведениям, как полифонические замыслы Баха, задуманные всегда в соответствии с временным движением, которое как бы в них заключено, таким, как прозрачный и спонтанный хронометризм Гайдна и Моцарта, таким, как предметное и размеренное чувство самых красивых тем Верди, поражающих своей музыкальной изобретательностью, при том, что из них полностью исключены все психологические интонации. В современной музыке возобновителем и продолжателем хронометрической музыки стал Игорь Стравинский.
Для всех перечисленных здесь музыкальных феноменов характерен опыт, аналогичный музыкальному времени и конкретной интуиции внутреннего онтологического закона, который управляет музыкальным искусством.
Самая типичная и самая великая с хроно-аметрической точки зрения музыка — это музыка Вагнера. Суть психологического времени вагнерианской музыки определяется не только формой ее развития через секвенции, переходы и бесконечные хроматизмы[619], но и через интонационную природу тем, всегда отягощенных психологизмом, который нередко лишает их элемента имманентной музыкальной реальности.
Равным образом характерен избранный Вагнером принцип лейтмотивного развития, который исключает постепенное, нормальное и спонтанное развитие музыкального времени. Каждый лейтмотив уже имеет свой эквивалент во времени, которое неустанно повторяется с каждым его возвращением, что создает чисто механические комбинации состояний, понятных и почувствованных слушателями заранее. Представляется, что Вагнер выбрал эту форму музыкального письма именно потому, что признавал в себе самом отсутствие живого опыта динамики и подлинной музыкальной длительности.
Действительно, трудно было бы найти другой столь яркий пример хроно-аметрической музыки. Конечно, и в произведениях других музыкантов можно, как и у Вагнера, увидеть удаление и даже забвение временных концептов, но не в столь категорической форме; это удаление может иметь и другие источники.
Любопытно было бы в связи с этим обратиться к последовательному анализу произведений Бетховена и Шопена. Вопреки глубокому и осознанному чувству времени (особенно в последних квартетах и первых симфониях, например, в си-бемоль-мажорной Четвертой), многие построения Бетховена, из-за его врожденной склонности к формальным и схематичным музыкальным конструкциям, многие, повторяем, его построения решаются за пределами временного процесса и фиксируются музыкальным восприятием только как последовательности и противопоставления абстрактных музыкальных конструкций. Музыка Бетховена, которая очень часто не содержит в себе полноту времени, к тому же и не психологична, поскольку ее пафос и психологическая эмоциональность определяются не столь видом или качеством тематизма и замыслов, сколько динамическим способом их развития. Кажется, что конструкции Бетховена разворачиваются вне времени; они музыкально имманентны, хотя и лишены специфического качества временной длительности, то есть того, что составляет музыкальную сущность таких композиторов, как Гайдн и Моцарт, и это очевидно, тем более что, когда речь идет о раннем Бетховене, у него обнаруживаются глубокие схождения с Гайдном и Моцартом.
Что же касается Шопена, то его пример интересен с другой точки зрения: музыкальная ткань Шопена и его техника, взятые в отдельности, могут считаться примерами формальной и схематичной музыки. Иными словами, психологическое чувство Шопена требовало бы для своего воплощения совершенно иные формы и возможности. Откуда возникает особая адаптация формальных схем шопеновского письма, часто неточных и неустойчивых, к требованиям эмоциональности, которой наполнена его музыка? Это вытекает из неровности стиля, где формальный схематизм, полностью лишенный музыкальной длительности, чередуется с эмоциональными пассажами, которые всегда влияют на нормальную протяженность их развития. Особая «пульсация» музыки Шопена может, среди прочего, быть выявлена на уровне модуляций, которые, вместе с другими элементами музыкальной конструкции, определяют временной ход музыки и, в свою очередь, им определяются[620].
Говоря о проблемах современной музыки, нельзя не вернуться к вагнерианству, поскольку эти проблемы находятся с ним в постоянной диалектической связи. Несмотря на постепенность установления вагнеровских концепций, которые можно усмотреть и у его предшественников, и у его современников (Мейербер, Берлиоз, Лист), и медленность продвижения самого Вагнера, их мощь, их убеждающая сила как бы оглушили музыку и ограничили ее онтологический опыт. Музыкальное искусство, которое есть искусство подобия, онтологического познания времени и звуковых спекуляций, было трансформировано Вагнером в систему музыкальных транскрипций, синхронизации абстрактных понятий и эмоциональных рефлексий, природа которых чужда музыке[*].
Было весьма нелегко вернуть музыке принадлежащий ей имманентно элемент реального времени и восстановить власть забытых законов музыкальной длительности и протяженности, поскольку вагнерианские принципы оказались в высшей степени приспособляемыми и легко объединялись с самыми разными музыкальными феноменами, усваиваясь такими разными композиторами, как Сезар Франк, Римский-Корсаков, Пуччини, Венсан д’Энди, не говоря уже о прямых эпигонах «вагнерианства».
К неудовольствию Ницше, первой антитезой Вагнеру стал не Бизе, а Дебюсси[622]. Музыкальная ткань Дебюсси, эстетически противоположная всем концепциям Вагнера, обладала свойством поразительной проводимости времени, которое для музыки представляет то же, что прозрачность для живописи, и благодаря которому его музыка после ложной долготы музыки Вагнера поражала своей живой и реальной длительностью. Но Дебюсси не хотел, а может быть, и не мог победить своей врожденной склонности к «музыкальным состояниям», которые часто оказывались статичными. Музыкальная «статика» Дебюсси коренится в имманентной музыкальности, его «музыкальные состояния» образуют, так сказать, трансформацию музыкальных моментов в длительность, и, однако, из-за отсутствия живого динамизма Дебюсси не смог вернуть музыке ее синтетический смысл, полноту сил и возможностей; сделал это Игорь Стравинский.
За два десятилетия своей музыкальной жизни Стравинский вернул музыке законы композиции и ее имманентный опыт. Это внутреннее и формальное восстановление законов и порядка в музыкальном искусстве совершалось постепенно и, возможно, было начато Стравинским почти бессознательно.
Зависящий исторически, с одной стороны, оттого, что когда-то называли французским модернизмом, с другой — от русской школы Римского-Корсакова, Стравинский должен был пройти через мучительное испытание саморазвития — как для того, чтобы справиться с конкретной музыкальной тканью, так и для того, чтобы усвоить подлинную абстрактную музыкальную спекуляцию, чтобы быть в силах, разорвав со своими непосредственными предшественниками, открыть собственную музыкальную интуицию и «музыкальную идею», которые у него быстро трансформировались в творческую декларацию всего его музыкального существования.
Эта декларация, подтвержденная всеми его произведениями, начиная с «Петрушки» и кончая недавним Концертом[*], прежде всего устанавливает принцип музыкальной хронометрии. Творчество Стравинского благодаря его чувству музыкального времени, благодаря приемам, с помощью которых развивается и течет его музыка, принадлежит классической традиции, той «великой» музыке, в которой время и музыкальный процесс взаимоопределены и ведут происхождение из сферы не психологической рефлексии, но онтологического опыта. Итак, восстановив эту традицию, Стравинский показал всю ее жизненность и доказал, что она способна к полному внутреннему обновлению, которое затрагивает не только музыкальную ткань, но равным образом манеру и технику композиции. В произведениях Стравинского открылся редкий для искусства синтез, синтез огромной реформаторской силы и острого чувства традиции и консерватизма.
Первое, что поражает при анализе творчества Стравинского, это присущее ему желание перевести любую музыкальную тему, любой стиль или любую форму в совершенно особую и аутентичную систему восприятия и самоадаптации. Эта конструктивная концепция Стравинского, типичная для него, и является указателем, характерным для его творчества в той же степени, как, например, для Баха его манера выражения и полифонические темы, для Бетховена симфоническое развитие, для Верди мелодизм.
Многообразие стиля Стравинского, периодичность его творческого опыта, выражающаяся в циклах, на первый взгляд противоречивых, свободное обращение с чужими темами и приемами — все это находится в диалектической связи с единством его музыкального принципа, принципа, который собирает и «восстанавливает» любое музыкальное сродство. Этот принцип у Стравинского приводит к единой системе универсальных концепций и суждений, системе, законы которой даны, а не выдуманы, однако эта «система необходимостей» Стравинского не вызывает чувства сопротивления и, напротив, приводит к добровольному подчинению, которое, в свою очередь, обуславливает углубленное открытие законов и условий быта.
И прежде всего речь идет о законе необходимости времени. Время — данность, и оно непреодолимо. Процесс его развития нельзя исказить ни психологическими устремлениями, ни иллюзией его кажущейся пустоты или слепого могущества. Но время может быть организовано, передано через бесконечные виды и свойства — протяженности, длительности, протекания — всего, что составляет онтологический смысл музыкального искусства. Какой бы сложной ни была метрическая структура музыки Стравинского, она всегда является «проводником времени»; ход времени определяет ее изнутри, и, исполняя этот ход, она никогда его не покидает и не нарушает правила движения. Этим обнаруживается подлинное типологическое сродство Стравинского с классическими образцами музыки XVIII века[624]. Стравинский сближается с этими образцами по сходству своей внутренней концепции и музыкального опыта. По этим же причинам, оторвавшись от своего учителя Римского-Корсакова с его ничего не выражающей и ни на что не опирающейся музыкой, Стравинский в русской музыке отдает предпочтение Глинке и Чайковскому[625].
В области музыкальной культуры, то есть музыкальной проблематики, Стравинский использует свою музыку для постановки и решения большого числа проблем. Может быть, самая важная из них — проблема «границ музыки». Эти границы представляются обществу — и музыкантам, и слушателям — смутно «безграничными». Опыт же Стравинского свидетельствует об обратном. В музыке «не все позволено», напротив, многое запрещено (конечно, не в смысле академических запретов), в опыте духовной жизни есть вещи, которые не могут и не должны быть переложены или «выражены» музыкой[626]. Музыка имеет свои темы, свое призвание и опыт, столь же творческий, сколь и «аудитивный». Этот последний может быть определен лишь частично, как «ре-чувствование» музыки; в сущности, он должен быть основан на слушании онтологической реальности музыкального процесса — то есть на музыкальном времени[627].
Тем, кто упрекает Стравинского в отсутствии эмоционального начала, можно сказать лишь одно: они должны слушать музыку таким ухом, которое воспринимает ее не только как «звучности», но музыку «во времени». Это означает, перефразируя Вагнера, что можно «слышать время». Словом, это то восприятие, которое дает самую высокую музыкальную радость, радость, возможность которой содержится в «самой высокой» музыке, радость, которая составляет самое надежное ее свойство, самую драгоценную особенность. Только эта музыка может стать мостом, связывающим нас с бытием, в котором мы живем, но которое в то же время не является нами.
Источник текста ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, 2003: 471–481.[628]
Факсимиле письма П. Сувчинского В. Дукельскому
14 августа 1947
ДорогойВладимир Александрович,Очень был рад Твоему письму. Все, что Ты пишешь о себе, — очень интересно, верно и убедительно. Несмотря на все Твои успехи — и в Твоей жизни сказался факт, что мы, в конце концов, — «апатриды». Вспоминаю латинское изречение: «Nec sine te, пес tecum vivere possum[us]»[*]. Конечно, жить «апатридами» можно, но все-таки чего-то очень важного в нас не хватает, и, несмотря на всевозможные таланты и нашу приспособляемость, — мы все-таки поколение людей «ущербленных». Это сознание ни в коем случае меня лично не деморализует, оно только усложняет мою линию поведения, т. к. в самом конечном случае — я никогда против России не буду, и мне кажется, что эта установка должна быть принята всеми бывшими русскими «de bonne volonté»[*], в противном случае повторится мерзость немецкой коллаборации. Мы можем, должны и обязаны полемизировать с художественным убожеством современной советской «эстетики», должны ругаться, но… до известного предела. Т. к. я в войну все-таки не верю — то у нас времени достаточно, чтобы заставить (хотя бы на 1 %) себя услышать. (Между прочим, я на днях получил из Москвы серию очень трогательных фотографий С. С. Прокофьева с его новой женой…)
Мне кажется, что в политическом отношении европейское сознание должно быть нейтральным (между Россией и Америкой), т. е. не зависимым от обеих систем. И эта установка должна будет иметь большое влияние на все стороны культурной жизни. Все это я Тебе пишу для того, чтобы Тебе стала яснее моя радость, что Ты решаешь делать «ставку на Европу». По всем данным — Америка все-таки разлагает людей, и в какой-то момент нужно спасаться и срочно возвращаться к европейскому мироощущению и миросозерцанию. Я очень жалею, что не знаком с большинством Твоих сочинений, но это дело поправимое. Что касается Твоих 2-х имен — то, представь себе, я бы эту «двуединость» — сохранил. Я уверен, что Твое русское происхождение и «русскость» Твоего имени — еще тебе послужат. Кроме того, во имя Дягилева и его очень своеобразного патриотизма (что не помешало ему быть «все-национальным»!) — я бы, на Твоем месте, на Твое имя не посягал.
Россия — несмотря ни на что — феномен Европейский; во всяком случае, это нам надлежит ее вернуть в эту систему, и Твой русский «обертон» усилит Твое положение. Я бы на Твоем месте обратил внимание на Прагу; по многим причинам этот музыкальный пункт очень важен.
В Праге сейчас имеется прекраснейший дирижер Кубелик. Я с ним познакомился в прошлом году, и он мне ужасно понравился. Судя по телефонному молчанию — Fourmér[*] в Париже нет.
Что касается меня, то я, не закончив дела (корректуры книги, организацию «Quinzaine de Musique Antiochienne [?]»[*]), на днях уезжаю. Надоело все!
Обнимаю ТебяТвой П. Сувчинский
Другие работы Сувчинского, а также письма, в настоящее издание не вошедшие
Souvtchinsky Pierre. Introduction: Domaine de la Musique Russe // Musique Russe/études réunis par Pierre Souvtchinsky. — Paris: Presses Universitaire de France, 1953. — T. 1. — P. 1–26.
Re(lire) Souvtchinski [sic!] (1892–1985) / Texts choises par Eric Humbertclaude. — Paris, 1990.
Из переписки П. Сувчинского и Б. Пастернака (1927); Переписка П. Сувчинского и Б. Пастернака (1957–1959) // Козовой Вадим. Поэт в катастрофе. — М.: Гнозис; Paris: Institut d’études slaves, 1994. — (Bibliothèque russe de l’Institut d’études slaves, t. 95). — C. 185–286.
Петр Сувчинский и его время / Редактор-составитель Алла Бретаницкая: Консультант Вадим Козовой. — М.: Композитор, 1999.
Souvtchinsky Pierre. Un siècle de musique russe: 1830–1930; Glinka, Moussorgsky, Tchaïkowsky, Strawinsky; Et autres écrits, Strawinsky, Berg, Messiaen et Boulez / Édition réalisée et présentée par Frank Langlois; Préface de Pierre Boulez. — Arles: Actes sud — Association Pierre Souvtchinsky, 2004.
3. Игорь Стравинский
Ромен Роллан. О Стравинском
(Из дневников военных лет) (1914–1917)
26 сентября [1914 г.] — Был у меня Игорь Стравинский. Сидел долго (мы провели, беседуя с ним, три часа в саду отеля «Мозер»). Стравинскому около тридцати лет: он небольшого роста, слабый на вид, с желтым, худым и усталым лицом, с узким лысеющим лбом, редкими волосами и прищуренными, за стеклами пенсне, глазами, мясистым носом и толстыми губами[*]. Его лицо непропорционально длинно по отношению ко лбу. Он умен и очень прост в общении. По-французски говорит свободно, лишь изредка подыскивая слова; все, что он говорит, своеобразно и продуманно (не знаю, искренне или фальшиво). В первой части наш разговор коснулся политических вопросов. Стравинский заявил, что Германия не варварская страна, а одряхлевшая и вырождающаяся. Он приписывает России роль прекрасной и мощной варварской страны, беременной зародышами новых идей, способных оплодотворить мировую мысль. Он считает, что подготовляющаяся революция по окончании войны свергнет царскую династию и создаст славянские соединенные штаты. Впрочем, он частично приписывает жестокости царизма немцам, внедрившимся в России, которые держат в руках главные рычаги управления и администрации. Поведение немецкой интеллигенции внушает ему безграничное отвращение. У Гауптмана и Штрауса, говорит он, лакейские души. Он превозносит старую русскую культуру, которая остается неизвестной Западу, художественные и литературные памятники, находящиеся в северных и восточных городах. Он также защищает казаков от обвинений в жестокости…
Затем мы стали говорить о музыке.
Я рассказал о впечатлении, произведенном на меня исполнением «Весны священной», и о противоречиях, обнаруженных мной между этой музыкой и опубликованной программой, между музыкальной формой и актерским жестом. Он согласился, что театральное представление, по крайней мере в таком виде, в каком оно существует в настоящее время, снижает ценность музыки, эмоцию или выразительные средства, замыкая их в слишком конкретном образе. В то же время он высоко расценивает спектакли, где сочетаются жест и движение (род ритмической гимнастики, более художественный, чем ритмика Жака Далькроза), широкий и обобщающий, большие линии в движении. Ему не нравятся слишком богатые и слишком оригинальные декорации и костюмы, отвлекающие ум от музыкального восприятия. Художник, с его точки зрения, — враг музыканта. Мечта Вагнера о совершенном произведении искусства, где сочетались бы все виды искусства, несбыточна. Там, где есть музыка, она должна быть неограниченной владычицей. Нельзя быть одновременно слугою двух господ. Устраните краску. Краска слишком могущественная сама по себе, это целое царство. Музыка — особо. «Что касается меня лично, — говорит Стравинский, — то я вдохновляюсь красками, чтобы писать музыку. Но когда она написана, она должна довольствоваться самой собой, у нее есть свои собственные оттенки. Оставим только освещение, более разнообразное, чем теперь, и соответствующие звуковой модуляции жесты и ритмы». Стравинский пишет теперь очень короткую сюиту для оркестра и голоса — «Dicts» (жанр русской старинной народной поэзии, подбор слов, почти лишенных смысла, связанных между собой только образными и звуковыми ассоциациями: их называют в России «игра перед играми»). Он забавляется внезапными переходами от одного образа к другому, совершенно противоположному и неожиданному. Он пишет ежедневно, не зависимо от того, пришло вдохновение или нет. Ничто не может сравниться с радостью первого замысла, когда идея, еще животрепещущая, отделяется от твоего существа. «Это — почти садистское наслаждение», — говорит он. Когда она начинает выражаться на бумаге, радость уменьшается. А когда произведение готово, оно не существует больше для автора. Оно начинает тогда самостоятельное существование, жизнь, в которой участвует публика, аудитория или читатели, воссоздающие его в свою очередь. Эта эволюция длится часто веками, но никому произведение не становится таким чужим, как своему первоначальному творцу.
Его суждения о музыке и музыкантах отличаются непримиримостью[634] и безапелляционностью. Он не любит почти ни одного из выдающихся мастеров: ни Иоганна Себастьяна Баха, ни Бетховена. Зато он наслаждается Моцартом, прекрасные оттенки которого не потускнели с веками. Из истых немцев (так как Моцарт, по его мнению, больше чем наполовину итальянец) он любит только Вебера, который, впрочем, тоже проникнут итальянщиной. Из своих соотечественников он ценит Мусоргского и (немножко) Римского-Корсакова, который был расположен к нему. Его аудитория во Франции и отчасти в Англии. Он мне сказал, что в искусстве, как и во всем, любит только весну, новую жизнь. Зрелость ему не нравится, ибо это начало заката. Поэтому совершенство, по его мнению, — низшая ступень жизнеспособности. И классиками он считает не тех, кто посвящал себя целиком созданию новой формы, а тех, кто работал над организацией форм, созданных другими. Уходя, он мне вручил письмо следующего содержания:
Дорогой собрат!Спешу ответить на ваш благородный призыв к протесту против неслыханного варварства немецких орд. Варварство! Верно ли это определение? Что такое варвар? Мне кажется, что варвар является носителем культуры другой концепции, чем наша. И хотя она совсем иная, чем наша, все же это обстоятельство не исключает того, что в ней заключается такая же огромная ценность, как и в нашей культуре. Но современную Германию нельзя рассматривать как носительницу новой культуры. Это страна, являющаяся частью Старого Света. Ее культура так же стара, как и культура других западноевропейских народов. Именно поэтому я осмеливаюсь утверждать, что народ, который в мирное время воздвигает ряд памятников, подобных Siegesallee в Берлине, а во время войны насылает орды, разрушающие такие города, как Лувен, и такие памятники старины, как собор Реймса, является народом, который нельзя отнести ни к варварам, ни к цивилизованным народам. Ведь трудно предположить, что таким путем Германия предполагает омолодиться. Если это так, то следовало начать с памятников Берлина. Поэтому в общих интересах всех народов, ощущающих еще необходимость дышать воздухом своей здоровой старой культуры, стать на сторону врагов Германии и избавиться раз и навсегда от нетерпимости этой колоссальной и неуклюжей Германии, которой угрожают роковые симптомы морального разложения. Примите, дорогой собрат, выражение моего глубокого восхищения и самой большой симпатии художника.
Игорь Стравинский
P. S. Среди страшных и грандиозных событий этих дней, свидетелями которых мы являемся, я почерпал новую поддержку в вашем призыве: «В единении — сила». Кларан, 26–30 сентября.
23 января [1915 г.]. Концерт русской музыки под управлением Ансерме. «Антар» Римского[-Корсакова], хоры и пляски из «Князя Игоря» Бородина, «Петрушка» Стравинского, который присутствует на репетициях. Мне кажется, чувственное и мечтательное обаяние Римского, оцепенение, к которому приводит одержимость ласковыми рисунками и монотонными ритмами, [а также] всплески насилия и неистового опьянения, рассеянная, яростная и бурлескная истерия Стравинского прекрасно согласуются с великим безумием нашей эпохи, и в целом они его предвещают. Эстетическая ценность такой русской музыки не вызывает сомнений. Она огромна, больше, чем у других композиторов того же времени (за исключением Дебюсси). Однако в ней не найдешь не только моральной ценности, но и силы разума, порядка, мира, гармоничного и гуманного действия. Ее величайшая социальная энергия — в интенсивности ее ритма. Он постоянно ведет к опьянению, захватывающему дух исполнителей и слушателей и увлекающему их в свой вихрь. В какие-то моменты русская пианистка (г-жа Шериджян-Шаре), исполняющая партию в «Петрушке», не отдавая себе в том отчета, выглядит как вакханка. Но именно это ритмическое опьянение и ведет народы Европы на смерть и убийства…
25 июля 1916 г. На корабле из Туна в Интерлакен встретил Игоря Стравинского. Я его сначала не узнал, это он ко мне подошел. Он с женой и двумя или тремя очень шумными детьми… Разговаривает со мной, не отпуская, от Шпица до Интерлакена. Поверхностный и неистовый в своих суждениях, как и в музыке. Впрочем, живой и умный, но в лучах своего прожектора: пронизающий луч света, а вокруг полная тьма. В наше время интеллектуальной односторонности он сверходносторонен. Только что вернулся из путешествия по Испании и весь полон ею. Он еще недостаточно ее узнал. Ничто в Европе не произвело на него столь глубокого впечатления. Он не был нигде, кроме Кастильи. Странным образом он сравнивает ее со своей родной страной, особенно (это первое, о чем он говорит) из-за гостеприимности жителей. (Признаюсь, я этого не заметил.) Насколько понимаю, ему нравится их грубоватое и естественное произношение, не испорченное цивилизацией. Мы оба восхищаемся народными песнями[*]. У Стравинского целая коллекция их, записанная на граммофонных пластинках, поскольку нашей нотной записи недостаточно, чтобы передать все эти интервалы. Стравинский видит в них идеал музыки, музыку спонтанную и «бесполезную», музыку, которая не пытается ничего выразить, которая рвется из души, которая каждый раз новая для каждой новой души. Терпеть не может всякую классику, музеи, консерваторию, оперу и т. д. Как один из моих персонажей, он сказал бы: «Смерть мертвецам!» Тут он переходит к своему равнодушию к Италии, которую тут же провозглашает абсолютно неинтересной. Был только в Риме. «Остальное я представляю… — говорит он. — Я не хочу этого видеть!» Ездил в Мадрид на концерт, где исполнялись его произведения, и был представлен королю, который, по-видимому, не разделяет его чувств к Италии. В конце беседы заговорили о войне, которую Стравинский естественно считает совершенно здоровым явлением. (Почему он не примет в ней участия?) Считает ее прекрасным примером нравственной гимнастики, которая разделяет народы, судом Бога (великого крокодила), что уничтожает слабых и возвышает сильных. Считает ее необходимой для прогресса человечества. Думает, впрочем, что в России она немало послужит делу свободы. Все, что там есть хорошего и живого, сейчас в траншеях; и свобода выйдет. Однако он отнюдь не сторонник республики. Политические формы его не интересуют. Как и я, считает, что республика может быть реакционным режимом, подобно тому как монархия может быть либеральным режимом; и нынешний пример Франции кажется ему убедительным. Он живет в Морже и едет в Интерлакен, которого он не видел уже десять лет. Двадцать один год назад его привезли сюда с больными легкими, и он поправлял здесь здоровье. Здоровье, по-видимому, относительное, судя по его исхудавшей личине печального еврея[*] с огромным костистым носом, удлиненным лицом, редкими волосами и большим биноклем, от которого глаза кажутся круглыми.
[Февраль 1917 г.] В Сьерре в отеле художник из кантона Во, эстет, националист, некто Обержонуа. Я его не знаю, но он меня ненавидит и говорит, что «меня надо расстрелять». К нему на несколько дней приезжает Стравинский, несколько дней подряд сидит за ужином через несколько столиков от меня и уезжает из Сьерры, так и не поздоровавшись.
Источник текста записи от 26 сентября 1914 г. и последующего письма Стравинского РОЛЛАН, 1935.[637]
Основные книги Стравинского
Strawinsky Igor[, Nouvel Walter], Chroniques de ma vie: avec six dessins hors texte. — 2 t. — Paris: Denoël et Steele, 1935.
Stravisnky Igor. Pushkin / Tr. from the French manuscript by Gregory Golubeff. — [n. p.,] 1940.
Strawinsky Igor[, Souvtchinsky Pierre et Roland-Manuel], Poétique musicale sous forme de six leçons. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Memories and Commentaries. — Garden City, N.Y., Doubleday, 1958.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Conversations with Igor Stravinsky. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Expositions and Developments. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1962.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Dialogues and a Diary. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1963.
Стравинский Игорь. Хроника моей жизни / Пер. с фр.: Л. B. Яковлева-Шапорина; Ред. переводов: А. М. Шадрин; Статья и общая ред.: В. М. Богданов-Березовский. — Л: Государственное музыкальное издательство, 1963.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Themes and Episodes. — New York: Alfred F. Knopf, 1966.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Retrospectives and Conclusion. — New York: Alfred F. Knopf, 1969.
И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост.: Л. C. Дьячкова; Общая ред.: Б. М. Ярустовский. — М.: Советский композитор, 1973, (Книга содержит разделы: Советские музыканты о Стравинском. — Стравинский о себе, об искусстве, о музыкантах. — Статьи и исследования о музыке Стравинского. — Письма И. Ф. Стравинского.)
Stravinsky Igor. Selected Correspondence / Edited and with Commentaries by Robert Craft. — 3 v. — New York: Knopf (Distributed by Random House), 1982–1985.
Dearest Bubushkin: The Correspondence of Vera and Igor Stravinsky, 1921–1954, with Excerpts from Vera Stravinsky’s Diaries, 1922–1971 / Edited by Robert Craft and Vera Stravisnky. — New York, N.Y: Thames and Hudson, 1985.
И. Стравинский: Публицист и собеседник / Сост., текст, редакция, коммент., закл. статья и указатели: В. П. Варунц. — М.: Советский композитор, 1988.
Correspondance Ernest Ansermet — Igor Strawinsky (1914–1967): éd. complète / Éd. par Claude Tappolet. — T. 1–3. — Genève: Georg, 1990–1992.
Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. (четвертый том не вышел из-за смерти составителя) / Сост., текст, ред. и коммент.: В. П. Варунц. — М.: Композитор, 1998–2003.
Стравинский Игорь. Хроника. Поэтика / Сост., коммент., вступ. статья: С. И. Савенко; Пер.: Э. А. Ашпис, Е. Д. Кривицкая, Л. В. Яковлева-Шапорина. — М.: РОССПЭН, 2004. — (Российские пропилеи).
4. Владимир Дукельский
Дягилев и его работа (1927)
Мы обманываем самих себя, когда постоянны; мы верней верного, когда изменяем. Верность бесцельна, если не окрашена изменой.
Это лишний раз подтверждено жизнью и деятельностью Сергея Павловича Дягилева.
Созданный им балет есть вместилище им пройденных или проходимых увлечений; здесь, как и в самом человеке, столкнулись и тем не менее ужились противоположные и даже враждебные друг другу элементы. В его работе — беспрерывная смена кажется единственным принципом: приятие, затем отбрасывание временно нужных ингредиентов, каждодневная переоценка ценностей. Это не снобизм и не прихоть; здесь нет и речи о парении над искусством, а истинное претворение и отражение его в едва ли не единственном верном зеркале.
«Ты единственный человек, умеющий мой товар лицом показать», — писал однажды Чайковский Николаю Рубинштейну. С подобными словами мог бы обратиться к Дягилеву каждый из «показанных» им музыкантов и художников.
Приступая к обзору работы С.П., я испытываю странное чувство неловкости перед, казалось бы, несуществующей, но весьма ощутимой цензурой; цензура эта заключается в своеобразном своде понятий, выработанных в недавние дни теми китами, на которых стоит Париж. Разделяя творчество современников на «des choses bien»[*] и «des choses mal»[*], они объяснений по большей части не дают, но возражений не допускают. Тем труднее искренность. Люди непрестанно искренние — величайшая загадка; мудрая простота Дягилева в его подчеркнутой замкнутости. Иначе нельзя человеку, вся жизнь которого в тайных поисках неоткрытых Америк.
Париж летом 1924 [года] и встреча с Дягилевым были началом моей музыкальной жизни — знаю, я не один, способный на такое признание; и поэтому да не покажется неблагодарностью мое удивление неизменной ориентации С.П. на Париж. Париж, где что ни улица, то законодательство, что ни угол, то Моисей.
Призыв к порядку, о котором когда-то твердил Кокто, ничего не упорядочил; все осталось по-прежнему, с той разницей, что ни законы, ни законодатели никому уже больше не нужны.
Дягилев в начале своей работы насаждал так называемое русское искусство: это было в пору «Игоря», «Шехеразады», «Клеопатры»[*]. Очевидность этих вещей — та самая очевидность, которая теперь кажется почти грубостью, — прорезала глаза у незрячих и заставила их сложить руки в молитвенном трансе. Русский балет! Как многочисленны люди, которые и в 1928 году хотели бы видеть только дюжину разнокалиберных Шехерезад.
Тем не менее огромность совершенного в те дни несомненна; вывези Дягилев стереотипные заветы Петипа, к которым порой прибегает теперь, Европа осталась бы равнодушной. Яркость, подчеркнутость, «крупитчатость» Корсакова, Бородина и их сценических толкователей — Бенуа, Бакста и Фокина — были одной из немногих шапок, которыми хотя на время закидали мы Запад.
Пробив окно в Европу, Дягилев от блестящей реконструкции перешел к настоящему и могучему строительству. Главным его сотрудником в этот своего рода «золотой» век балета был, конечно, Стравинский. Я не пишу музыкального этюда, иначе самое упоминание этого имени заставило бы меня пространно изложить свой взгляд на взаимосоотношение этапов его гигантской деятельности. Пока ограничусь тем, что скажу — в балете Дягилева поворот от основного задания определился лишь с «Весной священной» (1913); и «Жар-птица», и «Петрушка» были неслыханно-ослепительным завершением поры «внешнего» русизма, которая ведет свой род от Балакирева и Корсакова, а не Глинки и Чайковского.
Итак, первый период балета (1909–1913) означен давлением личной силы Дягилева, сумевшего (за исключением двух вышеназванных вещей Стравинского) поразить и потрясти Европу ей уже сравнительно знакомым материалом («Шехеразада», «Игорь»). Десятилетие 1913–1923 — отмечено таким же давлением личности Стравинского: стихийная мощь «Весны», через «Лисичку» (шедевр, до сих пор не оцененный) приведшая к титаническому самоутверждению «Свадебки», свела чары зрелища «театрального» к предельному минимуму. Кто, в самом деле, помнит ничтожную работу Рериха для «Весны» или несравненно высшую по качеству, но ассимилированную соседством Стравинского, постановку «Свадебки» Гончаровой?
Не так в балетах того же времени, заказанных другим композиторам; выбор последних был, по большей части, неудачен (Штейнберг, Шмит, Штраус, Рейнальдо Ган)[*] или, за исключением превосходной «Треуголки» де Файя, представлял из себя главным образом музыкальное восстановление — Чимароза, Скарлатти, Россини — и давал большой простор хореографической и живописной выдумке[642].
Эта эпоха ознаменована рассветом Мясина (в работе Нижинского, мне кажется, играло крупную роль его личное обаяние как танцовщика) и художников Матисса, Дерэна и Пикассо. Сверхнациональное значение Стравинского указало на необязательность русских работников; отсюда отчасти пошла та «интернационализация» балета, которая вывела одних на свежий воздух и нестерпимо колет глаза другим.
Вначале сотрудничество «иностранцев» казалось эфемерным: ни большой Дебюсси, ни маленький Равель не оставили значительного следа на деятельности Дягилева. Постановка «Парада» Сати, значение которого сильно преувеличено, была триумфом Пикассо и откровением для молодых французских музыкантов, только что познавших прелести Music Hall’а и подстрекаемых нравоучениями Кокто.
Мы должны быть тем не менее благодарны Сати и Кокто, т. к. лукавые их семена дали, вопреки ожиданиям, благодатные всходы. Циническая, но острая и жизнерадостная резкость Орика («Les Fâcheux», «Les Matelots», гораздо тусклее в «La Pastorale»)[*] и приятная свежесть Пуленка («Les Biches»)[*] были еще одним ударом сгнившему постимпрессионизму (ублюдки Дебюсси) в гораздо большей степени, нежели намеренно простецкое кувырканье Сати. Успех молодых французов породил (чего следовало ожидать) новую и серьезную опасность: он открыл дорогу фальшивой легкости, бесцельному и, в сущности, сухому и рассудочному легкомыслию. Страсть к искусству «веселому и приятному» показалась после сокрушающей хватки Стравинского упадком и разложением. Запоздалая молодость обернулась преждевременной старостью.
Беда в том, что под этим мировоззрением не оказалось фундамента; мелодического дарования Пуленка не хватило для вещей иного калибра, а едкость и неуклюжее остроумие Орика вскоре выродились в потуги на несвойственную ему «белизну» («Pastorale»). Я искренно надеюсь, что обоим возможен поворот отсюда, но куда? Ни Пуленк, ни Орик этого пока не решили.
Привлекательная ловкость их сотрудников (Laurencin, Pruna)[*] пленяла публику, зараженную особым послевоенным снобизмом: снобизм этот породил готовый рецепт парижского успеха, что облегчило работу ряда молодых композиторов (Ламберт, Согэ, отчасти Риети, Лорд Бернерс)[*].
Я не отрицаю достоинств двух последних; их техническое мастерство, находчивость и в особенности театральное чутье неоспоримы. И все же эта музыка, жонглирующая общепризнанными ценностями, музыка «себе на уме» — весела ненастоящим весельем, горит поддельным огнем. Это становится ясным при слушании, например, невозможно монотонной, в своей тупой смешливости, партитуры «Ромео» Ламберта, наиболее слабого балета этого направления.
Однообразие музыкальных приемов (постоянная «четырехдольность» Риети) в последнее время возведено в настоящий культ, но ни на какое «возрождение» не указывает.
Хореография Нижинского (особенно в «Ромео»)[*] сознательно отразила в своей рассчитанной беспомощности — и небрежности — всю шаткость — а временами и прелесть — поставленных его вещей. Несмотря на сказанное, в пройденной «веселой» полосе есть истинный и большой смысл; этот смысл в уравновешивании составных частей балета как театрального зрелища.
Незначительность, иной раз просто незаметность, музыкального остова (Согэ), при наличии «театральных» способностей у композитора, раскрывает, как это ни странно, широкие горизонты хореографу. Вот в чем непреодолимая слабость балета: взгляните на сравнительную скудость выдумки в движениях, соответствующих гениальнейшим моментам «Свадебки»! И рядом как убедительны и ярки головоломные измышления Баланчивадзе, вызванные элементарными тактами Согэ. Вывод, казалось бы, один: и акробатизм Баланчивадзе[*], и хореографический контрапункт Мясина («Salade»)[*] замкнуты в самих себя, независимы от музыки. Хорошо все-таки помнить, что замечательны те вещи, где музыка перетягивает, а не дополняет остальное.
Это напоминание кажется особенно своевременным в примере последнего (в прошлом сезоне) творения Дягилева, сдвинувшего всю жизнь балета с того, что грозило стать мертвой точкой. Я говорю о «Стальном скоке» Прокофьева[650].
Не побоимся сказать, что со времени «Свадебки» не было ничего равного этой вещи по силе и по чисто качественной значительности. На первом же представлении стало ясно — отсюда возвращаться к МУЗЫЧКЕ («musiquette») немыслимо[*].
Много говорилось о бессознательности, беспочвенности (я не привожу более сильных выражений) музыки Прокофьева; пусть так — именно эта органическая непосредственность, отсутствие всякой ДИДАКТИКИ и предвзятости есть залог громадной потенции его дарования. Динамический размах, порой неистовый разбег, при редком богатстве методики (а не мелизмов) — не привлекательнее ли это того пиетического педантизма, что под различными масками просачивается в современную музыку?
Леонид Мясин в «Стальном скоке» нашел наконец применение своей последней, слегка назойливой («семафорной») манере и в финале дал ряд незабываемых построений, что вкупе с удачной работой Якулова лишь подчеркнуло эпическую мощь прокофьевской музыкальной речи.
Сергей Павлович Дягилев — самый «весенний» человек на земле; от весны и измены, и уклонения. Но эта последняя весна — настоящая.
Закончим этот обзор надеждой на дальнейшие сюрпризы такого же рода и порадуемся выглянувшему (пора!) из-за тюка модных товаров лицу России.
1927. Лондон
Первая публикация — ДУКЕЛЬСКИЙ, 1928.[652]
Модернизм против современности (1929)
В Англии, где я сейчас нахожусь, слово «модерн» настолько любезно моим современникам, что применяется оно порой к явлениям, друг другу противоположным.
Таким образом, и астроном, взволнованный неожиданными откровениями своего телескопа, и нарисованные брови воскрешенной притираниями старухи, и последний каламбур Michael Агlen’a[*] — все входят в эту категорию. Сюда же неизбежно относятся не только коктейль, но и музыкальные произведения.
К счастью для «серьезных» музыкантов, вышеотмеченные (и многие другие) явления, покорные спутники газетной культуры двадцатого века, нашли уже свое звуковое отображение в танцевальной музыке нашего времени. Штраус[*], певший когда-то Вену и ее прихоти в чудесных своих вальсах, в наши дни невозможен; эта роль успешно (и гораздо более прибыльно) выполнена сотнями проворных американцев.
Нет слова более несносного, чем «модернизм». Но слово это превосходно определяет ту тенденцию в современной музыке, которая тщится выявить, запечатлеть современность в ее наиболее антимузыкальных аспектах. Модернизм есть инкубатор, из которого ничего, кроме последышей, не выжмешь.
Музыкальная же современность, т. е. музыка, бессознательно отражающая лицо своего времени, ему конгениальная, есть та почва, из которой рано или поздно пробьются долгожданные ростки. Или еще наглядней; тенденция модернизма — в извлечении корней (в смысле алгебраическом), роль же современности в их насаждении (в прямом смысле).
Итак, модернизм враждебен современности; но что же музыкальная современность и что — музыкальный модернизм?
Этим летом на фестивале в Сиене произошел случай. Непрестанным свистом и шипом публика остановила исполнение одной вещи А. Вебер[н]а. Ратовавшие за соотечественника немцы повернулись к бушевавшим итальянцам и бросили им презрительно: «Мандолинисты!»
Мне кажется, этот случай превосходно рисует истинное положение вещей.
Как ни карикатурно такое определение, но в целях насмешки «мандолинисты» применимо не только к легкомысленным итальянцам, но и ко всем вообще музыкантам, нашедшим в пастише свою верную пристань. Нет маски более корректной для молодого композитора, нежели пастиш, псевдоклассицизм; ритуальный с-дюр[*] стал своего рода паспортом на благонадежность, белым галстуком на парадном обеде.
Молодые музыканты, давно махнувшие рукой на лестное прозвище «enfant terrible» (т. к. ни детского, ни ужасного ничего в них нет), изощряются в кокетливом опрощении своих и без того незатейливых мыслей. Но белизна, происходящая от священной стройности и чистоты Баха и Моцарта, конечно, ничего общего с белизной скудоумия, с простотой немощи не имеет. И все же инстинкт настоящей молодости безошибочен; страсть к ясности, четкости рисунка, при максимальной бережливости средств, при наличии неподдельного мелодического дарования, есть наша дорога, дорога тех, кем и будет отмечена первая половина нашего столетия.
Музыка — наичудеснейшее из слов, в самом звучании которого таится обещание Аполлона, теряет свое значение в руках экспериментаторов.
Небоскребы и локомотивы, превосходные существа сами по себе, невыносимы в музыкальном претворении. Я не знаю, что хуже — обожествление ли машины [у] Вареза и ему подобных, или машинообразные Давиды и прочие Голиафы Хонеггера — этого Мейербера современности.
Ни пастиш, ни музыкальная алгебра в рай не приведут. Очередь в Елисейские Поля пока прекороткая — всего пять-шесть кандидатов, да и тем, того и гляди, наскучит томительность ожидания.
Что же спасет музыку? Не четверти тона, но и не тональная назойливость. Не нужны нам ни манифесты недоучек, ни проповеди переучившихся. Новому ощущению звукового мира, построенного когда-то Бахом, и не только не умершего, но крепнущего по сей день, нужно новое определение; не побоимся найти его и сказать — неодиатонизм.
Неодиатонизм есть звукосозерцание, принимающее тональность (или лад) не как исходную точку, а как формальную опору. Другими словами — в неодиатонической музыке возможны или необходимы постоянные уклонения в новонайденные гармонические сферы и тональность является лишь установкой или скрепой.
Поясню примером: в финале «Concert Champetre» для клавесина и оркестра Пуленка (удачнейшей вещи этого композитора) реприза означена лишь возвращением основной тональности, а не всей главной партии (согласно диктовке классиков). Новоутвержденный, таким образом, через толщу разноцветных гармонических комбинаций тональный строй приобретает совершенно новую свежесть и импозантность. Внимательное слушание третьего концерта Прокофьева, партитуры «Les Fâcheux»[*] Орика и отдельных моментов «Аполлона» Стравинского открывает гармонический мир, свойственный исключительно сегодняшнему дню. И если в вопле модернизма различим скрежет машинных зубов, то в неодиатоническом благозвучии — современная музыка.
Первая публикация — ДУКЕЛЬСКИЙ, 1929.[657]
По справедливости, с восхищением и дружбой:
от Дукельского — Прокофьеву, с оглядкой на Стравинского (1930)
Довольно много есть людей в нашем покуда несовершенном мире, кто не понимает, что Сергей Прокофьев принадлежит к числу величайших из ныне живущих композиторов. Профессор Сесиль Грэй в своей книге о современниках[*], посвятив несколько страниц такой сугубо местной знаменитости, как г-н Бернард ван Дирен[*], с достойным прискорбия афронтом подвергает сомнению необходимость упоминать Прокофьева вообще. Несколько строчек, в каких он благостно снисходит до обсуждения нашего композитора, являют собой один из лучших образцов околесицы, часто выдаваемой в Англии за критику. Г-н Грэй, к примеру, утверждает, что Прокофьев занимает такое же место по отношению к Стравинскому, как Глазунов по отношению к националистической русской школе.
Утверждение это уступает лишь утверждению Эрнеста Ньюмана из статьи о «Свадебке» Стравинского (без сомнения, вершинном достижении композитора). Г-н Ньюман торжественно объявил, что мир устал от мужика с его «полупропеченным мозгом». Так уж вышло, что статья понудила покойного Сергея Дягилева отказать г-ну Ньюману в доступе в театр, в котором тогда концертировал Русский балет[*]. Каково было или еще будет наказание г-на Грэя, мы не знаем. Но факт остается фактом: хотя Вагнеры и являются на свет не слишком часто, мы благословлены неисчислимостью маленьких Гансликов[*].
Я берусь доказать, что мелодический дар Прокофьева равен моцартовскому. Прокофьевские долгие, великолепно вылепленные и изваянные мелодии, пульсируя мощным беспокойством нашего времени, являются истинно и ясно классическими (в подлинном смысле этого весьма затасканного термина), подобно мелодиям божественного Амадея.
Коснувшись классицизма, должен признаться, что уже какое-то время собираюсь высказать то, что произнесу сейчас. Если вечно свежая весна классицизма снова с нами, то Прокофьев возвестил ее приход первым. Факт этот, по некой таинственной причине не известный широкой аудитории и большей части музыкантов, был отмечен одним-двумя русскими критиками в пору, когда голос Прокофьева прозвучал впервые. Но даже в то, уже отдаленное от нас, время прокофьевский классицизм был понят абсолютно неверно. Классическая струя в музыке Прокофьева сравнивалась (не всегда в пользу композитора) с псевдоклассицизмом Метнера. То, что Прокофьев — прямой потомок Моцарта и Шуберта, в то время как метнеровская родословная не может быть прослежена дальше Рахманинова, тогда еще не было очевидно.
Теперь немного статистики. Первый концерт Прокофьева сочинялся в 1911 [году] — во времена, когда всей Европе была введена доза болезненных наркотиков импрессионизма. Ни следа того не найти в ре-бемоль-мажорном концерте, восхитительно наивном по «gaucherie»[*] как сейчас, так и, вероятно, в ту пору, но вещи, полной моцартианской легкости. Уверенная прямота первых его страниц столь же поражает сейчас, сколь поражала прежде. До-мажорные пассажи фортепиано в состоянии вызвать зависть у Риети или Пуленка, этих новых поборников «белизны» в музыке; к несчастью для Прокофьева, рядом не оказалось ни Кокто, ни Сати, которые бы закрепили отход [от старого] в манифесте. В довоенном Санкт-Петербурге попросту не существовало типичных для Парижа девятьсот двадцатых годов салонов, где дилетанты подхватывали все, что им нравилось, с поразительным цинизмом, чтобы отречься от этого понравившегося, как только новомодный пророк объявит им про необходимость отречения. Структура десяти фортепианных пьес опус 12 (неравноценных по достоинству, но содержащих в себе много хорошей музыки), сочиненных в 1908 (!) — 1911 [годах][*], а также фортепианной токкаты[*] замечательна по своей нешколярской ясности и прямоте — качествам, подозрительно отсутствующим у дебюссистов и скрябинистов. Нехватка гармонического развития, исключение искусственностей и цветистостей доходит там до прямого уродства и грубости, из-за чего автор заработал себе репутацию музыкального футболиста[*].
Вторая фортепианная соната (1911–1913) — совершенный образец лучшего в Прокофьеве; она утверждает стиль, характерные черты которого остаются с тех пор безошибочно прокофьевскими чертами: ведь музыка Прокофьева подлинно гомогенна и никогда не нуждается в изменении или обновлении[*]. В этом он снова напоминает Моцарта или Шуберта, в то время как его полнокровный оптимизм родствен гайдновскому. В финале второй сонаты нет ничего от гротеска, столь часто приписываемого Прокофьеву; он, как и Гайдн, кажется, потирает руки с настоящей простотой и радостью в момент прекращения работы и уже [как бы] ожидая нового начала назавтра[*].
«Гадкий утенок» (1914) — музыкально-характерная пьеса, ловко сделанная и содержащая в себе зерна лирического величия, взошедшего во Втором и Третьем фортепианных концертах. Еще более мучителен лиризм пяти романсов на слова Анны Ахматовой (1916), сочиненных за один день, из которых два (№ 1 и 3) имеют все признаки шедевров.
Читателю следует знать, что все сочинения эти строго тональны, предвосхищая неодиатоницизм, воцарившийся в двадцатые. Под неодиатоницизмом я разумею переоткрытие тонального чувства; новое очарование скромной тоники и доминанты, когда каждый аккорд увиден под новым углом и обретает новый вкус. И это в пору, когда атональные богатства «Весны священной» (и насколько другой весны) захватили Европу! Дело не в том, что Прокофьев полностью презирал атональность; его «Скифская сюита» столь же атональна, сколь атонален был Стравинский в 1913-м. Но сюита при всей ее помпезной эффективности оказалась, по моему разумению, одним из слабейших творений Прокофьева, тогда как атональная «Весна» подавляет мощью[*].
Второй концерт (1913)[*], хотя и лучше первого по использованному в нем материалу, не очень хорошо сшит. Во всех четырех частях есть определенное однообразие (Прокофьев мог бы обойтись без слабой третьей), определенная блеклость оркестровки; но я мало знаю музыки, превосходящей своим динамизмом финал. Грубая мужественность трудной каденции особенно впечатляет. С Классической же (1916) симфонией мы попадаем в тупик: вследствие прокофьевского безрассудства с выбором этикеток для своих сочинений, множество раз способствовавшего предубежденности публики. Называть симфонию «классической» — значит признавать пастиш. Прокофьев не только сделал это, но и публично заявил, что «живи Моцарт или Гайдн сейчас, они бы писали именно так». Это была опасная и ненужная вещь, Прокофьев никогда бы не смог уличить себя в писании «à la manière de…»[*] И, вопреки ему самому, симфония не является исключением из правила. Заявление Прокофьева достаточно уводило в сторону, чтобы причинять ему значительный вред: особенно во Франции.
В Третьем фортепианном концерте (1920)[*] Прокофьев утверждает себя одним из прекраснейших мелодистов нашего времени. Превосходная певучесть его тем здесь сливается со спонтанностью: неодиатоническая идиома, ныне получившая полное развитие, творит чудеса с до-мажорным аккордом. Музыка словно пришла с другой планеты: она исполнена странной кристаллической нежности. Особенно это касается одной из вариаций (Meditativo), которая могла бы быть написана обитателем Марса. Я останавливаюсь на 3-м концерте, ибо он — важная веха: в 1920 году бессознательный классицизм Прокофьева, достигнув кульминации, уступает место в высшей степени сознательному и умышленному классическому стилю Стравинского. Стиль этот начался с «Пульчинеллы» (1920), шедевра реконструкции, сыгравшего гораздо большую роль в современной музыке, чем думают многие. Но даже и в этом случае классическая манера Стравинского определенно устанавливается лишь в Октете (1922).
В ту пору ясные цели Прокофьева все еще затемнены взрывами грандилоквентности и переусложненности (2-я симфония, 5-я соната); читатель может заметить, что Прокофьев теряет контакт с неодиатоницизмом; его музыка становится менее прямой, а форма менее сжатой. Со «Стальным скоком» мы возвращаемся к Моцарту. Что попросту является цитированием покойного Сергея Дягилева; и хотя идея может показаться парадоксальной, мне трудно бороться с ее логикой. «Стальной скок», в том виде, в каком он был дан в 1927 [году] Русским балетом, оказался одним из вершинных явлений подлинного классицизма. Под этим я разумею то, что балет обозначил нашу эру (Россию 1917–1927) как классическую, в резком контрасте с простыми уступками классицизму у других.
Начиная с данного момента путь Прокофьева прям. «Блудный сын» и 3-я симфония — доказательство его зрелости. За ним стоит необходимость подарить нам монументальный образец музыкального эпоса, ожидаемый от всякого великого; от других же ожидается умение видеть прямее и говорить решительнее, чем это сделал сегодня я.
Впервые опубликовано в газете «Boston Evening Transcript» от 21 февраля 1930 г.[672]
Текст оратории «Конец Санкт-Петербурга» (1931–1937)
Памяти отца посвящаю
Когда мне было одиннадцать лет, я провел две недели в Петербурге и был под таким страшным впечатлением от увиденного, что все время бродил по улицам, очарованный городом и всем, что он в себе воплощал. Потом в 1928-м я увидел в Берлине фильм «Конец Санкт-Петербурга», и до меня неожиданно дошло, что Петербург мертв. Одновременно я осознал, что никто не прославил города в музыке, как сделали это Пушкин и Блок в поэзии. Идея начала обретать форму, и я решил, что вместо того, чтобы пользоваться текстом одного поэта, буду подбирать материал, который поможет мне очертить музыкально историю города от его рождения до дезинтеграции во время революции.
Я решил, что формой будет большая хоровая композиция с солистами, используемыми в чисто лирических пассажах, и хором, выступающим в роли свидетеля многих драматических переворотов, случившихся в стенах города. За исключением общего ощущения нет никакой связи между моей кантатой и прославленным советским фильмом, особенно же по причине того, что я воздерживаюсь ото всякого рода политических предубеждений и пропаганды[*]. Я просто попытался отразить в чрезвычайно субъективном ключе вечно переменчивое лицо этого «страннейшего из городов».
Первые две части для хора с оркестром посвящены архитектурному величию Петербурга, надменным очертаниям мощной Невы и северному, отталкивающему характеру местности. В этих частях использованы стихи Ломоносова, «барда Петра», и Державина, прославлявшего великую Екатерину.
Третья часть с положенными на музыку бессмертными стихами Пушкина написана для тенора соло и напряженно-лирична по характеру. Она повествует о специфическом чувстве русских к своей столице и описывает то меланхоличные, то славные фазы ее жизни, завершаясь картиной блистательного бала, когда музыка принимает форму мазурки.
Оратория для смеш[анного] хора, сопрано, тенора, баритона и боль[шого] оркестра
(1932[*] <1931>-1937)
Выбор стихов для четвертой части («Желтый пар…») хронологически неверен, ибо Анненский жил в годы царствования Александра III и Николая II, но необходим, чтобы ввести ощущение предчувствуемого и надвигающегося несчастья. Ровно с того момента, как Петр Великий затеял эксперименты со своими азиатскими современниками, общим местом стало то, что Санкт-Петербург, его любимое детище, обречен, и именно в четвертой части с ее лихорадочным напряжением и леденящей кодой, рисующей просторную пустоту городской площади, дана интерпретация мрачного пророчества.
Пятая часть на слова Тютчева отражает фантастическую, ирреальную красоту белой арктической ночи — типично петербургский феномен, не устающий поражать обитателей города в летние месяцы. Ария написана для баритона соло. Из-за интонационных трудностей, содержащихся в шестом номере, он исключен из данного исполнения, однако оркестровое окончание, служащее мостом к следующей за ним пассакалии, сохранено.
Номер семь, пассакалия, — самая выдающаяся часть всей композиции как по музыкальному содержанию, так и по продолжительности. Озаглавлена она «Тот август» (на стихи Ахматовой). Тема ее — раскаты войны и надвигающаяся трагедия. Ощущение только усиливается в восьмой части, в которой я решился на музыкальную интерпретацию одного из величайших и одновременно кратчайших стихотворений Александра Блока, чья поэзия представляет Петербург лучше чего бы то ни было, что написано после Пушкина. Форма, которую я избрал, максимально необычна с музыкальной точки зрения: мужской хор скандирует стихи в строго определенном ритме, в то время как женский хор стонет (bouche fermée [с замкнутым ртом. — И. В.]) в контрапункте. В контраст этому фону слышен вокализ сопрано на гласную «а» — на [музыкальную] тему, впервые появляющуюся во вступлении и символизирующую печаль уличных сцен в России: стихи уникальны в передаче полной бессмысленности [человеческих] усилий. Это ощущение только усиливается оркестровым сопровождением — через умышленную имитацию знаменитого напряжения в сцене в спальне графини в «Пиковой даме» Чайковского. Никто из тех, кому довелось слушать оперу, не в состоянии до конца стряхнуть с себя ужаса от музыки, которая — так получилось — единственное другое музыкальное приношение Петербургу, ведомое мне.
Девятый и заключительный эпизод, озаглавленный «Мой май» (стихи Маяковского, официального поэта Советов), являет собой земной, страстно искренний гимн побеждающим массам. Без сомнения, многие узрят в том бациллу пропаганды, но будут не правы, ибо приход Советов был историческим фактом, и я попросту описываю здесь эту победу. Весь хор и три солиста объединяют силы в финале; в плане структуры заключение базируется на двух темах, которые сменяют одна другую, сопровождаемые каждый раз модифицированной оркестровой подачей.
I. Вступление и хор. Moderato [Умеренно]. Текст М. Ломоносова[675]
II. Хор. Deciso е brioso [Решительно и с блеском]. Гавриил Державин[676]
III. Ария. Соло тенор. Calmato (Tempo giusto). [Спокойно (точный темп)]. Александр Пушкин[677]
IV. Хор. Allegro росо [Довольно оживленно]. Иннокентий Анненский[678]
V. Ария. Баритон. Andantino con moto [Андантино с движением]. Тютчев[680]
VI. Дуэт. Сопрано, тенор. Allegro [Оживленно]. М. Кузмин[681]
Les parties VI et VII se jouent sans interruption [Части VI и VII исполняются без перерыва].
VII. Хор. Pesante е risolute [Тяжело и с решимостью]. Анна Ахматова[682]
VIII. Соло и хор. Allegro moderate [Умеренно живо]. [Александр Блок][686]
IX. Заключение («Мой май»). [Хор.] Presto [Скоро]. Владимир Маяковский[687]
Источник текста — фотостат беловой партитуры оратории: ДУКЕЛЬСКИЙ, 1931–1937 (VDC, Box 79, folder 1).[688]
Игорь Вишневецкий
Описание рукописи музыкальной комедии Вернона Дюка (Владимира Дукельского)
«Хижина в небе (Cabin in the Sky)» (1939)
Приводимые ниже комментированный список музыкальных номеров комедии, а также их краткая характеристика составлены по сохранившейся беловой писарской копии со следами правки композитора DUKE, 1940.
Увертюра — около 10 минут музыки, клавир с наметками оркестровки. Вариант, сильно отличающийся от известного мне по неопубликованному клавиру, — в сущности, краткое попурри основных музыкальных тем, — был записан в 1940 [году] малым составом нью-йоркского оркестра Театра Мартина Бека. При попытках восстановить комедию на сцене в 1960-е Увертюра была снята.
Вступительное песнопение (без слов и аккомпанемента; позднейшая английская помета рукой Дукельского «пение с закрытым ртом Вступайте в воду») — редкий у Дюка пример воссоздания негритянской духовной музыки, т. н. «спиричуэле», которые поются как гимны в протестантских церквах американского Юга; в 1960-е, став первым номером партитуры, песнопение исполнялось, вопреки указанию, сначала со словами хором a cappella, затем ансамблем духовых. Интересно, что, по воспоминаниям Кэтрин Данэм, Баланчин и Вернон Дюк хотели начать представление черным хором, поющим русское погребальное песнопение. Я думаю, что это было бы удивительно. Этель же Уотерс взвилась до потолка. «Мой народ ничего такого петь не будет». И они убрали это, оставив только спиричуэле. Маленький Джо мертв. Она воскрешает его. Тодд Данкен — ангел, возвращающий того к жизни, о чем так молится Этель. Что ж, я думаю, Баланчин и Дукельский были оба разочарованы отсутствием в нем [т. е. в представлении. — И. В.] подобного авангардного привкуса (I REMEMBER BALANCHINE, 1991: 193).
Появление [Люцифера-]младшего (Папочка Сатана) — небольшой чисто инструментальный эпизод.
Тема быстроножки — как и предыдущее, краткий инструментальный эпизод.
Появление [Господнего] Генерала — высокий голос (сопрано?) соло и голоса альтово-сопранного регистра без слов с инструментальным сопровождением.
«Вдруг повезет в любви (Taking a chance on love)»[*] — женский голос с инструментальным сопровождением. Сохранились многочисленные записи, сделанные Этель Уотерс с оркестром Театра Мартина Бека (1940), с оркестром калифорнийской киностудии «Метро-Голдвин-Майер» (несколько версий: 19 сентября, 21 октября и 17 декабря 1942 г. — все, когда Дукельский был уже в войсках береговой охраны Нью-Йорка) и в сопровождении фортепиано (запись 19 сентября 1942 г.), а также запись исполнения Владимира Малинина (голос) и Дукельского (фортепиано) в его собственном эквиритмическом русском переводе, сделанная композитором в 1966 [году] на нью-йоркской студии радио «Свобода»[*].
«Домик в небесах (Cabin in the sky)»[*] — в клавире имеется версия для женского голоса соло (может исполняться и на два голоса) и инструментального ансамбля с указанием, что человеческий голос звучит в самом начале в унисон с флейтой и кларнетом, а также многочисленный дополнительный материал: переходы к варианту «Мисс Уотерс с хором», чисто инструментальная версия на момент перемены декораций. Номер был задуман с самого начала как хит. Сохранилась запись 1940 [года] — Этель Уотерс соло в сопровождении оркестра Театра Мартина Бека и позднейшая — дуэтом с Эдди Рочестером Андерсоном и в сопровождении хора и оркестра, сделанная на студии «МГМ» 30 сентября 1942 [года]. Есть и запись исполнения певца Владимира Малинина и Дукельского (фортепиано) в эквиритмическом переводе композитора, сделанная в 1966 [году] на «Свободе»[*].
«Делай что хочешь (Do what you wanna do)» — свинг для высокого мужского голоса с инструментальным ансамблем; в клавире сохранились наметки оркестровки; танцы для этого номера были поставлены Баланчиным (и Данэм).
Финал первого акта — чисто инструментальный, клавир с наметками оркестровки, а также многочисленный дополнительный хоровой и инструментальный материал к первому акту. Очевидно, здесь были и танцы в хореографии Баланчина и Данэм.
Антракт — около 9 минут музыки для хора и оркестра (клавир с наметками инструментовки).
Фуга — чисто инструментальная, примерно 5 минут музыки.
«В моем старом виргинском доме (In ту old Virginia home)» — тенор с инструментальным сопровождением. Текст Лятуша повествует о видениях Египта, пирамид и Нила, возникающих «в старом виргинском доме» героя. Сохранилась сделанная 18 ноября 1942 [года] на студии «МГМ» запись оркестровой версии в исполнении Луи Армстронга и его ансамбля.
Видение: балет — чисто инструментальный эпизод, с импровизационными вкраплениями, обозначенными в рукописи лишь как «7 тактов — барабаны», «78 тактов — барабаны и 4 такта — браслеты (?)»; т. н. «египетский балет», поставленный Баланчиным (и Данэм). Сохранились многочисленные фотографии (см. иллюстрацию перед текстом). Балет этот тематически связан с предшествующим номером и предвосхищает определенный культ афро-египетской образности, свойственный современной чернокожей общине США. Кэтрин Данэм вспоминает предшествовавшую балету импровизацию на ударных: «В „Хижине в небе“ у нас были фантастические барабанщики — двое кубинцев и один гаитянин» (I REMEMBER BALANCHINE, 1991: 192).
«Не так скверно (Not so bad)» — Оркестр и хор (в рукописи — без слов).
«Люби меня завтра (Love те tomorrow)» — Тенор с инструментальным сопровождением: в тексте мольба об избавлении от соблазна. Есть и танцевально-инструментальный вариант, с наметками оркестровки (в темпе блюза). Оркестровая версия была записана на студии «МГМ» 18 ноября 1942 [года].
«Любовь погасила свет (Love turned the light out)» — блюз, соло Петунии Джексон (Этель Уотерс в спектакле; сохранилась запись 1940 года с оркестром Театра Мартина Бека).
«Мед в улье (Honey in the honeycomb)» — саркастические куплеты для женского голоса с инструментальным сопровождением, контрастные предыдущему номеру; в рукописи имеются и две версии для хора (мальчиков и женского) с сопровождением. Мне известны запись 1940 года Этель Уотерс с оркестром Театра Мартина Бека, а также две записи — Лены Хорн (игравшей в фильме роль Джорджии Браун; в музыкальной комедии эта роль была, как мы уже говорили, без пения) и Этель Уотерс — в сопровождении оркестра, сделанные на студии «МГМ» 28 сентября 1942 года.
«Саванна (Savannah)» — стилизованный кубинский (tempo di Rumba) номер с пением; есть и чисто инструментальная версия с 16 тактами импровизации на ударных; в спектакле — танцевальный дуэт Этель Уотерс (Петуния Джексон) и Арчи Сэвиджа, поставленный Баланчиным.
Буря — оркестр и речитатив баритона (Господнего Генерала) «О, подуй Иегова, выдуй прах этот прочь!» и т. д.; в спектакле — сцена драки в игорном доме.
Речитатив Генерала — колебание между пением баритона и ритмо-декламацией на фоне инструментального сопровождения.
Начало последней сцены — инструментальный эпизод с наметками оркестровки: открывается долгим диалогом флейты и трубы на мотив заглавной песни спектакля «Cabin in the Sky», затем вступают струнные. По сюжету комедии — преддверие Страшного суда и возвращения в рай для Петунии и Джо.
Последняя сцена — оркестр, баритон (Генерал Господа) и хор высоких голосов (ангелы); в либретто — сцена Страшного суда и ожидания у райских врат. Речитатив Генерала «Приидите и встаньте в Господнем свете, приидите и присоединитесь к оркестру ангельскому» звучит на мотив, имитирующий интонации американских протестантских церковных гимнов.
Другие работы Дукельского о музыке и литературе,
а также воспоминания и стихи, в настоящее издание не вошедшие
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. The Theater Music Market // Theate Arts Monthly. — New York, 1937. — Vol. XXI, № 3. — P. 209–215.
Дукельский Владимир. Музыкальные итоги (1925–1945 гг.) // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1945. — № 22/23. — С. 51–60; 1946. — № 24/25. — С. 82–92; № 27/28. — С. 120–128; 1947. — № 31/32. — С. 81–93.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Gershwin, Schillinger, and Dukelsky: Some Reminiscences // The Musical Quarterly. — New York: G. Schirmer, Inc., 1947. — Vol. XXXIII, № 1. — P. 102–115.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Two-Headed Monster // Variety. — New York, October 20, 1954. — P. 43.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir], Passport to Paris. — Boston, Toronto: Little, Brown and Co., 1955.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. The Plight of the Perishable Composer // Hi Fi Review. — Chicago: Ziff-Davis Pub. Co., 1959. — Vol.
3, № 4. — P. 49–54, 74.
Дукельский Владимир. Послания / Предисл.: Владимир Марков. — Мюнхен: I. Baschkirzew, 1962.
Дукельский Владимир. Страдания немолодого Вертера: Вторая книга стихов. — Мюнхен: I. Baschkirzew, 1962.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Listen Here! A Critical Essay on Music Depreciation. — New York: Ivan Obolensky, Inc., 1963.
Дукельский Владимир. Картинная галерея: Третья книга стихов. — Мюнхен: I. Baschkirzew, 1965.
Дукельский Владимир. Рец. на: В Холливуде [sic!] с В. И. Немировичем-Данченко (посмертная книга С. Л. Бертенсона). 1964 // Современник: Журнал русской культуры и национальной мысли. — Торонто, 1965. — № 11. — С. 105–107.
Дукельский Владимир. Музыкальный поэт // Современник: Журнал русской культуры и национальной мысли. — Торонто, 1965. — № 12. — С. 60–67.
Дукельский Вл. Пятьдесят лет американской музыкальной комедии[: цикл из 31-й передачи на нью-йоркской студии радио «Свобода» (машинопись)]. — VDC, Box 129, folder «Radio Liberty».
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Blindfold Test // Down Beat: The Bi-weekly Music Magazine. — Elmhurst, IL, etc.: Maher Publications, 1966. — Vol. 33, № 4. — P. 35.
Дукельский Владимир. Бунин // Современник: Журнал русской культуры и национальной мысли. — Торонто, 1966. — № 13. — С. 68–83.
Дукельский Владимир. Новая советская музыка // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. — Мюнхен, 1966. — № 12. — С. 209–233.
Дукельский Владимир. Поездка куда-то: Четвертая книга стихов. — Мюнхен: I. Baschkirzew, 1968.
Дукельский Владимир. Об одной прерванной дружбе // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. — Мюнхен, 1968. — № 13/14. — С. 252–279.
Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. The Musicless Musical // Saturday Review. — New York, November 16, 1968. — P. 86–87, 92.
5. Сергей Прокофьев
Из переписки с Петром Сувчинским (1922–1925)
Этталь, 11 июля 1922
Дорогой Петр Петрович,Давно собираюсь написать Вам про «На путях», но увлекся сочинением «Огненного ангела» и никак не мог собраться.
Книгу читал с большим интересом и внимательно.
С идеей «Вечного устоя» во многом согласен, и вообще эта статья доставила мне большое удовольствие, хотя к стилю ее должен несколько придраться. В погоне за образностью выражения Вы часто впадаете в цветистость, а цветистость всего на шаг от нагроможденности. Вы часто «поете» и заслушиваетесь себя и тем ненужно затемняете смысл, точно иногда боясь стать простым. Лескова я, к стыду, недостаточно знаю и читал как раз «то, что не надо» — «На ножах» и пр[очее]. Но то, что Вы пишете, зовет к чтению (где можно достать?), и со взглядами на остальных писателей согласен. Блока тоже знаю далеко не всего, но, помня, что Вы мне о нем говорили, не ожидал такого приговора. Знаю и люблю «Розу и крест» и «Двенадцать». Лежит у меня его первый том стихов. Мелькают огоньки, но на каждой странице столько тухлых, затрепанных словечек, такие стереотипные красивости, что не раз хватала досада и хотелось швырнуть эту книгу в корзинку.
В «Религиях Индии» Трубецкой очень пикантно, признаюсь, ново для меня, хотя и не без предвзятости, освещает восточную мораль, но в приеме изложения я вижу ошибку. Трубецкой глубоко верит в каждую букву Писания, и его фундамент сделан не из камня, а из буквы. Поэтому для человека, пускай проникнутого христианской моралью, но не ее цитатами, мысли Трубецкого кажутся золотом, как-то неустойчиво водруженным на глиняные ноги. Только сражаясь на территории и оружием противника, возможно покорять и обращать, иначе ни одна стрела не долетит. Для кого же эта статья написана? Может быть, для тех, которые мыслят, как он, и наперед согласны с каждым словом, которое он скажет? Что же, перед такими декламировать приятно, но можно поставить себе задачу и пошире.
Бицилли нахватался много знаний, блещет словечками, за которыми надо лезть в энциклопедический словарь, но бестолковость его равна только его болтливости. Его статья подобна перепутанным страницам, то из географии, то из истории. Почему? Куда он ведет? Читателю непонятно, да, похоже, и автору.
Ну, вот, миленький, — попроси меня дать отзыв, и я сейчас же начну дерзить. Но заверяю Вас, книга читалась с большим интересом, часто вслух, по вечерам, сидя под большой круглой лампой.
<…>
Целую Вас, дорогой, крепко. Напишите, не очень ли Вы рассердились на мои разглагольствования про «На путях». И вообще напишите. Наша дача защищена горами с севера и юга, ветер бывает или с запада или с востока. Первый приносит дождь, второй — ведро. Мы их прозвали «подъевропником» и «евразийцем».
Прозвище скифа принимаю, хотя один чикагский критик, комментируя программу, в которой стояла Скифская сюита, и писал, что «скифы — народ, кочевавший в степях юго-восточной России и известный частыми страданиями дизентерией».
Обнимаю.Ваш СПркфв
Bourron-Marlotte,
Siene et Marne
25. VIII.1925
<…> О Вас по-прежнему ничего не слышно. Неужели все заедают разговоры, дела и евразийцы. Я шибко пишу балет, сочинил больше половины. Выходит очень до-мажорно[*].
Дочитал брошюру Трубецкого. Идея приятная, но доказательства, я сказал бы, слишком алгебраичны. X=Y, это хорошо, но это алгебра, здесь же иногда надо учитывать, что у «Y» висит хвост, а «X» содержит в себе крест, и т. д. Я хочу сказать, что некоторые обстоятельства у Трубецкого не приняты во внимание, и на них можно возражать[*].
<…>
Источник текста СУВЧИНСКИЙ, 1999: 72–73, 101.[695]
Из Дневника (1925–1930)
24 января [1925, Берлин]
Днем Сувчинский пригласил меня к Mme Гучковой, сестре Зилоти и матери Mlle Гучковой, которую я видел у него. Там было собрание евразийцев: профессор Франк, профессор Трубецкой, профессор Ильин, задававший мне сложные музыкальные вопросы, и какой-то господин из Москвы, который очень напористо стал хвалить Рославца и Мясковского[*]. В этой напористости играл важную роль московский патриотизм, который, говорят, там очень развился: вот мы какие. Когда же я сам стал расхваливать Мясковского и оказалось, что я его и лучше знаю и больше люблю, то он сделался сразу очень простым и милым. Впоследствии Сувчинский сказал мне на ухо, что этот человек из красного штаба, но сочувствует евразийству и здесь инкогнито. Жаль, что я не знал этого раньше, я бы отнесся к нему внимательней. Сам Сувчинский больше сидел в стороне, на диване с Mlle Гучковой, и они ласково ворковали. <…>
22 июня [1925, Париж]
<…> Дягилев <…> сказал: «<…> надо, Сережа, чтобы вы написали современный русский балет». «Большевицкий?» «Да». Признаться, я был довольно далеко от этого, хотя мне сразу представилось, что что-то из этого сделать можно. Но область чрезвычайно деликатная, в чем Дягилев отдавал себе отчет. Я решил сначала проинтервьюировать на эту тему Сувчинского и вообще сразу же предложить Дягилеву притянуть его к работе, так как Сувчинский знает и сцену, и музыку, и очень в курсе того, что творится сейчас в России. <…>
26 июня [1925, Париж]
<…> Прочел книжку, данную мне Сувчинским, — «Наследие Чингисхана» (взгляд на русскую историю не с запада, а с востока) неизвестного автора, не самого ли Сувчинского? Очень увлекательный взгляд на то, как идет линия нашей истории.
12 июля [1925, Париж]
Завтракал с Сувчинским, который был это время невидим. Разговор все время, естественно, о «большевицком балете». Сувчинский говорил, что он думал об этом, и, не раскрывая карт, беседовал с людьми умными и недавно из России приехавшими, в том числе с художником Рабиновичем и с Эренбургом. Последнего он не очень любит, но считает человеком умным и интересным, пускай неприятным и неприятно мыслящим. Общий вывод: такой балет сделать невозможно. Положение так остро, что нельзя написать балет нейтральный, надо делать его или белым, или красным. Белый нельзя, потому что невозможно изображать современную Россию русскому человеку через монокль Западной Европы; да, кроме того, разумно ли отрезать себя от России теперь, когда там как раз такой интерес к моей музыке? Красный балет делать тоже нельзя, так как он просто не пройдет перед парижской буржуазной публикой. Найти же нейтральную точку, приемлемую и с этой стороны, и с этой, невозможно, ибо современная Россия именно характеризуется борьбой красного против белого, а потому всякая нейтральная точка будет нехарактерна для момента. «Кто не с нами, тот против нас», поэтому нейтральная точка вызовет отпор и оттуда, и отсюда.<…>
18 июля [1925, Париж]
Дягилев наконец приехал, и сегодня мы завтракали: он, я, Кохно, Лифарь (слово, построенное по тому же принципу, что свинарь, звонарь, etc.), Нувель и «Пашка», премилый старичок, кузен Дягилева. Я спросил Дягилева: «Вы непременно настаиваете на большевицком балете?» Дягилев: «Непременно; я перед отъездом из Лондона даже говорил немного об этом с Раковским, нашим послом». «Нашим?» Дягилев усмехнулся: «Ну, да, вообще, российским». Я тогда изложил точку зрения Сувчинского, говоря, что мне она представляется вполне разумной. Он воскликнул: «В России сейчас двадцать миллионов молодежи, у которой… (тут нецензурное выражение о прославлении полового желания). Они и живут, и смеются, и танцуют. И делают это иначе, чем здесь. И это характерно для современной России. Политика нам не нужна!» <…>
8 июня [1926, Париж]
<…> Вечером должен был играть на каком-то концерте Русской культуры, имевшем якобы целью показать Парижу, что советская революция не убила еще российской культуры. Но Сувчинский закричал: «Вы не знаете, вы собираетесь играть! Русскую культуру поддерживают сочинения Стравинского и ваши да писатели, которые сейчас в советской России, несмотря ни на что, пишут замечательные вещи, а здесь какая-то эмигрантская накипь устраивает какой-то сборный концерт, на котором вам вовсе нет места». Словом, я послал телеграмму о том, что непредвиденные обстоятельства и прочее…
[Сводная запись от] 16 октября — 25 ноября [1926]
<…> Из других событий можно отметить лекции Карсавина о Евразийстве, очень интересные. Мы ходили туда несколько раз по приглашению Сувчинского. Там же я познакомился с Мариной Цветаевой, но дальше нескольких слов разговор не пошел. Были мы два раза у князя Bassiano, плохого композитора, но очень милого человека, итальянца, женатого на богатой американке. У них отличная вилла близ Версаля, и каждый раз они присылали за нами автомобиль. Я не очень люблю выезжать в «монды»[*], но эти люди были на редкость приятны, кормили замечательными завтраками, привозили и отвозили, — и я ездил туда с удовольствием. Кроме того, там бывали Сувчинский, Карсавин и другие евразийцы.
22 января [1927, Москва]
<…> Втроем, Мясковский, Асафьев и я, вышли на улицу и пошли к Держановскому, до которого было недалеко и к которому мы все были приглашены обедать к пяти часам. Я рассказывал про Сувчинского, как он живет, на ком женат, чем занимается и что такое Евразийство, умолкая, когда попадались встречные, ибо тема была нелегальная, да и Асафьев отметил, что письма к Сувчинскому и от Сувчинского, по-видимому, пропадают. Впрочем, переулки, которыми мы шли, были довольно пустынны, и поэтому разговаривать можно было свободно.
Когда я остановился после точки, Мясковский критически посмотрел на меня и сказал:
— Ну, ничего, вы, кажется, не забыли русского языка.
Я форменно смутился и даже рассердился:
— А почему мне, собственно, надо было его забыть? <…>
24 сентября [1927, Сен-Пале]
<…> Днем погода разошлась, появилось солнце, и мы с Сувчинским поехали в автомобиле в La Rochelle, что в 75 км от нас. Сувчинскому надо было повидать своего знакомого, князя Святополк-Мирского, а я с удовольствием взялся отвезти его в La Rochelle в автомобиле, так как дорога мне казалась интересной. И действительно, сначала были красивые поля, потом, перед Rochefort’oм, мы переехали через реку на плоту, а от Rochefort до La Rochelle была дивная дорога, по которой мы неслись со скоростью 80 км/час, доходя до 90. С океана дул ветерок, который, проходя над лугами, смешивался с запахом травы. Это приволье с бешеной скачкой в придачу приводило Сувчинского в совершенный восторг. В La Rochelle мы встретили князя, с которым я уже встречался у Bassiano. Это человек довольно любопытный: начал карьеру гвардейцем, во время Деникина брал у большевиков Орел, затем разочаровался в белом движении и, благодаря очень неплохим трудам по русской литературе, был охотно взят профессором в Лондонский университет. На почве его интереса к Евразийству между ним и Сувчинским возникло общение. Мы втроем походили по городу, в котором есть красивые давности, затем Сувчинский угощал нас вкусным обедом, причем князь не без священнодействия выбирал коньяки.
С Сувчинским разговор, как и в некоторые предыдущие разы, перешел на Стравинского, на его направление, на его религию. Сувчинский уверял, что религиозность чувств его самая подлинная и является результатом трудного творческого процесса, а также постоянного пребывания в страхе то за верность своего пути, то просто за свою судьбу и здоровье (он в каждом кармане носит по кресту).
Я сказал:
— Вот уж страх — не христианское чувство!
Князь:
— Наоборот, именно христианское, и в Библии все время говорится о страхе Божьем.
Я:
— Но это совсем другого рода страх, это не страх перед случайностями, а страх не оказаться образом и подобьем Божьим.
Князь:
— Наоборот, самый реальный страх перед вечным наказаньем.
Тут Сувчинский, объясняя страхи Стравинского, выпалил невероятную вещь:
— Да, да, страх быть избранным божеством, страх оттого, что на твоей шкуре выбивают дробь, как на барабане.
Я:
— У вас представление о Боге ветхозаветное, а не новозаветное.
И мне вдруг стало стыдно, что мы спорим о Боге, кончая вторую бутылку вина, поэтому я постарался не поддерживать этого разговора, и он скоро перешел на другие темы.
31 мая [1928, Париж]
Утром на репетицию Второго концерта Кусевицкого. На улице встретил Сувчинского, потом Лурье. Сувчинский идет посередине, разговаривая то со мной, то с Лурье. Я ухожу вперед, разозлившись.
<…>
24 ноября [1928, Париж]
<…> Пришел Сувчинский, исчезнувший со времени отъезда Асафьева. Сегодня вышел первый номер еженедельной газеты «Евразия», над выпуском которого Сувчинский работал как каторжник — и оттого и не было видно.
— Ну, теперь полегчает? — спросил я его.
— Куда там, — ответил Сувчинский, — теперь надо выпускать второй номер…
В музыкальном отношении в Сувчинском за это время произошли какие-то решительные сдвиги, в которых не последнюю роль сыграл, по-видимому, Асафьев. То есть Асафьев подточил — и что-то рухнуло. Дело касалось Стравинского, которого Сувчинский принялся свирепо поносить. Называл его зубром, политическим и религиозным, возмущался «Поцелуем феи»… <…>
22 декабря [1928, Париж]
<…> На «Евразию» около шестидесяти или восьмидесяти подписок из Кремля, а Сувчинскому — угрозные письма от правых эмигрантов. Он сияет.
14 апреля [1929, Париж]
Днем был Сувчинский, с которым мы обсуждали названия отдельных номеров для «Блудного сына». Я хотел, чтобы в будущей партитуре не осталось даже кохновских названий. Узнав, что я окончательно не еду этой весной в Россию, Сувчинский советовал не прерывать с нею отношений: теперь у них нет валюты и они в упадке, но через несколько месяцев они опять вылезут — на нефти, на лесах, лишь бы не подвел урожай. <…>
[Сводная запись от] 4–10 июня [1929, Париж]
Четвертого и шестого были на «Блудном сыне», один раз с Боровскими. Кларнетиста, после заявления Дезормьера с моим письмом в руках, выгнали. Это произвело впечатление на оркестр, который теперь играл лучше (хотя и в достаточной мере плохо). Народу в зале немного, не то что на открытии. Дягилев отсутствует. Кохно иногда мелькает, здоровается прилично, я — сухо. Сувчинский сидел с Лурье и по окончании, потирая руки, заявил мне: «Будет статья». То есть про «Блудного сына» в «Евразии»; писать будет Лурье, которому Сувчинский не хотел поручать, пока «Блудный сын» не понравился тому. Лурье, видимо, под впечатлением и хочет что-то сказать мне, но я оживленно здороваюсь и, быстро пожав ему руку, ухожу. Пусть на первое время останется с похвалой внутри себя. <…>
Август [1929, Париж]
<…> Евразийство, по словам Сувчинского, вступило в новую фазу. Тот советский офицер Ланговой, которого я однажды встретил на евразийском собрании в Берлине и с которым беседовал о Мясковском, теперь очень выдвинулся в начальники контрразведки[*], и через него один из евразийцев, Арапов, получил разрешение легально поехать в Москву — поговорить. Сувчинский говорит, что Маркс отлично разработал, как надо свергнуть капитал, но в дальнейшей стройке многого не хватает: ни предначертаний Маркса, ни новых идей у советского правительства. И вот тут и должны прийти на помощь евразийцы. Пока же они могут пригодиться большевикам как некий передаточный пункт для сношений с заграницей, пункт, менее одиозный для заграницы, чем сами большевики. Во всяком случае, Арапов уже в Москве — очень любопытно, во что это выльется. <…>
14 ноября [1929, Москва]
<…> Беседа о заказе оперы. Я цитирую Радлова. Агитопера не обязательна, нужно лишь, чтоб не шла вразрез с эпохой, и желателен пафос. Упоминание о Евразии. Я изумлен. Найдут валюту. Все это дает новый поворот делу, особенно в сравнении с разговором с Радловым. В результате интересных разговоров еле поспеваю домой, куда приходит Мясковский… <…>
17 ноября [1929, Москва]
<…>
К Яворскому, далекое Замоскворечье. Тесно — две комнаты, на три четверти заставленные двумя огромными роялями. Еще величественный Кубацкий, и его жена-балерина. Обед отличный, хотя Яворский теперь не в прежней чести. Яворский о Сувчинском, после того, как я оповестил его приезд. <…>
18 ноября [1929, Москва]
<…> В десять Лопашев, а затем Держановский. Я деликатно назвал цену в шесть тысяч долларов, смогу начать первого июля, возьмет год, но нельзя заключать контракт без сюжета. Он говорит, что считает сумму возможной, во главе Радио стоит старый партиец, который желает моего участия. В крайнем случае валюту испросят в Политбюро. Просит прислать книги о Евразии, ему нужно. Хочет Асафьева ассистентом. Беседа длится два часа. Затем захожу к С. Городецкому, которого третьего дня встретил в Драмсоюзе. Про него говорят плохо: он подлизывался к коммунистам, даже травил свою братию — писателей, но потом сам как писатель сошел со сцены. Зашел я по старой памяти (Скифский балет) и потому, что он жил как раз напротив. Необычно интересная квартира, на Красной площади, где вершились тайные дела при Годунове. В стене предполагают замурованных людей. Своды, старинная обстановка. Но неуютно. Он говорит о либреттах, захватывает меня, я прошу присылать, не хочу агитки, антирелигиозных выпадов и беру право перекраивать. <…>
[Сводная запись за] конец апреля — май [1930, Париж]
<…> Сувчинский долгое время где-то пропадал. Нашел я его в несколько беспокойном состоянии духа: он по секрету собирается в СССР. В этом отношении у него уже налажены связи кое с кем в Москве, а главным образом с Горьким. «Евразия» закрылась: нет денег, зато много разногласий между евразийцами. В ожидании Сувчинский занимается пением: у него здоровенный тенор. <…>
Источник текста ПРОКОФЬЕВ, 2002, II: 302, 331, 333, 338–339, 340, 414, 447, 468, 593–594, 630, 649, 659, 689–690, 710, 721, 732, 734, 735, 772.
Текст «Здравицы» (1939)
соч. 85
смешанный хор с сопровождением
симфонического оркестра
текст народный
Здравица написана на русский, украинский, белорусский, кумыкский, курдский, марийский и мордовский народные тексты.
В партитуре все транспонирующие инструменты написаны in С, т. е. так, как они звучат. В партиях английский рожок и валторны должны быть написаны in F, кларнет и трубы — in В.
Ударные инструменты (не считая литавр, ксилофона и колокольчиков) требуют трех исполнителей, в соответствии с чем они должны быть сгруппированы в три партии, а именно:
1) тарелки, бруски (Legno [дерево]);
2) малый барабан, треугольник;
3) бубен, большой барабан, тамтам.
Арфу желательно удвоить, у фортепиано открыть крышку.
Длительность произведения 12½ минут. Первое исполнение состоялось в Москве, 21 декабря 1939 года.
Più mosso (Moderate) [Быстрым шагом (Умеренно)]:
Pochissimo più animate [Слегка более оживленно]:
Allegro [Радостно]:
Andante, come prima [Шагом, как первая часть]:
Allegro [Радостно]:
Источник текста: ПРОКОФЬЕВ, 1941.[699]
Основные книги и публикации писем Прокофьева
Письма С. Прокофьева к В. Держановскому // Из архивов русских музыкантов. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. — (Труды ГЦММК). — С.??? — ???.
Прокофьев Сергей. Из переписки: Из ранних писем С. С. Прокофьева; Из писем к В. В. Алперс; Из переписки С. С. Прокофьева и С. М. Эйзенштейна; Годы странствий (письмо в редакцию журнала «К новым берегам») // Сергей Прокофьев: Статьи и материалы / Сост. и ред.: И. В. Нестьев и Г. Я. Эдельман. — М.: Музыка, 1965. — 2-е, доп. и перераб. изд. — С. 295–358.
Прокофьев Сергей. Автобиография / Ред., подгот. текста, коммент. и указатели: М. Г. Козлова. — М.: Советский композитор, 1973; 2-е доп. изд. 1982.
Письма С. С. Прокофьева — Б. В. Асафьеву (1920–1944) / Публ.: М. Козлова // Из прошлого советской музыкальной культуры / Сост. и ред.: Т. Н. Ливанова. — М.: Советский композитор, 1976. — Вып. 2. — С. 4–54.
Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка / Вступ. ст.: Д. Б. Кабалевский; Сост. и подгот. текста: М. Г. Козлова и Н. Р. Яценко; Коммент.: В. А. Киселев; Предисл. и указатели: М. Г. Козлова. — М.: Советский композитор, 1977.
Переписка С. Прокофьева с Д. Шостаковичем // Встречи с прошлым. — Вып. 3. — М.: Советская Россия, 1978. — С.??? — ???.
Из писем молодого Прокофьева к В. В. Держановскому // Музыка России. — Вып. 6. — М.: Советская музыка, 1986. — С.??? — ???.
Прокофьев о Прокофьеве: Статьи и интервью / Сост., текстол. ред. и коммент.: доктор искусствоведения В. П. Варунц. — М.: Советский композитор, 1991.
Selected Letters of Sergei Prokofiev / Translated, edited, and with an introduction by Harlow Robinson. — Boston: Northeastern University Press, 1998.
«Я часто с ним не соглашался…». Из переписки С. С. Прокофьева и П. П. Сувчинского [1921–1938] / Публ.: Елена Польдяева // Петр Сувчинский и его время / Ред. — сост.: Алла Бретаницкая; Консультант: Вадим Козовой. — М.: Композитор, 1999. — С. 56–104.
«Долгая дорога в „родные края“»: Из переписки С. С. Прокофьева с его российскими друзьями. [Из переписки с Элеонорой Дамской, Петром Сувчинским и Владимиром Держановским, 1920–1923] / Публ.: Юлия Деклерк // Сергей Прокофьев: К 110-летию со дня рождения. Письма, воспоминания, статьи / Ред. — сост.: М. П. Рахманова; Науч. ред.: М. В. Есипова. — М.: ГЦММК им. Глинки, 2001. — С. 5–119.
Прокофьев Сергей. Дневник 1907–1933: В 3 т. / Предисл.: Святослав Прокофьев. — Париж: sprkfv, 2002.
Прокофьев С. С. Рассказы / Предисл.: Святослав Прокофьев; Подгот. текста и сост.: Алла Бретаницкая. — М.: Композитор, 2003.
Письма С. С. Прокофьева к П. А. Ламму (1928–1951) / Публ.: Ирина Медведева // Сергей Прокофьев: К 50-летию со дня смерти. Воспоминания, письма, статьи / Ред. — сост.: М. П. Рахманова; Науч. ред.: М. В. Есипова. — М.: Дека-ВС; ГЦММК им. Глинки, 2004. — С. 274–316.
6. Игорь Маркевич
Текст «Псалма» (1933)
Allegramente — Lentamente — Con fuoco — Sostenuto e molto tranquillo
[Радостно. — Медленно. — С огнем. — Сдержанно и очень спокойно.]
Allegramente
Lentamente
(Мелодекламация:)
(Пение:)
Con fuoco
Sostenuto е molto tranquillo
Публикуемая здесь русская версия «Псалма» основывается на стандартном синодальном переводе Псалтири, одобренном Московской патриархией.[708]
Основные книги Маркевича
Markévitch Igor. Introduction á la musique: six causeries faites au studio de Radio-Lausanne. — Lausanne: Librairie Payot, 1940.
Markevitch Igor. Made in Italy. — Paris: R. Julliard, 1947.
Markevitch Igor. Curso panamericano de dirección de orquesta: del 20 de mayo al 25 de junio de 1957. — Mexico: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1957 (брошюра).
Markevitch Igor. Point d’orgue: Entretiens avec Claude Rostand. — Paris: R. Julliard, 1959. (Русский перевод в книге «Беседы с Игорем Маркевичем»).
Markevitch Igor. Être et avoir été. — Paris: Gallimard, 1980.
Markevitch Igor. Édition encyclopédique des neuf symphonies de Beethoven: analyse et gloses. — 91. — Paris: Éditions Van de Velde, 1982.
Markevitch Igor. Le testament d’Icare/Choix d’écrits présenté par Jean-Claude Marcadé. — Paris: Grasset, 1984.
Беседы с Игорем Маркевичем / Сост., пер. с фр., коммент. и прил.: Евгения Кривицкая; Консультант перевода: Алла Бретаницкая; Предисл.: Василий Синайский. — М.: Композитор, 2003.
Литература
АВРААМОВ 1916 — Авраамов Арсений. «Ультрахроматизм» или «омнитональность»? (Глава «О Скрябине») // Музыкальный современник: Журнал музыкального искусства. — Пг., 1916. — Кн. 4/5. — С. 157–168.
АВРААМОВ 1924 — Авраамов Арсений. Клин — клином… // Музыкальная культура. — М., 1924. — № 1. — С. 42–44.
АВРААМОВ 1939 — Авраамов Арс. Синтетическая музыка // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: МУЗГИЗ, 1939.- № 8 (август). — С. 67–75.
АВТОНОМОВА, ГАСПАРОВ 1996 — Автономова С. Е., Гаспаров M. Л. Якобсон, славистика и евразийство: две конъюнктуры, 1929–1951 // Материалы международного конгресса «100 лет P. O. Якобсону». — М.: РГГУ, 1996. — С. 39–40.
АЛЕКСЕЕВ 1924 — Алексеев А. Глазунов, Прокофьев, Стравинский: (К первому по возобновлении концерту Персимфанса) // Музыкальная новь: Орган Всероссийской ассоциации пролетарских музыкантов. — М.; Л., 1924. — № 10. — С. 20.
АЛПЕРС 1965 — Алперс В. Из прошлого // Сергей Прокофьев: Статьи и материалы / Сост. и ред.: И. В. Нестьев и Г. Я. Эдельман. — М.: Музыка, 1965. — 2-е, доп. и перераб. изд. — С. 23–251.
АЛЬШВАНГ 1933 — Альшванг А. Идейный путь Стравинского // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М., 1933. — № 5 (май). — С. 90–100.
АЛЬШВАНГ 1964–1965 — Альшванг А. Избранные сочинения: В 2 т. — М.: Музыка, 1964–1965.
АННЕНСКИЙ 1990 — Анненский Иннокентий. Стихотворения и трагедии / Вст. ст., сост., подгот. текста и примеч.: A. В. Федоров. — 3-е изд. — Л.: Советский писатель, 1990. — (Библиотека поэта. Большая сер.).
АПОЛЛИНЕР 1967 — Аполлинер Гийом. Стихи / Пер. с фр.: М. П. Кудинов; Вступ. ст. и примеч.: Н. И. Балашов. — М.: Наука, 1967.
АСАФЬЕВ 1928 — Асафьев Б. В. Музыка в кружках русских интеллигентов 20–40-х годов // De musica: Временник отдела музыки Государственного института истории искусств. — Л.: Academia, 1928. — Вып. IV. — С. 5–12.
АСАФЬЕВ 1936 — Асафьев Б. Волнующие вопросы. (Вместо выступления на творческой дискуссии) // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: МУЗГИЗ, 1936. — № 5 (май). — С. 24–27.
АСАФЬЕВ 1971 — Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс: Кн. 1 и 2 / Ред., вступ. ст. и примеч.: Е. М. Орлова. — Л.: Музыка, 1971.
АХМАТОВА 1976 — Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст.: А. А. Сурков; Сост., подгот. текста и примеч.: B. М. Жирмунский. — Л.: Советский писатель, 1976. — (Библиотека поэта. Большая сер.).
БАРАТЫНСКИЙ 1982 — Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы / Издание подготовил Л. Г. Фризман. — М.: Наука, 1982. — (Литературные памятники).
БЕЛЫЙ 1929 — Белый Андрей. Ритм как диалектика и «Медный всадник»: исследование. — М.: Федерация, 1929.
БЕЛЫЙ 1994 — Белый Андрей. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и примеч.: Л. А. Сугай. — М.: Республика, 1994. — (Мыслители XX в.).
БЕЛЯКАЕВА-КАЗАНСКАЯ 1998 — Белякаева-Казанская Л. Эхо Серебряного века. Малоизвестные страницы петербургской культуры первой трети XX века. — СПб.: Канон, 1998.
БИБЛИЯ 1990 — Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.: Московская патриархия, 1990.
БЛОК 1960–1963 — Блок Александр. Собрание сочинений: В 8 т. / Ред.: В. Н. Орлов, А. А. Сурков, К. И. Чуковский. — М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1960–1963.
БЛОК 1997 — Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. — М.: Наука, 1997.
БРЮСОВ 1973–1975 — Брюсов Валерий. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Художественная литература, 1973–1975.
ВИШНЕВЕЦКИЙ 2000 — Вишневецкий И. Г. Эстетика и практика музыкального евразийства: Случай А. Лурье и В. Дукельского // Евразийское пространство: Звук и слово: Междунар. конференция 3–6 сент. 2000: Тезисы и материалы. — М.: Композитор, 2000. — С. 181–201.
ВИШНЕВЕЦКИЙ 2001 — Вишневецкий Игорь. Стравинский в зеркале писем / Предисл.: Ирина Вершинина // Музыкальная академия: Ежеквартальный научно-теоретический и критико-публицистический журнал. — М., 2001. — № 4. — С. 180–184. — Рец. на кн.: Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. / Сост., текстол. ред. и коммент.: В. П. Варунц. — М.: Композитор, 1998–2000. — Т. 1–2. — Переизд. опубл. ранее: Вишневецкий Игорь. [Рецензия] // Новая русская книга. — СПб., 2000. - № 6. — С. 22–25.
ВИШНЕВЕЦКИЙ 2003 — Вишневецкий И. Г. Из эстетики и практики музыкального евразийства // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Рос. акад. наук. Научный совет «История мировой культуры»; Ин-т мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийская ассоциация университетов; Отв. ред.: Вяч. Вс. Иванов; Сост.: Л. О. Зайонц. Т. В. Цивьян. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — С. 482–548.
ВИШНЕВЕЦКИЙ 2004 — Вишневецкий Игорь. Памятка возвращающимся в СССР, или О чем говорили Прокофьев и Дукельский весной 1937 и зимой 1938 в Нью-Йорке // Сергей Прокофьев: Воспоминания, письма, статьи: К 50-летию со дня смерти / Ред. — сост.: М. П. Рахманова. — М.: Дека-ВС; ГЦММК им. М. И. Глинки, 2004. — С. 374–395.
В. П. 1927 — В. П. К постановке оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в ГАБТ // Музыкальное образование: Журнал, посвященный педагогическим, научным и общественным вопросам музыкальной жизни. — Изд-во Московской гос. консерватории, 1927. — № 3/4. — С. 66.
ГЛИНКА 1973 — Глинка М. Литературные произведения и переписка / Подгот.: А. С. Ляпунова. — М.: Музыка, 1973. — Т. 1. (Полное собрание сочинений).
ГЛИНКА В ВОСПОМИНАНИЯХ 1955 — Глинка в воспоминаниях современников / Общая ред.: А. А. Орлова. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1955.
ГОРЬКИЙ — СТАНИН 1997 — «Жму вашу руку, дорогой товарищ»: Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина / Публ., подгот. текста, вступ. и коммент.: Т. Дубинская-Джалилова и А. Чернев // Новый мир: Ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. — М., 1997. — № 9. — С. 167–192.
ГРАЧЕВ 1940 — Грачев П. Памяти А. Н. Римского-Корсакова // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: МУЗГИЗ, 1940. — № 12 (декабрь). — С. 99–100.
ГРИГОРЬЕВ 2003 — Григорьев В. П. Славь / немь, Запад / Восток, «зангезийство» /? (три оппозиции в идеостиле В. Хлебникова) // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Рос. акад. наук. Научный совет «История мировой культуры»; Ин-т мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийская ассоциация университетов; Отв. ред.: Вяч. Вс. Иванов; Сост.: Л. О. Зайонц. Т. В. Цивьян. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — С. 249–266.
ГРИНБЕРГ 1927 — Гринберг М. Сергей Прокофьев (К его выступлениям в Москве) // Музыка и революция. — М., 1927. — № 2 (14), февраль. — С. 15–17.
ГРУБЕР 1928 — Грубер Р. И. Из области изучения музыкальной культуры современности // De musica: Временник отдела музыки Государственного института истории искусств. — Л.: Academia, 1928. — Вып. IV. — С. 144–167.
ГРЭМ 1996 — Грэм Ирина. Орфический реквием: Тема и вариации в шести масках // Нева: Ежемесячный литературный журнал. — СПб., 1996. — № 3. — С. 27–82.
ДЕРЖАВИН 1864–1883 — Державин. Сочинения: В 9 т. / Сост. и объяснительные примеч.: Я. Грот. — СПб.: Изд. Императорской академии наук, 1864–1883.
ДОЛГОПОЛОВ 1973 — Долгополов Леонид. Александр Блок в последние годы жизни (По неизданным материалам) // Белые ночи: Очерки, зарисовки, документы, воспоминания / Сост.: И. И. Слобожан. — Л.: Лениздат, 1973. — С. 125–145.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1928 — Дукельский Владимир. Дягилев и его работа // Версты: Сборники. — Париж, 1928. — Сб. 3. — С. 251–255.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1929 — Дукельский Владимир. Модернизм против современности // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 9. — С. 7; № 17. — С. 8.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1931–1937 — Дукельский Владимир. Конец Санкт-Петербурга: Оратория для смешанного хора, сопрано, тенора, баритона и больш. оркестра. — Нью-Йорк, 1932 [1931]. — 1937. — VDC, Box 79, folder 1.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1931 — Дукельский Владимир. Эпитафия на могилу Дягилева: для сопрано, смешанного хора и оркестра / Слова Осипа Мандельштама. — Нью-Йорк, апрель — май 1931. — VDC, Box 80, folder 8.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1934–1965 — Дукельский Владимир. Посвящения для рояля [sic!] соло, сопрано облигато и больш. оркестра; Слова Guillaume Apollinaire: Партитура. — [Нью-Йорк,] 1937 [1934]. — 1965. — VDC, Box 83, folder 2.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1945–1947 — Дукельский Владимир. Музыкальные итоги (1925–1945 гг.) // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1945, — № 22/23. — С. 51–60; 1946. — № 24/25. — С. 82–92; № 27/28. С. 120–128; 1947. — № 31/32. — С. 81–93.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1962 — Дукельский Владимир. Послания / Предисл.: Владимир Марков. — Мюнхен: I. Baschkirzew, 1962.
ДУКЕЛЬСКИЙ 1966 — Дукельский Вл. Пятьдесят лет американской музыкальной комедии[: Цикл из 31-й передачи на нью-йоркской студии радио «Свобода» (машинопись)]. — VDC, Box 129, folder «Radio Liberty».
ДУКЕЛЬСКИЙ 1968 — Дукельский Владимир. Об одной прерванной дружбе // Мосты: Литературно-художественный и общественно-политический альманах. — Мюнхен, 1968. — № 13/14. — С. 252–279.
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 2003 — Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Рос. акад. наук. Научный совет «История мировой культуры»; Ин-т мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийская ассоциация университетов / Отв. ред.: Вяч. Вс. Иванов; Сост.: Л. О. Зайонц. Т. В. Цивьян. — М.: Языки славянской культуры, 2003.
ИВАНОВ 1929 — Иванов Владислав. Новые постановки балета Дягилева // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 28. — С. 8.
ИВАНОВ 1994 — Иванов Вячеслав. Родное и вселенское / Сост., вступ. ст. и примеч.: В. М. Толмачев. — М.: Республика, 1994. — (Серия «Мыслители XX века»).
ИПЛ 1968 — История польской литературы: В 2 т. / Ред.: В. В. Витт, И. С. Миллер, Б. Ф. Стахеев, В. А. Хорев. — М.: Наука, 1968–1969. — М., 1968. — Т. 1.
К ИСТОРИИ «ЕВРАЗИЙСТВА» 2001 — К истории «евразийства»: М. Горький и П. П. Сувчинский / Публ. Джона Мальмстада // Диаспора: Новые материалы / Отв. ред.: Владимир Аллой. — Париж; СПб.: Athenaeum; Феникс, 2001. — Т. I. — С. 327–347.
КАЗАНСКАЯ 1999 — [Белякаева-]Казанская Л. В. Артур Лурье и его первая музыкально-критическая статья «Капризы и лики. Бетховен и Вагнер» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год / Отв. ред.: Т. Г. Иванова. — СПБ.: Дмитрий Буланин, 1999. — С. 52–69.
КАЛТАТ 1924 — Калтат [Л]. Об эротической музыке // Музыкальная новь: Орган Всероссийской ассоциации пролетарских музыкантов. — М.; Л., 1924. — № 10. — С. 18.
КАРСАВИН 1992 — Карсавин Лев. Религиозно-философские сочинения. Т. 1 / Сост. и вступ. ст.: С. С. Хоружий. — М.: «Renaissance», СП «EWO-SàD», 1992.
КОРАБЕЛЬНИКОВА 1999 — Корабельникова Людмила. Александр Черепнин: долгое странствие. — М.: Языки русской культуры, 1999.
КОРЧМАРЕВ 1924 — Корчмарев Климентий. Скрябин в наши дни // Музыкальная новь: Орган Всероссийской ассоциации пролетарских музыкантов. — М., 1924. — № 6/7. — С. 15–16.
КУЗМИН 2000 — Кузмин М. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч.: Н. А. Богомолов. — 2-е изд., испр. — СПб.: Академический проект, 2000. — (Новая библиотека поэта).
ЛАРЕВ 1927 — Ларев. Концерт Н. К. Метнера, 25 февраля 1927 года // Музыкальное образование: Журнал, посвященный педагогическим, научным и общественным вопросам музыкальной жизни. — Изд. Московской гос. консерватории, 1927. — № 1/2. — С. 184.
ЛАРОШ-ФУКО, ПАСКАЛЬ, ЛАБРЮЙЕР 1990 — Ларош-Фуко Ф., Паскаль Б., Лабрюйер Ж. Суждения и афоризмы / Сост., предисл., примеч.: Н. А. Жирмунская. — М.: Политиздат, 1990. — (Личность. Мораль. Воспитание).
ЛИВШИЦ 1989 — Лившиц Бенедикт. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания / Вступ. ст.: А. А. Урбан; Сост.: Е. К. Лившиц и П. М. Нерлер. — Л.: Советский писатель, 1989.
ЛИТИНСКИЙ 2001 — Литинский Г. И. Жизнь, творчество, педагогика: Сборник статей, воспоминаний, документов / Сост.: А. В. Григорьева, — М.: Композитор, 2001.
ЛОМОНОСОВ 1950–1983 — Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений: В 11 т. — М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950–1983.
ЛОСЕВ 1995 — Лосев Алексей Федорович. Форма Стиль Выражение. — М.: Мысль, 1995.
ЛУРЬЕ 1915 — Лурье Артур. К музыке высшего хроматизма // Стрелец: Сборники / Под ред.: Александр Беленсон. — Пг., 1915. — Сб. 1. — С. 81–83.
ЛУРЬЕ 1917 — Лурье Артур. Речь к юношам-артистам Кавказа. — Баку: Первое типографское товарищество, 1917.
ЛУРЬЕ 1921а — Лурье Артур. В кумирне золотого сна: Симфоническая кантата для смешанного хора a capella. — М.: Государственное издательство, 1921.
ЛУРЬЕ 1921б — Лурье Артур. Скрябин и русская музыка. — Пг.: Государственное издательство, 1921.
ЛУРЬЕ 1926 — Лурье Артур. Музыка Стравинского // Версты: Сборники. — Париж, 1926. — Сб. 1. — С. 119–135.
ЛУРЬЕ 1928а — Лурье Артур. Две оперы Стравинского // Версты: Сборники. — Париж, 1928. — Сб. 3. — С. 109–126.
ЛУРЬЕ 1928б — Лурье Артур. О Рахманинове // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1928. — № 4. — С. 8.
ЛУРЬЕ 1928–1929 — Лурье Артур. Кризис искусства // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1928–1929. — № 4. — С. 8; № 8. — С. 8.
ЛУРЬЕ 1929 — Лурье Артур. Бела Барток // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 18. — С. 8.
ЛУРЬЕ 1933 — Лурье Артур. Пути русской школы // Числа: Сборники. — Париж, 1933. — Кн. 7/8. — С. 218–229.
ЛУРЬЕ 1943а — Лурье Артур. На тему о Мусоргском // Новоселье: Ежемесячный литературно-художественный журнал. — Нью-Йорк, 1943. — № 1. — С 72–77.
ЛУРЬЕ 1943б — Лурье Артур. О Шостаковиче (Вокруг 7-й симфонии) // Новый журнал. — 1943. — Кн. 4. — С. 367–372.
ЛУРЬЕ 1944 — Лурье Артур. Линии эволюции русской музыки // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1944. — Кн. 9. — С. 257–275.
ЛУРЬЕ 1961 — Лурье Артур. Чешуя в неводе. (Памяти М. А. Кузмина) // Воздушные пути: Альманах. — Нью-Йорк, 1961. — Вып. II. — С. 186–214.
ЛУРЬЕ 1962 — Лурье Артур. О мелодии // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1962. — Кн. 69. — С. 63–71.
ЛУРЬЕ 1965 — Лурье Артур. Феномен и ноумен в музыке // Воздушные пути: Альманах. — Нью-Йорк, 1965. — Вып. IV. — С. 158–161.
ЛУРЬЕ 1966 — Лурье Артур. О музыкальной форме // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1966. — Кн. 82. — С. 100–109.
ЛУРЬЕ 1969 — Лурье Артур. Наш марш // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1969. — Кн. 94. — С. 127–142.
ЛУРЬЕ 1996 — Лурье Артур. Артисты и грех // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1996. — Кн. 201. — С. 287–294.
МАНДЕЛЬШТАМ 1990 — Мандельштам Осип. Сочинения: В 2 т. — М.: Художественная литература, 1990.
МАРИТЕН 1999 — Маритен Жак. Знание и мудрость / Пер. с фр.: Л. М. Степачев; Науч. ред.: И. С. Вдовина. — М.: Научный мир, 1999.
МАРКЕВИЧ 2003 — Беседы с Игорем Маркевичем / Сост., пер. с фр., коммент. и прил.: Евгения Кривицкая; Консультант перевода: Алла Бретаницкая; Предисл.: Василий Синайский. — М.: Композитор, 2003.
МАРКОВ 1967 — Манифесты и программы русских футуристов / Ред. и предисл. (нем.): Владимир Марков. — Мюнхен: Wilhelm Fink Verlag, 1967.
МАРКУС 1940 — Маркус Ст. Об особенностях и источниках философии и эстетики Скрябина // Александр Николаевич Скрябин: Сборник к 25-летию со дня смерти (1915–1940) / Ред. и организатор сб. Ст. Маркус. — М.; Л.: Государственное музыкальное издательство, 1940. — С. 188–210.
МАЯКОВСКИЙ 1955–1961 — Маяковский Владимир. Полное собрание сочинений: В 13 т. — М.: ГИХЛ, 1955–1961.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 1973–1982 — Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред.: Ю. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия; Советский композитор, 1973–1982.
НАБОКОВ 1930 — Набоков Николай. Прокофьев // Числа. — Париж, 1930. — Кн. 2/ 3. — С. 217–228.
НАБОКОВ 1930–1931 — Набоков Н. Музыка в Германии: впечатления путешественника // Числа. — Париж, 1930–1931. — Кн. 4. — С. 200–203; 1931. — Кн. 5. — С. 212–216.
НАБОКОВ 1976 — Набоков Николай. «Свадебка» Игоря Стравинского // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1976. — Кн. 123. — С. 79–94.
НАБОКОВ — ДОБУЖИНСКИЙ 1996 — Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским / Публ., вступ. заметка и примеч. В. Старка // Звезда. — СПб., 1996. — № 11. — С. 92–108.
НИКИТИН 2001 — Василий Никитин. Свидетельские показания в деле о русской эмиграции / Публ. М. Ю. Сорокиной // Диаспора: Новые материалы / Отв. ред.: Владимир Аллой. — Париж; СПб.: Athenaeum; Феникс, 2001. — Т. I. — С. 587–644.
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ 1936 — Обсуждение проекта Сталинской Конституции // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: МУЗГИЗ, 1936. — № 10 (октябрь). — С. 3–5.
ОСТРЕЦОВ 1934 — Острецов А. Против формализма в музыке (о творчестве Г. Литинского) // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М., 1934. — № 4.
ПАМЯТИ БЛОКА 1922 — Белый Андрей, Иванов-Разумник, Штейнберг А. З. Памяти Александра Блока. — Пб.: Вольная философская ассоциация, 1922.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 1999 — Политическая история русской эмиграции 1920–1940 гг.: Документы и материалы / Ред.: проф. А. Ф. Киселев. — М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 1999.
ПОПОВ 1986 — Попов Гавриил. Из литературного наследия: Страницы биографии / Сост., ред., коммент. и указатели: З. А. Апетян. — М.: Композитор, 1986.
ПРОКОФЬЕВ 1941 — Прокофьев Сергей. Здравица: Соч. 85: Партитура / Сл. народные. — М.; Л.: Гос. муз. издательство, 1941.
ПРОКОФЬЕВ 1973 — Прокофьев Сергей. Автобиография / Ред., подгот. текста, коммент. и указатели: М. Г. Козлова. — М.: Советский композитор, 1973.
ПРОКОФЬЕВ 1991 — Прокофьев о Прокофьеве: Статьи и интервью / Сост., текстол. ред. и коммент.: доктор искусствоведения В. П. Варунц. — М.: Советский композитор, 1991.
ПРОКОФЬЕВ 2002 — Прокофьев Сергей. Дневник 1907–1933: В 3 т. / Предисл.: Святослав Прокофьев. — Париж: sprkfv, 2002.
ПРОКОФЬЕВ 2003 — Прокофьев С. С. Рассказы / Предисл.: Святослав Прокофьев; Подгот. текста и сост.: Алла Бретаницкая. — М.: Композитор, 2003.
ПРОКОФЬЕВ — МЯСКОВСКИЙ 1977 — Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка / Вступ. ст.: Д. Б. Кабалевский; Сост. и подгот. текста: М. Г. Козлова и Н. Р. Яценко; Коммент.: В. А. Киселев; Предисл. и указатели: М. Г. Козлова. — М.: Советский композитор, 1977.
ПРОКОФЬЕВА 1965 — Прокофьева Лина. Из воспоминаний // Сергей Прокофьев: Статьи и материалы / Сост. и ред.: И. В. Нестьев и Г. Я. Эдельман. — М.: Музыка, 1965. — 2-е, доп. и перераб. изд. — С. 174–232.
ПРОТИВ ФОРМАЛИЗМА 1936 — Против формализма и фальши: творческая дискуссия в Ленинградском Союзе советских композиторов (Сокращенный стенографический отчет) // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: МУЗГИЗ, 1936. — № 5 (май). — С. 28–73.
ПУШКИН 1962–1966 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962–1966.
РАБИНОВИЧ 2003 — Рабинович Е. Г. Незримая граница // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Рос. акад. наук. Научный совет «История мировой культуры»; Ин-т мировой культуры МГУ им. М. В. Ломоносова; Евразийская ассоциация университетов / Отв. ред.: Вяч. Вс. Иванов; Сост.: Л. О. Зайонц. Т. В. Цивьян. — М.: Языки славянской культуры, 2003. — С. 64–83.
РАХМАНИНОВ 1978–1980 — Рахманинов С. Литературное наследие: В 3 т. / Сост. — ред., автор вступ. статьи, коммент., указателей: З. А. Апетян. — М.: Советский композитор, 1978–1980.
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 1925 — Римский-Корсаков Г. Обоснование четвертитоновой музыкальной системы // De musica: Временник Разряда истории и теории музыки Государственного института истории искусств. — Л.: Academia, 1925. — Вып. I. — С.52–78.
РОЛЛАН 1935 — Роллан Ромен. О Стравинском (Из дневников военных лет) / Пер. с фр. рукописи: М. Рожицына-Гандэ // Советская музыка: Орган Союза советских композиторов. — М.: ОГИЗ-МУЗГИЗ, 1935. — № 5 (май). — С. 59–61.
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 1999 — Русский футуризм: Теория, практика, критика, воспоминания / Сост.: В. Н. Терехина, А. П. Зименков; Вступ. ст.: В. Н. Терехина. — М.: Наследие, 1999.
САБАНЕЕВ 1915 — Сабанеев Л. Эволюция гармонического созерцания // Музыкальный современник: Журнал музыкального искусства. — Пг., 1915. — Кн. 2. — С. 18–30.
САБАНЕЕВ 1923 — Сабанеев Л. Скрябин. — М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. — 2-е изд., перераб.
САВЕНКО 2001 — Савенко С. Мир Стравинского. — М.: Композитор, 2001.
САВИЦКИЙ 1997 — Савицкий Петр. Континент Евразия / Сост., послесл.: А. Г. Дугин. — М.: Аграф, 1997.
СЕЗЕМАН 1928 — Сеземан В. [Рецензия] // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1928. — № 6. — С. 6. — Рец. на кн.: Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. — М.: Изд. автора, 1927. — 248 с.
СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ 1929 — Святополк-Мирский Д. «Потомок Чингисхана» («La Tempête sur l’Asie») // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 22. — С. 8.
СТАЛИН 1932 — Сталин И. Вопросы ленинизма. — [М.:] Партийное издательство, 1932. — 9-е, доп. изд.
СТАСОВ 1894 — Собрание сочинений В. В. Стасова 1847–1886: В 3 т. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1894.
СТАСОВ 1974 1980 — Стасов В. В. Статьи о музыке: В 5(6) вып. — М.: Музыка, 1974–1980.
СТЕПАНОВ 2002 — Степанов Борис. Спор евразийцев о церкви, личности и государстве (1925–1927) // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002 годы / Ред.: М. А. Колеров. — М.: Три квадрата, 2002. — С. 74–174.
СТРАВИНСКИЙ 1988 — И. Стравинский: Публицист и собеседник/Составление, текстол. редакция, коммент., закл. статья и указатели: В. П. Варунц. — М.: Советский композитор, 1988.
СТРАВИНСКИЙ 1998–2003 — Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. (четвертый том не вышел из-за смерти составителя) / Сост., текстол. ред. и коммент.: В. П. Варунц. — М.: Композитор, 1998–2003.
СТРАВИНСКИЙ 2004 — Стравинский Игорь. Хроника. Поэтика / Сост., коммент., вступ. ст.: С. И. Савенко; Пер.: Э. А. Ашпис, Е. Д. Кривицкая, Л. B. Яковлева-Шапорина. — М.: РОССПЭН, 2004. — (Российские пропилеи).
СУВЧИНСКИЙ 1928 — Сувчинский П. П. Новый «Запад» // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1928. — № 2. — С. 1–2.
СУВЧИНСКИЙ 1929а — Сувчинский П. П. Pax Eurasiana // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 10. — С. 2.
СУВЧИНСКИЙ 1929б — Сувчинский П. П. О современном евразийстве // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 11. — С. 1–2.
СУВЧИНСКИЙ 1999 — Петр Сувчинский и его время / Ред. — составитель Алла Бретаницкая: Консультант Вадим Козовой. — М.: Композитор, 1999.
СУВЧИНСКИЙ 2001 — Сувчинский Петр. О музыке Игоря Маркевича / [Пер.: Евгения Кривицкая;] Публ.: Алла Бретаницкая // Музыкальная академия. — М., 2001. — № 1. — С. 132–133. Французский оригинал статьи — SOUVTCHINSKY 1932.
ТЮТЧЕВ 1984 — Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2 т. — М.: Художественная литература, 1984.
ТРУБЕЦКОЙ 1916 — Трубецкой Е. Н., кн. Умозрение в красках: вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. Публичная лекция, — М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916.
ТРУБЕЦКОЙ 1920 — Трубецкой Н. С., кн. Европа и человечество. — София: Российско-болгарское книгоиздательство, [1920].
ТРУБЕЦКОЙ 1995 — Трубецкой Н. С. История Культура Язык / Вступ. ст.: акад. Н. И. Толстой и проф. Л. Н. Гумилев; Сост., подгот. текста и коммент.: д.ф.н. В. М. Живов. — М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс» / Австрийская академия наук, 1995.
ФЕРМАН 1927 — Ф[ерман] Вал[ентин]. Авторские концерты Центрального Дома работников искусств // Музыкальное образование: Журнал, посвященный педагогическим, научным и общественным вопросам музыкальной жизни. — Изд-во Московской гос. консерватории, 1927. — № 3/4. — С. 67–69.
ФЛЕЙШМАН 2003 — Флейшман Лазарь. В тисках провокации: Операция «Трест» и русская зарубежная печать. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — (Из истории журналистики русского зарубежья. — Т. I).
ФЛОРЕНСКИЙ 1994–2000 — Флоренский Павел, священник. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1994–2000.
ФЛОРЕНСКИЙ 2000 — Флоренский Павел, священник. Собрание сочинений[, доп. том]: Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. — М.: Мысль, 2000.
ФЛОРОВСКИЙ 1926 — Флоровский Георгий В. «Окамененное бесчувствие». (По поводу полемики против евразийства) // Путь: Орган русской религиозной мысли. — Париж: Изд. Религиозно-философской академии, 1926. — № 2, январь. — С. 242–246.
ХЛЕБНИКОВ 1986 — Хлебников Велимир. Творения / Общ. ред. и вступ. ст.: М. Я. Поляков; Сост., подгот. текста и коммент.: В. П. Григорьев, А. Е. Парнис. — М.: Советский писатель, 1986.
— Ь 1927 — Ь. Сергей Прокофьев // Музыкальное образование: Журнал, посвященный педагогическим, научным и общественным вопросам музыкальной жизни. — Изд. Московской гос. консерватории, 1927. — № 1/2. — С. 179–180.
ЭМЕРСОН 2001 — Эмерсон Кэрил. «Арап Петра Великого» Артура Лурье: экзотический предок Пушкина в опере XX века // Пушкинская конференция в Стэнфорде, 1999: Материалы и исследования / Ред.: Дэвид М. Бетеа, А. Л. Осповат, Н. Г. Охотин и др. — М.: ОГИ, 2001. — С. 438–471. — (Сер. «Материалы и исследования по истории культуры». Вып. 7).
A. F. 1933 — A. F. New Music in Chicago // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1933. — Vol. V. № 4. — P. 223–225.
APOLLINAIRE 1914 — Apollinaire Guillaume. La vie anecdotique // Mercure de France: Series Moderne. — Paris, 1914.— CVIII, 16 avril. — P. 879–883.
APOLLINAIRE 1956 — Apollinaire Guillom. (Euvres poétiques / Texte dtabli et annoté par Marcel Adéma et Michel Décaudin; Préf. d’André Billy. — Paris: Gallimard, 1956.
ASCHENBRENNER 2002 — Aschenbrenner Joyce. Katherine Dunham: Dancing a Life. — Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002.
BARLOW 1941 — Barlow Samuel L. M. In the Theater // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1941. — Vol. XVIII. № 2. — P. 125–127.
BENTLEY 1995 — Bentley Toni. Constumes by Karinska / Forword by Edward Gorey; Essay by Lincoln Kirstein; Appendices. — New York: Harry N. Abrams, 1995.
CARTER 1938 — Carter Elliot. Orchestras and Audiences, Winter 1938 // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1938. — Vol. XV. № 3. — P. 170.
CARTER 1939 — Carter Elliott. Further Notes on the Winter Season // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1939. — Vol. XVI. № 2. — P. 176–179.
CHOREOGRAPHY BY BALANCHINE 1984 — Choreography by George Balanchine: A Catalogue of Works / Preface by Lincoln Kirstein; Introduction by Leslie George Katz, Nancy Lassalle, and Harvey Simmonds. — New York: An Eakins Press Foundation Book/Viking, 1984.
COPLAND 1931 — Copland Aaron. Contemporaries at Oxford, 1931 // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1931. — Vol. IX. № 1. — P. 17–23.
DE GFAEFF 1934 — De Graeff Alex. [Pays-Bas.] Igor Markevitch: Psaume pour soprano et orchestre // La revue musicale. — Paris, 1934. — № 143, Fevrier. — P. 166–169.
DREW 1980 — Drew David. Igor Markevitch: A Chronology; A Catalogue; The Early Works and Beyond // Tempo: A Quarterly Review of Modern Music. — London: Boosey and Hawkes, 1980. — № 133/134. — P. 10–38.
DUKE 1940 — Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Cabin in the Sky: Piano vocal score. — 1940. — VDC, Box 1, folder 1.
DUKE 1955 — Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Passport to Paris. — Boston, Toronto: Little, Brown and Co., 1955.
DUKE 1963 — Duke Vernon [Dukelsky Vladimir]. Listen Here! A Critical Essay on Music Depreciation. — New York: Ivan Obolensky, Inc., 1963.
DUKELSKY 1930 — Dukelsky Vladimir. With Justice, In Admiration, In Friendship: From Dukelsky to Prokofiev With Side Glances At Stravinsky // Boston Evening Transcript. — February 21, 1930.
DUKELSKY 1931 — Dukelsky V. Épitaphe: Partition d’Orchestre / Paroles de O. Mandelstam. — [New York, 1931]. — VDC, Box 80, folder 7 (писарская копия партитуры).
ENCYCLOPÉDIE DE LA MUSIQUE 1958–1961 — Encyclopédie de la musique. — Т. I–III. — Paris: Fasquelle, 1958–1961.
GOJOWY 1993 — Gojowy Detlef. Arthur Lourié und der russische Futurismus. — Regensburg: Laaber-Verlag, 1993.
GOLDBECK 1936 — Goldbeck Fred[eric]. Arthur Lourié: Concerto Spirituale // La revue musicale. — Paris, 1936.— 17e année, № 167, Juillet — Août. — P. 46–48.
I REMEMBER BALANCHINE 1991 — I Remember Balanchine: Recollections of the Ballet Master by Those Who Knew Him / Complied and ed. by Francis Mason. — [New York: ] Doubleday, 1991.
JAFFE 1998 — Jaffe Daniel. Sergey Prokofiev. — London: Phaidon Press Ltd., 1998. — (20-th-Century Composers).
KOCHNITZKY 1931 — Kochnitzky Léon. [Chroniques et notes: La musique en France et a I’étranger.] Igor Markévitch: Concerto grosso // La revue musicale. — Paris, 1931. — № 112, Février. — P. 164–165.
KOCHNITZKY 1938 — Kochnitzky Léon. [Chroniques et notes: La musique en France et a I’étranger: Belgique.] Igor Markévitch: Le Nouvel Âge (Concert populaire du Palais des Beaux-Arts) // La revue musicale. — Paris, 1938. — № 183, Avril — Mai. — P. 307–308.
KOCHNO 1970 — Kochno Boris. Diaghilev and the Ballets Russes / Tr. from the French by Adrienne Foulke. — New York and Evanston: Harper a Row, 1970.
LA VIE MUSICALE 1936 — La vie musicale // La revue musicale. — Paris, 1936. — № 163, Février. — P. I–II.
LOURIÉ 1925 — Lourié Arthur. La Sonate pour piano de Strawinsky / Traduit par R. Vandelle // La revue musicale. — Paris, 1925. — 6 année, № 10, ler Août. — P. 100–104.
LOURIÉ 1927 — Lourié Arthur. (Edipus-Rex / Traduit par B. de S[chloezer] // La revue musicale. — Paris, 1927. — 8 année, № 8, ler Juin. — P. 240–253.
LOURIÉ 1927a — Lourié Arthur. A propos de l’Apollon d’Igor Strawinsky // Musique: revue mensuelle de critique, d’histoire, d’esthetique et d’information musicales. — 1927. — ler année, № 3, 15 Décembre 1927. — P. 117–119.
LOURIÉ 1928 — Lourié Arthur. «Neogothic and Neoclassic» // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1928. — Vol. V. № 3. — P. 3–8.
LOURIÉ 1928–1929 — Lourié Arthur. Concerto Spirituale. — Paris, 1928–1929. — NYPLPA JPB 92–61 № 56.
LOURIÉ 1929–1930 — Loutié Arthur. An Inquiry into Melody // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1929–1930. — Vol. VII. № 1. — P. 3–11.
LOURIÉ 1931 — Lourié Arthur. Perspectives de l’École Russe / Traduit par Henriette de Gourko // La revue musicale. — Paris, 1931. — Numéro spécial «Géographie musicale 1931», Juillet — Août. — P. 160–165.
LOURIÉ 1932 — Lourié Arthur. The Russian School / Tr. S. W. Pring // The Musical Quarterly. — New York, 1932. — Vol. XVIII. — P. 519–529.
LOURIÉ 1944 — Lourié Arthur. Approach to the Masses // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1944. — Vol. XXI. № 4. — P. 203–207.
LOURIÉ 1966 — Lourié Arthur. Profanation et sanctification du Temps: Journal musical 1910–1960. Saint- Pétersburg — Paris — New York. — Paris: Desclée de Brouwer, 1966.
MACDONALD 1975 — Macdonald Nesta. Diaghilev Observed by Critics in England and the United States 1911–1929. — New York: Dance Horizons a London: Dance Books Ltd., 1975.
MARKEVITCH 1949 — Markevitch Igor. Made in Italy / Tr. Darina Silone. — London: The Harvill Press, 1949.
MARKEVITCH 1980 — Markevitch Igor. The Path to «Le Paradis perdue»: Extracts from a correspondence with Alex de Graeff // Tempo: A Quarterly Review of Modern Music. — London: Boosey and Hawkes, 1980. — № 133/134. — P. 52–57.
MARKEVITCH 1982 — Igor Markevitch / Hrgb. von Josef Heinzelmann. — Bonn: Boosey and Hawkes, 1982. — (Musik und Zeit: Dokumentationen und Studien. Bd. I).
MAVRODIN 1980 — Mavrodin Alice. What the Conductor Owes to the Composer // Tempo: A Quarterly Review of Modern Music. — London: Boosey and Hawkes, 1980. — № 133/134. — P. 68–70.
MAZO 1990 — Mazo Margarita. Stravinsky’s «Les Noces» and Russian Folk Wedding Ritual // Journal of the American Musicological Society. — Spring 1990. — Vol. 43. № 1. — P. 99–142.
MEYER-BAER 1970 — Meyer-Baer Kathi. Music of the Spheres and the Dance of Death: Studies in Musical Iconology. — Princeton: Princeton University Press, 1970.
MILOSZ 1990 — Milosz Czeslaw. The Captive Mind / Tr. from the Polish by Jane Zielonko. — New York: Vintage International, 1990.
MIRSKY 1989 — Mirsky [Prince] D. S[viatopolk-]. Uncollected Writings on Russian Literature / Edited, with an Introduction and Bibliography, by G. S. Smith. — Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989. — (Modern Russian Literature and Culture: Studies and Texts. — Vol. 13).
MOREUX 1980 — Moreux Serge. «Le Paradis perdue» In Its Time / Transl. Bernard Jacobson // Tempo: A Quarterly Review of Modern Music. — London: Boosey and Hawkes, 1980. — № 133/134. — P. 58–60. Впервые опубликовано в Le Cahier в июле 1936 г.
NABOKOV 1951 — Nabokov Nicolas. Old Friends and New Music. — Boston: Little, Brown and Co., 1951.
NABOKOV 1996 — Nabokov Vladimir. Novels 1955–1962 / Notes by Brian Boyd. — New York: Literary Classics of the United States, Inc., 1996. — (The Library of America).
NESTYEV 1946 — Nestyev Israel V. Sergei Prokofiev: His Musical Life / Tr. from Russian by Rose Prokofieva, introduction by Sergei Eisenstein. — New York: Alfred A. Knopf, 1946.
NOTITIA ORBIS ANTIQUI 1731 — Notitia Orbis Antiqui sive Georgaphia Plenior… illustratuit auxit L. Io. Conradus Schwartz, Eloq. a Graec. Ling. P. P. O. in Caliniriano. Lipsiae: Apud Ioh. Friderici Gleditschii, B. Fil., MDCCXXXI.
POTTER 1998 — Potter Pamela M. Most German of the Arts: Musicology and Society from the Weimar Republic to the End of Hitler’s Reich. — New Haven; London: Yale University Press, 1998.
PRUNIÈRES 1934 — Prunières Henry. Le Xlle festival de la S. I. М. C., à Florence // La revue musicale. — Paris, 1934. — № 145, Avril. — P. 317–321.
ROBINSON 1994 — Robinson Harlow. The Last Impresario: The Life, Times, and Legacy of Sol Hurok. — New York: Viking, 1994.
ROBINSON 2002 — Robinson Harlow. Sergei Prokofiev: A Biography. — 2nd ed., with a new preface. — Boston: Northeastern University Press, 2002.
ROLLAND 1952 — Rolland Romain. Journal des années de guerre, 1914–1919: Notes et documents piur servir à l’histoire morale de l’Europe de ce temps / Texte établi par Marie Romain Rolland; Préface de Louis Martin-Chauffier. — Paris: Éditions Albin Michel, MCMLII.
ROSS 1938 — Ross Hugh. «The End of St. Petersburg» by Vladimir Dukelsky: Program Notes. — New York, [n.p.] 1938.
ROTHE 1977 — Die älteste ostslawische Kunstdichtung 1575–1647 / Hrgb. von Hans Rothe. — Giessen: Wilhem Schmitz Verlag, 1976–1977. 2. Halbband. 1977.
SAMINSKY 1939 — Saminsky Lazare. Music of Our Day: Essentials and Prophecies. — New York: Thomas Y. Crowell, 1939.
SAMUEL 1971 — Samuel Claude. Prokofiev/Tr. Miriam John. — New York: Grossman Publishers, 1971.
SCHERR 1986 — Scherr Barry P. Russian Poetry: Meter, Rhythm, and Rhyme. — Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1986.
SCHLOEZER 1933 — Schloezer B. de. Igor Markdéitch // La nouvelle revue française: Revue mensuelle de littérature et de critique. — Paris, 1933.— T. XLI. — P. 310–314.
SCHLOEZER 1936 — Schloezer B. de. Les soirées de Bruxelles, et le «Paradis Perdu» de Markévitch // La nouvelle revue française: Revue mensuelle de littérature et de critique. — Paris, 1936. — T. XLVII. — P. 234–238.
SCHLOEZER 1939 — Schloezer В. de. Chronique musicale // La nouvelle revue française: Revue mensuelle de littérature et de critique. — Paris, 1939. — T. LIII. — P. 630–635.
SLONIMSKY 2004 — Slonimsky Nicolas. Writings on Music: In 4 volumes / Ed. Electra Slonimsky Yourke. — New York; London: Routledge, 2004.
SOUVTCHINSKY 1932 — Souvtchinsky Pierre. Sur la musique d’Igor Markévitch // La revue musicale. — Paris, 1932. — № 128, juillet — août. — P. 93–100; Переиздано в: Re(lire) Souvtchinski (1892–1985) / Texts choises par Eric Humbertclaude. — Paris, 1990. — P. 246–252. Русский перевод: СУВЧИНСКИЙ 2001.
SOUVTCHINSKY 1939 — Souvtchinsky Pierre. La Notion du temps et la Musique (Reflexions sur la typologie de la creation musicale) // La revue musicale. — Paris, 1939. — № 191. T. 1. — P. 70–80.
SOUVTCHINSKY 1953 — Souvtchinsky Pierre. Introduction: Domaine de la Musique Russe // Musique Russe / Études réunis par Pierre Souvtchinsky. — Paris: Presses Universitaire de France, 1953. — T. 1. — P. 1–26.
STRAVINSKY 1970 — Stravinsky Igor. Poetics of Music in the Form of Six Lessons/English translation by Arthur Knodel and Ingolf Dahl; Preface by George Seferis [a bilingual edition], — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1970. — (The Charles Eliot Norton Lectures for 1939–1940).
STRAVINSKY 1982–1985 — Stravinsky Igor. Selected Correspondence / Ed. and with commentaries by Robert Craft. — 3 v. — New York: Alfred A. Knopf, 1982–1985.
STRAVINSKY 1998 — Stravinsky Igor. Les Noces: In Full Score. — Mineola, N.Y.: Dover Publications, 1998.
STRAVINSKY, CRAFT 1966 — Stravinsky Igor, Craft Robert. Themes and Episodes. — New York: Alfred F. Knopf, 1966.
STRAVINSKY, CRAFT 1978 — Stravinsky Vera, Craft Robert. Stravinsky in Pictures and Documents. — New York: Simon and Schuster, 1978.
STRAWINSKY 1935 — Avant le Sacre: Mémoires inedits d’Igor Strawinsky [sic!] // La revue musicale. — Paris, 1935. — № 152, Janvier. — P. 1–14.
STRAWINSKY 1942 — Strawinsky Igor. Poétique musicale sous forme de six leçons. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942. — (The Charles Eliot Norton Lectures for 1939–1940).
TARUSKIN 1996 — Taruskin Richard. Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography of Works Through Mavra. — 2 v. — Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1996.
TARUSKIN 1997 — Taruskin Richard. Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays. — Princeton: Princeton University Press, 1997.
THOMSON 1932 — Thompson Virgil. Igor Markevitch: Little Rollo in Big Time // Modern Music: A Quarterly Review. — New York, 1932. — Vol. X. № I (November — December). — P. 19–23.
TRUBETZKOY 1975 — N. S. Trubetzkoy’s Letters and Notes / Prepared for publication by Roman Jakobson; With assistance of H. Baran, O. Ronen, and Martha Taylor. — Mouton: The Hague, Paris, 1975.
VAN NUFFEL 1995 — Nuffel Robert O. J. van. Léon Kochnitzky: Umanista belga, Italiano d’elezione, 1892–1965. — Bruxelles / Brussel-Rome: 1995. — (Bibliotheque / Institut historique beige de Rome; Bibliotheek / Belgisch Historisch Instituut te Rome. T. 35).
WYSCHNEGRADSKY 1924 — Wyschnegradsky Ivan. La Musique à quarts de ton // La revue musicale. — Paris, 1924. — № 11, ler Qctobre. — P. 231–234.
WYSCHNEGRADSKY 1972 — Wyschnegradsky Ivan. Ultrachomatisme et espaces non octaviants // La revue musicale. — Paris, 1972. — № 290/291. — P. 73–130.
WYSCHNEGRADSKY 2004 — The Birth of Chaos from the Spirit of Harmony: «The End of St. Petersburg» by Vladimir Dukelsky. — AION-Slavistica: Annali dell’Universita degli Studi di Napoli «L’Orientale». — Vol. 6. — Napoli: 2004. - C. 243–277.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
BnF — Bibliothèque nationale de France (Paris, France). Цитируются рукописные материалы из Музыкального отдела библиотеки и Библиотеки-музея Гран Опера (последнее оговаривается специально).
IP — The Ivask Papers. — Center for Russian Culture, Amherst College (Amherst, Massachusetts, U. S. A.).
NYPL-PA — The New York Public Library for the Performing Arts (New York, New York, U. S. A)
SKA — The Serge Koussevitzky Archive. — The Music Division of the Library of Congress (Washington, District Columbia, U. S. A.).
SPA — The Serge Prokofiev Archive. — The Music Department of the Goldsmiths College of the University of London (London, U. K.).
VDC — The Vernon Duke Collection. — The Music Division of the Library of Congress (Washington, District Columbia, U. S. A.).
Указатель упомянутых музыкальных сочинений
«Абесалом и Этери», опера (1909–1918; Палиашвили) 348[709]
«Аджал Ордуна (Не смерть, а жизнь)» опера (1938; Власов, Малдыбаев и Фере) 349
«Айчурек (Лунная красавица)», опера (1939; Власов, Малдыбаев и Фере) 349
«Алеко», опера (1892; Рахманинов) 316
«Александр Невский», музыка к фильму Сергея Эйзенштейна (1938; Прокофьев) 129, 136
«Алтын-Кыз (Золотая девушка)», музыкальная драма (1937; Власов, Малдыбаев и Фере) 349
«Антракт», балет (1938; Дукельский) 100
«Аполлон Мусагет», балет (1927–1928; Стравинский) 84, 225–227, 270, 389
«Арап Петра Великого», опера (1949–1961; Лурье) 35, 293, 448
«Асамблея», балет (1925; музыкальная компиляция из сочинений Гуно, Лядова, Скрябина, Орика, Рубинштейна) 386
«Баба-Яга», оп. 56, симфоническая картина (1891?-1904; Лядов)
«Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана (Лисичка)», весёлое представление для двух теноров, двух басов и камерного ансамбля (1915–1916; Стравинский) 189, 190, 219, 381
«Бал (La Bal)», балет (1929; Риети) 385
«Барабау (Barabau)», балет (1925; Риети) 385–386
«Барышня-крестьянка», опера (1-я ред. 1928–1931; испр. и доп. редакция — 1957; Дукельский) 316
«Бахчисарайский фонтан», опера (1907; Ильинский) 301
«Безумства Голдвина», см. «The Goldwyn Follies»
«Безумства Зигфельда 1936», см. «Ziegfeld Follies 1936»
«Бежин луг», оп. 20, музыка к фильму Сергея Эйзенштейна (1935–1936; Попов) 136
«Блудный сын», оп. 46, балет (1928–1929; Прокофьев) 117, 393, 418–419
«Болеро (Bolero)», балет (1928; Равель) 291
«Болт», соч. 27, балет (1930–1931; Шостакович) 116
«Большая фуга (Die Grosse Fuge)» для квартета, оп. 133 (1825; Бетховен) 280, 282
«Борис Годунов», опера (1868–1869 и 1871–1872; Мусоргский) 129, 283–284, 301, 333, 354
«В бурю», опера (1939, 2-я ред. 1952; Хренников) 349, 355
«В кумирню золотого сна», кантата (1919; Лурье) 90, 440
Вариации на тему Корелли для фортепиано, ор. 42 (1931; Рахманинов) 248
«Весна священная», балет (1910–1913; Стравинский) 16, 43–44, 73–74, 79–80, 125, 129–130, 143–147, 154, 184–185, 187–191, 195–196, 201, 206, 212, 215, 222, 224, 232, 262, 290, 314, 372, 381, 384, 392, 395, 429
«Вестсайдская история (West Side Story)», музыкальная комедия (1956; Бернстайн) 109
«Водяная нимфа», см. «Waternymph»
«Война и мир», оп. 91, опера (1941–1943, новая ред. 1946–1952; Прокофьев) 303, 307
Вторая симфония, оп. 40 (1924–1925; Прокофьев) 153, 393
Вторая симфония (1928–1931; Дукельский) 94
Вторая симфония «Антар», оп. 9 (1868, новые ред. 1875 и 1897; Римский-Корсаков) 374
Вторая симфония «Кормчая» (1939; Лурье) 35
Вторая соната для фортепиано, оп. 14 (1912; Прокофьев) 391–392
Вторая соната для фортепиано, ор. 36 (1913, 1931; Рахманинов) 248
Второй концерт для фортепиано с оркестром, оп. 16 (1912–1913, 1923; Прокофьев) 392
«Выкройка человеческая (La Taille de l’Homme)», концерт для голоса и инструментального ансамбля (1938–1941, не окончен; Маркевич) 147–149
«Гадкий утенок» для голоса и фортепиано (имеется и оркестровая версия), оп. 18 (1914; Прокофьев) 392
«Гимн национального освобождения (Inno della liberaione nazionale)» для голоса с сопровождением (1943–1944; Маркевич) 148
«Гимны (Hymnes)» для оркестра (1932–1933; Маркевич) 140, 143
«Голубой поезд (Le Train bleu)», op. 84, балет (1924; Мийо) 116
«Голубой бог (Le Dieu bleu)», балет (1912; Ган) 385
«Голубь», см. Два стихотворения К. Бальмонта (Стравинский) Грузинская рапсодия ля-минор для виолончели и камерного оркестра, оп. 25 (1922; Черепнин) 81
«Гюльсара», музыкальная драма (1936; Глиэр) 348
«Даиси», опера (1923; Палиашвили) 348
24 прелюдии для фортепиано, соч. 34 (1932–1933; Шостакович) 116
«Два стихотворения К. Бальмонта» для высокого голоса и фортепиано (1911; Стравинский) 184, 218
«Два стихотворения Верлена» для голоса и фортепиано, ор. 9 (1910; Стравинский) 218
«Две песни на стихи С. Городецкого» для голоса и фортепиано, ор. 6 (1907–1908; Стравинский) 218
«Две пьесы (Экспрессия и Мелодия)» для фортепиано, op. 1 (1925; Попов) 270
Девятая симфония для хора и оркестра, ор. 125 (1817–1823; Бетховен) 280, 317, 346
Десять пьес для фортепиано, оп. 12 (1906–1913; Прокофьев) 391, 394
«Докучные (Les Fâcheux)», балет (1923; Орик) 382, 385, 389–390
«Дубровский», оп. 58, опера (1895; Направник) 301
«Евгений Онегин», лирические сцены (1877–1878; Чайковский) 196, 198, 299, 301, 308–309, 316, 345–346
«Египетские ночи (Клеопатра — в постановке Дягилева)», оп. 50, балет (1900; Аренский) 380–381, 384
«Жар-птица», сказка-балет (1909–1910; Стравинский) 184–185, 303, 381
«Женитьба», опера (1868, не оконч.; Мусоргский) 333
«Жизнь за царя», опера (1834–1836; Глинка) 195–198, 213, 302–303, 349
«Иван Грозный», оп. 116, музыка к фильму Сергея Эйзенштейна (1942–1946; Прокофьев) 90, 129, 133, 136
«История солдата», см. «Сказка о солдате»
«Заклинание (Beschwurung)», романс на сл. Пушкина (1861–1864; Ницше) 300, 316
«Здравица», оп. 85, кантата (1939; Прокофьев) 10, 53, 92, 128–129, 131–134, 154, 421–424, 443
«Зефир и Флора», балет (1924; Дукельский) 82, 270, 386
«Золотой петушок», опера (1906–1907; Римский-Корсаков) 286, 301, 354
«Кавказский пленник», опера (1857–1882; Кюи) 316
«Каменный гость», опера (1866–1869; Даргомыжский) 204, 301, 307
«Кантата» для сопрано и мужского хора с оркестром, сл. Ж. Кокто (1930; Маркевич) 117–118, 337
«Кантата к XX-летию Октября», оп. 74 (первонач. «Кантата о Ленине», 1936–1937; Прокофьев) 10, 53, 62, 127–131, 134, 154, 337–342, 353, 355, 366, 414
«Капитанская дочка», опера (1911; Кюи) 316
«Карнавал (Camaval)» для фортепиано, ор. 9 (1834–1835; Шуман) 385
«Картинки с выставки» для фортепиано (1874; Мусоргский)
«Кикимора», оп. 63, симфоническая картина (1909; Лядов)
«Клеопатра», балет, см. «Египетские ночи» (1900; Аренский)
«Князь Игорь», опера (1869–1887, завершена Римским-Корсаковым и Глазуновым) 302, 380–381, 384
«Колыбельные песни кота», вокальная сюита для среднего голоса и трёх кларнетов (1915; Стравинский) 189–190, 219
«Комсомол — шеф электрификации», ор. 14, музыка к фильму Шуб (1932; Попов) 266, 270
«Конец Санкт-Петербурга», оратория (1931–1937; Дукельский) 10, 55, 63, 74, 82, 85–96, 98, 101, 129, 153–154, 341, 395–406, 436
Концерт для оркестра (1943; Барток) 250
Концерт для камерного оркестра «Dumbarton Oaks» (1937–1938; Стравинский) 363, 367
Концерт для фортепиано и духовых (1923–1924; Стравинский) 191, 193, 220–222, 224, 226
Концерт для фортепиано с оркестром (1929; Маркевич) 335
Концерт для фортепиано с оркестром, ор. 20 (1897; Скрябин) 177
Концерт для фортепиано с оркестром до-мажор (1923, не оркестрован, исполняется в оркестровке Скотта Данна; Дукельский) 82
Концерт ре-мажор для флейты, скрипки и камерного оркестра, оп. 33 (1924; Черепнин) 81
Концертный этюд № 2 «Танец гномов» (Gnomenreigen, 1862 или 1863; Лист) 293
«Кошка (La Chatte)» (1927; Core) 385–386
«Лани (Les Biches)», балет (1923, новая орк. 1939–1940; Пуленк) 382, 385
«Легенда об Иосифе (Josephslegende)», ор. 63, балет (1913–1914; Р. Штраус) 385
«Лед и сталь», опера (1930; Дешевов) 346
«Леди Макбет Мценского уезда», соч. 29, опера (1930–1932; новая ред. под назв. «Катерина Измайлова», 1955–1963; Шостакович) 347
«Лирическая сюита (Lyrisk Suite)» для оркестра (первоначально — фортепиано), ор. 54 (1891, орк. 1904; Григ) 293
«Любовь к трем апельсинам», оп. 33, опера (1919, Прокофьев) 116, 120, 434
«Мавра», опера-буффа (1921–1922; Стравинский) 195–204, 209–210, 212–213, 219, 221, 224, 301
«Мазепа», опера (1883; Чайковский) 316
«Маленькая камерная музыка» (1924; Лурье) 36
«Марш гномов» (Troldtog, 1891; Григ) см. «Лирическая сюита»
«Матросы (Les Matelots)», балет (1925; Орик) 382, 385
«Метаморфозы», балет (1913; Штейнберг), см. «Мидас»
«Мидас», балет (фрагмент не поставленного целиком балета «Метаморфозы», 1913; Штейнберг) 384
«Мимолетности» для фортепиано, оп. 22 (1915–1917; Прокофьев) 307
«Моцарт и Сальери», оп. 48, опера (1897; Римский-Корсаков) 316
«Незабудочка-цветочек», см. Два стихотворения К. Бальмонта (Стравинский)
«Новое платье короля (L’Habit du Roi)», балет (1929, не завершен; Маркевич) 337, см. также «Кантата» (1930; Маркевич)
«Нюрнбергские мейстерзингеры (Die Meistersinger von Nümberg)», опера (1862–1867; Вагнер) 118
«Огненный ангел», оп. 37, опера (1919–1927; Прокофьев) 116, 119, 128–129, 153, 412
«Ода», см. «Кантата» для сопрано и мужского хора с оркестром (Маркевич)
«Ода: Вечернее размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния», кантата-балет, сл. Ломоносова (1927; Набоков) 270
«Общественный сад» (также известен как «Jardin Public»), балет (1934–1935; Дукельский) 94, 112, 386
Октет для духовых (1922–1923; Стравинский) 191, 193, 198, 220–222, 224, 393
«Опричник», опера (1870–1872; Чайковский) 134
«Ошибка барышни Смерти» для фортепиано, музыка к пьесе Хлебникова (1917; Лурье) 23
«Парад (Parade)», балет (1916; Сати) 382
«Парсифаль (Parsifal)», опера (1877–1882, Вагнер) 70
Партита для фортепиано и малого оркестра (1931; Маркевич) 136, 336–337
«Пастораль (La Pastorale)», балет (1926; Орик) 385–386
«Па-де-де — блюз», балет (1940; Дукельский) 100
Первая симфония «Классическая», оп. 25 (1916–1917; Прокофьев) 392
Первая симфония, ор. 26 (1900; Скрябин) 177, 181, 261
Первая симфония (1905–1907; Стравинский) 184
Первая симфония (1926–1928; Дукельский) 82, 128
Первая «Simfonia Dialectica» (1930; Лурье) 35, 54, 55
Первая соната для фортепиано соль-минор (1920–1921; Дукельский) 82
Первый концерт для фортепиано с оркестром, оп. 10 (1911–1912; Прокофьев) 131, 391, 394
Первый концерт для фортепиано с оркестром, оп. 12 (1919–1920; Черепнин) 81
«Песнь любви (Cantique d’amour)», симфоническая поэма для оркестра (1936; Маркевич) 136
«Песня Соловья», симфоническая поэма (1916–1917; Стравинский) 186
«Петрушка», потешные сцены в четырех картинах (1910–1911; Стравинский) 79, 94, 176, 185–186, 189–190, 232, 334, 363, 374–375, 381
«Пиковая дама», оп. 68, опера (1890; Чайковский) 90, 198, 301, 303, 309, 397 и «Конец Санкт-Петербурга» Дукельского 90, 397
«Пир», балет (1925; музыкальная компиляция из сочинений Глазунова, Аренского. Мусоргского, Сати, Делиба, Н. Черепнина) 386
«Пир во время чумы», опера (1901; Кюи) 316
«Пир во время чумы», опера-балет в двух действиях на тексты Пентадия, Авсония, Петрарки и Пушкина (1931–1933; Лурье) 35, 316
«По траве не ходить! (Don’t Step on the Grass)», музыкальное ревю (1940; Дюк (Дукельский] и др.) 100
«Победа над солнцем», футуристическая опера (1913; Матюшин) 53
«Погребальная песнь» для большого оркестра, ор. 5 (1908; Стравинский) 184
«Погребальные игры в честь хроноса» для трех флейт, фортепиано и литавр (1964; Лурье) 66, 156
«Поднятая целина», песенная опера (1937; Дзержинский) 347
«Полет Икара», балет (1932; Маркевич) 95, 139, 140–144, 147
«Порги и Бесс (Porgy and Bess)», опера (1935, Гершвин) 106
«Посвящения» (также известны как «Dédicaces»), концерт для фортепиано и сопрано с оркестром (1934–1937; Дукельский) 82, 96–98, 146, 436
«Потерянный рай (Le Paradis perdu)», оратория (1934–1935; Маркевич) 136, 137, 141–143
«Поэма экстаза» для оркестра, ор. 54 (1905–1907; Скрябин) 177, 215, 344
«Предварительное действо» для неограниченного состава исполнителей (1914–1915; Скрябин) 143, 311
Прелюд для рояля в высшем хроматизме, оп. 12, № 2 (1915?; Лурье) 19–20, 116, 164 (факсимильное воспроизведение)
Прелюдия до-диез минор ор. 3, № 2 (1892, Рахманинов) 246, 248
«Прибаутки», шуточные песенки для среднего голоса и ансамбля на русские народные тексты (1914; Стравинский) 73, 189–190, 373
«Прометей (Поэма огня)» для оркестра, фортепиано, хора и клавишного светомузыкального инструмента, ор. 60 (1909–1910; Скрябин) 143, 176–177, 215, 219
«Псковитянка», опера (1868–1872, новые ред. 1877 и 1891–1892, доп. 1898; Римский-Корсаков) 354
«Псалом», кантата (1933; Маркевич) 143–149, 426–429
«Пульчинелла» (Pulcinella), балете пением (1919–1920; Стравинский) 191, 196, 381, 393
Пятая симфония, соч. 47 (1937; Шостакович) 290–291, 350, 355
Пятая соната для фортепиано, оп. 38 (1923; Прокофьев) 393
«Пять легких пьес» для фортепиано в четыре руки (1917; Стравинский) 219
Пять романсов на сл. А. Ахматовой, оп. 27 (1916; Прокофьев) 392
«Пять стихотворений К. Бальмонта» для голоса с фортепиано, оп. 36 (1921; Прокофьев) 119
Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, ор. 43 (1934; Рахманинов) 248
«Ребус», балет (1931; Маркевич) 141–142, 336–337
«Регтайм» для одиннадцати инструментов (1918; Стравинский) 224
Реквием для солистов, хора и оркестра (1791; Моцарт) 317
«Ромео и Джульетта» (1925–1926; Ламберт), см. «Romeo and Juliet»
«Ромео и Джульетта», оп. 64, балет (1935–1936; Прокофьев) 129
«Ромео и Джульетта» (1937; Дюк), см. «Romeo and Juliet»
«Руслан и Людмила», опера (1838–1841; Глинка) 197–198, 213, 301, 303, 307
«Русалка», опера (1856; Даргомыжский) 204, 316
«Салат (Salade)», балет, ор. 83 (1924; Мийо) 383, 386
«Сарказмы» для фортепиано, оп. 17 (1912–1914) 307
«Свадебка», русские хореографические сцены с пением и музыкой (1914–1923; Стравинский) 16–17, 43, 50, 54, 73–80, 104, 108, 130–131, 153–154, 186, 189–191, 196, 203, 209, 212–213, 232, 254, 334, 381, 383, 385, 390, 443
«Светлый ручей», соч. 39, балет (1934–1935; Шостакович) 347
Седьмая симфония «Ленинградская», соч. 60 (1941; Шостакович) 34, 287–292, 440
«Семеро их», оп. 30, кантата, сл. К. Бальмонта (1917–1918; 1933) 153 «Серенада in А» для фортепиано (1925; Стравинский) 191, 193–194, 205, 207, 226
«Симфонии духовых» памяти Дебюсси (1920; Стравинский) 50, 191, 222
Симфонические танцы для оркестра, ор. 44 (1940; Рахманинов) 248
«Симфония псалмов» для хора и оркестра (1930, Стравинский) 53–54, 74, 79, 89, 94, 98, 144, 145, 406, 429
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», опера (1903–1904; Римский-Корсаков) 345
«Сказка», оп. 29, симфоническая поэма (1879–1880; Римский-Корсаков) 303
«Сказка о солдате» (1918; Стравинский) 191, 196, 210, 232
«Сказка о царе Салтане, его сыне славном Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Лебеди», опера (1899–1900; Римский-Корсаков) 301
«Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», оп. 21, балет (1915, новая ред. 1920; Прокофьев) 119, 307, 383
«Скифская сюита» для оркестра, оп. 20 (1914–1915; Прокофьев) 85, 153, 392, 395, 413
«Скифы», симфоническая поэма, оп. 13 (1913; Сенилов) 85
«Скупой рыцарь», оп. 24, опера (1904; Рахманинов) 301
«Соловей», лирическая сказка (опера) (1909–1914; Стравинский) 185–186, 218
Соната для скрипки соло (1944; Барток) 250
Соната для фортепиано фа-минор «Appassionata», ор. 57 (1804; Бетховен) 346, 355
Соната для фортепиано fis-moll (1903–1905; Стравинский) 184, 218
Соната для фортепиано (1924; Стравинский) 33, 36, 191, 193–194, 216, 219, 220–224, 226
«Стальной скок», оп. 41, балет (1925–1926; Прокофьев) 114, 307, 383, 386–387, 393, 403, 413–416
«Страсти по Иоанну (Johannes-Passion)», литургическая оратория (1723; Бах) 198, 219
«Страсти по Матфею (Matthäus-Passion)», литургическая оратория (1729; Бах) 198, 219
«Сюрреалистическая сюита» для фортепиано (1939; Дукельский) 100–101
«Тарас Бульба», опера (1880–1891; Лысенко, орк. Л. Штейнбергом в 1924) 349
«Тиль Уленшпигель (Till Eulenspiegels lustige Streiche)», симфоническая поэма, op. 28 (1894–1895; Штраус) 385
«Тихий Дон», песенная опера (1935, 2-я ч. 1967; Дзержинский) 347
Токката для фортепиано ре-минор, оп. 11 (1912; Прокофьев) 391, 394
«Трагедия Саломеи (La Tragédie de Salomé)», op. 50, балет (1907; Шмит) 384–385
Третий концерт для фортепиано с оркестром, оп. 26 (1917–1921; Прокофьев) 84, 384, 392–393
Третий концерт для фортепиано с оркестром, оп. 48 (1931–1932; Черепнин) 81
Третья симфония «Eroica», op. 55 (1803; Бетховен) 346
Третья симфония (1944–1946; Дукельский) 155
Третья симфония, оп. 44 (1928; Прокофьев) 393
Третья симфония «Первомайская», соч. 20 (1929; Шостакович) 94
Третья симфония, ор. 44 (1935–1936, новая редакция 1938; Рахманинов) 248
«Треуголка (El sombrero de tres picos / Le Tricorne)», балет (1917–1919; де Фалья) 381
«Три истории для детей» для голоса и фортепиано (1915–1917; Стравинский) 189, 219
«Три легкие пьесы» для фортепиано в три руки (1914; Стравинский) 219
«Три песенки (из воспоминаний юношеских годов)» для голоса и фортепиано (1906, 1913; Стравинский) 189, 219
«Три сатиры для смешанного хора», ор. 28 (1926; Шёнберг) 62
«Три стихотворения Ипполита Богдановича» для высокого голоса и фортепиано (1925; Дукельский) 270
«Триумф Нептуна (The Triumph of Neptune)» (1926; Бернерс) 386
«Фавн и пастушка», сюита для меццо-сопрано и симфонического оркестра (1906–1907; Стравинский) 184
Фантастическая симфония, ор. 14 (1830–1831; Берлиоз) 292–293
«Фантастическое скерцо», ор. 3, для большого оркестра (1907–1908; Стравинский) 184, 218
«Фейерверк», ор. 4, фантазия для большого оркестра (1908; Стравинский) 184
«Фронт и тыл», опера-оратория (1930; Гладковский), 2-я редакция оперы «За красный Петроград» («1919 год»), сочиненной в соавторстве с Е. В. Пруссаком 346
«Хованщина», опера (1872–1880; Мусоргский) 283, 333
«Царь Эдип», опера-оратория (1926–1927; Стравинский) 205–216, 225–226, 232–233
Четвертая симфония, ор. 60 (1806; Бетховен) 361
Четвертый концерт для фортепиано с оркестром, ор. 40 (1927, 1941; Рахманинов) 248
Четвертый концерт (Фантазия) для фортепиано с оркестром, оп. 78 (1947; Черепнин) 81
«Четыре русских песни» для голоса и фортепиано (1918–1919; Стравинский) 189
«Шах-Сенем», оп. 69, опера (1923–1927, 2-я ред. 1934; Глиэр) 348
Шестая симфония, соч. 54 (1939; Шостакович) 148, 290–291
«Шехеразада», соч. 35, симфоническая сюита (1888; Римский-Корсаков) 380–381, 384
«Щелкунчик», оп. 71, балет (1891–1892; Чайковский) 349
«Эпитафия», кантата (1932; Дукельский) 82, 92–95, 98, 436
«Юнион Пасифик», балет (1934; Набоков) 112
5 préludes op. 1 для фортепиано («préludes fragiles», 1908–1910; Лурье) 19
«Apollo et Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis (Аполлон и Гиацинт сиречь Метаморфоз Гиацинта)», латинская комедия (1767; Моцарт) 212, 220
«Cabin in the Sky (Хижина в небе; другой перевод: Домик в небесах)», музыкальная комедия (1939; Дюк [Дукельский]) 98–108, 103, 407–410, 450
«Cinéma-Ouverture» для оркестра (1931; Маркевич) 136
«Concert Champêtre» для фортепиано с оркестром (1927–1928; Пуленк) 389
«Concerto Grosso» для оркестра (1930; Маркевич) 136, 336–337, 451
«Concerto Spirituale» для фортепиано, солистов, хора и оркестра духовых, ударных и контрабасов (1928–1929; Лурье) 34, 48, 50–57, 73, 88–89, 98, 129, 142–143, 233–239, 457
«Cuadro flamenco» (муз. народная; 1921) 377
«Die schweigsame Frau (Молчаливая женщина)», опера (1933–1934; Штраус) 70
«La Nouvel âge (Новый век)», концертная симфония для оркестра (1937; Маркевич) 137
«Lady Comes Across (Дама переходит)», музыкальная комедия (1942; Дюк [Дукельский]) 100
«Piano-Rag-Music» для фортепиано (1919; Стравинский) 221, 224
«Romeo and Juliet (Ромео и Джульетта)» балет (1925–1926; Ламберт) 382–383, 385–386
«Romeo and Juliet (Ромео и Джульетта)», кинобалет (1937; Дюк [Дукельский]) 100
«Sonate liturgique» в форме четырех хоралов для камерного оркестра (1928, имеется также версия для хора альтов, фортепиано и контрабасов; Лурье) 35
«The Goldwyn Follies (Безумства Голдвина)», музыка к фильму (1937; Гершвин-Дюк [Дукельский]) 100
«Variations, Fugue et Envoi sur un thème de Haendel» для фортепиано (1941; Маркевич) 136
«Water under the bridge», песня (1933; Дюк [Дукельский]) 98
«Watemymph (Водяная нимфа, 1937)», кинобалет (1937; Дюк [Дукельский]) 100
«Ziegfeld Follies 1936 (Безумства Зигфельда 1936)», музыкальное ревю (1935; Дюк [Дукельский]) 100, 103
Указатель упомянутых периодических изданий
«Версты» (Париж, 1926–1928) 9, 33, 36, 82, 216–217, 384, 436, 440
«Вечерняя Москва» (Москва, 1923—) 341
«Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1960–1967) 33, 322, 441
«Временник» (Москва, 1917) 165
«Евразия» (Кламар, 1928–1929) 9, 26–27, 33, 46, 54, 59, 66, 82, 86, 117, 156, 319, 324, 331, 332, 366, 418–420, 436–437, 440, 445–446
«Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома» (Ленинград/Санкт-Петербург, 1971 [первый том, обозначенный 1969 годом, вышел с запозданием]—) 323, 438
«Звезда» (Ленинград/Санкт-Петербург, 1924—) 442
«Известия» (Петроград, затем Москва, 1917—) 114, 355, 406
«Кокумин-Симбун» (1890–1929?) 168
«Мелос» (С.-Петербург, 1917–1918) 9
«Мосты» (Мюнхен, затем Нью-Йорк, 1958–1970) 411, 437
«Музыка» (Москва, 1910–1916) 19, 20
«Музыка и революция» (Москва, 1926–1929) 119, 435
«Музыкальная культура» (Москва, 1924) 431
«Музыкальная новь» (Москва, 1923–1924) 19, 131, 430, 438
«Музыкальное образование» (Москва, 1926–1930) 119–120, 131, 434, 439, 443, 447–448
«Музыкальный современник» (Петроград, 1915–1917) 9, 19, 21, 24, 120, 431, 445
«Нева» (Ленинград/Санкт-Петербург, 1955—) 323, 435,
«Новоселье» (Нью-Йорк, 1942–1950) 322, 410, 436, 440
«Новый журнал» (Нью-Йорк, 1942—) 33, 293, 323, 322, 440–441
«Орфей» (Петербург, 1922) 300, 315, 321
«Правда» (Москва, 1912 [не выходила в 1914–1917] — 1996; в 1997 выходила под названием «Правда 5») 113, 115, 341
«Русская воля» (Петроград, 1916–1917) 41
«Русское слово» (Москва, 1908–1917) 165
«Сатирикон» (С.-Петербург, 1908–1914) 345
«Советская музыка» (Москва, 1933–1991; с 1992 журнал выходит под названием «Музыкальная академия») 68–70, 122–123, 130, 431, 435, 442–443, 444–445
«Современник» (Торонто, 1960–1985) 411
«Современный Запад» (Петроград, 1922–1923) 321
«Стрелец» (Петроград, 1915–1922) 19–20, 439
«Числа» (Париж, 1930–1934) 14, 33, 269, 321, 440, 442
«Boston Evening Transcript» (Boston, 1830–1941; до 1854 газета выходила под названием «Daily Evening Transcript») 82, 393, 450
«De musica» (Ленинград, 1925–1928) 432, 435, 444
«Down Beat» (Elmhurst, 1934—) 411
«Hi Fi Review» (Chicago, 1958–1999) 410
«Journal of the American Musicological Society» (1936—; в 1936–1948 журнал выходил под названием «Bulletin of the American Musicological Society») 453
«La nouvelle revue française» (Paris, 1909–1943, журнал закрыт за коллаборационизм с гитлеровскими оккупационными властями; с 1959 выходит в обновленном виде) 136, 455–456
«La revue musicale» (Paris, 1920–1990) 9, 78, 136, 147, 216–217, 269, 366, 450–452, 454, 456–458
«Le Surrealisme au service de la Révolution» (Paris, 1930–1933) 269
«Mercure de France» (Paris, 1890–1965) 162, 165, 449
«Modern Music» (New York, 1924–1946) 33, 94, 106, 216, 321, 449–450, 452, 456
«Musique» (Paris, 1927–1930) 216
«Saturday Review» (New York, 1924–1973) 411
«Tempo» (London, 1939—) 450, 453–454
«The Musical Quarterly» (New York, 1915—) 33, 269, 321–322, 410
«The Sunday Times» (London, 1822—) 16
«Theatre Arts Monthly» (New York, 1916–1964; выходил с перерывами; до 1924 как «Theatre Arts») 410
«Variety» (New York, 1905—) 410
Именной и понятийный указатель
Авраамов Арсений Михайлович (1886–1944) — авангардный теоретик музыки, композитор, фольклорист 21–22, 24, 431
Автономова Наталья Сергеевна — автор работ по философии и методологии гуманитарного знания 72, 431
Адема Пьер-Марсель (Pierre-Marcel Adéma) — исследователь творчества Аполлинера 449
Академический национализм в русской музыке 11, 16–17, 43, 107, 126
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист и общественный деятель 283
Александр III Александрович (Романов, 1845–1894) — российский император с 1881 г. 309, 396
Александров Анатолий Николаевич (1888–1982) — композитор педагог 130, 267
Алексей Михайлович (Романов, прозвище Тишайший, 1625–1676) — русский царь в 1645–1676 гг. 166
Алексеев А. 131, 394, 431
Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) — философ и правовед феноменологического направления, идеолог евразийства, педагог 331–332
Аллой Владимир Ефимович (1945–2001) — книгоиздатель, редактор журналист 438, 443
Алперс Вера Владимировна (1892-после 1965) — пианистка педагог 25, 424, 431
Альшванг Арнольд Александрович (1898–1960) — критик и историк музыки 76, 124–125, 126, 216, 431–432; «Идейный путь Стравинского» (1933) 76, 124–125, 126, 216, 431
Андерсон Эдди (Рочестер) (Eddie «Rochester» Anderson, 1905–1977) — музыкально-комедийный актёр 408
Анненков Павел Васильевич (1813–1887) — критик, комментатор и редактор наследия Пушкина, мемуарист 12
Анненский Иннокентий Фёдорович (1855–1909) — поэт, драматург, эссеист, педагог 87, 89, 396, 399, 404, 432; «Петербург» (опубл. 1910) 87, 89, 396, 399, 404
Ансерме Эрнест (Александр) (Ernest [Alexandre] Ansermet,1883–1969) — дирижер, теоретик музыки, композитор, в 1915–1923 гг. сотрудник Дягилева, создатель и в 1918–1967 гг. — дирижёр Оркестра Французской Швейцарии 116, 374, 378
Апетян Заруи Апетовна (1910–1990) — историк музыки 443–444
Аполлинер Гийом (Guillaume Apollinaire, собств. Вильгельм-Альберт-Владимир-Аполлинарий Костровицкий, 1880–1918) — поэт, драматург, прозаик, автор работ о живописи 96–97, 162, 168, 432, 436, 449; о манифесте «Мы и запад» 162, 168; «Путешественник» (Le Voyageur, 1912) 96–97
Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) — поэт, прозаик 246; «Записки сумасшедшего» 246
Арапов Петр Семенович (1897–1930-е) — племянник барона П. Н. Врангеля, один из из виднейших активистов евразийского движения, неоднократно тайно выезжал в СССР, где в конце концов оказался в заключении и погиб 40, 47, 419–420
Аренский Антон (Антоний) Степанович (1861–1906) — композитор, дирижер, пианист, педагог 384, 386
Аристотель (384–322 до P. X.) — философ 134
Арлен Майкл (Michael Arlen, наст, имя Тигран Куюмджян, 1895–1956) — прозаик, драматург 84, 388, 390
Армстронг Луи (Louis Armstrong, прозвище Сачмо [Satchmo], 1901–1971) — джазовый музыкант (трубач и певец), композитор 409
Аронсон Борис Соломонович (правильнее Бер Шломович Аронсон, 1898–1980) — театральный художник, живописец, скульптор 100, 102–103, 105–107, 407; в работе над «Хижиной в небе» Дюка 102–103, 105–107, 407
Артузов (Фраучи) Артур Христианович (Христофорович) (1891–1937), с 1919 сотрудник ВЧК, где работал в контрразведке и разведке, в 1931–1935 гг. руководил иностранным отделом внешней разведки ОГПУ-НКВД 420
Архимед (ок. 287–212 до P. X.) — математик и изобретатель 271, 298
Аткинсон Брукс (полное имя Джастин Брукс Аткинсон [Justin Brooks Atkinson], 1894–1984) — бессменный театральный критик «Нью-Йорк Таймс» в 1925–1960 гг. (был также военным корреспондентом во время Второй мировой войны) 106
Асафьев Борис Владимирович (лит. псевдоним Игорь Глебов, 1884–1949) — музыковед, композитор, академик (с 1943) 12, 14, 24, 60, 115–116, 130, 279, 300, 355, 416, 418, 420, 424, 432; и эстетика массового общества 115–116, 130
Ахматова Анна Андреевна (наст, фамилия Горенко, 1889–1966) — поэт, историк литературы 87–89, 392, 397, 400, 405, 432
Ашенбреннер Джойс (Joyce Aschenbrenner, p. 1931) — исследовательница афроамериканской культуры 105, 449
Ашпис Э. А. 379
Базиль (полковник В. де Базиль, Colonel W. de Basil; собственно Василий Григорьевич Воскресенский, 1888–1951) — в 1916–1917 гг. командовал специальным казачьим партизанским отрядом в горах Курдистана, в 1918 г. — Центрально-каспийской флотилией (был ответственным за исполнение приказа Троцкого об эвакуации); с 1925 г. был одним из руководителей Русской оперы в Париже, в 1932–1936 гг. — Русского балета Монте-Карло, в 1936–1948 гг. руководил Русскими балетами полковника де Базиля 109, 112
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924) — художник, в том числе театральный 381, 384
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер-анархист 324
Бакуниных семья 12
Балакирев Милий Алексеевич (1836/37–1910) — композитор, пианист, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель 33, 170, 188, 262, 381
Баланчин Джордж (наст, имя Георгий Мелитонович Баланчивадзе, 1904–1983) — балетмейстер, танцовщик, композитор 96, 100, 102–106, 383, 386, 407–409; и «Антракт» Дукельского 100; как постановщик танцев в «Безумствах Зигфельда 1936» 100, 103; как постановщик кинобалетов Дюка 100; как постановщик «Хижины в небе» Дюка 103–106, 407–409; о работе с Каринской 102; общее число совместных работ с Дукельским 100
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт, переводчик 119, 178, 184, 218, 316; «Светозвук в природе и световая симфония Скрябина» (1917) 178, 316–317
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт, прозаик 121, 432
Баран Хенрик (Henryk Baran, p. 1947) — историк русской литературы 73, 457
Барлоу Сэмюэль Лэтам Митчел II-ой (Samuel Latham Mitchell Barlow II, 1892–1982) — композитор консервативного направления, театральный и музыкальный критик 106–108, 449
Бассиано (Bassiano) — композитор-любитель 416–417
Бах Иоганн-Себастьян (Johann-Sebastian Bach, 1685–1750) — композитор, органист, клавесинист 21, 69, 79, 83, 182, 193–194, 198, 205–207, 222–223, 230–231, 241, 249, 256, 271, 301, 322, 332, 360, 362, 373, 389
Бейкер Джозефина (Josephine Baker, наст, имя Фреда Макдональд [Freda McDonald], 1906–1975) — танцовщица 103
Бейли Джеймс (James Bailey) — фольклорист и стиховед 405
Бекетова Мария Андреевна (1862–1938) — мемуаристка 90
Беленсон (Бейленсон) Александр Эммануилович (Менделевич) (псевд. А. Лугин; 1890–1949) — поэт, прозаик, книгоиздатель 439
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — литературный критик, стремившийся к синтезу эстетических идей Шеллинга и Гегеля 12, 121
Белый Андрей (Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934) — поэт, прозаик, теоретик литературы, мемуарист 42, 46, 53, 66, 86, 158, 246, 258, 283, 345, 367, 404–405; роман «Петербург» (1910–1916; перераб. 1922 и 1928) 86; «Ритм как диалектика и „Медный всадник“: исследование» (1929) 404–405
Белый Виктор Аркадьевич (1904–1983) — композитор, педагог, музыкально-общественный деятель 120
Белякаева-Казанская Лариса Владимировна — историк музыки 19, 21, 41, 57, 323, 433, 438
Бёме Яков (Jakob Böhme, 1575–1624) — философ-мистик 317, 320
Бентли Тони (Toni Bentley, p. 1961) — танцовщица, историк балета, прозаик 102, 449
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — художник, историк искусства, художественный критик, мемуарист 381
Беньямин Вальтер (Walter Benjamin, 1892–1940) — философский эссеист, литературный и художественный критик 65–66; и политизация эстетики 66
Берг Альбан (Alban Berg, 1885–1935) — композитор 280–281, 347, 371
Бергсон Анри (Henri Bergson, 1859–1941) — философ-интуитивист, лауреат Нобелевской премии (за стиль философской прозы, 1927) 334
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — религиозный философ-экзистенциалист 343, 355
Беренсон Бернард (Bernard Berenson, 1865–1959) — искусствовед, специалист по итальянскому Ренессансу, выходец из России 26
Бернерс Лорд (Джеральд-Хью Тирвитт-Уилсон [Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson, Baronet Lord Berners], 1883–1950) — английский композитор-дилетант, писатель и художник 382, 385–386
Бернстайн Леонард (Leonard Bernstein, 1918–1990) — композитор, дирижер, пианист, педагог, писатель 109
Берлиоз Гектор (Hector Berlioz, 1803–1869) — композитор, дирижер, писатель 293, 362
Бетеа Дэвид М. (David М. Bethea) — историк литературы 448–449 Бетховен Людвиг ван (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) — композитор, пианист, дирижер 18, 69, 220, 257, 271, 279–281, 285, 290, 303, 310, 317, 323, 346, 355, 360, 363, 373, 430, 438
Бизе Жорж(-Александр-Сезар-Леопольд) (Georges[-Alexandr-César-Léopold] Bizet, 1838–1875) — композитор 362
Бийи Андре (André Billy, 1882–1971) — писатель 449
Биллингтон Джеймс Хедли (James Hadley Billington, p. 1929) — историк русской культуры и политической мысли, дипломат, 13-й библиотекарь Библиотеки Конгресса США (с 1987 г.), иностранный член Российской академии наук 34
Бицилли Петр Михайлович (1879–1953) — историк, философ культуры, литературовед, в 1924–1948 гг. профессор Софийского университета 413
Блок Александр Александрович (1880–1921) — поэт, драматург, критик 87, 90, 204, 240, 246, 279, 301, 318–320, 343, 345, 367, 395, 397, 401, 405, 412, 433, 436, 443; «Двенадцать» (1918) 412; «Крушение гуманизма» (1919) 318, 320; «Роза и крест» (1912–1913) 412
Блок (урожд. Менделеева) Любовь Дмитриевна (1881–1939) — актриса, жена А. А. Блока 90
Богданов-Березовский Валериан Михайлович (1903–1971) — музыкальный критик, композитор, педагог 378
Богданович Ипполит Федорович (1743/1744–1803) — поэт 270
Богомолов Николай Алексеевич (р. 1950) — историк литературы 438
Бодлер Шарль (Charles Baudelaire, 1821–1867) — поэт и критик 239, 259
Бодрийяр Жан (Jean Baudrillard, p. 1929) — культуролог 299
Бодуэн де Кургене Иван Александрович (1845–1929) — лингвист, член-корреспондент Академии наук (с 1897) 31
Бозио Анджолина (Angiolina Bosio, 1830–1859) — оперная певица (сопрано) 93; ее смерть в стихах Мандельштама 93; и «Эпитафия» Дукельского 93
Бойд Брайан (Brian Boyd, p. 1952) — историк литературы, исследователь творчества Владимира Набокова 454
Боровский Александр Кириллович (1889–1968) — пианист 18
Бородин Александр Порфирьевич (1833–1887) — композитор, химик, общественный деятель, академик (с 1877 г.) медико-хирургической академии 33, 170, 185, 188, 262, 302, 374, 381, 384
Боткин Василий Петрович (1811/1812–1869) — прозаик, критик 12
Боэций Аниций Манлий Северин (Boetius Anicius Manlius Severinus, ок. 480–524) — христианский философ-мученик и римский государственный деятель эпохи упадка 48
Брамс Иоганнес (Johannes Brahms, 1833–1897) — композитор, пианист, дирижер 271, 273–274, 361
Брандт Вилли (Willie Brandt, собств. Herbert Karl Frahm, 1913–1996) — политический деятель (социал-демократ), в 1957–1966 гг. правящий бургомистр Зап. Берлина, в 1969–1974 гг. канцлер ФРГ 15
Бретаницкая Алла Леонидовна (1947–2003) — историк музыки 371, 424–425, 430, 441
Бретон Андре (André Breton, 1896–1966) — поэт, прозаик, литературный и художественный критик, теоретик сюрреализма 269–270; и Французская коммунистическая партия 269; «За независимое революционное искусство» (1938) 270
Брик Лили Юрьевна (урожд. Лили Гуриевна Каган, 1891–1978) — литератор 91
Брукнер Антон (Anton Bruckner, 1824–1896) — композитор 41
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — поэт, прозаик, драматург стиховед 128, 246, 345, 433; «Огненный ангел» (1907–1908) 128
Буасона (Боасона) и Эглера фотоателье (С.-Петербург) 400
Бузони Ферруччо(-Бенвенуто) (Ferruccio[-Benvenuti] Busoni, 1866–1924) — пианист, композитор 246–247
Буланже Надя Жьюльетт (Nadia Juliette Boulanger, 1887–1979) — музыкальный педагог, органист, дирижер, композитор 142, 335
Булгаков о. Сергий Николаевич (1871–1944) — экономист, богослов, общественный и церковный деятель 244
Булез Пьер (Pierre Boulez, p. 1925) — композитор, дирижер, музыкальный деятель 154–155, 371
Буржуазность 15, 17, 37–38, 49–50, 93, 113, 115, 240, 244, 348, 415; см. также Цивилизаторство и Урбанизм
Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — политический публицист, участник и историк революционного движения, мемуарист; первоначально народоволец, был впоследствии близок к эсерам; прославился разоблачением провокаторов (среди эсеров, большевиков, евразийцев) 40
Бюффон граф Жорж Луи Леклерк де (Georges Louis Leclerc Comte de Buffon, 1707–1788) — естествоиспытатель, с 1734 член Королевской академии наук в Париже 353
Вагнер Рихард (Richard Wagner, 1813–1883) — композитор, писатель, дирижер 11, 33, 35, 41, 64–65, 69, 72, 115, 118–119, 171, 174, 183, 200, 239, 253, 258–259, 278, 280–281, 284, 310–311, 323, 333, 337, 360, 362, 365, 373, 390, 394, 438
Валери Поль (Paul Valéry, 1871–1945) — поэт, драматург, эссеист 244
Вандель P. (R. Vandelle) 224, 452
Варез Эдгар (Edgar[d] Varèse, 1883–1965) — композитор 389
«Варварство» (конструкт западного цивилизаторского сознания) 15–16, 25, 27, 71–72, 75–76, 105, 131, 172, 243, 259, 284–285, 372, 374
Варунц Виктор Пайлакович (1945–2003) — музыковед, педагог 8, 62–63, 99, 117, 146, 216, 218–219, 332, 365–366, 376, 378–379, 394, 424, 443, 446
Вдовина Ирина Сергеевна — историк философии 441
Веберн Антон фон (Anton von Wfebern, 1883–1945) — композитор 388
Вебер Карл-Мария(-Фридрих-Эрнст) фон (Carl-Maria[-Friedrich-Ernst] von Weber, 1786–1826) — композитор, дирижер, писатель 69, 303, 372
Вербицкая Анастасия Алексеевна (урожд. Зяблова, 1861–1928) — прозаик, драматург 246; «Ключи счастья: Современный роман» (1909–1913) 246
Верди Джузеппе (Фортунино Франческо) (Giuseppe [Fortunino Francesco] Verdi, 1813–1901) — композитор 115, 360, 363
Вершинина Ирина Яковлевна (р. 1930) — музыковед 433
Видль о. Руфинус (Pater Rufinus Widl, 1731–1798) — педагог (профессор синтаксиса в Зальцбургском университете), монах-бенедиктинец, либреттист Моцарта 202
Волков А. И. 424
Вюйермоз Эмиль (Émile Vuillermoz, 1878–1960) — музыкальный критик, музыкально-общественный деятель, композитор 184, 218
Вишневецкий князь Дмитрий Иванович (собств. князь Корибуг-Вишневецкий, прозвище Байда, ум. 1563) — русский и украинский военачальник 29–30
Вишневецкий князь Михаил Иеремиевич (собств. князь Корибут-Вишневецкий, 1640–1673) — король Польши в 1669–1673 гг. 30
Власов Владимир Александрович (1902/1903–1986) — композитор 349
Вольф Гуго(-Филипп-Якоб) (Hugo[-Philipp-Jakob] Wolf, 1860–1903) — композитор 271
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — военный и государственный деятель 348
Врубель Михаил Александрович (1856–1910) — живописец 239
Высоко-низколобые концерты (High Low Concerts) — серия музыкальных программ в Нью-Йорке, сводивших воедино серьезную и популярную русскую, американскую и европейскую музыку (1938) 106–107
Вышнеградский Иван Александрович (1893–1979) — композитор и теоретик 13, 19–22, 140, 268, 270, 458; и микротоновая музыка 20, 140
Гайдар Егор Тимурович (р. 1956) — в 1991–1992 и 1993–1994 гг. зам. и и. о. председателя правительства России его реформы 158
Гайдн (Франц-)Йозеф ([Franz-]Joseph Haydn, 1732–1809) — композитор, дирижер 257, 360–361, 392
Ган Рейнальдо (или Хан, написание имени и фамилии Reynaldo Hahn, 1875–1947) — композитор 381, 385
Ганслик Эдуард (Eduard Hanslick, 1825–1904) — музыковед, сторонник «абсолютной музыки» и понимания музыкальной формы как «движения», не зависимого от других форм творчества 314, 390, 394
Гаспаров Михаил Леонович (р. 1935) — стиховед, филолог-классик и поэт-переводчик, академик (с 1992) 72–73, 431
Гаук Александр Васильевич (1893–1963) — дирижер, педагог, композитор 342
Гауптман Герхарт Иоганн Роберт (Gerhart Johann Robert Hauptmann, 1862–1946) — драматург, прозаик, лауреат Нобелевской премии (1912) 70, 372
Геббельс Йозеф (Josef Goebbels, 1897–1945) — в 1933–1945 гг. министр пропаганды Германии 70 и «вырожденческая музыка» 377
Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (Georg-Wilhelm-Friedrich Hegel, 1770–1831) — философ, эстетик, обосновавший абсолютную идеалистическую диалектику 56, 179
Гейнцельманн Йозеф (Josef Heinzelmann) — историк музыки 453
Гендель Георг-Фридрих (Georg-Friedrich Handel, 1685–1759) — композитор 136, 205–207
Гераклит Эфесский (конец VI — начало V вв. до P. X.) — философ 319
Гершвин Джордж (George Gershwin, наст, имя Джейкоб Гершович, 1898–1937) — композитор, пианист 100, 106, 109
Гершензон Михаил Осипович (Мейлих Иосифович) (1869–1925) — автор работ по истории русской общественной мысли, публицист, философ 178
Гёте Иоганн-Вольфганг фон (Johann-Wolfgang von Goethe, 1749–1832) — поэт, прозаик, драматург 48, 355; «Фауст» (1808–1832) 355
Гиммлер Генрих (Heinrich Himmler, 1900–1945) — национал-социалист, с 1929 г. руководил СС, с 1936 г. также и Гестапо, с 1943 г. — министр внутренних дел Германии 70; секретная директива о Рихарде Штраусе 70
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэт, драматург, прозаик, литературный критик (в последнем качестве выступала под псевд. Антон Крайний) 343, 355
Гитлер Адольф (Adolf Hitler, собственно Adolf Schickigruber, 1889–1945) в 1921–1945 гг. вождь Немецкой национал-социалистической рабочей партии, в 1933–1945 гг. канцлер Германии 70, 107, 454
Гладковский Арсений Павлович (1894–1945) — композитор, педагог 346
Глазунов Александр Константинович (1865–1936) — композитор, педагог 11, 13–14, 123, 170, 184, 260, 302, 386, 390, 431
Глебов Игорь, см. Асафьев Борис Владимирович
Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна (1885–1945) — актриса 322
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — композитор, педагог 33, 76, 170, 182–183, 187, 195, 197–198, 202–204, 213, 219, 259, 270, 272, 284, 300–310, 313–314, 349–350, 364, 371, 381, 384, 425, 434; «Записки» (1854) 197, 219
Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874/1875–1956) — композитор, дирижер, педагог (был, в частности, первым наставником Прокофьева и Дукельского) 348, 394
Глюк Христоф-Виллибальд(-Риттер фон) (Christoph-Willibald [-Ritteг von] Glück, 1714–1787) композитор 300
Говард Губерт (правильнее Губерт-Джон-Эдвард-Доминик Лорд Говард Пенритский [Hubert John Edward Dominic Lord Howard of Penrith], 1907–1989?) — был с 1951 г. женат на княжне Лейле Каэтани (1913–1977?) 150
Гори Эдвард (Edward Gorey, 1925–2000) — художник-график, писатель 449
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — писатель, публицист 283, 301, 324, 342, 344, 355
Годунов Борис Федорович (ок. 1552–1605) — русский царь с 1598 г. 145, 420
Гоёвый Детлеф (Detlef Gojowy, p. 1934) — музыковед, славист и германист 20, 451
Голубев Григорий (Gregory Golubeff, 1891–1958) — киноактер, музыкант и переводчик (переводил на английский тексты Алданова, Дукельского и Стравинского), уроженец США 378
Гольдбек Фредерик (Frederick Goldbeck, 1902–1981) — музыковед, дирижер 51–52, 57
Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962) — живописец, художник-оформитель 77, 381
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, прозаик, переводчик, либреттист 53, 184, 218, 420
Городинский Виктор Маркович (1902–1959) — критик официозного направления, музыкальный администратор 355
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 1868–1936) — прозаик, драматург, общественный деятель 60–61, 324, 345, 349, 420, 435, 438
Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (Ernst-Theodor-Amadeus Hoffmann, 1776–1822) — прозаик и композитор, один из зачинателей романтизма в литературе и музыке 385
Грачев Пантелеймон Владимирович (1899–1966) — музыковед 123, 435
Гречанинов Александр Тихонович (1864–1956) — композитор 14
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — драматург, поэт, дипломат, «Горе от ума» (1820–1824) 220
Григ Эдвард Хагеруп (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) — композитор, пианист 291, 293
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) — поэт, литературный и театральный критик, мемуарист 204
Григорьев Виктор Петрович (р. 1925) — филолог (работы в смежных областях лингвистики и художественной стилистики), исследователь поэтического языка Хлебникова 91, 168, 435, 448
Григорьева Алла Владимировна — критик, историк музыки 424
Гринберг см. Сокольский
Грот Яков Карлович (1812–1893) — филолог-славист, член Академии наук (с 1858) и ее вице-президент (в 1889–1893) 404, 436
Грубер Роман Ильич (1895–1962) — музыковед, педагог 19, 435
Грэй Сесиль (Cecil Gray, 1895–1951) — музыкальный критик 390, 394
Грэм Ирина Александровна (фамилия мужа — Graham, 1919–1996) — либреттистка, прозаик и журналистка русско-итальянского происхождения (писала на обоих языках) 33, 43, 45, 48, 217, 323, 435
Гумилев Лев Николаевич (1912–1992) — этнолог, кочевниковед историк 447
Гуно Шарль(-Франсуа) (Charles-[François] Gounod, 1818–1893) — композитор 198, 386
Гурко Генриетта (Henriette de Gourko) — переводчица 269, 452
Гуссерль Эдмунд (Edmund Husserl, 1859–1938) — философ, историк науки, создатель феноменологии и идеи целостного «жизнемира» 66–67, 139
Гучкова Вера Александровна (в первом браке Сувчинская, 1906–1987) — дочь лидера октябристов Александра Ивановича Гучкова (1862–1936), во второй половине 1920-х гг. — жена Петра Сувчинского 414
Гучкова Мария Ильинична (урожд. Зилоти, 1871–1938) — сестра Александра Зилоти, с 1903 г. жена Александра Гучкова, мать Веры Гучковой 414
Гэлбрэйт Джон Кеннет (John Kenneth Galbraith, p. 1908) — экономист, политический деятель, дипломат 104 дʼАлема Массимо (Massimo d’Alema, p. 1949) — политический деятель, первоначально коммунист, затем, с 1994 г. национальный секретарь Партии левых демократов (реформированной коммунистической партии), лидер коалиции «Оливковой ветви» и премьер-министр Италии в 1997–2000 гг. 151
Дали Сальвадор (Salvador Dali, 1904–1989) — живописец, писатель, теоретик «параноидально-критического метода» в сюрреализме 49, 100–101; замысел мюзикла «Облака» 100–101
Даль Ингольф (Ingolf Dahl, 1912–1970) — композитор 456
Дамская Элеонора Александровна (1898-?) — арфистка 424–425
Данкен Тодд (Todd Duncan, 1903–1998) — оперный певец, актер 407
Данэм Кэтрин Мэри (Katherine Mary Dunham, р. 1909 [по другим данным 1910]) — хореограф, педагог, политическая активистка 105, 407–409, 449
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) — композитор 170, 202, 204, 306–307, 316, 403
Дебюсси Клод (Claude Debussy, 1862–1918) — композитор, пианист, дирижер 11, 18, 57, 171, 183, 191, 194, 220–221, 256–257, 259, 262, 272, 281, 284, 286, 290, 306, 315, 333–335, 362, 375, 382
Дегейтер Пьер-(Кретьен) (Pierre-[Chrétien] Degeyter, 1848–1932) — композитор из рабочих, автор «Интернационала» (1888); впоследствии член ФКП (с 1920 г.) 346 де Греф Алекс (Alex de Graeff) — пианистка 143–145, 149, 450, 453
Дезормьер Роже (Roger Desormière, 1898–1963) — дирижер, в 1925–1930 сотрудничал с Русскими балетами Дягилева 419
Деклерк Юлия Исааковна (р. 1956) — историк музыки 425
Декоден Мишель (Michel Décaudin) — историк литературы и критик 449
Делиб (Клеман-Филибер-)Лео ([Clément-Philibert-]Léo Delibes, 1836–1891) — композитор 386
Демпсей Джек (Уильям Харрисон) (Jack [William Harrison] Dempsey, 1895–1983) — боксер-тяжеловес, чемпион мира 245, 248
Демчинский Борис Николаевич (1877–1942) — литератор 126
Деникин Антон Иванович (1872–1947) — военный деятель, мемуарист, в 1918–1920 гг. командовал Добровольческой армией 417
Дерен (или Дерэн) Андре (André Derain, 1880–1954) — живописец и художник-иллюстратор 382
Державин Гаврила Романович (1743–1816) — поэт, драматург, мемуарист, государственный деятель 87, 89, 395, 398, 404, 436; «Шествие по Волхову Российской Амфитриты» (1810) 87, 398, 404
Держановский Владимир Владимирович (1881–1942) — критик, музыкальный деятель 416, 420, 424–425
Дешевов Владимир Михайлович (1889–1955) — композитор 267, 346
Джаффе Дэниэл Гидеон (Daniel Gideon Jaffé, p. 1965) — музыкальный критик, историк музыки 85, 130, 451
Джон Мириам (Miriam John) — переводчица 455
Дзержинский Иван Иванович (1909–1978) — композитор 347
Диалектика музыкальная 41, 46, 55–56, 58, 125, 153, 158, 179, 182, 193–194, 207, 220–224, 242, 244, 258, 272–273, 278, 282, 286–287, 332; в Германии (и Австрии) 55,158,193–194, 220–221, 272–273, 278, 282, 287; в России 56, 125, 153, 158, 182, 193–194, 207, 222–224, 242, 244, 273, 286–287; во Франции (у Дебюсси) 221, 272; и «экстрамузыкальный сюжет» 272
Дидерихс братьев Роберта и Андрея Федоровичей фирма по производству роялей (С.-Петербург) 221
Дирен Бернард Ван (Bernard Van Dieren, 1884–1936) — композитор и критик 390, 394
Длугош Ян (Jan Diugosz, 1415–1480) — историк 29
Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) — литературный критик, публицист 343
Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — художник-график и театральный художник 292–293, 384, 442
Долгополов Леонид Константинович (р. 1928) — историк литературы 90, 436
Доливо-Соботницкий Анатолий Леонидович (1893–1965) — камерный певец 121
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — писатель, публицист 188, 283, 286, 293, 301, 343; «Бесы» (1871–1872) 343; «Идиот» (1868) 392
Дру Дэвид (David Drew, p. 1930) — музыковед 143, 450
Дубинская-Джалилова Тамара Ильинична — историк литературы 435
Дугин Александр Гельевич (р. 1962) — политолог и политический деятель 445
Дукельский Алексей Александрович — архитектор, брат Владимира Дукельского 217
Дукельский Владимир Александрович (известен также под именем Вернон Дюк [Vernon Duke], 1903–1969) — композитор, мемуарист, музыкальный критики поэт 7–10, 13, 16–17, 24–25, 30, 41, 45, 48–50, 55, 59, 62, 63, 68, 74, 76–77, 79–113,114–115,118, 120, 123–124, 128, 129, 135, 136, 138, 141–143, 146, 151, 153–156, 158, 217, 233, 258, 268, 270, 279, 293, 316, 341, 367, 376, 380–411, 433–434, 436–437; и «Свадебка» Стравинского 17, 76–77, 104; и «Стальной скок» Прокофьева 383–384, 386–387, 393; как «crossover composer» 101–109, 258, 268; мысли о возвращении в СССР 62, 63, 109–110, 112, 120, 136; об Альшванге 124; о Лурье 55, 217; о Владимире Набокове-Сирине 293; о Маркевиче 141–142, 151; о Прокофьеве 82, 91, 99, 111, 113–114, 233, 390–395, 434; о раздвоении между собой и Верноном Дюком 101; памфлет «Деификация Стравинского» (1962) 79; стихотворение «Послание к В. Ф. Маркову» (1961) 41; стихотворение «Путь композитора» (1961) 79; цикл радиопередач «Пятьдесят лет американской музыкальной комедии» (1966) 437
Дьячкова Людмила Сергеевна — музыковед 378
Дюк Вернон (Vernon Duke), см. Дукельский Владимир Александрович
Дюк Ингаллс Кэй (Kay Duke Ingalls, урожд. McKracken) — певица, вдова Дукельского 385, 395
Дюрей Луи(-Эдмон) (или Дюрэ; Luois[-Edmond] Durey, 1888–1979) — композитор, общественный деятель 270, 385
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) — музыкально-театральный деятель, издатель, историк живописи, директор «Русских балетов С. П. Дягилева» (1911–1929) 9, 76, 82, 92, 98–100, 105, 109, 113, 114–115, 117, 119, 136, 142, 145, 218, 270, 335, 343, 370, 376, 380–387, 390, 393, 415–416, 419, 436–437; и «Эпитафия» Дукельского 92, 436; его патриотизм 117, 370, 415–416; о внешности Стравинского и Прокофьева 376; о Дукельском в письме к Чарльзу Кохрану 99; о «музычке» 114–115
Екатерина II (собств. Софья-Фредерика-Августа Анхальт-Цербстская) Великая (1729–1796) — российская императрица с 1762; 395, 404
Елизавета Петровна (Романова, 1709–1761/62) — российская императрица с 1741; 403
Емельянов Алексей 342
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — поэт, прозаик, драматург 53
Есипова Маргарита Владимировна (р. 1957) — музыковед 425
Жак-Далькроз Эмиль (Emile Jaques-Dalcroze, 1865–1950) — композитор и педагог 373
Желобинский Валерий Викторович (1913–1946) — композитор, пианист, педагог 123
Живов Виктор Маркович (р. 1945) — филолог-славист, историк 414, 447
Жирмунская Нина Александровна (1919–1991) — историк французской и немецкой литератур 439
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — филолог, член Академии наук (с 1966) 432
Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — политический деятель, ответственный, среди прочего, за массированные кампании и репрессии против деятелей искусства 111
Зайонц Людмила Олеговна — филолог 434–435, 444
Захер Пауль (Paul Sacher, 1906–1999) — дирижер, собиратель музыкальных архивов 63, 365
Зелёнко Джейн (Jane Zielonko) — переводчица с польского 453
Зилоти Александр Ильич (1863–1945) — пианист, дирижер 18, 41, 414
Зименков Алексей Павлович (р. 1947) — историк литературы 445
Зурбаран Франциско (правильнее: Франсиско Сурбаран, Francisco Zurbarán, 1598–1664) — художник 271, 279
Ибер Жак(-Франсуа-Антуан-Мари) (Jacques [-François-Antoine-Marie] Ibert, 1890–1962) — композитор 142
Иванов Владислав — художник, критик 117
Иванов Всеволод Вячеславович (р. 1929) — лингвист, литературовед, поэт, мемуарист, член Академии наук (с 2000) 434–435, 437, 444
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт, прозаик, драматург, теоретик символизма 75, 178, 437; «Скрябин и дух революции» (1917) 178; «Скрябин» (1915–1920) 178
Иванова Татьяна Григорьевна — фольклорист, архивный работник 323, 438
Иванов-Разумник (Иванов) Разумник Васильевич (1878–1946) — литературный критик, историк литературы и общественной мысли, близкий левым социалистам-революционерам, мемуарист 443
Ивашкевич Ярослав (Jaroslaw Iwaszkiewicz, 1894–1980) — поэт, историк музыки, либреттист, прозаик 77; о языке «Свадебки» 77; Императорское русское музыкальное общество (ИРМО, 1859–1917) 12, 394
Интеллигенция русская 12, 177, 310, 343–344, 346
Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) — философ, правовед, музыковед, богослов, публицист, участник и идеолог евразийского движения 414, 420
Ильинский Александр Александрович (1859–1919) — композитор 316
Иоанн Креста (San Juan de la Cruz, подлинное имя Хуан де Епес [Juan de Yepes], 1542–1591) — поэт, католический святой 233, 235
Кабалевский Дмитрий Борисович (1904–1987) — композитор, педагог, общественный деятель 122–123, 424, 444
Калтат Лев Львович (1900–1946) — историк музыки 131, 438
Каль Алексей Федорович (1878–1948) — историк музыки, педагог 123
Кант Иммануил (Immanuel Kant, 1724–1804) — философ 320
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — поэт и прозаик-сентименталист, историк, почетный академик (с 1818) 121
Каринская Варвара Андреевна (1886–1983) — театральный костюмер 102, 105, 407
Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — философ, выслан в 1922 г. из СССР, с 1928 г. жил на территории Литвы, с 1949 г. в заключении (умер за полярным кругом); идеолог евразийства 37–38, 50, 56–57, 332, 414, 416, 420, 438
Картер Эллиотт (Elliott Carter, p. 1908) — композитор 89, 97, 404, 406, 449; о «Конце Санкт-Петербурга» Дукельского 89, 404, 406; о «Посвящениях» Дукельского 97
Кац Лесли Джордж (Leslie George Katz) — историк балета 450
Каэтани семья 150
Каэтани Олег (Oleg Caetani, собственно Олег [Игоревич] Маркевич [Oleg Markévitch]) — дирижер 150–151
Каэтани Топация (Topazia Caetani, 1921–1990) — в 1946–1982 гг. вторая жена Игоря Маркевича 149
Келдыш Георгий (Юрий) Всеволодович (1907–1995) — музыковед 442
Киевская консерватория 24, 82, 124
Кирстейн Линкольн (Эдвард) (Lincoln [Edward] Kirstein, 1907–1996) — меценат, импресарио, историк балета 449–450
Киселев Александр Федорович — историк 443
Киселев Василий Александрович (1902–1975) — историк музыки, библиограф 424, 444
Клементи Муцио (Muzio Clementi, 1752–1832) — композитор, пианист, педагог, музыкальный издатель и совладелец фабрик по производству фортепиано 230
Клемперер Отто (Klemperer Otto, 1885–1973) — дирижер, композитор, в 1933 эмигрировал из Германии 33, 321
Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) — поэт 53
Кожевников Александр Владимирович (также известен как Александр Кожев [Alexandre Kojève], 1902–1968) — философ-гегельянец, переинтерпретировавший Гегеля в духе Достоевского и позднего Соловьева, которому посвятил отдельное исследование; русский оригинал лекций Кожевникова по Гегелю утрачен во время немецкой оккупации Парижа, французские конспекты слушателей изданы после войны; считал историю по существу законченной, занимал в послевоенное время пост ведущего экономического советника французского правительства, оказал огромное влияние на неоконсервативную мысль 46
Козлова Миральда Георгиевна — историк музыки, архивист 424, 443–444
Козовой Вадим Маркович (1937–1999) — поэт, переводчик, историк культуры; после кончины Петра Сувчинского занимался разборкой и публикацией его архива 62, 371, 424, 447
Кокто Жан(-Морис-Эжен-Клеман) (Jean [Maurice-Eugène-Clément] Cocteau, 1889–1963) — поэт, прозаик, драматург, эссеист, либреттист (до 1927 г. активно сотрудничал с Дягилевым), дизайнер-рисовальщик и кинорежиссер 279, 337, 376, 380, 382, 386–387, 391
Кольридж Сэмюэль Тэйлор (Samuel Taylor Coleridge, 1772–1834) — поэт, литературный критик, богослов 104
Коммод (собств. Марк Аврелий Коммод Антонин [Marcus Aurelius Com-modus Antoninus], рожденный как Люций Элий Аврелий Коммод [Lucius Aelius Aurelius Commodus], 161–192) — римский император в 180–192 гг. 299
Коммунизм 36, 38–39, 49–50, 66, 112, 127, 150–151, 156, 157, 168, 217, 265, 269, 325–327, 337, 340–345, 347, 350–351, 377, 420; в России и СССР (1917–1991) 39, 49–50, 156, 168, 345, 350–351, 377; и управление искусствами 112, 264–266, 345, 350–351, 420; как форма буржуазного сознания 38–39, 49–50
Кондрашин Кирилл Петрович (1914–1981) — дирижер 342
Коннелли Марк (Marc Connelly, полное имя Маркус Кук Коннелли [Marcus Cook Connelly], 1890–1980) — драматург 103; «Зеленые пастбища» (1930) 103
Копленд Аарон (Aaron Copland, 1900–1990) — композитор, педагог, влиятельный музыкально-общественный деятель 94, 100; о музыкальном стиле Дукельского 94
Корабельникова Людмила Зиновьевна (р. 1930) — историк музыки 7, 25, 81, 153, 321, 438
Корчмарев Климентий Аркадьевич (1899–1958) — композитор 19, 438
Кохно Борис Евгеньевич (1904–1990) — либреттист 99, 219, 386–387, 415, 418–419, 451
Кохран сэр Чарльз Блэйк (Sir Charles Blake Cochran, 1872–1951) — импресарио, организовывавший боксерские матчи, родео, постановки балетов, ревю и т. п. 98–99; его ответ на письмо Дягилева 99
Кошницкий Леон-Александр (Leon-Alexandre Kochnitzky, собственно Лев Михайлович Кошницкий, 1892–1965) — поэт, журналист, политический деятель 136–137, 142, 451, 457; о Маркевиче 136, 137, 451
Крафт Роберт Лоусон (Robert Lawson Craft, p. 1923) — дирижер, писатель 36, 54, 80, 378, 456–457
«Красные бригады» (Brigadi rossi), итальянская левокоммунистическая террористическая организация 150; и Маркевич 150–151
Крейн Александр Абрамович (1883–1951) — композитор, критик 267
Кривицкая Евгения Давидовна (р. 1968) — музыковед, переводчик 336–337, 379, 430, 441, 447, 446
Крученых Алексей Елисеевич (псевд. Александр Кручёных, 1886–1968) — поэт-заумник, теоретик футуризма 53
Кудинов Михаил Павлович (1922–1994) — поэт-переводчик 96, 432
Кубацкий Виктор Львович (1891–1970) — виолончелист, дирижер, педагог 419
Кубелик Рафаэль-Ероним (Rafael Jeronym Kubelik, 1914–1996) — дирижер и композитор 371
Кублицкая-Пиоттух Александра Андреевна (урожд. Бекетова, в первом браке Блок, 1860–1923) — переводчица и детская писательница 90
Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936) — поэт, прозаик, драматург, композитор и переводчик 53, 87, 89, 321–322, 400, 405, 438, 441
Купер Эмиль Альбертович (1877–1960) — дирижер 300
Кусевицкая (урожд. Ушкова) Наталья Константиновна (1880–1942) — меценатка, с 1905 г. вторая жена Сергея Кусевицкого 8
Кусевицкий Сергей Александрович (1874–1951) — дирижер, музыкальный издатель, контрабасист-виртуоз, композитор 8, 82, 88, 90, 91, 94, 96, 109, 128, 322–323, 395, 418; его пометки в партитуре «Эпитафии» Дукельского 94
Кшенек Эрнст (фамилия также произносилась как Кршенек или Кренек, Ernst Křnek, 1900–1991) — композитор, музыковед, педагог 69
Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) — композитор, критик (писал по-русски и по-французски), специалист в области фортификации (преподавал в Военно-инженерной академии) 316
Ламберт (Леонард) Констант ([Leonard] Constant Lambert, 1905–1951) — композитор, дирижёр, музыкальный критик 382–383, 385–386
Ламм Павел Александрович (1882–1951) — музыкальный текстолог, пианист, педагог, специалист по оркестровке 425
Ланг Фриц (Fritz Lang, 1890–1976) — кинорежиссер-экспрессионист, работавший в Германии и США, чьи фильмы содержали резкую критику психологии массового общества; покинул Германию после официального предложения со стороны Геббельса возглавить «обновленную» немецкую киноиндустрию 86
Ланглуа Франк (Frank Langlois) — музыковед 371
Ланговой Александр Алексеевич (1896–1964) — из семьи профессора медицины; в 1924–1927 гг. работал в Разведуправлении РККА, в 1927–1931 гг. начальник военного отдела Народного Комиссариата Просвещения РСФСР, начальник военно-экономического отдела Главлита, ОГИЗ, ведал среди прочего дезинформацией евразийцев; в 1940–1955 гг. находился в заключении, реабилитирован в феврале 1955 г. 414, 419–421
Лапшин Иван Иванович (1870–1952) — философ, педагог 178; «Заветные думы Скрябина» (1923) 178
Лабрюйер Жан де (Jean de La Bruyère, 1645–1696) — писатель-публицист 225, 245, 439
Ларев — лицо неустановленное 120–121, 439
Ларош-Фуко Франсуа дюк де (François due de La Rochefoucauld, 1613–1680) — писатель-моралист 225, 245, 439
Лассаль Нэнси (Nancy Lassalle) — историк балета, библиограф 450
Лафонтен Жан де (Jean de La Fonatine, 1621–1695) — поэт, баснописец 376
Левинсон Андрей Яковлевич (1887–1933) — театральный и балетный критик 75
Леман (Леман-Абрикосов) Георгий Адольфович (1887–1968) — книгоиздатель 178
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1894) — писатель, религиозный и исторический публицист 283, 343
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) — политический деятель и публицист 62, 75, 127–132, 337–341, 343, 346, 349, 353, 355, 387, в советской опере 349, 355; как титанический персонаж в кантатах Прокофьева 128–129, 131–132
Лесков Николай Семенович (1831–1895) — прозаик 347, 412; «На ножах» (1870–1871) 412
Ливанова Тамара Николаевна (1909–1986) — музыковед 424
Лившиц Бенедикт Константинович (по другим сведениям Венедикт Наумович Лившиц, 1886/1887–1938 [официальная дата смерти 1939]) — поэт, переводчик, мемуарист 19, 22, 31, 161, 168, 439; «Мы и запад» 22, 31, 161, 168
Лившиц Екатерина Константиновна (урожд. Скачкова-Гуриновская, 1906–1987) — танцовщица, переводчица с французского, с 1921 г. жена Бенедикта Лившица 439
Линдон-Ги Кристофер (Christopher Lyndon-Gee) — дирижер, педагог 429
Линецкая (урожд. Фельдман) Эльга Львовна (р. 1909) — переводчица художественной прозы 245
Лион Робер (Robert Lyon, 1884–1965) — до 1930 г. директор фирмы «Pleyel» в Париже 225
Лист Ференц (Ferenc Liszt, 1811–1886) — композитор, пианист, дирижер, педагог, писатель 171, 175, 247, 293, 362, 365
Литвинов Максим Максимович (Макс Валлах, 1876–1951) — с 1921 заместитель, в 1930–1939 гг. народный комиссар иностранных дел СССР, известный своими англофильскими взглядами 8
Литинский Генрих Ильич (1901–1985) — композитор, педагог 112–113, 122, 439, 443; и Прокофьев 112–113, 122; и Шёнберг 122
Ломоносов Михайло Васильевич (1711–1765) — ученый-естественник, лингвист, поэт, основоположник русского силлабо-тонического стиха 87, 270, 395, 398, 402–403, 438, 439, 444; «Ода на прибытие Ея Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации» (опубл. 1751) 398, 403
Лопатников Николай Львович (1903–1976) — композитор 13, 268, 270
Лопашев С.А. — филолог, переводчик с древних и современных языков, сотрудник Центрального радио (Москва) 420
Лорансен Мари (Marie Laurencin, 1883–1956) — художница 385
Лосев Алексей Федорович (1893–1988) — философ, филолог-классик, прозаик, переводчик 42, 46–48, 66, 158, 178–179, 244, 439, 445; «Диалектика художественной формы» (1927) 46, 66, 445; и диалектическая концепция художественной формы 46–48, 66, 244; «Музыка как предмет логики» (1927) 66–67; «Мировоззрение Скрябина» (1919–1921) 178–179
Лурье Артур-Винцент-Перси-Биши-Хосе-Мария Сергеевич (собственно Наум Израйлевич Лурья, 1891–1966) — композитор, писатель, общественный деятель 5, 8–10, 13, 16, 18–23, 25, 31–58, 60, 63, 64–68, 71, 73, 75, 78–85, 89–90, 95, 98, 117, 120, 122, 124–126, 129, 134, 138–139, 142, 146, 153–158, 161–323, 367, 393–394, 403, 418–419, 433, 439–441, 451–453; «К музыке высшего хроматизма» (1915) 19–20, 22, 162–164, 439; антизападные настроения 22–23, 31–33, 35, 84–85, 161, 165–168, 321; и диалектическая концепция музыкальной формы 42–48, 55–56, 58, 125, 153, 179; и католичество 9–10, 52, 57; и коммунистическая партия 49, 216–217; и футуризм 9, 19, 22–23, 31, 41, 47, 53, 57, 84, 157, 162–163; как глава МУЗО Наркомпроса 9, 23, 117, 217; как представитель интересов Стравинского 63, 71, 78, 153, 157, 218, 227–233; «Неоготика и неоклассика» (1928) 33, 44, 71, 78, 124, 157, 216, 218, 227–233, 258, 393; о Прокофьеве 269, 419; сомнения в его участии в евразийском движении 8–9
Лысенко Николай Витальевич (1842–1912) — композитор, пианист, хоровой дирижер, фольклорист 349
Лядов Анатолий Константинович (1855–1914) — композитор, дирижер, педагог 184, 303, 386
Ляпунова Анастасия Сергеевна (1903–1973) — музыковед 434
Лятуш Джон Тревилл (John Treville Latouche, 1914–1956) — либреттист, поэт-песенник 100, 102–106, 408; и «Облака» (неосуществленный замысел) 100; и «Хижина в небе» 102–106, 408
Мавродин Алиса (Alice Mavrodin, p. 1941) — музыковед, музыкальный критик 144, 453
Магалов (Магалашвили, изначально фамилия писалась как Магаладзе — древний карталинский род) князь Никита Дмитриевич (1912–1992) — пианист, композитор 136
Магалова Ирина (урожд. Сигети, Szigeti) 136
Макдональд Неста (Nesta Macdonald) — историк культуры 17, 453
Малевич Казимир Северинович (1878–1935) — художник, теоретик супрематизма, педагог 53
Малинин Владимир — эстрадный певец 408
Мальмстад Джон Эрль (John Earl Malmstad, p. 1941) — историк русской литературы 61–62, 438
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938) — поэт, прозаик 93–94, 178–179, 320, 436, 441, 450; «Скрябин и христианство» (1915) 178–179; «Чуть мерцает призрачная сцена» (1920) 93; эсеровские симпатии 93; «Silentium!» (1910, 1935) 319–320
Маринетти Филиппо Томмазо (Filippo Tommaso Marinetti, 1876–1944) — поэт-футурист, политический деятель 31, 84
Маритен Жак (Jacques Maritain, 1882–1973) — ведущий французский философ-неотомист 10, 157, 441; «Религия и культура» (1930–1933) 10
Маркаде Жан-Клод (Jean-Claude Marcadé) — историк литературы и авангардного искусства 430
Маркевич Аллегра Игоревна 149
Маркевич Вацлав Игоревич — специалист по информационным технологиям, координатор и участник ряда международных проектов 150
Маркевич Игорь Борисович (1912–1983) — композитор, дирижер, писатель 25–26, 50, 74, 76–77, 80–81, 95, 98, 117–118, 124, 135–155, 157, 168, 268, 270, 332–337, 367, 426–430, 441, 447, 450–451, 453, 455–457; и нападение Германии на СССР 137; и радикальная левая политика 138–139, 150–151; мысли о возвращении на родину 136; о слуховой перспективе 76, 98, 135, 139–141, 168, 335–336 (в изложении Сувчинского); получение им французского гражданства 149; участие в партизанской войне в Италии 147, 149
Маркевич Натали Игоревна 149–150
Маркевич Олег Игоревич см. Каэтани Олег
Маркевич Тимур Игоревич 150
Марко Королевич (Кралевич, ум. ок. 1394) — сербский военачальник и герой фольклора 26; украинская ветвь Марковичей (Маркевичей) 26
Марков Владимир Федорович (р. 1920) — исследователь русской литературы, поэт, педагог 31, 41, 162, 411, 437, 441
Маркс Карл (Karl Marx, 1818–1883) — левый гегельянец, экономист, политический публицист 127–128, 337, 419
Маркус Станислав Адольфович (1894-?) — автор работ по музыкальной эстетике 180, 441–442; «Об особенностях и источниках философии и эстетики Скрябина» (1940) 180, 441–442
Мартен-Шоффье Луи (Louis Martin-Chauffier, 1894-?) — писатель 455
Марциал (Martialis, ок. 40 — ок. 104) — поэт-эпиграммист 371
Массовое общество и его культура 13–16, 47, 49–50, 65–67, 113, 115, 130, 156, 244, 294–299, 348–351, 397; в Германии 14–15; и Россия (СССР) 15, 50, 65, 113, 115, 130, 156, 244, 296, 350–351, 397; и США 115, 156, 296, 348–349; критика его музыкальной культуры 13–16, 47, 65–67, 84, 108, 114, 115, 244, 296–297, 346, 348–351
Матисс Анри(-Эмиль-Бенуа) (Henri-émile-Benoot Matisse, 1869–1954) — живописец, скульптор, театральный художник 382
Матюшин Михаил Васильевич (1861–1934) — художник, скрипач, композитор, теоретик искусства 53
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — поэт, драматург 24–25, 53, 86, 88, 91, 267, 345, 347, 397, 401–402, 406, 442; «150 миллионов» 86; «Мой май» (1922) 91, 397, 401–402, 406
Медведева Ирина Андреевна (р. 1939 г.) — историк музыки 425
Мейнард Рышна Натали (Natalie Maynard Ryshna) — пианистка 110–111
Мейер-Бер Кати (Kathi Meyer-Baer, 1892 — после 1971) — музыковед и библиотекарь 406, 453
Мейербер Джакомо (Giacomo Meyerbeer, собственно Jacob Liebman Beer, 1791–1864) — композитор 134, 362, 389
Мейерхольд Всеволод (Карл-Теодор-Казимир) Эмильевич (1874–1940) — режиссер, актер 122, 345
Мейсон Фрэнсис (Francis Mason) — историк балета 451
Мендельсон(-Бартольди Якоб-Людвиг-)Феликс (Mendelssohn[-Bartholdy Jakob-Ludwig-] Felix, 1809–1847) — композитор, пианист, органист и дирижер 310
Мендельсон-Прокофьева Мира Александровна (Абрамовна) (1915–1968) — либреттист, вторая жена Сергея Прокофьева 369
Мессиан Оливье (Olivier Messiaen, 1908–1992) — композитор, органист, педагог и орнитолог 371
Местр Жозеф де (Joseph de Maistre, 1754–1821) — писатель, дипломат (в 1803–1817 гг. посол Сардинии в России) 330
Метнер Николай Карлович (1879/1880–1951) — композитор, пианист-виртуоз 13–14, 25, 120–122, 124, 170, 247, 261–262, 265, 269, 391, 439; его приезд в СССР в 1927 году 120–121
Мийо Дариус (Darius Milhaud, 1892–1974) — композитор, дирижер, педагог 45, 115, 116, 142, 270, 386
Микротоновая (в частности: четвертитоновая) музыка 19–22, 139–140, 144, 389, 444; и Вышнеградский 20, 22, 139; и Лурье 19–20, 22, 139; и Маркевич 139–140, 144; и Георгий Римский-Корсаков 22, 444; см. также Ультрахроматизм (высший хроматизм)
Миллер И. С. — историк литературы и культуры 438
Милош Чеслав (Czeslaw Milosz, 1911–2004) — поэт, историк литературы, политический публицист, лауреат Нобелевской премии (1980) 72–73, 453
Мильтон Джон (John Milton, 1608–1674) — поэт, политический деятель 137
Минелли Винченте (или Винсент) (Vincente Minelli, наст, имя Лестер Энтони Миннелли, Lester Anthony Minnelli, 1910–1986) — продюсер, режиссер 105; фильм «Хижина в небе (Cabin in the Sky)» (1942) 105
«Мир искусства» — художественное объединение, близкое символизму (С.-Петербург, 1898–1924) 183, 343
Миттеран Франсуа-Морис-Адриен-Мари (François-Maurice-Adrien-Marie Mitterrand, 1916–1996) — с 1971 г. лидер новосозданной Французской социалистической партии, президент Французской республики в 1981–1995 гг. 149
Модернизация общества 16, 49, 154, 156; и Россия (СССР) 49, 154, 156
Модернизм в музыке и музыкальные модернисты 33, 42, 44, 46, 49–50, 59, 61–62, 76, 82–84, 90, 95, 98, 120, 122, 124,130–131, 143, 158, 181, 183, 198, 241, 245–247, 250, 257, 261–262, 265–266, 271–277, 280, 284–285, 289, 294–295, 302, 310, 312, 314, 334, 365, 388–389, 405–406; характеристика модернизма у Дукельского 49, 59, 82–84, 95, 120, 388–389, 405; характеристика модернизма у Лурье 33, 44, 49, 122, 181, 183, 198, 241, 245–246, 257, 261–262, 265–266, 271–277, 280, 284–285, 289, 294–295, 302, 310, 312, 314; характеристика модернизма у Стравинского 61–62, 84; характеристика модернизма у Сувчинского 334, 365
Морё Серж (Serge Moreux) — музыковед, либреттист 142, 143, 454
Моро Альдо (Aldo Мого, 1916–1978) — политический деятель, премьер-министр Италии в 1963–1968 и 1974–1976 гг., лидер левоцентристского крыла Христианско-демократической партии, сторонник компромисса с Коммунистической партией, похищен и убит террористами 150–151
Московская государственная консерватория (МГК) 112, 119, 121–122, 136, 342, 434, 439, 447–448
Мосолов Александр Васильевич (1900–1973) — композитор, пианист, обработчик и собиратель фольклора 122, 124, 267
Моцарт Вольфганг-Амадей (Wolfgang-Amadeus Mozart, 1756–1791) — композитор, виртуоз-исполнитель на клавишных и скрипке, дирижер 69, 182, 194, 211–212, 220, 256–257, 271, 285, 290, 300, 316–317, 321–322, 360–361, 373, 389, 390–393
Музыкальный отдел Народного комиссариата просвещения (МУЗО Наркомпроса) РСФСР 9, 23, 117, 217
Мусоргский Модест Петрович (1839–1881) — композитор 18, 23, 34, 42, 57, 69, 129, 170, 188, 202–203, 260–263, 272, 282–287, 296, 302–303, 305–312, 315–316, 318, 333–335, 362, 371, 373, 384, 386, 403, 440
Муссолини Бенито (Benito Mussolini, 1883–1945) — первоначально лидер Итальянской социалистической партии, затем создатель и вождь фашистского движения, в 1922–1943 гг. премьер-министр Италии 157
Мюнш Шарль (или Мюнх, Charles Munch, 1891–1968) — французский дирижер, скрипач 52, 142
Мясин Леонид Федорович (1895–1979) — балетмейстер, танцовщик 112, 382–383, 386
Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950) — композитор, педагог 8, 10, 116–118, 120–121, 267, 342, 348, 414, 416, 419, 424, 443
Набоков Владимир Владимирович (псевдоним Сирин, 1899–1977) — прозаик, поэт, переводчик 14, 132, 292–293, 442, 454; «Пнин» (1953–1955) 132
Набоков Николай Дмитриевич (1903–1978) — композитор, общественный деятель 13–15, 45, 65, 76–77, 111–112, 114–115, 268, 376–377, 387, 442, 454; и критика музыки массового общества 14–15, 65; и левая политика 111–112; и социалистический реализм 112; и «Свадебка» Стравинского 76–77, 442; о Прокофьеве в СССР 112
Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) — поэт 246
Направник Эдуард Францевич (собственно Eduard Nápravník, 1839–1916) — дирижер и композитор, уроженец Чехии 316
Народолюбие у Лурье 47, 65, 156, 296–297; у Стравинского (согласно Лурье) 187; у Сувчинского 37, 65, 156
Национал-социализм 10, 15, 34–35, 69–70, 73, 122, 278, 377; и журнал «Советская музыка» в 1935 году 69–70; и музыка 15, 35, 69, 377; и управление искусствами 69–70; критика у кн. Николая Трубецкого 34
Нерлер (Полян) Павел Маркович (р. 1952) — филолог, историк, поэт; по образованию географ 439
Несмелов Виктор Иванович (1863–1937) — религиозный мыслитель, педагог 343
Нестьев Израиль Владимирович (1911–1993) — музыковед 92, 424, 431, 444, 454
Неттесгеймский (Генрих-Корнелий-)Агриппа (Heinrich-Comelius-Agrippa von Nettesheim, 1486–1535) — писатель и врач, прославившийся при жизни как специалист по магии 128
Нижинская Бронислава Фоминична (1891–1972) — балетмейстер 77, 386
Нижинский Вацлав Фомич (1889 или 1890–1950) — танцовщик, балетмейстер 150, 383, 385–386
Никитин Василий Петрович (1885–1960) — дипломат (в 1918 г. отказался исполнить директиву Троцкого о поддержке сепаратного Брестского мира с Германией, с 1919 г. жил в Париже), востоковед, автор и переводчик книг и многочисленных статей (писал по-русски, французски, курдски и на фарси); в 1925–1930 гг. участник евразийского движения 5, 37, 155, 442
Николай II Александрович (Романов, 1868–1918) — российский император в 1894–1917; 396
Ницше Фридрих-Вильгельм (или Ницше, Friedrich-Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) — философ, филолог-классик, поэт, композитор 72, 239, 300, 316, 337, 362
Ноай виконтесса Мария-Лаура (Vicomtesse Marie-Laure de Noailles, 1902–1970) — меценатка 142–143
Нодель Артур (Arthur Knodel, p. 1916) — историк литературы 456
Ноно Луиджи (Luigi Nono, 1924–1990) — композитор 155
Нувель Вальтер Федорович (1871–1949) — музыкальный деятель, писатель 118, 352, 378, 415
Нуффель Роберт О. Й. Ван (Robert О. J. van Nuffel, 1909-?) — историк культуры 136, 457
Ньюман Эрнест (Ernest Newman, наст, имя Уильям Робертс [William Roberts], 1868–1959) — музыкальный критик, в 1920–1958 гг. писал обзоры текущей музыки для «The Sunday Times» (Лондон) 16–17, 390, 394; о «Свадебке» Стравинского 16–17, 390
Обержонуа Рене (René Aubeijonois, 1872–1957) — художник 376
Общество забытой музыки (1948–1960-е) 155
Оборин Лев Николаевич (1907–1974) — пианист, педагог, начинал как композитор 267
Обухов Николай Борисович (1892–1954) — композитор 268, 270
Ольденбургский Георгий Петрович (Петер-Фридрих-Георг Гольштейн-Ольденбургский, т. е. von Oldenburg), принц (1784–1812) — государственный деятель и литератор, связанный семейными узами с Романовыми, с 1808 г. жил в России 404
Онеггер Артюр (или Хонеггер, Arthur Honegger, 1892–1955) — композитор 45, 142, 270, 385, 389
Орфический миф 52, 82–83, 85, 300, 403
Орик Жорж (Georges Auric, 1899–1983) — композитор, общественный деятель 17, 45, 84, 115, 116, 270, 382, 385–386, 389–390
Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) — литературовед 433
Осповат Александр Львович (р. 1948) — литературовед 449
Остен Зигуна фон (Sigune von Osten) — певица 429
Острецов Александр Андреевич (1903–1964) — музыкальный критик официозного направления 122, 443
Островская Елена Сергеевна (р. 1973) — переводчица 224, 227, 282, 282, 376
Офи-Мазо Маргарита — этномузыковед, историк музыки 74, 453
Охотин Никита Глебович (р. 1949) — филолог, историк-архивист, сотрудник общества «Мемориал» 449
Пазолини Пьер-Паоло (Pier Paolo Pasolini, 1922–1975) — поэт, прозаик, кинорежиссер, публицист 151
Палестрина, правильнее Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525–1594) — композитор, органист, хоровой дирижер 182, 194, 211
Палиашвили Захарий Петрович (1871–1933) — композитор, педагог 348
Панофский Эрвин (Erwin Panofsky, 1892–1968) — историк искусства, создатель иконологии 141; «Перспектива как символическая форма» (1927) 141
Парнис Александр Ефимович (р. 1938) — историк литературы 162, 168, 217, 448
Паскаль Блез (Blaise Pascal, 1623–1662) — математик, физик, религиозный писатель 215, 224–225, 241, 245, 439
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — поэт, прозаик, драматург, лауреат Нобелевской премии (1958) 371
Перголези Джованни Баттиста (Giovanni Battista Pergolesi, 1710–1736) — композитор 381
Персимфанс (Первый симфонический ансамбль Моссовета, 1922–1932) — экспериментальный оркестр (играл без дирижера), созданный по инициативе Л. М. Цейтлина, заслуженный коллектив республики с 1927 г. 345, 355, 431
Петербургская (Ленинградская) консерватория 14, 19, 25, 101, 122, 406
Петипа Мариус Иванович (1818–1910) — балетмейстер 381
Петр I Великий (собств. Петр Алексеевич Романов, 1672–1725) — с 1682 г. русский царь, с 1721 г. император 35, 89, 166–167, 293, 397–398, 402, 448; и западническая утопия 166–167, 397, 402; и модернизация России 158, 397
Петровский Федор Александрович (1890–1978) — поэт-переводчик и филолог-классик 371
Пикассо Пабло Руис (собств. Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Blasco у Picasso López, 1881–1973) — живописец, скульптор, театральный художник, общественный деятель и поэт 222, 232, 242–243, 244, 279, 382
Пико делла Мирандола Джованни (Giovanni Pico della Mirandola, 1463–1494) — философ-гуманист 387
Пиросмани Нико (Николай Асланович Пиросманишвили, ок. 1862–1918) — художник 279
Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — публицист, литературный критик 343
Платон (428 или 427–348 или 347 до P. X.) — философ 66, 318
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — политический публицист, философ и литературный критик, идеолог Российской социал-демократической рабочей партии 179–180
Половинкин Леонид Алексеевич (1894–1949) — композитор, дирижёр 267
Польдяева Елена — музыковед 81, 414, 424
Поляков Марк Яковлевич (р. 1916) — литературовед, текстолог 448
Попов Гавриил Николаевич (1904–1972) — композитор, писатель 122,124, 136, 232, 267, 270, 443
Постникова Виктория Валентиновна (р. 1944) — пианистка 238
Поттер Памела Максина (Pamela Maxine Potter) — историк музыки
Похитонов Иван Павлович (1850–1923) — художник, член «Товарищества передвижников», действительный член Академии художеств (с 1904 г.); из-за участия в молодости в народовольческом движении подолгу жил за границей 135
Принг С. У. (S. W. Pring) — переводчик 232, 269, 321, 452–453
Проди Романо (Romano Prodi, p. 1939) — ученый-экономист, политический деятель, первоначально христианский демократ, затем лидер левоцентристской коалиции «Оливковой ветви», премьер-министр Италии в 1996–98 гг. (подал в отставку после перехода крайне левых в оппозицию к его правительству), председатель Комиссии Европейского союза в 1999–2004 гг. 151
Прогресс и прогрессизм 36–38, 44, 63–64, 73, 122, 158, 298, 376; критика его концепции евразийцами 38, 44; как порождение западного сознания 36, 44, 73, 158, 298; марксистский 36
Прокофьев Святослав Сергеевич (р. 1924) 425
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) — композитор, писатель, пианист; в 1918–1936 гг. проживал в Японии, США и Западной Европе (в 1924–1936 гг. преимущественно в Париже), наведываясь с 1927 г. в СССР, куда окончательно перебрался в 1936 г. 7–10, 13–14, 16, 24–25, 45, 48–49, 53, 60–63, 68, 76, 80–85, 87, 90–92, 94–95, 98–102, 104, 108–109, 111–136, 138, 141–143, 145, 146, 153–155, 232–233, 244, 266–270, 303, 307, 322, 327, 337, 341–342, 355, 376, 383–384, 387, 389–395, 403, 406, 412–425, 431, 434–435, 442–443, 450–451, 454–455, 458; «Дневник 1907–1933 гг.» 8, 14, 60, 74, 112, 116–117, 121–122, 126, 145, 384, 386, 414–420, 443; и «коллективный субъект» в музыке 129–130; и «Конец Санкт-Петербурга» Дукельского 10, 63, 87, 90–92, 129, 154, 341, 403; и критика музыки массового общества 113–115, 130; и Московская государственная консерватория 112–113, 119, 122; и «пролетарские композиторы» 119–121, 131; и скандал за кулисами на премьере «Стального скока» 386–387; и социалистический реализм 113; и «сталинская» конституция 1936 г. 130; и Церковь Христианской науки 126; его возвращение в СССР 8; как писатель-сюрреалист 116, 425, 443; как «советский композитор» 98, 109, 111–126, 341–342; об американском джазе 99–100, 102; о Кабалевском и Желобинском 123; о Лурье 117; о Маркевиче 117–118, 135, 141; о «музычке» 114–116; о Шостаковиче 116, 123
Прокофьева Лина Ивановна (сценич. псевд. Льюбера [Llubera], правильнее Юбера, до замужества Лина Кодина (Lina Codina], 1897–1989) — певица, первая жена Сергея Прокофьева 8, 111, 444
Прокофьева Роза — переводчица 454
Пролетарская музыка как эстетическая проблема 119, 126, 131, 240, 244, 263, 265, 267, 290, 295
Протопопов Сергей Владимирович (1893–1954) — композитор, музыковед, дирижер, педагог 118, 267
Пруст Марсель (Marcel Proust, 1871–1922) — прозаик 334
Прюна Педро (или Пруна, Pedro Pruna, 1904–1977) — художник 382, 385
Прюньер Анри (Henry Prunières, 1886–1942) — историк музыки и издатель 147, 428–429, 454
Пти Ролан (или Пети, Roland Petit, p. 1924) — балетмейстер, танцовщик 109
Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — кинорежиссер, теоретик кино 49, 54, 85–86, 88–89, 153; и евразийское мирочувствие 49, 86; фильм «Конец Санкт-Петербуга» (1927) 85, 88–89, 153, 395; фильм «Потомок Чингисхана (Буря над Азией)» (1928) 86
Пуленк Франсис (Francis Poulenc, 1899–1963) — композитор 17, 45, 84, 115, 116, 270, 382, 385, 389, 391
Пуччини Джакомо (Антонио Доменико Микеле Секондо Мария) (Giacomo [Antonio Domenico Michele Secondo Maria] Puccini, 1858–1924) — композитор 362
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — поэт, драматург, прозаик, историк 35, 87, 89,168, 299, 300–301, 308, 315–316, 321, 323, 344, 395, 397–399, 404–405, 444, 448; «Арап Петра Великого» (1827) 35, 293; «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823) 301; «Борис Годунов» (1825) 301; «Золотой петушок» (1834) 301; «Домик в Коломне» (1830) 199, 301; «Дубровский» (начало 1830-х) 301; «Евгений Онегин» (1823–1831) 299, 301, 308, 315; «Заклинание» (1830) 316; «Каменный гость» (1830) 301; «Медный всадник» (1833) 87, 398–399, 404; «Пиковая дама» (1833) 301; «Пир во время чумы» (1830) 35; «Пророк» (1826) 168; «Руслан и Людмила» (1817–1820) 301; «Сказка о царе Салтане…» (1831) 301; «Скупой рыцарь» (1830) 301; «Цыгане» (1824) 301, 316
Рабенек Артур Львович (то же лицо, что и Rabeneck?; ок. 1900–1952) — зам. директора РМИ 217
Рабинович Исаак Моисеевич (1894–1961) — театральный художник 415
Рабинович Елена Георгиевна (р. 1945) — поэт-переводчик и филолог-классик 26, 238, 444
Равель Морис (Maurice Ravel, 1875–1937) — композитор 11, 286, 291, 306, 382
Радлов Сергей Эрнестович (1892–1958) — режиссер 419
Разумовская Любовь Вячеславовна — историк, специалист по западным славянам 30
Раковский Христиан Георгиевич (псевд. Инсаров, также Кръстю Станчев, производное от сокращенной формы собств. имени и имени его отца, Стойко Поповича [более известного как Георгий Раковский], 1873–1941) — политический деятель, уроженец Болгарии, по убеждениям троцкист; с 1923 г. — полномочный представитель СССР в Великобритании, в 1925–1927 гг. — во Франции 415 и балет Прокофьева «Стальной скок» 415
Рамюз Шарль-Фердинанд (Charles-Ferdinand Ramuz, 1878–1947) — автор романов, либретто; сотрудничал со Стравинским и Маркевичем 147–148
Расин Жан (Jean Racine, 1639–1699) — драматург 214–215
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — композитор, пианист-виртуоз 13–14, 34, 54–55, 170, 245–248, 250, 287, 316, 391, 440, 444; как выразитель интеллигентского сознания 12–13
Рахманова Марина Павловна (р. 1947) — музыковед 31, 425, 434
Революция 7, 20–21, 25, 36–40, 42, 45–50, 58, 61–62, 64, 66, 68, 70–73, 78, 84–86, 91, 93–94, 123, 128, 131, 13, 143–151, 154, 178, 180, 182, 217, 228–230, 240–242, 244, 264, 269–270, 282, 294–296, 301–302, 306, 310–311, 324–332, 338, 341–346, 348, 351–354, 366, 372, 393, 395, 406, 416, 435; евразийская 25, 38–39, 42, 46–50, 58, 72, 84, 328–331; в музыке 20, 40, 42, 45–50, 84, 133, 154, 228–230, 241–242, 244, 282, 348, 393; коммунистическая 37–39, 49, 62, 72, 150–151 (в Италии), 217, 240–241, 269–270, 325–326, 328, 343–345, 351; национал-социалистическая 70
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель 33
Репин Илья Ефимович (1844–1930) — художник 247, 307
Рерих Николай Константинович (1874–1947) — художник, археолог, путешественник, писатель 381
Рерих Святослав Николаевич (1904–1993) — художник 62
Ривера Диего (Diego Rivera, 1886–1957) — живописец, общественный деятель 270; «За независимое революционное искусство» (1938) 270
Риети Витторио (Vittorio Rieti, 1898–1994) — композитор, уроженец г. Александрия (Египет) 17, 115, 116, 382–383, 385–386
Римская-Корсакова Надежда Николаевна (урожд. Пургольд, 1848–1919) — пианистка, композитор, автор работ по истории музыки, с 1873 г. жена Николая Римского-Корсакова 218
Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878–1940) — музыкальный архивист и издатель 19, 24, 123, 218, 435; как эстетический «мракобес» 123; отношение его к Стравинскому 24, 123
Римский-Корсаков Георгий Михайлович (1901–1965) — акустик, теоретик музыки, композитор 22, 42, 444; и микротоновая музыка 22, 444
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908) — композитор, педагог 11, 22, 35, 64–65, 69, 85, 123, 170, 184–185, 188, 197, 200, 218, 260–262, 285–287, 302–303, 306, 313, 315–316, 334, 345, 362–364, 373–374, 381, 384; как академический националист 184–185, 188, 197, 260–262, 345, 381; как вагнерианец 11, 42, 200
Римские-Корсаковы (семья) 123, 218
Рихтер Жан-Поль (подлинное имя Johann-Paul-Friedrich Richter, псевдоним Jean-Paul, 1763–1825) — прозаик 385
Робинсон Харлоу (Лумис) (Harlow [Loomis] Robinson, p. 1950) — музыкальный биограф, историк театра 112, 129, 424, 455
Рождественский Геннадий Николаевич (p. 1931) — дирижер, педагог 238, 342
Рожицына-Гандэ М. — переводчица 376, 445
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — публицист и философ 283, 343–344, 355; «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918) 355
Ролан-Манюэль Алексис (Alexis Roland-Manuel, наст, имя Ролан-Алексис-Манюэль Леви [Roland-Alexis-Manuel Lévy] 1891–1966) — композитор и писатель, соавтор Стравинского и Сувчинского по «Музыкальной поэтике» 9, 353–354, 378
Роллан Ромен (Romain Rolland, 1866–1944) — историк музыки, литературы и изобразительного искусства, прозаик, драматург, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии (1915) 69–73, 78, 103, 346, 372–376, 445, 455
Роллан Мари Ромен (Marie Romain Rolland, в первом браке княгиня Мария Павловна Кудашева, урожд. Майя Кювилье, 1895–1986) — с 1934 г. жена Ромена Роллана 455
Романов Борис Георгиевич (1891–1957) — танцовщик, балетмейстер, педагог 384
Ронен Омри (р. 1937) — литературовед 457
Рославец Николай Андреевич (1880/1881–1944) — композитор, скрипач, теоретик музыки и общественный деятель 267, 414
Ростан Клод (Claude Rostand, 1912–1970) — критик, историк музыки 138, 140, 152, 429
Росс Хью (Hugh Ross, 1898–1990) — хоровой дирижер, органист 85, 89, 402, 455
Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ, 1923–1932) 19, 119–120, 122, 131, 267, 438
Российское музыкальное издательство (РМИ) Н.К. и С. А. Кусевицких (1909–1938) 8, 178, 217
Россини Джоакино-Антонио (Giaochino-Antonio Rossini, 1792–1868) — композитор и кулинар 381
Роте Ганс (Hans Rothe, p. 1928) — историк литературы 30, 454
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) — пианист-виртуоз, композитор, педагог 12, 33, 314, 386; как «музыкальный немец» 12
Рубинштейн Николай Григорьевич (1835–1881) — пианист, педагог 380
Рублев св. Андрей (ок. 1360/1370 — ок. 1430) — иконописец 279
Руссель Альбер(-Шарль-Поль-Мари) (Albert-Charles-Paul-Marie Roussel, 1869–1937) — композитор 142
Руссо Анри (Henri Rousseau, известен также как «таможеник» Руссо, Rousseau le Douanier, 1844–1910) — художник 271, 279
Рут Линн (Lynn Root, 1905–1997) — автор и исполнитель, работал на Бродвее 104, 107
Рыцарева Марина Григорьевна — музыковед 424
Рязанов Петр Борисович (1899–1942) — композитор, педагог, фольклорист 267
Сабанеев Леонид Леонидович (1881–1968) — музыкальный критик, мемуарист, композитор 19–22, 178–181, 445; и ультрахроматизм 20–22; о Скрябине 19–21, 178–181
Сабашниковых братьев Михаила Васильевича (1871–1943) и Сергея Васильевича (1873–1909) книгоиздательство в Москве (1891–1931, возрождено в 1990-е гг.) 178
Савенко Светлана Ильинична (р. 1946) — певица, историк музыки 9, 352–353, 355, 379, 445
Савицкий Петр Николаевич (1895–1968) — географ, кочевниковед, поэт; в 1945–1956 в заключении (насильственно возвращен в СССР), после освобождения вновь проживал за пределами страны (впоследствии подвергся заключению и в Чехословакии) 21, 38, 41, 61, 331–332, 420, 445; «Континент-океан (Россия и мировой рынок)» (1921) 21
Сальери Антонио (Antonio Salieri, 1750–1825) — композитор 316
Саминский Лазарь (Элиезер) Семенович (1882–1959) — композитор, математик, музыкальный критик, собиратель еврейского фольклора 101, 406; о «Конце Санкт-Петербурга» Дукельского 101, 406
Самюэль Клод (Samuel, Claude, p. 1931) — историк музыки 8
Сарматия 25–3
Сарматизм 29–30
Сартр Жан-Поль (Jean-Paul Sartre, 1905–1980) — философ-экзистенциалист, драматург, прозаик и общественный деятель 319, 356
Сати Эрик(-Альфред-Лесли) (Erik-[Alfred-Leslie] Satie, 1866–1925) — композитор (смешанного франко-шотландского происхождения) 334, 382, 386, 391
Сахаров С.И. — книгоиздатель 178
Святополк-Мирский князь Дмитрий Петрович (1890–1939) — историк русской литературы, художественный и литературный критик, публицист-евразиец, поэт, педагог; вступил в Коммунистическую партию Великобритании и в 1932 г. возвратился в СССР, умер в заключении 33, 37, 61, 86, 157, 327, 332, 417, 445, 454; «История одного освобождения» (1931) 157; о «Потомке Чингисхана» Всеволода Пудовкина 86
Сенилов Владимир Александрович (1875–1918) — композитор 85
Сезанн Поль (Paul Cézanne, 1839–1906) — живописец 174, 335
Сеземан Василий Эмильевич (1884–1963) — философ, профессор Каунасского университета (1923–1940), один из руководителей евразийской группы в Литве; в 1949 г. арестован, в 1958 г. возвратился в Литву и преподавал в Вильнюсском университете 46, 420, 445
Серенада — серия парижских концертов 116
Симмондс Гарви (Harvey Simmonds) — историк балета, библиограф 45
Синайский Василий Серафимович (р. 1947) — дирижер, педагог 118, 430, 441
Скарлатти (Джузеппе-)Доменико ([Giuseppe-]Domenico Scarlatti, 1685–1757) — композитор, исполнитель на клавишных, педагог 381
Скрябин Александр Николаевич (1871–1915) — композитор 13,17–19, 21, 23–25, 40–45, 47, 51, 54, 56, 75–76, 78, 81, 84–85, 95, 119–120, 122, 124, 135, 143, 168–181, 183, 186–187, 194, 215, 219–221, 230, 232, 239, 246, 258, 261, 265, 287, 290, 310–318, 322, 344, 365, 386, 431, 438, 440–441, 445; как выразитель интеллигентского сознания (согласно Лурье) 177; Дукельский о Скрябине 24; Лурье о Скрябине 18–19, 23–24, 42–43, 45, 54
Скрябинизм (скрябинианство) и скрябиномания 13, 18–19, 24–25, 36, 44, 49, 68, 183; как социологический феномен 18
Слобожан Инна Ивановна — писательница 436
Слонимская-Йорк Электра (Electra Slonimsky Yourke) — дочь Николая Слонимского, публикатор его наследия 456
Слонимский Николай Леонидович (1894–1995) — музыкальный библиограф, композитор, мемуарист 8, 387, 456; о двух паспортах Прокофьева 8
Смит Джеральд Стэнтон (Gerald Stanton Smith) — филолог-славист, поэт-переводчик 454
Соге (другое написание Согэ) Анри (Henri Sauguet, наст, фамилия [наст, имя Жан-Пьер Пупар [Jan-Pierre Poupard], 1901–1989) — композитор 115, 116, 382–383, 385–386
Сокольский (Гринберг) Матиас Маркович (1896–1977) — музыкальный критик; «Сергей Прокофьев (К его выступлениям в Москве)» (1927) 119, 435
Солженицын Александр Исаевич (Исаакиевич) (р. 1918) — публицист, прозаик, драматург, литературный критик, начинал как поэт, лауреат Нобелевской премии (1970) 73; «Один день Ивана Денисовича» (1962) 133; Солнечный миф (и солярная образность) 53, 92, 119,143, 167, 182, 400, 402, 422; и Лурье 53, 167; и «Здравица» Прокофьева 53, 422; и русская поэзия начала XX века 53 (общий обзор), 400 (Ахматова), 402 (Маяковский)
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ, поэт 283, 343
Соловьев о. Сергий Михайлович (1885–1942) — поэт, историк культуры, священник (колебался между православием и католичеством) 53
Сорокина Марина Юрьевна (р. 1961) — историк-архивист 442
Софокл (ок. 496–406 до P. X.) — драматург-трагик 104
Социалистический реализм 62, 112–113, 348; и Николай Набоков 112; и Прокофьев 62; определение, данное Сталиным 113
Союз советских композиторов (осн. в 1932 г., с 1957 г. Союз композиторов СССР) 110, 113, 114 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878[sic!]-1953) — политический деятель 39, 52, 61–62, 91–92, 112–113, 127–128, 130, 133, 339–342, 347, 422–423, 435, 442, 445; и конституция СССР 1936 года 130–131; и национальная программа революционных марксистов 39; и социалистический реализм 112–113; как фаллическое божество 131–132, 421–423; о Маяковском 91, 347
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — общественный деятель, писатель, поэт 12
Станкевич Эдвард (Edward Stankiewicz, p. 1920) — лингвист, мемуарист, начинал как поэт (писал на идише) и художник 88
Старицкий князь Владимир Андреевич (ум. 1569) — двоюродный брат Иоанна Грозного, крупный военачальник, совершил «самоубийство» (его образ в фильме Эйзенштейна мало связан с исторической реальностью) 90
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — художественный критик, биограф, исследователь народного искусства, идеолог национального направления в русской музыке 31–33, 35, 43–44, 346, 446; об антисемитизме Вагнера 35; о происхождении русских былин 31–32
Стахеев Борис Федорович (1924–1993) — историк польской литературы 30, 438
Степанов Борис Евгеньевич — историк культуры 40, 446
Степачев Л.М. — библиограф, переводчик 441
Стравинская Вера Артуровна (урожд. де Боссе, в предшествующих браках Шиллинг и Судейкина, 1892–1982) — актриса, вторая жена Стравинского 378, 457
Стравинская Екатерина Гавриловна (урожд. Носенко, 1881–1939) — с 1906 г. жена Игоря Стравинского 218
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) — композитор, писатель, дирижёр 7–10, 13, 16, 24–26, 32–34, 36, 41, 43, 44–46, 49–50, 53–54, 61–64, 67–85, 89, 91, 94–95, 98–99, 103–104, 108–114, 117–118, 120–125, 129–131, 135, 138, 141–147, 153–158, 170, 176, 179, 181–233, 242–244, 248–250, 254, 258, 262–263, 265, 268–270, 281, 287, 290, 303, 313–317, 322, 333–335, 342, 352–356, 360, 362–367, 371–379, 381–382, 384–385, 387, 389–390, 392–394, 403, 416–418, 420, 429, 431, 433, 440, 442, 445–446, 450, 452–453, 456–457; и выборы в Институт Франции 68; и клан Римских-Корсаковых 69, 123, 218; и обновление в культуре 68–73, 373–374; и Первая мировая война 71–72, 374, 376; «Музыкальная поэтика» (1942) 9, 64–65, 78, 317, 342–356, 365–366, 457; о Маркевиче 145–147; «Перед „Весной священной“» (1935) 68, 457
Стравинский Федор Игоревич (1907–1989) — художник, сын Игоря Стравинского 353
Стырне Владимир Андреевич (1897–1937) — сын чиновника Курляндского военного присутствия, с 1921 в органах ВЧК — ОГПУ — НКВД 42
Сувчинский Петр Петрович (собственно граф Шелига-Сувчинский, 1892 1985) художественный и литературный критик, политический публицист 7, 8–10, 14, 19, 24–25, 33, 37–38, 40, 49, 58–68, 71, 78, 83–86, 113–114, 123, 127, 134, 136, 139, 141–143, 145, 153–158, 168, 216–218, 224, 244, 258, 298, 316–317, 324–371, 378, 384, 386, 412–420, 424–425, 438, 446–447, 456; и «Кантата о Ленине» Прокофьева (впоследствии «Кантата к XX-летию Октября») 62, 127, 337–341, 353, 355, 366, 414; и «Музыкальная поэтика» Стравинского 9, 78, 317, 244, 342–356, 366–367; и «Стальной скок» Прокофьева 414–416; мысли о возвращении на родину 60–62, 136; о России, Америке и Европе в письме Дукельскому 155–156, 367–371
Сугай Лариса Анатольевна — историк литературы 433
Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — поэт 432–433
Сэвидж Арчи (Archie Savage, 1914–2003) — актер, танцовщик, хореограф; снимался в американском и итальянском кино (в том числе у Феллини и Пазолини) 409
Тайфер Жермен(-Марсель) (Germaine[-Marcelle] Taillefere, 1892–1983) — композитор 270, 385
Танеев Сергей Иванович (1856–1915) — композитор, педагог, теоретик музыки 170, 245, 384
Тапполе Клод (Claude Tappolet) 378
Тарускин Ричард (Richard Taruskin, p. 1945) — историк музыки 7, 10, 25, 26, 34, 45, 50, 68, 73–74, 80, 85, 123, 156–157, 457; и исследования музыкального евразийства 7, 10, 26, 50, 68, 74, 156–157
Тенней Джин (Джеймс Джозеф) (Gene [James Joseph] Tunney, 1898–1978) — боксер, чемпион США в категории легких тяжеловесов 245, 248
Терехина Вера Николаевна — историк литературы 445
Тетрактида 42, 46, 48, 52, 55, 66, 98; у Белого 42, 46, 66; у Лосева 42, 46, 48, 66; у Лурье 42, 46–48, 52, 55, 66
Титов Александр — дирижер 342
Товарищество передвижных художественных выставок (1870–1924, «передвижники») 285, 344
Толмачев Василий Михайлович (р. 1957) — литературовед 437
Толстой граф Алексей Николаевич (1882/1883–1945) прозаик, драматург, член АН СССР (с 1939) 350, 355
Толстой граф Лев Николаевич (1829–1910) — прозаик, драматург, публицист 344
Толстой (граф) Никита Ильич (1923–96) — филолог-славист, академик (с 1987), правнук Льва Толстого 447
Толстой Феофил Матвеевич (псевд. Ростислав, 1809–1881) — музыкальный критик 313, 317
Томпсон Оскар (Oscar Thompson, 1887–1945) — музыкальный критик 406
Томсон Вирджил (Virgil Thomson, 1896–1989) — композитор, музыкальный критик, мемуарист 117–118, 151–152, 457
Троцкий (Бронштейн) Лев Давыдович (1879–1940) — политический деятель 46, 269; «За независимое революционное искусство» (1938) 270
Трубецкой князь Евгений Николаевич (1863–1920) — философ 48, 447
Трубецкой князь Николай Сергеевич (1890–1938) — лингвист, историк литературы, политический деятель и публицист 17, 24–25, 26, 27, 30, 34–35, 37–40, 46, 61, 63–64, 71, 72–73, 80, 168, 244, 366, 412–414, 447; «Европа и Человечество» (1920) 17, 38; «Религии Индии и христианство» (1922) 412; «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока» (1925) 413–414; «О расизме»(1935) 34
Трубецкой князь Сергей Николаевич (1862–1905) — философ, отец Н. С. Трубецкого и брат Е. Н. Трубецкого 17
Трутовский Василий Федорович (ок. 1740-ок. 1810) — музыкант, собиратель фольклора 203, 219; «Собрание русских простых песен с нотами» (4 чч., 1776–1795) 203, 219
Тэйлор Марта (Martha Taylor) — славист 457
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — поэт, политический публицист, дипломат 87, 89, 283, 397, 399–400, 404–405, 447; «Глядел я, стоя над Невой…» (1844) 87, 89, 399–400
Уайлвд Оскар (Фингалл О’Флаэрти Уиллс) (Oscar [Fingall O’Flahertie Wills] Wilde, 1854–1900) — прозаик, поэт, драматург, профессиональный острослов 239
Удэ Вильгельм (Wilhelm Uhde, 1874–1947) — коллекционер модернистского искусства 77
Уилсон Дули (Dooley Wilson, 1894–1953) — актер, музыкант 107
Уолтон сэр Уильям (Тернер) (Sir William [Turner] Walton, 1902–1983) — композитор 385
Уотерс Этель (Ethel Waters, 1896–1977) — певица, актриса 104–105, 106–107, 407–409
Ультрахроматизм (высший хроматизм) 19–23, 44, 68, 162–164, 179–180, 278, 280, 439; и Вагнер 280; см. также Микротоновая (в частности: четвертитоновая) музыка
Урбан Адольф Адольфович (1933–1989) — критик, историк литературы
Урбанизм 16, 49, 97
Фалья (точнее Файа или Файя[-и-Матеу]) Мануэль де (Manuel de Fallaf-y-Matheu], 1876–1946) — композитор 248, 381
Федоров Андрей Венедиктович (1906 — после 1991) — историк литературы
Федоров Николай Федорович (1828–1903) — религиозный мыслитель 343, 355
Фейербах Людвиг Андреас (Ludwig Andreas Feuerbach, 1804–1872) — философ-атеист, младогегельянец 127
Фейнберг Самуил Евгеньевич (1890–1962) — композитор, пианист педагог 130–131, 267
Фельтринелли Джанджакомо (Giangiacomo Feltrinelli, 1926–1972) — книгоиздатель, политический деятель 151
Фере Владимир Георгиевич (1902–1971) — композитор, педагог 349
Ферман Валентин Эдуардович (1896–1948) — музыковед 120, 447
Флоренский свщм. отец Павел (Александрович) (1882–1937) — богослов, историк искусства, лингвист, поэт, автор работ по технологии и почвоведению, церковный деятель 75, 135, 139, 141, 448; «Обратная перспектива» (1919) 135
Флоровский о. Георгий Васильевич (1893–1979) — историк богословия, был — наряду с Трубецким, Савицким, Сувчинским и Ливеном одним из основателей евразийского движения, во второй половине 1920-х порвал с евразийцами организационно 38, 448
Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) — балетмейстер, педагог 381
Фопелль Каспар (Caspar Vopell, XVI в.) — немецкий картограф 28
Форма художественная 20, 22, 31, 34, 41, 42–49, 54–55, 57 58, 63, 66 67, 70, 79, 88, 92, 112, 113–114, 125, 134, 141, 142, 153–154, 158, 162, 167–168, 172–175, 178–179, 185–186, 188–191, 193–198, 201–207, 210–214, 219–222, 224–228, 230–232, 240–242, 244, 249–250, 255, 257, 258, 260–261, 263–266, 268, 270–280, 282, 286–287, 289, 291, 294–295, 297, 303, 305, 307, 309, 310–312, 316–317, 319–320, 322, 333–336, 341, 345, 348, 352, 356, 358–360, 363, 364, 372, 374, 393, 395, 396–397, 432, 439, 441, 445; в ноуменальном аспекте 45, 88, 153, 317; в музыке 20, 22, 34, 41, 42–49, 54–55, 57–58, 66, 67, 70, 88, 92, 113, 114, 125, 142, 153–154, 158, 162, 172–175, 179, 185–186, 188–191, 193–198, 201–207, 210–214, 219–222, 224–228, 230–232, 249, 255, 257, 260–261, 263–266, 268, 270–280, 282, 286–287, 289, 291, 303, 305, 307, 309, 310–312, 316–317, 319, 322, 333–336, 341, 345, 348, 358–360, 363, 364, 372, 374, 393, 395, 396–397, 432, 441; диалектические концепции 46, 58, 153, 158, 179, 219, 241–242, 244, 258, 282, 320; как тип 45, 79, 154, 191, 221–222
Формализм в искусстве 116, 122, 123, 134, 231–232, 241–244, 251, 255, 276, 289, 294, 347, 352, 361, 443–444; как политический ярлык 122–123, 134, 289, 294, 347, 443; как метод 241–244, 251; как художественная проблема 134, 231–232, 244, 255, 294, 352, 361
Франк Сезар(-Огюст-Жан-Гийом-Юбер) (César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck, 1822–1890) — композитор, органист 362
Франк Семен Людвигович (1877–1950) — философ 414, 420
Фризман Леонид Генрихович (р. 1935) — историк литературы, педагог 432
Фурме (Fourmér) — лицо неустановленное 371
Фуртвенглер Вильгельм (Wilhelm Furtwängler, 1886–1954) — дирижер, композитор 69; на страницах «Советской музыки» в середине 1930-х гг. 69
Футуризм 24–25, 38, 57, 70, 169, 345, 347, 445
Хайдеггер Мартин (Martin Heidegger, 1889–1976) — философ 67, 78, 79; влияние «Бытия и времени» на Сувчинского 67, 78–79, 366
Хиндемит Пауль (или Гиндемит, Paul Hindemith, 1895–1963) — композитор, альтист, дирижер, теоретик музыки, педагог 69, 117, 273, 334, 335, 347
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — религиозный мыслитель, поэт, член-корреспондент Академии наук (с 1856) 283
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922) — поэт, прозаик, теоретик будетлянства 23, 25, 38, 53, 91, 165, 168, 287, 321, 448; пьеса «Ошибка Смерти» (1915) 23
Хорн Лена (собственно Лена Калхун Хорн [Lena Calhoun Horne],p. 1917) — певица, актриса 409
Хорев Виктор Александрович (р. 1932) — 438
Хоружий Сергей Сергеевич (р. 1941) — математик, богослов, переводчик 57, 438
Хренников Тихон Николаевич (р. 1913) — композитор, общественный деятель
Хронос музыкальный 63–64, 66, 156, 356–367; и время абсолютное 63–64, 357, 367; и время психологическое 64, 357, 367; и письменный язык 63
Хэлси Саймон (Simon Halsey) — хоровой дирижер 342
Цвейг Стефан (Stefan Zweig 1881–1942) — прозаик, либреттист 70
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — поэт, драматург, прозаик, в 1939 г. возвратилась в СССР 33, 416
Цивилизаторство 15–17, 38, 42, 113; как проект русских коммунистов 38, 113
Цивьян (Михайлова) Татьяна Владимировна — историк культуры, лингвист 64, 365, 434–435, 437, 444
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1854) — мыслитель, публицист 324
Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — композитор, педагог 13, 18, 64–65, 76, 89–90, 115, 134, 170, 176–177, 179–180, 183, 195, 198, 203–204, 245–246, 258, 260, 272, 287–288, 292, 303, 306–311, 316, 344–346, 349, 364, 371, 380–381, 397; как выразитель интеллигентского сознания 12–13, 177, 179, 310
Чемберджи Николай Карпович (1903–1948) — композитор 120
Черепнин Александр Николаевич (1899–1977) — композитор, пианист 7, 13, 16, 25, 49–50, 68, 80–81, 153, 268, 438
Черепнин Николай Николаевич (1873–1945) — композитор, педагог 14, 384, 386
Чернев Анатолий Дементьевич — историк 435
Черни Карл (правильнее Карел Черный; Carl [Karel] Czemy, 1791–1857) — педагог, композитор, пианист 230
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — публицист, литературный критик, прозаик 343
Чимароза Доменико (Domenico Cimarosa, 1749–1801) — композитор 381
Чингисхан (Тэмуджин, ок. 1155–1227) — создатель мировой евроазиатской империи 86, 414–415, 445
Чуковский Корней Иванович (собств. Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969) — писатель, литературовед 433
Шабрие (Алексис-)Эмманюэль ([Alexis-] Emmanuel Chabrier, 1841–1894) — композитор 334
Шадрин Алексей Матвеевич (1911–1983) — переводчик художественной прозы, литературовед, педагог 378
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — певец-бас 247
Шварц Конрад (Conradus Schwartz, XVIII в.) — немецкий географ 28–29, 454
Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963) — композитор, педагог 122, 267
Шекспир Уильям (William Shakespear, 1564–1616) — драматург, актер 318, 320, 344; «Генрих V» (1598–1599) 318, 320
Шелига-Сувчинский граф, см. Сувчинский Петр Петрович Шеллинг Фридрих-Вильгельм-Йозеф фон (Friedrich-Wilhelm-Joseph von Schelling, 1775–1854) — философ, мифолог 56
Шелтон Люси (Lucy Shelton) — певица (сопрано) 429
Шёнберг Арнольд (Arnold Schoenberg, 1874–1951) — композитор, теоретик музыки, педагог 44, 61, 62, 69, 122, 158, 194, 206, 230–232, 248–249, 275, 280, 334, 347; и национал-социализм 69, 122; и Московская государственная консерватория 122; и прогресс в музыке 44, 158; как антипод Стравинского 44, 61, 62, 194, 230–232, 248; как «культурбольшевик» 69; как несостоявшийся «советский композитор» 122
Шериджян-Шаре Марсей (Marcelle Cheridjian-Charrey) пианистка 375
Шерр Барри Поль (Barry Paul Scherr) — стиховед 405, 455
«Шести группа» (или «Шестерка», Les Six) 11, 134, 270, 321, 385
Шестов Лев Исаакович (наст, фамилия Шварцман, 1866–1938) — философ, публицист 33, 283
Шеффнер Андре (Andrd Schaeffner, 1895–1980) — музыковед 366
Шехтер Борис Семенович (1900–1961) — композитор, педагог 120
Шимановский Кароль Мацей (Karol Maciej Szymanowski, 1882–1937) — композитор, писатель, пианист 77
Шлёцер Борис Федорович (1881–1969) — музыкальный критик 67, 78–79, 136–137, 142, 178, 218, 366, 455–456; о Маркевиче 136–137; о Скрябине 178; о Сувчинском 67, 78–79, 366
Шмит Флоран (Florent Schmitt, 1870–1958) — композитор, критик, пианист, педагог 69, 142, 381, 384; и выборы в Институт Франции 69
Шнитке Альфред Гарриевич (1934–1998) — композитор 13; как выразитель интеллигентского сознания 13
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — писатель, член Академии наук (с 1939), лауреат Нобелевской премии (1965) 347, 349
Шопен Фредерик (Fryderyk Chopin, 1810–1849) — композитор, пианист 171, 175, 247, 255, 315, 361, 365
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1907–1975) — композитор пианист педагог 13, 34, 94, 116, 123, 148, 232, 267, 287–292, 347, 355, 424, 440; и кампания 1936 г. против формализма в музыке 116; и «музычка» 116; как новый Чайковский 13, 288, 292; как либертен; и индивидуалист 116; как музыкальный внук Римского-Корсакова 123
Шотцинов (Хотинов, Чатянов) Сэмюэль (англ. написание Samuel Chotzinoff, 1889–1964) — музыкальный критик и администратор (с 1949 г. — генеральный директор музыкального теле- и радиовещания компании NBC) 406
Штейнберг Аарон Захарович (1891–1975) — философ, исследователь творчества Достоевского, активист еврейского движения 443
Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883–1946) — композитор педагог 123, 218, 348, 381, 384
Штейнберг Наталья Николаевна (урожд. Римская-Корсакова, 1884–1971) — дочь Н. А. Римского-Корсакова, жена М. О. Штейнберга 218
Штокхаузен Карлхейнц (Karlheinz Stockhausen, p. 1928) — композитор
Штраус Иоганн-старший (Johann Strauss, 1804–1849) и Штраус Иоганн-младший (Johann Strauss, 1825–1899) — отец и сын, композиторы авторы множества популярных вальсов 388
Штраус Рихард (Richard Strauss, 1864–1949) — композитор, дирижер 11, 70, 183, 200, 248, 271, 322, 372, 381, 385
Штрекер Вилли (Willy Strecker, 1884–1958) — совладелец и директор музыкального издательства «Сыновья Шотга» 377
Шуб Эсфирь Ильинична (1894–1959) — кинорежиссер 270; фильм «Комсомол — шеф электрификации» (1932) 270
Шуберт Франц (Franz Schubert, 1797–1828) — композитор 255, 257, 316, 390–391
Шуман Роберт (Robert Schumann, 1810–1856) — композитор, писатель 175, 257, 310, 316, 318, 361
Щербачев Владимир Владимирович (1889–1955) — композитор, педагог 267
Эдельман Георгий Яковлевич (1907–1970) — музыковед 424, 431, 444
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) — кинорежиссер теоретик кино 54, 85–86, 130, 133–134, 136, 270, 424, 454; о киномузыке Попова 270; попытки его привлечь Маркевича к совместной работе 136; фильм «Октябрь» (1927) 85–86; фильм «Бежин луг» (1935–1937, уничтожен) 136; фильм «Александр Невский» (1938) 129, 136; фильм «Иван Грозный» (1942–1946; не окончен) 90, 129, 133, 136
Элгар Эдуард (Edward Elgar, 1854–1934) — композитор, дирижер 11
Эмерсон Кэрил (Гепперт) (Caryl [Geppert] Emerson, p. 1944) — историк литературы и музыки 35, 448
Энгельс Фридрих (Friedrich Engels, 1820–1895) — теоретик социализма 127, 337
Энгр Жан-Огюст-Доминик (Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780–1867) — живописец и рисовальщик 241
Энди (Поль-Мари-Теодор-)Венсан д’ ([Paul-Marie-Théodore-]Vincent d’Indy, 1851–1931) — композитор, органист, дирижер, педагог, музыкальный критик 362
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) — поэт, прозаик, политический публицист, мемуарист 269, 415
Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941) — писатель, муж Марины Цветаевой, примыкал к левым евразийцам, агент советской разведки, в 1937 г. возвратился в СССР, расстрелян 33, 327
Юмберклод Эрик (Eric Humbertclaude, p. 1961) — органист, историк музыки 371
Юрлов Александр Александрович (1927–1973) — хоровой дирижер, педагог 342
Юрок Сол (Hurok, Sol, собственно Соломон Гурков, 1888–1974) — импресарио 112
Юткевич Сергей Иосифович (1904–1985) — режиссер, теоретик кино 112; фильм «Златые горы» («Счастливая улица», 1931) 112
Яворский Болеслав Леопольдович (1877–1942) — теоретик музыки, педагог 118, 419–420
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) — лингвист, литературовед 24, 37–38, 72–73, 366, 431
Яковкин Иван Иванович (1887–1942) — библиотечный работник 21, 323
Яковлева-Шапорина Л. В. — переводчица 378–379
Якулов Георгий Богданович (1884–1928) — художник 30, 161, 168, 384
Янакопулос (или Жанакопулос, Janacopoulos, 1892–1955) Вера Георгиевна — певица 428–429
Ярви Неэме (р. 1937) — дирижер 342
Ярустовский Борис Михайлович (1911–1978) — историк музыки, педагог 378
Яценко Нина Романовна — музыковед 444