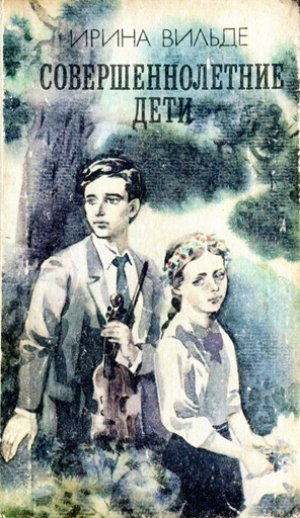
I
Дарка родилась во второй половине июня. Когда сходит земляника и начинает наливаться ранняя вишня.
К восьми годам у нее были коричневые веснушки на чуть приплюснутом носике и свои, неведомые миру мечты.
Порой по вечерам, когда сон одолевал так, что собственная кровать казалась лодкой на волнах, девочка представляла себе открытку с голубком, которую должна была получить на именины. Иногда вместо голубка был веночек — сердечко из незабудок с надписью: «В день ангела».
Надо ли добавлять, что открытку в день Даркиных именин должен принести сам почтальон и она, конечно, будет с маркой и печатью.
Таковы были мечты Даркиного сердца, но кто мог разгадать их?
В один из дней рождения, когда Дарка не сумела притвориться, что рада подаркам, мама рассердилась и назвала ее неблагодарным ребенком. Дарке не хотелось огорчать маму. До самого вечера она расхваливала все до единого подарки и прыгала, как козленок, вроде бы от чрезмерной радости. Но это не помогло, мама сразу догадалась, что она притворяется.
Вечером к ее кроватке подошла бабушка и начала расспрашивать: не колет ли у нее в груди, не кружится ли голова? Не болят ли ножки, как после длинного пути?
Дарка на все отвечала: нет, нет, нет!
Все-таки утром, перед завтраком, ее заставили выпить какой-то горький чай. Девочка поняла — ее считают больной. Чтобы не причинять лишних хлопот маме и бабушке, она решила забыть об открытке с голубком.
Позже еще раза два приснилось Дарке, будто бы пришла ей издалека, из самой Америки, открытка с изображением парка, только почему-то не зеленого, а синего-синего. Но это так и осталось сном — у Дарки никого не было в Америке.
Впрочем, не следует слишком жаловаться. В один из дней рождения (когда Дарке пошел десятый) произошло нечто неожиданное. Бабушка подарила девочке двадцать леев[1]. Мало того — ей сказали, что она может делать с этими деньгами что хочет. Девочка не могла поверить. И мама сразу же догадалась об этом по ее глазам. Глаза у Дарки серые, как осенний туман, но если она лукавит, они темнеют, становятся как спелые сливы и бегают по сторонам. Эти глаза, не умеющие лгать, доставляют Дарке немало хлопот.
Так было и в тот раз, когда Дарка не поверила маме, что может делать с деньгами все что угодно.
Два дня и две ночи она думала, что делать с деньгами. На третий день, как это ни было невероятно и смешно, Дарка решила сама купить себе открытку с голубком.
Девочка даже не представляла себе, что в сельской лавке можно за бесценок купить такую чудесную открытку.
Надо сказать, что на открытке, кроме голубка с письмом, была изображена еще пара рук, крепко сжимающих одна другую.
Дарке даже жаль стало пачкать открытку адресом. Она носила ее при себе, пока один уголок не сломался. Тогда уже с меньшей болью написала на открытке свой адрес и пожелала себе счастья и успехов в учебе. Потом наклеила почтовую марку в три раза большего достоинства, чем требовалось для обычной открытки. Но ведь это был день рождения (хоть и с опозданием), а в таких случаях нехорошо жалеть деньги.
Легче всего было опустить открытку в почтовый ящик. Дарка высчитала, что на следующее утро открытка должна уже снова быть у нее.
Но, дойдя до поворота у церкви, девочка испугалась того, что сделала, ей захотелось вернуться на почту и во что бы то ни стало упросить служащего отдать ей открытку. К тому же открытка могла пропасть где-нибудь на почте — ведь Дарка послала ее не заказным. Но стыд перед незнакомым начальником почты поборол страх, и Дарка отказалась от своего намерения.
Дома она застала священника. Мама угощала всех кофе со сливками и свежим, еще в сотах, медом, но по морщинке между ее бровями Дарка поняла, что она не в восторге от этого визита.
Мама почему-то думает, что священник приходит с визитом, только когда ему что-нибудь нужно от папы.
А хоть бы и так, что же здесь дурного?
Когда священник ушел (он действительно приходил к папе посоветоваться насчет своей пасеки), мама заговорила голосом, который Дарке очень не понравился:
— Небось когда ему что-нибудь надо, так он весьма любезен, а на престольный праздник к себе не пригласил.
— Ну что ты, женушка! Вот и хорошо, что не пригласил. Я бы все равно не пошел. Куда мне, народному учителю, лезть в господа…
Дарка стала на сторону отца. Действительно, стоит ли обижаться, что папу не пригласили, раз он все равно не пошел бы?
Одним словом, из-за визита священника на Дарку в тот день никто не обращал внимания. Даже не заметили, что она выходила из дому.
Уже лежа в кровати, Дарка решила завтра утром перехватить почтальона у ворот, отобрать у него открытку и спрятать так, чтобы о ней никто никогда не узнал. Но разве это было разумно? Ведь если никто не услышит и не увидит, как почтальон отдаст ей открытку, тогда зачем же было посылать ее на свое имя?
В эту ночь Дарка долго ворочалась с боку на бок. Наконец она сказала себе: будь что будет — почтальон должен принести открытку в дом. Разве она адресована не ей?
Но случилось не так. Отныне даже Дарка в свои девять лет знает, что не все происходит так, как нам того хочется. Даже если очень хочется. Почтальон вручил открытку папе, папа — маме, мама — бабушке. Прочитав и вволю нахохотавшись, отдали открытку Дарке.
Одна только Дарка не смеялась. Не назло взрослым, а просто не могла смеяться сама над собой. Девочке казалось, что ее раздели догола и показывают на нее пальцами. Ей было очень-очень стыдно.
Взрослые, должно быть, догадались, что смеяться, собственно говоря, не над чем (ведь никто не поверит, что бабушка, которая старше ее в шесть раз, смеется, когда не надо), пошептались в соседней комнате, и папа попытался даже вернуть Дарке деньги за открытку.
А бабушка, забыв, что минуту назад смеялась, начала расхваливать внучку.
Тогда что-то случилось с Даркой. Она забыла, что перед ней бабушка, забыла, что должна быть вежлива со всеми, — выхватила открытку из бабушкиных рук и разорвала в клочки.
И это называлось днем рождения!
Вероятно, только потому, что это был Даркин день, ее не наказали за такую неслыханную дерзость. Даже не хотелось верить: никто не сказал ей ни слова.
На следующий год в день рождения Дарка получила сразу две открытки. Сам почтальон вручил их Дарке. Честное слово! На одной открытке нарисована корзинка с цветами, а на другой — головка красивой девочки. Если бы не губы и нос, девочку можно было бы принять за Дарку. Так они были похожи.
Дарка сперва обрадовалась, как дурочка, но минутой позже устыдилась своей радости. На открытке с цветами была подпись: «Твои родители», а на той, что с девочкой, — «Твоя бабушка». Дарка сразу поняла, что это написали домашние. Стало неприятно, что дома еще не забыли прошлогоднего досадного происшествия.
Так не удался и этот день рождения.
На третий год открытки уже не пришли ни от родителей, ни от бабушки. Дарка облегченно вздохнула: история с открытками канула в лету.
Когда Дарке исполнилось пятнадцать лет, она выдержала экзамены в пятый класс Черновицкой женской гимназии. Все говорили, что ей повезло, потому что у преподавателя румынского языка Мигалаке был нарыв в горле и на время вступительных экзаменов его заменил кто-то другой. Дарке, откровенно говоря, неприятно было это слушать. Она хорошо подготовилась по всем предметам, и ей не нужно было «счастливого случая», чтобы попасть в пятый класс.
Румынским языком с ней занимался папин товарищ домнул[2] Локуица, который считал, что Дарка хорошо подготовлена по этому предмету. Она умела читать по-румынски, немного писать, ну и, конечно, отвечать на такие вопросы, как «Сколько тебе лет?», «В каком классе учишься?», «Как тебя зовут?» — и прочее в этом роде.
Дарка любила Локуицу и верила ему во всем. Раз он заверял ее и отца, что она хорошо подготовлена по румынскому языку, значит, все разговоры на эту тему излишни! Домнул Локуица так смешно разговаривает по-украински: вместо «люди» он выговаривает твердо «л» — «луди», «луб-лу».
Домнул Локуица румын, но не из тех, которых наши люди боятся и не любят. Так сформулировала Дарка свои «политические убеждения», и этого было пока достаточно для ее пятнадцати лет.
Вместе со свидетельством о том, что она является ученицей пятого класса, Дарке выдали (понятно, за отцовские деньги) и форменную шапочку с блестящим козырьком. Это неопровержимое доказательство, что отныне Дарка — настоящая гимназистка. Больше всего ей теперь хотелось пройтись в этой шапочке по селу. Но как надеть на голову шерстяную шапочку, когда даже воздух кажется плотным от жары?
Дарка каждый день ждала перемены погоды. Каждое утро просыпалась с надеждой увидеть на небе хоть намек на дождь или ветер. Но все напрасно. Небо оставалось чистым, солнце бесцеремонно припекало, в воздухе была разлита лень, и перемены погоды ничто не предвещало.
Ведь бывает так, что за все лето не выдастся ни одного холодного денька. А что, если природе в этом году вздумается отколоть такую штуку? Что тогда? Ни разу не пройтись по селу в гимназической шапочке?
Этого не может быть! Дарка решила идти наперекор природе.
Однажды, когда мама послала ее в лавку за синькой, она, невзирая на то, что термометр показывал двадцать восемь градусов, надела шапочку.
Сначала все шло отлично. Первой повстречалась Дарке ее ровесница и соседка Санда. Не понимая, что шапочка форменная, она спросила подругу, зачем та переоделась мальчишкой. Дарка объяснила Санде ее ошибку. Тогда та заинтересовалась шапочкой, — принялась ощупывать ее на Даркиной голове, потом захотела примерить. Но Дарка объяснила, что не всякий имеет право носить такую шапочку.
В лавке девочку ждал еще больший успех. Лавочнику так понравилась ее шапочка, что он позвал жену и всех детей:
— Смотрите, какая шапочка… Тце-тце… что за шапочка у дочери пана учителя!
И все было бы хорошо, не повстречай Дарка по дороге домой сына директора школы Богдана Данилюка, или, как все его называли, Данка.
Родители Данка всего два года как поселились в Веренчанке. Мать у них — немка, и поэтому люди в селе немного сторонятся их. Кроме Данка, у Данилюков есть еще дочь Ляля, она занимается музыкой где-то в Вене, и здесь еще никто не видел ее. Когда Данилюки приехали, Данко был пятиклассником. По немецкой моде он носил коротенькие штанишки и (тут уж мода ни при чем) не считал девочек за людей. Однажды мать мальчика имела неосторожность назвать Дарку его подругой, а Данко — это больно вспоминать, но ничего не поделаешь: так было, — сказал, что друзьями его могут быть только мальчишки.
И, чтобы не возникало ни малейшего сомнения, к кому относятся эти слова, добавил:
— Для меня гимназист тот, кто ходит на занятия и носит шапку. Пхе, «частное обучение»! Я мог бы сказать, что в университете учусь частным образом.
И вот теперь путь Дарки лежал мимо школы, а этот несносный директорский сынок стоял в воротах с каким-то деревенским мальчишкой и словно поджидал кого-то.
Дарка обливалась потом, коленки дрожали, но она шла, не поднимая глаз, не видя, не слыша ничего вокруг.
Когда девочка проходила мимо злополучных ворот, оттуда донеслись слова Данка:
— Василь, у тебя голова не вспотела?
Глупые слова, грубые, но брошены они в ее адрес. Лучше, когда говорят даже глупости, чем когда тебя совсем не замечают и не считают за человека. Ну как было не поделиться этой ошеломляющей новостью с закадычной подругой Орыськой, дочерью отца Подгорского! (Кроме Орыськи у Подгорских есть еще Софийка, окончившая в прошлом году лицей, Стефко, который перешел в восьмой класс.)
Орыськи в комнатах нет. Такая жара кого угодно выгонит из дому. Орыська качается в гамаке.
Все говорят, что она похожа на цыганку. Ее мама тоже, только мама уродлива, а Орыська красивая. Иные думают, что Орыська под старость станет такой, как ее мама теперь, — ведь мама в молодости очень походила на нынешнюю Орыську.
Дарка срывает по дороге еще зеленую смородину и говорит, не то возмущенная, не то обрадованная случившимся:
— Этот директорский Данко, знаешь, Орыська, уже готов с нами помириться… Подумай только! Так и ищет, за что бы зацепиться. Ему, видите ли, смешно, что я в жару надела шапочку. Он…
Орыська не дает закончить. Ее узенькое, словно лисья мордочка, личико становится хитрым-прехитрым.
— А-а-а!.. Это он смеялся над тобой! Разве так ищут примирения? Со мной он тоже хотел помириться, но только по-другому… Мы встретились — разве я не рассказывала тебе? — около церкви, и он вежливо со мной поздоровался…
— Поздоровался? — глухо спросила Дарка.
— Конечно, поздоровался. А что это ты… вроде плакать собралась?
— Я? Плакать? Смешная ты, Орыська! Я… я просто… не верю тебе…
— Не веришь? А если я побожусь? А если я поклянусь мамой?
— Не надо. Теперь все ясно. — Сомнения, с некоторых пор смущавшие Даркин душевный покой, наконец развеялись.
Да! Такие, как Данко, всегда будут смеяться над Даркой, а Орыське вежливо кланяться, потому что Орыська — красивая. Прежде всего у нее нет веснушек. И зубы ровненькие, словно выточенные по мерке.
Дарке хочется упасть на землю и ногтями до крови сдирать с носа и лба эти противные, ненавистные веснушки. Если бы не боялась, ох, если б только не боялась боли, камнем бы выбила эти кривые зубищи, которые, словно пьяные, навалились друг на друга…
В руках синька, а дома мама ждет с бельем.
Как только Дарка вошла во двор, мама выскочила ей навстречу, распаренная, красная, как помидор.
— Где ты пропадала? Я жду тут, как на иголках… Что с тобой? Ты слышишь? Ведь я с тобой разговариваю!
Конечно, Дарка слышит, ну и что из того?
— Пожалуйста, — она выкладывает синьку на лавку рядом со стопкой белья, а сама направляется в дом.
Мама преграждает ей дорогу, берет дочку за плечо, да так сильно, что даже больно становится, и уже не кричит, а шипит (ух, как это слово не подходит к маме!):
— Я тебя спрашиваю: где ты до сих пор была?
— Нигде не была…
Должно быть, голос у Дарки изменился, потому что мама отпускает ее плечо и спрашивает с укоризной, но уже беззлобно:
— Какая тебя снова муха укусила?
Мама говорит не то, что думает. Она понимает — это не обычные капризы, девочка чем-то огорчена. Только мама не хочет расспрашивать, у нее сейчас нет времени. Ее ждет гора белья.
Дарка идет в папину комнату. Там на день спущены шторы. Она ложится навзничь на кушетку и мечтает о том, как бы хорошо час, даже полчаса ни о чем не думать. Но так нельзя. Глупые мысли сами, непрошено лезут в голову.
Зашелестела портьера. Кто-то вошел в комнату. Может быть, мама? Ноги шаркают по полу. Бабушка.
«А все же маме стало жаль меня, и она послала сюда бабушку… Милая мама, чем она виновата, что у нее такая некрасивая дочь?»
Бабушка, вошедшая со света, ощупью находит кушетку и присаживается на краешек.
— Ты знаешь, внучка, сегодня на обед твое любимое блюдо. А ну, угадай, какое?
Дарке хочется плакать. Боже, когда, наконец, в этом доме перестанут обращаться с ней как с ребенком? Пол-Веренчанки уже пронюхало, что на обед у них грибы, а ей говорят: «угадай»! (в окрестностях Веренчанки ни леса, ни грибов).
— Бабушка, у меня голова болит… я, пожалуй, посплю… — придумывает Дарка, чтобы отвязаться от бабушки.
— Не удивительно, деточка, не удивительно… Такая жара, а ты нарядилась в шерстяную шапочку… Погоди, я сейчас дам тебе…
Бабушка уже готова бежать за «своими» лекарствами от головной боли. Дарка берет ее за руку (рука у бабушки маленькая, морщинистая), потом за обе:
— Бабушка…
Та наклоняется над ней. У Дарки першит в горле. Она пригибает бабушкину голову к своему уху.
— Бабушка, у меня уже перестает болеть голова. Не давайте мне ничего… не надо… Только пусть мама придет.
Бабушка не расспрашивает, почему она не может заменить маму, не настаивает, чтобы Дарка открыла ей секрет, а покорно выходит из комнаты. И при виде уходящей на цыпочках бабушки (перед ней только что захлопнулась калиточка в сердце Дарки) девочку бросает в жар, на глазах выступают слезы. Такой застает Дарку мама. Это уже не та мама, что полчаса назад выбежала ей навстречу из кухни. Это добрый ангел, пришедший помочь и спасти.
— Что с тобой, доченька?
Боже, только не надо спрашивать таким голосом, а то от него хочется не плакать, а рыдать!
Дарка обнимает мать за шею, с минуту молча смотрит ей в глаза, потом спрашивает, хотя видно, как это ей трудно:
— Мамочка… Мамуля… Пожалуйста, скажи мне, только обязательно скажи правду, я очень… некрасивая?
Мама мотает головой так, словно пчела укусила ее прямо в глаз, Дарка сразу верит маме, что дочка у нее не такая уж уродина.
— Кто тебе наговорил таких глупостей, деточка? Ты же моя любимая, хорошенькая доченька. У кого еще такие, умные, красивые, серые-серые глазенки? Ну, у кого? А у кого есть такие пышные золотые косы, как у моей дочурки?
«А о веснушках молчит…молчит», — кольнуло Дарку.
— А все-таки у Орыськи нет веснушек…
Мама целует Дарку в лоб, в нос — в те места, где больше всего скопилось веснушек.
— Глупенькая моя барышня! Веснушки на носу означают здоровье! Правда, правда! Орыська анемична, поэтому у нее нет веснушек… Разве ты не знаешь, что она всю зиму пила рыбий жир? Глупенькая моя девочка, глупенькая…
Теперь Дарка тоже смеется, и смех ее звучит, как песенка счастья. Потом как-то незаметно она оказывается в маминых объятиях, обе так тесно прижались друг к другу, что Дарка слышит, как у мамы на шее пульсирует артерия. Счастливые своей любовью, они не в силах оторваться друг от друга.
На следующий день Орыська проговорилась, что, когда директорский сын здоровался с ней, она была не одна. Как выяснилось, девочка была лишь «привеском» к Софийке, с которой ходила купаться.
Вот какая эта Орыська!
В Веренчанку из Вены приехала дочь директора Ляля. Дарка пришла к вечернему поезду за газетами для лапы и тут впервые увидала ее. Дарка сразу заметила, что у Ляли очень тонкая талия и вообще она подвижна и удивительно изящна… Лицо девушки вначале не понравилось Дарке. Может быть, в этом была повинна прическа (Ляля носила челку до самых бровей). Все ее лицо представляло собой небольшой треугольник, и на этой ограниченной площади разместились пара огромных продолговатых зеленых глаз и длинный, может быть, даже чересчур длинный, породистый нос, так что для рта уже не оставалось места. Он получился маленький, с тонкими, четко очерченными губами.
К такому лицу надо привыкнуть, как бы красиво оно ни было.
Наступил вечер, и на Ляле было платье-костюм зеленого сукна и курточка а ля гусарский ментик. Если добавить, что в руках у этой директорской дочки из Вены был еще стек, которым она жонглировала, точно настоящий гусар, то станет понятно, какую сенсацию вызвало ее появление на тихой веренчанской станции.
Лялю нисколечко не смущало то, что все с таким любопытством разглядывают ее. Наоборот, это, кажется, лишь поднимало ей настроение. Пока пришел черновицкий поезд, девушка не только успела перезнакомиться со всей интеллигентной молодежью села (в Веренчанке установилась традиция выходить к вечернему поезду, не ради него, а для взаимных встреч друг с другом), но и безапелляционно объявила себя ее вожаком. Вот тогда-то она официально и познакомила Дарку со своим братом Данком, с безработным молодым учителем гимназии Дмитром Улянычем, студентом-старшекурсником, юристом Петром Костиком и студентом первого курса философского факультета Ярославом Пражским.
Понятно, Дарка знала их так же хорошо, как и они ее. Только до этой минуты «братия» — слово это придумал Уляныч — не считала Дарку и Орыську достойными своей компании. Для «братии» девочки были просто несчастными малютками. И если Уляныч (серое, бесцветное лицо с глубоко посаженными меланхолическими глазами), который иногда бывал у Подгорских, относился к Дарке и Орыське скорее по-отечески, то Костик вел себя бестактно. Он по-дурацки добивался, чтобы его величали дядюшкой, упорно называя их деточками, и у него даже хватало наглости спрашивать в присутствии посторонних: «Как поживают ваши куклы?»
Дарка и Орыська мстили Костику тем, что за глаза беспощадно критиковали его. Критиковали все: и расхлябанную походку, и длинные, как у аиста, ноги, и широкие, как лопата, ладони, и «лошадиное», с огромными зубами, лицо, и манеру держаться, — одним словом, все, что бросалось им в глаза.
К Пражскому они не испытывали симпатии только потому, что тот был близким другом Костика. Возможно, знай он, как смешно выглядела его неуклюжая, квадратная фигура рядом с долговязым приятелем, он только из одного самолюбия не показывался бы рядом с ним. Но кто мог сказать ему об этом? Так уж повелось, что они с Костиком стали неразлучными. К тому же лицо Пражского было усеяно прыщами. Впрочем, из всей «братии» он вел себя с Даркой и Орыськой наиболее вежливо. Мало того, что называл на «вы», но даже, встречая на улице, здоровался, как со взрослыми. Вообще, если б не прыщи и не его дружба с Костиком. Пражского можно было бы назвать даже милым.
В тот же вечер «братия» (всеми теперь верховодила Ляля) договорилась встретиться на следующий день после обеда в саду возле церкви. Прощаясь с Даркой, Ляля еще раз напомнила ей:
— Не забудьте… и не опаздывайте…
Так, с легкой руки Ляли, Дарка вошла в мир, где кончалось детство.
— Дарка, к тебе гости. — В голосе мамы предостережение (может, дочка растрепана, может, платье панны гимназистки испачкано) и радость, что она может наконец переложить груз ответственности на плечи той, к кому пришли гости.
Дарка, которая искала в шкафу сетку для бабочек, замерла на месте: за порогом, в дверном проеме, как портрет в раме, стояла девушка в белом. Сверкающая, как солнце. Сверкало все — волосы, платье, глаза, улыбка.
— О, я испугала вас? — говорит сверкающая девушка и протягивает Дарке руку.
— Нет, ни капельки, — чересчур поспешно, чересчур предупредительно, чтобы это было правдой, отвечает Дарка и кладет свою ладонь в холодную, удивительно гибкую ладонь сверкающей девушки. «Ляля! Ляля, сестра Данка, из Вены…» — защебетали мысли Дарки. — Здравствуйте, здравствуйте… Пожалуйста, пожалуйста, садитесь… Я сейчас… я…
И вдруг одна перепуганная неожиданностью Дарка превращается в десять подвижных, трепещущих, как бабочки, Дарок, которые всем роем суетятся, мечутся, смеются, угождают Ляле — сестре Данка из Вены.
Ляля, прекрасная, светлая, как солнце, Ляля берет все, что ей достается, полными горстями, но в благодарность и щедро одаривает всем.
— Я и на эти каникулы не должна была ехать домой. Понимаете, всякий раз во время каникул мы должны ездить по курортам с концертами. Но я сказала себе: на этот раз нет… Нет и нет… К тому же Данко пишет мне, что в селе много девушек… Вы понимаете… Иногда мы должны играть по семь часов в день. Я уж и сама не знаю, люблю музыку или нет… Приехала и говорю Данку: «Ну, показывай мне этих барышень, о которых писал!» А он, фрац айнер[3], говорит, что едва знаком со всеми вами… Он хочет, чтобы я поверила ему… Как будто село — это город, где можно жить годами и не знать других… Но ведь он нарочно так говорит. Знаю, он хочет, чтобы я первая пришла к вам. Вот я так и сделала… Он еще сказал мне, чтобы я начала с вас, а вы уже… вы уже сделаете так, что мы все перезнакомимся. Вы, верно, все уже составили себе планы на эти каникулы… Так какие у вас планы?
Дарка смотрит на Лялю широко раскрытыми глазами. Что эта девушка говорит? Разве в селе можно составлять планы? И вообще — что Ляля понимает под планами?
Между тем Ляля продолжает. К счастью, она забыла, что надо подождать ответа от Дарки.
— Лучше всего будет так: вы наденете на ноги сандалик, и пойдем в село… Прежде всего поможете мне со всеми познакомиться, а как же иначе? Потом пригласим всех: на завтра к нам. Отец сказал, что рад будет уступить нам класс, тот, выходящий окнами на улицу. Там мы могли бы собираться… Что, если устроить нечто вроде каникулярного клуба? А там: уже решим, куда организовать прогулки… ну, и, конечно, на сколько дней… Потом — мы должны дать хоть один концерт. Вы ноете? Разумеется, ведь вы же украинка! А спектакль?.. Ах, если б оперетту, я могла бы на худой конец взять сольные партии… Вечеринки, конечно, обязательно! А каждое воскресенье — спортивные соревнования. Вы знаете, у меня второе место по плаванью…
У Дарки кружится голова от этих планов и смелых замыслов. Дарка думает: как случилось, что Ляля в один миг превратила их спокойное, скучное село в Вену?
Прежде всего Ляля хочет знать, кто еще, кроме тех, с кем она уже знакома, есть в селе. Гм… Кто есть? Кто есть? Много есть, но… Но до сих пор они с Орысей были «мы». Мы — еще маленькие, мы — зеленые, мы (уж откровенность так откровенность, что же тут скрывать) — мелюзга, совсем мелюзга, мы — с куклами, мы смотрим завидущими глазам на все, что творят «они». Так думают о нас они.
Кто «они»? Пожалуйста: сестра Орыськи Софийка и брат Стефко, Дмитро Уляныч, Петро Костик, Пражский. А твой брат, прекрасная Ляля, и его товарищи — эти ворчуны уже не «мы», но еще и не «они».
— А Софийка уже совсем взрослая? — спрашивает сестра Данка.
Язык у Дарки прилип к гортани.
— Да-а… я не знаю… у нее уже аттестат зрелости.
— Замечательно! — радуется Ляля. — Это замечательно, что мы все почти равные! Я… очень скверно чувствую себя со старшими… Вы понимаете? В Вене вокруг меня одни учительницы, и самой младшей тридцать пять лет… бр-рр!
Дарка не все понимает, но тоже смеется.
— А кто те молодые люди, которых вы перечислили? Кто они?
— О, это уже студенты… Один, Стефко, правда, еще ходит в гимназию, но уже восьмиклассник. — Дарка как бы хотела невесело похвастаться тем, что у них, к сожалению, одни только студенты, неровня ни ей, ни даже Ляле, которая, верно, тоже еще не имеет аттестата.
Но для барышни из Вены не имеет значения, у кого есть аттестат зрелости, а у кого нет. Чудеса, да и только! Она вертит Дарку во все стороны и приговаривает:
— Но ведь это замечательно… замечательно! Одна молодежь… одни ровесники… Вы знаете, что это значит?
Нет, Дарка не знает. Она то и дело глотает слюну, потому что в горле скребет, как кошка лапкой. Действительно, эта сверкающая девушка из Вены, эта Ляля сумеет одним пальчиком разрушить преграду между «ними» и «нами»!
Не проходит и получаса, как Дарка и Ляля уже идут по дорожке в село. Идут совершать революцию — рушить древние стены и превращать села в города.
Идут так близко друг к другу, что Дарка улавливает аромат Лялиной шеи и волос.
«Она пахнет, как цветок после дождя, — не думает, а молится Дарка, — потому что Ляля сама как цветок. Ты… ты даже красивее, чем Орыська…» — мысленно заискивает перед Лялей Дарка.
А та продолжает рассказывать о своей жизни в Вене. Дарка, счастливая и гордая, семенит в ее тени.
Вот уже и ясени у ворот священника. Во дворе никого нет. Словно вымело всех. Даже смешно сказать — собака и та не залаяла. Дарка еще колеблется, вести ли Лялю в дом или искать сестер в огороде, как вдруг в саду раздается хохот, да такой оглушительный, словно по небу прокатилось сто громов… Знай Петро Костик, с кем Дарка пришла сюда, он бы хоть немного сдержался. В Вене, наверное, никто не хохочет так развязно. Дарке даже неприятно.
— Они все в саду, пошли туда, — говорит она Ляле, стесняясь взглянуть ей в глаза.
— Где? Где? Где этот сад? — спрашивает Ляля и, не ожидая Даркиного ответа, оставляет ее одну и бежит на смех Костика.
И снова смех Костика, а вслед затем хоровое, безудержное, неистовое: «А… а… а… а…!» Знак, что Ляля уже среди них. Дарка входит с опозданием (если Ляля не подождала ее, то Дарка не побежит за нею, как щенок, не побежит, будь та хоть из самого Парижа, а не то что из Вены). Все уже обступили Лялю, как трехногого теленка на ярмарке, расспрашивают, смеются, заискивают, рассматривают, объясняют, чуть ли не рвут на части. Что удивительного, если в такой суете никто и не заметил Даркиного появления?
— Здравствуйте, — говорит Дарка достаточно громко, чтобы ее услышали даже среди этого шума.
Но никому и не снится обращать на нее внимание. Все они словно обезумели, опьяненные появлением Ляли. Дарка, растерянная, беспомощная, чужая всем, переводит глаза с одного лица на другое: никто, никто не замечает, что она здесь.
Когда ее взгляд наконец встречается с чьими-то прозрачными, как из стекла, глазами, Дарка слышит запоздалый ответ, слишком запоздалый, чтобы утешить ее:
— Здравствуйте.
Дарка стоит на узеньких мостках над этой разбушевавшейся рекой, растерянная, перепуганная, обманутая, и думает: «Хоть бы Орыська показалась… Хоть бы Орыська… Ведь я одна отсюда не выйду…» Глаза сами, хотя Дарка и не хочет этого, перебегают с одного лица на другое и просят… нет, не просят — молят о спасении. Кажется, Костик заметил и понял безвыходность ее положения. Он взглянул на нее раз-другой… вот уже поворачивается к ней своим некрасивым лицом (Дарка готова в эту минуту с благодарностью поцеловать это «лошадиное» лицо), протягивает ей руку и говорит:
— О, и доченька тут? Ты чего пришла сюда, деточка?
Подлость, подлость… и еще раз подлость!.. Этот самый Костик, еще в прошлом году, когда зачем-то пришел к ее отцу, говорил ей «вы», а теперь, при Ляле, при всех… при Данке, так заговорить с нею?
Софийка тоже будто спятила. Она вдруг вспоминает, что Дарка здесь, и, словно сговорилась с Костиком, спрашивает:
— Ты, Дарка, ищешь Орыську? Иди, она на веранде, шьет платья на свадьбу кукле… Иди помоги ей…
Костик так расхохотался, услышав совет Софийки, точно сам черт вселился в него. Он так дьявольски соблазнительно смеется, что вскоре вся беседка дрожит от хохота. Даже… Данко… даже он улыбнулся. Дарка стоит вся в поту. Ей впору со всех ног бежать отсюда, но надо стоять… надо стоять, ибо нет уверенности, что, сделав хоть шаг, не пошатнется и не упадет.
«Боже, боже, дай мне силы уйти отсюда… сделай так, Иисусе!..»
Дарка делает шаг и… не падает. Тогда она поворачивается спиной ко всей компании и скорее, скорее, со всей скоростью, на какую способны ее онемевшие ноги, бежит от этого страшного места, от этих людей. Теперь слезы пробивают себе дорогу и, уже не сдерживаемые, теплыми каплями, опережая одна другую, стекают по щекам.
Возле ворот ей слышится, что кто-то нагоняет ее. Мелькает мысль: не дай бог, чтоб это был Костик или даже Софийка… потому что Дарка не ручается за себя и за свое хорошее воспитание. Этот кто-то уже совсем рядом с ней… Еще немного — и он сможет дотянуться до нее рукой. Она поворачивается к врагу лицом и… останавливается как вкопанная: Данко… Сам Данко…
— Костик — свинья… Не обращайте на него внимания… Он всегда такой…
Этот голос снимает боль и… отбирает все силы.
— Паскудная свинья, — повторяет Данко. И потом: — Посмотрите на меня…
Но она не может сделать это, даже если бы захотела, потому что глаза у нее теперь красные, как у старого Йойны.
— Посмотрите на меня, — просит он, — посмотрите на меня, я хочу видеть, что вам уже не обидно…
Тогда ей приходится показать ему свои красные, счастливые глаза. И только теперь он по-настоящему возмущается:
— А с этим Костиком я поговорю… Я ему покажу, как…
Она пугается, как бы из этого не вышло беды, и потому просит:
— Нет-нет, не говорите ему ничего… Я вас прошу, я вас очень прошу…
Он еще колеблется, долго колеблется, а потом говорит:
— Хорошо, ничего ему не скажу. Только потому, что вы просите… только потому…
Около ворот она теряется: подать ли ему руку первой, или он это сделает сам, или вообще не надо этого? Но и теперь он выручает ее. Смело и свободно, будто они всегда так прощаются, подает ей руку (такую же гибкую, как у Ляли):
— До свиданья…
— До свиданья…
Но едва Дарка сделала несколько шагов, как ее остановил вопрос Данка:
— Вы выходите к вечернему поезду?
— Иногда выхожу.
— Потому что я каждый вечер на перроне… выхожу к вечернему.
Он еще раз встряхивает перед нею своими светлыми кудрями, и они расходятся в разные стороны.
Каждый новый день приносил какую-нибудь новость в кошелке.
Однажды в полдень (прошло ровно три недели, как она была здесь первый раз) прилетела Ляля. Минуло чересчур много времени, обида слишком завладела сердцем, чтобы радоваться этому посещению.
Та влетела в дом, как шмель, прогудела по всем комнатам и завертелась вокруг Дарки.
«Она еще ужалит меня», — пришла в голову смешная мысль.
— Я за вами, Дарка… Скорее, скорее одевайтесь… идем на репетицию… Ну… живо! Вы знаете, мы еще ни разу не собирались в полном составе… Ну, не стойте же, а то там ждут…
— Ждут? — протяжно переспросила Дарка и рассмеялась так, как умеют смеяться только взрослые. — Ждут? Почему именно сегодня меня ждут?..
Теперь уже она смеялась тому, как хорошо ей удался искусственный смех. И смеялась так долго, что у Ляли даже вытянулись губы и брови.
— Вы обижены? — спросила Ляля.
И Дарка тут же за самый тон вопроса простила ей все. Так же спросила бы она, верно, и Софийку, и Пражского, и даже этого черта Костика.
— Я не обиделась, — ответила совсем тихо, — но… на репетицию не пойду.
Ляля сделала удивленные, даже чересчур невинные глаза.
— Это какое-то недоразумение… Данко сказал мне, что вы согласитесь… Ну, словом, чтобы я только зашла за вами и вы наверняка пойдете… Вы так говорили ему?
«Если не соглашусь пойти, то предам и его, и себя», — мелькнула мысль.
Теперь они стояли друг против друга без вспомогательных улыбок и фальшивой невинности во взоре. Первой пошла на перемирие Ляля.
— Пошли, Даруня… — Она неожиданно обняла Дарку и крепко прижала ее. голову к своей пахнущей духами груди.
Можно обижаться на Лялю Данилюк, но никогда — на сестру Данка.
— Вот вам и Дарка. Начинаем репетицию. — Ляля широко распахнула дверь и всем одновременно закрыла рты. Только Уляныч добавил:
— Милости просим!
У Уляныча такие глаза, что к слепой бы в них не заблудился, поэтому Дарка улыбнулась в ответ на его приветствие. Тогда он протиснулся между скамейками и подошел к Дарке.
— Наконец и вы соизволили прийти… Теперь играем на всех парах. Только наши барышни больно уж обидчивы… Предупреждаю: чтобы ни гу-гу, даже если я десять раз заставлю переигрывать. Согласны?
Когда говорит Уляныч, надо соглашаться. Потому что у Уляныча сердце как на ладони, его каждый может видеть. Потому что Уляныч один из тех немногих, кто не стесняется быть самим собой, искренним до наивности…
И Уляныч хорош для почина. Как. только он отошел от Дарки, подошли поздороваться Стефко и Пражский. Поступили бы они так, не будь Уляныча?
Данко не отрывался от скрипки, но это не обижало. Так и должно быть на людях.
Орыська прижалась к Даркиной шее.
— Вот и снова все хорошо, — шепнула она.
Дарка не ответила, потому что из-за кулис показалась голова Костика. Встретившись глазами с Даркой, он осклабился, перескочил через суфлерскую будку и, сделав два шага, очутился возле Дарки.
— Как живем?
И протянул ей свою метровую руку. Тут Дарку что-то подтолкнуло. Она сама не знает, как это случилось, но в тот же миг повернулась к нему спиной. Можно было разорвать ее на кусочки, Дарка все равно не обернулась бы. Она не виновата, что никому не может простить обиды. Будь это даже родная мама. Будь это хоть сам король. Слышала только, как за ее спиной присвистнул Костик:
— С-с-мор-ркачка…
Тогда громко рассмеялся Пражский. Вслед за ним засмеялся еще кое-кто, но большинство молчало, и это не предвещало Дарке ничего хорошего. Тут неожиданно рассмеялся сам Костик. И как бы на веревочке потянул всех за собой. Дарка остолбенела: над кем они смеются — над ним или над ней?
— Что случилось? Почему мы не репетируем? — тоненько протянула Ляля. И тут Дарка поняла, что сестра Данка неискренна.
— Начинаем. Панна Софийка, на сцену! — Только этим Улянычу сейчас удается погасить взрыв смеха, вспыхнувший ни с того ни с сего, словно пожар.
Софийка выскакивает на сцену, остальные уходят за кулисы. И Дарка снова остается одна. Ее вновь охватывает чувство, что она здесь только из милости. Дарка вертит головой во все стороны, озираясь на доброжелателей и недоброжелателей, чтобы уловить в чьем-нибудь взгляде оценку своего поведения с Костиком. Сама она не в состоянии решить, действительно ли она поступила дурно, или просто невежливо, или, наконец, только смешно?.. И что с ней за это сделают — похвалят, выгонят или высмеют?
Уляныч (какое счастье, что режиссер именно он!) вызывает Дарку на сцену.
«Слава богу, — вздыхает в душе Дарка, — очевидно, все еще не так скверно, если и меня вызывают».
— Вы выходите из-за кулис и поете: «Ой, во поле при дороге…» Знаете эту песню?
— Нет.
Дарка говорит неправду, она знает каждое слово этой песни. Только не умеет петь. Ни эту, ни какую-либо другую песню Дарка не умеет петь, потому что у нее совершенно нет слуха. В этом она должна была признаться сразу. У нее хватило бы смелости, наверное, хватило бы, если б не этот случай с Костиком несколько минут назад. Теперь уже поздно, потому что Уляныч обращается к Данку:
— Данилюк, возьмите скрипку и несколько раз проиграйте Дарке эту песню, чтобы можно было наконец начать репетицию.
Дарку бросает в жар, словно ее внезапно обдало паром из столитрового котла.
«Теперь, хоть бы теперь признаться…» — подхлестывает она остатками воли свою решимость, но не может сдвинуться с Места.
Данко (он тоже верит, что она может петь, даже на сцене) подходит к ней со скрипкой.
«Какое недоразумение… какое страшное недоразумение…» Дарке хочется бить себя кулаками по голове.
Данко настраивает скрипку.
— Прошу, — и, словно в насмешку, подает ей тон, как будто это может спасти ее или одарить слухом. — Прошу, панна Дарка, — и он проводит смычком по скрипке, точно пилой по сердцу Дарки. — Прошу! — напоминает он в третий раз, уже начиная злиться, и отбивает такт ногой.
Дарка уже не может не только петь, но и говорить. Лишь теплые капельки пота, которые попеременно скатываются то с одного виска, то с другого, напоминают ей, что она еще жива. Тогда Ляля (кто бы мог подумать, что даже лицемеры иногда могут помочь в беде!) посоветовала:
— Данко, пригласи Дарку в другую комнату… Там сыграй ей, потому что в этой кутерьме ничего нельзя разобрать…
Дарка идет за Данком, как за ангелом-спасителем. Ему одному можно признаться в своем позоре.
— Я вам раньше пропою без скрипки. Хорошо?
— Не надо, — только и может произнести Дарка.
— Почему не надо? Вам потом будет легче петь под скрипку… — говорит он таким голосом, чтобы Дарка поняла, что он хочет сделать что-то для нее, специально для нее. — Хорошо? — спрашивает он уже в который раз и кладет свою руку ей на плечо. — Хорошо, Дарка?
Это уж чересчур. Глаза не выдерживают, веки опускаются, и две слезинки скатываются по щекам. Данко смущен:
— Что случилось? Я вас чем-то обидел? Пожалуйста, ну, пожалуйста, скажите…
Просьба звучит так искренне, что Дарка уже без страха раскрывает ему всю печальную правду:
— У меня нет слуха… Я никогда не пою… Чего вы хотите от меня?
Едва закончив фразу, она тотчас же пожалела о своей откровенности. От ее признания у Данка мгновенно погас свет в глазах. Лицо его, за минуту перед тем излучавшее волны тепла, которые согревали сердце, вдруг стало холодным, будто пронеслась струя морозного воздуха.
— У вас нет слуха? — спросил он немного погодя, хотя уже знал, что так оно и есть. — Нет слуха… — ответил он сам себе. Потом добавил: — Этого я от вас никак не ожидал. Это так не похоже на вас. Мне всегда казалось, что вы должны понимать музыку…
В класс, где шла репетиция, Данко вернулся злой.
— Кто велел мне аккомпанировать панне Дарке? Панна Дарка не поет!..
Тогда Уляныч, тот Уляныч, у которого сердце как на ладони, проворчал:
— Это результат пустых амбиций наших девчат… Если нет слуха, скажи сразу, а не заставляй людей тратить время зря…
Потом, возможно, чтоб смягчить то неприятное, что наговорил Дарке при всех, добавил:
— Хотел я сделать из вас артистку… но если нет слуха, из этого ничего не выйдет…
Дарка улыбнулась и сразу почувствовала, что улыбка получилась очень глупая и неестественная. Она забилась в уголок между окном и шкафом. Слышала, как Данко уговаривал Орыську:
— Это ничего, что голос слабенький, зато слух у вас хороший, острый, как у мышки… Я помогу вам выжать из себя все и запеть во весь голос… Согласны, Орыся? Сегодня же после репетиции пойдем к вам и порепетируем дома… Согласны?..
Орыся ломалась, что-то тихо возражая, а Дарка думала: «Ну и притворяется… а у самой глаза чуть не выскакивают из орбит оттого, что будет играть с Данком».
Данко громко, на весь зал заявил, что в дальнейшем он будет выступать с Орыськой, Уляныч согласился, и… Дарка, как лишняя, уже могла уходить. Она направилась к двери, но Уляныч заметил это и окликнул ее:
— Подождите, Дарка, репетиция кончается… Я иду в вашу сторону, пойдемте вместе…
И она осталась. Осталась, чтобы собственными глазами видеть, как Данко вертится с этими дурацкими нотами вокруг Орыськи, как притопывает всякий раз, едва только она раскрывает рот, чтобы запеть. Ей пришлось увидеть еще и то, как Данко вынес из комнаты какие-то карандашом записанные ноты и заиграл над самым ухом у Орыськи.
— Собственные композиции. — Ляля подмигнула Дарке и смешно прищурила один глаз.
Но Дарке было не до шуток, и она сделала вид, что не заметила Лялиной гримасы. К счастью, репетиция закончилась. Ляля встала со Стефком на пороге и задевала каждого, кто проходил мимо них. Данко, зажав скрипку под мышкой, вышел вместе с Орыськой. Когда они проходили мимо Дарки, которая все еще ждала Уляныча, Орыська позвала:
— Идем к нам репетировать с фортепьяно… Если хочешь, пошли с нами. — Она даже остановилась на минутку.
— Панна Дарка не любит музыки, — грубо буркнул Данко и потянул Орыську за собой.
У Дарки даже губы задрожали. «Чего он так злится на меня? Разве… разве это моя вина, что бог не дал мне слуха?» — думала она, готовая вот-вот расплакаться.
Наконец появился и Уляныч с ключами от класса В руке. Он улыбнулся Дарке и, бровями указав на Данко и Орыську, которые шли впереди, сказал:
— Ну, из этих еще выйдут известные украинские музыканты… Жаль только, что наглупят и муза пойдет гусей пасти… Попомните мое слово — эти двое еще когда-нибудь поженятся…
Дарка не ответила. Кто-то там, на небе, забыл в этот вечер зажечь свет, и слезы могли свободно катиться одна за другой. Никто не видел их и даже не догадывался.
Через некоторое время Уляныч снова заговорил:
— А вам, малютка, следовало бы сегодня хорошенько уши надрать… Разве это достойно? Что вы себе позволяете? Костик может быть каким угодно… но он старше вас… Запомните, деточка, раз и навсегда: в обществе мы здороваемся с самыми большими личными врагами, но только с личными…
Дарка все еще не могла заговорить. Уляныч сразу понял бы, что она только что плакала. Поэтому она продолжала молчать. Уляныч положил свою мозолистую, словно из железа, руку Дарке на голову.
— Я вас понимаю, Дарка… Думаете, Улянычу всегда было двадцать девять лет?
Дарка все еще не отзывалась, и он сказал, чтобы утешить ее:
— Не принимайте мои слова так близко к сердцу, Дарочка… Вы знаете, что я бы для вас звезду с неба достал…
У самых ворот он пробовал еще что-то говорить, но Дарка все молчала. Протянула в темноте руку и скрылась за калиткой. Уляныч постоял еще минутку, потом пошел вверх по тропке, насвистывая мелодию: «Ой, во поле при дороге…»
Дни уходили, то замедляя, то ускоряя шаг.
Дарка старалась держаться дома, как ласточка крыши. Хотя теперь, когда после поражения в саду у Подгорских она расквиталась с Костиком на репетиции, можно было и не опускать глаз перед ними. Тем более что там уже была Орыська. Орыська всегда могла быть той последней доской, с которой нельзя ни добраться до берега, ни утонуть. Но все пошло насмарку, и Дарка чувствовала себя еще более одинокой, чем раньше. Перед тем хоть Орыська была с ней. О своих любимых куклах, которых она так бездумно и без жалости отдала на растерзание Мартусе, Дарка боялась и думать. Как бы там ни было, с ними она пережила прекрасные часы, привыкла к ним, и теперь ее должна была волновать их судьба.
Правда, оставалась еще большая кукла в шкафу, как королева в изгнании. Дарка чувствовала себя виноватой и перед нею. Чем виновата кукла, что Дарка стала старше еще на год и еще на один класс? Она тайком сшила кукле новое платье (хотя его даже нельзя было сравнить с тем, что на ней было надето раньше), одела ее, причесала и, чтобы в доме много об этом не говорили, накрыла салфеткой, как мертвеца.
Осталась одна Мартуся. Замурзанная, с вороватыми глазами, неверная и хитрая, но живое существо и близкая соседка.
Дарка могла целый час бродить по саду возле Мартусиного огорода, чтобы только вызвать ее на разговор. Могла перескочить через изгородь и пойти к Мартусе в гости, но не хотела, чтобы та гордилась тем, что гимназистка ищет ее компании. К тому же Мартусин дедушка был цыган. Это в селе знали все.
Как-то Мартуся высунула из-за плетня свою растрепанную голову, утыканную перьями, и спросила:
— Дарка, а как назовут, если будет мальчик?
Дарка рассмеялась:
— Вот дуреха!
— Сама дуреха, — отрубила Мартуся, — не знает, что у ее мамы будет ребенок… Иди пощупай у своей мамы живот и узнаешь, кто дуреха…
Свистнула, как уличный мальчишка, и убежала.
Так случайно Дарка узнала о том, что лишило ее сна, отбило охоту жить и есть. Это были страшные дни: у ее мамы будет ребенок. Дарка не понимала самого акта рождения. Сколько бы она над этим ни думала, загадка оставалась без ответа. Но у порога сознания уже трепетало неясное предчувствие, догадки, которые были навеяны недосказанными фразами служанок и соседок, степенных молодых женщин со стыдливыми глазами и сальными словами о том, каким путем попадает ребенок в материнское чрево.
Нет, это было непристойно… непристойно… непристойно… И маме она не могла этого простить. Особенно маме, своей мамусе, которую, не страшась греха, приравнивала к божьей матери. Когда она думала, когда представляла себе, что мама…
Чем, пусть кто-нибудь скажет, чем отличается теперь ее мама от Олены, которая завела ребенка от парня? И какое право, собственно говоря, какое право имела мама прогнать служанку, если сама не лучше Олены? Может, даже хуже… потому что Олена простая мужичка и у нее нет дочки, которая поступила в пятый класс гимназии…
На папу она тоже не могла смотреть. Она презирала его и избегала встречи с глазу на глаз. Даже верить не хотелось, что это тот самый золотой папочка. Папа… Дарка всегда испытывала к нему какое-то удивительное почтение, которое делало ее робкой и как бы создавало преграду между ней и отцом. Может, это пошло еще с тех пор, когда папа учил ее в школе и она, как заведено между деревенскими детьми, во время уроков, обращаясь к нему, называла его «пане учитель».
Не раз она думала тайком: «А все-таки это не чей-нибудь, а мой папа… мой золотой папочка! И если б я захотела, то могла бы даже погладить его по лицу…»
Не раз она испытывала просто болезненное желание прижаться лицом к отцу и сказать ему хоть одно из тех хороших, добрых слов, которыми каждый день осыпала маму с ног до головы. Но между ними стояла все время эта невидимая преграда. Ведь папа был одновременно и учителем, который спрашивал у нее в школе таблицу умножения.
Потом она немного подросла и уже стеснялась своих детских, наивных чувств к отцу, хотя острое желание прижаться лицом к его лицу не исчезало, даже когда она поступила в пятый класс гимназии.
И вот что теперь довелось ей узнать об отце… Мир от этого показался таким грязным, таким недостойным того, чтобы жить в нем, что она не раз просила Иисуса взять ее к себе.
Теперь она не могла спать по ночам. Звук отцовских шагов по полу, так же как и полная тишина за стеной, равно доводили Дарку до неприятного мрачного отчаяния.
Утром она вставала раздраженная, как бы находясь все время в лихорадочном состоянии, ходила и делала теперь все словно ощупью. Старалась уверить себя, что это не более чем злобная выдумка Мартуси. Но по маме уже все было видно, так что и без помощи Мартуси можно было догадаться, что это правда.
Мама теперь ходила медленнее и была со всеми ласкова. «Что за фальшь — так улыбаться!» — думала Дарка и старалась избегать разговоров с мамой. Мама теперь любила часами просиживать в спальне, закрыв за собой дверь. «А все же она стыдится», — по-своему объясняла это себе Дарка и в душе радовалась маминому смирению.
Как-то раз Дарка влетела в спальню за ножницами. И в тот же миг заметила, как мама испуганно засунула что-то под покрывало. Дарка сделала вид, что ничего не заметила. Покрутилась по комнате и выбежала как ни в чем не бывало.
После обеда мама вышла в огород, Дарка прокралась в спальню и принялась за поиски. Под покрывалом не было уже ничего, кроме наперстка и белых ниток. Она напрасно перетряхивала все в ночных тумбочках. Наконец нашла под маминой кроватью корзиночку с полотном. Развернула и ахнула от удивления: в корзиночке было полно белых и розовых рубашечек. Дарка осторожно, словно это живой ребенок, а не рубашечка, подняла одну двумя пальцами и чуть не вскрикнула: рубашечка как раз впору ее большой кукле, а не ребенку. Она поспешно сложила все обратно и засунула под кровать. Дарка так волновалась, что когда вышла на крыльцо, у нее дрожали руки. Все это такое малюсенькое, такое малюсенькое… Стало горько (хотя Дарка понимала — иначе не могло быть), что мама не посвятила ее в свою тайну, не приобщила к работе. Ведь когда-то для кукол они все шили вместе; советовались, подбирали кружева, выкройки, и столько было радости, столько солнца… Теперь мама все это делает одна. И в тот день Дарка впервые спросила себя: кого бы она больше хотела — братика или сестричку? И не смогла ответить на такой простой вопрос. Просто не знала, кого ей больше хочется.
Представляла, что если это будет мальчик, то в дом придет много смешного. Ведь уже в полтора года ему сошьют штанишки, натянут папину шляпу на самый нос, а Гафия будет припевать:
Появление девочки сулило другие радости: Даркина кукла, ее королева в изгнании, снова вернется на свой трон и обретет все права. Можно будет весь дом заполнить куклами без малейшего ущерба для собственного достоинства — ведь все это будет развлечением для младшей сестренки.
Как бы все это было хорошо, как бы весело было иметь младших братиков и сестричек! Если бы… если бы дети могли появляться на свет без этого… стыда для родителей.
Оттого, что Дарка не спала по ночам, глаза у нее запали, оставив снаружи лишь темные круги. Верно, и лицо осунулось, потому что бабушка снова пыталась пичкать ее какими-то травами.
— Оставьте меня… ну, пожалуйста, оставьте… мне ничего не надо… — отбивалась Дарка, хотя иногда еле сдерживалась, чтобы не выплеснуть бабушке и маме в лицо полный ушат правды.
Бабушка не верила Дарке и все приставала к ней то с молоком, то с зельем, ходила за ней, как пономарь с кадилом за священником.
— Не говори глупостей, если не понимаешь, — взорвалась бабушка однажды, когда Дарка очередной раз клялась, что здорова, и отказывалась пить молоко. — Ты сохнешь на глазах, я уже говорила отцу сегодня, что надо поехать с тобой к доктору.
Дарка посерела. Священник за решеткой исповедальни и врач — это были два человека, которым даже на страшном суде надо говорить правду. Лучше, во сто крат лучше раскрыться перед бабушкой, чем перед совсем чужим человеком. Но как? Как заговорить об этом страшном позоре, который пал на их дом?
— Бабушка… — Дарка замялась. — Бабушка, я что-то хочу сказать… Только мне так стыдно, так страшно… — И не докончила, хлынули слезы и затопили в горле дальнейшее признание.
Потом Дарка обняла бабушку за шею и с закрытыми глазами, вся красная, вспотевшая, проговорила наконец:
— Бабушка, знаете… у мамы будет ребенок… Я знаю, откуда берутся дети… и мне так стыдно, что мама… Мне жить не хочется… как подумаю… что люди скажут о маме…
Может быть, Дарка думала одно, а сказала другое, но бабушка отлично все поняла и только руки заломила. Дарка сразу почувствовала, что погубила себя навеки.
Бабушка вышла из комнаты, оставив Дарку одну на кровати, не сказав ни одного доброго или злого слова.
Дарка лежала навзничь и ждала того, что сейчас должно произойти. Была готова к тому, что в комнату влетят мама, папа, бабушка, соседи, поднимется шум, ее начнут проклинать, выгонят из дома и даже из села… Но теперь Дарке все было безразлично. Она лежала, как покойник, который ждет, пока закроют крышку, потому что гроба ему все равно не миновать. Когда щелкнула задвижка, Дарка быстро скрестила на груди руки и помолилась: «Иисусе, сделай так, чтобы я теперь заснула и больше никогда не просыпалась».
— Дарка! Даруся! — Это был голос мамы.
«Боже, — беззвучно простонала Дарка, — боже, мама тоже плачет…» И в тот же миг на Дарку как бы снизошел ослепительный свет, он согрел ее, а его сияющие лучи растопили все сомнения, все обиды, все печали, весь гнев. Словно распахнулись золотые ворота и они с мамой оказались по ту сторону, в краю счастья и радости. Такой радости, что сердце таяло от нее.
— Дитя мое! — Мама заплакала и так обняла Дарку, словно та все еще была маленьким ребенком. — Дитя мое… бедное мое дитя… что за недоразумение… — Она целовала Дарку и плакала.
Даже если бы мама теперь и не обмолвилась ни словечком, даже если бы она просто вышла из комнаты и больше не вернулась, все равно все было уже прощено и забыто. Потому что любовь, огромная любовь внезапно прорвала все плотины в Даркином сердце и понеслась стремительно, как весенний паводок. Потом они лежали рядом на мокрой от слез подушке, и мама говорила:
— А ты знаешь, почему ты родилась? Ну, знаешь?.. Видишь, не знаешь! Вот мама тебе и скажет: потому что мама и папа любили друг друга… любили и хотели иметь такую, точно такую девочку, как ты… А теперь, когда мама и папа хотят, чтобы тебе не было тоскливо одной, чтоб тебе было с кем жить, когда мы умрем… теперь, когда мы хотим подарить тебе маленького мальчика… ты вдруг плачешь. Ну не смешно ли, Даруся? А ты? Разве ты не хочешь иметь маленького братика? Пузатенького, кудрявого, который станет бегать за тобой, как хохлатая курочка, — помнишь, была у нас такая? — и обо всем спрашивать: «А тё?.. (потому что он, конечно же, не сможет сразу хорошо говорить) А тё?.. А тё?..» Ведь правда, ты хочешь, чтобы у нас был такой маленький карапузик?.. Ага, смеешься? Значит, ты хочешь того же, что мама и папа? Ага, вот и поймали мы теперь птичку! А теперь подумай, ты ведь у меня уже панна-гимназистка, подумай, как бы выглядел мир через сто лет, если бы ни одна мать не родила ребенка? Знаешь, что тогда произошло бы? Мир перестал бы существовать! Да, когда ты вырастешь, у тебя тоже будет ребенок… а мама станет называть его внучком, а у твоего ребенка тоже будет ребенок… и так мы будем жить все даже тогда, когда нас закопают на кладбище… Теперь скажи маме прямо в глаза вместо того, чтобы плакать по углам: ты все еще сердишься на маму? Ну?
Дарка обхватила маму за шею и ответила искренне, как на исповеди:
— Нет, мамочка… нет, и никогда… никогда… этого уже со мной не будет…
Потом в комнату вошел папа и спросил:
— Куда подевались мои ласточки?.. — хотя должен был уже знать от бабушки, что Дарка и мама именно здесь.
Потом, решив, что так будет лучше всего, сел между Даркой и мамой. Одной рукой обнял Даркину шею, другой мамину. Укачивал обеих, попеременно целовал то одну, то другую и снова укачивал.
Это был один из тех семейных вечеров, которые редки, как жемчуг в море, — иногда можно целую жизнь потратить на поиски такого вечера, да так и не дождаться его. Мама во что бы то ни стало хотела доставить Дарке удовольствие. Она смеялась, что Дарка должна еще воспользоваться тем преимуществом, что пока она единственный ребенок в семье. И потому мама пошла за абрикосовым вареньем. Дарке можно было есть его и запивать водой, сколько душе угодно.
Когда она осталась одна с папой, он взял дочку на руки (хотя вес уже был не мал!) и поцеловал ее раз и другой. И тут Дарке пришло в голову, что отец так же тосковал по этим поцелуям, как и она… Может, так же робел, как она, а может… может, просто стеснялся… как мужчина… признаться, что так любит свою дочку.
И вдруг перегородка, которая отделяла их друг от друга, рухнула. Дарка закинула отцу руки за шею, крепко прижалась к его лицу и громко сказала:
— Мой папочка… мой золотой папочка…
Этим летом еще одно событие потрясло Даркину жизнь до самых основ. Мама торжественно заявила, что устроит Дарке вечеринку, как подарок ко дню рождения. Правда, день тот, собственно говоря, уже прошел, но вечеринка все равно состоится.
Это будет настоящая вечерника — с накрытым столом, гостями, музыкой, танцами, играми. Кроме молодежи, будут приглашены и почитаемые гости, такие, как отец Подгорский с супругой, директор школы Данилюк с женой и, может быть, еще кое-кто. Так что. Дарка должна вести себя достойно, дабы не посрамить ни папу, ни маму, ни свои пятнадцать лет.
Мама позаботится о столе и о «почитаемых гостях», а все, остальное ляжет на Даркины плечи.
И пошло… И пошло… Иногда Дарке казалось, что какая-то неведомая сила швырнула ее на мельничные крылья и кружит-вертит без устали и меры.
А тут еще и Орыська увлеклась вечеринкой, места себе не находит. По три раза на день забегает со всевозможными сомненьями: «Дарка, а не покажется ли слишком детским мое зеленое платье в складочку?» Дарка отвечает, что нет, платье надо обязательно надеть, ведь оно очень идет Орыське. Через некоторое время подруга прибегает снова: «Софийка только что купила себе коробку пудры, не украсть ли немножечко на вечеринку?»
Нет, Дарка не: станет пудриться, ста провалилась бы сквозь землю, если бы, упаси боже, кто-нибудь узнал, что она напудрилась. Конечно, Орыська вольна поступать, как ей заблагорассудится, но Дарка не союзница ей в этом деле.
Орыська ушла, и тотчас появилась Ляля, она добровольно записывается к Дарке в помощницы. Но это только пустые слова, на самом деле Ляля всем командует.
Прежде всего спальню превратили в модную гостиную — как можно больше простора, как можно меньше всякой ненужной рухляди! Поэтому кресло на трех ногах — вон! Прадедовские фуксии (между прочим, бабушкина гордость!) — вон! Столик, оставшийся от бабушкиного приданого, — вон! Раскладную кушетку с продавленными пружинами — вон! Статуэтку цыган и цыганка — память о бабушкином брате — вон!
Бедная бабушка только постанывает по углам: такой разгром, ай-ай-ай! Такой разгром!
Когда все наконец стало на свои места и Дарка, как хозяйка, была готова к приему гостей, она набралась храбрости внимательно и самокритично рассмотреть себя в зеркале.
Платье, правда, еще детского покроя (высокая талия, под самую груды), зато прическа как у взрослой. Дарка не виновата, что ей нравится эта девочка в зеркале с тяжелыми, цвета гречишного меда косами, уложенными надо лбом, со счастливыми глазами, здоровыми, румяными щечками.
Неважно, что веснушек на носу больше, чем требуется «для здоровья», неважно, что улыбка обнажает неровные зубы. Глаза и румянец на щеках затмевают, смягчают все-все, даже два кривых передних зуба.
Первыми пришли супруги Подгорские. Дарка, памятуя данное маме обещание не позорить родителей и свои пятнадцать лет, не осмелилась опросить, где же младшая ветвь рода. Его преподобие с золотистой бородой, светлыми глазами, в новой шелковой рясе выглядел очень молодо.
Девочку слегка покоробили слишком уж елейные и шумные похвалы пани Подгорской: «Как здесь все элегантно, со вкусом!!» — как будто в доме учителя не может быть так же элегантно, как у священника.
Слава богу, это были мамины гости. Потом пришли «старые» Данилюки.
Супруга директора вытянула губы в трубочку:
— О! Ляли еще нет? И Данка тоже? И молодых Подгорских не видно… А где же Петро Костик? Нет? И Пражского нет? Что это значит? Недоразумение? А может, быть, Дарка не пригласила их?
Тут уже и мама начинает волноваться:
— На который час ты позвала своих гостей? Без четверти восемь… Я не знаю, как быть с ужином…
«Пригласила на шесть. Точно на шесть. Не знаю, что произошло, почему они не пришли. Я даже не могу догадаться, какая причина задержала их всех… О, как трудна, как ответственна роль хозяйки!»
Дарка бегает из комнаты в комнату, от окна к окну: «Не видно? Не слышно? Не идут?»
И вдруг (через огород прошли они, что ли?) под окнами раздалось задорное, громкое, живое, как весенний паводок, «Многая лета».
Мама довольна, смеется. А Дарка моргает глазами от счастья и глупо улыбается.
Когда воздух сотрясает песня «Добрый вечер, девушка…», Дарка не выдерживает, выскакивает во двор и — падает прямо на цветы, поставленные Костиком у порога. Это ей. По случаю запоздалых именин.
Гости почти вносят Дарку на руках. У порога следует новое «Многая лета». Теперь к хору присоединяются надтреснутые голоса старших.
Мама засуетилась, покрикивает на служанку, чтобы проворнее поворачивалась. Надо повсюду зажечь свет, набросить на лампы яркие абажуры. Да будет светло! Да будет красочно!
Из кухни уже доносится звон посуды.
— Музыка… Почему нет музыки? Где музыка?! — кричит Ляля.
— Дорогие гости!.. Дорогие гости!.. Ужинать!.. — пытается вмешаться мама, но ее голос заглушает перекличка настраиваемых инструментов.
Понятно, к большому неудовольствию мамы ужин пришлось отложить.
Скрипки состязаются между собой. Время от времени звякнет гитара, словно покрикивая на них. Вот, кажется, наступил мир, но тотчас же вновь вспыхивает ссора. С каждым разом все громче. Наконец спелись. Смычки замерли на одной высоте в напряженном ожидании сигнала: раз, два, три — и:
сорвались скрипки мелкой трелью, даже щекотно,—
Это уже голос Костика. Музыка оторвала певца от стены, швырнула на середину гостиной и кружит, выворачивает во все стороны — куда руки, куда ноги…
выкамаривает Костик неутомимо и прислушивается, словно кто шепчет ему на ухо. Уловил! Услышал! Вспомнил! Он откидывает голову: ага, все понятно!
— Дарка Попович — в пляс! — подделывается он под речь деревенских парней.
Дарка съеживается, прячется за спину Софийки. Неужели Костик не пощадит ее даже в день ее праздника? Как же может она первой войти в такой широкий круг у всех на виду, ведь она совсем, ну совсем не умеет плясать. Так же можно сгореть со стыда!
Костик стоит перед ней, разгоряченный, красный, неумолимый:
— Дарочка, на первую коломыйку… очень прошу…
Говорит «прошу», но по нему видно — не согласится Дарка, он схватит ее за руку и силой вытащит на середину круга.
— Я? Первая? Ой, нет… нет… нет… — молит Дарка, чуть не плача. — Я не умею плясать…
— Она только говорит, что не умеет, — подзуживает сбоку Орыська.
Костик словно только и ждал этих слов. Схватил Дарку за руку, закружил вокруг себя, бросил музыкантам: «Играйте!» — и подтолкнул ее вперед, как заведенную.
Что было дальше, Дарка помнит смутно. Знает только, что ринулась вперед, растопырив руки, как бы ловя кого-то. Костик пятился от нее, а она догоняла его, выбрасывая ноги то вправо, то влево, всякий раз проделывая все более причудливые коленца. Она почти теряла сознание, разгоряченная, отчаянная. Рядом кто-то давился смехом. Орыська и Софийка делали ей непонятные знаки. Мама пробралась поближе и тоже старалась жестами обратить на что-то Даркино внимание, что-то объяснить, исправить, но музыка уже схватила Дарку в крепкие объятия и теперь не так скоро отпустит. Все — мама, Софийка, Орыська — лишь мелькают перед глазами, как телеграфные столбы за окнами вагона. Дарка, кажется, забыла, как ее зовут.
Внезапно музыка смолкает.
Мама уже рядом с дочкой.
— Побойся бога, Даруся, как ты плясала!.. В коломыйке парень идет впереди, а девушка за ним… Зачем же ты вышла, когда знаешь, что не умеешь?..
Мама недовольна ею. Мало того — ей стыдно за дочь. Мама, верно, уже раскаивается, что устроила вечеринку и разрешила дочери играть роль взрослой. Да что говорить, Дарка осрамилась перед всеми! Гости это понимают, но корректно, вежливо молчат. Только Орыська то ли сдуру, то ли по злобе говорит громко, так, чтобы слышали все:
— Разве ты не видела, что над тобой смеются? И выделывает, и выделывает кренделя ногами… Данко сжалился над тобой, остановил музыкантов… а то ты до сих пор отплясывала бы… Ха-ха-ха!..
На этом удовольствия для Дарки кончились. Все, что происходило после этой злополучной коломыйки, ее уже абсолютно не интересовало. Она глядела на все, словно читала неинтересную книгу, и думала о своем. Не обижало даже то, что сын директора все время увивался вокруг гостьи — Орыськи, хотя именинница она, Дарка. Когда Ляля (она и тут провозгласила себя главнокомандующим) захотела танцевать вальс, Данко попросил отца поиграть вместо него на скрипке, а сам галантно поклонился Орыське, и она поплыла с ним в вальсе, точно белая лебедка. Ну и пусть! Ну и пусть! Он прав! Орыська хоть знает, где у коломыйки «голова», а где «хвост».
Равнодушно глядит Дарка на то, как Данко настраивает гитару, подлаживаясь под Орыськин голос. Сейчас та запоет. В комнате наступает тишина, даже мужчины за ломберным столиком на минуту отрываются от карт, чтобы послушать, как поет Орыська.
Ну и пусть! Такова уж справедливость в мире — вдобавок к красоте природа наградила Орыську еще и голосом. Пусть поет, а эти бараны слушают ее, выпучив глаза, Дарке совершенно все равно!
— Дайте тон! — просит Орыська, будто она действительно так уж хорошо разбирается в музыке.
Данко вынул из кармана камертон:
— А… а… а!..
Орыська вытерла платочком руки, прижала их к груди, как настоящая певица, и чистым, глубоким голосом запела:
Что толку от слов мамы, будто Дарка здоровее, умнее, добрее Орыськи, когда у всех от восторга горят глаза при виде анемичной, злой, глупенькой Орыськи! А она пела:
и все верили, что Орыська, оставаясь одна, и впрямь поглощена серьезными размышлениями. На Дарку нашло такое отупение, что не было сил крикнуть: «Ведь это же все обман! Люди добрые, опомнитесь! Она и наполовину, на треть не чувствует того, о чем лгут ее голос и глаза. Кто-то бесстыдно обманул вас, когда сказал, что глаза — зеркало души. Не верьте этим глазам!»
Но о чем говорить, когда все потеряли голову, начиная с молодой певицы. Сын директора в телячьем восторге, не сводит с нее глаз. Пусть, пусть! Дарка хорошо знает, как ей поступить, — вот только досидит с ними вечеринку, а потом и на порог никого не пустит из этой «братии». Уж она постарается сдержать слово.
Целую неделю после этой вечеринки Дарка не выходила за ворота родного дома. И Орыська тоже не забегала к ней. Только передала подруге, что очень занята: «Ведь мы (то есть «братия») готовимся к концерту».
Дарка знает — все они собираются по вечерам на станции, встречают черновицкий поезд. Пусть так! Дарка и не подумает искать случая встретиться с ними. Сегодня, правда, она выйдет к поезду, но лишь для того, чтобы взять для папы газету прямо из почтового вагона. Дарка любит время от времени делать отцу такие сюрпризы.
Она издали замечает на перроне красное пятно — это Лялина кофточка. Ее, словно планеты — солнце, окружают белые мужские рубашки. Данко стоит чуть в стороне. Он не один, рядом с ним Орыська. Ее свитер переброшен через его руку.
«Как я глупа… как я еще глупа…» — бичует себя Дарка и выходит на железнодорожное полотно, держась в тени привокзальных складов. Здесь вечером почти никто не ходит.
И вдруг Дарка слышит за собой чьи-то шаги. Они все быстрее, все ближе. Кажется, этот кто-то уже совсем рядом, стоит ему только протянуть руку, и он схватит Дарку за косу. Впрочем, она ни чуточки не боится. Дарка не удивилась, а лишь несказанно обрадовалась, когда знакомый голос крикнул:
— До каких пор я буду гнаться за вами, Дарка? — Данко и впрямь запыхался. — Ай-ай, какая вы… Пока мы узнали вас, вы уже скрылись. Ляля велела мне догнать вас.
«А, значит, это Ляля приказала?..»
— Не надо было догонять… Я все равно не вернусь.
— Почему?
— Потому, что вы мне не компания… — резко отвечает Дарка.
Данко не ожидал такого ответа. Он растерялся от грубого тона. Юноша не привык, чтобы так отвечали на вежливый вопрос.
— Вы сердитесь на меня, а я не знаю — за что. Между тем… я хотел вас видеть. Лялю уговаривал зайти, вытащить вас из дому, но у нее все нет времени из-за этого Стефка… Всякий раз вроде бы идем к вам, а застреваем у Подгорских. Нехорошо, правда? Но почему вы сами не показываетесь?
— Вы там концерт готовите. Куда мне… Вы все такие музыкальные… — Она хорошо знает, что этого не надо говорить. Могут подумать, что она жеманится, словно поповна. И потом — что она хочет этим сказать? Вызвать сочувствие Данка? Боже мой, как все плохо! Как скверно, что Дарка часто поступает не подумав и только позднее понимает, что этого не следовало делать!
— Вы кого имеете в виду? — с достоинством спрашивает Данко, подчеркивая своим тоном, что он старше Дарки не только годами. — Может быть, вашу подружку Орыську? Ну и что из того, что у нее прекрасный голос? Вы думаете, голос — это все? Вы так думаете?
Смешно! Конечно, Дарка так не думает!
Над прудом поднимается туман. Деревья, дома по ту сторону ручья — все словно за синеватой завесой. Чудесно пахнет свежей росой. На небе появляются первые звезды. Мерцающие, холодные, они вспыхивают огнями то тут, то там в синеве.
— Я не люблю подчиняться Ляле… Она хотела бы всеми командовать. Но сегодня я сразу послушался и побежал за вами. Хорошо я поступил?
Дарка уклоняется от прямого ответа:
— Вы старше меня. Если говорите, что хорошо, значит, хорошо.
— То, что я старше, не имеет никакого значения. Почему вы не хотите понять, о чем я?..
Дарка молчит. Это для Данка лучшее доказательство, что она отлично понимает его.
— Почему вы не показываетесь на репетициях? Вам не хотелось бы выступить в концерте?
Что за вопрос? Разумеется, Дарка очень хотела бы выступать в концерте, но в ее понимании концерт — это лишь вокальные номера, а для этого у нее нет абсолютно никаких данных.
Она молчит, а Данко ждет ответа, повернув к ней лицо.
Сколько же можно так молчать?
— У меня нет слуха, — говорит она наконец, отлично осознавая, что обесценивает этим себя в его глазах.
— Совсем нет слуха?
Что на это можно ответить? Можно только понуриться и молчать. Тем более, что об этом уже говорилось…
— Не волнуйтесь, — утешает ее Данко тоном опытного старого человека, — среди музыкантов мало счастливых. Если бы вы знали, как печально окончилась жизнь такого гениального скрипача, как Паганини… Ваше счастье и без слуха разыщет вас…
«Счастье? — спрашивают влажные от волнения глаза Дарки. — Что такое счастье? Мне хорошо, когда ты со мной, грустно, когда тебя нет…»
Данко словно чувствует, что она в эту минуту думает о нем. Он преграждает ей дорогу и совсем тихо говорит:
— У вас красивые косы… У вас очень красивые косы, — повторяет он и кладет руку на Даркины волосы, потом на плечо.
Кто-то показался у пруда, и рука Данка сползла с плеча девочки. Но оба не двигаются, заглядевшись на воду, где плавает отражение месяца.
— Если сейчас… упадет с неба звездочка, значит, нас ждет большое счастье, — загадывает Данко.
Но звездочки крепко пригвождены к небу, ни одна из них и не думает падать, чтобы наделить счастьем двух детей на земле. Если звезды не падают, их надо стаскивать самому… Данко ведет себя так, словно над их головами и впрямь пролетела звезда счастья.
— Вы еще никогда не называли меня по имени. Скажите, очень вас прошу, скажите: «Данко».
— Данко…
Но ему и этого мало. Дождавшись, пока человек, появившийся на берегу, ушел, Данко берет ее за руки и просит:
— С сегодняшнего дня «ты» до конца жизни… хорошо? Так, да, Дарка? Только об этом никто не должен знать. Ты… ты… Дарка, — любуется он этим словом.
Дарка начинает верить, что музыкальность не единственный залог счастья. Начинает верить (ибо ей этого очень хочется), что у счастья свои секреты. Только оно само знает, почему к одним приходит непрошеным, а других обходит за версту.
«Ни музыкальность, ни красота, ни богатство ничего здесь не значат», — думает Дарка, идя с Данком под руку.
У ворот он так долго держит ее руку в своей, что Дарке становится жарко.
— Я еще ни одной девушке не целовал руку, но тебе… если хочешь… поцелую… Ты должна знать, что ты для меня выше всех…
Дарке снова приходится молчать. Тогда он целует сначала одну ее руку, потом вторую.
Кто-то закрывает в доме окно. Дарке приходится запереть за собой калитку. Без ужина, не заботясь о том, что подумают домашние, не раздеваясь, она ложится в кровать.
Дарка не знает, сколько прошло времени, пока в комнату вошла мама с лампой в руке.
— Дарочка, чего ты плачешь?
А в самом деле — чего она плачет? Ей не остается ничего другого, как соврать:
— Я заснула, и мне приснилось страшное…
— Дурные у тебя сны. — Мама грозит пальцем и целует дочку в лоб.
«Прекрасные сны», — думает Дарка.
День, назначенный Лялей для прощальной прогулки, начался слегка ветреным, но чистым, как роса, утром. За Даркой зашел ее ближайший сосед Уляныч.
— Скорее, а то там все ждут…
Дарке не надо спешить, она уже полчаса как готова, ждет сигнала к выходу.
Возле школы все уже в сборе. Дарка сразу стала рядом с Данком, уверенная в своих правах и взаимности.
— Прошу прощения, — отодвинулся от нее Данко, — я хотел бы кое о чем поговорить с Пражским…
Он бросает Дарку, берет под руку Пражского и, смеясь, шепчется с ним. Она готова поклясться, что Данко хвастается, будто презирает «этих девчонок» и предпочитает мужскую компанию.
Дарка присоединяется к Орыське и Костику. Уляныч ведет под руку Софийку. По мнению Дарки, эта пара даже внешне не подходит друг другу: он, по-крестьянски тяжеловатый, расхлябанный, все время старается (и именно это делает его жалким) быть изящным, сдержанным в движениях. Софийка надута, как индюк. Ей хочется, чтобы все считали ее настоящей дамой, она, как лошадь на параде, ходит величавым, медленным шагом, сдержанно смеется. Движения у Софийки плавные, говорит она мало, а больше удивляется тому, что скажут другие.
Дарка не раз спрашивала себя: можно ли назвать Орыськину сестру красивой? И не могла ответить на этот вопрос. Софийка была колоритна: смуглое, узкое, как и у Орыськи, лицо, обрамленное светло-каштановыми волосами, и ярко-синие глаза, такие же, как у Стефка, только холоднее и умнее. Но секрет красоты Софийки заключался вовсе не в форме лица или линиях фигуры, а в том, как она использовала данные, которыми наградила ее природа. Дары природы она воспринимала как некий талант, который следует усовершенствовать. Она так умела произнести слово, так повернуть голову, так пожать плечами, так поглядеть из-под ресниц, что, казалось, нет мужчины, который бы не залюбовался ею.
Место для лагеря облюбовали у подножия меловой скалы — единственного природного богатства Веренчанки. Юноши сняли пиджаки и улеглись на них навзничь. Ляля растянулась прямо на траве и плетет веночек из ромашек, которыми засыпает ее Стефко.
Глуп Стефко, поверивший Ляле! Глуп и Уляныч, увивающийся вокруг поповны, которая обращается с ним как с кучером! Глупа, глупа, как гусыня, и она, Дарка, поверившая Данилюку! Ведь, кажется, понятно, что у фальшивой сестры не может быть искреннего брата.
Ляля доплела веночек, а Стефко так и распинается, чтобы она надела его себе на голову. Только бы коснулась им лба. Ляля и слышать не хочет об этом.
— Нет, нет… бог с вами! Орыська, а ну-ка, идите сюда! Я хочу надеть на вас венок!
Орыська (она до этого охотница) покорно подставляет голову. Ляля надевает на нее венок и вертит Орыську, словно манекен:
— Глядите!
Все посмотрели, а Костик даже причмокнул от восторга. Орыська походила на девушку с открытки.
— Мавка… настоящая мавка![4] — вырвалось у Уляныча.
Орыська сконфужена, ей очень хочется снять венок, но она не знает, как это сделать. Наконец она предлагает:
— Пусть и Дарка наденет.
— Не снимайте венок, очень прошу, он так идет вам… У Дарки светлые волосы, и ей больше пойдут васильки… Нет, нет, не снимайте…
Понятно, раз просит Данко, Орыська не снимет венок.
У Дарки заболели глаза смотреть на подругу, которая от похвал Данка таяла, как свеча на огне. Дарке не хочется видеть Данка, она поворачивает голову в противоположную сторону и натыкается на такую сцену: Софийка («дама)» приглаживает Улянычу волосы, которые треплет ветер.
В переполненную чашу собственного страдания добавляется несколько капель сочувствия к другу. Она подползает к Улянычу, шепчет.
— Я должна вам что-то сказать.
Уляныч не очень доволен тем, что надо снять Софийкину ладонь с головы, но все же поднимается и, попросив прощения у присутствующих, отходит с Даркой в сторону.
— Не верьте Софийке, она фальшивая… Она ласкова с вами потому, что вам обещали должность. Я знаю… Папа просил этого не разглашать, чтобы вам не помешала местная сигуранца…[5] Я никому больше ни слова…
Но Улянычу в эту минуту все равно, что думает о нем сигуранца. Он с минуту размышляет, даже на лоб набегают морщинки.
— Спасибо, — не то шутя, не то серьезно говорит он, пожимая Дарке руку.
— Что случилось? Уляныч, что это значит? — раздается со всех сторон.
— Ничего… Глаголю вам: дети и блаженные говорят правду.
Уляныч возвращается на свое место возле Софийки, Дарка усаживается поближе к костру, разложенному в честь «братии».
— Ваш свитер, — Данко протягивает ей сверток, — не забудьте…
Дарка берет левой рукой сверток и вздрагивает всем телом — вместе со свитером в руки попадает записка.
Она осторожно разворачивает клочок газетной бумаги, исписанный карандашом, — это рука Данка.
«Когда все уйдут в рощу, я останусь. Ты иди с ними, а потом вернись. Хочу тебе кое-что сказать. Сделай вид, будто забыла свитер».
Наконец они одни у погасшего костра. Данко признается:
— Дарка, мне пришлось так поступить… Ляля раззвонила всем, что мы… симпатизируем друг другу, и во время прогулки все должны были наблюдать за нами… Да, ты еще не знаешь моей сестрички… Она хотела поднять нас на смех. Вот почему я сторонился тебя… Но что ты молчишь? Сердишься? Скажи, как мне выпросить прощение?
Данко берет ее за плечи, и неизвестно, как бы он стал просить прощения, если б в этот момент на выступе скалы, нависшем над ними, не раздались шаги.
Дарка поднимает глаза и чуть не падает: над их головами, словно вытесанный из камня, стоит Уляныч.
Не обращая на них внимания, он взбирается еще выше, теперь хорошо видна вся его фигура; он декламирует, словно перед ним не камни, а сотни юношей и девушек:
Ветер треплет его волосы, а он стоит с простертой вперед рукой и читает… читает… И совсем неясно, к кому он обращается — к ним или к своим уже минувшим дням.
— Данко, — вспомнил он наконец о тех, кто его слушает, — смотри не обидь эту девушку… Таких, как она, немного среди нас… — И после паузы: — Я пришел помочь вам перенести вещи, мы переходим на новое место…
Уляныч, как верблюд, взвалил себе на голову и на плечи все свертки, оставив Данку единственный груз — Дарку.
Юноша взял девочку под руку и первый раз не выпустил ее, даже когда они подошли к остальным.
Ляля, увидев этот караван, хотела сострить, но, взглянув на серьезное лицо Уляныча, ограничилась тем, что подмигнула Стефку: мол, я же говорила!
Эта прогулка поистине оказалась милым, незабываемым завершением всего, что было пережито за время каникул.
Назавтра в полдень Ляля уезжала в Вену. И когда она прибежала на перрон к самому отходу поезда в дорожном плаще и в какой-то причудливой шляпке, вся уже поглощенная мыслями о дороге, Дарка сразу почувствовала, что всему пришел конец. Да, всему. Уезжает та, что всех разыскала, свела воедино, подарила Дарке Данка, а себя — Стефку, та, что сделала эти каникулы для многих незабываемыми.
А теперь уезжает, улыбающаяся, мысленно уже не с ними. Когда паровоз перед отходом засвистел, Дарка почувствовала такую острую боль, словно кто-то вырвал у нее из груди сердце и швырнул под колеса.
Она посмотрела на всех. Никто не грустил. Неужто они и в самом деле не понимают, что все кончилось и что… в следующие каникулы они уже будут другими?
Прибежал Стефко. Дарка мельком глянула на него, и сердце у нее екнуло: он тоже никогда не забудет этих каникул. Когда у других уже не останется ни малейших воспоминаний об этом лете, только он и она, только они двое будут помнить каждый закат, каждое слово, каждый вздох.
День отъезда Дарки пришелся на вторник. С самого утра она надела новую, гимназическую форму и, откровенно говоря, чувствовала себя в ней примерно так же, как чувствует себя крестьянка, переодетая в городское платье, хотя форма нравилась Дарке.
На креслах стояли два раскрытых чемодана, в которые мама все время что-то добавляла. Разинутые пасти чемоданов нагоняли на Дарку тоску. Единственным светлым лучом была мысль, что на «станцию»[6] в Черновицах ее должен отвезти сам Данко. Так распорядился папа. Он не мог ехать, потому что записывал детей в школу. А о том, чтобы мама поехала в Черновицы, не могло быть и речи, ей предстояло подарить Дарке братика или сестричку. Мама совершенно здорова, но папа и бабушка беспокоятся о ней больше, чем о больной.
Дарка, боясь расстраивать маму, твердо решила не плакать во время прощания. Чтобы не попадаться маме на глаза, она бродила по двору и утешала себя тем, что в январе опять приедет домой. Целых две недели пробудет дома. А до рождества уже не так далеко!
Но когда Дарка заглянула в сад и поняла, что оставляет его во всей красе, а зимой здесь будет торчать из-под снега только сухой бурьян, она не могла справиться с острой болью, сжавшей сердце.
Ей хотелось взять с собой в Черновицы, на новую квартиру, несколько лиловых астр (бог знает, что это за квартира, папа нанимал без нее), но бабушка крикнула в окно:
— Даруся, лошади ждут!
Ждали не только лошади. Чемоданы были уже на подводе, а мама ходила вокруг и поправляла сиденье для дочки.
Дарка подошла к маме. Та схватила ее в объятия и расцеловала.
Бабушка обняла внучку более сдержанно, на благословение по старинному обычаю не хватило времени, лошади уже трогались.
Дарка решительно забралась на телегу, мечтая, чтобы лошади поскорее миновали ворота. Там уж она сдержит слезы. Но все произошло не так. Только кучер стегнул лошадей кнутом, как Дарка, вопреки своему решению и воле, крикнула:
— Мамуся! Ой, мамуся!..
И слезы потоком полились из ее глаз.
— Остановите лошадей! — крикнула мама. — Остановите лошадей, Иван! Я еду с вами!
Лошади стали. Бабушка побежала за накидкой для мамы — та была в домашнем платье.
Но тут произошло то, чего никто не предвидел: мама уже не могла влезть на телегу.
— Пусть мама остается дома. Я уже не плачу…
Но маме было очень жаль Дарку, и она с помощью бабушки старалась взобраться на телегу.
— Мама, погоди! Ты хочешь, чтобы… — Дарке не пришлось закончить свою мысль, мама отошла, покраснев от смущения, но, видно, довольная дочерью.
— Езжай с богом! Я остаюсь… Напиши, как только приедешь.
И лошади тронулись.
На станции Дарка уже застала Орыську, Стефка, ну, и, разумеется, Данка. Последний, наверно потому, что сам папа просил его заняться Даркой, бросился к ее чемоданам и сразу уложил их на полку в вагоне.
Теперь папа мог спокойно распрощаться с Даркой.
— Ну, будь здорова, деточка, напиши сразу, как доехала…
Он так нежно прижал дочку к груди, что ее глаза опять наполнились слезами.
Едва Дарка устроилась в вагоне, как поезд тронулся. Она подбежала к окну, чтобы помахать папе платочком, и увидела то, чего никак не ожидала: папа поспешно вытирал глаза.
— Мой папочка! Мой золотой папочка!..
Растерянная, угнетенная всем происшедшим, не обращая внимания на окружающих, Дарка молча сидела между Орыськой и Стефком.
На каждой остановке в вагон садились все новые и новые ученики и ученицы. Дарка мельком озирала каждого новичка и снова погружалась в свои нерадостные размышления.
Это была даже не тоска по дому. Все равно теперь, когда она так подружилась с Данком, зима, а потом весна без него в селе были бы просто невозможны. Нет, об этом даже страшно подумать! Это и не был страх перед городом и всем, что было связано с переменой места. «Ведь папа каждый месяц будет приезжать в Черновицы, — утешала себя Дарка. — Подумать только, сколько детей на земном шаре живут на «станциях»! И… живут же как-то, и кончают гимназию».
А все-таки на сердце было тяжело.
Но где же Данко?
Он стоит, прислонясь к двери, спокойный, равнодушный, как бывалый человек. Ведь ему не впервой так ехать.
— Что, Дарка? — спросил он сухо, почувствовав на себе ее взгляд. — Скучаешь по дому?
— Немножко. Думаю, что теперь буду там только гостем…
Данко поморщился:
— Что за ненужные мысли! Когда я впервые уезжал в гимназию, мне было одиннадцать лет, но я держался бодрее.
— Ты меня не понимаешь, — тихонько пожаловалась Дарка, — ты меня не понимаешь, Данко. Это не то, что ты думаешь. Когда уезжаешь из дома в первый класс, то еще ничего не понимаешь, ни над чем не задумываешься. Это как-то легче… как-то иначе…
— Я думаю, что мне всегда было бы одинаково, — ответил Данко, но, внимательнее посмотрев на Дарку, заговорил теплее: — Может, станешь к двери? Подъезжаем к Черновицам.
Дарка послушалась его совета, Посмотрела на видневшийся город и улыбнулась своим мыслям: с Данком всегда будет радостно и безопасно.
Хозяйка показала Дарке кровать:
— Здесь будете спать.
Кровать, застланная белым покрывалом, выглядела чужой и холодной.
— А здесь можете уложить свои вещи и книжки…
То, на что теперь указывала хозяйка, было старомодным шкафом. Переброшенный из чужой жизни в Даркину, он весь принадлежал прошлому.
И оба эти предмета — кровать и шкаф — единственные в доме «ее» вещи, вместо того чтобы стать близкими, сразу стали чужими, почти враждебными ей.
Дарка смелее огляделась вокруг: в комнате было по-старосветски чисто, как в церкви.
«Не буду я здесь жить!» Что-то возмущалось, кипело в ней. Впрочем, на вопросы хозяйки она старалась отвечать спокойно и вежливо.
Дарка решила, что завтра утром напишет домой и попросит отца, чтобы перевел ее на другую «станцию».
Она поужинала (дома всегда пила молоко, а здесь, по-городскому, подали кофе с молоком) и принялась перекладывать вещи из чемоданов в этот противный шкаф.
Впервые в жизни Дарка должна самостоятельно решить, в каком порядке развешивать платья, когда их надевать, какой бант повязывать на блузку, какие носовые платочки носить в будни, а какие в праздник.
«Я уже на самом деле взрослая, если так самостоятельно могу распоряжаться собой», — подумала она.
После платьев очередь дошла до белья. Дарка прежде всего выложила все на пол (пол в этом мертвом доме был чист, как столешница), а потом принялась в порядке раскладывать по полкам. И вдруг от возникшей мысли у нее закружилась голова: господи, она ведь забыла спросить Данка, где он на «станции!» Разошлись и даже не условились, где встретятся, он ли придет к ней или она к нему, когда и куда… И что теперь будет? Как она найдет его в этом треклятом городе, где в каждую улицу вливается не меньше пяти переулков?
Щелкнула задвижка. Ох, это хозяйка еще с кем-то! Эта «кто-то» была маленькая, худенькая девочка с загорелой, как у цыганки, шеей.
— Познакомьтесь — это наша панна Дарка, а это моя дочь Лида.
Представив их друг другу, хозяйка вышла из комнаты Лида уселась на оттоманке.
— Вы скоро привыкнете к городу и гимназии. (Дарке было очень странно, что Лида, ее ровесница, говорит ей «вы».) У нас в классе очень весело. Если хотите, мы можем сесть за одну парту.
Дарка, склонившись над полотенцами, думала о своем: «Как же я найду в этом городе Данка? Хоть бы догадался сам поскорее показаться здесь. А может… эта Лида посоветует что-нибудь? Почему не попробовать?»
— Знаешь (нельзя все-таки говорить «вы» своей подруге по классу), у меня неприятность. Здесь один… из нашего села… он привез меня к вам… у него мои деньги. Дала ему в поезде, спрятать, а потом забыла взять обратно. Я не спросила, где он живет в Черновцах, и теперь не знаю, как быть…
Лида сразу задала разумный вопрос:
— А он ходит в гимназию?
— А как же! Он в седьмом классе…
— Ну, так нечего бояться. Гимназисты учатся в том же здании, что и мы. Только они с утра, а мы после полудня. Вы можете прийти раньше и встретиться с ним, когда он будет выходить из гимназии. А вы уже испугались, что деньги пропали?
Лида улыбнулась, не показывая зубов. И как ни скупа была эта улыбка, у Дарки сразу потеплело на душе. Она посмотрела на Лиду и сказала искренне, позабыв, что за минуту перед тем это уже предложила Лида:
— Знаете… сядем за одну парту…
Дружба завязалась. От торжественности этого акта, кажется, посветлели даже стены. Даже шкаф и кровать с белым покрывалом показались не такими чужими.
Лидин совет, который на первый взгляд казался спасительным, осуществить было не так уж просто. Первый день занятий начался богослужением в церкви. Когда после двух уроков пятый класс женской гимназии отпустили, никого из мальчиков уже не было. Может быть, они вышли на полчаса или на час раньше, но так или иначе Данку не пришло в голову подождать Дарку.
Разумеется, Дарка после этого не могла быть веселой.
— Если у тебя нет на тетради, моя мама одолжит тебе, — так Лида объяснила себе Даркино плохое настроение.
— Спасибо… у меня есть еще мелочь…
На следующее утро Дарка сама решила отправиться в город. Хозяйка сперва не хотела пускать ее одну. Как бы Дарка не заблудилась. Ведь она ее опекунша. Ей за это платят. Но Дарка уперлась: нечего за нее бояться. Она уже не маленькая, у нее, слава богу, своя голова на плечах.
Что оставалось хозяйке, как не удовлетворить Даркину просьбу?
Но Дарке совершенно не нужны были ни город, ни рынок. Она думала только о мужской гимназии. Должна же она, наконец, встретиться с Данком и условиться на будущее.
Дарка остановилась в парке напротив ворот гимназии и ждала, ждала, ждала… Когда раздался звонок и ворота раскрыли свою пасть, Дарка даже вскрикнула: как же она найдет Данка в этом потоке голов?
Она сбежала с горки, ударилась об эту живую стену, но вынуждена была отступить. Перед нею были только темно-синие плечи, плечи и груди. Груди и плечи. В отчаянии она опять побежала в парк, на горку. Посмотрела и, задыхаясь, бросилась вперед… Данко! Она бежала, пробивая себе дорогу локтями, готовая вцепиться зубами в того, кто осмелится остановить ее!
— Данко!..
Мальчики уже сами уступали ей дорогу: может быть, она что-то потеряла?
Сейчас… сейчас… вот, кажется, она коснется его рукой.
— Данко! Данко! — крикнула Дарка во весь голос.
Данко, верно, услышал. Повернул голову и, убедившись, что это она, подал руку товарищу, с которым шел.
— Данко, — сказала она, едва переводя дух, — Данко… мы не договорились, когда встретимся…
Кто-то из толпы мальчишек крикнул:
— Ребята, внимание! Данилюк флиртует!
Данко, услышав это, побледнел от злости и посмотрел на Дарку, как будто она могла заткнуть рот этому дураку. Но разве это так важно? Видно, для Данка этот глупый выкрик имеет большое значение, потому что он спрашивает Дарку без улыбки, совсем сухо:
— Ты мне что-то хотела сказать?
— Я… мы… не сговорились, — бормочет Дарка, — когда мы… Я не знаю, где ты живешь… и придешь ли ты на этой неделе ко мне или…
Данка передернуло.
— И ты из-за таких глупостей способна осрамить меня перед всей гимназией? Ты думаешь, это село, где можно ходить с кем хочется и когда хочется? Ты не знаешь, что нам… запрещено ходить с девочками? Ты хочешь, чтобы из-за тебя вся гимназия подняла меня на смех… Ты же… — Он вдруг заметил капельки слез на ее ресницах и заговорил иначе: — Больше не делай так, Дарка. На этот раз я совру, что ты моя двоюродная сестра… Ты не грусти… как только освобожусь, я сам приду к тебе… Ну, пока!
Он повернулся и скоро слился с толпою синих плеч.
Дарка постояла еще с минуту, проводила Данка долгим взглядом и пошла своей дорогой.
Это называлось городом и началом новой жизни в нем.
В коридорах гимназии пахло известкой и свеженатертыми полами. Лида толкнула дверь пятого класса и пропустила Дарку вперед.
— Вот та, которая перед каникулами держала экзамены, — представила она Дарку нескольким подругам, но ни одна из них ни слова не сказала.
Из коридора в раскрытую дверь заглянула чистенькая, нарядная, как елочная игрушка, Орыська, с растерянными, испуганными глазами.
— Орыська!..
— Дарка!..
Больше они ничего не могли сказать, как люди, которые после многих лет разлуки неожиданно встречаются на чужбине. Наконец Орыська спросила (в первые два дня настоящих занятий еще не было) о том, что казалось само собой понятным:
— Сядем вместе?
Дарке пришлось пожалеть о своей поспешности.
— Я не знаю, как теперь быть… Я уже обещала Лидке… знаешь, той, у которой я на «станции».
— Видишь, Дарка, какая ты!
Дарка раздраженно глянула на Орыську, потом умоляюще обратилась к Лиде:
— Может, мы сядет втроем на боковую парту? С нами села бы и Подгорская…
Лида покрутила своей тоненькой, как стебелек, неприятно смуглой шеей:
— Не-ет… Я сяду с Кентнер, а ты сиди с нею… Сиди уж, сиди… Те, кто приходят из одного села, всегда должны сидеть рядом. Можешь садиться со своей Орыськой, меня это не касается.
Она повернулась к окну и принялась рисовать острым, как коготок, ногтем какие-то геометрические фигуры на свежевыкрашенной оконной раме. Дарка почувствовала в Лидкиных словах больше, чем та хотела: презрение к себе, к Орыське, к их сельской жизни и к той сентиментальности, которой наградило их село.
Какая-то блондинка с красными щечками улыбнулась Дарке: новенькая, не обращай, мол, внимания на Лидку Дутку, она так бестактна, что никто уже не обижается на то, что мелет ее глупый язык. Сама убедишься, подружка!
К Дарке и Орыське подошла ученица, которая до сих пор неподвижно стояла, прислонившись к печке. Эта высокая девочка с плоской грудью и лицом сказала ровным, невыразительным голосом:
— Если хотите, мы можем втроем сесть на боковую парту.
Дарке не понравилась новая подруга. В ее фигуре не было ничего, на что можно было бы поглядеть с удовольствием. Она была похожа на вяленую рыбу: плотно сжатые губы, казалось, должны были после поцелуя оставлять солоноватый вкус. Нет, Наталка Ореховская не понравилась Дарке. Но в очень неприятную для Дарки минуту она так бескорыстно проявила симпатию, что отказать ей было невозможно. Тем более, что Орыська — как бабочка, от которой нельзя требовать верности одному цветку.
— Хорошо, сядем вместе! — Дарка протянула руку Наталке Ореховской. Орыська последовала ее примеру.
Ореховская собирала тетради и книги, чтобы перенести их на боковую парту. Тем временем Орыська шепнула Дарке:
— Хоть бы хорошей ученицей оказалась…
Лидка, услышав реплику, гаркнула на весь класс:
— Не бойтесь, вы будете сидеть рядом с первой ученицей!
Это была очередная бестактность Лидки Дутки. Дарка привела в систему свои наблюдения за последние дни, и ее мнение о Лидке, дочке железнодорожника-пенсионера, определилось.
Дверь класса теперь была распахнута настежь, как леток улья, в нее влетали все новые ученицы. Они с улыбкой, которую могут вызвать только хорошо проведенные каникулы и уверенность, что на первых уроках ученице не грозит опасность, занимали свои прошлогодние места.
Все в форме, чистой, свежевыглаженной, со следами заботливых маминых рук. Словно солдаты одного полка. Только, по туфлям и чулкам, изысканным, дорогим или грубым, дешевым, можно было определить социальное положение родителей.
В дверь просунулась чья-то голова. Первое, что увидела Дарка, был нос. Лишь потом заметила пару черных миндалевидных глаз под густой блестящей челочкой.
Голова смелее повернулась вправо, и в эту минуту кто-то крикнул:
— Смелее, Мици! Входи… Еще никого нет!
Мици притворяется очень испуганной и осторожно, прижав палец к губам, сложенным в трубочку, ступает в класс одной ногой, потом размашистым движением втягивает вторую и разражается таким милым, непосредственным смехом, что Дарке приходится мысленно признать ее самой симпатичной из всех четырнадцати учениц. В лице у нее нет почти ни одной черты, которую можно было бы назвать красивой. Единственное, что привлекает и сразу вызывает симпатию, — это зубы: безупречно чистые, синевато-белые, молодые зубы. Мици одна на весь класс в белом, из натурального шелка платье с черным бархатным пояском. Немного погодя Дарка замечает, что она прячет за спину соломенную шляпу с широченными полями.
Мици прежде всего здоровается со всеми. Дарке она говорит:
— Кто хочет дружить со мной, тот должен подсказывать мне на уроках. Так ведь, дети? Запомни это!
Только теперь она может рассказать кое-что о себе.
— Дети, вы только представьте себе: едет нас полный вагон из Лужан в Дорна Ватру. Я не знаю, как могла моя тетка не подумать о том, что сегодня первый день занятий, и пустить меня на прогулку…
— Спорю, что твоей тетке даже не снилось, что ты едешь в Дорна Ватру! — прерывает Коляску Лида.
— И почему ты такая глупая, Дутка? Я говорю то, что буду рассказывать отцу. Понимаешь? Скажу, что тетка вытолкала меня на эту прогулку…
— Дальше! Дальше! — допытывается Косован, красивая маленькая блондиночка с искусно уложенными локонами. — Как… как же было с этим вагоном? С кем ты ехала на прогулку? А ну-ка, признавайся!
— Да я же говорю… едем все, — Мици не перечисляет кто эти «все», — и в Жучке свояк моего шурина Эдуард встречает нас на вокзале, и тут только совершенно случайно я узнаю, что сегодня злосчастное третье сентября.
— И что дальше, Мици? — не может удержаться маленькая Кентнер.
— Разумеется, я, как ошпаренная, выскакиваю в Черновцах из вагона… Представляю себе, ох, представляю себе, как мой отец собирался сегодня на службу! Там, дома, наверное, была целая революция… Как я смела не приехать вовремя! Бедная мама! Она всегда служит громоотводом…
— Ну, а Эдуард? — не унимается Ольга Кентнер.
— Понятно, Эдуарду пришлось отвезти мои вещи домой… А я с высунутым языком побежала в гимназию. Прибегаю, а до звонка еще четыре минуты. Ну, как только сердце не лопнет от огорчения! Могла же я хоть попрощаться с ним по-человечески? Дети! Если я когда-нибудь буду мамой, то буду доброй мамой, найму своим детям домашнего учителя и не стану их мучить никакой гимназией.
— Как же, был у собаки дом… — донеслось с одной из задних парт.
— Дура ты! При хорошем хозяине и у собаки есть дом. И потом не думай, что меня очень уж увлекает роль мамы, я только так сказала… Теперь самое важное: скажите мне, что будет, если на первый урок притащится «Альзо» и застанет меня в таком наряде… У него живот разболится от этого. Ужасно, что никому из вас не пришло в голову надеть сегодня фартук. Косован, ты весь год ходишь в класс в фартуке, а сегодня, как назло… Погоди я тебе этого не забуду! Дети, придумайте же что-нибудь! Равлюк, как ты можешь смеяться, когда твоя подруга попала в такой переплет!
Вдруг она увидела Дарку.
— А ну, иди сюда… Встань рядом. Дети, она одного роста со мной! Слушай, я прошу тебя… еще есть время… ты новенькая, тебе ничего не скажут… Дай мне форму, а сама надень мое платье. Я тебя прошу! Дети, устройте живую ширму… Ты не бойся, тебе ничего не скажут! Если бы кто-нибудь другой пришел в платье, учителя бы даже не заметили… Но я… ты знаешь, мне уже четыре года грозят, что выбросят из гимназии, понимаешь теперь? Послушай, почему ты колеблешься? Дети, скажите ей — пусть снимает форму, дорога каждая минута…
Дарка растерялась. Понятно, она хотела бы подружиться с этой милой девочкой и с радостью помогла бы, если эта форма так уж важна ей, но как же раздеваться при всех? Странно, что Мици этого не понимает. К тому же под платьем у Дарки нет ничего, кроме рубашки и черных трусиков. Как же будет выглядеть это белое платье поверх черных трусиков?
— Ох, пока ты надумаешь, будет звонок! — Мици уже всерьез забеспокоилась и нервным движением рванула Даркину форму у шеи. Движение это почти всегда безошибочно: блузка расстегнулась от шеи до последней кнопки ниже пояса.
В этот момент внизу коротко, прерывисто заверещал звонок. Звук, издаваемый этим маленьким чудовищем, так подействовал на Дарку, что она от страха потеряла контроль над своими пальцами. Она торопливо застегивала блузку, но, дойдя до середины, снова расстегнула, подумав, что пропустила кнопку, и начала сначала так же нервно и бестолково. Ореховская дернула ее за юбочку и усадила на парту. Преподаватель Мирчук уже вошел в класс.
Ученицы дружно встали, сразу определив этим свое отношение к учителю. Было ясно — они уважали его.
— Помолимся!
Преподаватель сложил руки на груди, а сам засмотрелся в окно. «Отче наш, иже еси…» Дарка отважилась взглянуть в лицо учителю. Он не сводил глаз с клочка голубого облачка за окном. Дарка подождала, пока учитель повернулся, и теперь уже внимательнее присмотрелась к его лицу. Все в нем было так пропорционально, что можно было подумать: природа создала его как образец человека. Трудно было представить, чтобы рядом с этим совершенным носом находились другие губы, а не те, которые были на самом деле: не слишком тонкие и не слишком полные, почти одного цвета с лицом. К густым волосам на голове, казалось, не могли бы подойти никакие другие, кроме этих темно-серых, как будто запавших глаз.
Мирчук поднял голову, и Дарка потупилась. Ей было неприятно, что учитель глядит прямо на нее. Невольно подняв глаза, она покраснела и села за несколько минут до окончания молитвы. Мирчук смотрел прямо на ее расстегнутую блузку. Белая сорочка с зубчиками кружев светилась на весь класс. Дарка быстро застегнула кнопки и украдкой взглянула на учителя. Но Мирчук уже что-то записывал в журнал и не обращал внимания на новую ученицу.
— Все присутствуют?
— Все! Есть две новенькие!
Мирчук поднял руку, успокаивая класс. Потом он осторожно сдул невидимую пыль со стола, оперся локтями на стол и начал рассказывать об обязанностях учениц украинской частной женской гимназии в Черновицах.
Он говорил ровным голосом, так, будто читал без знаков препинания, а Дарка слушала, слушала до тех пор, пока эта гимназия, о которой она столько мечтала, не показалась ей монастырем с зарешеченными окнами, где нет ни выхода в мир, ни надежды на луч солнца.
— Ты слышишь? — шепнула Орыська Дарке на ухо, хотя во время уроков это было запрещено.
Дарка вырвала кусочек бумаги из черновика и написала большими бунтарскими буквами: «Лучше уж было бы учиться частным образом», — и подсунула Орыське. Та пробежала записку глазами и с испугом смяла, готовая проглотить ее. Что, если такая записка попадет в руки учителю? Прощай, гимназия, на веки вечные!
Преподаватель поднялся одновременно со звонком. Уже протянув руку к двери, он обернулся и проговорил тем же ровным голосом:
— Коляска придет завтра в предписанной форме, а Попович встанет на полчаса раньше, чтобы успеть дома привести в порядок свой туалет. Да, привести в порядок свой туалет.
Дарка беспокойно заплетает и расплетает кончик левой косы. Слова учителя совсем обескуражили ее, она еще не знает здешних обычаев, не знает этого учителя, поэтому не понимает: что это — товарищеское напоминание, отеческий укор или выговор, предостережение, угроза?
Дарка ищет глазами виновницу. Коляска поблескивает белоснежными зубами:
— Угу! Попович! Можем подать друг другу руки!
И опять непонятно, что скрывается за этим восклицанием — легкомысленное отношение к мелочи, о которой не стоит думать, или насмешливое презрение к опасности.
— Мне что-нибудь будет за это, раз учитель заметил? — спрашивает Дарка у «вяленой рыбы» Ореховской.
Наталка Ореховская рисует какие-то фантастические профили на внутренней стороне обложки. Она отвечает, не отрывая глаз и руки от рисунка:
— Гм… — И еще один локон на фантастической голове. — Гм… как бы тебе сказать? Ты должна быть теперь очень внимательна, а то можешь получить двойку за кляксу в латинской тетради… Я тебе советую отныне латинские книги, тетради, а также голову и руки на уроках латыни держать в полном порядке. Спроси Дутку, за что она в прошлом году получила двойку по-латыни? Это называлось «двойка за растрепанную голову».
Дарка начинает ненавидеть Марию Коляску. Она, Дарка, пришла в гимназию, в эти стены, с самыми светлыми мыслями, с самыми лучшими намерениями и на первом же уроке, совершенно не провинившись, навлекла на свою голову недовольство учителя.
К Дарке подошла Лидка. Она уже позабыла о том, что произошло между ними.
— Ну как тебе нравится в классе? — спросила Дутка, ожидая от новенькой восторгов.
— Ну ее, вашу гимназию! Скоро нам дышать запретят! — не скрывая своего разочарования, заявила Дарка.
Лидка сложила губы полумесяцем — уголками книзу.
— Видно, что ты первый раз! Ну мало ли что говорит учитель! Он должен так говорить, такая у него служба. Смешная ты, честное слово! Думаешь, мы в самом деле в театр не ходим? Думаешь, мальчики не провожают гимназисток после занятий? Увидишь еще! Вот только начнутся настоящие занятия… Ого, сколько учениц из одного только нашего класса дружат с мальчиками! Смотри, вон та, с локонами, Косован… ее и сегодня будет ждать Равлюк из седьмого класса! В конце концов ты сама убедишься!
Кто-то обнимает Дарку. Она, вздрогнув, оглядывается. Орыська!
— Дарка, тебе не хочется уехать домой? Скажи, Дарка! — спрашивает она тихонько, так, чтобы слова ее не слышали остальные девочки.
— Еще спрашиваешь!
Дарка порывисто прижимает подругу к себе.
— Орыська, давай и здесь дружить! Гляди, как косятся на нас эти «бывалые» гимназистки!
К Дарке и Орыське подходят две девушки — черноволосая и смуглая, их руки переплелись, как ветви орешин.
— Я помню тебя и тебя с тех пор, как вы держали экзамен, — говорит смуглая с таким акцентом, словно украинский язык она знает только по книжкам.
— Я никого не помню. Мы были тогда так напуганы! — признается Дарка. Ей очень хочется прервать на этом разговор и остаться вдвоем с Орыськой, которую она оценила только в этих стенах.
— Ты из Веренчанки? — ласково спрашивает у Орыськи смуглянка.
— Мы обе из Веренчанки, — напоминает Орыська о Дарке.
— Твой папа священник, не правда ли? — спрашивает черноволосая, тоже обращаясь к Орыське.
— Да. А ты откуда знаешь?
— Потому что мой папа тоже священник… ее — тоже, — она кивнула на смуглянку, — и я знаю твоего папу!
— А ее отец — учитель в нашем селе, — говорит Орыська, снова пытаясь втянуть в разговор Дарку.
Однако те двое словно не расслышали этого.
— С тобой, Подгорская, в нашем классе будет пять дочерей священников… У нас учатся и дети народных учителей. — Так смуглая уделяет капельку внимания Дарке. Этим и ограничивается весь интерес дочери священника к дочери народного учителя.
— Пойдем с нами в коридор, — предлагает смуглянка только Орыське и тянет ее за рукав.
С Даркой никто не разговаривает, никто не приглашает ее с собой. И она стоит между ними, теряя выдержку, оскорбленная до глубины души, готовая вспылить или наскандалить, стоит молча и только смотрит на Орыську. Смотрит так, словно глотает ее по кускам: пойдет она за дочками священников или останется с ней, своей подругой?
Орыська прикрывается, как веерком, нерешительной, глупенькой улыбкой и, совсем растерявшись, беспомощно вертится в этом треугольнике.
— Ну, пойдем, а то сейчас позвонят на урок! — нетерпеливо говорит черноволосая и доверчиво закидывает руку на Орыськину шею.
Орыська в последнюю минуту, словно извиняясь за то, что делает, поворачивает к Дарке лисье личико, проводит ладонью по плечу подруги и идет за теми.
Дарка с минуту стоит, выпрямившись, потом резко поворачивается и садится за парту.
«Хорошо знать, — отбивают в ней такт только эти два слова, — хорошо знать, хорошо знать».
Орыська, которая успела уже вернуться, обращается к Ореховской:
— Вы много прошли по-румынскому?..
У Дарки после встречи с дочками священников словно что-то разбилось в сердце. Это что-то относилось к Орыське. Что-то нежное, красивое, как радужный воздушный шарик, не выдержало удара и разлетелось вдребезги. Нет больше Орыськи-подруги. Есть только Подгорская. И теперь мы знаем, кто такая Орыся Подгорская. Она уже выспрашивает, вынюхивает, как далеко ушел класс по самому опасному предмету. Она уж, будьте уверены, готова просиживать ночи, гнуть спину, только бы сравняться со всеми, обогнать всех. Только бы завоевать благосклонность учителя, добиться, чтобы его похвалы сыпались на нее одну.
Вопрос новой подруги не вызывает восторга у Ореховской.
— Наверно, не больше, чем ты, Подгорская! В прошлом году мы в первый раз описывали весну на память. Ты, наверняка, не будешь отстающей по румынскому языку Умеешь склонять «о каса»[7], и довольно.
Это едва скрытая издевка, потому что уметь склонять «о каса» надо уже во втором классе народной школы, но Орыся и не догадывается, что над нею смеются. Она довольна, что знает по этому предмету больше других в классе.
Дарка смотрит в окно на увядшие лапчатые листья каштана, растущего в скверике против гимназии. Даже каштаны в этом городе стареют прежде времени. Их тоже насильно перевезли сюда с родины и заставили жить здесь, цвести, плодоносить и преждевременно стариться.
Дарка выглядывает в окно и видит возле дома множество темно-синих фигурок. Среди них может быть и Данко! Данко… Так близко Данко. Несколько десятков ступеней вниз — и можно услышать его голос, коснуться рук, видеть движение губ.
Но в ту же минуту неизбывной болью отдается воспоминание об их первой встрече здесь, в городе, возле гимназии, его холодные слова.
Почему там, в селе, он был так внимателен к ней, так заботлив, так радовался ее улыбке, а тут вдруг изменился? В чем дело? Может быть, ее опорочили в его глазах? А может быть, здесь, в городе, где столько чистеньких, как лепестки белой розы, девичьих личиков… Данко стыдится веснушек на ее носу?
Если так, если в самом деле так, то она не станет смотреть даже на его товарищей. Да! Она отходит от окна и налетает на Орыську, робкую и покорную, которая преграждает ей дорогу.
— Пойдем с тобой сегодня после обеда покупать атлас? — спрашивает Орыська.
Но Дарка не может так быстро простить, а тем более сделать вид, что не помнит, как унизили ее дочки священников.
— Ты сердишься на меня, Дарка? — Маленькие льстивые руки добираются до Даркиной шеи и пытаются нагнуть ее голову к Орыськиным губам.
— Оставь меня в покое! — Дарка сбрасывает с себя ее руки, как что-то лишнее. — Мы с тобой больше не подруги…
Орыська краснеет. Дарке хочется, чтобы она расплакалась, а та только краснеет от стыда или от злости и отодвигается на самый краешек парты. Ореховская, пришедшая в класс одновременно со звонком, даже не догадывается о том, что произошло между двумя закадычными подругами.
Между тем уже смолкло и эхо звонка, а учителя румынского языка все нет. Он может появиться каждую минуту, но пока его нет. Нет так нет. Дарка дрожит от напряженного ожидания. Напряжение так велико, словно этот румын должен принести ей смерть. Она столько успела наслушаться о его коварстве, что кажется, стоит ему появиться на пороге класса — и девушка перестанет жить. Страх задушит ее, как ангина.
На память приходят все жалобы на румынское правительство, которые она слышала дома, — неприятные вести, привозимые папой каждое первое число из Черновиц, чудовищные рассказы рекрутов-односельчан об издевательствах в армии, самовольные, безнаказанные экзекуции румынской жандармерии в самой Веренчанке, эти вечные папины «визиты» в сигуранцу, после которых он ложился на кушетку и принимал порошки от головной боли. Все это доводит Дарку до того, что она почти теряет сознание от страха и затянувшегося ожидания.
Мигалаке… Мигалаке… Что может напомнить этот звук? С чем можно сравнить это слово?
Внезапно открывается дверь, и Даркин страх доходит до того предела, за которым она перестает бояться, разве что глаза остаются круглыми. И все. Учитель Мигалаке кивком головы отвечает на приветствие, ученицы садятся. Садится и Дарка. Неужели правда, что этот красивый (ах, боже мой, какой красивый!) молодой человек — их учитель румынского языка? Не хочется верить, что его фамилия Мигалаке. Ведь еще минуту назад звук этот напоминал что-то совсем другое. Смешно и просто невероятно было бы приписывать этой черноволосой, кудрявой, как у молодого ягненка, голове злые намерения. Просто не умещается в сознании, что этот красивый молодой человек может быть из тех румын, которых ненавидят и боятся люди.
Орыська забывает, что они с Даркой в ссоре. Она вырывает листок из черновика и подсовывает подруге записку, написанную большими буквами:
«Он такой красивый, что его хочется съесть!!!»
Дарка тоже забывает про свой гнев и утвердительно кивает головой.
Красивый учитель улыбается классу, и Даркино сердце, словно по проволоке, бежит к нему и падает к его ногам. Только Ореховскую не веселит это солнце в классе. Она продолжает мрачно рисовать профили воображаемых красавиц.
— Это действительно Мигалаке? — осмеливается тихо спросить Дарка, когда учитель записывает что-то в журнал.
— Ага, — еще тише отвечает Ореховская, — он еще даже не окончил университет. Молокосос. Но матерый шовинист. Потому его и прислали к нам в гимназию.
Дарка не понимает слова «шовинист», но это не важно. Важно, что этот прекрасный юноша (его в самом деле можно так назвать) — тот самый Мигалаке, которым пробовали пугать Дарку еще в Веренчанке.
Глаза учителя замечают двух новеньких, но он не сразу обращается к ним. Мигалаке шагает по классу от окна к двери и только после второго поворота останавливается возле Орыськи. Это обидно Дарке, но вполне естественно: всякий, кому придется выбирать между ней и подругой, выберет Орыську. Она, может быть, глуповата и хитра, как лисичка, но что правда, то правда — красивее ее нет во всем классе.
— Как вас зовут?
Голос учителя приветлив, и вопрос звучит совсем по-товарищески.
Орыська розовеет, как восходящее солнце. Она счастлива, что учитель на нее первую обратил внимание.
— Вы много знаете по-румынски? — все тем же ласковым тоном спрашивает Мигалаке.
На этот вопрос Орыська могла ответить уверенно: она твердо знает, что «нет» по-румынски будет «ну». Но как может Орыська так ответить? Уж лучше стыдливо молчать. Учитель, наверно, и так догадывается, что новенькая не может хорошо знать румынский. Он что-то говорит, не зло, а, наоборот, с улыбкой. В приблизительном переводе смысл его слов таков: учитель понимает, что тем, кто учился румынскому языку частным путем, будет немного трудно, но при желании (а учитель надеется, что у Подгорской оно есть) можно всего достичь. Он надеется, что она полюбит его предмет и будет учиться с успехом.
— Будем любить мои уроки, Попович? — Учитель выговаривает Даркину фамилию по-румынски.
Мигалаке спросил таким проникновенным голосом, что ответ не мог быть отрицательным.
— Прошу садиться!
Теперь учитель обращается ко всему классу. В Даркином приблизительном переводе это звучит так: «Я надеюсь, что мы будем жить в добром согласии. Вам должно быть известно, что, кроме знания предмета, я еще требую любви к нему. В этом году сверх программы мы будем изучать творчество одного из крупнейших поэтов Румынии — Василе Тудоряну. Его произведения не может не полюбить даже дикарь. Лучшим доказательством любви учениц к предмету я считаю их интерес к румынской литературе сверх программы».
«Что пишет этот Тудоряну?» — послала Дарка записку Ореховской.
Но пока пришел ответ, Дарка вспомнила, что еще перед экзаменами слышала об этом поэте от папы.
Ореховская, едва пробежав глазами записку, сжала ее. в кулаке.
— Шовинист и славянофоб, — шепнула она Дарке, прижимаясь к самому ее уху.
— У кого из вас хороший, четкий почерк? — спросил учитель.
— У Романовской! У Наталки Романовской! — загудел класс.
Учитель всматривался в лица учениц, пока не увидел, как одна из них покраснела. Это и была Романовская.
— Домнишора! Прошу к доске. Напишите свою фамилию, — предложил он ласковым, почти просительным тоном.
Романовская вывела геометрически аккуратными буквами: «Наталка Романовская».
— Я просил написать по-румынски, — заметил учитель.
Наталка стерла губкой написанное и написала так, как хотел учитель.
Мигалаке наклонился к доске, хотя, вероятно, не был близорук, потом внимательно посмотрел на ученицу.
— Вы действительно так плохо знаете румынский?
Романовская испуганно оглянулась на класс: что это значит? Учитель улыбнулся. Он, очевидно, догадался, что девушка не понимает намека. Кончиками выхоленных пальцев он взял из Наталкиных рук мел, зачеркнул то, что она написала, и, покачивая головой, вывел приземистыми, неуклюжими буквами: «Наталия Романовски».
— Это в духе нашего языка, и прошу на моих уроках писать свою фамилию только так. Это относится ко всем ученицам. Обращаю ваше внимание на то, что всякие смягчения, всякие несвойственные духу румынского языка окончания в фамилиях буду считать орфографическими ошибками и соответственно ставить отметки. Список учениц приготовит мне домнишора Сидор. Романовски, идите на место.
Наталка поплелась к парте. Посмотрела на свою каллиграфически выведенную подпись и закрыла лицо ладонями.
Учитель был несправедлив. Четыре года подряд список учениц всегда составляла она, потому что у нее был почерк лучший в классе, а возможно, и во всей женской гимназии. Никто ничего не сказал, но чувствовалось, — класс недоволен поступком учителя. Все знали, что Романовской нанесено моральное оскорбление и что права она, а не учитель. Но все молчали.
Мигалаке написал на доске названия новых учебников и тем для пятого класса. Ученицы переписали их в свои тетради. Урок подходил к концу.
Впечатления от первого дня занятий не были ли плохими, ни хорошими. Они были тяжелыми. Так говорило Дарке сердце.
II
Первое воскресенье в городе пришлось на теплый, уже пронизанный осенним воздухом день.
Солнце покачивалось над землей, и сердце в груди было устлано чем-то шелковисто-мягким. Лидка кружит по комнате, словно пчела по лугу. Дарка приводит в порядок длинные, непокорные волосы.
— Ты не будешь завиваться? — спрашивает Лидка. Вся ее голова в мелких смешных кудряшках.
Дарка только поднимает на нее удивленные глаза:
— Зачем мне?
Она хотела бы ответить, что ей не нужно прижигать волосы, Данко летом и так назвал их прекрасными. Погладил их (да, Лидуся!) своей рукой и сказал, что они очень красивы, просто прекрасны. Но где же Лидке это понять?
Тогда Лидина мама с белым, будто тесто, лицом говорит:
— У Даруси такие хорошие волосы, что грешно их палить…
Хозяйка выходит из комнаты, и Лидка опять обращается к подруге:
— Послушай, у тебя нет пилочки для ногтей? Послушай, тебе надо немного больше следить за собой. Посмотри на свои чулки! Почему ты не купишь розового лака для ногтей? Живи я на «станции» да будь у меня свои деньги, ты бы посмотрела, какой бы я стала дамой!
Дарка не отвечает. Сказать, что Лидка совсем неправа, тоже нельзя.
По дороге в церковь Лидка не переставая тарахтела (а говорить она любит, ох как любит!), рассказывала, что у учителя Гушуляка в горле стеклянная трубка, что брат Ореховской живет в Галиции, во Львове, и, наконец, самое важное для Дарки — что женская гимназия ходит в церковь вместе с мужской.
«Данко… Данко… Данко…» — всю дорогу пело Даркино сердце.
Возле гимназии стояла толпа мальчиков в синих мундирах, и сердце у Дарки забилось так, что стало больно. Где ж Данко?
Его не было.
«Он всегда аккуратен, — успокаивает себя Дарка, — никогда не опаздывает, но никогда и не приходит первым».
Данко вышел из скверика. От волнения у Дарки даже слезы выступили на глазах. Даже в этом море синих мундиров он был красивее всех. Может быть, еще красивее, чем там, дома. Ведь только теперь, на фоне всех этих чужих лиц, можно оценить, каким чудесным он был и остается. Данко сразу увидел Дарку и издали поздоровался с нею серьезным взглядом.
Девочки парами первые вошли в церковь, за ними — мальчики. В церкви тоже стояли отдельно, так что Дарка не могла увидеть даже тени Данка. Когда богослужение окончилось и начали выходить на улицу, Дарке почему-то показалось, что ей совершенно необходимо подождать Наталку Ореховскую.
И пока она ждала, из церкви вышел Данко, как всегда не первый и не последний.
— О, Дарка! — удивился он. — Что поделываешь? — спросил, как всегда.
Взволнованная Дарка не смогла ответить даже обычное «спасибо, ничего особенного», а он продолжал:
— Ну, привет, я должен уже идти! Играет «Довбуш», и я спешу на матч. Ты не пойдешь смотреть? Должно быть первоклассно! Я как-нибудь загляну к тебе! — крикнул он и побежал за толпой товарищей.
Из церкви вышла Лидка, и Дарка бросилась к ней.
— Лидка! Что мы теперь будем делать? Лидка! Милая, дорогая, пойдем на матч «Довбуша»! Я еще никогда не видела «Довбуша». Лидка, только скорее, чтобы не опоздать!
Лидка даже руками замахала от злости.
— Нет, ты просто полоумная! У тебя что, денег куры не клюют? Или ты думаешь, что «Довбуш» — живой человек? Вот глупенькая! Ты думаешь матч — это театр или кино? Мальчишки будут гонять мяч, и больше ничего. Ну что там интересного? Лучше пойдем в парк… может, увидим там кого-нибудь.
Вот и все. Солнце зашло за тучу, и воскресенье продолжалось только до половины десятого утра.
На обед подали суп, который Дарка дома ела только после крупной ссоры с мамой и бабушкой. Но то был «дом», а здесь «станция». Одно из поучений, которыми мама так щедро снабдила дочку, состояло в том, что на «станции» надо есть все, что подадут.
Дарка, закрыв глаза, глотала суп ложку за ложкой. Хозяйка налила противного супу (о, крема или компота она, наверняка, столько бы не дала!) полную тарелку. Это должно было означать, что «станция» Дарке попалась отличная.
После обеда девочка хотела написать письмо маме. Но хозяйка сказала, что она с Лидкой собирается к сестре, Лидкиной тетке, куда-то на Монастырисько. Что Дарке делать одной? Может быть, она пойдет с ними? (Это тоже должно было свидетельствовать о добросовестной опеке и хорошей «станции».) Там, у тетки, есть дочка-гимназистка. Правда, она уже в седьмом классе, но с Лидкой они друзья. Дарка посматривает на разложенную почтовую бумагу, и ей не очень хочется в гости к этой тетке.
Тогда, чтобы ее уговорить, Лидка шепчет:
— Слушай, не будь дурой! У тетки на «станции» товарищ Гини, моего двоюродного брата, Орест Цыганюк. Он чудесно играет на скрипке! По воскресеньям там собирается целая компания… К Гине приходят мальчики, к Олимпке — подруги… Пожалеешь, если не пойдешь…
Тетка живет в предместье, где дома разделены садиками, а под окнами на улице посажены цветы. Дом низкий, но крытый железом, с крыльцом, садом и огородом.
Навстречу гостям выбежала Олимпка. «Так это ее зовут Олимпка?» — и Дарке вспомнилась встреча в коридоре гимназии: стройная рыжеволосая девушка с медным лицом и зеленоватыми глазами.
— Что у вас слышно? — спросила Лидка по-немецки.
У Дарки от испуга даже пот выступил на лбу: а что, если они захотят разговаривать только по-немецки? Она так плохо знает язык, так неуклюже связывает слова, так неуверенно чувствует себя в падежах! Это же позор — при первом знакомстве показать себя деревенщиной, простофилей из какой-то там Веренчанки. Даже по-немецки не умеет разговаривать! А что, если, мелькнуло у нее в голове, они думают, что она вообще ничего не понимает по-немецки? Но ведь это же не так… ведь она…
— Вероятно, что-нибудь устроим, — отвечает Олимпка по-украински, — мальчишки пошли за гитарами. А если и не придут, разве мы без них не сумеем развлечься? Нихт вар?[8] — заканчивает она по-немецки, обращаясь к Дарке.
Слава богу! Никто не думает о ней плохо. Наоборот, думают слишком хорошо. Им кажется, что она, девочка из интеллигентного дома, должна разговаривать по-немецки.
Тетка Иванчук, толстая, как бочка для капусты, взяла Дарку за подбородок, словно теленка.
— Ну как идут занятия? Все хорошо? — спросила она тоже по-немецки, но тут же сбилась на украинский, так что Дарка могла, не теряя достоинства, ответить на родном языке:
— Спасибо, все хорошо!
— Лидка, — Дарка ущипнула подругу за плечо, — твои родственники — немцы? Да?
— Послушай, — громогласно возмутилась Лидка, — какая ты еще деревенщина! Хороши немцы — Иванчуки! Тебя смущает, что мы говорим между собой по-немецки? Ну откуда я знаю, почему? Научились… Привыкли… Просто так принято… А что?
— Ничего, — вздохнула Дарка, уже мечтая, чтобы этот визит как можно скорее закончился.
За стеклянной дверью, ведущей в комнату кузена Гинн, послышались шаги и бренчанье струн. Лидка подмигнула Дарке: пришли!
— Комт, шон, комт![9] — приглашала своим басовитым голосом тетка Иванчук.
В дверях показались три головы. Рыжая, бесспорно, принадлежит роду Иванчуков. Вторая, цыганская, растрепанная, — должно быть, скрипачу Цыганюку. Третья, русая, с беленьким лицом и реденьким прямым проборчиком, — наверно, крестьянскому сынку в белой рубашке.
— Вы еще не знакомы? — спрашивает Олимпка у Дарки и мальчиков, хорошо зная, что они видятся впервые.
Дарка сначала чувствует равнодушное прикосновение мясистой, большой руки Гини. Потом крепкое пожатие костистых пальцев Цыганюка (Данко тоже играет на скрипке, но рука у него эластичная). Последним здоровается с ней тот, деревенский, — Ивонко Рахмиструк. Здоровается робко и невыразительно.
— Пан Орест, — говорит мать Иванчука, — присмотритесь к панне Дарке! Она за все время не вымолвила ни словечка по-немецки. Похоже, — тетка глядит не на Цыганюка, а на Дарку, — что… собирается превратить всех нас, старых австрияков, в украинских патриотов! — Она смеется так, будто принесла известие о том, что с сегодняшнего дня все мужчины будут ходить в юбках.
Орест поворачивается к Дарке. За очками ей не видно его глаз, только два светлячка.
— Интересно… о… о!.. — насмешливо удивляется Цыганюк. Голос у него низкий, словно доносящийся сквозь обитую ватой дверь, но как раз подходящий к голове со стеклышками вместо глаз.
Дарка не отвечает на вызов. Молчание — лучшая оборона. Не думают ли они, что она знает язык, но сознательно не хочет говорить по-немецки? Не подымет ли это ее на двойную высоту хотя бы в глазах Цыганюка? Дарка ни на кого не смотрит, но чувствует, что все с интересом разглядывают ее, даже разговаривать перестали. И вдруг тишину разрывает Лидкин смех. Она ничего не говорит, только долго смеется. Откинулась на спинку кресла и хохочет. Едва можно понять, что она хочет сказать между взрывами смеха.
— Ой, не могу… Ведь… Дарка… приехала из села… и не знает ни одного немецкого слова… А вы думали… вы, верно, думали… — И смех заглушает конец фразы.
Но все поняли, что она хотела сказать, и в комнате стало тихо. Как будто присутствующие осознали свою ошибку и устыдились. Брови над очками Цыганюка поднимаются на несколько миллиметров вверх. Что это значит?
Дарке хочется плакать от неведомой ей до сих пор боли и кричать так, чтобы в окнах звенели стекла: «Неправда! Неправда!»
Но она стоит в стороне, внешне спокойная. А между тем удар пришелся в самое сердце. Ее высмеяли! Над нею издеваются люди, которым мама платит за хорошее отношение к ней. Она одна стоит среди этих людей, униженная, осмеянная, и ни мама, ни папа не идут защитить ее.
С ней ласково заговаривает Лидкина мама. Так ласково, что хочется подскочить к ней, закрыть ей ладонью рот и крикнуть над самым ухом: «Довольно! Довольно! Не хватало только фальши!»
Олимпка тянет ее за руку в соседнюю комнату. Сейчас будет музыка, а может быть, и танцы.
Дарка бесцеремонно вырывается и дерзко заявляет:
— Не нужны мне никакие развлечения! Я сейчас же ухожу! Я ухожу!
Все смущены. Почему? Почему уже домой? Что случилось? Разве она не понимает шуток?
Дарка едва сдерживается, чтобы не ответить что-нибудь обидное…
— Мне надо написать письмо домой.
Смешно! Разве это так срочно? А завтра? А послезавтра?
— Нет! — Дарка упрямо стоит на своем. Письмо она должна написать сегодня.
Но девушка может заблудиться!
Это верно.
— Я вас провожу. — Олимпка хочет взять на себя роль провожатой.
— Нет! Не надо! — не принимает ее учтивости Дарка.
Лидка хихикает в кулак.
— Пусть «доктор» Ивонко проводит Дарку! Они хорошая пара!
— Будет, деточка, оставь ее в покое! — слишком уж по-матерински бранит хозяйка языкатую дочь.
Дарка окидывает взглядом присутствующих и видит, очень ясно видит, что тетка Иванчук еле сдерживается и вот-вот разразится громким хохотом.
Очки Цыганюка смотрят прямо на Дарку. Какая мысль прячется за этими стеклянными глазами? Смеется ли он над ней или держит ее сторону? Ивонко опустил голову на грудь. Он, должно быть, здорово покраснел, если даже на рубашку лег розовый отсвет от лица. Чувствует ли этот крестьянский сын, что здесь смеются и над ним? Составить «пару» из двух деревенщин — разве это не насмешка?
— Может быть, я покажу вам дорогу? — раздается низкий ленивый голос Цыганюка.
Дарка не знает, что это — благородство, симпатия, сочувствие или призыв к новым насмешкам? Откуда Дарке знать это?
— Я не хочу… не хочу! — огрызается она. — Если уж меня должен кто-нибудь проводить, так я попрошу пана Рахмиструка!
Да! Нарочно! Назло всем, кто хотел смутить ее, навязав ей, мужичке, в провожатые мужика, всем, кто хотел унизить ее этим. А теперь что?
Теперь все ревут, как сумасшедшие:
— А… а… а!..
Но все это не смущает Дарку. Только бедный Ивонко купается в собственном поту.
На улице, куда уже не доносятся ненавистные голоса, Дарка приходит в себя. Теперь ей не от кого бежать, не к кому спешить. С сизых лесов Цецина долетает ласковый ветер. Дарка подставляет под его крылышко разгоряченное лицо и чувствует, как вместе со свежими, холодными его поцелуями к ней возвращается спокойствие.
Еще, еще, ветерок! Так хороши твои ласки!
Солнце после горячего полдня подвинулось на край неба и теперь греет, но не печет. Ивонко предлагает путь напрямик — через холм: «Хорошо ли? Ведь холм крутой». — «Ну и пусть», — соглашается Дарка, ей даже нравятся всякого рода опасности и препятствия. Они взбираются на самую вершину холма, затем Ивонко начинает первый спускаться по глиняным уступам. Не будь Ивонко крестьянским сыном, знал бы, что прежде всего надо помочь сойти «даме».
— Я сейчас… Подождите! Подождите меня там! — кричит ему Дарка.
Отсюда, как с самолета, видно все предместье Монастырисько, его густые сады, кукуруза в одежде, ободранной ветром и градом, домики с низкими оконцами.
Видно даже еще дальше. Еще больше. Расписные, как буковинские «скорцы»[10], крыши митрополии, башня ратуши на длинной шее. Парк… И всюду деревья, деревья, деревья… Не город, а сад, так и рябит в глазах от этой зелени, кое-где уже переходящей в червонное золото.
— О, как красивы наши Черновицы! — Дарка в восторге скрещивает руки.
А надо всем, над выложенными мозаикой крышами митрополии, над каменными домами с красными кровлями, напоминающими мухоморы, над этими зелеными горами и долинами, надо всем этим — безграничный простор. Там, в котловине, никогда не ощутишь его, и человек никогда не бывает так близок к небу.
Ивонко теряет терпение. И снова возникает мысль: воспитывайся он в городе, знал бы, что «даме» можно опаздывать и задерживаться.
— Идем! — Дарка, не разбирая дороги, спускается с холма.
Вскоре они уже шагают по тротуару. Дарку начинает смешить, что рядом с ней, гремя сапогами (каблуки у него, наверно, с железными подковами), идет этот немой мальчишка с большими, как две сковородки, ладонями.
— Вы у Дуток на «станции»? — наконец обращается к ней Ивонко.
Дарка не смотрит на него, но готова побиться об заклад, что он опять лоснится от пота.
— Да, я хожу с Лидкой в один класс. — Дарка немного удивлена, что он спрашивает о всем известных вещах.
— Я видел вас в Лужанах: вы пили воду возле колодца на вокзале.
Ах, эта сцена совсем не так приятна, чтобы вспоминать о ней. Но то, что он запомнил Дарку, заставляет ее отнестись к нему благосклоннее.
— Это было, кажется, перед каникулами, когда я возвращалась после экзамена… Да… да, припоминаю, мы тогда с Орысей пили воду в Лужанах.
Дарке кажется, что и она из вежливости должна спросить его о чем-нибудь.
— А вы из какого села?
Даже странно, как этот мальчик оживает от обычного вопроса, заданного из вежливости!
— Я из Жучки. Вы, верно, слышали о таком селе? Недалеко от Черновиц… — И он продолжает рассказывать, не дожидаясь вопросов: — Шесть лет я ездил в гимназию, а в этом году пошел на «станцию»: в седьмом и восьмом классе надо подтянуться, ведь это уже на аттестат зрелости…
Последние слова он произнес с особенным удовольствием.
— А после получения аттестата что вы собираетесь изучать?
Это уже в самом деле интересует Дарку. Любопытно, к чему может стремиться этот крестьянский сын, не умеющий вести себя в присутствии «дамы»?
— Я? Вы спрашиваете, где я буду учиться? Буду изучать медицину… В Бухаресте… У меня богатый дядюшка в Кицмани, он обещал помочь, но… требует, чтобы я раньше получил аттестат.
— Но ваш дядюшка должен знать… для того, чтобы сдать с первого раза… да еще украинцу… нужно дать большую взятку. Он думает помочь вам деньгами?
— Да в том-то и несчастье, что дядя у меня еще старых взглядов… Говорит, что если человек готов к экзаменам, то сдаст и без взятки.
— Меня удивляет ваш дядя…
— Правда? Я говорю ему то же самое, а он мне не верит… Цыганюк смеется, что я много занимаюсь. А я думаю, что если… если буду знать все на «отлично», то, может быть, с первого раза сдам экзамены…
У Дарки чешется язычок спросить: «Ну, а что, если ты не сдашь с первого раза? Думаешь, мир перевернется от этого?»
Но, понятно, она не хочет обидеть малознакомого человека. Ее маленькое чуткое сердце и без того полно печали. Грустно, что судьба человека (впрочем, может быть, не судьба, а только карьера, что для этого мальчишки, очевидно, одно и то же) зависит от капризов какого-то безграмотного богача. Невесело и то, что товарищи смеются над юношей, а для него «аттестат с первого раза» (как он, в самом деле, наивен: кто же теперь сдает на аттестат с первого раза? Неужели он не понимает, что в наше время, наоборот, даже как-то непристойно, даже стыдно сразу получить аттестат?) — это самое главное. Неприятно и то, что этот юноша, ученик седьмого класса, не умеет сказать девушке ни одного любезного слова. Эх!
— Теперь я пойду одна! Я найду… Послушайте: сейчас налево, а потом прямо… прямо… по Гауптштрассе до самого рынка… — не так ли?
Ивонко не понимает Дарку. Его красивые голубые глаза смотрят удивленно.
— Но я должен проводить вас до дома…
— Нет, я пойду одна. Говорю вам — налево, а потом прямо… прямо. Я не заблужусь.
— Но ведь вы сами хотели, чтобы я вас…
— А теперь я хочу идти одна! — заявила Дарка уже совсем решительно.
— Ничего не понимаю… то сами хотите, чтобы я вас проводил, то вдруг…
Он обижен. Дарке делается смешно, что этот мальчик ни о чем не догадывается. Ну не забавно ли: этот длиннорукий простак Ивонко, не умеющий произнести ни одного приятного слова, мог вообразить, будто Дарка выбрала его потому, что он ей понравился! Вот умора! Нет, просто можно умереть со смеху!
— До свидания!
— До свидания… — Он как будто хочет еще что-то сказать. Может быть, попросить у нее разрешения еще раз встретиться? Может быть, спросить о чем-то? А может, Дарке только так показалось?
Она идет вперед и с радостью замечает, что весь уличный хоровод незнакомых людей, здания, окна, кафе, трамваи, винные погребки, попугаи с шарманкой, подвыпившие мужчины, улыбающиеся каждой встречной девушке, нарядные няни с колясочками — все это намного интереснее, намного привлекательнее, когда нет провожатого.
Господская улица сбрасывает с себя ленивую послеполуденную дрему. Элегантный, надушенный, подкрашенный и разодетый «высший свет» высыпает на свою улицу.
«Странно, — думает Дарка, — улица эта не отгорожена от других, но как же так получается, что только богачи прохаживаются по ней из конца в конец, словно павлины в клетке, а из простых людей никому не хочется побывать здесь?»
Кажется, в это время дня перед каждым зеркалом прихорашивается какая-нибудь красивая женщина. Солнце зажигает последние красные отблески на витринах и окнах домов — знак, что на землю вот-вот спустится вечер.
Дома Дарку встречают уже сумерки и противный могильный запах, которым пахнут жилые комнаты, если закрыть в них окна и выгнать людей.
Дарка опускается на оттоманку и представляет себе, что лежит на дне маленькой лодочки, а под ней и вокруг нее играют теплые, белые, шумные волны. Это странно — ведь в море вода холодная и зелено-синяя, а эти волны белые и теплые-теплые, как парное молоко. Дарке хочется, чтобы они были такими, и воображение делает их такими. Волны бегут одна за другой, заглядывают в глаза, наскакивают друг на друга, перекатываются, поднимаются и бегут дальше.
Эту милую игру нарушает стук в дверь и вслед за ним высокий, взволнованный голос Даркиной хозяйки:
— Ну что вы наделали, Даруся! Разве так можно? Мне казалось, что вы куда-то вышли и вот-вот вернетесь, и вдруг Лида говорит мне, что вы обиделись! На что? Почему вы так внезапно убежали?.. Так… я даже не знаю, как это назвать…
Дарка рада бы промолчать, но надо ответить, раз хозяйка спрашивает.
— Я не выношу, когда надо мной смеются…
Хозяйка только руками разводит.
— Что вы, деточка! Кто над вами смеялся? Вы слишком чувствительны, Даруся, вас, видно, очень изнежила мамочка… Так нельзя. Да разве я позволила бы, чтобы над вами смеялись? Шуток вы не понимаете, Даруся, вот что! У меня еще такого не случалось!
Хозяйка идет готовить чай, а Лидка присаживается на край оттоманки.
— Послушай! Почему ты убежала? Я ведь говорила тебе, что ты не пожалеешь, если останешься. Говорила или не говорила? А ну, угадай, кого мы с мамой встретили по дороге? Не можешь угадать? Слушай: твоего земляка Данка… Данка Данилюка с панной Джорджеску… с дочкой самого префекта[11]. Ты знаешь, что это за рыба?
Дарка не отвечает. Пусть Лидке кажется, что эта новость не произвела на нее впечатления. Только бы оставили ее в покое.
В этот день Дарка не написала маме письма. Зато ночью ей приснилась дочка префекта и клочок Веренчанки. Данка во сне не было, но он был где-то рядом. Обязательно был, потому что когда она утром проснулась, сердце в груди мешало ей, как соринка в глазу, а подушка была мокра от глупых, как это бывает во сне, слез.
III
С тех пор Дарка как бы раздвоилась: одна половина осталась ей, а другая ушла к людям. Одна половина ненавидела другую, и они воевали между собой.
Да и как можно было примирить их, если одна половина хотя бы на людях простила Орыське ее измену, другая, одинокая и гордая, как снежная вершина, давно вычеркнула ее из списка подруг.
Но дело не только в том, что Орыська с первого же дня блокировалась с дочерьми священников. Даркин внимательный глаз замечает, что в классе все ученицы вообще делятся на две категории: на тех, у которых родители «имеют вес», и на тех, чьи родители «не имеют веса». Дарка принадлежит ко второй категории. Но не это поражает девочку, у которой были такие радужные надежды, когда она ехала в Черновцы; ее до боли огорчает, что даже здесь, в классе, где, казалось бы, у всех общие интересы, где существует единый фронт учениц против учителей, даже здесь имеет место деление на детей богатых и бедных родителей.
Дарка не может забыть сцену, невольной свидетельницей которой была. Это произошло в самом начале учебного года.
На перемене Стефа Сидор ела хлеб с маслом и ветчиной. Ольга Косован забылась и тоже ела этот бутерброд… глазами. Стефа заметила, отломила кусочек хлеба, отщипнула ветчины и презрительно протянула то и другое Ольге.
Косован отказалась и покраснела. Так покраснела, что Дарке стало жаль ее. И тут же в ней проснулась неприязнь к Стефе.
Одна Дарка, покорная и по-детски влюбленная, удовлетворялась тенью, падавшей от фигуры Данка, другая, гордая и непримиримая, ненавидела его за самомнение и замкнутость. Одна — еще ребенок, вторая — уже взрослая женщина с раненым сердцем. Обе они вплетались в дни, которые тоже делились надвое: на гимназию и квартиру.
У Данка никогда не было времени. Впрочем, может быть, только для Дарки? Он все куда-то спешил, словно жизнь его зависела только от часовых стрелок. Слова о дочке префекта, которые в прошлое воскресенье так легкомысленно бросила Лидка, впились в Даркино сердце, как пули. Лежали там, пока еще не причиняя сильной боли, но тая в себе опасность.
Надо поговорить с Данком с глазу на глаз, откровенно, сердечно. Но на это у него никогда нет времени. Вечно репетиции, уроки… Дважды или трижды Дарка встречала его около гимназии. Едва бросив несколько слов, он куда-то убегал с широкоплечими, длиннорукими ребятами, которые над чем-то раскатисто и грубо смеялись.
Осень подошла уже так близко, что в тихие дни слышался шорох ее шагов. Только осень здесь не такая, как там, в любимой Веренчанке.
Здесь это не богатая невеста, которая въезжает в село со свадебной музыкой и песнями, звучащими до полуночи, которая привозит приданое — золотистую пшеницу (даром что порой с господской нивы за одиннадцатый сноп), рассыпает по деревне желтую, как шафран, кукурузу.
О нет! Здесь она стонет под стенами, словно нищенка, а жилище ее — кучка сухих листьев, забытая невнимательным сторожем в парке. Дома и электрические провода заслоняют небо, чтобы не видно и не слышно было, как птицы улетают в теплые края. Ну как тут не тосковать по селу, как может не присниться Веренчанка?
В один из понедельников в пятый класс влетела Герасимович из шестого:
— После этого урока останьтесь в классе: господин Иванков будет пробовать голоса для хора!
Влетела, сообщила эту страшную новость и выскочила, а у Дарки даже дух захватило.
— А этот хор обязателен? — испуганно подняла она глаза на Ореховскую.
Но та, должно быть, не расслышала вопроса. Известно, что Ореховская редко слышит, что делается вокруг нее. Она всегда в стороне от остальных (любимое место ее — у печки), всегда словно прислушивается к внутреннему голосу. Незачем даже смотреть на нее и дожидаться ответа, глаза ее блуждают где-то над головами гимназисток.
Но… но… как же быть с этим хором? Неужели профессор заставит ее петь? Здесь, перед всем классом, на глазах у всех? Ведь у Дарки нет слуха! Ни на грош нет слуха! Правда (может быть, это вознаграждение судьбы за Даркин недостаток), у нее довольно гордости. Дарка не может вынести, просто не может вынести, если у нее не получается то, чем хвастаются другие. Нет, нет, речь идет не о школьной карьере, к которой надо взбираться по лестнице подхалимажа под презрительными взглядами большинства подруг в классе, На этом поприще Дарка не станет добиваться первенства. Такое первенство можно уступить Орыське. Даркина гордость покоится на высоких скалах, куда надо карабкаться без компаса и карты.
Дарка уже постигла мудрость молчания. О, Черновицы уже научили ее не кричать, когда больно! «Урок немецкого языка» у тетки Иванчук был хорошим уроком. Очень хорошим. Дарка выдержала и не сказала ни слова по-немецки, хотя на Буковине, это всем известно, человека, не говорящего по-немецки, такие, как тетка Иванчук, считают некультурным.
Что они подумали о Дарке? Не умела? Не хотела? Настоящая украинская патриотка? Это их дело. Пожалуйста, пусть верят Лидке. Пусть вместе с ней смеются над Даркой. Но она не заговорит с ними по-немецки. А немецкий язык выучит. Да, возьмет и выучит. Будет разговаривать так же плавно и свободно, как они. Наверняка! Может быть, не за неделю, не за месяц, даже не за два, но все равно выучит.
Все чаще по дороге в гимназию или из гимназии Лидка накидывается на нее за то, что Дарка не отвечает на вопросы, молчит, как мумия, набрав в рот воды (у Лидки может существовать даже мумия, набравшая в рот воды), не зная, что именно когда Дарка упорней всего молчит, она разговаривает… По-немецки! Заучивает наизусть целые абзацы, повторяет слышанные где-то фразы, пересказывает себе события дня — и все по-немецки!
Но слух не выучишь наизусть. И Дарке очень не хотелось выявлять перед всем классом свой духовный изъян.
— Ты не любишь петь? — Кто-то кладет руку на Даркино плечо.
Она поднимает голову: Стефа Сидор. Опять эта красивая девочка, как добрый гений, появляется в самую трудную минуту жизни.
— У меня нет слуха, — краснеет Дарка.
— И ничего нельзя сделать? — приветливо спрашивает Стефа.
Дарка отрицательно качает головой.
— Профессор Иванков очень добрый человек. Не огорчайся! Он не заставит тебя петь в хоре, если не захочешь!
Она легонько треплет Дарку по плечу и уходит на свою парту.
Стефа не сказала, что Дарка, если не захочет, может не участвовать в пробе голосов. Не утешила тем, что в гимназии не считается позором, если кто-то не умеет петь. Не посоветовала сбежать с урока. Но то, что она почувствовала Даркино волнение, что сама подошла к Дарке и заговорила, когда все молчали, что заинтересовалась Даркиными делами так, что даже вышла из-за парты, наполняет Дарку такой искренней благодарностью к этой девушке, что захотелось подбежать к ней и при всех расцеловать.
И словно для того, чтобы подчеркнуть вспыхнувшую симпатию, Дарке приходит на память история с учителем Мирчуком и этим несчастным словарем. Дарка как сейчас видит зловещий блеск в глазах учителя, когда тот спрашивал ее, обернула ли она словарь латинского языка. Кто-то ответил за нее «да», и Дарка подтвердила. Потом (она до сих пор не может этого забыть) неведомо откуда на ее парте появился словарь с большой розой на белоснежной обертке. Дарка подала словарь учителю. Он не взял его, только удовлетворенно кивнул.
На переменке Дарка узнала, что это Сидор спасла ее он неминуемой неприятности.
Теперь этот поступок вырастает в такой великодушный жест, что у Дарки на глаза навертываются слезы. Она стоит как зачарованная и только смотрит на Стефу.
И словно впервые видит, что лицо у Стефы цвета чайной розы, а кожа такая чистая, что даже видно, как на ней отражаются тени от ресниц. Внезапно все в Стефе начинает нравиться Дарке. И прямой нос, и иссиня-черная челочка над зелеными глазами, и губы, бледные, но такие выразительные по своей форме, что сами напрашиваются на поцелуи. Кроме того, Дарка замечает, что Стефа приходит в гимназию в свежевыглаженной, чистой форме, со снежно-белым воротничком.
И возникает робкое, горячее желание, почти молитва: «О боже, сделай так, чтобы она захотела быть моей подругой! Моей лучшей, единственной подругой!»
— Алло! Будем пробовать голоса! — И учитель Иванков, приятный толстяк (не Данко ли говорил однажды, что все певцы хорошо выглядят?), протискивается в класс. — В прошлом году кто-нибудь из вас пел в хоре?
— Никто!
— Ага! Это прошлогодний четвертый. Ну, начнем по алфавиту. Андрийчук, ко мне!
И смело, по примеру Андрийчук, девочки вставали одна за другой, подходили к столу и затягивали:
— До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до!
Толстяк прикладывал ладонь к уху и распределял взмахом руки:
— Сопрано. Альт. Второе сопрано. — Или: — Ты, дочка, придешь ко мне в будущем году.
Он говорил ученицам «ты»!
Или еще резче:
— Неужели тебе мама не пела у колыбели?
Ученицы не очень близко принимали к сердцу его приятные или неприятные слова. Те, которым «мама не пела у колыбели», отворачивались от стола и показывали классу большой, предназначенный учителю язык. Дарка не понимала этого бесстыдства. Ореховская совсем не пошла к столу. Она всегда любит поступать не так, как все. С места сказала, что у нее первое сопрано, и учитель поверил ей.
Наступила очередь Дарки.
— Попович!
Дарка не встала. Не смогла.
— Ее нет в классе? — спросил учитель.
Сразу раздался крик:
— Есть, есть!.. На боковой парте сидит! Рядом с Ореховской!
— Почему ты не встаешь, когда тебя вызывают? — не рассердился, а только удивился учитель.
Дарка молчала.
— Ты первый год в гимназии?
И опять класс хором ответил за Дарку:
— Первый! Первый!
Кто-то с последней парты добавил:
— Она из деревни приехала!
— Что с тобой? — спросил учитель и, подойдя к Дарке, приподнял ее подбородок.
Дарка закрыла глаза и молчала.
— Что с ней? — обратился учитель к классу.
Класс, который все время гудел, как заведенный, теперь не нашелся что ответить.
Но тут встала Орыська и, немного заикаясь, выпалила:
— У нее нет слуха, поэтому она стыдится. Но она очень бы хотела петь в хоре.
Учитель засмеялся. Смех у него исходил, казалось, откуда-то из живота.
— Кто тебе сказал? — спросил учитель у Дарки.
— Папа, когда учил меня.
— Ага, сейчас увидим. Тра… ля… а… А ну, пой за мной.
Дарка уже без уговоров, твердо уверенная, что она может так пропеть, открыла рот и затянула:
— Тра… ля…
И учитель — не брат, не сват, а совершенно чужой, незнакомый человек, обрадовался:
— А ну, попробуй еще раз!.. А ну, еще раз!.. — подгонял он Дарку.
Девушка замерла. Она же не сумеет еще раз так спеть. Она совершенно уверена, что нет. Почему он не хочет этого понять? Почему он так настаивает, ведь это только испортит первое впечатление.
— Тра… ля… ля…
На этот раз учитель не обрадовался. Даже головой покачал. Дарка знала, что так будет. Он посмотрел на ученицу, и ему, верно, стало жаль ее.
— Твой папа немного ошибся. Знаешь что, маленькая? Я пока что возьму тебя в хор на пробу. Полгода послушаешь, как мы поем, а потом опять попробуем твой голос. Согласна? Довольна?
Учитель вызывал уже на букву «р».
Дарка прилегла на парту, не помня себя от радости. Ей хочется убежать куда-нибудь за город, упасть в сухую траву и кататься по ней, подобно молодому счастливому зверьку. Но Дарка только щиплет себя, чтобы убедиться, что это не сон. Она будет петь в хоре! И, хотя это неприлично, Дарка закрывает глаза, чтобы хоть в воображении увидеть удивленное лицо Данка, когда они встретятся на репетиции хора.
Что-то словно пощекотало Дарке затылок. Она поворачивает голову: Стефа Сидор триумфально улыбается ей. Дарка смотрит на нее влюбленным взглядом, и ее большие, влажные от радости глаза словно говорят: «Славная… славная моя подружка! Ты даже не догадываешься, тебе даже не приходит в голову, что означает для меня близость к тем, кто имеет дело с музыкой. Откуда тебе знать, цветик мой, что музыка — это единственное, что может разлучить или соединить меня с Данком? Ведь ты ничего не знаешь о Данке. Здесь никто ничего не знает о Данке…»
— В среду — женский хор, а по пятницам — смешанный, — заканчивает учитель.
Дарка не отваживается подождать Стефу Сидор и вместе с ней спуститься по лестнице. Она никогда раньше не делала этого. Стефа надевает шапочку перед оконным стеклом.
Дарка в радостном порыве обнимает Лидку.
— Хочешь, пойдем есть мороженое? У меня в кармане тридцать пять леев.
Лидка рассуждает практичнее:
— О, лучше халвы купить!
Будет и халва! Пожалуйста! Может быть, еще кто-нибудь чего-то хочет? Может быть, у кого-нибудь еще есть желания? Может быть, у тебя, Орыська? Может быть, у тебя, рыбка Ореховская? А может, ты, красавица Стефа, хочешь осчастливить меня и принять что-нибудь в этот незабываемый день? Все, все получите, что хотите. Дарка в таком опьянении, что сняла бы с себя форму, разодрала на клочки и дарила бы каждому встречному по лоскутику.
Лидка и Орыська берут Дарку под руки (сегодня и в самом деле надо следить за нею — она просто невменяема) и так идут втроем по тротуару, шумные, как мальчишки. Ищут лавку, где есть халва и мороженое.
Орыська хочет отделиться от них. Не к лицу девочкам так вести себя на улице Что, если, не дай боже, увидит кто-нибудь из учителей?
Но Дарку и Лидку возмущает глупое поведение Орыськи. Теперь возвращаться домой? Дарка просто обижена: в такую минуту думать об учителях и «станции»?
Орыська, самая опытная, заводит их через сени в какую-то лавчонку. Здесь так темно, что глаза, привыкшие к солнечному свету, не в силах помочь ногам и те спотыкаются о столик и чуть не опрокидывают его. Пытаясь исправить ошибку, девочки натыкаются на какого-то верзилу, и Дарка громко вскрикивает. Хозяйка «кондитерской» поднимает штору на единственном окне, и оказывается, что они попали в компанию военных. Парни (очень молодые, даже странно, что они уже военные) ничуть не смущены тем, что произошло. Они улыбаются девушкам и сердечно просят по-румынски остаться с ними, выпить по стакану прохладительного. На дворе такая адская жара!
— Пофтим, пофтим, фрумосе домнишоры![12]
В Дарку уже вселился бесенок, и она хочет остаться. У нее сегодня такой день, что пусть весь мир перевернется вверх тормашками. Тогда Орыська (какое счастье, думала потом Дарка, что хоть Орыська не сглупила!) поднимает красивую головку и спрашивает так, как умеют только Подгорские:
— И ты, Дарка, способна сесть за стол с военными?
Дарка хватает Лидку за руку, и они вылетают на улицу так же шумно, как ввалились сюда.
— Орыська права! Только смотрите — никому ни слова.
Лидка соглашается повести их в кондитерскую Крамолина. На Русскую. Дарке кажется, что когда-то, в детстве, она уже была там с мамой.
— Хорошо! Идем к Крамолину!
Посередине Главной улицы Дарка вспоминает, что здесь, в доме 77, живет ее хорошая знакомая, госпожа Роберт. Может быть, девочки зайдут вместе с ней? Орыська снова возражает: как, теперь?
Ничего. Дарка только позвонит, скажет несколько слов — и все. В конце концов Орыська соглашается. Дарка ведет их на второй этаж, к двери налево.
— Но боже мой, Дарка, — заявляет Орыська, прочитав табличку на двери, — здесь живут какие-то Энгли…
Но Дарка уже позвонила, и теперь ничего не остается, как бежать по ступенькам, и не просто бежать, а так, чтобы пятки сверкали. Подумать только — вдруг кто-нибудь откроет дверь и узнает, что это ученицы из «Личеул Украинян» с «ЛУ» на беретиках.
Орыська, хорошо воспитанная поповна, почти плачет. Нет, знаете ли, спасибо за угощение! Спасибо за компанию! Это добром не кончится. Недаром говорят: до поры кувшин воду носит…
Дарке с трудом удалось уговорить подругу пойти с ними к Крамолину есть мороженое. Они будут вести себя прилично. Ладно, Орыська? Ладно, а? Конечно, «ладно», что тут говорить, мороженое есть мороженое, и случай полакомиться выпадает далеко не каждый день.
В кондитерской Лидка «аристократически», на немецком, заказывает три большие порции. Орыська еще с минуту следит за Даркой, но, увидев, как благопристойно Дарка слизывает с ложечки розовое мороженое, успокаивается.
Всякий раз, как кто-то проходит мимо их столика, Лидка с Даркой начинают один и тот же разговор со слов: «Когда я была в Париже…», но это только забавляет Орыську.
Поели, теперь надо платить, но Дарка никак не может найти деньги. Она перелистала все книжки, выбросила из портфеля все, вплоть до вчерашних хлебных крошек, обшарила все карманы, а денег нет. Нет — и кончено! Деньги ведь не шпилька.
— А что теперь будет? — испуганно спрашивает Орыська.
Но Дарка и не думает впадать в панику.
— Я, верно, потеряла их там, в этой пивнушке, или когда мы летели со ступенек… Другого выхода нет, тебе Орыська придется оставить в залог золотую сережку.
У Орыськи на глазах слезы.
— И надо же было затевать все это, Дарка! Я не могу оставить сережку… Во-первых, ее нельзя снять, во-вторых, это память о крестной… И потом… это ужасно неприлично — закладывать вещи… Так поступают только горькие пьяницы и картежники… Я не могу, Дарка!
— Но мы тоже не можем сидеть здесь до ночи! Орыська, я зову официантку!
Дарка стучит ложечкой по тарелке, и мгновенно перед их столиком вырастает девушка, вся в белом, как медицинская сестра.
— Мы платим. Три большие порции. Сколько?
Орыська хватает Дарку за руку:
— Дарка, я не буду!
— Успокойся! — Дарка высвобождает руку, вынимает из кулака помятые деньги и расплачивается.
— Ты свинья! — не может сдержаться хорошо воспитанная Орыська.
— Нет, Орыська, я только очень-очень счастливая!
Орыська не понимает такого счастья. Она прощается с Лидкой и Даркой, им осталось до дому всего несколько шагов.
— Что мы скажем твоей маме, как объясним, где были до сих пор? — спрашивает Дарка.
Лидка отвечает не задумываясь:
— Не знаешь, что ли? Скажем — на последнем уроке была контрольная. Послушай, — приходит Лидке в голову другое. — Я бы не советовала тебе дружить с Сидор.
— Почему? Что ты имеешь против нее? — удивленно спрашивает пораженная Дарка.
Лидка смеется ехидным смешком.
— Она может оказаться опасной для тебя!
— Что ты говоришь? — не понимает Дарка.
— То, что слышишь! Мне говорили, что Сидор читает запрещенные книжки.
У Дарки нет охоты расспрашивать дальше. Она не хочет портить себе этот прекрасный безоблачный день.
IV
Первый час во вторник — урок румынского языка. Каждый вторник у Орыськи матовый от пудры нос и широкая бархатная лента в волосах. Орыська обожает учителя Мигалаке. На уроках она, как верный пес, смотрит ему в глаза, и каждое изменение в его голосе или на лице отражается в ее покорных глазах, как в зеркале. Дарке она рассказывает, что по ночам ей снится комната и дом, в котором он живет: там красные бархатные стены, а высоко под потолком поют золотые птицы. Дарка не понимает восторженного отношения к учителю и не может скрыть своего возмущения:
— Орыська, я тебя знаю! Передо мной нечего ломаться! Мигалаке интересует тебя как прошлогодний снег. Хочешь иметь «форте бине» («очень хорошо») по-румынски, вот и разыгрываешь перед ним турка.
И тут спокойная, набожная (каждое второе слово у нее «грех») Орыська распаляется священным гневом, она возмущена.
— Как ты можешь так говорить! Как ты можешь так обо мне думать! Да… да… я хочу иметь у него «форте бине», только совсем не затем. Совсем не потому… Я думаю: а вдруг, если буду хорошо учиться, он когда-нибудь заговорит со мной на перемене… А вдруг… Какая счастливая у него мама — она может каждый день видеть его… кормить… смотреть на него, когда он спит…
Тут Дарка замолкает. Она не может судить о делах, в которых не разбирается. Ей непонятна сама возможность увлечься учителем, который намного старше, а главное — ведь он не только не ответит взаимностью на чувства Орыськи, но, вероятно, никогда и не заговорит с ней другим голосом, чем с остальными ученицами.
Мигалаке и в этот вторник приходит за минуту до звонка. Первым делом он сообщает классу новость:
— Профессор Мигулев сегодня вернулся со съезда историков, и у вас следующий урок история…
Дарка уже научилась по отношению класса определять характер учителя, «злой» он или «добрый». Известие о приезде Мигулева класс встретил радостными восклицаниями. Это для Дарки неопровержимый довод, что этот «новый» — хороший человек.
Класс предпочитал его уроки любой замене. А подменяли историка либо сам Мирчук, либо естествовед Порхавка, либо Мигалаке.
Учитель засунул руки в карманы, широко расставил ноги и стал похож на стремянку.
— Конечно, приятно, что домнишоры так рады приезду учителя Мигулева, но я думаю, среди вас найдется хоть одна, которая пожалеет о том, что у нас будет меньше времени для изучения поэм такого замечательного крупного современного поэта, как Тудоряну. Кто помнит стихотворение «Наше сердце из железа»?
Класс молчит.
Мигалаке играет ножичком, привязанным серебряной цепочкой к ремню.
— Мне не хочется верить, что ни одной домнишоре не нравятся его баллады. Я совершенно уверен, что найдутся такие, кто основательно проштудирует их и на уроке перескажет подругам, можно даже по-украински. Например, его стихи: «Мы любим крови вкус соленый». Прекрасная вещь! Неужели домнишоры так равнодушны к поэзии?
Это был одновременно вызов, издевательство и угроза. Сказать правду, сказать, что не могут нравиться стихи поэта, который называет твой народ «стадом русаков покорных» (правда, сама Дарка не читала этого, но эту фразу она слышала еще в Веренчанке от отца; у папы даже губы дрожали от негодования, когда он говорил: «Вот какой поэзией кормят украинскую детвору!»), что наконец, нельзя любить стихи, которых не понимаешь, признаться в этих грехах — значит до конца года не расставаться с двойкой.
— Итак, никому во всем классе не нравятся стихи Тудоряну?
Все еще с улыбкой на губах, но уже побагровев от гнева, Мигалаке делает галантный полуоборот влево и вправо. Его фальшивая улыбка, обнажающая только кончики зубов, страшна, как у мертвеца. Глаза отнюдь не скрывают насмешки и жажды мести.
Дарка, дрожа, прижалась к парте.
«Это ничего… Сейчас кто-нибудь встанет и скажет, что мы плохо понимаем по-румынски… И он так и не узнает, что мы уже слышали про «стадо русаков покорных». А я… новенькая… я могу вовсе не понимать… Я же приехала из села… и он не может подумать обо мне, что я знаю, о «русаках», — успокаивала себя Дарка, продолжая, однако, дрожать. Трепещет весь класс, и ее трепет — лишь движение маленького колесика в общем механизме.
Учитель стоит в той же галантной, но грозной позе и ждет: неужели никому-никому не нравятся эти высокохудожественные стихи?
Класс растерянно молчит. Дарка отлично чувствует в этом молчании скопившуюся за все уроки Мигалаке бунтарскую энергию, но одновременно инстинктивно ощущает, что энергии этой мало, что она еще несоизмерима с силой, которую придает Мигалаке его положение. Нет, пока здесь нужен не открытый, честный бунт, а хитрость. Как девочки этого не понимают?
В сердце Дарки тлеет слабенький огонек надежды, что может быть… может быть… на третьей парте взорвется Мици Коляска и какой-нибудь остротой рассеет напряженную атмосферу, спасая себя и всех?
К сожалению, Коляска теперь тоже лишь маленькое колесико, которое вращается вместе со всем механизмом.
Учитель порывистым движением — он не в силах более владеть собой — отворачивается к столу. Тогда, словно освобожденная от непосредственного влияния его злых глаз, встает Ореховская. Еще не оперлась она как следует о парту, как вместе с ней поднимается и Орыська Подгорская. Учитель поворачивает голову к Ореховской.
— А, домнишора, — его красивое лицо становится еще красивее от широкой улыбки, — слушаю вас…
Ореховская знакомым всем движением откидывает голову назад и отвечает спокойно:
— Мы плохо понимаем язык поэта и потому не можем увлекаться его стихами…
Это была именно та хитрость, о которой мечтала Дарка.
— Да? — спросил Мигалаке, не очень доверяя, хотя ученицы и впрямь мало что понимали в этих стихах. — Да? Ну что же, садитесь, домнишора Ореховская.
Наталка говорила от имени всего класса, но было понятно — своим выступлением она всю вину взваливает на собственные плечи и только она одна будет отвечать за все последствия.
Учитель еще и рукой сделал знак, чтобы Ореховская садилась, и злым взглядом дал ей понять, что никогда не забудет этой «услуги».
Орыська ждала своей очереди.
Дарка догадалась, о чем будет говорить подруга. Она крепко, до хруста сжала кулаки под партой и напряженно думала, твердо уверенная, что ее мысль и ее твердая воля проникнут в Орыськино сознание и та опомнится.
«Орыська, не делай этого!.. Садись, Орыська, садись, пока не поздно!..»
— А вы что скажете? — как-то вяло спросил Мигалаке.
В классе наступила такая тишина, что слышно было, как четырнадцать учениц вдыхают и выдыхают воздух из своих легких.
— Я вас слушаю, домнишора Подгорская, — как бы ободряет Орыську Мигалаке.
— Ев вряв (я хочу)… — нерешительно заговорила Орыська.
В этот момент Дарка так дернула ее сзади за юбочку, что Орыська даже пошатнулась. Кто-то свистнул предостерегающе или, может быть, изумленный отвагой Дарки:
— Псс!
Учитель, казалось, не заметил этого.
— Если вам трудно говорить по-румынски, можете сказать по-немецки, так же, как домнишора Ореховская, — добавил он иронически.
Дарка кусала губы: «Не говори, Орыська, не говори!»
Но было поздно. Поздно просить или угрожать, Орыська уже заговорила на ломаном румынском языке:
— Я понимаю «Баллады и идиллии», и они мне очень нравятся.
Свершилось. Потолок не упал никому на голову. Все ученицы сидят на своих местах.
Портреты короля и королевы висят на стене, там же, где висели. Произошла только одна перемена: каждая ученица смотрит теперь прямо перед собой, и ни у кого не хватает мужества глянуть в глаза соседке.
Мигалаке велит Орыське сесть, не благодарит ее за небывалое внимание к поэту-украинофобу. Он начинает хохотать. Да! Он так фальшиво хохочет, что Орыська, сжавшись, опускается на парту…
Мигалаке, кажется, совсем не замечает Орыськи, он обращается к Ореховской:
— Домнишора Ореховская, а что вы скажете на это, вы, у которой по всем предметам «очень хорошо»? Как вы себе объясните, что домнишора Подгорская, которая только первый год учится в гимназии, знает и понимает по-румынски больше, чем вы? А может быть, домнишора Ореховская, вам не нравятся именно стихи Тудоряну? Де густибус нон эст диспутандум[13]. Ну?
Ореховская поднимается. Она должна встать, когда с ней разговаривает учитель.
— Простите, я знаю не меньше, чем наши ученицы. Возможно, что новенькие знают больше.
Мигалаке ударяет рукой по лбу:
— Вы хотите сказать, что я плохо учу вас? Сейчас убедимся, знают ли новенькие больше… Домнишора Попович, вы тоже сдавали экстерном, понимаете ли вы стихи, которые мы читали? Вы можете своими словами пересказать то, что мы изучали в классе?
Наталка села. Дарка встала и сразу почувствовала четырнадцать пар острых глаз на своем теле, словно это были не глаза, а иголки. Она ждала вопроса и заранее решила, что возразит на него. Для чего? Чтобы спасти класс? Чтобы поставить Орыську в еще худшее положение? Чтобы, наконец, при всех порвать с этой поповской дочкой? Ведь то, что они из одного села, несмотря ни на какие различия, делало их в глазах подруг сиамскими близнецами. Нет, Дарка так не анализирует своих чувств. Она просто следует своему характеру, который не терпит ни лжи, ни подхалимства.
— Ну, домнишора?
Дарке кажется, что четырнадцать пар глаз впились в одну точку и жгут, так жгут, что хочется закрыть голову руками и бежать отсюда на край света. Дарка не узнает своего голоса, таким чужим он ей кажется.
— Я тоже мало поняла из того, что мы учили, — говорит она и сразу, обессиленная, опускается на парту. На лбу выступил обильный пот, и Дарка почувствовала усталость. А может быть, это и не усталость, а приятное сознание, что все произошло так, как должно было произойти?
Дарка словно издали слышит, как Мигалаке спрашивает:
— Что она сказала?
Кто-то (не Мици ли Коляска?) повторила ему Даркины слова по-немецки, а потом еще кто-то по-румынски. Что-то холодное и твердое сжало Даркину руку: Ореховская! В этом рукопожатии, кроме сочувствия, были ободрение и признательность. За последнее Дарка ей особенно благодарна. Наталка угадала: ей нужно не столько сочувствие, сколько ободрение!
Мигалаке говорит:
— Домнишора Ореховская перед всем классом упрекнула меня в том, что я плохо вас учу. Возможно. Это только второй год моего преподавания. Но минуту назад мы узнали еще кое о чем. Перед нами классическое доказательство, что и лучший учитель не много может сделать, если ученица не любит предмета и не хочет изучать его. Вот домнишора Подгорская и домнишора Попович. Коллеги-преподаватели считают, что Попович лучше учится, но она не любит румынского языка. Что же из этого вышло? Вышло то, что более слабая ученица на целую голову переросла эту, вроде бы лучшую. Господин корепетитор[14], возможно, был молод и красив, и ему было неудобно делать замечания ученице, говорить ей, что она идет по неверному пути. К тому же ему, вероятно, платили за то, чтобы он вел себя с нею галантно. В гимназии учителя менее галантны и немного иначе смотрят на это дело…
Дарка слушает эту болтовню с некоторым удивлением: зачем нужна еще пуля, если враг уже смертельно ранен и упал?
Мигалаке ходит по классу в новых лакированных туфлях, и нет силы, способной заткнуть ему рот.
— Здесь у нас есть простые, очень простые способы воздействия на учениц, которые не хотят учиться по каким-нибудь предметам. Здесь не дом, нет мамы и папы, чтобы заставлять учиться. Домнишора Попович скоро убедится в этом. Да… да…
То ли для острастки другим, то ли в качестве последней пули в покойника Мигалаке вынул записную книжку, что-то отметил в ней и медленно-медленно спрятал ее в карман.
Урок тянулся невыносимо долго. Учитель несколько раз вызывал Орыську. Она отвечала в самом деле лучше других, но было заметно, что большого удовольствия это ей не доставляло. Точно по звонку Мигалаке выскользнул из класса.
Класс еще миг сохраняет спокойствие, как ездок перед тем, как пуститься вскачь. Затем поднимается такой шум, такой вихрь криков, что Дарка не может различить кому какой голос принадлежит. Но все «подлизы», «паршивые овцы», «бойкоты» покрывает один высокий голосок:
— Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Это Ольга Косован открещивается от Орыськи тем же способом, каким ее мать или бабка открещивалась от нечистой силы.
Но тут Малинская так сжала руку Ольги, что та вскрикнула.
— Ты, мужичка! На кого плюешь? На дочку священника? На дочку священника? — кричала поповна.
И Малинская (она так близорука, что при чтении подносит книжку к самому носу) нагнулась к Орыське и своим платком стала вытирать ей глаза, хотя они были сухие.
И Дарка понимает: то, что объединяет дочек влиятельных родителей, сильнее того, что может их разъединить.
Орыська сидит на своем месте пунцовая и совсем не защищается… Глаза ее цвета старой бронзы смотрят, как глаза человека, страдающего не по своей вине. Она в экстазе глядит прямо перед собой, и взгляд у нее такой неземной, словно удары сыплются на нее только потому, что подруги не видят ее глаз, а видят одни сгорбленные плечи.
По классу прокатывается гром, когда маленькая Кентнер становится перед Орыськой и с презрением плюет в ее сторону. Правда, не на Орыську, но перед самым ее носом. И тут наконец Орыська разражается плачем:
— Что вам нужно от меня? Чего вы пристали ко мне?
Тогда Ореховская хлопает в ладоши:
— Девочки! Поступок Кентнер недостоин гимназистки! Но Оле не перед кем извиняться, и я предлагаю в наказание за недостойное поведение три дня не разговаривать с Кентнер. Кто за?
Большинство было на стороне Ореховской. Это выглядело так, словно Ореховская провела границу между «своими» и «новыми». «Свою» можно наказать, но «своей» можно и простить. На пришлую можно плевать, и даже «не у кого» будет просить прощения.
Орыська уже не плакала. Она оперлась локтями на парту и всхлипывала. Глаза ее снова блуждали где-то за стенами класса. Стефа Сидор подмигнула Дарке:
— Пройдемся немного, а то здесь с ума можно сойти!
Но было уже поздно, на первом этаже раздался звонок, и пришлось с порога вернуться к парте. Вскоре в коридорах наступила тишина. Слышались только шаги учителей, торопливые и медленные.
По направлению к пятому классу шагов долго не было слышно. Наконец раздались очень медленные, медвежьи шаги.
Дверь открывается, а учителя не видно. Что он делает? Поправляет носок? Но вот наконец в дверях появляется великан. Тело его заполняет весь проем до верхней притолоки.
Дарка еще никогда не видела такого большого человека. Сперва она не различает ничего, кроме серо-бурой глыбы, которая медленно движется к столу. Наконец решается внимательно присмотреться к вершине этой горы. Странно — лицо у великана такое же, как у всех. Ярко-синие глаза на красном лице даже симпатичны.
— Садитесь и дайте мне немного передохнуть.
— Пожалуйста! Мы так соскучились! Мы просто жить без вас не можем!
— Оставьте меня в покое, Коляска! Я один раз поверил в нечто подобное и буду каяться до самой смерти.
Вышло остроумно, однако нельзя же смеяться над женой учителя! Тем более что в семье Мигулевых «жизни нет», и это всем известно.
— А среди историков были молодые люди?
— А Яссы больше Черновиц?
— А верно, что виноград там пять леев килограмм?
— А правда, что женщины там красят ногти в зеленый цвет?
Учитель вытер пот со лба.
— Советую всем, а особенно вам, Коляска, припрятать свои остроумные вопросы до следующего раза. Мне вы, голову не вскружите, а я не подарю вам больше ни минуты из урока истории. Я и так должен подумать… гм, как сделать, чтобы наверстать пропущенное время… Гм…
Он заложил руки за спину и принялся в задумчивости шагать по классу от доски к окну.
Дарка взглянула на Стефу Сидор и поймала себя на том, о чем до сих пор не догадывалась: обе они, и только они, завязывали бантики на блузках наискось. Дарке казалось, что это ее собственная идея — так завязывать бантик, но теперь она видит, что это заимствовано у Стефы. Более того! Волосы за ушами — это тоже прическа Стефы.
Когда кого-нибудь любишь, всегда хочется походить на него. Дарка уже не сомневается, что больше всех подружек, любит Стефу.
Впрочем, то, что она почувствовала к Стефе, ни с чем нельзя сравнить. Этому нет равных, как солнцу.
Учитель наконец что-то придумал и остановился у стола. Ему пришлось опереться, чтобы не покачнуться.
— Вам надо купить учебники по истории. Вы знаете, что я даже не спрашиваю учениц, у которых нет книжек. Еще советовал бы вам, — Мигулев любит «советовать», — не прибегать к уловкам, не изучать предмет вдвоем по одной книжке. Это вас не спасет, каждая должна иметь свой учебник. В этом году мы будем изучать всемирную историю… Гм… материал большой, а мы уже и так пропустили почти месяц… Надо что-то придумать. Есть учебник на украинском языке, очень хороший, но он слишком дорог и велик для вас… а мы должны спешить. Может быть, мы сделаем вот как: вы купите себе учебник на румынском языке Николицы, часть третья.
Класс зашумел:
— Мы не понимаем по-румынски!
— Пожалуйста, задавайте нам побольше, только по украинскому учебнику.
— Мы не хотим… хватит с нас румынских команд на гимнастике! — крикнула Ореховская так дерзко, что несколько учениц оглянулись на нее.
Учитель сделал вид, что не слышал и не знает, кто произнес эти слова. Он смотрел на класс с доброй улыбкой. И класс, накричавшись, успокоился.
— И чего вы подняли такой крик? Я прекрасно знаю, что вы ничего не поймете в румынском учебнике. Не много вы поймете и в украинской книге, не правда ли, Кентнер? Разве не понятно, что мне удобнее преподавать вам по-украински? Но это не выход! Что касается румынского учебника, я думаю так: я вам сначала расскажу по-украински, о чем идет речь, чтобы у вас было общее представление, а в румынском учебнике отмечу вам три-четыре важнейшие фразы, и вы заучите их наизусть. Вот и все! Когда придет инспектор, я спрошу вас так, чтобы вы сумели мне ответить. Я вам советую поступить так еще вот по каким соображениям. В Яссах на съезде историков был черновицкий визитатор[15]. Он заявил, что в этом году будет особенно нажимать на историю. Если он придет к нам, то хотя по закону вы можете изучать историю на украинском языке, господину визитатору придется отвечать по-румынски. Кто не захочет этого или не сможет, будет иметь дело с учителем Мигалаке, потому что визитатор спросит Мигалаке, как он обучает румынскому, если ученицы не умеют связать двух фраз. Я советую вам послушаться меня. Только не думайте, что я разрешу калечить фразы, которые надо вызубрить наизусть. О, нет! Это действительно должно быть выучено назубок!
Это было последнее условие. Учитель посмотрел на класс. Его слова сделали свое дело. Соблазн был велик, выгода для класса очевидна, условия слишком ясны, чтобы бояться подвоха. Риску никакого, наоборот, верный выигрыш.
Лидка хочет спросить еще о чем-то.
— Скажите, пожалуйста, учить надо будет только то, что отмечено? А не может выйти так, что вы спросите раз по-румынски, а второй раз по-украински, более обширно?
Это совсем уж детское требование, и ученицам становится неловко. Классу предложены такие льготные условия, что торговаться — это уж просто хамство. Кроме того, получается, что учителя ловят на слове… Нет, эта Лидка действительно много себе позволяет. Так, должно быть, подумал и учитель.
— Мне кажется, Дутка, вы хорошо слышали все, что я сказал. Этого для вас должно быть достаточно.
Лидка, смущенная, садится. Тогда опять встает Ореховская. Лицо ее от висков до ушей покрыто красными пятнами. Класс насторожился. Наталка скажет что-то новое. Маленькая Кентнер морщит лоб: «Пусть было бы так, как решили». Голос Ореховской звучит не очень уверенно:
— Мы будем хорошо учиться по истории, но мы очень просим преподавать нам по-украински, по нашим старым учебникам.
Дарка догадывается, в чем дело. В старых учебниках не было ни шовинистического освещения истории Румынии, ни наглого издевательства над историей украинского населения Буковины, как в этих, послевоенных, изданных уже на румынском языке. Ореховская, понятно, не могла прямо сказать об этом и изобрела такой ход: ее будто бы волнует исключительно язык, на каком будут преподавать предмет, а не суть, не содержание.
Класс зашевелился. Что? Что?! Коляска мечется из стороны в сторону: где большинство? Как думает большинство? Надо же ей знать, к кому присоединиться! Она хочет быть с теми, кто выиграет, а не проиграет!
Лидка не только не скрывает своего возмущения неразумным поступком Ореховской, но, наоборот, взволнованным, возмущенным шепотом старается вызвать неудовольствие и у других. Ей хочется приобрести как можно больше сторонников, чтобы наконец решительно покончить с этой глупостью. Очумела Ореховская, что ли? Рвется к книжкам, когда учитель сам позволяет меньше заниматься!
Стефа Сидор цветет. Ее глаза смотрят поверх голов всех недовольных, разочарованных, и никто не может омрачить ее триумфа, вызванного геройским выступлением Наталки. Так должно было быть. Так и вышло. Прекрасно. Очень хорошо.
Романовская, которая во время речи учителя вела себя равнодушно, теперь ловит Наталкин взгляд, чтобы сказать ей, что она с нею и за нее. Возможно, ей следовало сразу проявить больше активности, но ведь никто, боже мой, не может сказать, будто она поддакивала Мигулеву. Она с самого начала против, только не была уверена в поддержке других.
Учитель заложил руки за спину и смотрит на классу. Видно, рассердился. Дарке даже удивительно, как преобразилось это большое лицо, всего полчаса назад такое добродушное.
Стараясь сохранить спокойствие, он говорит Наталке:
— Если бы все были такие же способные, как вы, Ореховская, то, будьте уверены, я не затевал бы историю с учебником Николицы. К сожалению, все не могут приспособиться к одиночке, значит, одиночка должен согласиться с требованиями большинства. Так происходит сейчас, так было и всегда, Ореховская. Я думаю, это дело решенное и говорить больше не о чем. Прошу садиться!
Коляска, за минуту перед тем колебавшаяся, теперь решилась. Блеснув жемчужными зубами, она улыбается Лидке, словно говоря: «Можно было предвидеть, что «мы» выиграем».
Дарка посмотрела на Ореховскую. Что это? Что с ней? Ведь ее дело проиграно, почему же она с таким триумфом смотрит на всех? Странно. Очень странно.
Во время перемены Стефа подходит к Даркиной парте. У Дарки начинает сильнее колотиться сердце.
«Только бы не покраснеть», — уговаривает она себя.
Но Стефа не к ней. Нет. Она обнимает Ореховскую и говорит негромко:
— Хорошо сказал Орест, что это не съезд историков, а конгресс румынизаторов.
— Тсс! — Наталка подмигнула ей, и Дарке сразу стало ясно, что она не хочет разговаривать в ее присутствии.
Дарка вышла из класса. Получилось нарочито, но разве она могла поступить иначе? Если Стефе ближе Ореховская, то она, Дарка, не станет набиваться со своей дружбой. О нет! Она не позволит обижать себя: обрывать в ее присутствии разговор на полуслове, словно она ребенок или, что еще хуже, ненадежный человек.
Стефа обнимает Ореховскую, которой это, верно, совсем не нужно, а Дарке, которая любит ее больше всех в классе, боится раскрыть свою тайну. Разве не смешно, что человеческое сердце называют чутким?
Дарка возвратилась в класс в таком тяжелом настроении, что у нее разболелась голова. Не имело значения даже то, что учитель естествознания Порхавка счел Даркин гербарий лучшим в классе.
— Попович заберет себе всю благосклонность господина учителя! — заявила Коляска.
V
После уроков Стефа сама подошла к Дарке.
— Ты должна как-нибудь прийти ко мне, — тепло сказала она и положила ей руку на плечо.
Даркины глаза наполнились слезами. «Зачем же было вообще приглашать?» — укоряют эти глаза Стефу. Все же Дарка не хочет, чтобы Стефа догадалась, как ей больно, и пытается улыбнуться.
Стефа, подхватив книги, сбегает по лестнице, но на предпоследней ступеньке останавливается, потому что Ореховская подает ей сверху какие-то знаки. И Дарка слышит собственными ушами, — поскольку стоит прямо за спиной Наталки, — как та говорит Стефе:
— Так помни — в шесть!
Значит, Ореховская знает эту тайну? Значит, Наталка ближе Стефе? Значит, в классе нет ни одной души, искренне расположенной к Дарке? После всего этого хочется просто убежать отсюда, от всех этих подруг, от Лидок, Орысек, даже от хорошеньких Стеф, в Веренчанку, к маме, папе и бабушке.
Дарка решает идти домой одна и выходит из класса последней. Под бременем мыслей она медленно спускается со ступеньки на ступеньку, но на пятой останавливается, глубоко вздыхает и устремляется вниз, перескакивая через две ступеньки: светлые волосы Данка (что он делает здесь в этот час?) только что промелькнули в направлении входной двери.
Сегодня такой зловещий день. Что же будет, если еще и Данко выскользнет в ворота, сделав вид, что не узнал, не заметил ее? Ведь он говорил, что ученикам запрещено разговаривать с ученицами! Но — о чудо! — Данко не убегает.
— О, Дарка! — говорит он, как всегда, и останавливается. — Сколько у вас уроков было?
У Дарки перехватило дыхание, и она не сразу может ответить на этот обычный вопрос.
— Можно проводить тебя немножко? — спрашивает Данко.
«Может быть, ему кажется, что он разговаривает не со мной?» Дарка никак не может поверить своему счастью.
— Ты опоздаешь, к обеду, если пойдешь со мной. — Дарка смотрит на его усталое лицо нежным, материнским взглядом.
— Глупости, — возражает он, махнув одновременно рукой и головой.
И Дарка соглашается: в самом деле глупости.
— Ты не сердишься на меня за то, что я не прихожу? — спрашивает он и начинает оправдываться: — Эти репетиции в музыкальном училище отнимают столько времени!
— Если ты действительно так занят, почему же я должна на тебя сердиться? — осторожно говорит Дарка.
Слух у Данка обострился.
— Город испортил тебя, Дарка, — смеется он, — ты уже мне не веришь.
Дарка не хочет говорить об этом. Еще немного — и она готова упрекнуть себя за то, что не он ее, а она его забывает. Что, к примеру, она теперь знает о нем? О его мыслях, о планах на ближайшее будущее?
— Мне писали из дому, что на пасху, верно, будет свадьба Уляныча с Софийкой. Погуляем, Данко? А ты… ты хотел бы быть учителем, как Уляныч?
На это Данко отвечает смехом.
— Что с тобой? Мне… мне… быть бельфером[16]? Придут же в голову такие смешные мысли! Знаешь, кем бы я хотел быть? Кругосветным путешественником — глобтретером! Обойти весь мир! Понимаешь, что это значит?
Дарка не знает этого нового слова, но перед ней разверзается бездна. Обойти весь мир? Вечный путешественник? А что будет с ней?
Но Данко сам опровергает сказанное:
— Это только мечта. Каждый мечтает о чем-то, но разве исполняется все, о чем мечтаем? Разве ты не знаешь этого, Дарка? Я буду скрипачом. Я так решил, и так будет. Ты еще когда-нибудь прочитаешь обо мне в газетах!
— Я должна знать о тебе и без газет, — она легонько намекает на их дружбу.
— Конечно! Мы навсегда останемся друзьями, даже если я уеду отсюда. Я всегда буду писать тебе…
«Только это… из всех моих мечтаний только это?» — захныкало Даркино сердце.
— И что же даст тебе (она не решается сказать «нам») положение известного скрипача?
Вот так вопрос! Данко чуть не рассердился. Она еще спрашивает, что ему даст известность! А то, что о нем будет говорить и писать весь мир? А деньги? А путешествия из столицы в столицу? А роскошные банкеты в его честь? А то, что перед ним будут заискивать вельможи? А музыкальные вечера в королевских дворцах? Она еще спрашивает, что ему это даст!
— О, будь! Будь знаменитым скрипачом! — Дарка сама уже толкает его на этот путь славы.
— Ты думаешь, так легко стать знаменитым? Что ты понимаешь в этих делах? — защищается Данко от ее советов. Возможно, для того, чтобы в дальнейшем не делиться с ней своими успехами. А может быть, гордый, он хочет пройти этот путь один. Надо знать Данка Данилюка! И Дарка больше не тревожит его своими вопросами. Она знает, что теперь надо молчать. Молчать и ждать, а потом все как-нибудь устроится. Так поступают все благородные и умные женщины.
— Дарка, с какого времени ты поешь в хоре? — Данко вдруг вспоминает их встречу на репетиции, свое удивление. — Почему тогда, на каникулах, ты говорила мне, что у тебя нет слуха?
— Потому что так оно и есть — я не могу выступать на сцене. — Ее ответ можно одновременно счесть и правдой и ложью.
— Я, кажется, в феврале, а может быть, и раньше буду выступать в музыкальном училище. Один номер играю в квартете, а второй — только в сопровождении рояля. В квартете участвуют одни мальчики. Аккомпанировать мне поручено ученице из «Личеул ортодокс». Румынке. Она уже теперь волнуется. Девочки всегда трусят.
Дарка вспоминает один грустный воскресный полдень.
— Фамилия ее… этой ученицы — Джорджеску?
Данко не любит, когда слишком интересуются его делами, но на этот раз он доволен, что Дарка знает.
— Так ты ее знаешь? Правильно, ее фамилия Джорджеску. Лучика Джорджеску.
Дарке хочется побольше расспросить об этой ученице, но у нее не хватает мужества. Счастье переполняет ее, и она боится спугнуть его откровенным вопросом.
— Возвращайся уже, Даночко, — говорит с видом влюбленной девушки, которую переживания сделали по меньшей мере на два года старше. Может быть, эта встреча, если она оборвется сейчас, покажется ему короткой и он захочет перенести все недосказанное на другой, условленный час. Но Данко не понимает ее. Он никогда ее не понимает. Что же будет дальше?
— Я пройду еще несколько шагов и вернусь. Я не хочу, чтобы ты из-за меня опоздала к обеду. Хорошо тебе на «станции», Дарка?
— Как обычно на «станции», — совсем увяла Дарка.
— По Веренчанке скучаешь?
— Возвращайся, Данко, я теперь пойду одна. Зачем тебе из-за меня опаздывать?
— Дарка!
Она хватает его за руку, хотя это совсем не к лицу девушке.
— Я только так говорю… я только так говорю, Данко. Я ведь хочу, чтобы мы были вместе, но так нельзя, ты же сам знаешь — так нельзя.
Данко высвобождает руку из Даркиных пальцев, но глаза у него полны нежности и губы дрожат от волнения.
— Моя маленькая девочка, — шепчет он нежно, — иди теперь домой и думай обо мне хорошо…
Они с минуту крепко держатся за руки и, наконец разъединив их, расходятся счастливые, еще со следами тепла на ладонях.
Дарка привычно взглянула на часы ратуши. Не поверила своим глазам — остановилась, посмотрела внимательнее. Провела ладонью по глазам, по лбу. Как это случилось — уже без четверти шесть? Они же так мало сказали друг другу, собственно, ничего не сказали, а полчаса куда-то ушло… Пока она добежит до дому, опоздает на сорок пять минут. Ну и пусть!
Дарка уже входит в ворота и все еще не знает, что отвечать, если спросят, где была. А может быть, и — с кем? Еще хуже. Это просто страшно. Дарка берется за дверную ручку и не может найти в памяти ни одного, даже самого маленького, с маковое зернышко, оправдания. Но, войдя в комнату, она прежде всего видит Лидкино лицо, готовое к «сенсации», и сразу решает не оправдываться вовсе.
— Здравствуйте!
Дарке очень хочется говорить обычным тоном, но это не получается.
Хозяйка вместо ответа на приветствие спрашивает мимоходом, словно о какой-то мелочи:
— Ого, где это вы так засиделись, панна Даруся?
Дарка не смотрит на хозяйку, но представляет себе, что та вся кипит от досады.
— Я видела, как она… — высунув язык, предлагает свои услуги Лидка.
Дарке вдруг приходит в голову, что эта обезьяна подглядывает за ней. Хозяйка машет на дочь руками:
— Лидка, успокойся, я тебя не спрашиваю.
(Словно дочка не рассказала уже ей всего!)
И снова обращается к Дарке:
— Где вы были, Даруся? Видите ли, папа, определяя вас ко мне на «станцию», просил, чтобы я опекала вас. Поэтому я хотела бы знать, где вы пропадали час после ухода из гимназии…
«Ну-ну, — мысленно поправляет ее Дарка, — только не преувеличивайте! Не час, а всего три четверти часа».
— Я была с одним человеком из нашего села, — дерзко цедит слова Дарка.
— Что значит с «одним человеком», Даруся? Я должна знать, с кем и где.
Лидка перелистывает книжку, но Дарка хорошо видит, с каким затаенным интересом она вслушивается в ее слова.
«Какая лицемерка!» — думает Дарка.
Этого достаточно, чтоб принять независимую позу и довести самоуверенность до наглости.
— Кому какое дело, с кем я была! Я напишу об этом мамочке… Мама знает его…
— Ого! Так это «он»? А я не знала… я не допускала, Даруся… Сомневаюсь, очень сомневаюсь, чтобы маму обрадовало такое письмо…
— Может быть, и обрадует, — злорадно улыбаясь, не сдается Дарка.
Бледное, словно вылепленное из теста, лицо хозяйки багровеет.
— Вы очень нехорошо ведете себя, Даруся! — говорит она и выходит из комнаты, хлопнув дверью.
Дарке сразу становится неприятно. Не надо было так взрываться! Что теперь будет? Просить прощения у хозяйки она не станет, даже если ее за провинность выгонят из дому. Такой уж у нее характер. Разве это ее вина? Скорее в этом повинна мама, родившая ее такой. Нет, прощения она просить не станет, но если хозяйка скажет ей хоть одно ласковое слово, то она будет вежлива и внимательна. Этого достаточно. С родной матерью у Дарки всегда начинается с разных извинений.
Но вот хозяйка возвращается из кухни с письмом в руке, кладет его перед Даркой:
— Почтальон еще утром принес…
Дарка берет письмо, но не может вскрыть, пальцы отскакивают от него, словно от кларнета: на конверте почерк отца. До сих пор всегда писала мама. Даже когда папа что-то приписывал в письме, адрес на конверте всегда писала мама. Господи, что случилось там, дома?.. Наконец она разорвала конверт, и письмо выпало из него. Оно было маленькое, как визитная карточка. Дарка зажмурила глаза. Ей даже кровь бросилась в лицо.
— Что случилось? Кто-то заболел дома? — устремилась к ней хозяйка.
— Дарка! Дарка! Что случилось? — воскликнула Лидка и бросилась к письму.
Пришлось рассказать, иначе они вырвали бы письмо у нее из рук и сами прочли бы его.
— Мне необходимо как можно скорее ехать домой…
— Но зачем? Зачем?
— У меня родилась маленькая сестричка…
— И папа пишет, чтобы вы сейчас приезжали? — удивляется хозяйка.
— Папа ясно этого не пишет, но я же должна увидеть, какая она, эта сестричка… Мы с мамой ждали мальчика…
Хозяйка, может быть из зависти к Даркиному счастью, заметила совсем некстати:
— Еще не на что смотреть! Вот приедете домой на рождество, она будет вам улыбаться.
— А я поеду сегодня. Может быть, кому-нибудь и «не на что смотреть», а мне интересно, как выглядит моя сестричка!
Это было уже слишком много для хозяйки, и она резко прикрикнула:
— Не говорите глупостей! И потом проезд стоит денег. Где вы их возьмете? У меня нечего одолжить вам.
Дарка уже знала, что не поедет, но продолжала стоять на своем. Такой уж у нее ослиный характер.
— Но я должна ехать!
Дарку уже никто не слушал. Госпожа Дутка пробормотала себе под нос по-немецки фразу, которая должна означать в переводе на наш язык (разумеется, не дословно): «Поп в колокол, а черт в колотушку» — и вышла из комнаты. Тогда Дарка демонстративно, так, чтобы видела Лидка, уселась писать письмо маме. Она хотела только напугать Лидку. Будто бы жалуется своим на нее и на ее мать. На самом же деле она совсем растаяла, узнав о рождении сестренки.
«Бесценная мамуся и дорогой, любимый папочка!
Очень бы мне хотелось повидать нашу маленькую девочку. Очень-очень. Но я знаю, что проезд стоит денег, и мы не может Так тратиться, поэтому даже не думаю сейчас о том, чтобы ехать домой.
Напишите мне сейчас же, на кого она похожа. Какие у нее глаза? Большая она или маленькая? Много ли плачет? Я хотела бы подарить ей что-нибудь, когда приеду на рождество, только не знаю что. Мне очень хорошо. Дважды в неделю на обед дают третье, а в воскресенье всегда что-нибудь сладкое. С Лидкой не ссорюсь, но и не дружу. Мама, вы с папой иногда ругали меня, но будь у вас такая дочь, как Лидка, мне было бы вас жаль. С Орыськой тоже не дружу. Она повела себя так, что никто в классе теперь не хочет с ней дружить. Она подлизывается к учителю румынского языка и на всех нас навлекает беду. Что будет дальше, не знаю, сейчас с ней никто не разговаривает. Прошу не говорить об этом Подгорским, чтобы не подумали, будто я нарочно наговариваю. Меня любят учителя (кроме Мигалаке), а больше всех господин Порхавка — биолог. Я хожу на спевки, меня сам учитель выбрал в хор. Он пока не позволил мне петь, разрешит только через полгода, но все думают, что я пою. Данко очень удивился, когда увидел меня среди хористок. Если бы мамочка видела, какие у него были удивленные глаза! А я так счастлива, так счастлива, что я не хуже других! Только, пожалуйста, не говорите маме Данка, что я будто бы пою.
Теперь, мамочка, я хотела бы сказать тебе кое-что на ушко, но в письме это невозможно, поэтому приходится написать. У нас в классе есть одна очень, очень красивая девочка (красивее Орыськи, даже красивее Ляли Данилюк). Зовут ее Стефа Сидор. Мамочка, я не знаю, что бы дала, только бы она стала моей лучшей подругой. Конечно, не такой, как была Орыська. А такой, мамочка, чтобы на всю жизнь, до самой смерти, такой, о которой я читала в книжке, подаренной дядей Мухой. Стефа относится ко мне лучше, чем ко всем остальным, но у нее есть какие-то тайны, какие-то встречи, о которых она не хочет или не может сказать, а мне это больно. Мамуся, как ты скажешь, так всегда бывает. В самом деле, еще ни разу не случилось, чтобы не исполнилось твое предсказание. Прошу тебя, напиши, будет ли Стефа моей лучшей подружкой. Собрала ли бабуся семена лиловых астр, как я просила? Передайте от меня привет нашей соседке Мартусе. Целую руки мамочке, бабушке и папе.
Дарка».
Лидка стоит у стола и с грустью смотрит на Даркину писанину. Всякий раз, когда Дарка поднимает глаза от бумаги, она встречается с Лидкиным грустным взглядом.
«Она боится, чтобы я не перешла на другую «станцию». Где ее мама в середине года возьмет новую квартирантку?» — злорадствует Дарка.
Она уже послюнила край конверта, прихлопнула его рукой, а Лидка все еще не знает, что в этом письме нет ни полсловечка жалобы. Осталось только опустить в почтовый ящик. Дарка, чтобы нагнать на Лидку побольше страха, уже протягивает руку к шкафу, за шапочкой.
— Лидка, — в конце концов не выдерживает она, — мне хорошо у вас на «станции». Я бы не хотела другой.
Вместо надлежащих поцелуев и теплого слова Лидка, не меняя позы, цедит сквозь зубы:
— Оставь меня в покое… Ты думаешь, мне, кроме тебя, не о чем думать?
Нет, с Даркой в самом деле нигде не считаются. Даже на платной квартире!
VI
Солнце, как и каждое утро после семи часов, высасывает последние живые краски из скатерти. Пахнет свежим (настоящим, а не каким-нибудь там эрзацем) кофе. Пани Дутка в ночной кофточке готовит им бутерброды с собой и просит не бросать бумагу, в которую она их завернет. Бумага пергаментная, покупная, и ее надо беречь.
Дарка плюет в коробочку, чтобы остатками пасты почистить туфли. Впервые с тех пор, как она ходит в гимназию (в среду они учатся в первую смену), ей хочется опоздать и прийти в класс, когда все уже сидят за партами, когда уже запрещено громко здороваться и поворачиваться к своим соседкам.
Дарка боится встречи с Орыськой.
Боится ее ласковых наивных глаз. Боится тех перемен, которые произошли в ней самой по отношению к подруге. Дарка не суеверна. О нет! Разве не выиграла она три года тому назад двадцать пять леев на пари у своего дяди, когда вечером принесла ему цветы с кладбища? Но теперь она верит, что слюна маленькой Кентнер обладает силой заклятья. Орыська умерла, перестала существовать с той минуты, как Кентнер плюнула на нее. Никогда Дарка не сможет доверить свои сердечные тайны человеку, на которого плюнули. Никогда не сможет она гордиться своей подругой, никогда не сможет сказать об Орыське: вот, мол, эта красивая девушка с вьющимися волосами — моя лучшая подруга. Ведь на нее плюнули!
Папа рассказывал (даже странно, почему на «станции» так часто вспоминаются рассказы папы или мамы?), что один его товарищ застрелился от стыда, когда брат при девушке ударил его по лицу. Дарка подозревает, что это была именно та девушка, которую любил несчастный.
— Это был гордый парень, — похвалил папа его безумный поступок.
Тем, кто живет на «станции», Трудно опоздать в гимназию. Хозяйка, или, как называет ее Дарка, пани Дутка, будет надоедливо ворчать, мол, время уходит! — и так упорно наступать на пятки, что просто ради душевного спокойствия вылетишь из дому, как камень из пращи.
Дарка, как ей того ни хотелось, не опоздала в гимназию. Издали она увидела Стефу Сидор, прислонившуюся к дверному косяку.
— Мне нужно кое-что сказать тебе, Попович. — И она отделила Дарку от Лидки.
Дарке показалось, что кто-то положил ей на плечо очень тяжелую руку. Это официальное «Попович» и серьезное выражение лица не предвещали ничего хорошего.
Сидор увела Дарку в самый конец коридора.
— Знаешь ли ты, что мы («Кто это мы?» — думает Дарка) решили бойкотировать Подгорскую? Это твоя самая близкая подруга. Я не знаю, но я бы советовала тебе пойти вместе с классом… иначе это может плохо для тебя кончиться…
Дарка, заглядевшись на Стефу, думает о чем-то совсем другом. «Ты… ты… будь моей самой близкой подругой. Ты… я больше никого не хочу…»
Но Стефа настроена отнюдь не сентиментально, она ждет делового ответа. И пока Дарка думает, что ответить, она слышит Стефины слова, произнесенные злым шепотом:
— Собака эта твоя Орыська, вот что я тебе скажу! Собака. Ее бьют по морде, а она лижет руку, которая ее бьет… Какой позор! Украинка! Плевать я хотела на таких украинцев! Громко заявляет, что ей нравятся стихи Тудоряну, который называет нас «стадом покорных»… который недавно выступил в «Вияця Румынией» с «научным открытием» о том, что на Буковине вообще нет украинцев, а есть только «русифицированные румыны», и советовал… даже наши фамилии коверкать по-румынски… Мало того, что нас заставляют изучать такого «поэта», а тут еще… находится паршивая овца, которая смеет восторгаться его стихами… Разве ты не понимаешь, это равносильно тому, будто всем нам… да и не только нам, а всем украинцам на Буковине наплевали в лицо? Ты в самом деле не понимаешь этого? Это же, — Стефа берет себя рукой за шею, — это просто измена народу…
Даже жутко от этого страшного слова. Если есть слова, способные убивать, то «измена народу» принадлежит к их числу.
Но Орыська… Правда, поступок ее нетоварищеский, можно сказать, подлый, потому что она своим дурацким заявлением навлекла беду на весь класс. Ясно, что теперь Мигалаке будет требовать от всех учениц таких же знаний, как у Орыськи, и поэтому Дарка согласна: Подгорскую надо наказать. Но — называть ее изменницей?..
Да ведь эта дура Орыська — Дарке это отлично известно — не имеет ни малейшего понятия о Тудоряну. В политике она разбирается как свинья в апельсинах. Ей-богу! И хотя у Дарки накипело против Орыськи, чувство справедливости заставляет ее внести ясность, сказать правду.
— Почему ты говоришь — моя Подгорская? Она такая же моя, как и твоя… Я ее не защищаю… Но только, по правде говоря… Она совсем не знала, кто такой Тудоряну. Это я тебе говорю, и ты должна мне верить…
Последняя фраза звучит мягко, как робкая просьба. Но теперь ухо Стефы не улавливает таких тонкостей.
— Не знала!.. А ты знала, кто такой Тудоряну?
— Не знала… Вернее, припомнила позже… Нет, знала!
— А откуда ты знала? Почему ты знала, а Подгорская не знала? Ведь вы из одного села, вместе учились… Я спрашиваю: откуда ты знала?
Дарка совсем сбита с толку. Ее красивая подруга, которую она мысленно столько раз сравнивала за ее нежность с осенней астрой, превратилась теперь в сурового судью, обладающего правом карать или прощать.
Дарка с минуту колеблется: сказать правду или нет? Суровое лицо Стефы, ее конспиративный шепот подсказывают Дарке, что такие дела могут стать опасными, когда о них громко говорят.
— У нас дома говорили об этом…
Стефино лицо проясняется.
— А-а-а! У вас дома говорили, а у Подгорских не говорили? Но если даже и так, то разве честно, разве порядочно ради своей прихоти навлечь беду на весь класс? Одна против всего класса? Разве так поступают порядочные люди? Ты… ты сама поверила бы такому человеку?
Нет, Дарка не доверится такому человеку. Это она сказала себе еще вчера.
— Стефа, я так же, как все…
Стефа с минуту смотрит ей в глаза.
— Мне бы хотелось как-нибудь посерьезнее поговорить с тобой кое о каких делах… Теперь иди в класс и, смотри, не измени!
Не успевает Дарка спросить, когда и о чем хочет говорить с ней Стефа, как та вталкивает ее в класс. Войдя, Дарка мгновенно соображает, что жизнь класса течет беспечной речкой, минуя Орыську, как остров. У всех словно бельма появились на глазах, никто не замечает, что на боковой скамье сидит еще вчера их милая (красивых всегда любят!) подруга Орыся Подгорская. Даже поповны, накануне сочувственно поглядывавшие на нее, сегодня не смеют ее окликнуть, боясь всеобщего бойкота.
Орыська сидит на своем месте, прямая, как фарфоровая кукла. Дарка садится между нею и Ореховской. Она хочет только одного — чтобы поскорее прозвонил звонок. Но увы! Звонок только тогда умеет спешить, когда на перемене надо успеть решить математическую задачу.
Дарка не смотрит ни вправо, ни влево. Она, как парализованная, глядит прямо перед собой и видит, как золотистое (боже, как напомнило оно ей поповский сад и Веренчанку!) яблочко путешествует от Орыськи и останавливается перед нею.
— На, — шепчет Орыська.
Дарка некоторое время любуется яблочком, припоминает его вкус, место в саду, где живут мама и сестры этого яблочка, и отодвигает его на полметра вдоль парты, к самому носику Орыськи.
— Ты сердишься, Дарка? — Орыська тревожно дергает ее за локоть и заглядывает в глаза. — Дарка! — Голос Орыськи прыгает по таким крутым, неровным высотам, что, кажется, вот-вот разобьется на маленькие слезинки.
— Оставь меня в покое! — рванулась Дарка, и в ту же минуту кто-то крикнул:
— Попович, не разговаривай! С кем ты говоришь?
Орыська как будто только теперь поняла свое положение. Она вскочила на ноги, вспыхнула багрянцем, словно внутри у нее произошло извержение вулкана, подняла руку и, как стояла у парты, так и рухнула на нее. Потом уже, ни на кого не глядя, сжав виски ладонями, заговорила каким-то страдальческим голосом:
— Плюйте… плюйте все на меня!.. Можешь и ты, Дарка, плевать… Плюйте, я все стерплю!..
У Косован такие глаза, словно она смотрит на сумасшедшую. Нет, Орыська не сумасшедшая, Дарка отлично это знает. Но как объяснить это всем?
Дядюшка Муха как-то сказал, что все музыкальные люди очень близки к божеству, ибо ничто так не напоминает молитву, как музыка. Орыська играет на рояли с детства. Но эти странности начали происходить с ней только в Черновицах.
Это тоже известно одной Дарке.
Может быть, когда-нибудь она и расскажет маме, как они с Орыськой забрели в униатскую церковь и попали на проповедь священника-целебса[17].
Вначале было смешно, хотя и неприлично, смеяться над такими вещами, но все же было смешно, что сотни взрослых людей слушают проповедь, стоя на коленях. Орыська, смеясь, толкала Дарку. локтем, чтобы та посмотрела, как одна женщина со смешно растрепанными волосами билась о каменную плиту, словно пыль выбивала. Но вскоре обе подруги оказались на коленях. Дарка решила, что невежливо стоять, когда все опустились на колени, и, конечно, была уверена, что так же думает Орыська. А когда глянула на ее лицо, чтобы снова посмеяться, то, к превеликому удивлению, заметила, что по щекам Орыськи ручейками текут слезы.
Когда они вышли на улицу, Орыська сказала, что знает способ, как вызвать слезы, когда захочет.
— А зачем тебе это? — раздраженно спросила Дарка: она не могла простить подруге, что та оставила ее в дураках.
— Да ведь хорошо, когда кто-то так искренне молится. Каждый, кто взглянет, подумает про себя: какая сердечная молитва! Я не смотрела на людей, но чувствовала, что на меня заглядываются…
«Комедиантка!.. Даже в церкви разыгрывает комедию!» — думала Дарка, отворачиваясь в сторону, чтобы не глядеть на Орыську. Действительно, очень трудно было сочетать Орыськину красоту с внутренней пустотой.
— Значит, ты не молилась?
— Как не молилась? Молилась. Как ты смеешь так думать обо мне!
— А о чем ты молилась?
Орыська испуганно замигала веками.
— Этого я не могу сказать…
Дарка догадалась: Орыська, наверное, просила святого, чтобы тот вдохновил Мигалаке на благосклонность к ней.
Откуда можно узнать чьи-то мысли, когда уста молчат?
Орыська поднимает голову и оглядывает класс: никто не собирается плевать на нее?
В классе постепенно становится шумно. В самом деле, откуда эта неловкость, эта каменная тишина? Кому показалось, что Подгорская сошла с ума? Да она просто разыгрывает комедию или хочет слезами добиться сочувствия и прощения! Но ведь это не такая важная причина, чтобы обращать на нее внимание.
Дарка стоит на границе между шумом, охватывающим постепенно весь класс, и замершей Орыськой.
Дарке кажется, что она сидит на красной карусельной лошадке, а та кружится все быстрее и быстрее… до потери сознания.
Зато на «станции» (теперь Дарка уже говорит «дома») ее ждала большая радость: возле тарелки, под куском хлеба, лежало письмо от мамы.
— Даруся! Суп остынет.
Дарка дотронулась пальцами до письма, и они задрожали. Глаза пробежали по строчкам и наполнились слезами.
«Мама… мама… мамочка моя!» — мысленно, успокаивала себя Дарка этим самым теплым из всех слов. Мама своим красивым, спокойным почерком писала обо всем, что делалось дома. Так точно и справедливо, как умела только она одна. Все, что писала мама, было правдой. Ни на йоту преувеличения или недоговоренности. Поэтому каждое мамино слово попадало прямо в сердце. Мама рада, что ее дочка привыкла к новой, городской жизни. Так нужно для Даркиной же пользы. Мамино дитя не должно чувствовать себя одиноким. О нет! Мама всегда мысленно рядом с ней. По вечерам, когда все в доме спят, мама просит Даркиного ангела-хранителя заботиться о ней.
Славочка (это ничего, что вместо мальчика родилась девочка) очень красивая. У нее Даркины светлые глаза и папины черные волосы. О, этот маленький птенчик — большая барыня! Только представьте — ей нужна отдельная комната! Пришлось освободить маленькую бабушкину комнату. Когда-нибудь, когда Славочка подрастет, мама будет одинаково одевать обеих своих девочек, чтобы все люди знали, что они сестрички. Мама от всего сердца хочет только одного — чтобы ее дочки, ее дети всегда жили в согласии и любили друг друга.
Пани Дутку надо слушаться и не привередничать в еде. В жизни следует привыкать к лишениям.
Конечно, бабушка собрала семена лиловых астр… Огорчает маму то, что дочка мало пишет об Орыське. Кто это новая подружка, эта Стефа? Что мама может посоветовать, если она в глаза ее не видела? Одно только мама знает наверняка: нехорошо слишком часто менять подруг. В прошлое воскресенье была свадьба у Марииной Докии. Привет Мартусе мама передала. Нет-нет, если дочка хочет, мама не скажет, что она «поет» в хоре. Встречается ли Дарка с Данком? В школе, верно, учителя не любят, когда ученики ходят с ученицами, даже если они хорошо знакомы, даже когда из одного села, как Дарка и Данко. Пусть и Дарка не делает этого. Успеют наговориться, когда приедут на праздники домой. Хорошо? Штопает ли Дарка чулки? Не износился ли еще черный передничек?
Потом много-много крепких поцелуев. Маминых поцелуев.
— Даруся, суп…
Дарка машинально набрала ложку, но проглотила с трудом, хотя суп был совсем неплохой.
— Я не могу есть… Спасибо.
Хозяйка заволновалась:
— О, опять новости? Почему вы не можете есть? Где вы обедали? Прошу только…
Она, вероятно, хотела сказать «без комедий», но, внимательно посмотрев на Дарку, не закончила.
— Почему вы плачете? Лидка, что случилось?
Дарка стыдливо прикрыла ладонями глаза.
— Оставьте меня… Мамочка написала мне. Я не могу сейчас есть… Я попозже… — Она смеялась и плакала, даже не стараясь успокоиться. Прижалась головой к столу и вздрагивала от внутреннего счастливого плача.
Хозяйка с Лидкой на цыпочках вышли из комнаты.
VII
Кто-то щелкнул бичом, и дни, как резвые лошадки, побежали вперед, оставляя за собой только клубы пыли. Не одно событие покрылось этой седой пылью забвения.
Орыська продолжала плыть по классному озеру одинокой лодочкой. Правда, уже никто не возмущался, никто не заламывал рук, даже не удивлялся, когда та или иная ученица (хотя происходило это очень редко) одалживала у Подгорской ножичек или спрашивала ее, до какого абзаца Мигулев задал выучить историю.
Орыська оказывала эти услуги покорно, ничего не требуя взамен, и тем более не искала тропочек, которыми могла бы приблизиться к классу. Могло показаться, что класс вовсе не интересует ее. Мигалаке, как всегда, приходил на урок надушенный и элегантный, как фордансер[18].
Уроки свои он вел очень вольно. Острил (ученицы действительно теперь лучше знали румынский язык) и спрашивал обыкновенно только тех, кто сам хотел отвечать. Бывали уроки, когда слышался только покорный голосок Орыськи.
Мигалаке, который вначале не замечал этих жертвенных доказательств обожания, теперь с видимым удовольствием принимал Орыськино волнение и льстивые услужливые ответы.
Стефа Сидор на все нежные взгляды Дарки отвечала улыбками. Их дружба дошла уже до того, что Стефа дважды или трижды приглашала Дарку к себе домой. У советника в доме все сияло. И все-таки счастье, которое приносила Стефа, никогда не бывало полным. Дарке всегда было немного больно.
— Я приду к тебе завтра, — как-то сказала Дарка.
Стефа обрадовалась. Она прижала к себе Даркину руку, но вдруг задумалась и словно увяла.
— Завтра вечером я занята… Давай послезавтра, ладно?
Опять! Эти недосказанные слова, эти тайны искали выхода на дневной свет, как подземные источники. Кем и чем может быть занят вечер у Стефы? Почему это надо скрывать?
Дарка, возможно, обрадовалась бы, поймав Стефу на лжи, на замаскированной неискренности.
Раз как-то Стефа позвала ее побродить по парку. Она хотела набрать осенних листьев, чтоб их рисовать. Была уже половина октября. В парке пахло сыростью. От желтых листьев на деревьях и тех, что усыпали землю, было как-то неестественно светло. Солнце, словно в зеркале, отражалось на этой желтой поверхности и пронизывало воздух яркожелтыми лучами. Сочная летняя зелень с густой тенью казалась теперь сном. Между оголенными деревьями звук летал долго и без задержки. Звонки трамваев доносились в самую чащу парка и тоже вливались в осеннюю мелодию.
Девушки молча шли рядом. На главной аллее, как раз напротив Семигорской улицы, дорогу им пересек Данко со скрипкой под мышкой. Он едва взглянул на Дарку и прошел было мимо, но тут же обернулся, непринужденно поздоровался и ласково улыбнулся ей, хотя она была не одна.
— Ты его знаешь? — удивилась Стефа.
— А что? — неизвестно почему встревожилась Дарка.
Стефа загадочно покачала головой.
— Ничего… Красивый юноша и хорошо играет на скрипке. Я только раз слышала, как он играет, но… — Она не докончила, но можно было догадаться, что за этим следовало: «Никогда не забуду его игры».
Дарка больше не спрашивала. Взволнованный голос мог выдать ее. Стефа закончила сама:
— Но бегает за этой румынкой, и… жаль, если он пропадет для нас.
Известие поразило Дарку, как поражает человека гром или внезапный паралич: у нее перехватило дыхание, она не могла шевельнуть пальцем. Еще несколько шагов Дарка едва волочила ноги. Затем остановилась, сделав вид, что поправляет воротник плаща. На самом деле она просто хотела оправиться от удара.
— За румынкой? Они только учатся вместе, и больше ничего, — пытается Дарка оправдать Данка перед Стефой и собственным сердцем.
Но Стефа неумолима:
— Зачем защищать его, если ты не в курсе дела? Что же они, ежедневно учатся? А теперь знаешь, куда он полетел? На Гартенгассе, на виллу Джорджеску! Какая досада… Все, что у нас есть лучшего, талантливого, обязательно стараются перетащить в чужой лагерь…
Это замечание только усилило Даркину боль.
— Откуда он? — хочет знать Стефа.
Она не понимает, что Дарке теперь трудно разговаривать, что произнести хоть одно слово, ей так же трудно, как человеку, у которого прострелены легкие.
— Из Веренчанки…
— Родители — украинцы?
— Только отец… Мать — немка из Вены…
— А твои родители?
— Мои? — с изумлением спрашивает Дарка. — А кем могут быть мои родители?
Стефе захотелось поговорить о том, что ни капельки не соответствовало Даркиному настроению.
— Видишь ли, можно называться украинцем и не быть им… Вот, например, Подгорская… Сознательная украинка никогда бы так не поступила.
— Но ведь мой папа!… Зачем ты мне это говоришь? Мой папа сознательный.
— А откуда ты знаешь, что он сознательный? — засмеялась Стефа.
Дарку уколол этот насмешливый вопрос. Личное горе, свалившееся на нее, не дало ей возможности проанализировать смысл слов «сознательный» и «несознательный». Знала так же, как и то, что в электричестве плюс и минус притягиваются, знала без объяснений и анализа, что быть политически несознательным позорно. Дарка запомнила, хотя только много лет спустя поняла смысл сцены, происходившей чуть ли не в девятнадцатом году, в самом начале оккупации Буковины королевской армией, когда директор Хорватский, друг и товарищ отца, сидел у них в комнате и в отчаянии спрашивал:
— Ну, скажи мне, Микола, почему они меня не арестовали? Скажи! Да как же мне теперь показаться в Черновицах! Нет, ты мне скажи: почему всех честных людей арестовали, а меня оставили? Я тебя прошу, друг мой, если ты случайно услышишь разговор на эту тему, ради бога, разъясни людям, что я ни в чем не виноват!… Тяжело, друг мой, на старости лет из честного человека стать помелом… И должны же они были как раз меня не арестовать!
Сцена эта промелькнула в голове у Дарки, и она дерзко ответила:
— Но мой отец был арестован, когда пришли румыны. Если не веришь, спроси кого хочешь!
— Твоего отца арестовала румынская полиция, а ты так легко согласилась на то, что Мигулев сменил украинский язык на румынский? Неужели ты не понимаешь, что это значит? Неужели ты, — речь Стефы стала тяжелой и очень медленной, — еще до сих пор не понимаешь, что они всякими ухищрениями постепенно хотят вообще уничтожить нас как нацию? Неужели ты не видишь, что такие, как Мигулев, на службе у них?
«А домнул Локуица, — стучит у Дарки в мозгу, — домнул Локуица наверняка не желает нам, украинцам, ничего плохого, а он ведь тоже румын. Румын из румынов…»
— А ты не позволила? — решилась Дарка возразить подруге, которую до сегодняшнего разговора считала «воплощенной нежностью, ходячей поэзией».
— Нет, я была против. Ты забыла? — живо ответила Стефа, но тут же, словно что-то вспомнив, заговорила с Даркой прежним ласковым тоном: — А тебе никогда не приходило в голову, что мы должны знать своих поэтов… знать историю нашего народа, знать, кто мы и откуда появились на свет? Ты никогда не думала об этом?
Дарка молчит. Такие намеки можно понимать по-разному. Подруги должны разговаривать откровеннее. Так по крайней мере считает Дарка. Это, должно быть, чувствует и Стефа.
— А ты хотела бы достать такие книжки… ты знаешь, запрещенные, о которых я тебе как-то упоминала?
— Да, — твердо отвечает Дарка, и это «да» равносильно пожатию честной руки.
— Я так и знала, что ты согласишься. Теперь все хорошо. Я познакомлю тебя с людьми, которые будут доставать тебе такие книжки… Только никому об этом ни слова! Ни слова, Дарка!
— Ты должна мне верить, — уже немного обиженно замечает Дарка, словно своим тоном желая напомнить подружке, с кем та имеет дело. — Я никому не скажу… А теперь я пойду… — Она должна была проститься со Стефой, потому что опять вспомнила о Данке и ей захотелось, очень захотелось побыть одной!
В конце октября бывает такая погода, когда кажется, что дни сбросили с себя осенние пальто и прохаживаются в рубашках с расстегнутым воротом. Тогда трава вторично выпускает побеги и сердце человеческое тешит себя неразумными надеждами. О солнце в эти дни и говорить нечего. Оно светит ласково и благотворно, а если прикрыть, веки, можно ощутить на лице бег микроскопических ножек-лучей.
В такой день Данко пришел к Дарке. Так неожиданно приходит хороший сон к человеку, а потом исчезает, оставив тоску по себе. Дарка пригласила Данка на балкон. Она не хотела отдавать чужому дому, чужим людям ни одной его частицы, ни улыбки, ни голоса, ни даже эха его голоса — ведь для этих людей юноша был первый встречный.
— Я думала, ты уже совсем забыл меня!
Это звучало как упрек или вызов. Данко поискал ее глаза и, найдя, уставился прямехонько в них.
— Почему ты так думала? У нас теперь новый учитель по математике, который очень требователен… И потом репетиции в музыкальном училище. Посмотри на мои пальцы! Они совсем одеревенели от струн!
Дарка прикасается к действительно огрубевшим на кончиках пальцам его родных рук, а в это время у нее выстукивает в памяти:
«Дочка префекта… дочка префекта».
— Ты продолжаешь играть с этой Джорджеску? — внешне спокойно спрашивает она, помня каждую интонацию в Стефином рассказе о дочке префекта.
Но Данко отвечает так спокойно, что нельзя не верить ему:
— Конечно! Я же говорил тебе, что мы будем выступать в начале февраля…
Дарка еще подросток, ей пока неведома женская осторожность, и она спрашивает, как говорится, в лоб:
— И ты бываешь у нее дома? Она очень красивая?
Данко смеется каким-то мелким и как будто не очень искренним смехом.
— О, она форте фрумоси[19]… Но главное — как она играет! Ты должна как-нибудь послушать ее… Фуга у нее выходит… — Но, верно вспомнив, что Дарка не разбирается в музыкальной терминологии, он снова возвращается к тому, с чего начал: — Ты обязательно должна послушать ее. Она так смешно говорит по-немецки…
— И потому ты ее любишь? — Дарка хочет рассмеяться, но смех отскакивает от серьезного лица Данка и стыдливо прячется в уголках ее глаз.
— Я только люблю слушать, как она играет. Не бойся, ее будет кому полюбить!
Стефа говорила правду о Данке и Лучике. Он даже не возражает. И от этой его прямолинейной откровенности ей еще больнее. Она уже боится спросить: верно ли, что он, как говорила Стефа, бывает у Джорджеску каждый день? Ведь если Данко скажет «да», это будет сама правда.
Дарка решается на дерзость и прикасается еще к одной струне в душе Данка, которая должна отозваться желанным голосом:
— За мной начал бегать этот Рахмиструк из седьмого… Знаешь его? — Ей стыдно говорить о таких вещах, но она уверена, что в эту минуту так надо.
Струна, которую она рванула с такой силой, не зазвенела.
— Как не знать? Такой русый, в крестьянском платье. Правда? — отвечает совсем не ревнивый Данко. Он далек от мысли, что Дарка, именно Дарка, такая, как она есть, может понравиться еще кому-то. — Что делает Орыська? Как ты чувствуешь себя в гимназии? Сошлась с подругами?
Данко засыпает ее вопросами, и Дарка начинает волноваться, не скучно ли ему с ней. Но раз он спрашивает, надо отвечать.
— Орыська? Орыська так повела себя, что весь класс не хочет с ней водиться. Она страшная подлиза. И знаешь, к кому подлизывается? К Мигалаке! Мне даже стыдно, что она из Веренчанки.
— Неужели Орыська так провинилась?
Данко чересчур интересуется Орыськиной судьбой. Именно поэтому Дарка заговаривает о другом:
— У меня есть теперь подруга — Стефа Сидор. Знаешь ее?
Данко прищуривает глаз так, как это любит делать дядя Муха, когда он «под мухой».
— А, знаю! Ты можешь даже передать ей поклон от меня.
— Вы знакомы? — живо спрашивает Дарка, и ей вспоминается встреча в парке.
— Почти знакомы… Было время, когда панна Стефа не имела ничего против знакомства со мной, а я, такой недотепа, проморгал.
Данко смотрит в серьезное, взволнованное лицо Дарки тоже серьезным взглядом и вдруг смеется примирительным, счастливым смехом.
— Эх, ты… ты… ребенок!
Дарка отворачивается от него. Данко не на шутку встревожен:
— Что с тобой? Дарка, ну что случилось?
— Ничего… Право, ничего… Я такая глупая!
— Ты должна сказать мне правду, — говорит он голосом, который делает его на десять лет старше.
Дарка вынужденно улыбается.
— Что я тебе скажу? И зачем говорить? Чтобы ты смеялся надо мной?
— Дарка!
Он уже угрожает, и только теперь она признается:
— Видишь, ты опять добр ко мне, а я думала… — глупые слезы опять застилают глаза, и Дарка не может закончить мысль, — я думала, что ты уже совсем с той… дочкой префекта, и уже перестанешь дружить со мной и… Орыськой.
Дарке уже не стыдно своих слез. Пусть Данко видит и знает. Если бы только она могла вырезать сердце из груди и дать ему подержать в руке, чтоб Данко почувствовал, что бьется оно ради него.
Данко вынимает из нагрудного кармана аккуратно выглаженный шелковый платок и мягко вылавливает им Даркины слезы. Оба при этом от души смеются. Дарка глядит на него чисто промытыми, жалобными глазами и хочет, чтобы он сам догадался о том, чего она не может ему сказать:
«Оставь в покое ту румынку… Ты, верно, сам не догадываешься, почему должен провожать ее каждый день. Я боюсь… я почему-то боюсь, что эта дочка префекта станет Твоим и моим несчастьем…»
Данко тотчас по глазам Дарки догадывается о ее переживаниях.
_ Нельзя девушке грустить, когда на это нет причин…
Погляди на меня, Дарка. Так! А теперь улыбнись!
«Тихо, глупенькое, — приказывает своему сердцу Дарка, — тихо! Он не будет дружить с той хотя бы для того, чтобы не причинять мне неприятностей. Разве ты не видишь, глупенькое, как он охраняет мой покой?»
— Что ты будешь делать в воскресенье? — спрашивает вдруг Данко.
Дарка боится предложить готовый план. А что, если он хочет условиться с ней на воскресенье?
— Дело в том, что я собираюсь с товарищами на прогулку в Цецин. Поедем туда на велосипедах!
— А эти твои товарищи — кто они? — Дарке интересно как можно больше узнать о нем.
— Мои товарищи? О, это хорошие ребята!
И Дарка снова должна согласиться, что существует много дел, много людей, принадлежащих только миру Данка, его «собственному» миру, и все это отделяет ее от него, как река без моста.
…Закат по золотой лесенке спускается на городские крыши. Осенний холодок уже подбирается к балкону. Дарка в одном платье, надо встать и накинуть на плечи пальто, но она боится, что как только встанет, поднимется и Данко. Впрочем, он поднимется и так.
— Я пойду.
Сердце у Дарки обрывается, но она не решается задерживать Данка.
— До свидания!
— До свидания!
И она не провожает его даже в коридор. Ей не хочется сразу после разлуки с Данком встретиться с хозяйкой или, еще хуже, с Лидкой.
Дарка облокачивается на перила балкона и видит, как Данко поправляет воротник, поворачивается и уходит вниз по Русской. У церкви он сворачивает направо.
«Нет, это дорога не к Джорджеску», — с облегчением вздыхает Дарка.
И вдруг ее заливает волна горячей жалости и раскаяния. Как могла она отпустить Данка без единого сердечного слова? Почему не окликнула его еще с балкона? А потом еще… удивляться, что Данко ищет общества этой Лучики. Этой по-цыгански музыкальной румынки! А Стефа? Нет, еще ближе, еще роднее стала она Дарке. Ведь ей тоже понравился Данко, а разве это не говорит о родстве их душ?
VIII
Первое ноября с голыми ветвями, на которых повисла ледяными слезами роса, возникло так неожиданно, что не появись в тот день папа, Дарка не поверила бы, что уже первое.
Папа, как большинство интеллигентов, живущих в деревне, урвав полдня от хозяйства, дома, школы, хотел за эти полдня привезти с собой в село полгорода. Да! За немногие часы между ранним утренним поездом и уходящим в полдень надо было успеть несколько раз пробежать вниз и вверх по лестницам школьной инспекции, наведаться во все прогрессивные украинские редакции (разузнать там новости, которые до рядового гражданина не допускала цензура), заглянуть в единственный украинский книжный магазин, выпить чаю в знакомом ресторане в надежде встретить там кого-либо из старых приятелей, выполнить все мамины поручения (длинный-предлинный список), а после всего, как это ни странно, — Дарка. Это, верно, затем, чтобы никуда уже больше не уходить от нее. Но что из этого? Все равно Дарка последняя в списке важных дел, и для нее остается меньше всего времени.
Папа на фоне чужой среды и других условий совсем иной, чем в Веренчанке. Он робеет. Или так только кажется? Дарка заметила, что здесь, в городе, где много нарядных господ, меховой воротник папиного пальто как-то очень уж светится вытертым сгибом. И шляп с такими широкими полями не носит никто из хорошо одетых господ. Раньше, такое открытие рассмешило бы Дарку. Но сегодня ей больно от отцовской бедности. Впрочем, она ничуть не стыдится отца. Наоборот! Если бы ему от этого стало легче, если бы это могло иметь для него какое-либо моральное значение, она готова взять его под руку, пройти с ним вечером по самой аристократической улице, когда там больше всего шикарных мужчин и женщин, и говорить каждому из них:
«Смотрите… этот немодный господин — мой папочка…
Я горжусь им. Хотите, я при всех поцелую ему руку?»
— Крепко, крепко поцелуй за меня мамочку, бабушку и Славочку, — передает свои приветы Дарка. Прощаясь на улице, она не может прижаться к папе, а только гладит рукой вытертый меховой воротник, как будто это его сердце.
Впервые ее кольнула легкая неприязнь к Славочке, задержавшей маму в Веренчанке. У мамы тоже нет новой шубы, но у нее молодое, свежее лицо, и поэтому она никогда не может иметь такой несчастный вид. После встречи с мамой всегда как-то веселее жить.
Счастье, что на следующий день (первое пришлось на четверг) была репетиция смешанного хора. Пятница — тот день недели, к которому стремились остальные шесть ночей и дней, исполненные надежд и возможностей. День, который волновал до потери рассудка и обещал так много, что почти всегда обманывал, поскольку почти каждую пятницу товарищи уводили Данка с собой, а Дарке приходилось довольствоваться обществом Лидки, всю дорогу моловшей чепуху.
И все же это был самый долгожданный день недели. Так хорошо стоять с ушами алыми, как два огонька, и сознавать, что где-то за десятками плеч и голов стоит кто-то бесконечно дорогой, смотрит на то же, что и ты, слушает те же голоса, дышит тем же воздухом. Это чувство рождало благодарность к миру и людям, к учителю Иванкову, который хочет сделать ее человеком и поэтому разрешил приходить сюда и приравнял к тем, кого судьба одарила слухом.
Сегодня учитель Иванков какой-то не такой, как каждую пятницу. Он не торопится раздавать голоса, а поднимается на возвышение недалеко от фисгармонии и ждет. Он мог бы уже начать говорить, в классе совсем тихо. Впрочем, тишина вызвана больше удивлением странным поведением учителя, чем уважением к его особе.
Что такое урок пения в гимназии, чтобы за него уважать учителя? К тому же Иванков среди буковинцев пользовался дурной славой: он в числе первых вышел встречать оккупантов с музыкой. Правда, теперь об этом громко не говорили, даже вовсе перестали вспоминать, боясь нажить неприятностей со стороны сигуранцы, но этот факт остался в памяти общественности.
Иванков опирается правой рукой на стол и говорит (его слова будят необычное эхо):
— Когда я еще учился, — и было это, помню, в седьмом классе, — довелось мне участвовать в школьном концерте, на котором присутствовал сам президент. При австрийской власти, надо вам знать, Буковиной управлял президент, так же, как Галицией наместник. Я тогда очень волновался, но, окончив партию, сразу почувствовал, что произвел впечатление. Учитель первый подошел и пожал мне руку. Кто-то из товарищей передал, что со мной желает говорить сам президент. Должно быть, ему понравилось мое пение, и он собирался поблагодарить. Мне очень хотелось каким-нибудь образом сказать президенту, что это пел украинец. Тогда еще в Черновицах не было украинской гимназии. И я решил, даже если меня не будут спрашивать об этом, рассказать президенту, кто я. Я был так увлечен этим казавшимся мне дерзким решением, что, когда президент спросил: «Ви хайсен зи?»[20], я единым духом выпалил: «Рутене»[21]. Исправлять ошибку не было времени. Когда сегодня в полдень я узнал от директора, что к нам в город собирается приехать министр просвещения и наш хор должен вместе с другими приветствовать его пением и показать, на что он способен, мне вспомнился инцидент моей молодости. Скажу вам и о том, что для вас так же, как и для меня, должно стать источником гордости: наша гимназия — единственная из всех гимназий национальных меньшинств, которой разрешено на этом празднике исполнить свои народные песни. Я хочу, чтобы наши песни не только понравились господину министру, но и очаровали его своей красотой, чтобы они всегда звенели у него в ушах, чтобы там, в столице великой Румынии, он рассказывал о наших песнях, как о сказке, и чтобы рассказы эти дошли до ушей его величества. Я хочу, чтобы вашими устами Буковина дала о себе знать его королевскому величеству. Говорю с вами как украинец с украинцами, и думаю — вы понимаете меня. На этом празднике будет конкурс только на румынские песни. Я, ваш учитель, вменяю вам в обязанность завоевать первенство на конкурсе. И это должна сделать не «Личеул патру», как официально называется наша гимназия, а «Личеул украинян». А теперь за работу!
Иванков был взволнован, его увлекли собственные слова.
Дарка огляделась вокруг. Ученики ничего не обещали, не кричали, а стояли монолитной массой, и нельзя было разгадать, что означает эта неподвижность. Можно было подумать, что они демонстрируют готовность постоять за честь гимназии и украинской песни, но это мог быть и немой протест. Дарка не знала, что думать. Знала только, что многие ученики не доверяли Иванкову.
Учитель подошел к фисгармонии и раздал ноты конкурсной песни.
— Но ведь это совсем легко! — раздался возглас.
— Увидишь, как это трудно, когда захочешь быть первым, — ответил учитель.
Данко сразу же после репетиции ушел с товарищами. Дарке очень хотелось расспросить его о прогулке, но сегодня она не так страдала от его невнимания.
На углу Главной Дарка увидела Ивонка. Он стоял под аркой ворот и ждал кого-то.
Дарка коснулась Лидкиного плеча:
— Перейдем на ту сторону! Там Рахмиструк, я не хочу с ним встречаться.
Лидка с недоверием заглянула Дарке в глаза.
— Не притворяйся… не притворяйся… ведь это твой парень. Не фокусничай… Бери Ивонка, сама ведь знаешь — на Данилюка нечего рассчитывать. Рахмиструк за тобой как тень ходит, что тебе еще надо? Плохо ли когда-нибудь стать докторшей?
Дарка вырвала руку и наискосок пересекла улицу. Издали она чувствовала на себе взгляд Ивонка.
«Может, и Данку предстоит так же безнадежно ждать у ворот, — мелькнула мысль, — только не меня…»
На следующий день гимназию словно кто поджег с четырех углов. Весть о приезде министра облетела все классы. Она настораживала уши, широко раскрывала глаза, возбуждала любопытство, подхлестывала самолюбие, воскрешала надежду на успех, шумела, гудела, клокотала во всех закоулках гимназического здания. Здесь совещались, вырабатывали проекты, искали новые пути для достижения цели.
Дарка видит, как неподвижные глаза Ореховской пронизывают каждую группу, а уши, кажется, удлиняются, чтобы ухватить все нити разговоров в отдельных кружках и связать их воедино. Наталка не поддерживает радость в ученицах, но и не гасит ее. Ходит между гимназистками важная, замкнутая, с более глубокой, чем обычно, морщиной на переносье.
Дарка случайно перехватила ее полный понимания взгляд, обращенный к Стефе, и тотчас поняла, что существует тесная связь между сдержанностью Ореховской и тем интересом, с которым Стефа Сидор расспрашивает всех о происходящем. За всем этим скрывалось что-то таинственное, такое же таинственное, как сама Стефа, но что именно — Дарка не могла разгадать.
Двум девушкам, хорошим певицам, которые перестали ходить на спевки из-за каких-то недоразумений с учителем, теперь под натиском подруг пришлось снова петь в хоре.
Ведь украинская гимназия должна выиграть!
Возник интересный вопрос: кто будет петь соло? Было известно, что в одной из украинских песен есть сольная партия для сопрано.
— Ой, Попович, — млеет Савчук из седьмого, — ты знаешь, что сказала вчера Шнайдер? Она говорит… это невозможно, но она так говорит… что я тоже могла бы петь соло.
Глаза Савчук не спрашивают, они просят подтверждения.
Дарка плохо разбирается в музыке, она не может предвидеть всех требований, какие предъявляются к такому ответственному соло, но по доброте сердечной отвечает:
— Наверно, ты и будешь петь, кто же еще?
— Ох, Попович!.. — И больше ничего. Но разве этого мало?
Учитель пения сообщил участникам хорового кружка, что в оркестр, составленный из лучших музыкантов гимназий, из украинской войдут Илюк и Богдан Данилюк.
Данко…
Дарка слышит, как за спиной шушукаются все недовольные, все завистники: почему именно эти двое? Почему Данилюк, а не Роган? Почему Илюк, а не Завадюк?
Но эти холодные брызги недовольства не могут погасить огня надежд, вспыхнувшего в Даркином сердце. Министр обращает внимание на русого скрипача. Смычок в пальцах этого скрипача волнует представителя столицы. Тот хочет лично познакомиться с русым юношей. Говорит с ним и сразу пророчит ему будущую славу. Теперь Данку нечего больше делать в Черновицах. Он должен ехать в Бухарест, потом поездки из столицы в столицу, банкеты… Совсем так, как он когда-то рассказывал Дарке.
Девушка пытается избавиться от этих мечтаний, вертит головой направо и налево, но ничего не помогает: добрая фея надевает ей на голову корону из одних только самоцветов. Дарка смотрит в зеркало: да ведь она невеста Данка!
Господи, какой прекрасной могут сделать добрые феи жизнь бедной ученицы!
IX
Впрочем, добрая фея не может отвести черного крыла, нависшего над гимназией. События, которые в начале учебного года только вырисовывались на гимназическом небе, теперь облекались в кровь и плоть и шли в наступление на гимназию — конец четверти! Конец четверти! Конец четверти!
Эти слова нагоняли такой страх, что их, по мнению Дарки, вполне можно было бы заменить словом: «Татары! Татары!»
Учителя, те самые любимые учителя, которые до сих пор, казалось, только и думали, как бы спросить ученицу (их и в самом деле, хоть это звучит некрасиво, можно было сравнить с живодерами, закидывающими арканы на невинных собачек), теперь ходят с напыщенно-деловыми минами, и надо упрашивать их, чтобы они вызвали в конце четверти.
Просто невероятно!
Коляска уже третий урок ходит за учителем Мирчуком, как цыпленок за наседкой, и беспрерывно пищит:
— Пожалуйста, господин учитель, спросите меня… пожалуйста, спросите меня…
А учитель Мирчук поворачивает к ней железное лицо и отвечает металлическим голосом:
— Коляску я уже спрашивал. Записано. Достаточно.
— Я выписала все слова. Я все знаю, господин учитель, — просит Коляска и, словно нечаянно, подсовывает ему красиво обернутую тетрадь с горячими, как кровь, маками.
Мирчук оборачивается у порога и говорит:
— Ученице, которая не считает для себя обязательными принятые правила и в первый день приходит на занятия не в форме, лучше всего вообще перестать ходить в гимназию.
Коляске не до шуток от этих слов. Она в отчаянии обращается к классу:
— Дети, может быть, кто-нибудь помнит, когда меня спрашивали в последний раз? Вы не помните, чего я не знала? Я не понимаю, честное слово, — столько голов в классе, а не можете помнить обо мне одной… Я вам говорю, я же вам говорю, что этот бельфер хочет вкатить мне двойку… Совсем одурел старик! Детки, я вам говорю… я не могу принести домой больше двух двоек. По истории, по физике — и довольно с меня. Попович, он уже вызывал тебя? — спрашивает Коляска у подруги по несчастью.
Да, Дарка уже отвечала. Это помнит весь класс. Дарка помнит и другое: таинственную тетрадь с розами, которая добралась к ней с третьей парты и спасла от такого положения, в котором сейчас находится Коляска.
Стефа Сидор молча идет к доске и уверенными, спокойными движениями рисует грозного учителя Мирчука с бровями, как у сказочного Усыни. Под этим портретом она пишет параграф из кодекса Мирчука:
«Записано. Достаточно».
— Дорисуй ему еще рога! Я тебя прошу — добавь ему еще и рога! — захлебывается от смеха Кентнер.
— Сделай мне копию в черновике, я хочу иметь такого у себя, — просит Романовская, хотя сама может это сделать. Всем известно, что Романовская собирает портреты киноартистов и карикатуры на учителей.
— Рога! Обязательно еще рога! — стучит ногами Кентнер.
— Внимание! — кричит Косован.
Но уже поздно, Мирчук увидел себя.
— Кто это нарисовал? — деловито спрашивает учитель.
Те две, что стояли у доски, упорхнули на свои места, как испуганные воробушки.
— Виновного я привлеку к ответственности, — заявляет наконец Мирчук.
Эти слова никого не удивляют. Само собой разумеется, что так и должно быть.
— Знают ли ученицы, что это равносильно неуважению к учителю?
Конечно, знают, иначе зачем бы они изображали его?
— Если виновница не сознается, я пойду к директору, и ответит весь класс. Да, весь класс!
Классу не по себе. Сидор должна признаться! Некоторые, нетерпеливо поворачивают головы в ее сторону. Мирчук не умеет шутить.
Но что же Сидор? А ничего! Есть двое свидетелей, она дважды порывалась вскочить и признаться, но Мици Коляска взглядом приказала ей не двигаться, показывая знаками, что в случае чего она всю вину возьмет на себя. Если уж иметь двойку по-латыни, так хоть зная за что!
— Никто не сознается? В таком случае пусть директор посмотрит на доску, — Мирчуку трудно было сказать «на меня», — и сам увидит, на что отваживаются типы, которым давно следовало бы находиться за стенами гимназии.
Намек ясен как день.
Коляска дерзко поднимает голову и смотрит прямо на Мирчука раскосыми вызывающими глазами: «Дальше, я слушаю! Дальше!»
Но учителю больше нечего добавить. Он встает и стремительно выходит из класса, даже не закрыв дверь.
Тогда вскакивает Стефа и несколькими взмахами губки стирает с доски карикатуру.
— Ай! — вскрикивает Романовская. — Ты, значит не нарисуешь мне такого в тетрадь!
— Теперь пусть приходит директор! — набирается смелости маленькая Кентнер. — Что он увидит?
— Подожди, кажется, уже идут.
Коляска перескакивает через парту и торопливыми неловкими движениями рисует на еще мокрой от губки доске осла с ушами, такими же длинными, как ноги. На хвост не хватает времени, у двери уже слышны голоса Мирчука и директора.
— Спаси нас, матерь божия! — заголосила Орыська и закрыла лицо руками.
Первым в класс вошел директор, взволнованный Мирчук стал поодаль. Элегантный, как иностранный дипломат, сурово насупив брови, директор сразу приступил к делу. Он был уже информирован о случившемся и не сомневался в том, кто из учениц совершил этот сурово наказуемый проступок. Директор смотрел на класс в упор. На доску он даже не взглянул. Видно, был уверен, что Коляска уже успела стереть следы преступления. Ясно было, что он поверит словам учителя, даже если бы на доске не было ни одной черточки.
— Кто позволил себе шутить над особой господина учителя? Коляска, может быть, вы ответите нам?
В классе наступила ужасающая тишина.
Директор сделал жест рукой в сторону доски, и класс замер.
— Это же неслыханная дерзость — высмеивать особу господина учителя! Я отучу вас!..
И в эту минуту директор и Мирчук повернули головы к доске. В классе раздался спазматический, через силу сдерживаемый смех. Это смеялась маленькая Кентнер, словно задыхался от смеха ребенок, затыкая себе нос и рот. Наконец это прорвалось, и она, содрогаясь от смеха, нырнула под парту.
Дарке показалось, что Мирчук в одну секунду превратился в серую пирамиду из песка, которая на глазах рассыпается в прах. Директор прыснул (и действительно, нельзя было не смеяться, глядя на изображенного на доске бесхвостого осла с ушами до земли), но моментально овладел собой, превратив смех в приступ кашля, и откашлявшись, грозно насупил брови. Но пока он успел открыть рот, Коляска сама уже встала:
— Это я нарисовала, господин директор.
— Мне не о чем с вами разговаривать. С этого дня я не считаю вас ученицей нашей гимназии, забирайте свои книги и отправляйтесь домой. Я поговорю с вашим отцом. Пусть он завтра придет ко мне.
— Господин директор, завтра папа не сможет, у него комиссия. Разрешите послезавтра?
— Молчите и убирайтесь из класса! — Теперь директор по-настоящему рассердился.
Коляска покорно собрала книжки, — казалось, она заранее сложила их, — вежливо поклонилась директору и Мирчуку и уже в дверях крикнула довольно громко:
— До свидания, дети!
Директор стиснул кулак, словно хотел дать этой наглой ученице подзатыльник на дорогу, но потом успокоился и разжал пальцы. Должно быть, он решил, что это «до свидания» могло быть обычной формой прощания и связано с планом Коляски снова возвратиться в гимназию.
— Ведите себя тихо! Я должен поговорить с господином учителем, — приказал он ученицам и вышел, уведя с собой побледневшего от возмущения Мирчука.
Теперь класс набросился на Кентнер. Она уже не смеялась. Стояла, опустив виноватые, еще мокрые от смеха глаза, и оправдывалась, как умела:
— Убейте, зарежьте, разрубите меня на куски — я не могла… Честное слово, я не могла… Как посмотрела на этого осла, а директор еще сказал, что это господин учитель, так у меня прямо что-то лопнуло…
— А теперь из-за твоего смеха Мици выгонят из гимназии. Приятно тебе будет?
Кентнер побледнела.
— Не бойся, Ольга, — успокоила ее Стефа Сидор, — Мици не выгонят. Пан Коляска даст тысячу леев на физический кабинет, Мици извинится перед Мирчуком, и все будет по-старому… все будет хорошо.
— Да-а, хорошо! — по-детски старалась остаться несчастной Кентнер, сама уже чувствуя, как успокоительно подействовали на класс слова Сидор.
— Это ангел, а не девушка, — шепчет Дарка Романовской.
Стефа, должно быть, услышала сказанное о ней и внезапно покраснела. Она обняла Дарку и прижала к своей душистой, как свежее сено, блузке.
Дарка ощутила, как ее горячего лица коснулось что-то бархатное, гладенькое, и этот поцелуй не губами, а только щекой значил для нее больше, чем все слова, чем присяга. Ей казалось, что над их головами взлетели два белых голубя и обменялись поцелуем.
Дарка сперва лишилась речи, а потом ее первые слова, обращенные к самой лучшей подруге, были не так ясны, как им обеим хотелось.
— А теперь ты уже скажешь мне, куда ходишь по четвергам?
Стефа ладонью закрыла ей рот. Ладонь тоже пахла свежим сеном. Да могут ли быть на свете такие духи?
— Не говори так громко! Теперь у меня не будет тайн от тебя. В четверг все узнаешь, а теперь молчи! Молчи, как могила!
Потом Стефа обнимает Дарку и подводит к своей парте. Следующие и последние два урока — рисование. Единственные часы, когда безнаказанно можно менять места. Учитель рисования, известный в Черновицах художник, занимается только с теми, кто любит его предмет. Ученицы рисуют с натуры.
— У нас как в академии, — говорит Стефа, побывавшая там с отцом.
Дарка с интересом и удивлением смотрит на Стефину папку с рисунками.
— Так много!.. Когда ты успела все это нарисовать?
— Нет такого дня, чтобы я не рисовала, — говорит Стефа, развязывая голубые ленточки на папке. — Ничего больше не делаю, только рисую да рисую… Хочешь посмотреть мои эскизы?
И она раскладывает на парте листы бумаги с изображением человеческих лиц и рук, деревьев, домов, зверей, цветов, улиц, далеких горизонтов…
— О, какая красивая! Кто это? — Даркино внимание привлекает головка девочки.
— Это папа купил однажды на улице у одного мальчика гипсовую голову… Я ее нарисовала… Папа купил ее потому, что мальчик назвал головку «Слепая девочка». Странно, правда? Ведь все человеческие лица, сделанные из гипса, кажутся слепыми.
— А это кто?! — Дарка даже вскрикивает и смотрит прямо в глаза Стефе, чтобы та не могла скрыть правду.
— Ты узнаешь? — радуется Стефа-художница.
— Да… это профиль Данилюка.
Только теперь, когда промелькнула первая радость молодого художника, радость, что рисунок так напоминает оригинал, Стефа смущается.
— Данилюк брал уроки игры на скрипке у профессора Леви. От нас, со второго этажа, очень хорошо видно, как они играли на первом. Ты знаешь, где живет профессор Леви? Прямо напротив нашего дома. И мне однажды пришла мысль нарисовать профиль Данилюка. Не правда ли, у него очень характерный профиль? Такой заостренно-выразительный подбородок. Это очень типично для артистов…
У Дарки неосторожно вырывается:
— Данко просил передать тебе привет. Он говорил, что вы должны были познакомиться…
Стефа так краснеет, что даже Дарке становится неловко.
— Нет… этого никогда не было… Привет этот, вероятно, шутка. Все равно ты поблагодари его… Нет, не благодари, не надо, это только шутка, мы же не знакомы!
И она поспешно, до того, как Дарка успевает наглядеться, прячет людей, города, руки, профили, зверей, цветы, слепую девочку и Данка в папку.
— Глупости! — смеется Стефа и берет Дарку за руки. — Правда, глупости? — Она хочет обратить в шутку свое волнение, свою такую очевидную радость.
«Боже! Да она же влюблена в Данка!» — мгновенно понимает Дарка.
И страх, охвативший ее, минутой позже переходит в теплое, сердечное чувство. Какая-то неразгаданная тайна повисла над ними тремя, тайна, которая свела ее со Стефой и бросила их друг дружке в объятья.
Когда кончается молитва, Стефа просит Дарку:
— Проводи меня сегодня домой. Я пошла бы с тобой, но у нас ужин ровно в семь…
За воротами, несмотря на позднее время, необычайно светло. Так светло, что человеческие лица кажутся моложе, а в душе начинает шевелиться стыдливая нежность к незнакомым людям, к домам под белыми крышами, обведенными черной полосочкой, к деревьям в новой пушистой одежде.
Первый снег.
Бесшумно летят с высоты белые хлопья и, едва коснувшись земли, тают. Те, что, словно белый холодный мох, прижались к оконным рамам, фонарным столбам и краям тротуара, еще сохраняют форму. Самые смелые цепляются за острые головки чугунных оград и одевают их в нарядные белые шапочки.
Дарка откинула голову назад, подставляя лицо снежинкам: первый снег!
Первый снег всегда рождал в ней светлую печаль, которую она не сумела бы высказать.
Стефа сняла варежку, протянула руку навстречу молодым снежинкам: их подлетело две, и, едва коснувшись теплой ладони, они перестали жить.
Снежинки летят на черную, как вороново крыло, Стефину челочку и украшают ее белым веночком из едва держащихся алмазов.
— Как хорошо, когда падает первый снег… Как хорошо… — лепечет Дарка.
А Стефа со снежинкой на загнутых ресницах отвечает:
— Сегодня какой-то особый день, правда? Все новое… и все красивое… Как приду домой, сыграю «Шнееглёкхен»[22].
Дарка не понимает, что это — название цветов или где-то и впрямь существуют колокольчики, которые звучат только тогда, когда идет снег.
— Я ни на чем не умею играть. Мамочка думала, что у меня нет слуха, поэтому не хотела, чтобы я училась музыке… Я и рисовать не умею, как ты (она хотела еще прибавить: «И не так красива, как ты»), но я все так чувствую… Так чувствую!.. Только рассказать об этом не могу. Да и кому это интересно?
Голос у Дарки как этот беззвучный и ласковый снежок. Стефа обнимает ее за плечи.
— Я очень, очень рада, что ты моя подруга. Моя лучшая подруга. Я всегда мечтала о такой девушке, которая бы все понимала, все чувствовала. Правда? Порой так хочется, чтобы рядом был близкий человек, так хочется поделиться кое-чем… Правда? — Словно в доказательство, Стефа спрашивает: — Скажи мне, только откровенно… совсем откровенно: правда, что Данко Данилюк передавал мне привет? Правда?
Голос Дарки становится совсем безжизненным, когда она произносит:
— Да.
— Да? — Стефа еще раз хочет услышать радостную новость. И Дарка снова выжимает из себя это смертельное «да».
— Зайдем ко мне, — не помня себя от радости, зовет Стефа. — Зайдем ко мне. Я сыграю тебе «Шнееглёкхен». Пойдем!..
Дарка стоит и смотрит на Стефу. Смотрит так, как будто вся душа ее переселилась в глаза и горит там сердечным огнем. Наконец она решается заговорить:
— Я теперь не пойду к тебе… У вас, наверно, скоро ужин… Как-нибудь в другой раз… Будь здорова!
— Не уходи! Не уходи еще! — кричит Стефа. — Я сыграю тебе!
Но Дарка не ждет музыки из Стефиного окна.
X
У таинственного четверга, в который Дарка должна ближе познакомиться с жизнью Стефы и Ореховской за стенами гимназии, достаточно противный предшественник — среда. Последний урок румынского языка. Последний перед концом четверти. Надо учить, учить, учить… Еще один, два дня, а потом Дарка попросит хозяйку, чтобы та позволила ей разок поспать двенадцать часов! Ах!
Растрепанный румынский учебник наводит на неприятные воспоминания о Мигалаке и вызывает сонливость. Теперь, когда они читают настоящего поэта румынского народа Эминеску, какими приятными могли бы стать уроки румынской литературы, если бы их вел домнул Локуица!
Дарка не раз думала об этом. Думала, между прочим, и о том, что иногда от личного отношения индивидуума к данной нации зависят и взгляды, понятия обо всем этом народе. Разве это не так? Когда Дарка усваивала основы румынского языка у домнула Локуицы, она совсем иначе относилась к румынской культуре, чем теперь, когда ее культуртрегером стал Мигалаке.
«Миорица», эта волшебная овечка, не может заворожить Дарку так, чтобы стихотворение с тремя пастухами улеглось в ее памяти.
читает Дарка и одновременно думает: «Этим узорам на стенах не менее пяти лет».
«Мои ботинки совсем потеряли форму. В чем я пойду в церковь на рождество?»
«Так бело везде… У нас в садике, наверно, уже видны следы заячьих лапок».
Она пересела от окна на оттоманку, с оттоманки к печке, а оттуда опять к окну, но три отары овец со своими пастухами никак не могут сойтись в Даркиной голове. «Стихи должны отстояться в памяти», — хватается она за мысль, которую не раз повторял отец.
«За окном «белая сила» — снег — окончательно победил «черную силу» — землю, — Дарка как бы рассказывает кому-то сказку. — Вечер, словно с непривычки к снежным дорогам, запаздывает в этот день».
— Лидка, а если бы я ответила стихи Ивасюку, было бы у меня по-украински «очень хорошо»?
Лидка, когда речь заходит о занятиях, всегда все знает.
— Да, ты ведь получила уже «очень хорошо».
Но у Дарки скоро пропадает охота учить наизусть стихотворение. Это перевод «Поруки» Шиллера. Дарке хотелось отвечать учителю Ивасюку «И мертвым и живым» Шевченко, но он посоветовал ей «Поруку» Шиллера.
Наутро Дарка знает «Миорицу» наизусть сверху донизу. Правду говорил папа, что стихи должны отстояться.
— Лидка, а ну-ка, спрашивай меня! — не перестает удивляться Дарка.
— Хорошо… Хорошо! Это стихотворение Мигалаке, кажется, спрашивает для отметок.
— Пхи! Может спрашивать! Пусть позовет на помощь хоть самого министра!
Как хорошо, как легко, когда нечего бояться!
В среду, как всегда, первый час — урок румынского языка. Нехорошо когда занятия начинаются с самого неприятного предмета и сразу отбивают охоту к остальным урокам! Но сегодня Дарке все равно, «Миорица» крепко сидит у нее в памяти. О чем ей думать! Лидка сказала «хорошо»!
Еще слышался скрип парт, когда в класс вошел Мигалаке с журналом. Моментально стало тихо, так, что казалось, можно услышать, как паук ткет свою паутину.
Мигалаке сбросил пальто (на первый урок в среду он всегда приходил в класс в пальто), вынул из-под полы тетради. Класс затаил дыхание. Но это еще не все, учитель открыл журнал. Класс замирает. Этот румын хочет всех задушить. Какое ему дело, что четырнадцать учениц затаили дыхание, — он медленно прошелся, посмотрел в журнал, улыбнулся, глядя на отметки в нем, подмигнул классу, хотя всем было не до шуток, и наконец заговорил:
— Я буду спрашивать только тех, в знаниях которых не уверен. Я не хочу, чтобы хоть одна из вас чувствовала себя обиженной. Учениц, написавших задание на «отлично», тоже не буду спрашивать. Задание было таким легким, что, если какая-нибудь домнишора не смогла написать его хотя бы на «хорошо», то с такими мне тоже не о чем разговаривать: в конце года поговорим в присутствии директора…
Изложив свое «кредо», Мигалаке окинул взглядом класс, следя за впечатлением, произведенным его словами. Те, кто бы уверен в своей тройке, могли теперь свободно вздохнуть. Осужденным на двойку по румынскому языку тоже не грозили новые пытки. Теперь все муки ожидания свалились на голову нескольких «сомнительных».
— Домнишора Ореховски!
Наталка вскочила, на лице у нее выступили красные, как лепестки пиона, пятна. Не потому, что испугалась. Говорят, за все пять лет не было такого случая, чтобы Ореховская не ответила учителю. Но не было и такого случая, чтобы Ореховскую причислили к «сомнительным». Дарка взглянула на Наталку — лепестки пиона все ярче разгорались на лице, а ноздри пожелтели, как у мертвеца. Руки лежали на парте, словно оторванные.
— Вы, домнишора Ореховски, в начале года упрекнули меня в том, что я не умею преподавать.
Все ожидали, что смелая Ореховская возразит против этой явной лжи. Но она молчала. Даже глазом не моргнув, продолжала смотреть на галстук Мигалаке.
— Упрек не очень приятный для учителя. Особенно если у него за плечами всего год практики. Но вы не подумайте, что я буду мстить. Среди румын есть и благородные. Домнишора Ореховски, вам на сегодня было задано стихотворение «Миорица». Я знаю, что вы отлично выучили его наизусть, но знаю и то, что вы не хотите или не умеете декламировать румынские стихи, а от учениц пятого класса уже требуется художественное чтение. Да, домнишора Ореховски, если бы я хотел, я мог бы вам поставить «плохо» уже за одну декламацию. Очевидно, я и этого не сделаю Не сделаю, чтобы доказать домнишоре, что румыны вовсе не такие плохие люди, как она думает. Этой своей оценкой, если бы я очень хотел, я мог бы испортить вам ваше традиционное «очень хорошо». Но этого — ваши подруги свидетельницы — я не сделаю. Я только попрошу вас рассказать мне кое-что о роде поэзии, к которому принадлежит данное стихотворение, и несколько слов о его композиции. И еще скажите нам, где в румынской литературе мы находим подражание ему.
На первый взгляд вопрос казался простым и легким. Учитель, у которого есть причина отомстить ученице за обиду, неожиданно оказывается благородным и, как в сказке для детей, платит за зло добром. Все это было бы просто, если бы ученица могла свободно разговаривать по-румынски. Только те, кого насильно заставляли изучать чужой язык, знают, что легче выучить целую страницу наизусть, чем сказать своими словами две фразы. Несколькими обычными и уже усвоенными ученицами пятого класса предложениями здесь не обойтись.
Даже если бы Ореховская вспомнила что-нибудь из того, о чем ее спрашивал Мигалаке (она в эту минуту могла поклясться отцом и матерью, что ничего подобного не слышала на его уроках), то все равно получила бы «плохо» по грамматике. Так или этак, а приговор ей уже подписан. Через секунду экзекуция будет произведена. Но все же ее мысль ищет какой-то выход, ее мозг лихорадочно работает. Остальные тринадцать учениц тоже напрягают свою память и волю: когда это было? Когда он говорил об этих вещах?
Наконец Ореховская медленно говорит:
— Господин учитель не упоминал об этом…
Класс вздыхает. Развязка очень проста, но ее может позволить себе только лучшая ученица.
Мигалаке опирается локтем на стол, лицо его перекашивается.
— Вы действительно не помните, что я говорил об этом, или рассчитываете на мою короткую память?
Ореховская уже на первой половине фразы понимает его мысль и краснеет так, словно у нее вскрылись вены.
— Я никогда не пробовала прикрываться ложью… — И, не ожидая дальнейших вопросов, она садится.
Если бы она села быстро, это выглядело бы как вызов учителю. Известно, что ученица не имеет права садиться, когда учитель спрашивает ее или только задумывается, не задать ли ей еще какой-нибудь вопрос. Поэтому Наталка садится медленно и спокойно. Можно сказать, вежливо, не обижая учителя и не унижая себя. Лицо ее ничего не выражает. Может, только чуть розовее обычного.
Мигалаке нервно оглядывает класс: действительно всем изменила память? Еще немного — и им самим овладеют сомнения: говорил ли он об этих вещах или только хотел сказать?
— Никто не помнит? — спрашивает он у класса.
Класс смотрит на него тупо. Четырнадцать мозговых аппаратов забастовали, а без них память бессильна. Если Ореховская, сама Ореховская, не помнит, то что можно сказать об остальных? Если Наталка твердит, что не слышала ничего подобного, этого достаточно, чтобы убедить себя, что класс никогда ничего подобного не слышал.
— Домнишора Подгорски, вы тоже не помните, что я говорил о композиции стихотворения «Миорица»?
Весь класс смотрит на Орыську. Она поднимается бледная, с полуоткрытым ртом, теряя сознание от страха. Делает несколько беззвучных движений губами, словно ловит воздух, и вдруг не садится, а соскальзывает по парте вниз.
— Посмотрите, домнишора Подгорски, в свою тетрадь по румынскому языку…
Орыська послушно берет тетрадь, но пальцы ее так дрожат, что ей приходится всей рукой перелистывать страницу за страницей. Мигалаке подсаживается к ученице и сам следит за каждой страницей. Так удобнее, потому что перед глазами у Орыськи, наверно, все буквы сливаются. Внезапно он задерживает Орыськину руку, когда та хочет перевернуть страничку.
— Подождите! «Второго октября г-н Мигалаке объяснял особенности формы стихотворения под названием «Миорица». — Учитель кладет выхоленную руку на открытую Орыськину тетрадь. — Вы и теперь не припоминаете ничего, домнишора Ореховски?
Та встает:
— Нет! — и снова садится.
Зато по классу проскальзывает какой-то лучик. Шепот идет от парты к парте: подождите, только подождите, — это было тогда, перед гимнастикой? Ага, не говорил ли Мигалаке что-то о народных рифмах? Ах! Возможно! Очень возможно! Только это же было вскользь, он даже не велел записывать его слова. Да что там! Половина учениц была уже в гимнастическом зале. А на очередном уроке он даже не упомянул об этом. Это же лучшее доказательство, как мало значения он придавал этим нескольким словам о «Миорице». И вдруг сегодня такой вопрос Наталке… Неслыханно!
— Домнишора Ореховски, вы не будете отвечать?
Ореховская снова встает:
— Я не знаю! — и садится.
Этих слов учитель как раз и ждал двадцать минут. Половину урока перед концом четверти он посвятил тому, чтобы услышать их.
Теперь он с торжествующим видом поворачивается к классу:
— Вы слышали, что ответила домнишора Ореховски, претендующая на звание первой ученицы в классе? Домнишора Ореховски перед всем классом призналась, что не подготовила материал. Пусть же не обижается на меня, когда я на конференции учителей поступлю согласно своей совести. Вы сами видели, что я хотел облегчить домнишоре Ореховски ответ, ибо я понимаю, что значит для ученицы, которая не знала другой отметки, кроме «очень хорошо», понижение балла… Но лучшие намерения учителя могут разбиться о такой ответ, какой я получил от домнишоры Ореховски.
Он отирает шелковым платком лицо (хотя, по правде говоря, это следовало бы сделать Ореховской) и склоняется над журналом. Дарка смотрит на густые пряди его волос и думает: теперь Наталка должна подойти к нему, схватить за волосы, приподнять лицо и плюнуть в него…
Но ни Наталка и никто другой не отваживается на это.
Мигалаке поднимает голову, и Дарка на миг мысленно исчезает из класса — теперь очередь ее буквы «П».
— Домнишора Романовски, нарисуйте нам три дороги, по которым шли молдаванин, венгр и человек из Вранчи.
— А почему он меня не вызывает? — спрашивает Дарка тревожным шепотом, подвигаясь к Орыське. Она обращается к Орыське потому, что Наталка, словно стеной, отгородилась от классных дел и подружек складкой на переносице.
— Потому, что у тебя «посредственно», — шепчет Орыська, счастливая тем, что Дарка заговорила с ней, и подвигается ближе.
— Верно? Правда? — Дарка под партой сжимает Орыськину руку.
— Тсс! Да!
Теперь Дарка поверила. Теперь, когда ей самой не угрожает опасность (ведь недаром в народе говорят: своя рубашка ближе к телу), она каждым нервом ощущает несчастье, грозящее Ореховской и Романовской. Этот румын сегодня сошел с ума: заставить Наталку нарисовать дороги, по. которым когда-то шли (а может, и не шли?), бродяги пастухи. Так спрашивать может только Мигалаке!
Романовская держит большой кусок мела, как конфету, и с улыбкой смотрит на учителя: что это — серьезно или шутка молодого преподавателя? Глаза ее спокойно смеются. Слишком уж она не верит в серьезность вопроса, чтобы волноваться.
— Что я должна сделать? — спрашивает она весело.
Мигалаке отвечает серьезно:
— Начертить границы Романии маре (великой Румынии), заштриховать Молдавию, обозначить, где Романия граничит с Венгрией, обозначить Вранчу, а потом прочесть нам стихотворение и показать по карте, куда шли трей чабань[26].
Белый граненый кусок мела в руке Романовской задрожал. Она в последний раз вопросительно смотрит на Ореховскую. Та пожимает плечами: «Абсурд! Все герои в стихотворении легендарные, как же можно обозначить их пути на карте?»
Романовская еще раз смотрит на Мигалаке. Он ждет. Засунул руку в карман, выставил вперед одну ногу и ждет. Тогда рука лучшей художницы в классе неуверенно выводит на доске нечто напоминающее неудачный, расплывшийся бублик.
Что вы рисуете, домнишора Романовски?
— Румынию.
— Как вы сказали? Я не расслышал…
— Румынию. Так, как вы велели, — не то удивляется, не то оправдывается Романовская.
Мигалаке почти вырывает у нее мел.
— Можете не рисовать! Ученица, не знающая, как называется государство, где она живет, не умеющая элементарно обозначить границы этого государства, может идти на место.
Но Романовская и не думает идти на место. Девушка крепко зажала мел в кулаке и не шевелится. Она знает материал, и ее должны спросить. Это ее право. Она должна знать, за что получает «неудовлетворительно». Конечно, она так же, как и учитель, знает, за что учитель ставит ей «инсуфициент».
Романовская принадлежит к искателям справедливости. Она хочет, чтобы акт наказания или мести был формально закреплен.
— Господин учитель, я приготовила урок и хочу, чтобы меня спросили.
— На место!
— Я прошу сказать мне, за что я получила «неудовлетворительно», меня будут спрашивать дома, и я должна знать, что мне ответить!.. — В голосе ее уже слышится волнение.
— Ага, вы непременно хотите знать, за что? Потому что мне так захотелось, потому что мне понравилось поставить вам двойку. Можете это передать своим родителям. Можете сослаться на меня, я не откажусь от своих слов. Вам ясно?
Романовская делает молниеносное движение, словно собирается бросить мел, но в ту же минуту кладет его на подставку, стремительно поворачивается и бежит на свою парту. Глаза ее до краев полны слез, но эти слезы так мужественны, что не текут по лицу.
Класс больше ничего не ждет. Ореховская и Романовская уже «трупы». Что еще может быть страшного или интересного? Ничего. Действительно, больше ничего. Однако впереди еще одна неожиданность. Мигалаке вызывает Косован:
— Домнишора Косован, продекламируйте стихотворение «Миорица», а то нам сегодня не везет с ним….
Косован декламирует стихотворение ровно, бесстрастно, как кукушка на часах.
— Очень хорошо. Садитесь. Теперь, домнишора Подгорски, раздайте тетради по румынскому языку.
Орыська с красным ушами, вспыхнув от счастья, выпавшего на ее долю, разносит тетради по партам.
Дарка открыла свою тетрадь и сразу же закрыла ее.
— У меня «очень хорошо», а у тебя? — вытянула шею Орыська.
Дарка наморщила лоб. Самодовольство Орыськи хлестнуло ее, как ременный кнут.
— У меня «три с минусом», зато по украинскому у меня «очень хорошо», а это важнее.
— Тсс! — предостерегла Ореховская, но с опозданием: Мигалаке уже услышал.
— Что вы говорите, домнишора Попович? — И, не ожидая Даркиных оправданий или объяснений, засмеялся.
— Садитесь, садитесь, домнишора Попович, жаль времени.
— У меня «три с минусом», что теперь будет? — доверчиво спросила Дарка Ореховскую.
Наталка кладет ладонь на ее руку.
— У меня «очень хорошо» написано крупными буквами, но это одно и то же…
«Но ведь меня ни разу не спрашивали, — успокаивает себя Дарка, — меня ни разу не спрашивали устно… Я могу устно ответить на «очень хорошо». Даже если бы у меня по письму было «плохо», он все равно не имеет права поставить мне в четверти двойку. Это было бы беззаконием! Нет, даже румыну, который здесь никого не боится, нельзя так поступать. Папа мог бы обратиться к директору, к инспектору, к самому министру. Меня же не спрашивали… ни разу не спрашивали», — отчаянно защищается Дарка.
— Меня ни разу не спрашивали, — наконец говорит она шепотом Ореховской и опять слышит ответ, который ее ничуть не успокаивает:
— А меня спрашивали, и что из этого? Один черт!..
Ад продолжается и после звонка. Наконец, когда ноги под партами теряют терпение и парты начинают все чаще поскрипывать, Мигалаке направляется к двери. На пороге он поправляет пальто, сползшее с плеча, и говорит, что домнишоры не должны так отчаиваться, у некоторых еще много времени, успеют насидеться в пятом классе. Да!..
Как только Мигалаке скрывается за дверью, пятый класс умолкает. Все молча, робко и выжидательно смотрят на Ореховскую. Она больше всех обижена, она — ярчайший пример того, как в родной гимназии растоптана всякая справедливость.
Еще никогда самоуправство учителя не было так неприкрыто! Правда, в истории украинской черновицкой гимназии в черные списки занесены имена нескольких учителей — одного филолога, одного математика и одного историка (последний после того, как ученики, завязав его в мешок, «окрестили» в водах Прута, стал добрее), которые любили держать судьбу учеников в своих руках, но даже у этих темных типов каждое «плохо» было поставлено хотя бы формально по закону. Еще никогда в этих стенах ни у одного учителя не сорвались такие циничные слова: «Я поставил тебе двойку потому, что мне так хотелось, а ты можешь идти жаловаться хоть богу».
И вот сегодня приходится принять такой удар от недоучки. Удар этот может вызвать только две противоположные реакции: пригнуть до самой земли или разжечь для борьбы.
Поэтому теперь все смотрят на Ореховскую. Она, и никто другой, первая должна кликнуть клич. Дарка независимо от всех этих событий потихоньку спрашивает себя, что теперь с нею будет, но не может найти ответа. И она, подобно всем остальным, ждет сигнала Наталки, как солдат команды.
Дарке хочется теперь заглянуть в глаза Орыське, но та зажмурилась и так плотно обхватила лоб и виски руками, что виден только пробор.
Ореховская поднимается во весь рост, и все головы, кроме Орыськиной, поворачиваются к ней. Она трет лоб рукой, словно собираясь с мыслями, потом вскидывает голову и наконец поворачивает к классу улыбающееся лицо.
Да! Наталка смеется!
Но ведь от нее ждали не этого! Маленькая Кентнер с жалким, разочарованным личиком вертится во все стороны: «Что это?»
На последних партах кто-то шуршит бумагой, разворачивая завтрак.
Все напряжение, вся опасность растворилась в улыбке Ореховской. Даже Стефа Сидор, связанная с Наталкой таинственными узами, и та удивленно морщит красивый, точеный, как у статуэтки, нос.
Наталка, не переставая улыбаться, идет к печке. Это ее место. Оттуда, как с балкона, она видит всех. Оттуда она теперь хочет обратиться к классу. Она закладывает руки за спину и прежде всего равнодушно и небрежно спрашивает Кентнер:
— Тебе, Ольга, хотелось, чтобы я плакала? Чудачка ты! Ведь Мигалаке не поставил Мне «плохо» по румынскому языку. Он «хороший парень», правда, Подгорская? Мигалаке понимает — я знаю все, что он требует. Надо было как-то наказать меня за то, что мне не нравятся стихи Тудоряну. Даже наша Романовская после сегодняшней двойки будет подписываться «Романовски». Мигалаке знает, что делает. Я уверена, что вернись он сейчас и спроси, кому нравится, как мы, словно попугаи, заучиваем румынский, мало понимая в нем, три четверти класса поднимут руки…
— Ты не имеешь права оскорблять нас! Какое ты имеешь право утверждать, что мы… что мы все… Ты не можешь знать, что думает каждая из нас…
Ореховская становится серьезнее:
— Тебя в самом деле обижают мои слова, Косован? Это хорошо! Возможно, придется показать Мигалаке, что мы «любим» его так же, как он нас. Посмотрим тогда, сколько из вас будут помнить о сегодняшнем дне. Ты, Романовская, не ставь себя в смешное положение и не посылай отца к директору, потому что директор здесь Мигалаке, а не Кваснюк… В конце концов, это все равно…
— Неправда… директор украинец, — заметила поспешно Кентнер.
Кто-то рассмеялся над очевидностью этого факта. Только Ореховская удивилась:
— Да? Что ты говоришь?
Лидка в эту минуту не может сдержать свой язычок.
— И у тебя будет, — спросила она лукаво Ореховскую, — «неудовлетворительно» в табеле? У тебя?
— Ну и что? Мы только поменялись баллами с Подгорской. Не смотрите на меня, как на какое-то чудо. Идите, погуляйте, а то сейчас будет звонок…
Но никому не хочется двигаться с места. Даже те, кто не любит духоты, не выходят из класса.
Стефа Сидор ударяет ладонью по парте:
— Что с вами? В камни превратились, что ли? Пошли на перемену! Наталка!
Она тянет за собой Ореховскую. Дарка видит, как недоступная, гордая Наталка отворачивается и украдкой смахивает непрошеную слезу.
«Если бы я могла так мужественно переносить все, как она! Если бы можно было этому научиться!» — с завистью думает Дарка. Она теперь стоит у двери, и никто не обращает на нее внимания.
Дарка предпочитает думать об Ореховской, растравляя свое самолюбие, которое всякий раз ранит Стефа, и не думать о неожиданной двойке, нависшей над ней. Только бы не слышать об этом, только бы отогнать эти мысли!
На уроке украинского языка тоже произошло небольшое событие.
Когда девушки подали списки стихов, которые они обязались выучить дома, преподаватель еще раз прочитал названия произведений и фамилии учениц.
Тогда встала Ореховская:
— Произошла ошибка, господин учитель. Я написала «Политические поэмы Шевченко», а не «баллады»…
Учитель еще раз посмотрел в список:
— Ореховская, вы подали баллады…
— Нет, господин учитель…
Преподаватель отложил очки и список.
— Почему вы не хотите понять меня, Ореховская? Вам и так, без политических поэм, достанется на этой конференции…
Наталка осталась непримиримой:
— Если так, прошу вообще меня вычеркнуть…
Учитель, не говоря ни слова, взял карандаш и зачеркнул в журнале то, что было нужно. Потом, не обращая внимания на класс, подошел к окну, и опершись руками на подоконник, стоял минуту, две, три, четыре… Класс словно замер. Даже те, кто ничего не понял, сидели спокойно. В классе стояла тишина, как у изголовья тяжелобольного. Было в этой тишине молчаливое взаимопонимание, взаимное сочувствие и ободрение.
Овладев собой, учитель повернулся к классу. Урок пошел своим чередом.
— Сами не знаем, кто нам друг, — шепнула Ореховская Дарке, кивая на Ивасюка.
Дарка встрепенулась: это относится к ней? К ней, к Дарке?
Дарка поняла, что в эту минуту Наталка доверила ей тайну и таинственным способом связала ее с собой.
Давно уже не было таких трудных, таких томительных дней, как эта среда.
XI
Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что в эту же тяжелую среду после обеда к Дарке пришел Данко.
Пришел в мокрых туфлях и долго топтался в коридоре, не решаясь войти в комнату. Надо уважать труд хозяек. Дарке сразу вспомнилась его мать-немка, которая, как не раз говорила мама, больше уважает порядок, чем нервы своего мужа.
Данко еще с порога заявил, что он «по делу». Это немного обидело Дарку. Можно подумать, что они не друзья, не односельчане и Данко не может запросто заглянуть к ней в гости. Но она тотчас же утешила себя: верно, у него нет серьезных дел, он только так сказал, чтобы оправдать свой приход перед хозяйкой и Лидкой.
— В чем же дело, Данко?
А вот в чем. Его сестра Ляля, которая живет в Вене у маминого брата и учится там в консерватории, — объясняет Данко Лидке, — давно написала Дарке на его адрес, вернее — вложила открытку в конверт. У Данка до сих пор не было времени передать ее Дарке. Теперь, слава богу, у них уже закончилась четверть…
«Данко так говорит о Вене, как будто это бог весть какая заграница, — думает Дарка. — А папа рассказывал, что совсем недавно в Вену ездили так же, как теперь в Черновицы. А этот мамин брат — подумаешь! — помощник бухгалтера на какой-то трикотажной фабрике».
— А разве Дарка знакома с вашей сестрой? — и тут не доверяет, и тут что-то подозревает Лидка.
Данко отвечает:
— А как же! Ляля приезжала на каникулы в Веренчанку. Они очень подружились…
Дарка берет в руки открытку и, улыбаясь, вчитывается в малюсенькие, как маковые зернышки, буковки. Эта Ляля там, в Вене, должно быть, думает, что здесь еще цветут астры и зеленеют деревья. Как можно так потерять чувство времени? А впрочем, какая хорошая эта далекая сестра Данка, ведь если бы не она, если бы не это письмо, кто знает, пришел ли бы сегодня Данко…
— Что хорошего пишет Ляля? — спрашивает он, хотя письмо было не запечатано и юноша десять раз мог прочитать его.
У Дарки, наверно, очень удивленные глаза, и тогда Данко говорит:
— Я никогда не читаю чужих писем, Дарка…
Ей становится стыдно.
— Ляля интересуется, как мы все тут живем… встречаемся ли в Черновицах, ходим ли вместе гулять, или разъехались по разным «станциям» и каждый занят своим делом…
Лидка не выходит из комнаты, и приходится говорить о том, в чем и она может принять участие.
— Через шесть недель поедем домой, — сказал Данко, а потом, приглядевшись, заметил: — Ты что-то у меня похудела.
При Лидке сказал «у меня», так, как будто Дарка действительно принадлежала ему.
— Может быть, она привередничает за столом? — обратился он к Лидке, словно Даркин опекун, имеющий право вмешиваться в такие дела.
— Что вы! Дарка прекрасно воспитана!
Видно, медведь в лесу издох, — подумать только, Лидка похвалила Дарку! На этом разговор оборвался. Чувствовалось, что все трое играют не свои роли. Наверно, это получилось потому, что Лидка застряла между ними, как кость в горле. Зачем ей надо сидеть и слушать, о чем будут разговаривать Данко и Дарка? Она ведь не имеет ни малейшего понятия ни о Веренчанке, ни о Ляле, ни о пережитом во время летних каникул. И хотя Лидка со своей стороны то и дело старалась поддержать разговор, беседа не клеилась, все время прерывалась… и наконец оборвалась совсем. Говорить было не о чем.
К счастью, Лидка в этот момент вспомнила, что ей надо отнести газету (в номере было напечатано что-то о городской управе, где служил ее дядя) господину Крамеру, потому что он подшивает все номера, а газету за вторник в Черновицах уже нигде нельзя купить. Но Данко понимает, что как только уйдет Лидка, в комнату войдет ее мама: ведь неприлично, чтобы девушка оставалась наедине с юношей, даже если это такой близкий знакомый, как Данко. И он просит Лидку:
— Может быть, вы разрешите нам с Даркой проводить вас?
Конечно, Лидке, не понявшей его хитрости, очень приятна такая просьба. Она просияла и сразу согласилась.
Дарка вынула из шкафа пальто. Данко подбежал к ней, взял у нее из рук пальто и держал его. Нащупывая рукава, Дарка почувствовала, как гибкие пальцы Данка., легли на ее плечи и на миг пылко прижали к его груди. Шапочку Дарка надевала уже совсем пунцовая.
Всего шестой час, но на дворе уже совсем ночь. Данко берет девушек под руки, говорит каждой несколько приятных слов, и они, смеясь, идут по белой пуховой шубке. Только теперь чувствуют земляки, как они близки друг другу, как связали их воспоминания и тоска по селу. Одна Лидка ничего этого не понимает. Разговор вертится вокруг учительской конференции и предстоящего выступления Данка.
Данко шутит:
— Если получишь на конференции двойку, не принимай ее близко к сердцу. Ко всему надо привыкать…
Но его шутка неприятна Дарке — слишком уж она близка к истине.
— Когда будете играть на этом концерте, не смотрите на публику, чтоб не растеряться… Вы слышали, что говорил Иванков? Наша гимназия должна взять первенство! Вы только будьте внимательны!
Лидка не может удержаться от соблазна показать Данку, будто и она понимает кое-что в этих вещах. Смешная! Можно подумать, что Данко впервые выступает на эстраде!
— Не горюйте, — совершенно спокойно отвечает Данко, — мы, конечно, будем первыми! Конечно! Тогда эти, из первой гимназии, станут смотреть на нас иначе. Вы знаете, они не хотели пускать нас на каток! Не вмешайся учителя, дело дошло бы до драки. А теперь, когда мы победим, — они себе места не найдут!
Данко торжествующе смеется, и все трое ни с того ни с сего ускоряют шаг. И все же, когда Лидка остановилась у ворот господина Крамера, Дарка с облегчением вздохнула.
— Вы не ждите, меня могут задержать.
— Как хочешь, — отвечает Дарка. В голосе ее радость, но на мгновение ею овладевает страх: а вдруг Лидка раздумает и вернется, ей назло?
— Наконец мы одни, — говорит Данко таким многообещающим шепотом, что Дарка понимает: в этот вечер произойдет что-то необычайное. Она начинает верить, что визит Данка, Лялино письмо — только мостик к чему-то необычайному и прекрасному, хранимому для нее в сердце Данка.
А Данко, охваченный радостным возбуждением, берет ее за плечи и дерзко поворачивает в сторону, противоположную квартире Дуток.
— Мне не туда домой, — лепечет Дарка.
— Твой дом там, где я, — смеется Данко, поднимая себе и Дарке воротники пальто, и спешит куда-то, расталкивая прохожих локтями, так, словно ему приходится пробираться сквозь большую толпу.
Как только они отходят от фонарей, этот сумасшедший берет Дарку под руку. Неужели он забыл, что он ученик, а она ученица? Он так прижимает ее к себе, что девушка не может идти.
«Ему слава ударила в голову», — соображает Дарка, но расстаться с этим любимым властным плечом она уже не в силах.
С бурого неба лениво падают мохнатые хлопья белого снега. Они падают все гуще, и уже ничего не видно, кроме дрожащей перед глазами пелены. Снежинки залепляют глаза, белят воротник, вплетаются Дарке в волосы и наконец холодными слезинками текут по теплым щекам. А вокруг желтые полосы фонарей, красные огни витрин и звон колокольчиков. Колокольчики в эту минуту напоминают рождество в селе. Данко говорит, что они совсем как эскимосы. И два черновицких «эскимоса» идут в снежную метель, радостно прижавшись друг к другу, позабыв гимназические правила, прислушиваясь только к стуку собственных сердец.
Дарка совсем не знает, где они теперь. Так метет, что ничего нельзя разобрать. Кажется, людей на улице стало меньше. И дома кажутся ниже. Или это их так снегом занесло?
Вдруг Данко останавливается, поворачивается к Дарке, обнимает ее и так крепко прижимает к груди, что девушка чувствует запах его одежды. Ей совсем нечем дышать. Хоть бы губы высвободить. Тогда Данко, который, кажется, только и ждет этой минуты, закрывает Даркины губы своей щекой. Дарка чувствует под губами горячее, покрытое пушком лицо, и ее бросает в жар.
«Господи, — думает она, — это все равно, что я его поцеловала! Как это произошло?»
Данко выпускает ее из объятий.
— Теперь ты уже моя невеста, — шутит он. То есть Дарке так кажется.
Ей больно от его легкомысленного тона. Он не должен смеяться в такую минуту! И ей вдруг становится очень грустно, точно кто-то погасил свет. Но он идет рядом, ее мальчик, ее Данко, и ей приходится простить этот смех. Конечно, он никогда не узнает об этом.
«Собственно, он правильно сказал, что теперь я уже его невеста. Если между нами дошло уже до того, что мои губы коснулись его лица…»
Хотя, с другой стороны, ей кажется, что у Данка просто легкомысленное настроение и он готов обнять любую встречную девушку, которая попалась бы ему в такую минуту. А все-таки что произошло, то произошло, и этого нельзя ни опровергнуть, ни вернуть.
Вот и Данко молчит. Они идут все медленнее, все теснее прижимаясь друг к другу.
— Я не знаю, где мы? — нарочно спрашивает Дарка, чтобы убедиться, принадлежит ли ее голос ей или тоже слился с голосом Данка.
— Я провожу тебя… Сейчас будешь дома, — шепотом отвечает юноша.
Дарка начинает бояться того, что случилось: кто ж такое видел, кто ж такое слышал — позволить обнимать себя посреди улицы… Что бы сказала об этом мама?
«Господи, что со мной? Неужели я так низко пала?»
Но она снова опускает ресницы, чтобы вновь пережить то радостное, волнующее, что она не знает, как и назвать.
На прощание Данко целует Дарке руку. Не так, как обычно целуют руку, нет, все происходит сейчас не так, как обычно: он поворачивает Даркину руку и целует ладонь. Дарка, зачарованная этим поцелуем, не может сдвинуться с места, хотя они стоят перед ее воротами. Данко с минуту смотрит на нее, потом мягко берет за плечи и подталкивает к арке. Дарка чувствует, очень хорошо чувствует, как эти пальцы, коснувшись ее плеч, тоже теряют свое обычное спокойствие.
Особенный вечер! Особенная минута!
В полутемной подворотне Дарку охватывает такая острая печаль, такое сердечное желание расплакаться, что она, ни о чем не думая, прислоняется в уголке к стене и беззвучно рыдает горячими слезами, облегчающими сердце…
Утром Дарка проснулась с четким (хоть причина его неясна) ощущением: случилось что-то важное. У впечатлительных людей часто так бывает: забывают о причине события, забывают само событие, и остается только впечатление от него.
Дарка поглядела в окно, увидела снег и лишь тогда вспомнила: «Вчера между мной и Данком произошло «то»…»
Потом удивилась, что за ночь, пока она спала и ни о чем не думала, вокруг все так изменилось. Дарка не могла понять, в чем состоят эти изменения, но точно знала, что мир стал сегодня совсем другим по сравнению с вчерашним. Это касалось в одинаковой мере живых людей, природы и предметов.
Как часто бывает у подростков, действительность с мечтой, реальное с воображаемым слились воедино, и Дарка поверила, что между ней и Данком вчера произошло событие, сделавшее ее совсем взрослой.
Лидка шутки ради брызнула на нее водой. Дарка не ответила ей тем же, как сделала бы раньше.
«С этого дня я должна вести себя солиднее», — подумала она серьезно.
XII
С неба сыплется такой же снежок, как и вчера вечером. Зима бродит по колено в снегу, а снег этот словно упрямый мальчишка — днем его сталкивают с тротуаров, а ночью он возвращается вновь.
Как обычно в это время дня, Дарка встречает по дороге в гимназию учеников и учениц — тех, кто возвращается из гимназии, и тех, кто идет туда.
«Они даже не догадываются о том, что произошло вчера со мной. Им даже в голову не приходит, что с ними здоровается и проходит мимо невеста Данилюка».
Дарке как можно скорее хочется увидеть Стефу Сидор. Но, заметив в раздевалке ее мраморное лицо, она тотчас прячет свою новость глубоко в сердце. Как можно рассказать об этом девушке, рисовавшей профиль Данка? Но ведь ни с кем другим, кроме Стефы, нельзя поделиться этим! Дарка чувствует, что ее похмелье пройдет, улетучится, если она не поговорит со Стефой.
— Если бы ты знала, Стефа, если бы ты знала!.. — И Дарка прячет лицо за Стефину спину.
Но это не то. В ней что-то говорит, кипит, заставляет ее все-все рассказать своей самой близкой подруге.
Стефа сразу догадывается, что Дарка сгорает от нетерпения. И, желая помочь подруге, говорит:
— А ты скажи… Мне ведь ты можешь все сказать. — И она нежно прижимает Даркину голову к своему плечу.
— Я так счастлива, Стефа, если бы ты только знала! Трудно передать все сразу. Вчера, — ее голос переходит в пылкий шепот, — вчера меня провожал Данко Данилюк, и если бы ты знала…
Стефина рука легонько соскальзывает с плеча Дарки.
— Не говори мне больше ничего… Ты думаешь, я не догадываюсь?..
«Зачем я ей сказала? Зачем я сделала это?!» Дарка готова пальцы кусать.
Стефа старается, ах, как старается не выдать своего волнения. Она высвобождается из объятий Дарки и говорит обычным голосом:
— Я сегодня вечером зайду за тобой, и мы кое-куда пойдем… помни!
«Какая я подлая… А она, цветик мой, как благородна!
Я сделала ей больно, а она хочет посвятить меня в свои тайны», — укоряет себя Дарка.
Стефа приходит после обеда, на полчаса раньше условленного времени.
— Надевай пальто, и пойдем, — говорит она коротко. Это означает, что о тайных делах нельзя говорить там, где стены имеют уши.
На тротуаре Стефа переходит на левую сторону.
— У нас еще есть время, — говорит она, как будто Дарке все известно.
Только и всего. Дарка сбоку поглядывает на подругу. «Если бы не мой язык, если бы не мое глупое сердце, которое не умеет одно радоваться, Стефа не молчала бы теперь».
И опять это гнетущее молчание. В конце Геренгасе Стефа берет спутницу под руку. Но это уже не теплое, сердечное движение, к которому привыкла Дарка. Подруга просто хочет, чтобы Дарка была ближе к ней и ветер не разносил того, что Стефа скажет.
— Я хочу поговорить с тобой, но ты должна дать мне честное слово, что никому ни гу-гу…
— Честное слово!
Верно, Дарка слишком поспешно выразила свою готовность, потому что Сидор недоверчиво посмотрела на нее.
— Поклянись жизнью и здоровьем твоей мамы, Дарка!
Мамы? Дарка в страхе посмотрела на Стефу: разве может быть на свете такая тайна, чтобы надо было клясться маминой жизнью? А если, не ровен час, в беспамятстве вырвется какое-нибудь неосторожное слово, и тогда мама… Нет! Нет! Она поклянется чем угодно, только не маминой жизнью.
— Даю тебе честное слово… Ты не веришь мне?
Теперь уже Стефа верит. Голос у Дарки такой, что ей нельзя не поверить.
— Я много не буду тебе рассказывать. Ты сама видишь, к чему все идет в нашей гимназии… Видишь, — Стефа совсем позабыла, что Дарка только первый год в гимназии, — как с каждым новым учебным годом мы теряем все больше и больше прав. Еще в прошлом году у нас табель был на двух языках и румынский считался лишь предметом…
В этом году табель только на румынском языке, и даже на уроке гимнастики уже румынская команда. А история? Нам обещали, что на румынском языке мы будем изучать только историю Румынии, а что сделали? Созвали съезд историков — и вот результат… Теперь мы «для нашей же пользы» будем изучать на румынском языке и всемирную историю. Видишь, как хитро они поступают? Тебя грабят до рубашки, а тебе должно казаться, что это для твоей же пользы… и многим таким идиоткам, как Лидка Дутка, так и кажется. На следующий год, вот увидишь, уже открыто во всех классах будут изучать историю только на румынском языке. Через два-три года дело дойдет до того, что в украинской гимназии уничтожат украинский язык как предмет… Будем учить французский, немецкий, латинский, только не родной язык… Вот к чему идет! Ты понимаешь, что я тебе говорю?
Стефа напрасно горячится. Дарка все понимает. Мало того — она чувствует все так же, как подруга.
— Но не подумай, что дело только в румынском языке! О, нет! Здесь политика дальнего прицела. Они хотят вообще уничтожить нас как нацию на территории Романии маре. Да! Не бойся, не так уж они глупы, чтобы не понять — на насилие можно ответить насилием, и потому они… прибегают Ко всяким окольным способам. Начинают «научно» доказывать, что украинцев никогда не было на Северной Буковине, а мы — «рутенизованные» румыны… Но не могут же они вообще объявить несуществующими сорок миллионов украинцев? И что ж им остается? Свое превозносят до одурения, а украинскую культуру высмеивают… историю перекручивают… А что ты им сделаешь? Слыхала, что городил Мигалаке на предпоследнем уроке? «Русские князья часто были вассалами румынских бояр…» Ну скажи: можно спокойно переносить ложь, наглую, высосанную из пальца ложь?
Дарка тоже думает, что нельзя, но как быть? Что делать? Об этом именно и хочет говорить с ней Стефа.
— Поэтому среди учащихся возник кружок самообразования… Там мы читаем запрещенные политические поэмы Шевченко, Лесю Украинку — тех, о ком даже не упоминается в нашей гимназии… революционные стихотворения Ивана Франко… Ты слышала такие стихи, как «Вечный революционер?» А о русском писателе Чернышевском слышала? Ты хотела бы присоединиться к нам?
Дарку пугает эта конспирация, но одновременно она чувствует, что ее больше привлекает сама таинственная и небезопасная обстановка, чем произведения великих поэтов.
— А что нам будет, если раскроют? — Она говорит «нам», хотя еще не чувствует никакой связи с «теми».
Стефа крепче прижимает ее руку к себе.
— Уже испугалась?
— Нет, я просто хочу знать…
Она не может сознаться Стефе, что рада бы услышать, что за участие в таких нелегальных собраниях грозит виселица. Если рисковать, то уж по-настоящему!
— Выгонят нас всех из гимназии на все четыре стороны…
— И больше ничего?
— И закроют гимназию. Тебе мало?
— Ты, наверно, думаешь, что я расспрашиваю от страха? — вызывающе говорит Дарка.
Стефа успокаивает ее движением руки:
— Я никогда не считала тебя трусихой! А вот сумеешь ли ты держать язык за зубами?
— Если ты сомневаешься, — уже обиженно говорит Дарка, — зачем же вообще начинать со мной этот разговор?..
— Ничего, ничего… Пойдем скорее, а то опоздаем. Мы собираемся у Ореховских…
Дарка проглатывает весть с такой жадностью, словно всю жизнь ждала ее. Ее богатое воображение вспыхивает от этого огонька и уже рисует таинственную комнату или каморку где-то над квартирой Ореховских… Таинственного, неуловимого, как дух, Наталкиного брата, достающего им эти запрещенные книги, необычные, даже более значительные, чем Евангелие, значительнее всех остальных. Штабеля, горы книжек…
И как же она разочарована, когда Стефа ведет ее мимо соседских окон на крыльцо самого обыкновенного дома, открывает дверь в обычную жилую комнату и Дарка видит там только знакомых — Иванчука, Цыганюка, Косована из восьмого, Федоровича из шестого. Одни знакомые. Все знакомые, кроме двух мальчиков.
— У нас еще одна новенькая, — говорит Наталка.
Этого достаточно. Никто не удивляется, не радуется.
Никто не подходит к Дарке, не здоровается.
«Теперь, наверно, откроют этот шкаф и начнут вынимать из него», — думает Дарка, пытаясь спасти хоть остатки своей романтической мечты. Но ничего похожего на истории «Тысяча и одной ночи» не происходит.
Поражает ее лишь то, что все молчат, словно орден молчальников.
Дарке становится не по себе. Наконец Цыганюк встает, и от этого обычного движения все происходящее приобретает необычную важность. Исчезают знакомые. Дарке только казалось, что всех этих людей с масками на лице она когда-то видела. Они все словно связаны друг с другом таинственной клятвой. Цыганюк протирает очки и заявляет, что сегодня (с каких пор они собираются?) он будет рассказывать о роли Хмельницкого в истории украинского народа.
«Это же урок истории!» — возвращает себя к действительности Дарка.
Но разве кто-нибудь когда-нибудь так преподавал историю? Цыганюк говорит о великом, дальновидном политическом разуме Хмельницкого, о его таланте полководца и мастерстве дипломата, говорит так, словно гетман — наш современник. Впрочем, весь доклад Цыганюка построен на параллелях между прошлым и современностью. Голос его становится все тише, все выразительнее. Даже странно.
Вдруг Цыганюк перескакивает к столкновению Ореховской с Мигалаке.
«Подождите! Параллели параллелями, но какое отношение имеют Наталка и Мигалаке к Хмельницкому?»
Цыганюк, который минуту назад хвалил Хмельницкого за бунтарскую натуру, теперь хвалит Ореховскую за спокойствие. Хорошо поступила Наталка, что не дала спровоцировать себя и не устроила скандала. Этот случай с Мигалаке будет использован как аргумент, когда потребуется выступить не только против Мигалаке. Плохо поступил шестой класс мужской гимназии, устроивший форменный бунт против Мигалаке. Не надо распылять драгоценный фактический материал. Пусть хранится, как в сберегательной кассе. У нас ничего не пропадет. Пусть хранится до определенного времени…
Дарка ошеломлена уверенностью, с какой Цыганюк говорит об этих делах. Перед ее глазами, как сверкающие ракеты, вспыхивают новые истины, рождаются и крепнут новые понятия, новые законы. Никогда, никогда доныне она не считала украинцев хозяевами Буковины, ее политическими властителями. Была Австрия — принадлежали ей, потом стали принадлежать Румынии. Никогда не умещалось в Даркиной голове, что название, само название Украина можно отнести к Буковине. Здесь можно было употреблять только тень этого слова (и то неофициально) — только прилагательное от него: украинская песня, украинская вышивка, украинская керамика… Но Украина? Здесь, на Буковине?
Цыганюк между тем верит в это. Дарка присматривается к нему и видит, как лицо Цыганюка превращается в какой-то фосфорический шар, растет, растет, и наконец перед Даркой вырастает сплошная светящаяся стена с бесчисленными глазами. Цыганюк, Иванчук, Ореховская и все те, кто пришел его слушать, — это один человек. Какая-то одна легендарная фигура, которую румынские бояре стараются прогнать с Буковины (Украины?), но не могут ее сокрушить, потому что по всей стране у нее есть тысячи тысяч голов, рук и сердец. В Веренчанке папа и Дмитро Уляныч тоже принадлежат к «одному человеку».
Почему папа? Кто сказал, что папа? Ну конечно, и папа тоже.
Ведь не кто иной, как папа, рассказывал, что однажды, давно, еще до мировой войны, горсточка учителей на собрании два дня и две ночи воевала только за прилагательное «братский» по отношению к русским в приветственной телеграмме в день празднования какого-то национального юбилея. Собравшиеся разделились на два лагеря: одни стояли за братский союз со славянами и за право откровенно признать его, другие утверждали, что Россия извечный враг австро-венгерской монархии и послать с официального собрания братский привет русским — значит по меньшей мере нанести оскорбление его величеству императору и королю Австро-Венгрии.
Собрание продолжалось два дня и две ночи. Сторонники двух лагерей сменяли своих единомышленников, как солдаты на часах, отдыхали и возвращались в зал. Победили в конце концов славянофилы, и отец был среди них.
— Сейчас вернутся родители Наталки, — говорит кто-то нарочито громко, и Дарка думает, что это относится именно к ней, — они ничего не имеют против того, чтобы мы немного попели и поиграли у них в доме…
А все-таки Данко не с ними. Он нечто совсем другое. Ему, наверно, совершенно безразлично, сгинет ли навеки или будет жить украинский язык, украинская культура на Северной Буковине.
Дарке впервые в жизни стыдно за Данка: он для нее выше всех, лучше всех, и, однако, сегодня она не гордится им, как бывало. Сегодня, наоборот, он причиняет ей глубокое огорчение, почти позорит ее.
И когда ни с того ни с сего начинают петь и играть на гитарах, когда тот же самый Цыганюк вытаскивает откуда-то из-под кровати скрипку, Дарке кажется, что с заснеженных небес внезапно ударяет гром. Даже ее немузыкальное ухо режет игривая «не к месту» музыка. Улыбающиеся лица, за минуту перед тем такие сосредоточенные, кажутся неестественными.
Дарка не может вынести этого и шепчет Ореховской:
— Наталка, я пойду домой. Я… Мне кажется, что мне здесь больше нечего делать…
— Как хочешь, можешь идти, — довольно равнодушно отвечает Наталка.
Видно, здесь не в обычае задерживать гостей. Впрочем, Стефа Сидор доверчиво обнимает Дарку за шею.
— Как ты наивна! Старики Ореховские словно бы не знают, для чего мы здесь собираемся… Но если что-нибудь случится, — когда мы пришли, их не было дома… А развлечься детям они никогда не запрещали, — так они объясняют соседям наш приход…
Тогда Цыганюк (удивительно, как человек может измениться в одну минуту!) осторожно кладет скрипку и спрашивает у Дарки:
— Вы не возражаете, если я провожу вас домой?
Не возражает ли Дарка? Прежде надо было бы вообще спросить, имеет ли Дарка слово, если вместо нее уже спешит ответить Стефа:
— Хорошо! Проводите Дарку… И можно не спеша расходиться… Пойте… Ну хоть «На кедровом мосту!»
Цыганюк первым спускается по ступенькам (Данко никогда не поступил бы так!), а Дарка вслед за ним.
«Мне бы еще курицу под мышку, и мы выглядели бы совсем как крестьянская пара, собравшаяся на крестины», — думает Дарка.
Как можно жить в городе и быть таким невоспитанным? Чего уж после этого требовать от Ивонка Рахмиструка, который пришел в город из деревни?
— Где вы живете? — первым делом спрашивает он Дарку.
— На Русской.
— Ага!
Смешно и скучно прошло еще пять или семь минут, пока Орест Цыганюк не заговорил снова (голос у него медлительный, почти ленивый):
— Слушайте (даже без «товарищ»), что вы думаете… об участии нашей гимназии… в этой церемонии в честь министра?
— Я… я хотела бы, чтобы наша гимназия выиграла, то есть вышла бы на первое место…
Дарка отвечает так, как может понравиться этому Цыганюку. Для обоих ясно, что под словом «наша» она подразумевает и мужскую, и женскую украинские гимназии.
— Значит, — лениво тянет Цыганюк, — и вы за то, чтобы наша гимназия пела в честь этого славянофоба?
Дарка смущена. Может быть, это только провокация со стороны Цыганюка? Еще во время первого визита к тетке Иванчук у Дарки был случай убедиться, как Цыганюк гордится родным языком. Неужели теперь, когда украинской песне предоставляется возможность выйти в королевстве на первое место, неужели он… Нет, не может этого быть!.. Это он просто разыгрывает ее, «мужичку». Просто хочет испытать ее…
— Да, я за это, — уверенно заявляет Дарка, — я хотела бы, чтобы наша песня прозвучала на весь мир, чтобы сам король услышал ее!
Эта фраза помимо ее воли звучит слишком декларативно и поэтому не очень искренне.
Цыганюк засовывает обе руки в карманы (честное слово, с ним просто стыдно идти по улице).
— Слушайте, а если бы так…
Но тут же замолкает. Перед ними словно из-под земли выросли Лидка Дутка и Ивонко Рахмиструк.
— Где тебя носило? — в упор спрашивает Лидка.
Дарка невольно взглянула на Цыганюка. Тот хотя и не заметил ее взгляда, но мгновенно сориентировался в ситуации.
— Я встретил Дарку возле почты, около ящика, она отправляла письмо маме… Лидка, ты должна опекать Дарку, так вот, знай, что она не одна была в городе, а со Стефой Сидор. Но я отвел Стефу домой, потому что не люблю разговаривать с девушками при свидетелях. Ну вот, ты и знаешь, где была Дарка. А теперь я провожу ее домой…
— А может, поменяемся ролями? — Лидка хочет угодить Рахмиструку, чтобы потом смеяться над ним и Даркой.
— Нет уж, извини, — перебил ее Цыганюк, — я не для того отправил Стефу, чтобы теперь отступить. Я не отдам Дарку Рахмиструку, дураков нет! Идите… идите вперед, мы пойдем за вами!
Как только эта пара удалилась, Орест стал совсем другим. Прежде всего он откровенен с Даркой.
— Слушайте, мы долго советовались («Кто с кем?» — ломает себе голову Дарка) и обдумывали это дело… Мы обсудили наше участие в концерте со всех сторон. Вначале, должен признаться, мы думали так же, как вы теперь. Думали: запоем и всех поразим нашей песней… Но в конце концов пришли к выводу — вы слушаете? — что мы, украинская гимназия, не будем петь в честь королевского министра. Мы уже твердо решили — вы слушаете меня, — что не будем участвовать… в этом общем хоре… Не будем… бесчестить родную песню перед этим боярином!… Это же позор… Это было бы совсем по-рабски… Кто мы, в конце концов, такие? Собаки? («От кого слышала Дарка это сравнение с собакой, которую бьют, а она лижет бьющую руку?») Послушайте, только не перебивайте меня! Иванков хочет убедить нас, что мы этим выступлением будем пропагандировать украинскую песню… Нам не нужна «пропаганда» среди оккупантов! Вы слышите, вы понимаете? Нам не нужны их похвалы, потому что мы вообще не признаем их власти, их правительства, их… — Он, должно быть, хотел сказать «короля», но сдержался. — Послушайте! Если мы один раз споем для них, это будет означать — вы понимаете? — будто мы примирились с мыслью, что Северная Буковина навечно оккупирована ими… Но мы не хотим быть рабами! Мы не станем петь в концерте… Слушайте, кто может заставить нас насильно петь? Самое большее, что они могут сделать, — это выгнать нас из гимназии… закрыть наши школы, но вы представляете себе, что этот факт войдет в историю как наш протест против бояр!
— Как? Как вы говорите? Распустить гимназию и разогнать нас всех? — спрашивает ошеломленная Дарка.
Но разве это страшно Цыганюку?
— Слушайте, это в самом крайнем случае… не бойтесь, на виселицу нас не поведут… Но петь врагу мы все-таки не станем! Как вы думаете?
— И все… согласны на этот бунт?
— В том-то и дело, что не все… Но ничего. Достаточно будет, если и часть взбунтуется, ведь речь идет о том, чтобы сорвать праздник и предать дело гласности! Слушайте, а вы присоединитесь к нам?
Что? Присоединится ли она к ним? Да, она всегда — это только теперь ей ясно, — всегда была с ними. Это ведь так свойственно ее натуре — не покоряться даже самому королю! Но что же будет? Что будет, если ее и Данка выгонят из гимназии? Ведь это значит зачеркнуть всю артистическую карьеру Данка! Куда он денется, не получив законченного среднего образования? А мама… ее мама и папа, что они скажут, если ее выгонят из гимназии? Это причинило бы страшную боль ее доброй, бедной маме… Нет, это даже нельзя себе представить! Орест Цыганюк и сам знает: на такое дело нельзя решиться сразу.
— Слушайте, не отвечайте мне сейчас! Вы только хорошенько подумайте над тем, что я говорил…
И хотя им еще рано прощаться, они обмениваются крепким рукопожатием, без слов понимая друг друга.
— А Мигалаке и Мигулеву, этим псам, не верьте…
Дарка не успела спросить, кому же, собственно, можно верить, как Орест окликнул своим ленивым голосом идущих впереди:
— Слушайте, что вы так бежите? Подождите нас! Как там у тебя дела, Иво? Мы тут с Даркой никак не поймем друг друга. Лидка, в кого эта Дарка влюблена, черт возьми?
Лидка (хоть раз перехитрили ее хитрость!) не знает, что весь этот разговор для отвода глаз.
— Не трать время напрасно, Орест. У Дарки есть мальчик получше тебя…
тихонько запел Орест.
«Боже, как он может петь, если через два месяца мы все окажемся на улице?» — думает Дарка.
Она так взволнована, что только одним ухом слышит, как Ивонко Рахмиструк предлагает написать мелом на заборе: «Орест интересуется девочками», а Лидка хохочет на всю улицу. Дарка приходит в себя, только когда Цыганюк берет ее за руку и задает им одним понятный вопрос:
— Ну, ваше слово?
— Я дам вам знать…
— Люди! — поднимает крик Лидка. — Люди добрые! Он же явно сватается к ней!
— Идем… идем… — Дарка силой тянет ее в дом.
— Дарка, что с тобой? — уже на лестнице спрашивает Лидка.
— Оставь меня в покое… оставь меня в покое!.. У меня и так голова трещит от всего этого…
XIII
В последнее время на Дарку посыпались переживания одно сильнее другого, и нет уже сил сопротивляться им. Сердце ее словно красный кружок мишени, в который впиваются отравленные стрелы.
Утром в нее попадает еще одна стрела, выпущенная из туго натянутого лука: объявляют отметки за четверть. То, что Мигулев потребует от нее «большего внимания» к истории и Мирчук напишет, что «ученица не придерживается правил поведения», можно было предвидеть. Даже можно было предугадать, что Мигалаке на основе всех контрольных работ, написанных на «отлично», из милости поставит Ореховской «посредственно», хотя за все устные ответы она получила «плохо», что Романовская получит «посредственно с минусом» по румынскому и сниженную отметку по поведению, но то, что Дарка не получит никакой оценки по румынскому, этого никто не мог предположить.
— Что касается Попович, то господин учитель не выставил пока ей отметки… Как-то не мог еще решить…
— Что этот бельфер вытворяет! — тихо негодует Ореховская.
— Как это надо понимать, Лидка? Это лучше или хуже для меня?
Лидка вышла сухой из воды, и что ей стоит утешить Дарку?
— А что тебе? Двойки нет, и будь довольна.
Стефа Сидор думает иначе (она за весь сегодняшний день ни разу не подошла к Дарке):
— Лидка, зачем ты вводишь ее в заблуждение? Это нельзя принимать так легко… И тебе, Дарка, не приходится рассчитывать на великодушие Мигалаке!
В это мгновение Дарка почувствовала, как в красный кружочек впилась еще одна стрела.
Стефа не выходит вместе с ней, не ждет ее у выхода.
За обедом (можно сойти с ума — каждую субботу на обед борщ и жирное мясо с хреном) у Дарки возникает новая идея: надо любой ценой предупредить Данка о предстоящем концерте. Иначе — позор! Не только для него, но и для нее, Дарки.
Итак, ей надо увидеться с Данком. Но как избавиться от Лидки?
— Лидка, у меня к тебе просьба. Скажи маме, что ко мне в гимназию заходила одна женщина из нашего села и просила меня встретиться с ней сегодня в шесть часов на вокзале. Хорошо, Лидуня?
Лидка ударяет себя пальцем по лбу, как дятел клювом:
— Сегодня… гм… суббота… гм… шесть часов?
— Я с тобой откровенна: мне необходимо встретиться с Данилюком. В шесть часов он выходит из музыкального училища.
— Иди, Дарка, иди! Я знаю, что это за «необходимость»!
— Лидка, честное слово… чтобы я так счастливо доехала домой на рождество — это очень важное дело…
— Хорошо! Хорошо! И ты мне когда-нибудь поможешь.
— Хоть десять раз!
У музыкального училища фронтон с четырьмя колоннами. Около шести Дарка стоит и ждет.
В маленьком сердце пробуждается еще незрелая женская гордость: ну к лицу ли ей столько времени ждать парня под колоннами!
Но она тут же сама упрекает себя: это ведь такое важное дело, что смешно говорить о какой-то гордости.
На дворе темнеет. В небе одна за другой загораются звезды, но их далекий, холодновато-синий свет на земле не выдерживает соревнования с электричеством. Фонари окрашивают в желтое снег, лица людей и даже воздух.
Дарка стоит в воротах и ждет. Учащиеся входят и выходят. Они идут уверенно, им здесь знакомы все входы и выходы. Из коридора падают какие-то тени. Одна длинная, за нею значительно меньшая. Дарка поворачивает голову — наконец-то! Еще не видя Данка, она узнает его по голосу (в училище замечательная акустика, даже в коридорах). Голос Данка звучит, как электрический звонок. Дарка направляется к входной двери, но тут же отступает, потому что показывается девушка с живыми черными глазами и огромным, как тропическая бабочка, бантом на груди. Догадываясь, что Данко, верно, занимался вместе с этой девушкой, Дарка прячется за колонну, прислушивается: они говорят по-немецки. Теперь что-то отвечает девушка. Да ведь это и есть дочка префекта! Лучика Джорджеску!
Как она говорит по-немецки! В сто раз хуже Дарки!
Дарка подождет, пока они расстанутся. Ведь Лучика живет не там, где Данко. Лучика, стоя на тротуаре, перекладывает ноты в левую руку и протягивает Данку правую в яркой варежке.
Данко (откуда ему знать, что здесь его ждет Дарка!) вовсе не торопится пожать эту ручку в варежке и уйти. Он сверкает перед дочкой префекта своими красивыми зубами и что-то говорит. Мороз по дороге убивает слова Данко, и они не доходят до Дарки, но даже дурак догадался бы, что он просит у этой девушки разрешения проводить ее домой. Она протестующе машет рукой. Очевидно, ей не хватает слов, и она помогает себе жестами. Но такое возражение равносильно приглашению. Девушка показывает что-то на пальцах, оба смеются, и вот… вот… она отдает ему ноты.
Дарка ждет еще с минуту, собирается с силами и… уходит домой. Она идет очень медленно, хотя озябла и ей впору перейти на рысь. Но разве теперь не все равно? Что из того, если она даже заболеет воспалением легких и умрет?
Страшное волнение овладевает Даркой. Вот она, Лучика! Вот она, дочка самого префекта! Вот она, та румынка!
Постепенно мысли, вызванные первым взрывом чувств, немного приходят в порядок. Дарка видит уже, как эта Лучика изучает немецкий, как становится барышней, почти дамой, как заканчивает гимназию, идет в университет, все выше… все выше возносится на крылышках бабочки, сидящей у нее на груди.
Господи! А Дарке суждено «вылететь» из пятого класса гимназии, закрыть перед собой навсегда дверь в университет, все время стоять на мертвой точке, прозябать там в селе, в то время… в то время, как эти двое будет носить студенческие шапочки и ленты корпораций на груди. Нет! Нет! Этому не бывать!
Пусть Орест перестанет с ней здороваться. Пусть запретит это всем в гимназии. Пусть ее имя занесут в черный список, она все равно не станет вмешиваться в это дело так, как от нее требуют. И вовсе не приложит к нему рук, потому что она имеет такое же право на жизнь, как Данко, как эта дочка префекта.
— Ну, поговорила о важном деле с Данилюком? — интересуется дома Лидка.
Дарка смотрит на нее, словно не понимая.
— Я спрашиваю: ты поговорила с Данилюком о своем важном деле?
Дарка прячет лицо, словно птичка головку под крылышко, и говорит Лидке что-то совершенно не относящееся к делу:
— Будь здесь моя мама, она посоветовала бы мне… она сказала бы мне, что делать… А так я не знаю… не знаю, что из этого получится…
В гимназии Дарка на каждом шагу встречается с вопросительным взглядом Ореховской. Стефа улыбается ей, но не подходит к ее парте, как бывало раньше. Дарка знает: это нажим на нее, чтобы она дала окончательный ответ Цыганюку. Глаза Наталки так настороженно следят за Даркой, что нет сомнения — она ждет положительного ответа! Сердце может разорваться от боли, мама может умереть от отчаяния, но она… должна сделать то, что от нее требуют.
Глядите! Глядите, люди добрые! Все эти Ореховские, Цыганюки приворожили, околдовали, отравили, загипнотизировали ее и добились того, что она теперь сама хочет этого несчастья.
Это только так говорится, это только оправдание для себя, что кто-то ее принуждает. Нет, совсем нет! Это она сама, добровольно, подставляет голову под пули…
И вдруг, как новая стрела в самое сердце, — странное письмо от мамы. Неужели мама предчувствует что-то? Видит на расстоянии? Может, она слышит там, в Веренчанке, о чем говорят в Черновицах? Почему письмо проникнуто неясным беспокойством? Пусть Дарка остерегается! Чего? Кого? Об этом нет упоминания в письме. Но каждое слово в этом странном письме как прикосновение заботливой маминой руки.
Дочка должна учиться! Кончается полугодие. Это будет первый Даркин табель. И он будет свидетельствовать не только об оценках по предметам. Он одновременно будет и свидетельством выдержки, внимательности и жизнеспособности, доченька! В жизни придется встретиться еще не с одним испытанием, бороться не за один табель. Пусть же первый будет удачным. Затем — горсточка теплых слов о Славочке, о бабушке, о знакомых. Славочка уже смеется. Маме пришлось подстричь ей ноготки, а то царапается ими, как маленький тигренок. Ну кто бы мог ожидать? Бабушка простудилась и болела. Теперь ей лучше. В прошлое воскресенье к маме заходила Софийка. Сама мама никуда не выходит, этот «тигренок» связал ее по рукам и ногам.
Дарка вертит письмо во все стороны и думает про себя:
«Главное в письме предостережения, беспокойство обо мне, а Славочка и бабушка — это только цветочки для украшения».
Дарке становится холодно, хотя лицо ее пылает.
Хозяйка смотрит на Дарку и вдруг спрашивает:
— Вы случайно не больны, Даруся? Похоже, что вас лихорадит…
— А может, это грипп? Или тиф?! — то ли шутя, то ли серьезно кричит Лидка.
Дарка невежливо отказывается от чая, аспирина и термометра. Ничего ей не надо! Ничего ей и не поможет!
Мици Коляска, как и предполагали, возвращается в гимназию через неделю после учительской конференции. Она приходит тихая, смирная, раскаявшаяся. Класс приветствует ее, как героя, вернувшегося с поля брани победителем.
— Ур-ра! Слава! Ур-ра!
— Ты будешь просить у него прощения? — спрашивает Косован, которая любит, когда в классе что-нибудь случается, и, не дождавшись ответа, сообщает классу: — Девочки! Послушайте, девочки, она будет просить у него прощения!
Мици приходится их разочаровать:
— Вы так рады, и мне очень неприятно, но я должна огорчить вас. Ничего этого не будет… Папа уже извинился за меня… Но… Деточки, тихо! Я вас прошу… Он сказал, что я все-таки должна попросить у него прощения перед всем классом… Условлено, что он меня сразу прервет, но так надо… Хорошо, что хоть прервет, а то, если бы мне пришлось говорить речь… я не знаю… либо я задохнулась бы от смеха, либо его хватил бы апоплексический удар…
Спектакль проходит великолепно. Едва Коляска открывает рот: «Я очень прошу вас, гос…», как Мирчук с таким бешенством прерывает ее, что Мици даже морщит нос: «Спокойно, спокойно, этого в программе не было».
Только Мирчук вышел из класса (он даже посинел от злости), Коляска взобралась на его место на кафедре, поднимая вверх обе руки:
— Слава богу! Теперь у меня руки развязаны… до следующей учительской конференции…
Дарке впору бросить гимназию из-за страшных немых глаз Ореховской. У той складка между бровями видна совершенно отчетливо. Тайна, так старательно оберегаемая, так крепко замкнутая за узкими, бескровными губами, теперь ясно отражена в этой морщинке меж бровей. Дарка не может повернуть голову, чтобы ее глаза не натолкнулись на Наталкины, как на острие ножа. Ореховская уже не ждет, а требует ответа.
Дарка глазами умоляет ее:
«Я скажу «да», конечно, я это сделаю. Разве я могу иначе? Но дайте мне хоть капельку времени, чтобы я привыкла, сжилась с этой опасностью. Пусть хоть во сне мне кажется, что это ничем не угрожает ни ему, ни мне. И я прошу тебя: не смотри так… я в вашей власти и сделаю как вы хотите, но еще… хоть до завтра».
Это откладывание «на завтра» повторяется еще несколько раз, а затем вроде бы прекращается. Да. Ореховская перестает есть ее глазами.
Потом наступает четверг, и Дарку никто не приглашает на собрание. Теперь Дарка ищет глаз Ореховской, но они не смотрят на нее, а если подчас и взглянут, то как на малоинтересный предмет. Хорошенькая головка Стефы поворачивается, как подсолнух на стебле. С той разницей, что цветок подсолнуха ищет солнца, а Стефа вертит головой, чтобы не встречаться взглядом с Даркой.
Дарку снова бросает в жар:
«Господи, за кого они меня принимают! Придите же, прикажите — я пойду с вами, только не заставляйте меня одну решать такие важные дела. Пусть моей бедной маме кажется, что это вы втянули меня туда, ведь вы-то знаете, что я добровольно пойду с вами и за вами…»
Но «они» не приходят. Проходит день, неделя, вторая, третья — «они» не приближаются. А время мчится, как всадник без головы. Дарка, да, верно, и весь класс не заметили, как очутились перед Новым годом, перед новыми окованными воротами, в которые можно попасть, только пройдя очень опасный мост — последнюю учительскую конференцию.
О, это страшное для гимназии время! Даже окончившие почти никогда не вспоминают о нем. Вдруг неизвестно откуда возникает вера в свою счастливую звезду. Учитель украинского языка Ивасюк, когда заходит речь о полугодовых табелях, говорит о Дарке:
— Первый год в гимназии, а как хорошо себя показала. — Потом обычно добавляет: — Подгорская (или Коляска — в зависимости от настроения), можете поставить себе в пример Попович.
Дарке не только приятно слушать такие похвалы, она черпает в них бодрость, которая нужна ей теперь больше, чем когда-либо.
Когда Ивасюк начинает хвалить Дарку, Ореховская беззвучно шевелит губами, и Дарка ясно читает: «Только дураки радуются таким дешевым похвалам».
Но как же не радоваться, когда учитель Порхавка говорит то же самое:
— Ой, голубонька, не хватает, чтобы я свое «отлично» заменил тебе на плохую отметку! Фу! Фу! Попович! Такая способная ученица и говорит, что собака принадлежит к копытным!
И снова в сердце вспыхивает вера в счастливую звезду.
А тут еще Данко. Она была уверена, что после несостоявшейся у музыкального училища встречи он придет к ней и скажет: «Я должен был вчера проводить Джорджеску домой. Считаешь, что это плохо? Ты не сердишься на меня?»
Но Данко не показывался. Может, ждал, что Дарка сделает первый шаг?
Вместо Данка пришел последний перед концом полугодия урок румынского языка. В классе было как на поле боя: падали трупы, были тяжело- и легкораненые. Кое-кого защищал противопушечный панцирь протекции, но были и такие, кому золотая медаль доставалась за храбрость (в школе храбрость имела два названия — прилежание и ум). Ореховская же благодаря этим двум качествам получила только бронзовую медаль.
Мигалаке вызывал учениц по алфавиту. Дарка чувствует, что приближается ее очередь, она вытирает вспотевшие ладони, поправляет волосы, берется за край парты, чтобы встать, когда ее вызовут, и вдруг слышит «р» вместо «п», — учитель снова пропустил ее фамилию. Дарка окидывает класс вопросительным и смущенным взглядом, словно надеясь на подсказку подруг, как быть дальше, что делать: стоять, пока Равлюк не кончит отвечать, или садиться? Что это, ошибка или Мигалаке нарочно пропустил ее фамилию? И что значит это зловещий шепот у нее за спиной?
— Дарка! Что теперь будет?
— Ты знаешь, на тебе уже крест поставили.
— Ого, Попович!
Каждое слово — как удар ножом. С ума они сошли, что ли? И, не дожидаясь, пока закончит Равлюк, Дарка смело поднимается и, уверенная в своих правах, спрашивает пряма по-украински:
— Господин учитель, я хочу знать, почему вы меня не спрашиваете и на этот раз?
Учитель морщит лоб: кто это осмелился нарушить порядок на уроке? Потом удивленно смотрит на Дарку, стоящую посреди класса, словно только сейчас заметил ее.
— Ах, домнишора Попович! Прошу повторить ваш вопрос, но по-человечески, так, как говорят люди… чтобы и я мог понять.
По-человечески — это значит по-румынски. Дарка растерянно озирается: что теперь делать? Разве он действительно не понимает ни одного слова по-украински? И нужно ли ей теперь спрашивать его по-румынски? Но класс в таких случаях отсутствует. Тогда Дарка еще раз, на свой страх, спрашивает по-украински:
— Я хочу знать, почему меня не вызывают.
— На каком языке она говорит? Что она хочет? — спрашивает учитель таким оскорбительным тоном, что будь у него другие ученицы, ни одна из них не откликнулась бы.
Тогда Равлюк на не очень гладком румынском языке объясняет учителю, чего хочет Попович.
— Как же я могу поставить ученице хорошую отметку, если она не умеет двух слов связать по-румынски? А может быть… она не хочет говорить по-румынски?
— Меня ни разу не спрашивали! — Дарка упрямо продолжает говорить на родном языке.
— И не спросят! — отвечает учитель уже без помощи переводчика, что свидетельствует о его знании украинского. — Аминь! Понимаешь? — и крестит Даркин лоб отвратительными холеными пальцами. — Аминь!
Дарка, отуманенная, униженная, сдерживает набегающие на глаза слезы.
— Попович, извинись, извинись, слышишь? — шипит кто-то так громко, что это, верно, слышит и Мигалаке. Он и вправду словно ждет этого извинения. Засовывает обе руки в карманы и смотрит на бедную Дарку с усмешкой, за которую можно только… плюнуть в лицо.
— У тебя есть что сказать мне? — спрашивает он, издеваясь.
— Извинись… извинись! — гудит класс уже двумя или тремя голосами.
И Дарка понимает, что от класса может прийти только такая помощь, только это «извинись». Вдруг ей кажется, что ее берут за волосы и поворачивают в сторону. Глаза ее встречаются с огненным, проникающим до самых костей взглядом Ореховской. Пронзенная этим взглядом, Дарка поворачивается к классу и кричит, заглушая шипение нескольких голосов:
— Я не буду просить прощения! Не буду! Не буду! Пусть мне лучше поставят двойку по румынскому языку! Пусть! — заявляет она прямо в лицо учителю.
Учитель выслушивает эти слова и отвечает сравнительно спокойно, хотя черт уже разжег и под ним костер:
— Мало… мало двойки! Если все так пойдет, ты получишь еще «плохо» и по поведению, а то и из гимназии вылетишь на все четыре стороны! Ду-те ин дракул![27] — кричит он злобно по-румынски.
Дверь с грохотом закрывается, и его быстрые шаги слышны из коридора до тех пор, пока он не скрывается в кабинете директора.
Класс в первую минуту сидит, как зачарованный, никто пальцем не шевельнет. Дарка застывает, скрестив руки на груди, глядя в одну точку. Первой приходит в себя Ореховская. Она берет Дарку за руку (почему не Стефа, почему не она?):
— Ну что ты стоишь, как на выставке? Садись за парту… Или нет — пойдем в коридор… напьешься воды…
Только после этого класс пробуждается. По комнате проносится шепот, через минуту переходящий в громкий гул. В нем тонут отдельные голоса спорящих и кричащих. Шум все усиливается.
— Ну, теперь, Попович, на тебе крест поставили до конца года! — долетает до Дарки из этого хаоса.
— Пойдем в коридор! — Ореховская хочет уберечь Дарку от этих выкриков. — Пойдем, до звонка еще семь минут.
Наталка говорит не мягко. Она, вероятно, даже не умеет быть ласковой. Но каждое слово ее искренне. Она обнимает Дарку худой и такой дорогой теперь для Дарки рукой, тем самым берет ее под свою защиту (Стефа только смотрит на все яркими, как звезды, глазами) и уводит из этого содома.
Девушки идут прямо к крану. Ореховская наливает воды в кружку и поит Дарку из своих рук, как тяжелобольную.
Та смачивает губы и отталкивает кружку: вода невкусная. В коридоре пронизывающий холод. Мороз разрисовал окна. Солнце кажется молочным шаром, а не источником тепла и света. Наталка прижимается к Дарке, обнимает ее, и так, прижавшись друг к другу, они тихонько, на цыпочках, идут по коридору.
Дарка чувствует в этом физическом сближении с малопривлекательной внешне девушкой некое высшее духовное родство, несравнимое ни с семейными чувствами, ни с тем, что хранится в сердце для Стефы Сидор. И уж, само собой, нет здесь ничего из того, что она лелеет для Данка.
Наталка не утешает и не расценивает Даркино выступление как героический поступок. Она не говорит Дарке лестных слов, и та благодарна ей за это нежное молчание.
Когда они в четвертый раз проходят по коридору, Дарка решается:
— Наталка, можешь передать Оресту, что я в любой день могу встретиться с ним…
Свершилось: Ореховская, хотя с ней этого никогда не бывает, прижимается лбом к Даркиному лицу, и это означает, что Наталка приняла ее слова как присягу.
— Я знала, что ты будешь с нами… даже… если бы не было этой истории с Мигалаке…
Визгливый звонок распахивает пасти классов и выпускает из них шумных, веселых учениц. Дарка стоит, прислонившись к стене, и смотрит, как они движутся, слышит их смех, даже видит у них в руках тетради по-латыни, но ощущает все это как что-то нереальное, давно прошедшее, с чем она сама покончила раз и навсегда.
Раз и навсегда? Кто это сказал? А мама? Что скажет мама, когда узнает, что ее дочка, ее гордость, не окончила гимназии и никогда-никогда не попадет в университет? А что скажет на все это папочка? Сумеет ли Дарка убедить их, объяснить им, влить в их сердца эту несокрушимую уверенность, что она причинила им страшное, смертельное огорчение не из-за небрежения и лени? Поймет ли хоть папа, что… так должно быть? Не станет ли бранить за то, чему она принесла в жертву все свое будущее?
«Я, наверно, с ума сойду от всего этого. Или что-нибудь сделаю с собой…» — пугается Дарка себя самой.
Она снова обращается к Наталке:
— Скажи Оресту, что я еще сегодня хочу с ним поговорить. Он даже может прийти ко мне домой…
Да, сегодня же. Конечно, сегодня! Он как-то умеет свысока смотреть на двойки, на конфликты с учителями, на гимназию и вообще умеет отделить действительно важное от всего мелкого, так умеет каждому подобному несчастью придать глубокий идейный смысл, что когда его слушаешь, ничего и никого не жалко. Да какой там жалко! Наоборот: становишься гордой, почти счастливой, что можешь пожертвовать собой во имя дела.
Только Орест Цыганюк умеет так говорить!
Перед последним уроком Дарка подходит к учителю Слепому:
— Разрешите, пожалуйста, мне уйти домой, я сегодня не могу учиться…
Слепой — единственный из учителей, которому Дарка говорит только правду. И он, тоже, быть может, единственный на всю гимназию, верит каждому слову таких учениц, как Дарка. Он смотрит на нее справедливыми глазами и говорит:
— Можете идти домой.
Дома хозяйка ломает руки, с час сокрушаясь над Даркиной двойкой. Дарка не очень доверяет этим стонам. «Она, конечно, немного притворяется, быть не может, чтобы хозяйка принимала мою двойку так близко к сердцу!»
Вечером (как хорошо у них налажена связь!) приходит Орест Цыганюк. Дарка смотрит на это широкое, разрумяненное морозом лицо и замирает.
Цыганюк в хорошем настроении. Он шутит с Лидкой, повторяя какие-то слова о ней Ивасюка из седьмого класса. Ивасюк — это Лидкина земля обетованная, поэтому она во что бы то ни стало хочет знать, при каких обстоятельствах зашел разговор о ее особе и какими словами сказал Ивасюк «это» о ней.
— Послушай, я расскажу тебе… все, слово в слово… но ты должна кое-что для меня сделать.
— Дарка свидетель, что сделаю все, что пожелаешь!
— Послушай, я хочу, чтобы ты вышла из комнаты и оставила меня на полчаса один на один с Даркой.
Лидка соглашается (она, верно, представляла, что просьба Ореста будет значительно сложнее), но при этом смеется в кулак над глупым Орестом. Как он дал «окрутить» себя! Ведь Дарка без ума от Данка! Так и надо Цыганюку!
Когда они остаются вдвоем, Дарке кажется, что сердце ее подкатывается к самому горлу. Она знает, о чем Цыганюк будет разговаривать с ней. Подсознательно ждет от него похвалы за смелый поступок. Но голос Ореста спокоен. Можно подумать, что он купил Дарку и теперь распоряжается ею по своему усмотрению.
— Мне говорила о вас Наталка. Хорошо. Теперь слушайте. Надеюсь, не надо предупреждать вас, что это тайна. Мы должны до последней минуты ходить на все репетиции. Слушайте, зачем вы смотрите в окно? Вы понимаете, что я вам говорю? Даже в день концерта мы должны прийти нарядно одетыми и вместе со всеми выйти на сцену. Но когда дирижер подаст знак пропеть приветствие, выступит один из нас и громко, на весь зал, скажет, что наша украинская молодежь не будет петь в честь министра… Видите ли, для такого выступления мы должны иметь за собой большинство. Остальные… ненадежные не должны ничего знать… После такого скандала нам, конечно, не велят голосовать, кто за министра, а кто против… Нам надо, чтобы несколько мощных глоток крикнуло: «Позор!» Мне говорила Наталка, что из вас не бог весть какая певица.
Дарка вспыхнула.
— Это ничего… речь не о голосе. Вас любят, и вы можете Оказать влияние на настроение в классе… Я еще поговорю с вами об этом. Сейчас есть другое, более важное дело… Наталка говорила мне, что вы близко знакомы с Данилюком. Вы, кажется, из одного села, так? То, что он поет в хоре, — мелочь, но он участвует в этом симфоническом концерте. С ним будет трудно… Он упрям и гордится своим музыкальным талантом. Ухватился за эту возможность, чтобы отличиться. Мы уже испробовали все пути… и ничего не можем с ним сделать. А надо перетянуть его на нашу сторону. И вот Наталка сказала, что если он не послушает вас, значит, не послушает никого. Слушайте, вы обязаны переубедить этого осла…
Дарке надо собраться с мыслями.
«Подожди, подожди… Сразу всех из гимназии, наверно, не выгонят… Может быть, только того, кто выкрикнет на концерте. Может быть, выловят только организаторов… В этом симфоническом оркестре, или как его там назвал Цыганюк, только два украинца. Если не явятся они… эти двое… то это же так понятно, так несомненно, что на второй день их выгонят из всех школ Румынии… Да, это надо сказать себе твердо… И Данка выгонят из гимназии… этому должна способствовать она, Дарка».
— Вы займетесь Данилюком?
Этот Цыганюк не признает никаких компромиссов, в разговоре для него существуют только два слова — «да» и «нет».
— Хорошо, — говорит Дарка, — что ей остается еще сказать? — а сама с горечью думает: «Теперь я собственноручно подписала Данку смертный приговор».
Цыганюк сделал свое дело, и ему больше нечего сидеть и смотреть на Дарку.
А где же ободряющие слова? Почему Орест не хочет хоть немного одурманить ее высокими словами? Почему ей приходится выполнять эти страшные поручения на трезвую голову?
Цыганюк уже берется за ручку двери, но тут же поворачивается будто что-то припоминает, а может быть, только делает вид, что вспомнил.
— А вообще все это не то, что надо…
Даркины глаза расширяются, словно страх собственной персоной явился к ней. Столько опасностей, риска, жертв — и это еще «не то, что надо»?!
Цыганюк, как бы не замечая Даркиного волнения, ни с того ни с сего занялся пепельницей на столе — фарфоровым мальчиком с корзинкой на плечах.
— А что вы скажете, если я сообщу вам, например, что этот наш кружок — лишь переходная фаза к более серьезной работе?
— Еще… еще более серьезной? — чуть не вскрикнула Дарка, хотя то, о чем говорил Цыганюк, было очевидно тайной, о которой не должна знать такая персона, как Лидка. — Я вас не понимаю.
— То-то и оно, что вы еще многого не понимаете. Слушайте, никому ни слова о нашем разговоре. А с вами я еще побеседую на эту тему…
Цыганюк открывает дверь в соседнюю комнату.
— Лидка! Лидка, — кричит он, — не думай, что чем дольше я просижу с Даркой, тем больше ты узнаешь о своем Ивасюке!
— Больно мне нужно знать о твоем Ивасюке! — Лидка подмигивает с порога одним глазом: «С ума ты сошел, что ли? Мама ведь слушает!» — Честное слово, здесь, верно, объяснялись в любви! — восклицает она. — Дарка, что с тобой? Ты вся горишь!
Цыганюк словно даже не слышит, о чем речь. Но он хорошо знает, чем лучше всего закрыть Лидке рот.
— Послушай, Лидка, что ты мне подаришь, если я познакомлю тебя с Ивасюком?
Лидка придвигает свой стул к Цыганюку, забывает о Дарке, которая «горит», забывает обо всем на свете.
— Что он говорил, Орест? Я прошу тебя… Я умоляю тебя… Что он сказал?
Орест поднимается со стула.
— Хорошо, я тебе все скажу начистоту. Только в другой раз, — теперь я тороплюсь…
Он, смеясь, пожимает руку сбитой с толку Лидке, уже с порога бросает Дарке небрежное «до свидания», и в комнате остается только эхо от захлопнувшейся двери.
Лидка стоит посреди комнаты, разочарованная, злая, и с презрительной усмешкой смотрит на Даркину опущенную голову.
— И ты… ты променяла Данилюка на этого недотепу? Знаешь, лучше лететь со второго этажа вниз головой, чем сделать что-либо подобное! А Цыганюк еще припомнит меня!
Кто-то мягко постучал в дверь, словно кошка лапкой.
— Кажется, стучат? — отрываясь от «Царевны» Кобылянской, спросила Дарка Лидку, которая, сидя у печки, штопала чулки (ах, зимой чулки можно штопать только у печки!).
— Тебе показалось, — ответила Лидка.
Стук раздался явственнее.
— Войдите! — крикнули обе девушки.
Кто-то открывал дверь медленно, робко, словно нищий.
— Орыська!
Орыська собственной персоной, в синем пальто с серым каракулевым воротником.
— Пожалуйста, закрой дверь, а то дует!
Лидкин голос звучит не особенно приветливо. Дарка тоже встала с деловым видом.
Орыська осторожно закрыла дверь. Остановилась на пороге, как человек, осознавший свое ничтожество. Посмотрела на Дарку, беспокойным взглядом скользнула по Лидке. Никто? Никто в этом доме не заговорит с ней? Не спросит даже, зачем она пришла?
Никто. Тогда Орыська, не двигаясь с места, протянула руки к Дарке.
— Я пришла к тебе, Дарка. Мне нужно… я хочу… поговорить с тобой…
Голос ее очень изменился. Она совсем не напоминала Орыську из Веренчанки.
— Ну, говори, — с вежливым равнодушием ответила Дарка.
Орыська беспомощно сплела пальцы рук.
— Я хотела бы… Не можешь ли ты выйти со мной на несколько минут?
— Дарка, сейчас ужин… Ты знаешь, как сердится мама, когда не все сидят за столом! — враждебно вмешалась Лидка.
— Говори здесь все, что хочешь сказать, — в том же тоне поддержала Дарка.
Орыська, прижав руки к груди, сделала несколько шагов к Дарке, к свету. Морозный румянец исчез с ее щек, как пыльца с крылышек бабочки. Смуглое лицо стало совсем бледным, почти желтым.
— Дарка… почему ты не хочешь понять?.. Я могу сказать это только тебе одной. — Голос ее стал еще тише, казалось, она сдерживает рыдания.
Дарка невольно взглянула на Лидку. Та нарочно поджала под себя ноги, чтобы показать, что она даже не думает оставлять их одних.
Дарку рассердила Лидкина наглость. Она посмотрела на Орыську (эта Лидка действительно много себе позволяет!) заметила слезу на ее щеке.
— Я оденусь и выйду с тобой, — мягко сказала Орыське.
— Дарка, я тебе говорю — сейчас ужин! — снова резко вмешалась Лидка.
— Так поставь в печь мое молоко, если я не успею вернуться, — уже зло буркнула Дарка.
На тротуаре Орыська легко прикоснулась к Даркиному локтю. Та не отняла руки, и Орыська, осмелев, взяла ее под руку.
— Ну, говори, — первая начала Дарка.
Орыська еще крепче прижалась к Дарке:
— Дарка… Дарка… — Она так взволнована, что ей трудно говорить. Слова ломаются где-то в горле и вылетают беспорядочными звуками.
Дарка подождала с минуту.
— Я слушаю тебя, Орыська…
Она по старой привычке, не думая, сказала «Орыська» и сама вздрогнула от этого слова. Она так давно не называла Орыську по имени! Та стала для нее Подгорской. Орыська, такая чуткая к изменениям в тоне, мигом уловила эту перемену в Даркином голосе.
— Я не могу так жить… когда ты, моя лучшая подруга, сердишься на меня, когда половина класса со мной не разговаривает! Как я могу со всем этим жить?
Дарка прикусила губу.
— Ты очень хорошо знаешь, почему я сержусь на тебя…
Орыська зачастила скороговоркой, с ноткой раскаяния в голосе:
— Знаю… знаю, почему ты не разговариваешь со мной, почему я так одинока в классе… Так мне и надо… Я заслужила такое отношение, но я не хотела никому причинять неприятностей… Дарка, клянусь тебе, чем хочешь… мамой… папой, что я никому не хотела напакостить.
«Комедиантка! — Дарка вспоминает сцену в церкви, когда Орыська заливалась слезами только для того, чтобы обратить на себя внимание. — Такая поклянется чем угодно».
— Я хотела только отличиться в его глазах, — продолжала между тем Орыська, — только за одно это меня можно карать… Ты же видела, как я слушала его и делала все, что он хотел… Боялась: если не послушаюсь, он никогда не взглянет на меня. И не поставит мне «отлично». Я не знала, что Так не надо поступать, я видела, что все в классе отвернулись от меня… но тогда я говорила себе, что это кара… Кара за то, что я увлеклась таким плохим человеком… А он плохой, я даже не знала, что он такой плохой… Как он мог так говорить с тобой… так издеваться над всеми нами? А теперь, когда я поняла, кто он, когда я вижу… что он вовсе не так красив… — она, рыдая, повисла на Даркиной руке, — теперь я не знаю, что отдала бы, только бы вернуть обратно все, чтобы… — на ее рыдания начали обращать внимание прохожие, — чтобы мои подруги вернулись ко мне и ты, Дарка, относилась ко мне так же, как раньше…
— Орыська, перестань плакать… На нас смотрят! Еще полиция привяжется!
Орыська немного успокоилась. Она уже не плакала, только всхлипывала.
— Это еще не все, Дарка, ты еще не все знаешь… Я носила ему на квартиру тетради. И не раз. Он иногда угощал меня чаем. Можешь представить себе, каким это было для меня счастьем. А когда я последний раз отнесла тетради, он…
Дарка внезапно остановилась. Она обхватила Орыськину голову и притянула ее к себе так близко, что их ресницы почти соприкоснулись.
— Не может быть! Орыська, побойся бога, что ты плетешь!
Дарка дрожала. Орыська испуганно высвободилась из ее объятий.
— Это вовсе не то, не то, о чем ты думаешь… Он, ты только подумай… Он начал уговаривать меня следить за подругами, слушать, что будешь говорить ты, Ореховская, Сидор… Ты знаешь, он даже позволил мне ругать его при вас, чтобы я могла побольше узнать. А я не иуда, ей-богу, не иуда… О-о-о! — Орыська истерически заплакала.
Дарка прижалась своим холодным лицом к ее разгоряченному и водила по нему губами. Это успокоило Орыську.
— Я уйду из этой гимназии… расскажу все отцу, и он заберет меня отсюда… С Мигалаке в одной гимназии я не буду… Довольно я зубрила для него румынский… Хватит! Я могу теперь пойти и в румынскую школу… Да, пойду в румынскую или даже в еврейскую школу, а с ним вместе не буду… Но ты должна простить меня, все простить, все забыть! Хорошо, Дарка?
— Хорошо, хорошо! Я не сержусь, Орыська… я тоже хочу, чтобы между нами все было как раньше.
Она говорила это, чтобы успокоить подругу. И, может быть, даже сама искренне хотела, чтобы было «как раньше», но в глубине души уже не верила в это. Раскаяние Орыськи не очень оправдывало ее в глазах Дарки. В такое горячее время, когда ученики делятся на два лагеря, нейтральность тоже грех.
— Видишь ли, — Орыська опять заплакала, — я не хотела бы с таким тяжелым сердцем уходить из нашей гимназии… Дарка, сделай так, чтобы все подруги относились ко мне по-иному…
Дарка утешает подругу, не думая, что говорит. Она ломает себе голову над одним вопросом: впрямь ли искренность Орыськи такой высокой пробы, что это достаточная цена за прощение?
— Ты когда едешь, Дарка?
— В субботу.
— Я зайду к тебе с нашим Стефком, и мы вместе поедем на вокзал. Ладно?
— Конечно. Как же может быть иначе? Ведь мы же вместе приехали в гимназию.
— Да, но тогда вместе с нами ехал и Данко.
Дарка перевела разговор на другое:
— Орыська, я должна идти. Хозяйка может в самом деле рассердиться из-за ужина.
— Если ты не злишься на меня, если ты… действительно меня любишь, поцелуй меня, Дарка.
Дарка взяла Орыськину голову в свои руки и поцеловала ее несколько раз, так, как старшие целуют чужих детей. Дарка почувствовала, что нет силы, способной возродить между ними прежнюю сердечность. В ее душу закралось сомнение: правда ли все, что рассказала Орыська? А может быть, и это хорошо сыгранная роль, чтобы вернуть доверие подруг, а затем обо всем доносить Мигалаке? Ну разве можно любить, когда не веришь тому, кого любишь?
XIV
Уже перед самым отъездом пришло письмо от мамы и папы. Папа писал, что одновременно с письмом посылает деньги за квартиру и на проезд, что из дома в этом месяце никто не приедет, ведь Дарка через несколько дней будет в Веренчанке. Пусть Дарка узнает, когда едут Орыська и Стефко («Папа добрый, думает Дарка, очень добрый, но он ничего не понимает. Мама, наверно, прибавила бы к именам Стефка и Орыськи еще и Данка!»), и едет вместе с ними. Лучше всего заранее дать Стефку деньги на билет. Пусть он купит для нее билет и хранит у себя. У Дарки в голове должен быть только чемодан. В поезде лучше не открывать окна. В вагонах бывает жарко натоплено, и можно схватить насморк. Пусть дети не забудут купить себе свечку в дорогу, а то очень неприятно ехать в темноте. В Веренчанке Дарку, конечно, кто-нибудь встретит. («Мама! О, мама отлично знает, что для дочки, живущей на «станции», самое главное!») Мама очень рада, что увидит свою дочку. Ведь мама уже шестой месяц не видела своей «барышни». Дарка, наверно, похудела? Мама такая «взрослая», а, как школьница, зачеркивает дни в календаре до пятого января.
Из-за этого маленького «птенчика» весь дом перевернулся вверх дном. Может быть (если только Славочка позволит), мама придет на станцию. Пусть дочка наденет в дорогу гимназическую шапочку (но если будет сильный мороз, надо натянуть на уши белую шерстяную), чтобы все в селе видели, что это не кто-нибудь, а гимназистка пятого класса приехала домой на святки. Знает ли Дарка, что через полгода она уже будет в высшей гимназии?
Но мечты после, а теперь надо, чтобы Дарка не забыла привезти домой все летние чулки, трусики, платья. Мама их постирает, заштопает, выгладит. К весне у Дарки будет все как новое.
«К весне», — вздрагивает Дарка. Она тогда уже не будет ходить в класс. Мама пишет о каком-то горьком миндале и еще о чем-то, что надо купить и привезти домой, но Дарка не дочитывает письма. Она прячет его в книжку, чтобы как можно надольше прогнать мысль о том, что весной она не будет ходить в гимназию.
Надо думать о другом, заниматься чем угодно, только забыть о случившемся. Хотя бы на время праздника.
Как же ей встретиться с Данком? Она не хочет думать, что ее сердце уже обуглилось от тоски по нем. Не хочет думать о себе. Если бы можно было вообще забыть, что она живет. Теперь ей надо повидаться с Данком, потому что так приказал Цыганюк (не надо думать… не надо думать о встрече возле музыкального училища!).
После уроков Дарка нарочно очень долго надевает шапочку перед оконным стеклом, нарочно долго не может собрать свои книжки, в надежде, что Лидке надоест её ждать.
И Лидке надоело (от кого Дарка слышала такое сравнение: «Терпеливый, как зеркало»?) ждать. Ну вот! Дарка выбегает на улицу (надо знать, что в последние две недели девочки учатся в первую смену, так же, как и мальчики) и ждет Данка. Вот и он. Его широкие плечи движутся среди синих плащей и ярких девичьих шапочек. Начиная с шестого класса, вместе с мальчиками ходят и девочки-заочницы. Им не хочется носить обязательную форму, и они выглядят цветными фонариками на фоне этого темно-синего моря.
У ворот Дарка чуть не теряет Данка, но на улице снова видит его. Он не один, а с двумя товарищами. Дарка не смущаясь бежит за ним: возможно… он оглянется, увидит ее и отойдет от этих мальчишек. Но они идут вместе и смеются, как умеют смеяться только мальчишки на пороге своего созревания. Посмеявшись, толкают друг друга локтями и маршируют дальше. А Дарка опять бежит за ними.
Вдруг кто-то останавливает ее.
— Куда ты бежишь?
— Орыська, я должна поговорить с Данком… Необходимо…
Черновицы сделали из Орыськи настоящую даму:
— Так почему же ты не остановишь его?
Не спросив Даркиного согласия, она делает несколько быстрых шагов и вот уже стоит возле Данка. Тот сразу же прощается с мальчишками. По его лицу видно, что ему приятна эта задержка. Орыська что-то говорит, машет рукой: «до свидания» — и уходит. Данко остается один на один с Даркой.
— А ты… что? — В его голосе столько разочарования, что Дарка готова бежать, не проронив ни слова. Но разве она для себя задержала его?
Ни с того ни с чего начинается такая вьюга, что ветер валит с ног. От холодного ветра нос у Данка покраснел. Красивое лицо стало жалким, но тем более родным для Дарки.
— Так это ты? — Данко как бы осознает разочарование. Но в ту же минуту в нем одерживает верх хорошо воспитанный юноша. — Ты знаешь, я думал на этих днях зайти к тебе. Хотел спросить, когда ты едешь домой. В субботу вечером или в воскресенье утром? Наша «братия» (Дарка не знает, кто теперь у него «братия») едет в субботу… давай и ты…
Это не просьба, не надо себя обманывать: мол, ему нужно, необходимо, чтобы она ехала вместе с ним. Нет, это просто вежливость, которая заставляет незнакомых людей потесниться в вагоне: «Пожалуйста, присаживайтесь, мы подвинемся».
Дарка представляет себе, как приятно стоять с милым у окна вагона, дышать на заиндевевшее стекло и любоваться пляской искр во тьме. А колеса стучат… И чтобы услышать слово, надо близко склониться друг к другу.
— Я тоже еду в субботу…
— Ты что-то хотела мне сказать? — вдруг вспоминает Данко.
И этот неожиданный вопрос вырывает у Дарки ответ, пугающий даже ее:
— С кем ты в прошлый понедельник шел после музыкальных занятий?
Как это случилось, что она спросила о том, о чем не хотела, о чем клялась себе никогда не вспоминать?
Данко задумывается, так, будто он не провожает Лучику каждый четверг и понедельник.
— В прошлый понедельник? Ах, я провожал панну Джорджеску, которая играет со мной дуэт.
Дарка чувствует, что он не хотел бы касаться этого. Чувствует и то, что она должна (именно «должна») поговорить об этой Лучике, хотя каждый вопрос и ответ причиняет ей боль.
— Она сама просила, чтобы ты проводил ее?
Данко не забывает о своем хорошем воспитании даже под перекрестным огнем Даркиных вопросов.
— Что ты? Разве прилично девушке самой просить об этом?
Дарка думает: «У меня когда-нибудь разорвется сердце от его беззастенчивой правдивости. Мог бы хоть чуть-чуть солгать!»
— Данко, а почему ты провожал ее? Ведь было не поздно и не темно…
Данко щурит глаза от смеха, что уже овладевает им.
— Дарка, откуда ты можешь знать? Может быть, было и поздно, и темно? — Но тут же говорит сердечно: — Она такая веселая, эта домнишора Лучика! Все ученики хотели бы провожать ее, но она не хочет идти с кем попало…
Если бы не мучительная правдивость Данка, эти слова можно было счесть хвастовством.
«Даночко, я прошу тебя… я не хочу!..» Но стыд, едкий стыд сжимает Дарке губы, и когда она опять раскрывает их, то они говорят уже что-то совсем другое:
— Ты не должен с ней ходить! Это же позор, что ты ходишь с ней! Ведь она дочь префекта!
Данко поднимает кверху брови, и от этого словно расширяются его зрачки.
— Ну и что, если дочь префекта?
Как? Этот самый сильный аргумент, который должен переубедить, устыдить, протрезвить, избавить Данка от опасной симпатии к дочке префекта, отскакивает от его сознания, как горох от стенки?
— Румыны наши враги… Ты ведь знаешь? — говорит Дарка и одновременно думает: «Домнул Локуица не враг. Домнул Локуица — нет, а префект Джорджеску — конечно да».
Данко смешно.
— О, можешь быть уверена, что Лучика не враг мне! Ха-ха!.. Лучика — мой враг! Что ты говоришь, Дарка? У них дамы из общества не суют нос в политику. Они занимаются только тем, чем положено заниматься дамам… Стараются быть красивыми, шикарными, развлекаются… Если бы ты знала, как румынские дамы из общества умеют пить вино! За таких «врагов» можешь быть совершенно спокойна. Подожди, — припоминает он что-то. — А может быть, моя маленькая невеста просто ревнует?
Ущемленная гордость сразу заговорила в Дарке:
— Я ревную? К кому? К этой Лучике, которая так же, как ее мать, будет только краситься и сидеть у зеркала?.. Мне ревновать к этой кошке? К этой крале?
— Зато моя Дарка прицепит саблю на бок и пойдет воевать за мать-Украину!
— Данко! — вскрикивает Дарка. — Как ты смеешь смеяться над такими вещами?!
Данко посмотрел на нее, словно хотел спросить: «Над чем смеяться?» Он берет ее за руку, чтобы оправдаться, объяснить, что у него и в мыслях не было обижать ее. Но Дарка вырывает руку, чуть не вывихнув ее при этом, чтобы только освободиться от него.
— Пусти… пусти меня! Ты не знаешь ничего, что происходит. Уходи, Данко… Уходи… мы обо всем поговорим дома, в Веренчанке…
— Как хочешь… Только ты становишься совершенно невозможной. С этим надо кончать…
Он пожимает плечами, приподымает фуражку и уходит.
Он сказал, что надо кончать? Он так сказал?
И неожиданно откуда-то появляется изменчивый огонек надежды: разговор в Веренчанке. Только в их Веренчанке многое еще может измениться к лучшему!
XV
Все произошло точь-в-точь так, как представлял себе папа: Дарка дала Подгорскому деньги и попросила спрятать ее билет вместе с Орыськиным. Горького миндаля и рому маме не купила. Забыла. Совсем забыла. Разве мало было у нее забот? Вспомнила в самую последнюю минуту, когда упаковывала вещи и выронила из книжки мамино письмо. Хозяйка утешила, сказав, что миндаль можно заменить косточками слив, а ром купить и в Веренчанке. Разве там нет корчмы?
Стефко Подгорский подъехал на санях к самому дому. Было уже поздно. Фонари и оранжевые блики витрин освещали тротуары. В воздухе пахло свежим чистым снегом, как травами. Зазвенели колокольчики, и санки понеслись по гладкой дороге. Дарка закрыла глаза: лететь бы вот так под звон колокольчиков и не иметь на сердце ни двойки, ни маминых слез, ни своего осиротевшего будущего.
Орыська всю дорогу до вокзала безостановочно молола языком. Стефко молчал.
Дарка открыла глаза и впервые за все их знакомство долгим взглядом посмотрела ему в глаза (он сидел на скамеечке напротив). Сколько передумал этот лоб, сколько выстрадали эти глаза с тех пор, как Ляля Данилюк уехала в Вену!
На вокзал приехали за семь минут до отхода поезда. Когда входили в вагон, подлетел с чемоданом Данко.
— Данко, — задержал его Стефко, — Веренчанка едет в этом вагоне.
— Я пересяду к вам позже, до Кицмани у меня есть компания!
Орыська внимательно посмотрела на Дарку. Хотела что-то спросить, но ее поразило Даркино несчастное лицо, и она только сочувственно шепнула:
— Не принимай так близко к сердцу… Это он нарочно делает! Знаешь, кого любишь, того всегда хочется немного помучить.
— Ой, Орыся!..
Даркино простое сердце не понимало такой игры.
Поезд громыхал. От паровоза летели искры. Только не с кем было подышать на заиндевевшее окно…
На станции Кицмань в вагон, где ехала Дарка, никто не вошел.
В Веренчанке Дарку ждали папа, мама. Мама показалась такой помолодевшей, такой свежей, что Дарка бросилась ей на шею, чтобы расцеловать это совсем девичье, красивое лицо.
— Ты, мамочка, съешь меня, когда узнаешь!
— Что такое, Дарочка? — испугалась та.
— Ты знаешь, я не купила ни миндаля, ни рому, и все удивлялась, откуда у меня лишние деньги…
— Глупости! — весело рассмеялась мама, которая уже, видно, подготовилась к худшему. — А с папой почему не здороваешься?
— Ах, правда!..
Папа стоял у санок.
— Я должна папе так много рассказать!.. — Дарка прижалась к папиному лицу.
— Деточка моя! — Отец поцеловал Дарку в лоб.
Дома свет горел в двух комнатах. Это, безусловно, в честь Дарки. Бабушка не смогла выйти во двор, даже когда санки подъехали к самому дому. Зато, когда Дарка проходила мимо окна, бабушка поднесла к нему большую, в синей перелинке, куклу. Первое, что бросилось Дарке в глаза, это что Славочка была как с картинки. Дарка заговорила с ней, и куколка улыбнулась. Так они с первой встречи почувствовали себя родными сестрами.
Но через минуту куколка скривила беззубый ротик и разревелась. Плач перешел в визг, и все — мама, бабушка, даже Гафия — забыли о Дарке и раскудахтались вокруг Славочки. Отец распрягает лошадей, и Дарка стоит одна, словно лишняя в этой комнате! Зачем она здесь? Никто не занимается ею. Кому какое дело, что она приехала с занятий домой, где не была четыре месяца! О, как она была глупа, когда представляла себе, что все здесь ждут ее, наперегонки станут расспрашивать!
Наконец Славочка, устав плакать, выпила свое молочко и уснула. Теперь мама вспомнила, что приехала домой ее старшая дочь.
— Как тебе живется на «станции», доченька? По тебе не заметно, что там плохо. А как с табелем? Будет двойка?
Папа не понял маминого шутливого тона (мама шутит, а ведь это правда, страшная правда!) и вскипел:
— Что ты говоришь?! Наша Дарка — и двойка? Когда я был там перед последней конференцией («Как раз перед скандалом с Мигалаке», — вспоминает Дарка), учитель Слепой не мог нахвалиться ею. Правда, наша дочка никогда не была сильна в математике, и Слепой как ни хвалил ее прямоту, не поставил, не смог поставить ей больше, чем «посредственно». Зато по другим предметам — пожалуйста: по украинскому «отлично», по естествознанию «отлично», по гимнастике (шутит отец) «отлично»… Чем-то там дочка провинилась перед учителем Мирчуком… нарушила какие-то правила, и поэтому по-латыни только «посредственно». Мне кажется, в журнале не было отметок по физике, румынскому языку и по истории… Ты знаешь, — обратился отец к маме, — эту нашу егозу все учителя любят…
Мама откидывает непослушные Даркины волосы, падающие на левый глаз.
— Подожди, отец, подожди… Это только первый год, да! Дочка еще не освоилась с гимназией… Но могу поспорить с тобой, что до получения аттестата зрелости она станет отличницей… А пока, — на лице у мамы шаловливая гримаса, — раз первый табель в гимназии без двоек, тебе, папочка, еще на этой неделе придется поехать в Заставную и купить дочке хорошие коньки.
У Дарки начинает гореть лицо, словно от пощечины. Так обманывать своих родителей! Самых дорогих, самых лучших под солнцем родителей!
— Нет, мамочка, мне не надо коньков! Правда! К чему такой расход? Лучше на эти деньги купить что-нибудь Славочке, — старается облегчить свою совесть Дарка.
Мама крепче прижимает дочку к груди.
— Очень хорошо, доченька, что ты такая добрая и бережешь нас. Маму радует, что у нее такая разумная дочь, но скажи: разве тебе не хочется побегать на катке? А ведь барышне из пятого класса гимназии не к лицу носиться с мальчишками на деревянных колодочках… А что бы ты не думала, что мама занимается только Славочкой («и как это мама угадала ее мысли?»), а ты здесь уже ничего не значишь, пойдем со мной!
Мама силой тянет Дарку в другую комнату, открывает шкаф и снимает с верхней полки прекрасный синий, ручной работы свитер, такую же шапочку, шарфик, даже такие же перчатки…
Это уже слишком, и Дарка вместо благодарности с плачем кидается маме на грудь.
— Я недостойна, мамочка, поверь мне… я недостойна твоего доброго сердца… недостойна, чтобы вы меня так любили!
Дарка так отчаянно рыдает, что из кухни прибегает с ножом бабушка:
— Что случилось?
Прибегает откуда-то и Гафия.
— Ой, что случилось?
У мамы дрожат руки. Она глазами просит всех замолчать. Обнимает Дарку и ведет к кровати. Тут Дарка начинает спазматически рыдать… Бабушка мочит полотенце в уксусе, и мама крепко растирает им Даркины виски.
Вскоре Дарка поднимает на маму опухшие от слез глаза:
— Мамочка, пожалуйста, убери лампу, я уже хочу спать.
Мама послушно исполняет Даркину просьбу. Дверь, возможно, из уважения к Даркиным нервам, плотно не закрывают. Из комнаты, где разговаривают шепотом, падает в спальню узенькая полосочка света и доносится голос отца (как же он взволнован!):
— Слишком измучился ребенок!
Бабушка плохо слышит и потому говорит громко:
— Ты, Климця, сама виновата в этом. Скажу тебе искренне, не хотела я вмешиваться, не мое дело, но теперь скажу тебе, что ребенку никто не пишет таких сентиментальных писем. Девочка и без того впечатлительная, а ты еще ее растравляешь. Разве я писала что-нибудь подобное тебе или мальчикам, когда вы учились в городе? Я писала: «Посылаю тебе столько-то и столько-то на «станцию», остаток на подметки для туфель, учись, а будешь плохо себя вести, приедет отец по твою душу» — и все. И ты должна признать, что нервы у вас были поздоровее Даркиных. А ведь никто не может сказать, что я не любила своих детей. Но моя любовь, не сердись, Климця, была более разумной…
Голос мамы звучит возмущенно:
— Именно потому, что Дарка впечатлительная, я должна быть нежна с ней, потому что жесткость может привести к катастрофе.
К какой катастрофе? Что значит «катастрофа»?
И Дарка видит два поезда, налетающие друг на друга. Ее мысли путаются.
Из углов на цыпочках подходит ласковый сон и осторожно укладывает Дарку в теплую, дремотную постель.
Хотя Дарка нашла под елкой то, о чем давно мечтала, — прекрасный альбом с нарисованной на нем головой белой лошади, а колядники каждую коляду заканчивали словами: «Добрая барышня по имени Дарка» — и она собственноручно выносила им колядное, — все-таки этот сочельник не был таким волшебно-праздничным, как предыдущие.
Славке сразу после обеда захотелось плакать, а потом спать, и все пошло вверх тормашками. Дарка ушла спать со своим новеньким альбомом и с глухой досадой на сестричку, испортившую вечер, которого она ждала полгода.
На рождество Данко дирижировал церковным хором. Дарка с бабушкой и папой стояли (мама опять из-за Славочки осталась дома) налево от алтаря, на «господской половине», и она могла, не обижая стареньких святых, смотреть на Данка. Орыська обошла Софийку и стала рядом с Даркой.
— Когда будешь выходить из церкви, задержись. Стефко хочет с тобой о чем-то поговорить.
— Со мной? — удивилась Дарка.
— Да! — так громко сказала Орыська, что отец Подгорский поднял глаза от евангелия и посмотрел на дочку взглядом, полным укора. Та, с опозданием спрятавшись за Дарку, шепнула ей: — Ух, и достанется же мне дома…
По окончании службы Стефко сам нашел Дарку. Так и полагается: не у нее же к нему дело, а у него к ней.
— Дарка, ты увидишься с Данком?.. Что за глупости я спрашиваю! Конечно, увидишься! У меня к тебе просьба… Мне неудобно обращаться к Данилюку… Своим сестрам я тоже не могу сказать об этом. Видишь ли, я хотел бы пожелать Ляле веселых праздников в Вене… Спроси у Данка ее адрес. Скажи, что сама хочешь писать ей… Только прошу тебя, Дарка, не говори ему, что это для меня. Ладно? Когда я смогу зайти к вам за адресом? Я хотел бы еще сегодня. А то пока письмо дойдет до Вены, праздники кончатся…
Дарка пожимает плечами:
— Откуда я знаю, увижу ли Данка… Сегодня к нам должна приехать тетка… Да, сегодня невозможно. Знаешь что? Скажи ему, что я завтра в десять буду на катке. Ты знаешь, мне папа купил новые коньки…
Стефко не обращает внимания на эту новость и тем обижает Дарку: он, верно, думает, что на свете только одно важное дело — его Ляля?
— Дарка, а может быть, ты все-таки сегодня встретишься с Данком?
— Нет, я уже сказала, что сегодня нельзя, — говорит Дарка назло Стефку, который ничего не хочет знать, кроме своих дел.
Эх, какой же он глупый! Можно подумать, что она там, в Вене, только и думает о нем!
XVI
Утром Дарка проснулась, чувствуя на губах терпкий привкус. Гости разъехались далеко за полночь, и голова у нее была тяжелая, будто приставленная.
На ручке кресла вместо формы висит домашний халатик. Да, дома можно вставать в девять, надевать халатик прямо на ночную рубашку и ходить по дому, как голландка, в больших, смешных шлепанцах. Папа, наверно, еще спит, а «женская половина» в кухне купает Славочку, оттуда слышен плеск воды и приговаривания:
— А кто будет делать купки-купки! Ой, мои косточки-росточки!.. Вот так… так… ребенок хочет выпрямить ножки…
Дарка чувствует легкий укол ревности в сердце. Неужели они все время так нянчатся с этим «птенчиком»?
Дарка почему-то не может сейчас пойти в кухню и присоединиться к хороводу, пляшущему в честь ясновельможной панны Славы. Дарка тихонько приоткрывает дверь в комнату, где спит папа. Он лежит, закинув руки за голову, какой-то усталый, хотя в школе у него тоже каникулы.
— Дарка, иди сюда, к папе!
Эта фраза живет еще с поры, как Дарке было полтора года. Позже «иди к папе» означало подходить по воскресеньям к кровати отца вместе с псом Цыганом, становиться на колени у постели и класть голову папе на грудь. А Цыган должен был сидеть в вежливой позе рядом с кроватью. Потом Цыган постарел, а Дарка подросла. Она обленилась и в праздник просыпалась позже всех.
И теперь, когда время давно смыло маленькие детские следы, эта фраза теплой волной разлилась у нее по сердцу.
— Иди, доченька, к папе и расскажи, как тебе в гимназии… Какие у тебя подружки…
Дарка думает: «Если бы ты знал правду, ты не спрашивал бы с таким легким сердцем».
— Мне хорошо там, папочка, но учиться дома было лучше…
Папа ласково гладит Дарку по лицу.
— Что ты говоришь, деточка! Ты еще не привыкла к гимназии, поэтому тебе так кажется… Подожди, когда-нибудь вспомнишь и мои слова: время, проведенное в гимназии, будет лучшим в твоей жизни… Впрочем, может быть, теперь среди гимназической молодежи царит другой дух?
Папа задумывается.
— Папочка, расскажи… как было в гимназии в твое время?
— Дай мне коробку с табаком. Вон там, Дарка, на этажерке, на верхней полке… там… там… под «Каменщиками». — Отец свертывает самокрутку, затягивается. — Во-первых, я ходил еще в немецкую гимназию…
Дарка делает большие глаза.
— Разве папа ходил в гимназию?
— А ты не знала этого? А откуда папа знал бы все конъюгации и деклинации[28] из латинской грамматики? Как же иначе я мог бы обучать тебя латыни?
Дарка ждет. Она не решается спросить отца, почему он не закончил гимназию. Считает этот вопрос бестактным.
— Мы были тогда в восьмом классе, — говорит отец о себе и своих далеких товарищах, — перед самыми выпускными экзаменами. Как раз шли выборы в венский парламент… Да, точно, девятьсот первый год. Галицкие товарищи попросили нас помочь им поагитировать в селах за народного кандидата… потому что тогда, должен я тебе сказать, всякие господа и их прихвостни очень баламутили народ… Надо было разъяснять народу… наглядно доказывать, кто его враг, а кто друг… Нам достали крестьянскую одежду, переодели и развезли по селам… О, если бы ты слышала, как твой папа говорил! Мужики шапки кидали в воздух… Да, доченька, тогда были другие времена… И знаешь, что меня выдало?
Дарка затаила дыхание.
— Руки! У меня были «господские», слишком выхоленные для мужика руки, хотя сам я из мужиков. Это бросилось в глаза жандарму… По ниточке к клубочку… Словом, меня и семерых моих товарищей выгнали из гимназии. Надо знать, что тогда гимназист восьмого класса был уже парнем с усами… Среди нас были такие, которых уже с пятого класса брали в солдаты! О, наше поколение умело жить и приносить жертвы во имя идей…
Дарка чутко прислушивалась: не прозвучит ли хоть нотка сожаления, хоть отголосок сетования о загубленной карьере? Может быть, теперь, через двадцать лет, отец расценит этот порыв как вспышку соломы?
— Да, доченька, так когда-то жила наша молодежь!
В этом звучит не раскаяние, а скорее гордость. Нет, даже еще больше: это упрек современной молодежи, той, к которой принадлежит и Дарка. Упрек в том, что современная молодежь не умеет жить, как жили они.
— Папочка… мой любимый… дорогой… единственный…
Дарка с волнением и благодарностью целует удивленное папино лицо, руки, даже шею.
Сегодняшний рассказ отца принес ей огромное облегчение. Он осветил ее, как солнце, и очистил от всех провинностей. Разве папа не сказал, что дети должны наследовать хорошие поступки своих отцов?
Мама от горя будет биться головой об стену, что дочка ее не кончит гимназию, что дочке не суждено все выше и выше подниматься по лестнице карьеры и благосостояния. А разве матери семерых товарищей отца не делали то же самое?
— Как я благодарна, папочка… Как я благодарна!
Отец приподнимается на локте. Дарка видит по его взлетевшим вверх бровям и опущенным уголкам рта, что он побаивается за ее психику. Приходят на память встревоженные папины слова о Даркиной чрезмерной впечатлительности, сказанные в день ее приезда. «А папа в самом деле готов поверить, что с дочкой не все в порядке!» — с улыбкой решает Дарка.
Девочке мало одного упрека в безыдейности, ей хочется, чтобы отец благословил ее на борьбу.
— Папочка… а если бы я сделала что-то такое, что всему нашему народу принесло бы славу, но за это меня выгнали бы из гимназии… ты сердился бы на меня?
Даркины глаза горят, как в лихорадке.
Папа еще не привык принимать слова дочери всерьез. Все-таки ему приятно то, что она говорит, и он крепко целует ее.
— Что ты можешь сделать, крошечка? Что мы здесь все можем и значим?
И еще в то же утро Дарка убедилась, что не только она «ничего не может».
Дарка уже собралась на каток, когда в комнату вошел ее учитель румынского языка домнул Локуица.
Учитель пришел огородами, через сад, по колено в снегу, словно не хотел, чтобы его кто-то видел у Поповичей. Молдавская, из светлой смушки, шапка резко оттеняла его смуглое лицо с толстым носом и черными глазами.
Домнул Локуица почти не изменился за эти месяцы. Сверстник отца, он был еще строен, подвижен, только лицо расплылось.
И хотя он громко приветствовал Дарку, весело спросил, как живет, и пошутил, что она уже совсем невеста, девушка почувствовала, что его хорошее настроение наигранное, а на самом деле он чем-то глубоко встревожен.
Дарка не ошиблась. Снимая пальто, домнул Локуица сказал папе:
— Думаю, драгуцуле[29], что нам с тобой придется расстаться…
— Ты что? В регат[30] едешь? — спросил отец с искренней грустью. А я думал, ты привык к людям… к нам… Мы с тобой недавно собирались виноград разводить…
— К людям я привык, братец, но вижу, что честному румыну нечего искать в этих местах… Это тебе Локуица говорит… Здесь так: или пропадай, бедняга, или иди на самую подлую работу… А я не способен. Такой уж я родился, таким и помру. Как ты думаешь, Микола?
Папа молчал. Папа ждал, что дальше скажет домнул Локуица, потому что из всего сказанного пока ничего не было ясно.
— Я до сих пор ничего не хотел тебе говорить, а теперь скажу, чтобы ты знал… Я румын, а ты украинец, я «свой», а ты «большевик»… Хотя таскали меня в сигуранцу не меньше, чем тебя…
— Тебя в сигуранцу? — Папа даже присвистнул.
— А ты как думал? Сначала легонечко подбирались ко мне: «Не заметил ли ты, Локуица, чего-нибудь антигосударственного в поведении учителей или среди учеников старших классов?» Локуица ничего не заметил, Локуица пришел сюда учить детей грамоте, а не заниматься тайной службой. А вчера… — он зачем-то огляделся, — вчера мне дали уже написанный донос: подпиши, Локуица, что ты видел, как Попович давал детям читать запрещенные книги… Подпиши, Локуица, что ты собственными глазами видел, как Попович иронически морщился во время исполнения королевского гимна… Подпиши, Локуица, что ты собственными ушами слышал, как Попович называл королевскую армию лапотниками… Ты слышишь, братец? То просят, а то суют тебе ручку… Ты знаешь, я человек нервный… Как схватил эту ручку, так она и треснула пополам у меня в руке… Тогда они мне: «Теперь, говорят, мы знаем, кто ты такой… Это, говорят, мы против тебя самого собираем материал и хотели тебя проверить… Теперь нам ясно, кто в селе людей большевизирует…» Мне теперь тоже ясно, что мне больше нечего делать здесь, в Веренчанке…
— Не может быть, — горячо заговорил папа, словно только сейчас до его сознания дошли слова Локуицы, — этого не может быть! Ты же в своем государстве, ты, как румын, имеешь право добиваться…
Домнул Локуица схватил его за руку и притянул к себе.
— Права в этом государстве… у жуликов и взяточников… А мы с тобой на одинаковых правах. Это тебе говорит Локуица…
Дарке надо было спешить, Данко, наверно, уже ждет ее, а она все не может расстаться со своим учителем. Оттого, что и его таскали в сигуранцу, домнул Локуица стал ей еще ближе и дороже.
Как же ей не хотелось, чтобы учитель уезжал из Веренчанки, хотя она сама теперь была только гостьей в родном селе. Но она думала не о себе, а о папе. Уедет Локуица, на его место приедет новый учитель, который, наверно, подпишет, что он все «видел», и все «слышал» об отце.
И что же будет дальше?
Каток в Веренчанке имеет форму кренделя. Но это сравнение хорошо для маленьких детей. Теперь каток для Дарки — это просто два озерка, соединенных узким протоком. Дальше все так, как на олеографии прошлого столетия, — крутые берега, и камыш, и плотина, и мельница. Дарка подходит ближе к высокому берегу. Надо признать, что Данко очень хорошо катается на коньках. И она тотчас же решает, что не наденет коньков при Данке, пока не научится ездить, как он. Юноша, приветствуя Дарку, делает несколько поистине мастерских поворотов и на коньках взбирается на берег.
— О, у тебя новые коньки? — У него была горячая рука. — Ты их не точила, правда? Если так, то нечего и пробовать…
«Слава богу», — радуется Дарка.
— Может, хочешь пройтись по льду? — Данко щурит глаза от ослепительно блестящего снега.
— По льду? Нет, пойдем лучше берегом.
Данко неохотно отвинчивает коньки.
— Ты хотела сказать мне что-то важное? — дерзко начинает он.
— Я хотела узнать, что пишет Ляля из Вены…
Данко с минуту смотрит на Дарку, потом говорит нараспев:
— У тебя же есть адрес. Я ведь передал тебе письмо от Ляли, забыла? И потом — неужели это так важно, что ради этого я должен был сегодня прийти сюда?
Дарка краснеет. К счастью, она находит, что сказать:
— Нет! Я не забыла, что у меня есть Лялин адрес… Почему ты думаешь, что у меня такая короткая память?
Теперь Данко видит, что он переборщил.
— Ты хочешь узнать о Ляле? Она, как всегда, довольна собой… Теперь готовится к сольному концерту… Ты знаешь, она в письмах уже путает Уляныча с Пражским.
— Ах, так! — вырывается у Дарки сочувствие влюбленному сердцу Стефка.
— У девчонок всегда короткая память, — философствует Данко.
Дарка не понимает, что он имеет в виду. Тогда Данко по привычке склоняет голову набок и спрашивает лукаво:
— Цыганюк не заедет на праздник в Веренчанку?
Дарку вначале пугает это подозрение, но потом в ней вдруг вспыхивает радость: «Это же не что иное, как ревность, самая обыкновенная ревность влюбленных!»
— Даночко, ты думаешь…
Данко презрительно выпячивает губы, они у него тонкие и при этой гримасе напоминают птичий клюв.
— Я ничего не думаю… Ходишь с Цыганюком — ну и ходи… Это твое дело! Что ты хотела мне сказать?
Дарка смотрит на следы от чьих-то больших сапог. Голову она наклоняет так низко, что подбородок и грудь сливаются в одну линию. «Он уже не любит меня», — Дарка очень осторожно, чтобы не изранить сердце, впускает эту мысль в свое сознание.
Данко уже начинает терять терпение:
— Даруся, почему ты ничего не говоришь? Я жду от тебя «важного»…
И Дарка начинает без вступления:
— Ты знаешь, что в Черновицы должен приехать министр и наша гимназия собирается его приветствовать. Ты знаешь об этом. Но наша гимназия не будет его приветствовать, — Дарка говорит безапелляционным тоном, нарочно, чтобы Данко сразу воспринял это как нечто неминуемое, от чего, как от смерти, нет избавления. — Вся гимназия, все наши ученики и ученицы, против этого концерта. — Она сама не понимает, что говорит о том, чего быть может, еще нет. — Все как один, даже самые трусливые, присоединились к нам. Только о тебе одном говорят как о ненадежном… Разве это не позор для всей Веренчанки? Ты знаешь, когда мне это сказали, я не хотела верить… Это не укладывается у меня в голове. Чтобы ты… ты…
Она еще под сильным впечатлением от разговора с папой и от визита домнула Локуицы, сердечная рана еще кровоточит, и ей хочется рассказать Данку очень многое. Он не понимает ее волнения.
— Я уже говорил твоему Цыганюку, что не согласен с этим выступлением товарищей. Ты несправедливо называешь меня трусом. Я не трус, можешь мне поверить. Я только твердо уверен, что такой протест не принесет нашей гимназии никакой пользы, только вред. Зачем же мне быть неискренним? Я вижу, ты очень увлеклась всем этим, но что касается меня, то я ничем не могу помочь — это против моих убеждений, и я не согласен со всеми вами. Наконец, говоря откровенно, я не один, как ты говоришь, — думающих так же, как я, больше.
Дарке вдруг приходит в голову, что весь ее запал, вся ее вера и даже сам успех задуманного дела — все обратится в ничто, если Данко не передумает. Даже ладони чешутся, так хочется схватить его за воротник и трясти, трясти до потери сознания и кричать над самым ухом: «Как ты можешь этого не понимать»?
Дарка не в силах продолжать спокойно:
— Как ты можешь так говорить? Как ты не понимаешь, что это надо обязательно сделать? Все мы должны… должны… даже если нас за это выгонят из гимназии на все четыре стороны… показать сигуранщикам, что мы их не любим, не хотим и никогда, никогда не признаем их хозяевами Буковины!
Эти слова, сказанные от всего сердца, не производят на Данка никакого впечатления. Он воспринимает все как игру. Тогда Дарка впадает в экстаз и начинает повышенным, оскорбительным для таких хорошо воспитанных юношей, как Данко, тоном кричать:
— Конечно, ты не можешь этого понять!.. Ясно, какой же ты украинец? Дома у вас говорят по-немецки… Не возражай, я знаю! Сестра твоя даже не умеет хорошо говорить по-украински! Тебя опутала эта дочка префекта! Да! Да! Ты ведь всегда хвастался своей гордостью, а теперь сам, как собачонка, бегаешь за ней… Да! Да! Все это знают и смеются над тобой, смеются над «гордым и неприступным» Данилюком, которого держит под башмаком дочка префекта! А теперь, если ты не присоединишься к товарищам, знай: все, и даже я, будут рассказывать, что ты изменил товарищам ради девчонки. Можешь не присоединяться к нам… Господин префект, наверно, постарается, чтобы тебя приняли в румынскую гимназию…
— Подожди, Дарка! — Данко старается сдержаться, но голос у него уже хриплый. — Не говори так много. Скажи мне искренне, только совсем откровенно: действительно ли говорят, что я не хочу быть с вами из-за девушки?
В любимых, единственных в мире глазах такое волнение, такая растерянность, что Дарка вынуждена смотреть на носки ботинок, чтобы среди бела дня не упасть ему на грудь и не признаться: «Я все выдумала, любимый… Никто не думает о тебе так плохо». Но разве отец не пожертвовал своей карьерой ради идеи? И она тоже должна быть твердой.
— Да, это правда. Так говорят. И мне стыдно за тебя.
Данко поднимает голову:
— От кого ты слышала? Кто тебе сказал? Дарка, я этого так не оставлю!
Дарка снова возле него добрым ангелом.
— Ну хорошо ли будет, если ты предашь это дело огласке? Сейчас же по гимназии пойдет молва, что ты скандалишь из-за девушки, да еще из-за дочери префекта. Лучше всего, если ты без шуму скажешь Цыганюку, что не будешь выступать в концерте. Скажи сам: разве не лучше вылететь из гимназии, чем доиграться до того, чтобы пальцами на тебя показывали?
Данко притих и задумался. Так они идут довольно долго. Наконец Данко откликается:
— Может быть, ты и права, что не надо разглашать это дело, но я сам к Цыганюку не пойду. Если он еще раз обратится ко мне, я… если это нужно, не буду выступать в концерте. Невелика беда, если закончу гимназию в Вене. По-немецки я говорю так же хорошо, как и по-украински. А ты… все-таки не хочешь сказать, кто так говорил обо мне? Я знаю, что не могу заставить тебя. Ты уже больше держишься за Цыганюка, чем за меня. Иначе и не может быть. Я тебе что-то скажу, Дарка («уже не Даруся»), я не смеюсь… Впервые я, кажется, понимаю, почему Цыганюк тебе нравится больше, чем я… Кто знает, может быть, так для тебя даже лучше…
Как? Он говорит, что так лучше для нее? Губы у Дарки начинают дрожать. Ей приходится нагнуться за горсточкой снега, чтобы Данко не заметил, что происходит в ее сердце.
Но Данко думает о Лучике.
— А вот со своими подозрениями насчет Джорджеску друзья твои действительно смешны. Что в этом общего с их бунтом? Конечно, мне не хочется, чтобы меня считали предателем. Я могу даже самому министру сказать, что не хочу играть в его честь. Но при чем здесь эта невинная девушка? Этого я, ей-богу, не понимаю!
Зато Дарка очень хорошо понимает. Понимает окончательно, что ее последняя ставка бита. И теперь ей безразлично, как человеку, проигравшему все свое состояние.
— Потому что мы вообще не должны дружить с угнетателями. Никогда и нигде… Наши девушки не должны ходить с румынскими барчуками, а юноши с домнишорами… потому что так можно привыкнуть к ним, привыкнуть к тому, что нами правят румынские бояре…
Она говорит нескладно, не всю правду, с каким-то смутным убеждением, что надо рассказать Данку о Локуице и дать ему понять, что и румыны делятся на угнетателей и угнетенных. И если быть честным, то дело не в том, что Лучика румынка, а в том, что она дочка префекта. Но инстинкт обиженной женщины подсказывает Дарке, что Данку не надо говорить об этом. Да еще в такую минуту.
— Ты знаешь, что я теперь дружу с Цыганюком и я… смешно… ничуть не ревную к какой-то Лучике, но я тебя очень прошу: оставь эту дочь префекта! — И она сама не знает, откуда у нее берутся силы, чтобы принести еще одну, наивысшую, жертву: — Есть одна хорошая девушка… украинка… наша… которой ты нравишься. Если хочешь, я познакомлю тебя с ней…
Лицо Данка подернуто непонятной Дарке тенью грусти.
— Ты добрая девочка, Дарка, но зачем мне знакомиться с этой украинкой? Ты думаешь, что мальчики столько же думают о вас, сколько вы о них? Лучика, — он впервые назвал ее по имени, — мне нравится потому, что нас связывает музыка… Я говорю тебе: из оркестра я выхожу ради товарищей, хотя это и против моих убеждений, но в мои частные, чисто личные дела я не позволю никому вмешиваться! В конце концов, ты настолько хорошо меня знаешь, что поверишь — будет так, как я говорю…
Да… Она уже знает его. А если и не знала, то сегодня узнала.
«Никогда я не была ему так дорога, как она… Никогда!»
— Я пойду, Данко. — Дарка даже пробует улыбнуться.
— Если позволишь («Боже, что за вежливость!»), я немного провожу тебя.
Но на сегодня довольно.
— Спасибо, я хочу идти одна… Я не говорю — Данко не смотри так на меня, — что не хочу идти с тобой… я только хочу побыть одна…
Лучше прямо сказать ему: «Оставь меня наедине с моей болью. Не видишь разве, как мне больно все это?»
— Пусть будет по-твоему, — серьезно говорит Данко.
Он крепко пожимает протянутую Даркой руку, долго держит ее в своей и, подумав, подносит к губам. В этом крепком и одновременно бесстрастном поцелуе есть и просьба о прощении, и желание попрощаться.
Дарке хочется бежать от этого места и от этого юноши, но ноги ступают по снегу медленно и тяжело.
«Теперь все кончилось безвозвратно. Но почему я не плачу? Почему не кричу?»
Она сама напугана этой окаменевшей тишиной в своем сердце. Только на плечи и грудь давит такая тяжесть, что Дарка вынуждена остановиться и передохнуть.
«Хоть отец и не окончил гимназию, хоть он, бедняга, должен был зарабатывать самый нелегкий хлеб на свете, а все-таки я заплатила дороже, чем он».
XVII
Жизнь идет своим чередом, но Даркины наблюдательные глаза замечают, что не все ладно в ее движении. У Дарки тяжело на сердце из-за Данка, но она не должна показывать виду. Приходится радоваться конькам, по нескольку раз примерять их в комнате и скорее бежать на каток, чтобы не огорчать своим равнодушием папу и маму. И так во всем. Поднесет Славочка ножку к губам — надо хлопать в ладоши и смеяться этому. Войдет бабушка с мороза и начинает топать по комнате — надо топать с бабушкой.
Дарка наверняка знает, что папу опять вызывали в сигуранцу, но маме он сказал, что ходил к отцу Подгорскому осматривать зимовье пчел. В присутствии мамы он старается чаще улыбаться, но Дарка хорошо видит, какой неестественной и жалкой выглядит его улыбка.
Мама вновь и вновь убеждает бабушку, что домнул Локуица пошутил: никто не предлагал ему подписывать донос на отца. Старуха не верит, но поддакивает, чтобы не огорчать маму. Дарка подозревает, что маме это известно, но она, чтобы в свою очередь не огорчать бабусю, прикидывается, что ничего не замечает.
Ах, просто сумасшествие!
У Подгорских тоже событие, которое каждый из них переживает по-своему. Муж Софьи, Дмитрий Уляныч, получил должность гимназического учителя в Гицах. Софийка сияет от счастья, что наконец будет жить «самостоятельно», пани учительшей, а Уляныч ходит подавленный — ему не хочется уезжать с Буковины. Орыська поедет с ними и будет ходить там в румынскую гимназию. И все, опять-таки, кроме одного Уляныча, страшно рады тому, что Орыська будет учиться в румынской гимназии. Кажется, даже она сама не очень огорчена этим.
Дарка ничего не понимает. Как-то не сдержалась и спросила Орыську:
— Твой папа — такой патриот, как же теперь будет? Ты же там совсем орумынишься.
Орыська пожимает плечами:
— Папа говорит, что интеллигенция должна приспосабливаться, но крестьяне… крестьяне должны держаться твердо. Никто не может упрекнуть папу. Его проповеди всегда так патриотичны!
Дарка с грустью смотрит на подругу и не высказывает своих мыслей.
Орыська жила в эти дни больше будущим, чем настоящим. Прошлого, их общего прошлого, словно совсем не существовало для нее. Она даже не обещала писать (правда, это мало интересовало Дарку).
— Так любопытно, какая у нас будет квартира, с кем там придется дружить, — мечтала вслух Орыська.
Дарка не хотела касаться своего будущего. Не хотела знать сегодня, что будет завтра, когда папу уволят с работы или, в лучшем случае, перебросят туда, где раки зимуют. А если ее выгонят из гимназии и она на всю жизнь останется недоучкой? Ей не хотелось думать о том, откуда такая несправедливость, такое мучительное неравенство: Орыська и Данко, которые ничего не делали «ради дела», еще получат и поощрение за свою безыдейность. Орыська окончит гимназию в Гицах, Данко — в Вене, а Дарка… Почему это так?
В последний день перед отъездом пришла заблудившаяся, запоздалая открытка от Ивонка Рахмиструка. Сосновая ветка с одной заплаканной свечкой. Открытка была измята, со многими следами грязных пальцев. Верно, на почте в Веренчанке эту «цацу» передавали из рук в руки. Может быть, поэтому Дарка встретила ее тепло, как встречают усталого спутника. Жалела, что Ивонко не нравится ей и, верно, никогда не понравится.
Дарка не понимала, как могло так быстро промелькнуть время. Еще недавно она выбрасывала из чемодана грязное белье, а теперь укладывает чистое, еще пахнущее мылом и уезжает из дома. Мама положила поверх белья кусок торта, завернутый в пергаментную бумагу. Он должен некоторое время напоминать дочке о доме и подсластить горькую тоску о нем.
Дарка сдерживается изо всех сил.
«Я не смею плакать во время прощания… Я должна быть стойкой…»
И когда мама протянула к ней руку и сказала: «Будь здорова, доченька!» — Дарка действительно не заплакала. Она только крепко обняла маму за шею, прижалась к ней лицом и так, чтобы никто не слышал, попросила:
— Мамочка! Не отпускай меня, мамочка!..
Мама (хоть ничего не знала о Даркиной истории с Мигалаке) громко разрыдалась, еще крепче прижала ее к себе и сказала растроганно, что никуда не отпустит свою доченьку.
Папины робкие уговоры и просьбы не помогали. Вмешалась бабушка, сильной рукой она втолкнула маму в Славочкину комнату, а Дарку папа на руках отнес в сани.
По дороге нагнали Орыську, которая, не дожидаясь брата, собралась пешком на вокзал. Остановили лошадей, и Орыська уселась возле Дарки. Орыська старалась быть грустной, но это ей не удавалось, она вся так и сияла и больше говорила о Гицах, чем о подругах в Черновицах, с которыми, может быть, уже никогда не увидится.
Подошли Данко и Стефко. Надо было прощаться с отцом. Дарка спокойно закинула ему руки за шею, спокойно приняла и вернула поцелуй. Перед отцом она не чувствовала себя теперь виноватой за двойку по румынскому.
Поезд ухнул, свистнул, словно подвыпивший парень. Папа уже собрался уходить, но Дарка снова обняла его, прижалась лицом к его жесткой щеке и сказала на прощанье:
— Папочка!
Отец остановился, немного удивленный. Может быть, он ждал, что Дарка скажет ему что-то важное? Но как-то так вышло, что все самое важное, вся боль и надежда уместилась в одном этом слове.
Данко подошел к Дарке (он, видно, тоже не мог еще привыкнуть к тому, что она чужая для него).
— Идем, Даруся, а то поезд удерет у нас из-под носа!
Он схватил Даркин чемодан и забросил на свой. Дарка помахала отцу из окна вагона. Поезд еще раз загудел и тронулся.
Данко усадил Дарку на лучшее место, у окна, а сам вышел со Стефком в коридор. Дарка слышала только их беззаботный смех.
В Кицмани в поезд вошло много учеников. Впереди всех с пакетами, словно спекулянтка с корзинами, пробирался товарищ Данка Кудла.
— Здорово, коллега! — обрадовался Данко.
Кудла, увидев Дарку, предложил:
— В последнем вагоне едет ваша Косован. Здесь мы стоим семь минут. Если хотите…
— Нет, спасибо. — Дарке ничего и никого не нужно.
Данко наклонился к ней:
— Посмотри, пожалуйста, за моим чемоданом, я поищу место для товарища.
Дарка вздохнула.
Вскоре в вагоне стало темно. Мост через Прут напомнил пассажирам, что уже пора снимать вещи с полок. Дарка заглянула в соседнее купе:
— Данко!
Но он еще не наговорился.
— Я сейчас помогу тебе снять чемодан. Мы с Кудлой поедем трамваем.
«Уж лучше Кудла, чем Лучика», — равнодушно подумала Дарка, поднимая воротник пальто.
В открытые двери вагона заползал едкий туман. Но Черновицы встретили пассажиров ярким светом большого города. Люди и вывески железнодорожных контор вырисовывались очень резко. Сердце тоже болело очень резко.
XVIII
Первый день занятий после рождественских каникул был как праздник. Девушки встречали одна другую восторженными криками, радовались каждой входящей в класс. Все привезли с собой вольный дух родного дома. Даже на самых бедных была чисто выстиранная форма. У каждой под партой лежало в бумаге что-то оставшееся от праздников. А сколько они привезли новостей! Ведь две недели время в гимназии стояло на месте.
Дарка рассказала подругам, что Орыська переезжает в Гицы. Никто не пожалел об этой потере. Маленькая Кентнер, у которой не было сдерживающих центров, крикнула:
— Хорошо, что она ушла от нас!
Ореховская, стоя спиной к классу и барабаня пальцами по оконной раме, сказала так, чтобы слышала только Дарка:
— Я не ошиблась, значит…
— Почему Подгорская ушла от нас? — вдруг страшно заинтересовалась Лидка.
Дарка сделала вид, что не расслышала этого вопроса. Стефы еще не было в классе, и Дарке вдруг стало очень одиноко.
Лидка обнимала Косован, они что-то рассказывали одна другой, смеялись и снова шептались.
Дарка вышла в коридор. Там и застал ее сторож.
— Вы не знаете, здесь ли уже Ореховская и Попович? Господин директор велел им сейчас же после звонка прийти к нему.
Попович — это она. Ореховская в классе. Хорошо, сразу же после звонка они пойдут к директору.
Дарка вбегает в класс, вне себя от страха, и, позабыв, что, может быть, об этом не надо говорить вслух, кричит:
— Наталка, тебя и меня вызывает директор!
Лидка смеется:
— Чего ты испугалась? Подожди, повысит вам плату за учение, как мне и Равлюк! Нас тоже вызывал к себе директор. Конечно! Почему мы должны платить больше, чем вы? Ну и трусиха же ты!
Лидка говорит так убедительно, что можно ей поверить. Но почему Дарку и Наталку вызывают вместе?
Дарка ищет спасения у самой Ореховской. Наталка старается держаться спокойно, но подруга замечает, как сбегает краска с ее лица.
В класс входит сторож.
— Первая пойдет Попович!
— Доленька, не покидай меня! — Дарка вздохнула и тайком в уголке перекрестилась.
— Что вам угодно?
Неужели директор забыл, что сам вызывал ее?
— Я Попович. Господин директор велели…
Директор поморщился, словно кто-то капнул ему уксуса на язык.
— Ага, Попович. Ну хорошо. Господин учитель! — Директор повернул свою толстую, как у буйвола, шею и бросил взгляд на дверь в другую комнату. Мигалаке словно только и ждал вызова, чтобы проскользнуть в дверь, как из-за кулис. — Вот здесь ваша ученица, — сказал директор по-румынски, затем обратился к Дарке по-украински: — Вы знаете, Попович, что у вас двойка по румынскому языку и «плохо» по поведению за непочтительность?
— Да, — ответила Дарка. Изворачиваться не приходилось.
— А ваши родители уже знают об этом? — Директор поднял одну бровь высоко, а другую опустил низко, так, что они напоминали колодезный журавель.
— Да, да, — вмешался своим пискливым голосочком Мигалаке, — знают ли родители, как ученица ведет себя по отношению к старшим?
— Да, дома знают о моей двойке, — уверенно ответила Дарка, нисколько не задумываясь над тем, что говорит неправду. Где-то в самой глубине сознания мелькнуло, что так она защищает не только себя, но и родителей.
Директор вытянул шею. Так кот тянется к куску сала, подвешенному на шнурке.
— И как же они отнеслись к этому?
— Как папа и мама отнеслись к этому? — заговорил Мигалаке по-украински. Казалось, он каждую твердую согласную будто подпиливает напильником. — Говорили, что ты хорошо поступаешь? Велели не учить румынский язык и не слушать учителей? А может быть, радовались, что ты такая большая патриотка — имеешь двойку по румынскому языку?
У директора запершило в горле, он закашлялся, и Мигалаке замолчал, словно испугался, что директор захлебнется.
— Господин учитель шутит… Я не думаю, что бывают родители, которые хвалят дочь за плохую отметку. Кто ваш отец, Попович?
— Учитель. — Дарку удивил этот вопрос: директор знал то, о чем спрашивал.
— А мама тоже учительница?
— Да, но мама не преподает.
— Вот вам, — искренне сетовал директор. — Народный учитель с маленькой зарплатой тянется изо всех сил, чтобы держать дочку в гимназии, а эта дочка в благодарность за все труды одаривает родителей двойкой. Есть чему порадоваться! Но самое печальное то, что вы, наверно, не рассказали родителям, что сами хотели получить такую отметку. Я лично пересмотрел ваши контрольные работы по румынскому языку. Там есть, правда, одно «неудовлетворительно», однако можно было устно хорошо ответить и заработать «посредственно». Но если ученица дерзко заявляет перед всем классом, что по румынскому может иметь двойку, то здесь уже и сам господь бог не поможет. И меня интересует еще одно: я посмотрел ваши оценки по другим предметам и вижу: вы, Попович, умная, способная девочка. Любопытно, кто внушил вам, что румынский язык не нужен, что по нему можно иметь даже двойку? Вы ведь сами понимаете, что мы живем в Румынии, что мы королевские подданные и румынский язык должен быть самым важным предметом в наших школах. Итак, кто натолкнул вас на этот ложный взгляд? Прошу не бояться… Я не сделаю из этого никаких выводов. Я только хочу знать, кто этот умник.
Дарка в каком-то хаосе чувств.
«При чем здесь румынский язык? — думает она. — Если бы нас учил Локуица, я бы наверняка любила этот язык… Почему он не говорит директору, что заставляет нас шпарить наизусть целые поэмы этого Тудоряну?»
— Ученица не может сразу вспомнить. Это ничего.
Директор оглядывается на Мигалаке, тот сразу понимает, что он здесь лишний, и снова прячется в смежной комнате. Еще и дверь закрывает за собой.
— Садитесь, пожалуйста! — говорит директор так учтиво, что Дарка сразу понимает: бедный директор! Он тоже при этом Мигалаке боится заговорить со своей ученицей чуть теплее. — Прошу садиться, — повторяет он.
Даже как-то неловко садиться перед ним, как перед равным.
Теперь директор забывает, что Дарка только ученица, к тому же еще и провинившаяся, а он директор. Он только помнит, что они оба украинцы и разговаривают без свидетелей. С этого он и начинает.
— А что вам обещали родители за хороший табель? — отечески спрашивает он.
Мягким, ласковым тоном этот добрый человек раскрывает перед Даркой всю глубину ее вины перед родителями. Как она осмелилась принять подарки за хороший табель, если знала, что у нее будет двойка?
Ее напряженные нервы больше не выдерживают, она счастлива, что нашла человека, которому можно доверить свою сердечную боль, и Дарка, плача, признается полушепотом:
— Господин директор! Папа не знает, что у меня двойка… Они мне столько подарков накупили, что я не могла причинить им такую боль и признаться… К тому же, господин директор, я и в самом деле не виновата, что у меня двойка…
— Да?! — Директор так резко повернулся, что под ним заскрипел стул. — Значит, вы не сказали родителям, чтобы не причинять им неприятностей? Да? Вы так заботитесь о родителях? А может быть, вы боитесь наказания? — Он хочет все, все знать, этот отец — не директор.
И Дарка признается во всем:
— Меня дома никогда не наказывают. Возможно, даже не отругали бы… Только маме было бы очень больно… и папе…
Директору становится жаль Даркину маму:
— Гм… Может, мы исправим беду? Я мог бы как-нибудь уговорить господина учителя, чтобы он простил вам недостойное поведение в классе. Гм… а по самому предмету… по румынскому устному вы хорошо подготовлены?
— Я… все… каждый абзац, каждый стишок знаю! — обрадовалась Дарка.
Она уже свыклась с мыслью (как всегда привыкает человек ко всякому затянувшемуся несчастью), что этот табель последний в ее жизни. Но тем упорнее проявляется свойственное Даркиному характеру желание: последний табель, должен быть чистым. Никто, возможно, и не спросит ее об отметках в полугодовом табеле, Дарка понимает это. И все-таки он должен быть без единой двойки. Мучительный страх, страх перед мамиными упреками, что Дарка, мамина дочка, соврала маме, жжет Дарку раскаленным железом.
Дарка знает и то (господи, чего только мы не знаем в этом возрасте!), что многие дети лгут своим родителям. Дарка могла бы вспомнить немало случаев из своей жизни, когда надо было… немного иначе обрисовать то или другое событие, чем оно происходило в самом деле. Но бывают такие минуты в жизни людей, когда сердце сливается с сердцем, как капли воды со своими сестрами. В одну из таких Минут Дарка поклялась говорить маме только правду. Никогда, никогда не лгать. И поэтому Дарка пуще смерти боится услышать от мамы: «Ты же знала о двойке и не сказала мне? Ты обманула меня?»
Никогда не поймет она, что эта ложь, эти муки, испытанные Даркой, — все было для того, чтобы не волновать маму. Даркино сердце не знает дешевых жертв. Не знает половинчатости в увлечениях, сдержанности в преданности. Она хочет бросить на жертвенный алтарь дела такой же щедрый дар, как и отец! Какой дешевой ценой был бы табель с двойкой! Разве не имел бы права первый встречный упрекнуть ее, что она только потому согласилась пойти на этот сговор, чтобы с честью избавиться от своих двоек? Дарка Попович должна обрести право — хотя бы пришлось вырывать его зубами! — ответить всем тем, кто будет спрашивать ее, почему она не ходит в гимназию: «Смотрите! Вот мой последний табель! Он безупречен. Я могла бы с ним перейти в следующий класс… но я жертвовала им и собой во имя дела».
Директор, казалось, придумал что-то.
— Гм… Пожалуй, можно будет еще кое-что сделать. Но ученица должна вспомнить и сказать, конечно, только мне… кто наговорил ученице, что Буковина лишь временно оккупирована королевским правительством… Что украинские патриоты не должны изучать стихи Тудоряну… Что на Буковине будут изменения… Вы не помните, кто так говорил? Где вы слышали что-нибудь похожее? Это могло быть и не в гимназии, могло быть за ее стенами…
Дарка опускает голову: шутник этот директор! Да ведь это же папа говорил! И. разве только папа? Странно, в самом деле странно и даже подозрительно… И Дарке моментально становится ясно, что теперь она ничего не должна «помнить».
— Я где-то слышала то, о чем вы говорите, но не могу вспомнить. Никак не могу… Думаю, и не смогу…
Может быть, наконец прекратится этот допрос? Чего хочет от нее директор? Из благосклонности к Дарке лишить ее отца места?
Директор молчит, и Дарка поднимается с кресла. Выскочить бы из этого кабинета, чтобы только пыль поднялась.
Но он снова усаживает ее:
— Вы можете не спешить на этот урок.
Кто-то стучит в дверь. Это сторож.
— Ореховская из пятого может идти на урок или прикажете ей ждать?
— Пусть подождет!
Наталка! Хоть бы одним словечком перекинуться с ней, хотя бы через стекло увидеть выражение ее лица!
Директор берет Дарку за подбородок. Кто-то, казалось, шепчет ей на ухо: «Смотри же, смотри!»
— А вы, Попович, случайно не слышали о том, что ученики украинской гимназии не должны участвовать в концерте в честь министра? Не было разговоров об этом в гимназии?
Как-то еще в детстве Дарка упала с яблони. Теперь она явственно пережила то же ощущение: перед глазами забегали чёрно-желтые пятна, вся кровь от рук и лица отхлынула к ногам. Ее обдало холодом. В то же мгновение директор как на крючок подцепил Даркино смятение:
— Я вижу, что и вы слышали об этом! Не правда ли, какое ребячество! Господина министра интересует состояние школ и то, как учатся, а не музыка… Ха-ха! Разве это не смешно? Не петь в хоре! Тоже Мне, артисты! Им кажется, будто господин министр заметит, что их группа не поет! Любопытно, кто придумал такую глупость? Но мне во всей этой затее чудится что-то другое… Мне кажется, что мальчики говорят одно, а на концерте сделают другое. Может быть, они хотели подбить на этот неразумный шаг девочек нашей гимназии, поставить их в смешное положение перед господином министром! Пусть думает, что в украинской гимназии нет ни одной музыкальной девочки! Хо-хо! Ведь мальчики прибегают ко всяким хитростям, только бы досадить девочкам! Я сам когда-то тоже был учеником! Как… как фамилия этого ученика, Попович, ну, того, который подбивал на это? Кто-то уже говорил мне… Я уже знал фамилию этого махера[31], но она как-то вылетела у меня из головы…
Дарка уже и не знает, сама ли она сидит в кресле, или стоит возле кого-то, ужасно измученного страхом, и страдает оттого, что не может ему помочь. Она чувствует только, как что-то теплое бежит между лопаток. Собирает остатки воли, которую еще не парализовал страх, и приказывает себе:
«Орест… Орест… Не скажу… не скажу…»
— Так скажите вы фамилию этого скандалиста? — допытывается директор даже вроде бы и не очень серьезно.
— Я не знаю… я… — начала она так неловко, что сразу почувствовала: выдала себя.
Директор только засмеялся, глядя на такую плохую игру.
— Разве это такая большая тайна? Я ведь говорю вам, что знал фамилию этого юноши, а теперь она вылетела у меня из головы… О девочки, нет у вас ни на грош гордости! Мальчики сговорились оставить вас в дураках, а вы защищаете их! Ну, так как же зовут этого «героя»?
Дарка прикрывает глаза, сжимается в комок и только неустанно повторяет про себя: «Не скажу, не скажу, не скажу!»
Директору, видно, осточертело уже это телячье упрямство. Он насупил брови, как сказочный Усыня, и еще раз спросил по-хорошему:
— А если я попрошу господина учителя, чтобы он вычеркнул «плохо» по поведению и еще раз спросил по румынскому… и пообещаю вам, что даже директору мужской гимназии не назову фамилию этого ученика… тогда вы скажете мне, кто он?
Искушение так велико, что Дарка отворачивается, чтобы не слышать этого голоса, не видеть этого многообещающего взгляда. Она ничего уже не видит, кроме двух туннелей маминых глаз.
Вот они смотрят на нее, когда Дарка кладет перед мамой этот злосчастный табель с двойкой. А вот те же глаза снова и снова перечитывают табель без двойки. Эти туннели придвигаются к Даркиным глазам вплотную, она на миг зажмуривается, чтобы рассеять видение. Потом поворачивается лицом к директору, но глаз не поднимает и говорит, продолжая смотреть на туфли:
— Я не могу его назвать.
И, сказав это, Дарка почувствовала себя освобожденной. Вот и все. Теперь она ни за что не проговорится. Словно в сердце автоматически щелкнул замок, выбросив все ее страхи и сомнения за пределы директорского кабинета. В этот же миг она поняла, что перед нею заклятый враг. Враг, открытый враг, которому не нужно больше притворяться дипломатом. Он так стукнул ладонью по столу, что на нем подпрыгнули бумаги, а у Дарки екнуло сердце в груди.
— Что значит «не могу»?! Разве вы не знаете, что здесь гимназия и ученица обязана отвечать, когда ее спрашивают? Неслыханная дерзость так отвечать старшему! Я вам приказываю сейчас же назвать фамилию этого ученика!
Дарка молчит.
— Ты слышишь, что я тебе говорю?!
Директор так орал, что даже Мигалаке выбежал из соседней комнаты. Выбежал разъяренный, подскочил к Дарке, схватил своими руками, как ястреб когтями, и потащил к шкафу, где зазвенели стеклянные ампулы.
— Скажешь ты или нет?!
— Я ничего не знаю!.. Никто мне ничего не говорил!.. И прошу здесь не драться!.. Никто не имеет права здесь толкать…
Дарка чувствует: стоит протянуть руку к этой шее, худенькой, как у курицы-голошейки, и она свернет ее.
— Ласац, домнуле, ласац[32], — уговаривает его по-румынски директор. — На таких упрямых учениц мы найдем другую управу…
— Можешь убираться вон! Забери свои книжки и больше не показывайся мне на глаза! Можешь больше не приходить в гимназию! Мы сумеем справиться с такими упрямицами. Марш отсюда!
Директор собственноручно выталкивает Дарку за дверь.
Хорошо. Но почему эти глупые слезы текут по лицу? Разве Дарка еще перед праздником не знала, что ей, возможно, придется расстаться с гимназией?.. Правда, это исключение она связывала с героическим, патриотическим поступком… А теперь ее выгоняют, как побитую собаку! Должно быть, от этого у нее нестерпимо болит сердце и по лицу текут слезы.
В коридоре тихо, как в гробу. Из-за дверей кабинета доносятся отголоски какого-то разговора.
«Теперь очередь Ореховской», — вспоминает Дарка и, обессилев, прислоняется к стене. И опять эта зловещая, мертвая тишина. От нее еще нестерпимее боль в сердце.
Но вот чьи-то шаги звучат в другом конце коридора. Кто-то идет, ускоряя шаг, — видно, заметил Дарку у стены. Она слышит тиканье чьих-то часов, запах табака, чье-то дыхание.
— Что случилось? Почему вы плачете, Попович?
Дарка по голосу узнает учителя Слепого, «своего» учителя. Она отнимает ладони от щек.
— Что с вами? У вас совсем опухшее лицо! — шепотом говорит учитель. — Сейчас же умойтесь!
Холодная вода помогает. Дарка настолько пришла в себя, что может с пятого на десятое рассказать учителю о своем столкновении с директором.
— И вы не сказали фамилию этого ученика? — Глаза учителя смотрят на Дарку доверчиво, и ее даже удивляет, что он при ней называет Ореста Цыганюка «этим учеником», зная (Дарка в этом совершенно уверена) его фамилию так же, как и она.
— Нет! Нет!
— А вы уверены, что ваши подруги будут так же держаться? — Он говорит, наклонившись к Даркиному уху, тем шепотом, который сближает людей и звучит как присяга.
— Нет! Нет! Наверное, никто не предаст!
Учитель, оглядевшись вокруг, крепко берет ее за руки.
— Тише, уже кто-то предал. Но ни слова об этом. Те там хорошо держатся.
Дарка догадывается, что речь идет о мальчиках из мужской гимназии.
— А вы знаете, что ваших подружек из шестого класса допрашивают в мужской гимназии?
Нет, она ничего не знает. Все рассчитано так, чтобы не было времени посоветоваться.
Слепой покачивает головой. В этом печальном жесте есть упрек за недоверие к нему, и сочувствие их неудаче, и сожаление об их судьбе. Дарку снова охватывает страх, уже не за себя, а за незнакомых подруг, ее соучастниц в этом деле. Хватит ли у них мужества и упорства, чтобы не сказать правды, когда их станут бить головой об стену?
Словно ища защиты от врагов, она хватается за плечи учителя. Разве можно в такую минуту думать, чьи это плечи? Есть только подсознательное, инстинктивное ощущение, что здесь можно не рискуя спрятать голову и сердце и тебя здесь не выдадут.
Учитель на мгновение прижимает Дарку к себе, отвечая на ее сердечный порыв, затем мягко отталкивает, сохраняя приличное расстояние между учителем и ученицей. Это происходит так молниеносно, что Дарка не поверила бы, если бы не глаза учителя, смотрящие на нее теплым, доверчивым взглядом.
— Успокойтесь! Ничего дурного не произойдет!
— Как не произойдет? Да как же не произойдет?
Учитель не любит, когда ученица возражает ему.
— Я говорю вам, Попович, что ничего не произойдет. Я иду из мужской гимназии, видите, без шляпы, и еще раз повторяю: ничего плохого не случится. Можете мне поверить. Теперь спокойно идите в класс, и я не видел вас возле крана и не говорил с вами. Понимаете?
Дарка закрывает лицо руками.
— Разве можно так идти в класс?.. Что я им отвечу, если спросят? — Ее ни капельки не волнует официальный тон учителя. Сердце приняло как подарок его доверчивый взгляд, и теперь официальный тон не обманет ее.
— Подругам скажите правду… Скажите, что у вас двойка по румынскому, — учитель так интонирует слова, что даже Даркино немузыкальное воображение может окончить фразу: «Только о двойке говорить! Об остальном… молчать, молчать…»
Все-таки учитель не хочет, чтобы Дарка неправильно поняла его. Он кладет руку ей на голову, ласково гладит ее по лицу…
Дарка входит в класс с опущенной головой. Урок латинской грамматики в самом разгаре, и в классе не кто-нибудь, а сам Мирчук, но тем не менее все глаза и головы обращаются к Дарке. Эти глаза искрятся от желания узнать, что произошло в кабинете директора. Дарка смотрит направо и налево. Немного терпения! Потом она все расскажет.
Во время перемены, как только за учителем закрывается дверь, Дарка поднимается на возвышение.
— Слушайте! У меня двойка по румынскому и «плохо» по поведению, — уже спокойно излагает Дарка свое горе. — Директор хотел, чтобы я извинилась перед Мигалаке, он говорил, чтобы я…
— Дарка! — кричит за ее спиной Стефа. Это более чем предупреждение, это угроза, возглас ужаса.
У Сидор нет времени, чтобы найти нужное слово и остановить Дарку. Одним прыжком Стефа подлетает к ней, хватает ее за плечи и стискивает, как клещами.
— Что ты делаешь, сумасшедшая? — шипит она ей на ухо.
Дарка успокаивает ее улыбкой: «Не бойся, я не скажу больше, чем надо».
Чтобы не вызвать подозрения класса, она отталкивает от себя Стефу и говорит дальше:
— Он сказал, чтобы я еще раз проработала материал, — может быть, Мигалаке спросит меня.
— А ты? Ты извинилась перед ним? — хочет узнать Лидка.
Дарка взмахнула было руками, но тут же скромно опустила их, так как место на возвышении надо было уступить Мигулеву, классному наставнику. Класс не взрывается радостным шумом, как обычно, когда любимый учитель заглядывает в него в неслужебное время. Мигулев сегодня строг и неприступен. Даже голос необычный, чужой.
— В нашей гимназии произошли события, которые надо обстоятельно обсудить. Два дня в гимназии не будет занятий, потому что все преподаватели заняты на конференции. Приходите только в пятницу. Только как придете, не расходитесь по классам, а соберитесь все, вместе с учениками мужской гимназии в спортивном зале. Теперь помолимся!
Стефа успела шепнуть Дарке:
— Не выходи вместе со мной… За нами будут следить… После обеда к тебе кто-нибудь придет.
XIX
В четыре часа прибегает «теткин» Гиня. Галстук смешно сбился на сторону. А на нижней губе следы яичного желтка от обеда. Глаза Гини горят. Рыжие волосы растрепаны, как будто он дрался с собаками.
— Слушайте! Слушайте все! Сегодня в нашей гимназии тоже были допросы. Эти собаки устроили так, что нельзя было переброситься словом ни с теми, кто выходил из директорского кабинета, ни с теми, кто входил туда. — Гиня бегает по комнате и плюется. — Хуже всего то, что никто не знает, кто что говорил. А! Еще бы! Теперь каждый клянется, что молчал, как скала. А главное, холера их забери («С ума он сошел, что ли? Так ругаться при девочках?»), в то время, как шло следствие и все молчали, на квартирах у шести учеников были произведены обыски. И знаете что? Даже нельзя узнать, что у кого взяли! Где же это слыхано: производить обыск в отсутствие хозяина? Это же беззаконие!
— А у тебя тоже был обыск?
Гиня, видно, хотел отругать за такой вопрос, но вовремя сдержался и только с досады ударил себя по бедрам.
Спрашивать, был ли у него обыск? У кого же он должен был быть, если не у него? Но говорить об этом громко? Вызывать подозрения? Человека может кондрашка хватить от такой глупой беседы… А, чтоб тебе! Но горе тому, кто предал их! Попадется еще он им в руки!
Хозяйка только руки заламывает:
— Что ты говоришь, Гиня! Лидка, деточка, не слушай, что он говорит! Ты ничего не слышала, ничего не знаешь… Боже мой, боже мой, что делается!
— Вы что? — окрысился Гиня на родную тетку. — Вы хотите чтобы мы это так оставили?!
Он даже вспотел. Дарка смотрит на этого отважного рыжего мальчишку, и новая тревожная мысль зреет у нее в мозгу.
— А кого больше всех подозревают?.. Кто, по-вашему, мог предать товарищей?
Гиня так блеснул на нее злыми глазами, что Дарка ощутила настоящий страх перед этим разъяренным мальчишкой.
— Ага. Я скажу по секрету вам, а вы похвастаетесь своим подругам, и так… гусь — свинье, свинья — борову, а боров — по всему городу! Я ведь предупреждал, что не надо разглашать, — говорит он, словно обращаясь к кому-то невидимому, — не я ли протестовал против женской гимназии? Не я ли был против того… — Он обрывает на полуслове, запыхавшись.
— Но из нашей гимназии никто не выдал? — не столько чтобы защитить честь своей гимназии, сколько чтобы спровоцировать его на откровенность, говорит Лидка.
Однако с Гиней сегодня нельзя разговаривать.
— Уходи, Лидка, не зли меня! Что вы могли выдать, когда сами знали фигу с маслом? Вот еще, стану я с вами об этом говорить!
— Вы меня не поняли, — легонько начинает Дарка, — я хотела вас спросить совсем о другом, а вы сердитесь. Я хотела…
— Ну, спрашивайте, — подобрел Гиня, — спрашивайте, Дарка!
Получив его разрешение, Дарка еще больше смущается.
— Я хотела спросить… видите ли, мы из одного села… Нет ли подозрений, не думает ли кто-нибудь из товарищей плохо о Богдане Данилюке?
Гиня сразу же возражает:
— Нет… и нет! Правда, Данилюк — это такая цаца, которая за крахмальным воротничком и скрипкой не видит света божьего, но на это он не способен! Нет! Данилюк этого не сделает! Я бы сам набил морду каждому, кто бы осмелился сказать о нем такое! Нет! Дан — хороший коллега!
Слава богу! Слава богу! Дарка трет себе лоб, чтобы окончательно стереть это страшное подозрение. А Гиня припоминает одну нотку в Даркином вопросе, которая помимо воли заинтересовала его.
— А что, Данилюк ваш парень?
— Что вы! — краснеет Дарка. — Мы только из одного села…
— Верно, — Гиня бьет себя по коленке, — вы односельчане с Данилюком! Вот нелепый вопрос! Ведь Данко водит ту румынку!
«Даже он знает об этом… Весь мир знает о моем позоре», — царапнуло Дарку по сердцу.
— Гиня, ты видел эту Лучику? Красивая? — Лидка вся искрится от злорадства.
— О, — презрительно обрывает Гиня, — теперь эта любовь такая мелочь!.. Если я что-нибудь узнаю, я вам сообщу, — говорит Гиня, забывая, что разговаривает с девочками из женской гимназии.
И без «будьте здоровы» вылетает из комнаты, словно на дороге его ждет крылатый конь.
Вместе с Гиней, его рыжими вихрами и пятнышком желтка на губе, из дома улетучилось и доброе настроение.
Хозяйка стоит посреди комнаты, сложив руки на животе, и спрашивает с тупой безнадежностью:
— Что же теперь будет?
Никто не знает, что будет дальше. Даже такая всезнайка, как Лидка, не может ответить на этот вопрос. Дарка сжимается в комочек и сама себя уговаривает: «Не думай, не думай, не думай…»
Гимнастический зал полон до краев, до ниш и углублений под окнами. Всюду обнаженные головы всех оттенков: от светло-солнечного до черно-орехового. Зал слегка колышется, как гречишное поле под косой. Подмостки впереди, портреты короля и королевы на стенах, два мягких кресла в первом ряду делают из этого когда-то веселого помещения судебное присутствие. Не хватает лишь черного распятия.
Дарка оглядывается назад (впереди только плечи и затылки) — все лица словно в масках. Насыщенная атмосфера ожидания и лихорадочной неуверенности покрыла их какой-то пеленой, под которой не различишь отражения душ на этих лицах. Все глаза сливаются в один большой радужный глаз. Все лица сбегаются в одно лицо, гигантское, как луна в телескопе: то задиристое, то боязливое, то гордое, то покорное, то безнадежное, то самоуверенное.
Воздух такой спертый, что приходится то и дело открывать рот, как рыбе на берегу, чтобы ухватить его побольше.
Внезапно первые ряды смолкают. На пороге появились учителя. Тишина волнами докатывается да последних рядов. В дверях какая-то заминка. В конце концов директора обеих гимназий входят одновременно. Учителя становятся, как почетная стража, по обеим сторонам подмостков. Директор мужской гимназии поднимается на возвышение, чтобы видеть всех перед собой и чтобы все его видели. На его спокойном лице ничего нельзя прочесть. Как-то смешно и вместе с тем страшно выглядит он перед этой массой ученических плеч и голов. Кое-кто нервным движением поправляет волосы, трогает галстук. Директор ждет. Одну, две, три минуты. Но вот он поднимает руку, и зал цепенеет. Директор с минуту держит руку на весу, потом медленно опускает ее и улыбается своим ученикам. Этой хорошо обдуманной улыбкой он удивляет всех. Одних сбивает с толку, других обезоруживает. Потом складывает руки на груди и говорит ласково и снисходительно:
— Дети мои! До меня дошел слух, — я не искал его автора (по залу проходит едва слышный ропот возмущенного удивления), потому что не хотел раздувать это дело, — итак, до меня дошло, что некоторые из вас не хотят участвовать в концерте, который устраивают гимназии в честь господина министра. Дети мои! Мне кажется, что какой-то опасный враг, ваш и наш, заронил в ваши души эту мысль. Кто-то, вероятно, очень ненавидит нас, украинцев, если пожелал оставить без учебного заведения триста украинских детей. Я хорошо знаю своих учеников, чтобы подозревать, что эта мысль родилась в ваших головах. Вы, может быть даже лучшие среди вас, пали жертвой злых, а может быть, и подкупленных людей, и если бы не божее провидение, которое вовремя предостерегло нас, эти подлые советчики довели бы всех нас до несчастья. Я уже не упоминаю о том, какую огромную обиду, какую боль причинили бы вы вашим родителям, которые, может быть, тянутся из последних сил, чтобы вывести своих детей в люди. И все же я не могу не наказать вас за ваше легкомыслие. В наказание ни женская, ни мужская гимназии не примут участия в концерте, в котором будут участвовать все черновицкие гимназии. Вас там не будет. Вас не будет на этих культурных соревнованиях, ибо вы не доросли до них! Вам же советуем, вернее, не советуем, а приказываем, не разглашать это дело за стенами гимназии. Не забывайте, — ласковый голос директора начинает прерываться и толчками подниматься все выше и выше, — что теперь мы спасаем вас своей честью! Имейте в виду, что мы в первый и последний раз взваливаем вашу вину на свои плечи. Если еще раз случится что-либо, хоть отдаленно напоминающее это дело, то мы не отступим больше ни на миллиметр. Даю вам в присутствии учителей честное слово. Теперь без шума разойдитесь по домам. А завтра, как обычно, на занятия.
Кто-то за спиной у Дарки говорит звонким шепотом:
— Ну и идиот! Ты думаешь, они это все ради нас делают? Хотят спасти свою шкуру!
Все с веселым шумом направляются к двери.
Сбоку над Даркиной головой кто-то кашлянул.
— Ой, братцы, ну и высплюсь же я, ну и высплюсь!
Где Цыганюк? Что он думает об этом?
Орест надвигает шапку на самые уши и хохочет, щуря глаза.
Дарка остолбенела. Она внезапно останавливается и на миг загораживает собой проход. Кто-то отталкивает ее в сторону, и все снова движутся гуськом. Дарка стоит у стены и с отчаянием вглядывается в каждое лицо: как же это — никто, никто серьезно не относится к происшедшему? Стало быть… все эти тайные собрания, все грозные «честные слова», выступления никто никогда не принимал всерьез? А она, глупая… она готова была за то, что для них игрушка, расплатиться жизнью! Как смели они так подло злоупотреблять ее доверием, ее святой верой, ее добрым сердцем?! Неужели столько огня, мыслей, порывов, сомнений, жертв самоотречения, и боли — все станет только горсточкой пепла, которую можно взять и развеять по ветру? Все опять вернется в старое русло? Нет, доверия мамы и Данка уже никогда не вернуть. Никогда уже Данко не подойдет к ней в не спросит своим приглушенным, таким ласковым голосом: «Сколько у тебя было уроков, Дарочка?» Он будет ждать Лучику Джорджеску и провожать ее домой. И мама, самая дорогая на свете, единственная мама, уже никогда не возьмет Даркину голову в свои ладони с прежним безграничным доверием. А в Черновицах (что за издевательство!) все будут говорить, что дело с концертом «для всех окончилось счастливо».
XX
Вскоре произошло событие, резко изменившее мнение Дарки о преподавателе естествознания. Теперь Дарка полюбила учителя Порхавку. Любовь эта бескорыстна и романтична. Так юноши любят героев романов или славных мужей родной истории.
Случилось это почти сразу же после истории с концертом.
В гимназии учителя неустанно старались установить нормальные отношения с учениками, чтобы как можно скорее показать миру, что в украинской гимназии «все в порядке».
В один из четвергов Порхавка пришел на урок с журналом, в который дирекция вписывает все хорошие и дурные вести для учениц. На этот раз он не улыбался. На его всегда ласковом лице лежала печать скорби, которую он, видимо, хотел скрыть.
Учитель подошел к столу, развернул журнал и начал читать:
— «От молодежной организации румынских скаутов «Черчеташ» поступило через дирекцию гимназии предложение ученицам нашего учебного заведения вступить в члены организации. Месячный взнос минимальный. Самые бедные освобождаются и от него. Организация сама позаботится об обмундировании. Будут бесплатные билеты на все спектакли и концерты в государственных театрах и филармонии. Во время каникул — бесплатные экскурсии к Черному морю или по городам Румынского королевства. Члены организации имеют преимущественное право на снижение оплаты за обучение и вообще на всякие виды льгот. Самым активным членам организации будут выдаваться единовременные бессрочные ссуды и денежная помощь на покупку одежды и другие бытовые нужды».
От дирекции женской гимназии была короткая приписка, призывающая воспользоваться этой возможностью и всем записаться в организацию.
Порхавка сложил журнал, скрестил руки над ним и молча посмотрел на учениц.
— Ну вот, — сказал он наконец, — я прочитал то, что мне было поручено.
Это «мне было поручено» звучало как оправдание.
Первая вскочила Коляска:
— Я записываюсь, господин учитель!
Порхавка протер ладонью глаза:
— Вы, Коляска? Вы… хотите воспользоваться бесплатными поездками и даровым обмундированием? Надо раньше посоветоваться с родителями, Коляска!
— Я тоже вступаю, — поднялась Маричек, дочка советника юстиции, долговязая девушка с пепельными косами. — Мне не надо бесплатной формы, — добавила она, покраснев, — но я люблю экскурсии…
— Пожалуйста. — Учитель записал ее. — Кто еще?
— Я тоже хочу записаться, — вызвалась Лидка.
Учитель обмакнул перо, но не торопился вынимать его из чернильницы.
— Ты тоже любишь экскурсии, Дутка?
Лидка выпрямилась:
— Не только. Я люблю… мне нравится эта организация…
— А, тогда другое дело. Кто еще?
— Я… — нерешительно поднялась Кентнер.
— Кто? — спросил учитель. — Кентнер? Кентнер?! — крикнул он таким голосом, что ученица вынуждена была посмотреть ему прямо в глаза.
Дарке, не спускавшей глаз с учителя, было видно, как он отрицательно покачал головой. Ореховская под партой наступила Дарке на туфлю. Та, не поворачиваясь, утвердительно опустила веки.
— Я еще подумаю, — сказала наконец Кентнер…
С этого дня учитель Порхавка завоевал Даркино сердце.
Когда урок окончился, в списке было шесть кандидатов в члены организации «Черчеташ». И хотя было сказано, что члены организации будут пользоваться большими материальными льготами, из шести записавшихся четыре были детьми богатых родителей.
На очередном собрании кружка по самообразованию говорили об истинных политических целях скаутов. Несмотря на то, что на этом собрании решили бойкотировать тех, кто вступил в эту организацию, а к юношам, относительно которых звучало даже такое резкое слово, как «янычары», применить силу, Дарка почувствовала, что боевой дух, царивший на сходках до истории с концертом, значительно уменьшился. Во-первых, почти наполовину сократилось число участников. Можно было предположить, что кое-кого сознательно не оповестили, но другие просто испугались.
Во-вторых, собирались теперь не на квартире кого-либо из учеников, как бывало раньше. Это собрание, например, происходило в какой-то маленькой, с низким потолком комнате, куда можно было попасть только при помощи условного знака — два коротких и один долгий стук в дверь. В комнату входили поодиночке, с интервалами. Никто здесь не пел, не делал вид, что развлекается.
К тому же, как догадалась Дарка, не было единодушия и среди руководителей. Одни считали, что надо вести непримиримую, открытую борьбу, не обращая внимания ни на какие жертвы, а другие, во главе со Стефой Сидор, отстаивали политику хитрости и маскировки. Враг не заслуживает того, чтобы вести с ним честную игру. Наоборот, надо прикинуться лояльными, надеть маску «янычар», использовать врага материально, а тем временем делать свое дело.
Наталка, от которой, очевидно, добивались разрешения спора, не присоединилась ни к тем, ни к другим. Она стояла, скрестив на груди руки, высокая, выше всех девочек, и казалась старшей, а следовательно, и самой умной из присутствующих.
Она успокоила спорщиков известием о том, что скоро в Черновицы приедет из Галиции ее брат. Он поможет наметить генеральную линию работы кружка. Она часто ссылалась на брата, и Дарка поняла, что Наталка, должно быть, очень любит и ценит его.
Нет сомнений, в кружке не все в порядке.
Уже тот факт, что среди них нашелся предатель, был серьезным сигналом. Никто не называл фамилии предателя, но Дарка видела по лицам, что большинство знает, кто он, хотя вначале подозрение пало на троих.
Дирекция замяла дело с концертом по двум причинам. Прежде всего, учителя боятся за свою шкуру, ведь им высшее начальство каждую минуту может сказать: как же вы допустили до этого? А во-вторых, сделав вид, что дирекция не придает большого значения этому событию, они надеются все же выяснить фамилии инициаторов. Поэтому теперь следовало быть осторожными как никогда.
Стефа, которая стояла рядом с Даркой, тихо заметила:
— Надо действовать, а не ждать!.. Вечно ждать…
Цыганюк говорил мало, больше курил.
Дарка была удивлена, что, очутившись на улице, не увидела рядом Ореста. Она привыкла к тому, что он провожает ее, хотя Цыганюк никогда не нравился ей.
Однажды Дарка почувствовала, что больше сердце не выдержит: ей надо поближе увидеть Лучику Джорджеску. Она не успокоится, пока не увидит соперницу вблизи собственными глазами. Увидеть ее, услышать ее голос, поглядеть на ее улыбающийся рот, присмотреться к ее глазам, прическе, лбу, к движениям бровей и рук. Надо постичь, понять, что в ней увлекло Данка. Сердце не хочет, не может согласиться с тем, что Данко навсегда потерян. Это же невероятно, чтобы никогда не возобновилось прошлое! Почему? Почему, когда все осталось по-прежнему и Дарка такая же, какой была на каникулах? Ее волосы, которые ему так нравились, которые он тогда, в Веренчанке, назвал прекрасными, такие же. Нет, даже лучше. Лидка посоветовала подруге мыть их ромашкой, и они теперь переливаются, как солнечные лучи. Изменились ли ее глаза, в которых он столько раз искал правду? Наоборот, от всех обид и переживаний они стали еще выразительнее. А сердце, это бедное сердце, разве оно не такое же, как на каникулах?
Боже мой! Да она еще сегодня слышит каждое слово Данка!
Не может быть, чтобы Данко позабыл то, что сам говорил Дарке. Красивая Стефа изменила свое отношение к ней, поняв, что они с Данком не просто земляки. Но и она тоже никогда не узнает, на какую высокую жертву решилось Даркино сердце. Никогда не узнает Стефа, что Дарка готова была уступить ей свое место в сердце Данка, только бы не заняла его дочка префекта. Но было уже поздно.
Поэтому Дарка очень удивилась, когда однажды Стефа в гимназии спросила ее странно ласковым голосом:
— Хочешь пойти послушать выпускной концерт учеников музыкального училища? Я могу достать тебе билет.
Дарка никогда не посещала музыкальных вечеров. Не привлекали они ее, казались скучными, и ей жаль было бы даже одного лея на такое развлечение.
— Я? — она кривит губы. — Я — на музыкальный вечер?
Стефа берет ее за подбородок.
— Тебе не интересно послушать, как играет Данилюк?.. Довольно, довольно!
Хмурый зал с темными, не радующими глаз галереями и бесконечным количеством дверей, Красный бархат и изящные канделябры напоминают «страшные дворцы» из дешевых книжек.
Стефа объясняет:
— Все, кого ты здесь видишь, — родные выпускников и их поклонники. Публика на такие выступления не ходит.
Дарке хочется угадать, где семья Джорджеску, но это невозможно… Среди присутствующих много хорошо одетых, элегантных дам, сидящих на таких местах, где может сидеть семья префекта.
На сцену выходят все новые и новые ученики. Дарка определяет степень их мастерства только по долгим или коротким аплодисментам. Сама они ничего не понимает. Наконец неизвестно уже в который раз поднимается занавес, и на сцену выходит Лучика, а за ней Данко. Дарку бросает то в жар, то в холод.
Она смотрит прямо перед собой, но чем больше напрягает глаза, тем меньше различает происходящее на сцене. В конце концов она уже ничего не видит, кроме женского силуэта с ярким пятном вместо лица. Свет ли так падает, или эта Лучика в самом деле такая белая? Данко возится со скрипкой, потом прикладывает ее к подбородку. Смычок он держит наготове. Лучика, изящно, самыми кончиками пальцев, приподняв подол, садится за рояль. (Она улыбнулась Данку или это Дарке показалось?) Вот она касается клавиш. Словно предупреждает, что надо приготовиться. Лучика поднимает голову, и тогда вступает скрипка. Бодро, свободно звучат самые высокие ноты.
…Птицы, щебеча, разлетаются в разные стороны. Слышно, как они рассекают воздух крыльями, как колышут ветви деревьев…
Словно недовольная чем-то, скрипка обращается к гневным низким нотам…
Ребенок бежит и останавливается над плесом озера. По сухим листьям ползет уж…
Опять скрипка срывается и летит ввысь.
…В небесах внезапно ударяет гром, и первые, тяжелые капли дождя с шумом падают на кроны деревьев. Где-то закуковала кукушка… Неужто уже весна?
Мелодия летит все выше… выше… но вдруг… Что это? Гордая скрипка, нет, уже не скрипка, а сам Данко с плачем и стенаниями, от которых разрывается сердце, падает к ногам дочери префекта…
А она несколькими резкими ударами по хребту черно-белого чудовища отталкивает его от себя…
Она его отталкивает?!
…Гордый орел взвивается в последний полет. Еще раз его песня достигает небес. Еще один триумфальный аккорд, и песня — или это птица? — с простреленным сердцем падает перед Лучикой…
Зал содрогается от грома рукоплесканий. Данко и Лучика убегают с эстрады. Зал снова вызывает их аплодисментами. Молодежь стучит ногами. Кто-то так свистит, что приходится заткнуть уши. Снова поднимается занавес. Данилюк на глазах у всех берет Лучику за руку, и они кланяются публике. Так, держась за руки, они убегают с эстрады. Занавес падает. Зал постепенно успокаивается.
— Знаешь, что они играли? «Весеннюю сонату» Бетховена, — шепчет Стефа.
Дарка машинально поддакивает. Она не понимает, что хочет от нее подруга. Когда занавес поднимается, Дарка, не сказав ни слова Стефе, выходит из зала под невольный шепот аудитории. Разумеется, она не находит нужную дверь. Какой-то мужчина сердито провожает ее вниз и выводит на мороз.
Холодный воздух и деловое движение на улице немного успокаивают разбушевавшиеся чувства.
Дарка больше не удивляется, что Данко выбрал Лучику. И на «станции» никого не удивляет, что Дарка не высидела на музыкальном вечере до конца.
XXI
Внезапно время останавливается. Оно сходит с рельсов, и это чуть не приводит к катастрофе: раздача полугодовых табелей по воле высшего начальства ускорена на целую неделю. Весть эта застревает, как кость в горле. Нельзя ни проглотить, ни вынуть. Пропала охота есть и спать. Дарка по вечерам снимает чулки, а по утрам надевает их с одним и тем же тревожным вопросом: «Что теперь будет?»
Слабая, но очень заманчивая надежда на то, что Мигалаке простит ей двойку и неподобающее поведение, тает с каждым днем.
И опять перед глазами мама. Дарка явственно представляет себе ее лицо в тот момент, когда она возьмет в руки табель. Мама не закричит. Она даже не станет бранить Дарку. Только с огромной грустью и болью скажет:
— Ну и обманщица же ты!
Мама не захочет вспоминать, как Дарка отказывалась от коньков, подаренных ей папой за хороший табель, как она чуть не заболела из-за синего свитера, который мама собственноручно связала ей. Мама все забудет. Да! Люди, даже если это собственные родители, очень скоро забывают все невыгодное для них.
Даркин страх перед двойкой приобретает какой-то фосфорический блеск. По ночам она просыпается от этого кошмарного света и долго не может уснуть. Сон приходит только под утро, когда надо вставать и собираться в гимназию.
Причесываясь, Дарка не обращает внимания на горький, неприятный вкус во рту, у нее не хватает решимости посмотреть в зеркало на свой язык. Он теперь жесткий от белого налета. Глаза, как два оловянных шарика, давят и мешают в глазницах. Ко всему у Дарки еще появляется столь несвойственная ее характеру замкнутость. Готова сгореть от внутренних сомнений и страхов, лишь бы не выдать их никому.
В день раздачи табелей весь класс приходит в парадной форме. Даже такие же несчастные, как Дарка, пришли в гимназию нарядными. Почти у каждой ученицы под мышкой только одна книга в твердой обложке — как футляр для табеля. В классе царит торжественное настроение, даже отличники мало смеются.
Дарка останавливается у самого окна, отдельно от всех.
«Самая легкая смерть — от угара… Кто говорил, кто рассказывал о женщине, убившей себя запахом жасмина?»
Дарке кажется, что умереть от запаха цветов даже приятно.
Она решает, что никогда, ни за что на свете не покажется на глаза маме с печатью лжи на лице и с двойкой в табеле. Никогда!
Учитель Мигулев входит в класс в черном строгом костюме. В руках у него портфель, а в нем судьба четырнадцати учениц.
«Вот… вот… сейчас…» — с трепетом думает Дарка.
Но это «вот» наступает не скоро. Хозяин класса хочет еще произнести по этому случаю несколько слов.
Речь его звучит миролюбиво, спокойно, отечески: надо Уметь прощать и самому признавать свою вину. Он заканчивает библейским аккордом: «Прости нам грехи наши, яко же и мы прощаем».
— А теперь — за дело. Андрейчук!
Ученицы, вызываемые в алфавитном порядке, выходят поодиночке из-за парт, останавливаются у стола, выслушивают замечания о своей успеваемости, потом протягивают руку за табелем, читают отметки и, улыбающиеся или расстроенные, садятся на свои места. То тут, то там раздается шелест бумаги (это те, у кого хорошие табели, не могут нарадоваться и по нескольку раз вынимают их из книжек и перечитывают вновь), сдержанные всхлипывания разочарованных и обиженных. Маленькая Кентнер, например, не может сдержать своей радости:
— Смотрите! Смотрите на мой табель!
Мици Коляска не идет, а летит за своим табелем. Но, пробежав его глазами, гаснет. Она пожимает плечами и, не обращая внимания на присутствие учителя, спрашивает у класса:
— Неужели им жаль хоть раз выдать мне табель без двоек? Нет, видно, не дождаться мне чернобурки!..
Весь класс знает, что мать подарит Мици чернобурку, если табель будет «чистым».
— Коляска! — кричит учитель.
Коляска еще раз пожимает плечами и, сломленная горем, падает на скамейку. Ореховская не дослушивает выговора. Она только бросает беглый взгляд на свой табель, складывает его в восемь раз, так, что он становится похож на трамвайный билет, и засовывает в карман формы. Теперь очередь Дарки. Она встает. В голове свист и шум. Вся кровь отлила от лица, и теперь ветер свищет по пустым венам. Мигулев растягивает губы во всю длину и укоризненно говорит:
— Попович получает такой табель, который заслужила своим поведением и своей внимательностью на уроках.
Этого достаточно. Дарка берет табель осторожно, за кончик, как ребенка за руку, и идет с ним к парте. Закрывает глаза, откидывает голову, а табель кладет на парту прямо перед собой. Лидка (разве она может быть другой?) тянется к ее парте и кричит на весь класс:
— Дарка, побойся бога, у тебя и по истории двойка… и «неудовлетворительно» по поведению!
— Дутка! — кричит учитель.
Но это не помогает, Лидка через парты жестами пытается ободрить Дарку, хотя та сидит совершенно спокойно. Класс немного разочарован ее спокойствием. Табель лежит перед ней, а она смотрит на дверь, словно оттуда к ней может прийти спасение.
От «П» до конца уже недалеко. Учитель подымает класс на молитву. Поощренные и обиженные равно встают, чтобы поблагодарить бога. И тут внимание всех привлекает Дарка, которая не поднимается с места.
— Что с ней?
Ничего. Она только не хочет ни с кем разговаривать и не хочет молиться. Не хочет делать ни одного движения. Приходит сам директор. Приходят подруги из других классов, но Мигулев сразу же прогоняет их. Все заговаривают с Даркой одновременно, разными голосами. Пытаются обратить Даркино сопротивление в шутку. Что-то обещают, но у Дарки нет сил попросить, чтобы ее оставили в покое. Ей абсолютно ничего не хочется. Тогда директор, не видя другого выхода, приказывает Лидке и Ореховской нанять извозчика за счет дирекции и отвезти Попович на «станцию».
Хозяйка, привлеченная шумом возле ее дома, подбегает к окну, растрепанная и удивленная. Она видит, что к дому подъехали три девушки, только не может разобрать, в чем дело. По тому, как Ореховская хочет взять Дарку под руку, пани Дутка понимает, что случилось что-то с Даркой. Хозяйка выбегает на лестницу.
— Даруся, что случилось?
— Боже мой… ничего не случилось… У меня двойки… двойки у меня! — кричит Дарка, сдерживая рвущиеся из груди рыдания.
Она лежит лицом к стене, вся сотрясаясь от рыданий, и слезы текут у нее из глаз, словно из горного источника.
Хозяйка обнимает Дарку за плечи.
— Успокойтесь, Даруся, у вас теперь будет несколько свободных дней, отдохнете возле мамочки… Не вы первая и не вы последняя, которым несправедливо…
Дарка отрывает ладони от опухших глаз.
— Чего вы хотите от меня? Ни на один день я не поеду домой… Ой, пожалуйста, оставьте меня в покое… Никогда… никогда я не покажусь маме на глаза… с таким табелем… Не хочу врать своей маме…
Тут уж и Лидка не может сдержаться.
— Мамочка, вы понимаете, никто не ожидал, что и Мигулев влепит ей двойку, — словно сочувствует Лидка, но даже в такую минуту она не может не уколоть: — Я не знаю… он всегда такой справедливый, такой рассудительный, он никогда еще не ставил двойки незаслуженно…
Дарка затыкает себе пальцами уши. «Покой, покой…»
Часом позже к ней заходит Стефко Подгорский. Как же так? Почему она не едет в Веренчанку? А что же дома сказать? Ничего? Как ничего? С этим Стефко и уезжает. Дарка решила провести «маленькие каникулы» в Черновицах.
В первый свободный день Дарка встает рано, как и в дни занятий, одевается и выходит из дому. Никто не спрашивает куда. Когда она возвращается к обеду, хозяйка, обиженная таким самоуправством, не спрашивает, где она была. Но уже на следующий день в полдень Дарка застает на квартире отца. Папа, вероятно, только что приехал, потому что на шее у него шарф, а чай он еще не успел допить. Дарку поражает расстроенное, почерневшее лицо отца.
— Папочка! — вскрикивает Дарка с такой искренней радостью, с таким глубоким чувством, что сразу же попадает в папины объятия.
Папа взволнован, чего-то недоговаривает, прижимает дочь к груди и целует каждое свободное местечко на этой глупой голове.
— О, папа, — вырывается у Дарки из глубины сердца правда, о которой она сама не знала, — я так хотела, чтобы ты приехал!.. Никто другой, только ты!
Дарке не надо много рассказывать, хозяйка и так все уже сообщила отцу. Папа собирается обязательно поговорить с директором. Дарка не расспрашивает, о чем и как хочет отец разговаривать. Зачем ей знать это? Она твердо уверена, что каждое слово отца будет произнесено в ее защиту, ради ее пользы.
— Пакуй свои вещи, доченька, мы, возможно, еще успеем на поезд.
У Дарки начинают дрожать губы, и она не может сдержать нового потока слез:
— Папочка… как же я покажусь маме на глаза… с двумя двойками и «поведением»? Что подумает обо мне мамочка?
Тогда папа, этот ласковый, спокойный папа, повышает голос и начинает ругать Дарку. За кого она принимает свою мать? Кто на свете сумеет лучше мамы понять свое дитя? Как смеет дочка, имея такую золотую маму, такого ангела, сомневаться в мамином сердце? Ой, Дарка, Дарка!
Та молчит, пристыженная и очень счастливая. Она даже не представляла себе, что под их скромной крышей живет такое сказочное счастье. Она никогда не допускала, что редко улыбающийся, вечно занятый работой папа умеет так любить.
Уехать в этот день им не удалось, отец задержался у директора. Вернулся он очень взволнованный. Начал было говорить о том, что к учителям надо относиться вежливо, но вскоре махнул рукой и больше не упрекал и не расспрашивал дочку.
Хозяйка догадалась поставить Даркину оттоманку рядом с кроватью отца. Они шептались до поздней ночи. Тогда и узнала Дарка, что доброго домнула Локуицу уволили. Он, бедняга, готовился к тому, что его переведут в другое место, а его уволили совсем.
— А за что? — Дарка хотела знать, за что увольняют учителей, ведь ее отец тоже принадлежит к этой братии, и ему (хотя дома стараются скрывать это от Дарки) грозит такая же беда.
— За то, деточка, что он был честным человеком… вот!
Что же это за времена, когда честному человеку нет жизни на этой земле? И папа, словно объясняя или оправдываясь перед дочкой в том, что он еще работает, когда всех честных и порядочных людей выгоняют, рассказывает ей историю домнула Локуицы.
В начале этого года, еще до выборов в парламент, в село приехали агенты из партии царанистов. Они обещали всем, кто пойдет за царанистами, законтрактовать крестьянские участки под сахарную свеклу на очень выгодных для крестьян условиях: завод в Лужанах даст аванс на семена и минеральные удобрения и заплатит за каждый центнер на двадцать леев выше установленной цены.
Но крестьяне, наученные горьким опытом, не очень доверяли представителям правительственной партии. Тогда сам Локуица поехал в Лужаны для переговоров. Убедившись, что с юридической стороны все обстоит благополучно, он начал уговаривать людей законтрактовать свои земли. Многие послушались его. И вот теперь, после выборов, оказалось, что за минеральные удобрения и семена, которые раздавались якобы даром и в больших количествах, нужно платить. Это во-первых. Во-вторых, завод в Лужанах соглашался платить на двадцать леев дороже только при условии, что свекла будет завезена на завод. Крестьяне готовы были продать эту свеклу по самой низкой цене, лишь бы она была куплена в Веренчанке, но охотника не нашлось. И вот люди на зиму остались без картошки, с одной сахарной свеклой. Понятно, все обратились с претензиями не к правительству, — не оно ведь вело официальные переговоры с ними (для этого у него есть агенты), — а к Локуице, который подбил их на это дело.
А чем Локуица мог помочь? Единственное, что он сумел сделать, — это упросить местного владельца спиртного завода закупить у крестьян свеклу по… цене на пятьдесят процентов ниже ее настоящей стоимости. Надо добавить, что и пан Грабер был обижен на крестьян за то, что они обошли его завод и задумали сдать свою свеклу в Лужаны.
Эта «свекольная история», как утверждал отец, окончательно вывела из себя бедного Локуицу, и он громогласно в сельской канцелярии назвал «гоцами»[33] тех, кто приезжал контрактовать свеклу. Проклинал их и каялся перед народом за свою ошибку. Но народу не нужно раскаяние, народу нужна картошка или деньги. И теперь неизвестно, что ждет Локуицу.
— Такие-то у нас в Веренчанке дела, доченька!
Утром, когда Дарка вместе с отцом отъезжала от Черновиц, на город незаметно, как сон, опускался серый туман. Электрические провода, покрытые инеем, казались серебряной елочной канителью. Вороны летали над крышами домов и не каркали…
XXII
Только по дороге в Черновицы Дарка поняла, почему Веренчанка выглядит совершенно иначе, чем три недели назад.
Во-первых, три недели назад, на рождество, здесь был Данко. Правда, они редко встречались, встречи эти приносили ей больше страданий, чем радости, но все-таки он был здесь. Дышал тем же воздухом. Можно было выбежать в деревенскую лавочку за перцем и случайно встретить Данка. Всегда была надежда. А на этот раз пустота. Пустота в сердце, пустота в селе.
Во-вторых, три недели назад здесь еще была Орыська. В их отношениях не осталось прежней сердечности и непосредственности, но все же это единственное существо (кроме родных), с которым Дарка проводила в Веренчанке больше всего времени. Теперь Орыська в Гицах, а Данко не приехал. Он готовился к очередному выступлению (опять, наверное, репетиции с Лучикой).
Кроме того, три недели назад в селе еще не было разговоров о свекле. Три недели назад у людей еще теплилась надежда, что от них по крайней мере не потребуют денег за минеральные удобрения и семена.
Теперь Дарка увидела Веренчанку с черного хода. Оказалось, что Веренчанка — это не только сверкающая елка, бабуся, синий свитер, коньки, сестренка, похожая на ангелочка…
Все приятные вещи принадлежали старой, возможно даже — неповторимой Веренчанке. С черного хода Дарка увидела бледных детей со вздутыми животиками, с синяками под глазами, голых буквально до пупа (в январе!). Они выбегали из хат и кричали ей, как ругательство: «Дайте бульбы!» Это не означало, что они просят картошки, это было организованное проявление обиды и презрения к тем, у кого картошки было в достатке.
Слово «картошка», или, как говорят в Веренчанке, «бульба», из незначительного, не очень почтенного (не то что слово «пшеница»), серенького стало необычайно важным, необходимым. Картошка, прежде существовавшая для Дарки только в очищенном, сваренном виде, на тарелке, под соусом или политая маслом, теперь выросла в жизненную проблему. Село голодало потому, что не хватало картошки. Веренчанцы мечтали на полученные за свеклу деньги кормиться покупным белым хлебом и хоть одну зиму обойтись без картошки, а она за это вон как отомстила селу. Из-за недостатка картошки многие перестали откармливать свиней, продавали кур. Дарка знала, что у них в погребе полно картошки. Это позволяло чувствовать себя в безопасности, но лишало морального удовлетворения. Казалось, все слышанные на собраниях кружка самообразования высокопарные слова о любви и работе для народа сводятся к нулю, улетучиваются, как камфара, оттого, что дома полный погреб картошки, в то время как село (а ведь это и есть народ!) терпит такую нужду.
Люди, как это всегда бывает, забыли, что папа отговаривал их от контрактов, даже спорил по этому поводу с Локуицей, и теперь открыто ворчали на учителя за то, что он не предупредил их. Крестьяне говорили, что у Поповичей погреба ломятся от картошки, а люди должны «пропадать» на свекле.
Папа, хотя и уговаривал маму не принимать близко к сердцу эти обидные, несправедливые упреки, сам тяжело переносил их. Он прямо таял на глазах. Бабушка ходила за ним с какими-то снадобьями, он отмахивался от нее или выпивал, если она не отставала, но результатов не видно было.
Дарка думала, что папу мучает не только проблема картошки. У него, верно, неприятности по службе, которые он скрывает от мамы.
Домнул Локуица совсем пожелтел. Он не похудел от переживаний, как это бывает с другими людьми, только его здоровое, лоснящееся, как маслина, лицо сделалось желтым, словно тыква.
Дело в том, что село относится к нему теперь крайне враждебно, ведь он фактически (сознательно или бессознательно — никто не хочет разбираться в этом) обманул народ и навлек на него несчастье. По приказу сигуранцы начальство уволило домнула Локуицу с работы за то, что он поддерживает «большевизированное население». Не исключен и арест.
Три недели назад он приходил к Поповичам огородами, чтобы не вызвать подозрения сигуранцы. Сегодня он также пришел крадучись. Как-никак, а отец пока на государственной службе.
Локуица не разделся, хотя в комнате было тепло, только положил себе на колени шапку-молдаванку и сразу же начал сокрушаться:
— Фу… фу… Господи, господи!..
Папа, как хозяин дома, старался развлечь его, но это ему удавалось с трудом. Папа просто не знал, что сказать товарищу. Вместо отца сказала бабушка:
— А вы не горюйте, Локуица, не горюйте. Случись у нас такое несчастье, это дело другое… сразу аминь. А вы все-таки румын. Поедете к себе в регат, дадите бакшиш[34] кому следует и, помяните мое слово, еще до конца года получите должность… О Веренчанке не плачьте… здесь такая слякоть да малярия, сами знаете… Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло… Вспомните еще мои слова. Скажете: «Правильно мне старуха говорила».
— Верно, Траян, верно, — поддакивал отец, благодарный бабусе за то, что выручила его.
Но домнул Локуица только качал большой головой, напоминая лошадь, которой что-то заползло в ухо.
— То-то и есть: куплю сигуранцу, куплю должность, куплю судью, куплю справку в больнице для умалишенных, что я болен, куплю диплом зубного врача… Куплю!.. Взятка! Всемогущая взятка! То-то и есть, что в нашем государстве все продажно… Понимаете, я, как сказала ваша мать, «все-таки румын», и это меня не только обижает, но причиняет мне боль… Боль! Я страдаю от этого… Вы нас считаете оккупантами, и вам, как это ни парадоксально, морально много легче, нежели таким, как я. В вашем терпении есть какая-то надежда, какое-то благородное злорадство: «Чем хуже, тем лучше». И это верно… А что я могу сказать? Вы мне скажете — режим. Да, режим, но… этот режим деморализует народ… искажает понятия честности, справедливости, истины. Ведь эти люди — часть моего народа. Мне больно, когда я вижу, что здесь вор на воре едет, вором погоняет… Меня ни капельки не радует, что за взятку я могу, как говорят, «купить родную мать»… Здесь надо думать о другом… Надо что-то делать, — он понизил голос, — чтобы народ не терял своих сил… Это говорит вам Локуица, румын из Штефанешти. Вы знаете, Микола, я не поеду в деревню.
— Почему? — спросил папа.
«Почему?» — спросила Дарка глазами.
— В деревне, такой, какова она сейчас… все в боярских клещах. Ничего не придумаешь. Я хочу устроиться где-нибудь в городе… Город — это нечто другое. Это говорит вам Локуица. Все перемены идут из города, и я думаю, что и сюда они придут из города… Надо думать… думать и что-то предпринимать, делать. А?
Отец не поддакивал. Может быть, ему казалось, что его товарищ в лучшем положении, чем он.
— Да, надо что-то предпринимать, — Локуица положил на стол крепко сжатый кулак.
Он даже не ударил кулаком по столу, но Дарке достаточно было взглянуть на губы своего учителя, чтобы понять — этот спокойный человек, которого у них дома называли «ходячей добротой», принял важное решение.
«Надо что-то предпринимать». За этими словами последует действие. Дарка не знала, какое именно, но ей казалось, что если бы домнула Локуицу сейчас заковать в кандалы, заткнуть ему рот и бросить в тюрьму, все равно его замысел претворится в действие.
Дарка взглянула на папу. Он, склонив голову, смотрел прямо перед собой, и по выражению его глаз можно было догадаться, что он ничего не видит.
Возможно, она ошибается, но ей почему-то кажется, что папа уже не так решителен, как Локуица. Может быть, он принадлежит к людям, способным гореть только в молодости. Дарка сделала шаг вперед и положила руку папе на плечо, словно беря его под защиту. Ей хотелось любым способом дать понять своему учителю, что она дочь своего отца и сумеет выручить его даже в самый трудный час.
У Подгорских тоже неприятности, но только по другому поводу. Здесь прежде всего сокрушается матушка, Орыськина мама, женщина высокого роста, с огромными глазами и золотыми кольцами в ушах, зимой и летом одетая в черное. Из-за этой проклятой истории со свеклой уменьшились требы, а расходы Подгорских возросли. Свадьба и приданое Софийки поглотили массу денег. Теперь надо посылать Орыське; между нами говоря, надо посылать и Софии, муж которой еще не получает и неизвестно когда получит жалованье. А откуда взять денег, если люди, словно сговорившись, стали давать за требы только половину? А начни торговаться, тебе сразу такую мораль прочитают, что кровь стынет в жилах! Локуица их обманул, а ты, отец духовный, терпи из-за этого!
У одних Данилюков, кажется, все без перемен. Отец Данка признавал только один принцип: «Амт ист амт, унд ди регирунг вайст, вас зи тут»[35]. Так охарактеризовал отца Данка папа. Дарка спросила себя: неужели взрослый Данко будет таким же? «О нет, — кричало что-то внутри у Дарки, — у Данка богатая, солнечная, впечатлительная душа. Каких вершин мог бы он достигнуть, — мечтает она по-матерински, — если бы его окружала другая действительность, не та, в которой бродим мы все!..»
Дарка и мама после злосчастного происшествия с двойками сблизились и жили теперь почти как две подружки. Отец (позабыв директорский совет намылить Дарке голову) откровенно считал ее жертвой произвола Мигалаке. И все же пребывание дома на сей раз тяготило Дарку.
Как-то от скуки Дарка стала рыться в шкафу с бельем и наткнулась на коробочку с лентами. Открыла ее и залюбовалась: лежали тут рулончики синих, розовых, красных, белых, золотистых лент. Дарке пришло в голову подарить две из них своей бывшей подруге Санде, дочери Ивана Василева. Правда, ленты могли подождать, пока вырастет Славочка, но Дарке захотелось сделать Санде приятное. Это помогло бы ей уехать из Веренчанки с более легким сердцем. Увезти с собой хоть одно светлое воспоминание из села туда, на «станцию».
Дарка выбрала две самые красивые ленты — ярко-розовую и ярко-синюю.
Санда была только на год старше Дарки, но два года уже ходила на выданье, а теперь после рождества поджидала сватов. Сватов Санда ждала от двоих, и это больше всего удивляло Дарку.
— А за кого ты хочешь выйти замуж?
— За того, кто скорее сватов зашлет…
— А все-таки — кто тебе милее?..
— Ни один…
— А все-таки?
— Тот, кто мне нравится, кого люблю, не возьмет меня.
— Почему?
— Он возьмет богачку…
Дарка стыдилась при всех дарить Санде ленты. Она позвала ее в сени, где прятались от мороза куры, и вынула из кармана пальто пакет.
— Это тебе, Санда…
Та неуверенно протянула руку, словно колеблясь, не отдернуть ли ее.
— А ты? Тебе уже не надо?
Дарка объяснила, что в городе в ее возрасте уже не носят такие яркие ленты.
Санда с минуту посмотрела на ленты, потом неторопливо спрятала их за пазуху. Эффект был совсем не тот, какого ожидала Дарка.
— Будь здорова, Санда!
— Подожди… Я хотела спросить тебя… твоя мама не может дать нам немного бульбы?.. Я бы весной отработала у вас в огороде… Поговори с мамой, а?
— Хорошо, — ответила Дарка, совсем сбитая с толку этой просьбой.
То, что должно было сделать пребывание в Веренчанке приятным, сделало его совсем нестерпимым. Гнетущий осадок от встречи с Сандой теперь мешал Дарке при каждом воспоминании о селе.
И хотя папа предупреждал директора, что, возможно, Дарка на недельку задержится дома, она настояла на том, чтобы уехать из дома вовремя.
Когда Дарка села в вагон, она почувствовала, что отъезд из Веренчанки принес ей облегчение.
Хозяйка, резавшая свеклу, так и застыла от удивления, увидев на пороге кухни Дарку на пять-шесть дней раньше условленного срока. Впрочем, постоянно обучавшая всех хорошему поведению, пани Дутка сама, несомненно, была «хорошо воспитана» и тотчас сменила удивление на радость:
— Кого я вижу! Кого я вижу! А мы вас ждали через недельку.
Хозяйка наскоро вытерла о передничек мокрые руки, чтобы поздороваться с Даркой. У девушки от весеннего ветра загорели румяные щечки и на носу появилось несколько дерзких веснушек.
— Я уже больше не могла выдержать дома. Мама, бабушка и папа — все уговаривали меня: «Побудь еще!., побудь еще», а я не могла!.. Мамочка? Спасибо, как всегда… целый день кружится вокруг Славочки. Та теперь капризничает… Бабушка говорит, что это у нее зубки режутся…
Хозяйка провожает гостью (словно Дарка здесь первый раз!) в ее комнату.
— Здесь как будто что-то изменилось за время моего отсутствия. Как-то странно…
— Это вам только так кажется, Даруся. Что могло измениться? Снимайте пальто и приходите в кухню пить чай!
— Спасибо… Большое спасибо… Я сейчас… Теперь еще нет часу… Я побегу в гимназию.
— Подождите, садитесь… Лидка придет после занятий и расскажет вам все новости.
— Нет, я сама пойду. Лидка не скажет того, о чем я хочу узнать…
Стыдно и неловко в будний день идти без книжек. Так стыдно, что Дарка уже раскаивается: вот ведь не послушалась хозяйку, не подождала до завтрашнего дня. В коридорах пусто и царит такое деловое спокойствие, что она не решается даже громко кашлянуть. Тишину нарушает только однотонный шум падающих из крана капель. Дарка на цыпочках прокрадывается к своему пятому классу. Прижимает ухо к двери: Мирчук! Кто же другой может рассказывать о чем-то на латинском языке! Услышав звонок, Дарка отскакивает от двери: еще, чего доброго, вместо приветствия получит дверью по носу!
Первой выбежала из класса очкастая Шнайдер. За ней показался учитель Мирчук, а за ним уже все, кто был в этот день в гимназии. Лидка, Стефа, Мици Коляска не выпускают Дарку из объятий.
— Дети, она похорошела! Честное слово, похорошела! Пусть веснушки тебя не огорчают! Я дам тебе такой рецепт, что ты мне руки станешь целовать за него! Я тебе говорю! — как всегда, перекрикивает всех Мици.
Стефа легонько проводит по Даркиному лицу выхоленными пальцами.
— Уже цветут подснежники… Как-нибудь выберемся за ними вдвоем, ладно?
Дарка берет эти пальцы и сжимает их так нежно, что пожатие говорит больше, чем поцелуй.
— Хорошо, Стефа!
Дарка ищет глазами Наталку Ореховскую. Та стоит на своем обычном месте у печки и отвечает на приветствие подруги едва приметной улыбкой. Тогда Дарка оставляет всех и идет к ней.
— Что слышно у наших?
Ореховская лениво пожимает плечами.
— Ничего особенного… Сегодня с нами будет мой брат. Приходи к нам вечером пить чай… Так около семи. Можешь?
Если это приглашение, а не формальность, то звучит оно очень сухо. Но, боже ты мой, чего еще можно ожидать от Наталки?
— Что пишет Подгорская? Еще не вышла замуж за какого-нибудь офицера? — насмешливо спрашивает кто-то.
Лидка берет Дарку под руку (иногда хорошо побыть наедине), словно та принадлежит ей одной, и так, ступенька за ступенькой, они спускаются вниз.
Лидка, наверно, умерла бы, если бы не молола языком:
— Что слышно? Ну, говори, рассказывай! Что сказали дома на все это? Как мамочка приняла твои двойки? Ведь не убила и не повесила тебя за них… Ой ты, трусиха! Ну, говори… Мы ведь столько не виделись!
— Лидка, имей совесть, не все сразу!
Дарка приглядывается к толпе мальчишек, но Данка нет. Либо он не вышел еще из класса, либо уже ушел.
— Дома… ты же знаешь, как дома… Конечно, все родители хотят, чтобы их дети хорошо учились… Папа больше понимает в этих делах, чем мама… Но что это я только о себе говорю?
Лидка даже не догадывается, что Дарке хочется умолчать кое о чем. Она рада, что снова может говорить.
— У нас была контрольная по математике, и знаешь, все, кроме Шнайдер и Ореховской, написали ее на «неудовлетворительно». Да, Мигалаке спрашивал, знает ли домнишора Попович, что должна сдать ему стихи Эминеску?
«Все-таки Эминеску, а не Тудоряну. Эминеску можно. Эминеску — поэт. Настоящий, большой поэт».
— Да? Что ж, если надо, так надо. Я читала Эминеску в немецком переводе. Мне очень нравится. Особенно одно стихотворение — о позднем лете…
— Разве ты так хорошо знаешь немецкий?
Дарка делает многозначительную гримасу.
— А что?
— Я бы не сказала, что это так… Подожди, Дарка, еще одна новость! У нас в гимназии идет подготовка к сербаре унирий[36]. В этом году будем впервые праздновать… Не знаю, говорят, что Стефанович из восьмого будет петь соло. Хотя все за Илюковну…
— Что еще за «воссоединение»? Что это такое?
— Как? Ты не знаешь, что двенадцатого апреля государственный праздник воссоединения Буковины с Румынией? Разве у вас в селе не празднуют этот день? Правда, наша гимназия впервые в этом году так торжественно готовится к празднику. Будет большой концерт… Дарка, ты не рада, что в гимназии будет вечер?
— Что? Рада ли я?
— Ага! Вот еще что! — Лидка вспоминает новость, непосредственно относящуюся к Дарке. — Орест спрашивал о тебе. Да! Как-то встретил меня по дороге из гимназии и спросил, куда подевалась Дарка и почему ее не видно. Не красней! Не красней, Дарка!
Дарка и не краснеет, но Лидке, видно, очень хочется, чтобы эта новость произвела на Дарку сильное впечатление.
— Ты знаешь, с кем я познакомилась? Угадай! А ну, угадай!
К огромной Лидкиной радости, Дарка угадывает с первого раза.
Хотя Дарка выглядит здоровой и веселой, но за первый обед на «станции» она принимается без аппетита. Хозяйка обижена (она даже на это способна обижаться):
— Вы, Даруся, привыкли к маминой изысканной кухне, и вам не по вкусу наша простая еда…
— Ой, что вы! Как можно так говорить! Это же мое любимое блюдо… борщ с чесночком! Но сегодня я совсем ничего не могу есть… Столько впечатлений… столько впечатлений…
— Ну-ну! — снисходительно смеется хозяйка.
Дарка так и не знала, приглашена она на чай или эти слова только ширма для собрания.
Она знала, что с приездом брата Наталки их кружок связывал какие-то надежды, строил какие-то планы, — одним словом, его ждали. Встреча с незнакомым, но столь близким всем братом Ореховской была или, вернее, должка была стать вехой на пути кружка самообразования.
Так как Наталка ничего не объяснила, Дарка решила пойти на вечер не в форме, а в праздничном платье. Светло-серое шерстяное платье с темно-коричневой шелковой отделкой у шеи и на рукавах очень подходило для такого визита.
И хорошо сделала.
Войдя в коридор, Дарка услышала запах пряностей, который издает только что вынутое из печи тесто, и сразу поняла, что поступила правильно.
Навстречу Дарке выбежала Наталка. Она была завита, но, честно говоря, это не очень красило ее. Волосы, не привычные к такой прическе, торчали в разные стороны, как перекрученные проволочки, и придавали всегда серьезной Ореховской легкомысленный вид. От нее пахло духами, напоминающими запах клубники.
Все сидели в гостиной с темно-красными низкими стульями, с темными (то ли от времени, то ли просто такая манера) картинами на стенах, с темно-бордовыми тяжелыми портьерами на дверях.
Среди гостей Дарка прежде всего увидела Стефу. В легком лиловом платье со стильным стоячим воротником а-ля Мария Стюарт и соответствующей фасону платья прической, открывающей лоб и затылок, с тяжелым янтарным медальоном на груди, Стефа выглядела как мечта.
Наталка взяла Дарку под руку и подвела к высокому и очень похожему на Ореховскую только крепкому, со здоровым, загорелым лицом человеку:
— Познакомьтесь! Это мой брат Роман, а это та Дарка Попович, о которой я тебе уже рассказывала…
«Что рассказывала? Почему именно обо мне?»
Роман Ореховский крепко, по-мужски, пожал Дарке руку. Она не смотрела на него, но чувствовала на себе его пристальный взгляд. Усевшись наконец в предназначенное ей кресло (какие у него смешные, изогнутые, точно рахитичные, ножки), Дарка смелее посмотрела на брата Наталки. У Ореховского сильно выдающиеся скулы, полные темновишневые губы. Он не красив, но физическая сила, здоровье и печать уверенности на лице делают его привлекательным.
«Такого можно любить», — мелькнуло в голове у Дарки.
Это был обычный «чаёк», хотя пригласили всех членов кружка самообразования. Возможно, Дарка чувствовала бы себя совсем хорошо, не жди она все время чего-то другого или будь среди приглашенных Данко.
А так…
Прежде всего пили чай («чаёк», так «чаёк»). Роман Ореховский пододвигал девушкам поднос со сладостями. Каждая брала пирожное, стараясь выбрать самое маленькое, робко надкусывала его, словно мышка, и деликатно клала на тарелочку, стоявшую рядом со стаканом чая. Потом завели патефон. Молодые люди закурили. Курили, насилуя себя, демонстративно, и это было очень заметно. Орест рассказывал анекдоты, большинство их Дарка знала по старым календарям. Впрочем, все смеялись, и больше всех сам Цыганюк. Играли во «флирт». Но среди присутствующих никто не интересовал Дарку, она спокойно читала приходившие к ней номерки и так же апатично посылала дальше, первому, кто попадался на глаза.
Только в конце вечеринки, когда, собственно говоря, пора уже было расходиться, Наталка ни с того ни с сего спросила у брата:
— Что ты думаешь по поводу того, что нашей гимназии в этом году придется праздновать сербаре унирий?
В комнате стало тихо, хоть мак сей. Дарке показалось странным, что Наталка раньше не согласовала этот вопрос с Романом. До сих пор было так: все спорные вопросы Наталка разрешала с братом, а потом передавала остальным его мнение…
Несколько пар глаз впились в лицо Ореховского.
— Я думаю, что забастовки вам не удаются, как показал опыт с концертом в честь министра. Слишком много среди вас, мои милые, штрейкбрехеров. Что же касается празднества, то вам придется выполнить приказ дирекции и отметить праздник «воссоединения».
Это было сказано с такой иронией, что юноши и девушки переглянулись. Цыганюк снял пенсне с носа и снова надел его. Те, кто минуту назад спешил домой, остановились как вкопанные. Занятно, — что же, Ореховский издевается над всеми?
Почему же не встанет Орест, не развеет позорную тень, брошенную Ореховским на обе гимназии?
То ли Дарке показалось, то ли в самом деле Орест переглянулся с Наталкой? «Что это, условный знак? Сговор?»
Если молчит Цыганюк, должен отвечать Гиня Иванчук, первый, если так можно выразиться, его помощник и соратник.
Гиня нерешительно поднимается, словно ждет, что вскочит Орест и опередит его. Но похоже, что ему, Гине, придется принять бой одному. Цыганюк то ли задремал, то ли с ним что-то случилось.
— Вы хорошо знаете, что мы (на слове «мы» он делает особое ударение) стоим на иных позициях…
— Да? — Брови Романа ползут вверх, и от этого лоб его морщится, как у старика. — Любопытно-о! А какова же тогда ваша программа?
Так не спрашивают единомышленники. Подобным вопросом можно загнать в тупик любого политика. В чем взаимно упрекают Друг друга различные политические партии? В отсутствии конкретной программы. А ведь то все-таки официально зарегистрированные политические партии, а не какой-нибудь там ученический кружок самообразования. Нельзя так, нельзя! Девушки и юноши переглядываются. До каких пор будет молчать Цыганюк? Счастье, что Иванчук такой парень, который за словом в карман не полезет.
— Мы не согласны с оккупацией Северной Буковины. Считаем, что это исконно украинская земля.
— И что из этого? — звучит еще более иронический вопрос.
— Я не понимаю, что вы хотите сказать? — Гиня Иванчук начинает терять уверенность.
Дарке стало просто неловко за хозяев: ну где такое слыхано? Пригласить гостей, накормить их, напоить, а потом своими заранее обдуманными вопросами ставить в такое положение, чтоб эти несчастные гости крутились, как мухи в простокваше?
Чем дальше, тем более подозрительным кажется Дарке упорное молчание Ореста. Оно уже не выглядит случайным.
— Я спрашиваю вас, что из этого следует?
— Мы хотим путем осознания молодым поколением…
«Ой, что за стиль! Не надо, Иванчук, так книжно, не надо!»
Роман Ореховский скрестил руки на груди. Его насмешливая поза еще больше смущает Иванчука.
— Так! Представим себе, что вся молодежь Северной Буковины уже уяснила это. И что же дальше?
Иванчук рассматривает присутствующих. Взгляд его задерживается на Оресте. И этот не придет ему на помощь? Что же, придется, как видно, выпутываться самому.
— Тогда будем стремиться… — и поправляется: — Добиваться!
Ореховский не дает ему окончить:
— Я допускаю, что вам удалось «добиться» прекращения румынизации, во всех народных школах обучение будет вестись на украинском языке. Что ж из этого? Наши дети, вместо того чтобы учить историю Румынской империи на румынском языке, который они, кстати, не совсем понимают, будут изучать эту же историю на родном языке. Вместо того чтобы, как попугаи, талдычить благодарственные и верноподданнические королю стихи, они будут декламировать их уже сознательно по-украински. А вы не думали над тем, что такой своей политикой вы только облегчаете работу правительству по «правильному воспитанию» местного молодого поколения? Вас интересует только форма, содержание вас не касается? Верно или нет?
Иванчук забылся и, как в классе перед учителем, поднял руку. Ореховский едва сдержался, чтобы не рассмеяться.
— Пожалуйста, Иванчук…
Гиня пощупал «адамово яблоко», потом деловито кашлянул.
— Я хотел сказать, что на некоторых этапах исторического развития форма выручает содержание…
— Это что-то чересчур умное. Это вы сами придумали, Иванчук? Может быть, объясните мне, как это надо понимать?..
Среди присутствующих послышался смешок.
— Могу, — дерзко тряхнул Гиня рыжей шевелюрой. — Если вы не понимаете, то могу. На нынешнем историческом этапе мы боремся за то, чтобы сохранить хотя бы национальную форму, то есть письменность, язык, народные обычаи. Чтобы не утратить формального права называть себя нацией. А позднее… позднее, при более благоприятном международном положении… борьба за форму перейдет в борьбу за содержание…
Ореховский:
— Гм… гм… Так… Теперь я кое-что понимаю. Вы хотите при соответствующей температуре, понятно, заморозить зародыши идей и сберечь их до того времени, когда наступят благоприятные условия, чтобы бросить их в землю? Так. Идейка довольно оригинальная… Я только побаиваюсь, что если такие зернышки слишком долго пробудут в замороженном состоянии, то они совсем утратят способность к произрастанию. Позабыл, как это называется в биологии… Знаете что, Иванчук? — Ореховский сделал многозначительную паузу. — Слушая вас, можно подумать, что имеешь дело агентом сигуранцы… Зачем ломиться в открытую дверь? Ведь правительству больше ничего и не надо, как именно такое «замораживание» революционного духа в народе! За такую работу они же вам еще и спасибо скажут, может быть, даже медалью наградят.
Иванчук:
— Вы понимаете, но вам не хочется меня понимать. Будто вы не знаете, что речь идет не о чистой форме. Мы же изучаем — и вы прекрасно это знаете! — историю нашего народа… Читаем запрещенные поэмы Шевченко, Ивана Франко, развиваем национальную сознательность примерами героических подвигов нашего народа в прошлом…
Ореховский:
— Я так вас и понимаю… Это вы не понимаете, что именно таким методом борьбы напоминаете старую деву… Да, старую деву, которая только тем и живет, что вспоминает, как красива она была в молодости. Бесспорно, надо изучать и знать прошлое своего народа — без прошлого нация вообще не нация. Славные дела прадедов придают нам бодрость, вдохновляют нас и вырабатывают столь необходимую каждому сознательному человеку гордость за свой народ. Но поймите же, нельзя ради прошлого закрывать глаза на современность! Кто дал вам право глядеть только в прошлое, не замечать настоящего, поворачиваться спиной к будущему? Если вы будете сидеть сложа руки и мириться, позорно мириться с тем, что есть, вам не много помогут героические подвиги наших предков. Наоборот… да, именно наоборот, они еще ярче покажут вам, как вы — я не имею в виду вас лично — никчемны. Как сказал Шевченко: «Славных прадедов великих правнуки дрянные…» Больной не станет здоровее от напоминаний, каким он был здоровым когда-то! Это во-первых. Во-вторых, ваша замкнутость, прием в члены лишь учеников одной-двух гимназий, — это, — прошу прощения, девочки! — вообще мертворожденное дитя…
Стефа шевельнулась в кресле. Пружина скрипнула, словно кто-то застонал.
— Стефа, разве вы никогда не слышали, что дети иногда рождаются мертвыми? Кстати, вы предлагаете метод «пережидания». Но поглядите, что происходит… Когда Румыния захватила Трансильванию, Буковину, часть Добруджи, Бессарабию, некоторые наши патриоты говорили еще: чудовище обожрется, и его вырвет… А тем временем что же получилось? Создано «великое румынское королевство» — Романия маре, — о котором сами румыны сложили поговорку: «Романия маре — мамалига н'аре»…[37] Ясно, мы никак не можем примириться с таким положением, мы никогда не примиримся и не согласимся быть колонией. Это ясно всем нам! Неясно пока только, какой метод борьбы надо избрать… Я, например, Иванчук, отбрасываю ваш метод «замораживания», или «консервации энергии на дальнейшее». Вы ведь молоды, а молодежь должна быть в авангарде! Авангардом в борьбе за национальное освобождение Северной Буковины должна быть ее молодежь. Верно? Хорошо. Благодарю вас, что согласны со мной. Но вы должны согласиться и с тем, что украинская молодежь Буковины состоит не только из одних гимназистов! Это было бы абсурдно и смешно!..
Иванчук:
— Вы хотите сказать, что нам надо объединиться с ремесленниками и рабочими? А вы знаете, каким духом проникнуты эти элементы?
Ореховский:
— Я знаю одно: ничего плохого для своего народа они не хотят. За это я ручаюсь головой…
Иванчук хрипло, повышая голос:
— Вы недавно сказали, что, не знай вы меня, приняли бы за агента сигуранцы, а теперь я вам скажу: не знай я вас, принял бы за агента Коминтерна!
Иванчук сам испугался своих слов и побелел, как стена.
Дарка тоже испугалась: хоть бы обошлось без скандала! Но Ореховский совершенно невозмутим, слава богу. Он обводит всех спокойным взглядом и спрашивает не без иронии:
— Чего же вы так испугались? Успокойтесь… Я ни капельки не обиделся… Тут только одно недоразумение, господин Иванчук, вы грубо ошибаетесь, думая, что каждый, кто сочувствует рабочему движению, получает за это деньги… Я понял ваш намек. Мы не торгуем своими политическими убеждениями. Ясно?!
Человек, все время говоривший спокойно, вдруг закричал да еще стукнул кулаком по столу. Ясно, такая смена настроения смутила присутствующих. Наталка взяла брата за руку, заставила сесть.
— Нет… Я не ожидал от вас, что вы с Цыганюком пуститесь на такую провокацию. Что это? Что это за диалог между мной и Ореховским? Теперь я вижу — это самая обычная, заранее подготовленная провокация…
Глаза Гини метали молнии. В сочетании с рыжими волосами они казались белыми.
Только теперь поднялся Орест. Он был, как всегда, спокоен и флегматичен.
— А что ты называешь провокацией? Обмен мнениями? Да, теперь наступил момент, когда мы должны ясно высказать свои взгляды. Хватит играть в «кружки», надо или делать настоящее дело, или бросать все к чертовой матери!..
Ореховский поднял руку:
— Успокойтесь… Пакс вобискум[38]. Я думаю, что наш сегодняшний товарищеский, — он не смог сдержать улыбку, — обмен мнениями убедил всех, что нам не нужна борьба ради борьбы, а борьба эта должна опираться на какую-то конкретную программу. Я знаю, Иванчук, что вы не любите этого слова, но без него нельзя… Далее — эта программа должна иметь какую-то перспективу, а такие вопросы не решаются в один вечер. Мое предложение, — он ласково обратился к сестре, как всегда, когда разговаривал с ней, — отложить на время это дело, а пока, Наталочка, вспомни-ка, что ты хозяйка… Как ты чувствуешь себя? — Он заботливо положил ей руку на лоб.
Орест завел патефон. Вальс «Дунайские волны» перенес Дарку в другой мир. На берегу Дуная, однако не на родине Штрауса, а где-то поближе, взявшись за руки, танцевали босые девушки с водяными лилиями в волосах.
— Надо думать, а не мечтать!..
Орест Цыганюк так низко склонился к Дарке, что его подбородок коснулся ее головы.
— Поглядите, Дарка, какая красивая девушка Стефа…
Стефа, услышав свое имя, повернулась к ним. Ее рука перебирала янтарь на груди. Дарка не успела ответить. Наталка взяла брата за руку, по-сестрински влюбленными глазами показывая ему на место рядом с собой.
— Садись, Роман, мы ведь не об этом тебя спрашивали. Мы хотели узнать, что ты думаешь о нашем участии в «празднике воссоединения». Участвовать нам или демонстративно не прийти на торжественный вечер?
— Я думаю… — Роман приложил большой палец к нижней губе и задумался, — я думаю, что вам надо принять участие в этом параде. Да!
— Это же оппортунизм! — воскликнула Сидор и встала, но тотчас села снова.
— Нет, — слегка наклонился в ее сторону Ореховский, — совсем нет. На данном этапе, — пользуясь терминологией господина Иванчука, — вам не надо затевать какие бы то ни было демонстрации. Вообще не надо делать ничего такого, что может привести к массовой ответственности. Расценивайте это как временное отступление, но помните, что это отступление, которое нужно для более решительного наступления. Потом, во время таких демонстраций вас легко спровоцировать, и это может привести к катастрофическим последствиям.
Иванчук скорчил ироническую гримасу:
— Вы ведь только что утверждали, будто молодежь должна идти в авангарде, а теперь уже отступаете? Или вы уже не причисляете себя к молодежи? Я не думал услышать сегодня от вас такие слова… Просто никогда бы не поверил. Или у вас теория — одно, а практика — другое?
Ореховский рассмеялся.
— На этом вы меня не поймаете, Гиня! Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Вы ждали, что я вооружу вас хлопушками и выставлю против пулеметов? Вы этого ждали от меня?
Жизнь течет плавно, как ленивая речка. Постороннему наблюдателю может показаться, что нет ни малейших изменений ни в гимназии, ни в Даркиной жизни.
Мигулев спрашивает с одинаковым спокойствием и лаской тех, у кого «форте бине»[39], и тех, у кого «инсуфичиент»[40]. Мигалаке тоже без особого труда вспомнил, что в классе есть Попович. Правда, он спрашивает ее только по четвергам, на уроках грамматики и правописания, но все-таки признает ее существование. Добрый взгляд учителя Слепого, может быть, чаще, чем раньше, отдыхает на Даркиной голове. Мамины письма, как и раньше, сердечны и нежны. В них нет ни укоров, ни жалоб. На «станции», как всегда, по воскресеньям на десерт подают блинчики с вареньем. Даже учитель закона божиего отец Луцев также, как и сорок лет назад, заканчивает урок словами: «А теперь, дети, помолимся господу богу!»
Данко, изредка встречая Дарку, тоже неизменно приветствует ее излюбленным:
— О, Дарка! Как дела?
Подготовка к «празднику воссоединения» без суеты и шума систематически продолжается.
Только одна Дарка в этом заколдованном мирке сгорает от тайного ожидания. Что-то зреет за ее спиной, помимо ее сознания. Смешно, что все эти цыганюки, ореховские хотят скрыть это от нее. Но от их мозга и конспиративно сжатых губ к Дарке тянутся невидимые, без цвета и запаха, лучи. И она ждет. Ждет, что в один из дней кто-нибудь из них встретит ее и скажет: «Все готово. Если хочешь, чтобы мы победили, присоединяйся к нам».
Дарка нарочно старается попасться на глаза Оресту, напомнить, намекнуть ему, что готова идти за ним.
Возвращаясь с Лидкой из гимназии, Дарка внезапно останавливается возле магазина, в котором продаются ремни и седла.
— Подождем немного… Там идет Орест, он хочет мне что-то сказать!
Цыганюк здоровается и проходит, не говоря ни слова.
Тогда Лидка от смеха переходит к возмущению:
— Ты, Дарка, какая-то сумасшедшая! Я тебе говорю, что у тебя мания преследования!
Теперь Дарка, возвращаясь из гимназии домой, ускоряет шаг.
— Скорее, Лидка, скорее! Или ты останься, а я побегу… Мне, наверно, пришло письмо.
Но письма нет. Не было его ни вчера, ни позавчера. Возможно, не будет ни завтра, ни послезавтра.
Ночью Дарка вскакивает и садится на кровати.
— Кажется, кто-то стучит в окно!
Приходит хозяйка в ночной кофточке, со свечкой в руке. Никто не стучал. Пусть Даруся прочтет молитву и постарается уснуть.
Однажды в сырой день, когда на склонах уже зеленеет первая травка, а в оврагах еще лежит снег, кто-то принес в класс первые подснежники. Бедные цветы, сорванные, проколотые булавкой в самое сердце или стиснутые в букетики, гибнут очень скоро. Но их смерть нисколько не меняет того факта, что весна уже пришла. Она еще только прихорашивается в передней капризного марта.
«Праздник воссоединения» уже не за горами. Дарка не может удержаться и заговаривает с Ореховской:
— Ты не хочешь мне ничего говорить, но я знаю… что-то произойдет на этом празднике… Орест, наверно, не упустит такого случая, вот увидишь! Вот увидишь, что из этого выйдет! — повторяет Дарка, хотя словами не может передать картину, которую рисует ее воображение.
Наталка на этот раз не рассердилась. Она по-матерински, — все же старше на три года, — гладит ее.
— Ничего не произойдет, Дарка. Так надо. Успокойся.
Дарка не верит подруге. Они просто считают ее не созревшей для дела, вот и все.
День двенадцатого апреля выдался пасмурный, моросил холодный мелкий дождик. Впрочем, не обращая внимания на плохую погоду, все ученики и ученицы обеих гимназий пришли на праздник. В гимнастическом зале, в треугольнике между дверью и стеной, вырос целый лес зонтиков. Зонтики плачут крупными слезами. Их слезы растекаются по полу грязными извилистыми струйками. На стене, украшенной сосновыми ветками и трехцветными флагами, — портреты их величеств короля Фердинанда и королевы Марии.
Дарке хочется пробраться вперед, но более сильные плечи отталкивают ее в самую глухую и набитую людьми часть зала. Отсюда ей не видна даже голова Ореста. Дарке кажется, что он должен быть где-то впереди, и, верно, так оно и есть.
Ей вспоминается (память иногда в самые серьезные минуты открывает такие тайники) рассказ дяди Мухи. Он тогда был еще студентом. На одном митинге или императорском параде собралась такая толпа, что ему пришлось идти по головам, чтобы выбраться из нее. Дарке становится страшно. А что, если ей придется маршировать по плечам и рукам мальчишек?
Дарка думает: сейчас это начнется. Она не может даже представить себе, как именно начнется. Может быть, Орест выскочит вперед, сбросит директора с подмостков и крикнет: «Позор оккупантам!» Или кто-то по сигналу бросит камень в портреты королевской четы, а весь зал начнет свистеть?
На подмостки поднимается принарядившийся, черно-белый, как сорока, директор и начинает праздничную речь. Значит, это произойдет в другую минуту. Возможно, в самом конце праздника? Директор говорит авторитетно, убедительно. Под конец («О чем это он болтал?» — спрашивает себя Дарка) директор благодарит короля от собственного имени, от имени всех учеников и всего рутенского (читай: украинского) народа на Буковине за то, что монарх взял украинцев под свою милостивую опеку. Директор кончает и слегка наклоняет голову. Учителя начинают аплодировать. В зале раздаются отдельные хлопки. Мигалаке поднимается на цыпочки и вытягивает красную, набрякшую шею: «Кто это там смеет не аплодировать?»
Но аплодировавших было так мало, что легче было запомнить тех, кому понравилась директорская речь.
Остальная программа идет ровно, как по проволоке. Только Косарчук из шестого сбивается и от страха дважды декламирует одни и те же строчки стихотворения. Зал дрожит от рукоплесканий. Мигалаке вскакивает на кресло, как молодой петушок на насест: «Что там опять?»
Директор еще раз поднимается на подмостки. Дарка сворачивается в клубок и ужом проскальзывает вперед. Теперь, когда начнут петь государственный гимн, это начнется. Внимание! Внимание, девочки! Внимание, мальчики!
Директор закладывает руки за спину («Неужели он думает в этой позе петь гимн?») и говорит на весь зал:
— Теперь я попрошу всех через заднюю дверь спокойно, не спеша, выйти в сад. Там в память вечного союза Буковины с великой Румынией мы посадим молодой дубок, как символ силы и прочности этого воссоединения. Я прошу выходить спокойно, без шума.
Свежевыкопанная ямка похожа на могилку. Ученики выстраиваются возле этой свежей раны в земле и ждут. Прямо напротив Дарки, по ту сторону могилки, стоит Орест. Его лицо на фоне заплаканного неба кажется таким бледным, что даже неприятно на него смотреть. Губы тоже побелели, их не отличишь на лице. Дарка смотрит на него так напряженно, что правый глаз у нее начинает слезиться. Цыганюк мотает головой, словно отмахивается от чего-то, и встречается с ее взглядом.
«Я готова. Я на все готова. Только жду твоего знака», — сигнализируют Даркины загоревшиеся глаза.
Орест утомленно опускает веки и мгновенно опять поднимает их. Значит, он принял к сведению Даркин взгляд. Дарка так полна тем, что должно произойти, своей близостью к событиям, что весь праздник видит как сквозь закопченное стекло. До ее ушей, словно залитых воском, долетают слова новой речи (теперь говорит директор женской гимназии), но они никак не могут переступить порог сознания. Это уже так близко, что. Дарка перестает дышать. Учитель пения поднимает руки вверх. Внутри у Дарки что-то вскрикивает, и она застывает с широко раскрытыми глазами: Орест тоже поет королевский гимн…
Могилку засыпают. Толпа вокруг начинает редеть. Могильщики расходятся. Только Дарка стоит на своем месте в грязи и под дождем.
— Дарка, посмотри на себя… ты вся в грязи! — дергает ее за рукав Лидка. — Возьмем зонтики — и домой…
— Я не знаю, — отвечает, почти теряя сознание, Дарка и идет за Лидкой.
На следующий день промытое небо такое прозрачное и синее, что кажется: если лечь навзничь, увидишь себя, как в большом зеркале. Воздух пропитан тем нежным ароматом, который может исходить только от земли, напоенной весенним дождем. По небу, над крышами домов, словно касаясь красными ногами труб, плывет одинокий аист с широко распростертыми крыльями.
Весна идет, пленяя своей улыбкой людей и природу.
Дарка и Лидка ходят в гимназию в летних плащах.
Ничто так не напоминает о весне, как летний плащ после зимнего пальто. У ворот гимназии ученицы с удивлением переглядываются: что это? То ли они пришли поздно, то ли прибежали слишком рано? Нет, кажется, не рано… по дороге они встретили почти всех, с кем ежедневно встречаются в это время. Девочки опрометью бросаются в ворота.
Как только они переступают порог, от стен отделяются какие-то незнакомцы.
— Отдать книги, идти в зал, — командует один из них.
У Лидки портфель выпал из рук. Дарка свой крепко прижала к груди.
— Что это такое? Я никому не дам книжек! Я никого не знаю!
— Не болтать. Мы из сигуранцы. Никто не возьмет ваших книжек. Получите их обратно. Мы только должны просмотреть их. Теперь — прямо в зал.
По дороге в гимнастический зал еще один ряд агентов тайной полиции. У дверей — двое сотрудников службы безопасности. В зале шумно, можно сказать даже весело. Жужжащим шмелем гудит только один вопрос: что случилось?
Проносится слух, что кто-то выбил у директора стекла. Возможно, и так, он заслужил это. Но по дороге слух встречается с новой догадкой: кто-то сбросил с крыши гимназии государственный трехцветный флаг.
Это уже серьезнее… Мысль о директорских стеклах отпадает, как смешная и жалкая.
— Послушайте, это все чепуха… Послушайте… Послушайте… — бежит откуда-то с левого крыла новая задыхающаяся весть. — Все это небылицы. Просто кто-то послал самому министру угрожающую телеграмму.
— Ах!..
Да, но через минуту и эта версия разлетается в прах. Ведь министр сейчас во Франции.
Глупый сторож звонит на первый урок, словно ничего не произошло. Но этот звонок, кажется, напомнил директору, что все уже в сборе. Он входит в зал вместе с несколькими учителями очень озабоченный, и среди учеников проносится широкий вздох облегчения. Известно: самая дурная весть лучше незнания. Наконец директор скажет, в чем дело и что это за комедия. Он откашливается, становится среди учеников (Дарке виден только его лоб) и говорит голосом, которым произносят речь над могилой заслуженных, но ненавистных людей:
— В эту ночь чья-то преступная рука отважилась на нелепое злодеяние. Кто-то под самый корень срубил дубок, который мы вчера вместе с вами посадили как символ вечного воссоединения Буковины с Румынией. Есть подозрения, что этот позорный, нелепый проступок совершил кто-то из учеников нашего учебного заведения.
Дарка закрывает лицо руками. Ей кажется, что агенты сигуранцы имеют право повести ее на виселицу за радостный огонек, блеснувший у нее в глазах при этом известии. Директор напоминает о своем последнем предупреждении и угрозе. Он призывает виновника добровольно сознаться, так как это единственная возможность спасти от роспуска обе гимназии. Именно обе, так как они обе пользуются садом, где был посажен дубок.
В зале тихо-тихо.
Директор повышает голос, словно этим старается повлиять на виновника:
— Виновник в зале. Полиция тоже. Каждую минуту я могу приказать арестовать его, но тогда вина падает на всех собравшихся. Никто не верит и не поверит, что виновный в этом злодеянии не имел сообщников. У него должны быть сообщники — те, кто был с ним в сговоре. Если он сам признается, то этим спасет хоть товарищей. Если он отважился совершить это позорное дело, неужели теперь у него не хватает мужества ответить за это? Или этот «герой» хочет спастись ценою судьбы товарищей? Ничто ему не поможет, его фамилия уже известна сигуранце. Сейчас речь идет только о спасении гимназий. — И директор еще раз повторяет: — Только одно обстоятельство может спасти гимназии — добровольное признание виновного.
Некоторые ученики оглядываются. Не всем хочется прощаться с гимназией. Где же тот, кто должен сознаться и этим спасти своих товарищей?
Никто не признается.
Директор еще ждет. Потом говорит жестким голосом:
— Вот вам моральный облик ваших «руководителей»! Он хорошо знает, что фамилия его уже известна полиции. Знает, что есть только один способ спасти обе гимназии от ликвидации… — Директор не может говорить от возмущения. Через минуту он немного успокаивается и начинает уже другим тоном: — Женская гимназия может расходиться по домам. Обо всех дальнейших распоряжениях дирекции узнаете с доски объявлений.
Девочки зашевелились. Они отделяются от мальчиков. В дверях стоят учителя и внимательно следят за тем, чтобы вместе с юбочками не выскочили какие-нибудь брючки. В коридоре, на глазах у типа из сигуранцы надо проверить содержимое портфеля и на вопрос, не пропало ли что-нибудь, ответить «ну», что означает по-румынски «нет».
По дороге Дарка вспоминает вдруг что-то и обращается к Лидке:
— У меня осталась латинская грамматика Ореховской. Ты иди, а я побегу, может быть, догоню Наталку и отдам ей книжку.
Лидка рассердилась:
— Ей-богу, Дарка, ты рехнулась! Ну у кого сейчас в голове латинская грамматика? Впрочем, если хочешь ее догнать, беги, Наталка уже далеко!
И Дарка бежит.
— Наталка… у меня… тво-я грамматика-а!
Ореховская останавливается. Тогда Дарка, вместо того чтобы полезть в портфель за книжкой, хватается рукой за Наталкин воротник, прижимает ее к себе и спрашивает перепуганным, взволнованным голосом:
— Наталка, я тебя умоляю, скажи мне… это сделал Орест?
Наталка даже отшатнулась от такого вопроса. Она окидывает Дарку грозным взглядом и, не проронив ни слова, идет дальше. Дарка дает ей пройти несколько шагов, потом догоняет и, уцепившись за ее руку, начинает оправдываться:
— Я знаю, что о таких вещах нельзя спрашивать, нельзя говорить, но я так хотела бы это знать!.. Никто не знает, как это важно для меня… для всей моей жизни…
Наталка молчит. Тогда Дарка говорит умоляюще:
— Если не хочешь говорить, моргни глазами, что это так…
Наталкины глаза смотрят прямо и неподвижно, словно они из железа.
Пройдя несколько шагов, Наталка загадочно улыбается.
— О Наталка! — Дарка хочет поцеловать подругу, но та отодвигается и мягко говорит:
— Не делай глупостей на улице. Смотри, у тебя из портфеля падает хлеб…
И пока Дарка возится с завтраком, Наталка Ореховская переходит на другую сторону.
XXIII
В воздухе носятся слухи, но ни достоверность, ни источник установить нельзя. Оба директора (женской и мужской гимназий) как будто ездили в Бухарест и были на аудиенции у самого министра просвещения.
Из Бухареста в Черновицы приезжала комиссия.
Наверняка известно только одно — арестовали Ореста Цыганюка и перевели его из полицейской в судебную тюрьму.
Арестован ли еще кто-нибудь из учеников — неизвестно. По слухам, тюрьмы переполнены учащейся молодежью. А тем временем все видят, что многие из этой молодежи спокойно играют в футбол.
Под вечер Лидка с Даркой забегают в гимназию посмотреть на черную доску. И, как всегда, на ней висит одноединственное старое объявление, призывающее всех учениц вовремя сдавать книги в библиотеку.
В среду (кто бы мог подумать, что прошло уже пять дней с того памятного дня!) Лидка и Дарка снова бегут в гимназию. Высоко на доске висит большое яркое объявление. Читают, задыхаясь, стоя на цыпочках: ясно, черным по белому, написано, что женская украинская гимназия ликвидирована.
— Чтоб ему из тюрьмы не вернуться! — бранится Лидка на весь коридор. — Это Орест виноват, все из-за него!
— Не ругайся, а читай дальше, — буркнула Дарка.
Через несколько строчек объясняются условия приема в новую гимназию. В эту новую гимназию будут приняты только те, кто напишет соответствующее заявление, принесет присягу и… кто, по мнению дирекции, подходит для этого учебного заведения. Прием в новую гимназию в пятницу и субботу от 8 до 12 утра.
— Ты… не сердись на меня, Дарка, за то, что я так сказала об Оресте!.. Я думала, что нашей гимназии уже конец… Слышишь? Но теперь я вижу, что все в порядке…
Дарка очень удивлена:
— Все в порядке? Но здесь же написано, что надо принять какую-то присягу.
Лидка весело смеется.
— Ну и что же? Ты думаешь, заставят тебя при свечах присягать? Конечно, придется выслушать нравоучение директора и подписать какое-то обязательство… Вот и вся премудрость… Эх… Хорошо, что можно еще немного отдохнуть. Уже пахнет весной, и… так не хочется учиться!..
Дарка молчит. Расстояние между ними слишком велико, чтобы Лидка могла понять ее!
С запада долетает ветерок. Какая-то девушка улыбается накрашенными губами юноше в офицерском мундире. Чернобровый, как буковинская крашенка, разносчик газет выкрикивает:
— Большая железнодорожная катастрофа около Плоешти!
Жизнь не изменилась оттого, что в Черновицах закрыли обе украинские гимназии.
В четверг утром, (по четвергам в гимназии математика, румынский, латынь, история, естествознание, рисование) приходит письмо от мамы. О несчастье, постигшем украинскую молодежь, в Веренчанке узнали из газет. Дочка должна быть умницей. Бог даст, все будет хорошо. Домой надо писать, что бы там ни было. Помни об этом, доченька. Дома все хорошо.
Письмо короткое, очень осторожное. Мама не написала всего, что думала. «Как они там напуганы!» — сразу поняла Дарка, и ей стало больно за своих.
Вечером этого же грустного четверга прибегает заплаканная тетка Иванчук. Ее пышная грудь поднимается и опускается, и с каждым вздохом — новый поток слез. Дарке почему-то вспомнилась помпа с урока физики.
Тетка прижимает к глазам промокший платок.
— Ты только подумай, только представь себе («Да что надо представить себе?» — не терпится Дарке), я все ноги исходила, надорвала себе грудь, пока получила обещание, что Гиню примут в новую гимназию, а этот глупый, сумасшедший мальчишка с утра закатил такую истерику, что хоть от дома и детей отрекайся! — Мать Иванчука отчаянно рыдает. — Просто можно с ума сойти! Он говорит, что добровольно ни за что не пойдет записываться, пусть везут на дрожках связанного. Да ведь отец выгонит его из дому, если он не запишется в гимназию! Я хорошо знаю своего мужа… Пропадет ребенок! Ох!..
— Подожди, почему он не хочет записываться? — волнуется Лидкина мама.
Мать Иванчука хватается за голову, укачивает ее, словно больного ребенка.
— Боже, за что ты караешь меня? Кого я пустила к себе в дом? Какой-то злой дух этот Цыганюк… Какой-то злой дух… попутал моего сына… Да ведь ему нельзя и на глаза отцу показаться, пока не запишется в гимназию… Ой боже, если когда-нибудь кончится это несчастье, я еще сто лет проживу!..
— А что слышно о Цыганюке, тетя? — Лидка как-то не очень близко принимает к сердцу отчаяние маминой родной сестры.
Той только упомяни о Цыганюке!
— Не бойся, цел будет! Держат его в тюрьме… Он… Понятно, ему что? Ему лишь бы чужих детей под нож подвести! Ни в чем не признается… Вот увидите, еще подержат и выпустят совсем, а у моего бедного сыночка вся жизнь пропадет из-за этого черта… Глаза бы мои на него не глядели! Вот Ивонко — другое дело… Уже написал старику о деньгах и поступит, окончит гимназию, и такой мужик станет доктором… а мой сынок будет мыкаться по свету неучем…
— Но подожди, почему же Гиня не хочет записываться? — не понимает Лидкина мама.
— Почему? Потому что бог у него разум отнял. Там при записи надо, милая моя, какую-то бумагу подписать, а он говорит: «Со всем этим у меня нет ничего общего». Раз махнуть пером, а он говорит, горе мое, что он этого не сделает!
Перепуганная Даркина хозяйка подзывает к себе дочь.
— Лидка, деточка, может, и у тебя глупые мысли в голове бродят?
Нет, Лидка никаких поганых мыслей в голове не держит.
— За меня можешь не волноваться. Я не такая дура… Запишусь сразу же, в первый день. Только прошу дать мне деньги на вступительный взнос.
Тогда хозяйка вспоминает, что у нее на руках еще и Дарка.
— Даруся, а вы? Я не хочу отвечать за вас перед родителями…
— Моя буква в субботу, — дипломатично отвечает Дарка.
— Я говорю вам, Даруся, затем, чтобы потом ваши родители не жаловались на меня. Если надо, я могу одолжить вам деньги…
— Хорошо, — соглашается Дарка, принимая предложение, и выходит из комнаты.
С нее хватит слез матери Иванчука. Она уже больше не может все это слушать! Вначале было смешно, когда взрослая женщина жаловалась, что «ноги исходила», а потом… потом что-то стукнуло в сердце: это ведь плачет мать Гини! В Веренчанке есть еще одна мать, которую ждет то же самое! До смеху ли будет, если та мама, в Веренчанке, станет биться головой об стенку?
Довольно! Довольно!
XXIV
В ночь с пятницы на субботу Дарке не спится. Она переворачивается с боку на бок. Ложится навзничь и хочет представить себе, что плывет. Откуда-то издали слышен шум водопада. Этот равномерный, дремотный шум укачивает ее. Но сон не приходит. Дарка перекладывает подушку под ноги. Не помогает. Сон, словно заколдованный злой ведьмой, не может попасть к Дарке в кровать.
Засыпает она далеко за полночь, но вскоре просыпается. Приходится зажечь свет. Ей снилось, что приехала мама. Сон так близок к действительности, что становится жутко. Она гасит лампу и в темноте прячет голову под подушку. «Мама, ты всегда в решающие дни моей жизни являешься ко мне. Всегда, когда мое сердце не может найти покоя, ты во сне или неожиданным письмом даешь знать, что ты рядом. А сейчас: хочешь ли ты предостеречь меня или помочь мне? Я знаю, знаю, мамочка, как больно будет тебе, но я не могу (и ты должна понять это) отказаться от того, что ты и папа учили меня любить. Почему ты молчишь, мама? Мама!»
Вскоре мамина фигура медленно тает, остается только белое облачко.
Утром хозяйка не может добудиться ее.
— Побойтесь бога, Даруся! Уже почти десять часов, а вас никак не добудишься. Мы просто испугались…
Дарка не сразу понимает, что сегодня за день и что от нее хотят. Она замечает, что хозяйка не выходит из комнаты, как обычно, после того, как разбудила ее. Она ждет, пока Дарка оденется, у нее на глазах проглотит совсем уже остывший завтрак, наденет шапочку, спрячет деньги и пойдет записываться в гимназию.
— Даруся, не смотрите на Гиню… Я вам говорю — идите запишитесь и счастливо возвращайтесь домой.
— Хорошо, — на все соглашается Дарка.
Но когда Лидка в ответ на выразительное подмигивание матери предлагает Дарке проводить ее, в ней вспыхивает протест и она решительно и невежливо отказывается:
— Я пойду одна… Я тебя, Лидка, не провожала, и я тоже не хочу провожатого…
— Подумайте, что делаете, Даруся! — еще раз предостерегает хозяйка.
— Хорошо! — тем же тоном отвечает Дарка.
На балконе первого этажа — двое ребят в белом, похожие на полярных медвежат. Ребятишки цепляются лапками в варежках за перила и щурятся на солнце. Дарку охватывает ленивое изнеможение, которое возможно только в такой солнечный весенний день. Ей не хочется никуда идти, ни о чем думать, ни с кем разговаривать. Вот стоять бы здесь, на тротуаре, и щуриться на солнце, как двое белых медвежат на балконе. Но на улице нельзя стоять неподвижно, ничего не делая.
И Дарка решает: «Пойду, куда ноги понесут».
Ноги по привычке несут Дарку к гимназии. На перекрестке стоят два ученика. Уже издали виден рыжий пылающий чуб Гини.
«Это, верно, те, кто не хочет записываться», — догадывается Дарка. Сердце наполняется такой нежностью к ним, что хочется подойти и крикнуть: «Все хорошо! Я тоже с вами». Но именно потому она и обходит их, направляясь прямо к гимназии. Тогда кто-то кричит ей вслед густым басом:
— Счастливого пути!
«Господи, они думают, что я иду поступать…» Дарку бросает в жар.
У самых дверей на нее налетает Наталка Ореховская:
— Ты здесь! А я повсюду ищу тебя. Хорошо, что встретила! Ты записалась?
— Что ты! Что ты, Наталка! — Лицо Дарки меняется от одного лишь подозрения. — За кого ты меня принимаешь?
Ореховская берет ее под руку и отводит от входной двери. Из подвала, невзирая на то что на дворе только весна, доносится запах свежих яблок.
— Дарка, нам надо записаться.
Дарка медленно отодвигается от подруги. От обиды, что ей не доверяют, она дрожит всем телом. Только глаза глядят с вызовом.
— Со мной так не надо, Наталка!
— А я серьезно, Дарка!
— Что ты говоришь? Только вчера со мной разговаривала Стефа Сидор!..
Наталка через забор старается дотянуться до ветки боярышника, который зацвел раньше, чем покрылся листьями.
— Это было вчера, а сегодня ночью решили иначе. Мы все записываемся. Возможно, что сама дирекция не примет кое-кого. Будем учиться и, — Наталка оглянулась через плечо, — незаметно делать свое дело.
— У меня все это не укладывается в голове, — ничего не понимает Дарка. — Ведь вчера мать Иванчука чуть с ума не сошла оттого, что Гиня не хотел записываться в гимназию.
— А он и сегодня не пришел…
Дарка резко оборачивается к Наталке: не ослышалась ли она?
— Не пришел, — с иронией подтвердила Наталка. — Думает, что для народного трибуна, каким мнит себя Гиня, образование — вещь излишняя… Чего ты колеблешься? Пойми: будь Орест среди нас, он бы тоже записался… Пошли, Дарка!
Наталка берет ее за руку, но у входа в гимназию отпускает. Дарка должна одна войти в ворота, пройти между двумя шеренгами мальчишек, от которых неизвестно чего можно ожидать. Кажется, в толпе кто-то насмешливо свистнул. Дарка невольно взглянула на подругу и услышала слова Наталки:
— Иди вперед, не оглядывайся!
И она пошла, не обращая внимания на происходящее вокруг.
Да, она привыкла не только верить всему, что скажет Наталка, но и не расспрашивать. Поняла наконец, что в организации так и должно быть. Кто-то один не только принимает окончательное решение, но и возлагает на себя ответственность за всех.
Но время для раздумий было неподходящее. Дарка шла к директору, и ощущение страха рождало неприятную реакцию.
Впрочем все оказалось гораздо проще, чем она себе представляла. Была уверена, что придется пройти через очередную полосу допросов, а между тем все обошлось. Единственное, о чем спросил ее помощник директора, — это фамилия, класс, год рождения. Правда, ей подсунули какое-то заявление, но Дарка могла не читать его, раз в кружке было решено подписать эту бумажку.
Выйдя из гимназии, Дарка увидела Наталку, которая ждала ее уже с веткой боярышника.
По лицу подруги Ореховская поняла, как той нужна поддержка, и тотчас подала знак, чтобы Дарка шла за нею.
— Ну вот, — заговорила Наталка, когда они остались одни, — с этим покончено. В гимназию примут всех. Можешь написать домой, что все в порядке.
— Наталка, я хочу спросить…
Но та остановила ее суровым выражением своего лица.
— Не надо. Иди! Мы и так уж слишком долго торчим у всех на глазах. — И она тотчас небрежно повернулась и пошла к толпе девочек, собравшейся в сквере перед гимназией.
Дарка зашагала на Русскую.
Ее мучил один вопрос: чем вызвана такая терпимость со стороны властей и сигуранцы? Неужели они устали бороться с «бунтарями» и захотели отдохнуть? Неужели можно поверить, что директор и Мигалаке в самом деле по-отечески простили ученикам их прегрешения?
Нет, не может быть! Это не так! Но факт остается фактом: в обеих гимназиях снова начинаются нормальные занятия.
Дома (то есть у Дутки), даже не переодевшись в домашнее платье, Дарка села писать письмо маме.
Ведь этого письма там ждали, как дождя в засуху! От его содержания зависело, улыбка или облачко пробежит по лицу мамы, от него зависело, станет ли отец шагать бодрым, ритмичным шагом или будет шаркать ногами по полу. Ох, как много зависело там, в Веренчанке, от этого клочка бумаги!
Она писала своим, что произошло именно так, как предсказывала мама: все хорошо. Все приняты в гимназию (тут Дарка слепо поверила Наталке на слово, ведь запись еще не окончилась), и никому не грозит потеря учебного года, — одним словом, лучше и не могла разрешиться эта неприятная история.
Мамина дочка описывала события пышным стилем, часто заканчивая фразы восклицательными знаками, и все потому, что в душе у Дарки не было уверенности, что действительно все так уж хорошо.
Какая радость, что ни у кого не пропадет учебный год, если Орест Цыганюк в тюрьме? К лицу ли порядочным людям радоваться успеху, если этот успех добыт ценою свободы — больше — ценою жизни друга?
Орест в глазах Дарки стал величиной, ни с чем не сравнимой. Легко можно себе представить, какими методами добивалась у него сигуранца, чтобы он выдал сообщников. А Цыганюк — орел, никого не выдал, никого не потянул за собой!
Стоило только Оресту повторить «им» свои беседы с Даркой, и ей не поздоровилось бы. Разве мужественное поведение товарища, который терпит пытки, чтобы не выдать других, не обязывает тех, кто остался на свободе, продолжать борьбу?
О, еще как обязывает! А тем временем как быстро, как позорно быстро все забыли Цыганюка и перешли к будничным делам!
Вполне можно понять Лидку: узнав об аресте Цыганюка, она в тот же день пела и делала маникюр. Но другие? Другие в этом отношении мало чем отличались от Дутки. Касается это, к сожалению, и самой Наталки Ореховской. «А может, — думает Дарка, — я ошибаюсь?»
На последней вечеринке в доме Ореховских Дарка заподозрила, что Наталка питает особые чувства к Оресту. Она восприняла это как приятное открытие, радуясь тому, что и у подруги оказалось нормальное девичье сердце. А теперь такое болезненное разочарование! По Ореховской абсолютно не видно, что она переживает арест Цыганюка. Наталка, как всегда, занята уроками, больше молчит и даже наедине с Даркой не вспоминает о Цыганюке.
Как же быть ей, Дарке? Выходит, эти ее высокоидейные товарищи — просто бездушная толпа, во имя которой не стоит идти на жертвы, как это сделал Орест, как в свое время готова была поступить и она, Дарка. Выходит, только Дарка Попович страдает за Ореста?
Вздор! Она уже не доверяет собственным мыслям!
Но однажды, когда Наталка была в особенно хорошем настроении и даже начала рассказывать анекдоты, Дарка не выдержала, пододвинулась к подруге и зашипела ей на ухо:
— Веселись, веселись… Если тебе так легко…
Наталка равнодушно взглянула на Дарку и продолжала свое. Только когда кончились уроки, Ореховская постаралась выйти из класса вместе с Даркой.
— Ты чего ходишь как в воду опущенная?
Дарка впилась в подругу серыми строгими глазами, которые и не думали покоряться. Прошли те времена, когда она, Дарка, молча, без единого слова, выполняла всё, что ей приказывала Наталка, — ведь она слепо верила ей.
— А с чего мне веселиться? — спросила с вызовом. — У меня не такая короткая память, как у некоторых. Я не забыла, что среди нас был еще кто-то, которого теперь нет. И я, прости, не могу развлекаться анекдотами!..
Все могла ожидать Дарка в ответ, только не улыбки. И совсем не ехидной, а доброй, чуть ли не сестринской. Наталка просияла от слов Дарки. Но скоро свет на ее лице погас, и она сказала обеспокоенно:
— Ты совсем не изменилась, осталась такой же наивной, какой приехала из Веренчанки!
Дарка почувствовала, как на лице у нее от удивления напряглись мускулы.
Ореховская продолжала:
— Неужели тебе никогда не казалось подозрительным, что нас всех без разбора снова приняли в гимназию? Неужели ты так наивна, что поверила, будто дирекция ищет с нами примирения? Неужели, — ее вопросы становились все настойчивее, — именно ты, получившая наглядный урок их «искренности» на примере с твоим отцом, не подумала, что их «милость» — это очередная напасть? Дарка, ни на минуту не забывай, что за нами следят, наблюдают за каждым нашим шагом. Вероятно, и тебе не помешало бы держаться в классе немного веселей.
— Погоди, Наталка. До сих пор, ты сама знаешь, я больше молчала и слушалась, потому что верила вам… тебе верила безгранично. А теперь для моей веры в вас надо…
— Что тебе надо знать?
— Хочу знать, почему я должна быть клоуном, если я и так не делаю ничего антигосударственного. Мы даже перестали собираться!
— Тсс! Даже за выражением твоего лица следят…
— Зачем?
— Затем!
— Но кто? Кто, Наталка?
— А Мигалаке? А Мирчук? Ты уверена, что они не завели доносчиков среди учащихся? Понимаешь?
Это «понимаешь» сразу напомнило Дарке Ореста Цыганюка.
Что он делает, о чем думает в эту минуту?
Наталка часто останавливалась у витрин то галантерейного магазина, то продовольственного, где были выставлены вкусные вещи, и громко делилась с подругой впечатлениями о товарах за стеклом. Если кто и следил за подругами, то принял бы их за легкомысленных барышень, занятых лишь модами да лакомствами.
Когда же поблизости никого не было, Наталка продолжала:
— Если бы даже за нами не следили, если б обстоятельства не заставляли нас казаться веселыми, все равно нам не к лицу жалеть Ореста. Чувство жалости никогда не приносит чести ни тому, кто сочувствует, ни тому, кому сочувствуют. Излишняя доза жалости в подпольной работе может оказаться пагубной. Надо, Дарка, закалять волю. Надо учитывать, что враг, изучив твой характер, может сыграть на мягких струнах твоей души. Тот, кого надо уничтожить, прикинется жалким, несчастным, и ты пожалеешь его. Пощадишь, а он, вырвавшись на волю, отблагодарит тебя, стерев с лица земли с еще большим остервенением, чем сделал бы это раньше. Потому что теперь, кроме ненависти, он будет испытывать к тебе еще и презрение за твою глупость. Нам надо воспитывать себя так, чтобы быть готовыми ко всему. То, что произошло с Орестом, могло произойти с каждым из нас. Возможно, это ожидает и тебя. А случись такая история, как с Орестом, с твоим отцом? Ты, верно, совсем раскисла бы, да? Нельзя так, Дарка, никак нельзя! Возьми себя в руки, закуси губы и не вешай голову!
Чудесной, чудесной силой обладает слово! Ну что необычайного, особенного сказала ей Наталка, а как ободрили, как поддержали физически, как укрепили морально Дарку ее слова!
Еще полчаса назад несчастная и опечаленная арестом Цыганюка, она теперь испытывала лишь гордость за него. Да, гордость за друга, который не приемлет сочувствия! Права, сто раз права Наталка! Не киснуть, не плакать, не скулить, а с гордо поднятой головой, с испепеляющим смехом глядеть в лицо врагу, даже если сердце разрывается в клочья!
Перед самыми летними каникулами от мамы пришло письмо с поздравлением по случаю Даркиного шестнадцатилетия. Девушка была довольна, что мама прислала письмо вместо открытки с голубками или незабудками. Это означало, что её считают взрослой. Да мама и писала об этом.
Писала красивым, ровным почерком о том, что теперь, когда Дарке пошел семнадцатый, она совсем уже взрослая. Ведь человек, доченька, взрослеет не только потому, что становится старше на год, но и от переживаний. А за последнее время наша Дарочка пережила немало. Но хорошо, что все закончилось благополучно. Говорят, все хорошо, что хорошо кончается. Когда Дарка приедет на каникулы, в награду за все пережитые неприятности они устроят вечеринку (они — это мама и Дарка!) и отпразднуют ее как перенесенный день рождения.
Дарка сразу возразила маме. Не хочу праздновать день рождения в этом году. Тот, кто должен быть главным гостем, возможно, совсем не придет. А если даже придет, то мысли его все равно будут далеко от меня и Веренчанки. Ты не сердись, мамочка, не называй меня неблагодарной, но я прошу — не надо никакой вечеринки!
Лидка, в последнее время обнаглевшая до предела, бесцеремонно заглянула в письмо.
— Что нового пишут тебе? — Она уткнулась носом в письмо, пробежала глазами по строчкам и из всего выловила лишь то, что могло ее заинтересовать, — вечеринка.
— Ох, Дарка, как жаль, что я не смогу побывать у тебя. Это, верно, так интересно! Я еще никогда не была на сельской вечеринке.
Дарку больно задела эта глупая болтовня. Что значит «сельская вечеринка»? За кого, в конце концов, Лидка принимает Даркиных родителей? Если уж на то пошло, у ее родителей есть специальное среднее образование, а Лидкина мать хоть и величает себя пани, а едва умеет расписаться.
— Ты думаешь, что мы устраиваем вечеринку в овине? — едко спросила она.
Лидка глупо рассмеялась. Видно, сама поняла, как нетактично поступила.
— Я не имела в виду твоих родителей, но ведь люди в селе страшно дичают. Ты не возражай. Сельская интеллигенция — это еще хуже мужиков. Да, да… Если бы не поездка к морю, я совершенно независимо от того, пригласила бы ты меня или нет, — лукаво рассмеялась она, — приперлась бы на твои именины. А ты когда-нибудь видела море?.. — Лидка прекрасно знает, что Дарка, так же, как и она, никогда не видела моря, но ей выгодно теперь так спросить. — Как жаль, что ты не записалась в «Черчеташ»! Теперь бы поехала с нами к морю… Послушай, а это правда, что ваша Веренчанка малярийная?
Так может говорить только провокатор. Дарка смотрит Лидке прямо в глаза. Она хочет проникнуть сквозь два черно-белых блестящих стеклышка в нутро этой вертихвостки, узнать наконец, кто она — враг или просто дуреха?
Ничего, абсолютно ничего не может прочитать Дарка в этих игривых, с кокетливо загнутыми ресницами (правду не скроешь — красивых) глазах. Дарке остается лишь застраховать себя:
— Я и сама жалею, что не записалась…
Лидка словно ждала этих слов:
— Правда? Жалеешь? А почему ты не записалась, раз теперь жалеешь? Может быть, тебе кто-то запретил?
Ах ты гадина! Вот что тебе надо выведать! Нужны фамилии, чтобы твои хозяева могли по ниточке размотать весь клубок!
— Никто мне не запрещал! Кто, кроме отца, может мне что-либо запретить? А отец — ничего! Говорит: «Как хочешь». Я не записалась потому, что… потому, что не знала, будет ли из этого толк. Правда, мне говорили о поездке к морю, но я не очень верила…
— А я вот сразу поверила и теперь еду. Еду! Еду! — Лидка приподняла край юбки, растянула гармошкой и закружилась по комнате в вальсе. — О, — смеялась она, довольная собой, — у меня отличный носик! Он всегда пронюхает, где можно извлечь пользу! Ты будешь в Веренчанке, а я — на море! На море! На море!
«Глупый тебя поп крестил, — думает Дарка. — Что такое Веренчанка? Малярийная окраина — и все? А мама? А папа? А Славочка?.. А… Нет, нет, не может быть, чтобы сигуранца брала на службу таких дур».
Вдруг Лидка перестает танцевать и ни с того ни с сего бросается Дарке на шею.
— Слушай, хочешь? Говори: хочешь? Я достану у одной девочки форму, и мы сфотографируемся, как две черчеташки. Хочешь?
Нет, Лидка просто набитая соломой дуреха. И больше ничего. Настоящий провокатор не станет работать так грубо.
— Хочу! — почти весело заявляет Дарка, ее начинает забавлять эта игра. — Ей-богу, хочу!
— А у тебя деньги на фотографию есть? Кажется, у тебя есть лишние?
— На эти деньги я должна купить Славочке подарок.
— Много твоя Славочка понимает в подарках! Вот глупая! А была бы чудесная карточка на память. Не хочешь — не надо… Когда-нибудь пожалеешь.
Лидка (слава богу!) обиделась и, пробурчав себе под нос что-то по адресу «сельского Федора», которого хоть медом мажь, «а Федор все Федор», демонстративно вышла из комнаты, хлопнув дверью. «Лучше уж быть Федором, чем провокатором», — только и подумала Дарка. А может, Лидка и не провокатор? Хорошо бы поступить с ней так, как поступают с провинившимися деревенские парни: подстеречь, когда она будет возвращаться домой вечером, набросить на голову мешок и, заткнув рот платком, для острастки немного «покрестить» в Пруте. Если она даже не связана с сигуранцей, все равно ее стоит проучить за одну форму черчеташки.
Но Наталка не согласится. А жаль!
Учебный год, несмотря на различные вынужденные перерывы, тянулся необычайно долго. Никак нельзя было дождаться двадцать восьмого июня. Когда же наступил этот долгожданный день, все ощутили не радость, а лишь некоторое облегчение. Казалось, девушки взбирались на гору, волоча на плечах мешки с песком, и вот наконец им разрешили сбросить эту тяжесть.
Откуда-то стало известно, что в пятом классе женской гимназии нет ни одной двойки, ни одного «хвоста» на каникулы. Даже Мици Коляска переходила в этом году с «чистым» табелем. Должно быть, она одна во всем классе сходила с ума от радости. Казалось, Мици сама не верила своему счастью. Она мысленно распрощалась с гимназией в ту же минуту, как узнала, что переходит в шестой без «хвоста». Теперь Мици целиком принадлежала будущему. Даже классная доска была для нее не доской, а зеркалом. Стоя перед ней, она поправляла платье. Больше всего девушка возилась с воображаемой чернобуркой, которую мама обещала купить ей в награду за «чистый» табель.
Неожиданно Мици приходит в голову новая мысль:
— Послушайте, дети, это будет нехорошо, если я скажу своим старикам, что в этом году ни один идиот в классе не получил переэкзаменовки! Тогда мой табель не произведет должного эффекта! Знаете, что я придумала? Я скажу, что в этом году восемь…
— Мици, да ведь это же больше половины нашего класса! — крикнул кто-то.
— Верно, верно, дети! Восемь — это много!.. Четыре, да, четыре. Скажу, что в этом году в нашем классе целых четыре переэкзаменовки. Вы представляете, как это подействует на моих стариков? Расщедрятся и, кроме чернобурки, пошлют меня еще и на курорт… Вот это идея, детки! А как вам нравится моя чернобурка? Видали вы что-нибудь лучше? — Она встряхивает воображаемую чернобурку, словно купец перед покупателем, дышит на ворс, гладит рукой, нежно прижимает к щеке. — Дети, взгляните, что за мех! Ах, дети, вы представляете, какой фурор ждет меня на курорте с такой лисой? Теперь я хочу сознаться вам в одном грехе. Провинилась я, дети, перед вами. Нет, нет, это не шутка! Я в самом деле страшно виновата перед вами. Иди, Косован, к двери, подержи ручку, чтобы не влез сюда кто-нибудь из бельферов… Дети, бейте меня, казните, как хотите бойкотируйте или милуйте, все равно выложу вам правду…
— Хватит, хватит вступлений! — крикнула Романовская, и класс дружно поддержал ее.
Мици, позабыв, что у нее в руках чернобурка, трагически заломила руки, вся подалась вперед, будто собираясь упасть на колени.
— Дети, у меня фальшивая метрика! Да, да! Мне пошел не шестнадцатый год, как вам кажется, а девятнадцатый! И я для вас не подруга, а мама! Настоящая мама!
— Что же ты теперь будешь делать? — вырвалось у Косован.
Все рассмеялись, кроме самой Мици.
— Дети, тут не над чем смеяться… Ольга правильно спросила. Дети, признаюсь вам, я решила навести порядок в своей жизни. Первое, что я делаю, — это не стану ходить в шестой класс. Не перебивайте меня! Какой экстерн? Что за экстерн? Я вообще не хочу больше ходить в гимназию, так она въелась мне в печенки! За все муки, перенесенные мною здесь, годы учебы мне надо зачесть каждый за два. Итак, не пять лет я ходила в эту проклятую казарму, а десять. Десять лет! Сколько же можно?
— Но что? Что ты задумала? — приставала Лидка. Чувствовалось, что ей самой хотелось воспользоваться примером подруги. Не ходить в гимназию — это была поистине неплохая идея!
— Дети, я задумала, — эй вы, малолетние, заткните Уши! — я задумала выйти замуж!
На такую новость класс ответил диким визгом. Мици даже пришлось вскочить на стол, чтобы унять шум. Ученицы все вместе и каждая порознь требовали ответа на два главных вопроса: какой «он», и кто «он»?
— Спокойно, дети, спокойно! — до хрипоты кричала Мици. — Я еще сама толком не знаю. Это пока только идея… Я думаю женить на себе брата моего шурина. Знаете, того, из-за которого я осенью чуть не опоздала на занятия… Теперь, дети, еще одно… Я говорю с вами искренне, и вам нечего обижаться на меня: не разжигайте свои аппетиты, — на свадьбу я вас все равно не приглашу. Нет, нет, не просите, и не убеждайте меня, из этого ничего не выйдет! Во-первых, вас слишком много, во-вторых, это будет совсем тихая, скромная свадьба. Вы понимаете? Все должно произойти внезапно, чтобы не дать «ему» времени опомниться… Вот в чем секрет! Дети, зато когда я выйду замуж и у меня будут свои деньги, клянусь вам: отсохни у меня руки и ноги, если не сдержу слова, — Мици сделала из пальцев крест и трижды его поцеловала, — только дорвусь до мужниных денег, весь класс, даже тебя, свиное ухо Лидка Дутка, приглашу в кондитерскую на мороженое. По три порции сразу плюс вода и вафли! По три порции мороженого всем-всем!
— Что это вы так расщедрились, Коляска?
Никто не мог объяснить, откуда в классе появился Мирчук. Ведь Ольга Косован стояла у двери! А дело, видно, обстояло так: учитель нажал на дверь, Ольга не посмела противиться ему, отпустила ручку, не успев предупредить Мици. И вот Коляска на столе, а учитель в классе! Бедняжка в тот же миг соскочила со стола, надеясь слиться с толпой девушек, но, к сожалению, все уже стояли у своих парт. И Мици пришлось занять свое место.
Мирчук, побагровевший, с прикушенной нижней губой, медленно приблизился к столу. Его глаза, словно загипнотизированные, были прикованы к Мициным следам на столе. Он, готовый скорее простить ученицам незнание правил латинской грамматики, чем засаленную тетрадь, теперь должен рассматривать отпечатки туфель на столе, который он не называл иначе, нежели «кафедра». Вероятно, то, что сделала Мици, выглядело для Мирчука святотатством.
Косован, успевшая осознать свою тяжкую вину перед Мици, подскочила к столу и батистовым снежно-белым платочком с розовой каемочкой стерла злополучные следы.
Только после этого учитель положил на стол папку с табелями. У него так дрожали пальцы, что даже бумага ритмично шелестела.
— Послушай, — шепнула Лидка Дарке, — а если б он сейчас умер, Мици отвечала бы за его смерть?
Дарка отмахнулась: самое время для дискуссий!
— Скандал! — наконец произнес учитель, ища в кармане блокнот. От сильного волнения он позабыл, что блокнот сегодня уже никому не нужен и никого не страшит. — Я этого так не оставлю… Пусть ученица запомнит!
С задних парт на первую перекочевал огромный букет роскошных бело-розовых пионов. Косован вышла из-за парты и, подойдя к столу, робко положила букет именно на то место, где стояла Мици. Букет полагалось вручать классному руководителю по окончании официальной части, но теперь эти пионы были единственной силой, хоть в какой-то мере способной унять гнев Мирчука. Все знали, что он любит цветы и даже сам выращивает их в своем саду. Учитель и впрямь обратил внимание на цветы. Он даже наклонился, чтобы вдохнуть их аромат.
— И как такое… — он сделал обидную для Мици паузу, — такое… существо думает стать когда-нибудь женой…
Класс не выдержал и сдержанно рассмеялся. Мирчук и сам не подозревал, как точно угодил в цель.
— Я, — он откашлялся, перебирая табели, — первый аттестат выдам Коляске и попрошу ее удалиться из класса! Я желаю, чтобы этот табель был последним, который Мария Коляска получит в нашей гимназии…
— О, господин учитель, — запищала Мици, — именно этого я и хочу! — Казалось, она не выдержит и бросится ему на шею.
Мирчук двумя пальцами, словно дохлую мышь за хвостик, взял табель, передал его ученице и бровями указал на дверь. Мици не спеша прочла табель: а вдруг подвели и подсунули двойку в последнюю минуту? Убедившись, что все в порядке, она любовно сложила табель, сделала реверанс Мирчуку и торжественно поплыла к двери. На пороге задержалась, послала классу воздушный поцелуй и жестами напомнила, что на первые же личные деньги купит всем по три, показала на пальцах — по три! — порции мороженого.
Мирчук вынул из нагрудного кармана фиолетовый клетчатый платок, вытер пот со лба.
Началась торжественная раздача табелей.
Учитель прежде всего вспомнил, кто в этом году покинул гимназию. Ушла из класса такая способная и образцовая ученица, как Орыся Подгорская. Почему Подгорская не окончила пятый класс здесь, у нас? Кто повинен в этом? Он, как руководитель класса, склонен думать, что вина падает на коллектив. Коллектив, сдружившийся с первого класса, не сумел привлечь к себе Подгорскую, не сумел создать благодатную атмосферу, в которой новенькая чувствовала бы себя хорошо. О чем это говорит? Прежде всего — о нездоровых тенденциях в классе. Но к этому вопросу мы еще вернемся в будущем, а теперь приступим к раздаче табелей.
— Лида Дутка!
Лидка выскочила из-за парты, схватила табель и, вскрикнув от неожиданности, уже от стола сигнализировала, что у нее много четверок.
Если у Лидки такой табель, значит, по крайней мере половина класса отличники.
К сожалению, не многим так повезло, как Лидке. Косован получила такой же табель, как месяц назад пророчил ей класс. Липецкая удостоилась получить пятерку по рисованию. Маньковская неожиданно для нее самой получила «очень хорошо» по истории и географии. Теперь стало ясно, почему завышены отметки у Лидки. Они были черчеташками.
Дарку почему-то вызвали перед Ореховской. Очевидно, вынимая табель Коляски, учитель нарушил алфавитный порядок. Нельзя сказать, чтобы Дарка очень волновалась. Она внушала себе: что бы ни говорил Мирчук, его слова не обладают силой, способной вычеркнуть в ее табеле «посредственно» и поставить «плохо».
А это главное.
Еще недавно Дарка рассматривала двойку лишь как источник неприятностей для родителей. Теперь же, когда со службой у отца становилось все труднее, девушка поняла: каждый потерянный учебный год — это не только позор и неприятность, а и ощутительный в их положении материальный ущерб. Теперь, когда в любую минуту отец мог потерять должность, деньги обрели практическое значение. Это уже не просто деньги, а молоко для Славочки, обувь для Дарки, табак для отца, без которого он не может успокоить расходившиеся нервы. Это свет в доме…
Жизнь куда серьезнее нотации, которую учитель собирался прочитать Дарке.
— Ученица Попович получает не такой табель, какой заслужила своим поведением. Только благодаря доброте директора и учителей ученица получает хороший табель. Да, хороший! Преподаватели поставили Попович отметки авансом. Да, авансом! Пусть ученица подумает, к чему обязывает такой аванс. На время каникул, как говорится, у Попович будет небольшое задание. Господин Мигалаке желает, да, желает (если так можно выразиться), чтобы ученица во время каникул усердно читала как можно больше румынских книг. Она до конца жизни должна быть благодарна дирекции за проявленное небывалое великодушие по отношению к ней. Особенно должна благодарить господина Мигалаке, у которого заслужила двойку, да, двойку, но учитель сжалился над ученицей.
— Ты, — Лидка щиплет Дарку за плечо, — они сделали тебя отличницей. Назло Ореховской! Увидишь!
Лидка просто смешна. Куда уж Дарке до отличницы! Может, ей и повысили оценки по нескольким предметам, как Лидке, но ведь та черчеташка и поэтому ее натянутые «хорошо» никого не удивляют. Дарка, же за это должна быть «до гробовой доски» благодарна директору и этому псу Мигалаке.
Ох, как тяжко взваливать на себя груз благодарности! Уж лучше бы Дарке поставили то, что она заслужила. От кого Дарка слышала, что долг благодарности — самый тяжкий из долгов?
— Пожалуйста, Попович!
Дарка, сбитая с толку речью Мирчука, которой она и верила, и не верила, кисло улыбаясь, подошла к столу, взяла табель из рук учителя. Взглянула, пожала плечами, не доверяя собственным глазам, взглянула еще раз, и ее бросило в жар. Все оценки, исключая закон божий, гимнастику и поведение, были посредственными. Даже по украинской литературе, истории, естествознанию!
Над Даркой посмеялись! Да еще как посмеялись! С серьезным видом, прикидываясь, что жалеют ее. Подсунули камень, уверяя, что это кусок хлеба!
Как жестоко, как нечестно!
Мирчук заметил, что ученица Попович никак не может прийти в себя. Он догадался, что ее поразило (еще бы!) и рассердился на Дарку.
— Я вижу, Попович недовольна! Интересно! Да, интересно! А знаете ли, Попович, что такая ученица, как вы, должна сегодня получить в табеле «плохо» по крайней мере по трем предметам? Да! И еще «плохо» по поведению! Знаете вы это или нет?
И вдруг за словами «знаете или нет» возник живой Мигалаке. Это он, стоя за спинами Мирчука и директора, Дергал за ниточки этих деревянных марионеток. Они правы. Если б Мигалаке влепил ей двойку по румынскому, тогда прощай шестой класс! Да, они правы. Собственно говоря, если взглянуть на дело с этой стороны, то Дарку не очень и обидели. Произошел обычный обмен ценностями, ее три или четыре «очень хорошо» обменяли на «посредственно» по румынскому языку и литературе. Формально все правильно!
И все-таки это позор — приносить домой табель только с «императорскими» оценками. Кто обычно выезжает на тройках? Полная бездарность или последний лодырь, а Дарка ни то и ни другое. До сего дня ни у них в семье, ни в роду Поповичей (здесь, надо признаться, было не много грамотных), ни тем более в роду Скобельских, никто не приносил такого табеля. И она еще должна благодарить за это? Дудки!
Девушка, насколько у нее хватило мимических способностей, придала лицу дерзкое выражение, но учитель не обращал больше на нее внимания.
Наступила очередь Ореховской. С Наталкой он заговорил совершенно иным тоном. Сердечно. Так сердечно, что те, кто не знал Мирчука, могли попасться на эту удочку. Учитель сожалел, что такая образцовая ученица, можно сказать, гордость всей женской гимназии — и так съехала в этом году. За все годы у Ореховской даже в четвертях не было ни одной четверки, а теперь, с глубоким сочувствием констатирует учитель, она получает годовую тройку в табеле, да еще по такому важному предмету, как румынский язык. А раз снижена отметка по языку, то совершенно логично, что снижен балл и по истории, и по географии, то есть по предметам, которые читаются на румынском языке. И вот вам картина: круглая отличница получает табель с одной тройкой и двумя четверками. Куда ж это годится?
— Скверно, Ореховская! Не просто скверно, а очень скверно! Вам надо серьезно подумать о своем положении. Дирекция предоставляет Ореховской возможность и впредь продолжать образование и тем самым исправить свои фальшивые политические взгляды. Вы должны понять, что дирекции известно, какое влияние вы оказываете на некоторых малоустойчивых подруг. Поэтому вы несете моральную ответственность не только за себя. От отличницы дирекция вправе ожидать, чтобы она стала образцом для своих одноклассниц. А что получается?.. Вы так же, как Попович, как Романовская, Сидор и некоторые другие, должны посвятить каникулы занятиям румынским языком. Да, занятиям румынским языком. Ну, так как, ученица Ореховская, война или мир?
— Мир! Мир! — закричало несколько голосов.
Сама Наталка стояла выпрямившись, Точно вырезанная из дерева, ни кровинки в лице. Казалось, она не дышала. Когда Мирчук закончил речь, Наталка ровным шагом подошла к нему, взяла табель и молча — даже ресницы не дрогнули — направилась к своей парте.
Раздача табелей подходила к концу. Ничего интересного больше не произошло. Дарка так скверно чувствовала себя, что больше всего ей хотелось прямо из гимназии пойти на вокзал и ждать там поезда, но со «станции» надо было взять чемодан, зимнее пальто, узелок с подушкой.
— А зачем вам, Даруся, зимнее пальто? Все равно в сентябре придется везти его обратно, а у меня есть отличный сундук, я спрячу пальто от моли, оно полежит до осени… И все!
«Возвращаться в это разбойничье гнездо? Ни за какие сокровища в мире!»
— Я должна взять пальто, оно стало мне коротко. Мама удлинит его немного…
— Тогда другое дело… Но оставьте хоть подушку. Разве дома не найдется для вас подушки?
Конечно, подушка найдется, но Дарка не хочет оставлять никакого залога, ведь она ни за какие деньги не согласится жить здесь после каникул. Понятно, Дутка хочет обеспечить себе квартирантку на следующий учебный год, но Дарки это не касается. Пусть считают ее невоспитанной, думают о ней что угодно, но подушки она не оставит.
Как и во время зимних каникул, за Даркой заехал Стефко Подгорский. Он галантно вынес Даркин чемодан (узлы девушка выносила сама, считая, что мужчине это не к лицу), усадил ее по правую сторону пролетки; извозчик причмокнул, и они поехали к вокзалу.
Дарка решила ни о чем не расспрашивать Стефка, но всю дорогу только и думала: едет ли с ними Данко или нет?
Когда подъезжали к вокзалу, сердце забилось учащенно, неровно. Стефко о чем-то спросил, но у Нее от волнения заплетался язык, и она ответила невпопад.
Зал ожидания напоминал улей, в нем было полно учеников и учениц с чемоданами и узелками. Но будь Данко в толпе, Дарка сразу заметила бы его. И не потому, что он выше всех ростом. Ох, совсем не потому!
В вагоне Стефко вдруг стал разговорчив. Он уселся рядышком с Даркой — так было удобнее шептаться. Стефко рассказывал: Орыся задержалась, — шурину пришлось принимать дополнительные экзамены. Через недельку они приедут втроем. Данко, хитрец, тоже задержался. У него в Черновицах концерт в пользу бедных детей.
«Где концерт, там и Лучика», — скребет Дарку по сердцу. Но что она может поделать? Запретить Данку участвовать в концерте? И вообще — что она теперь «может»?
Пражский и Костик приехали еще на прошлой неделе и уже носятся по веренчанским полям и лугам.
— Как ты думаешь, это лето будет таким же веселым, как прошлое?
Дарка отлично понимает, о чем хочет спросить Стефко: он сомневается в Лялиной благосклонности и ждет, чтобы Дарка возразила, развеяла его сомнения… А кто развеет ее сомнения? Это Стефка не волнует. Он лишь глядит на нее голубыми беспомощными глазами и ждет ответа, несущего ему хоть капельку надежды.
«Как же он не похож на мужчину, — с досадой думает Дарка, — красив, корректен, а я б не могла полюбить такого. Он покорен, как улитка, и это отталкивает. Молодчина Ляля, что не отвечает ему на письма! Так и надо этой улитке бесхребетной!»
Не дождавшись ответа, Стефко начинает молоть вздор о Ляле. Смешно! Он рассказывает не о том, что было, а вслух мечтает о будущем, поэтому каждая его мысль, каждое высказывание сопровождается словечком «возможно». Возможно, Ляля запишется в консерваторию в Черновицах и не уедет больше в Вену. Возможно, она не захочет учиться, а станет давать частные уроки музыки. Во всяком случае, она должна остаться на Буковине.
Дарка слушала-слушала его болтовню, потом отвернулась и стала разглядывать проплывающие за окном пейзажи.
Вот эгоист противный! Ему даже не приходит в голову, что у Дарки могут быть свои дела, которые ей надо по крайней мере спокойно обдумать. Для себя в эти каникулы она не ждет ничего «веселого».
Но девушка упрекает себя: хорошо хоть так, могло быть куда хуже! Сигуранца могла выгнать отца с работы, Мигалаке мог не перевести ее в шестой класс… и вообще — она могла сидеть в тюрьме, если бы Орест не обладал таким сильным характером? Но все несчастья миновали ее, и это достаточная причина для радости. Неужели радоваться надо только, когда успех золотым ливнем обрушивается на голову? Может быть, гораздо больше надо радоваться тому, что несчастье миновало нас?
Пусть Данко ради Лучики задержался в Черновицах. Пусть! Пусть на протяжении всех каникул Дарку не ждет даже самое маленькое счастье. Пусть! А все-таки есть у нее нечто, чего никто не в силах отнять, — шестьдесят дней, свободных от занятий и страха перед Мигалаке! Шестьдесят дней в кругу родных! Шестьдесят раз, просыпаясь по утрам, она вместо чужого балкона увидит в окне зелень сада. Разве этого мало, чтобы на сердце стало легко без особых даже на то причин?
Впрочем, для того, кто пережил столько, сколько Дарка за последнее время, и самый покой уже счастье. Она въезжает в Веренчанку умиротворенная до краев.
XXV
У ворот родного дома Дарку встретила бабушка со Славочкой на руках, или, точнее говоря, Славочка у бабушки на руках. Крошечная девчушка разодета к приезду старшей сестры, словно куколка. На ней розовое, из прозрачного фуляра, платьице со множеством оборочек и бантиков. Казалось, малютку окутывает облачко.
Сквозь мелкие листья акации, под которой стояла бабушка со Славочкой, просвечивало солнце, осыпая девочку золотыми горошинами. Дарка сразу заметила, что личико у сестренки стало осмысленным. Носик, глаза, разрез губ — все обрело четкие формы, теперь о Славочке можно с уверенностью сказать, что она вылитый «папочкин портрет». Дарка не без боли отметила, что это портретное сходство одновременно и горькое обвинение судьбе: вот каким был наш отец и что сделала с ним жестокая жизнь!
Дарка протянула девочке руки. Маленькая заглянула в глаза бабушке, словно спрашивая, можно ли, затем, кокетливо склонив головку, потянулась к сестре.
Дарка, поддерживая головку, прижала к груди нежное тельце, и в ней проснулось странное ощущение, как будто Славочка не только сестра. Одно мгновение малютка казалась ей дочкой. Это было как в детстве, когда Дарка играла в куклы.
Дома ничего не изменилось, хотя все казалось Дарке обновленным. После серых, почти побелевших от зноя городских стен трава и листья в саду были особенно зелены, цветы на клумбах особенно ярки, особенно душисты.
В первый день жажда простора была так непреодолима, что Дарка, невзирая на предупреждение бабушки о сквозняках, распахнула настежь все окна и двери — воздуха, свежего воздуха!
Даже пес Цыган, не сообразуясь с физиологическими законами короткой собачьей жизни, вместо того чтобы значительно постареть, казался Дарке точно таким, как год назад. Она была благодарна псу за то, что он сразу узнал хозяйку. Верный друг!
Нет, здесь все оставалось без изменений — и люди, и вещи.
Только у мамы от носа к губам протянулась тонюсенькая, как белая ниточка, черточка, которой не было на рождество. Когда мама смеялась, черточка углублялась и становилось заметно, что это не белая ниточка, а морщинка. Верно, ни папа, ни бабушка, видевшие маму каждый день, не замечали этого, но глаза дочери тотчас уловили первый признак подкрадывавшейся старости.
Мама была так же красива — розово-белая кожа, ровные зубы, светлые тяжелые косы, — но, сама не ведая того, она уже перешагнула рубеж, за которым кончается расцвет и начинается увядание. Наступит день, когда мама, взглянув в зеркало, не поверит ему.
Сутки прожила Дарка у своих, а о табеле никто и словечком не обмолвился. Прошел второй день, а дома, казалось, забыли, что на всем земном Шаре все ученики по окончании учебного года получают табель с отметками. На третий день Дарку начала угнетать эта чрезмерная деликатность. Неужели они не понимают, что чем больше тянуть, тем хуже для Дарки, для них самих?
Пришлось заговорить ей первой. Когда все собрались в столовой, она вытащила из книги злополучное свидетельство, расстелила его на столе так, чтоб всем было видно, и сказала довольно заносчиво:
— Вот какой табель я получила, — и чуть не добавила: «Полюбуйтесь!»
Вот это был номерочек! В первую минуту все трое словно испугались чего-то, даже не прочитав как следует документ, в один голос стали утешать Дарку: мол, бывает и так, и не стоит принимать эту историю близко к сердцу. Все знают, как несправедливо поступили с Даркой и почему.
Отец крепко прижал дочь к своей пропахшей табаком груди.
Кто-кто, а он хорошо знал, что его Дарка заслуживает лучших отметок. Знал папа и то, что большинство троек учителя поставили под нажимом Мигалаке.
— Да, — наконец произнес он, — ты должна еще понять и то, что этот документ — удар не только по тебе. Они хотят сделать тебя устрашающим примером для других… Ну что ж, такие наступили времена, доченька…
Дарка глядела на отца растроганными, потемневшими глазами.
«Папка, родной! Как он меня понимает! Как он меня понимает! И как случилось, что кое в чем он мне ближе мамы? Возможно, потому, что мы с ним «двое мужчин», призванные охранять покой наших трех женщин. Папа — он глава семьи, а я… Я должна действовать с ним заодно, ибо более выдержанна, чем мама, Славочка и бабушка вместе взятые. Иногда мне кажется, что кое в чем я даже сильнее папы. Он, верно, рад, что я по-мужски переношу удары, сыплющиеся на мою голову, словно шишки в бору. Мой дорогой, дорогой папочка! Знает ли он, что ради его душевного покоя я могу перенести значительно больше?»
Бабушка тяжело вздохнула. Она старенькая, и потому дипломат из нее никудышный. Стараясь разрядить атмосферу, она по старческой наивности выпалила прямо с места в карьер:
— Мы, Дарочка… посмотрели твой табель еще в первый вечер, как только ты приехала. Так что не о чем тут и говорить. Им бы собачьи шкуры обдирать, а не детей учить!..
Мама с упреком взглянула на бабушку, а та, не зная, как загладить свой промах, схватила Славочку под мышки и заставила плясать на столе:
— Гоп-гоп-гоп!
Папа, словно не расслышав бабушкиных слов, с серьезным видом взял Даркин табель и спрятал его в шкатулку, где хранился семейный архив. И тотчас вышел из дому. Захотел, бедненький, подышать свежим воздухом. Вышла и Дарка.
Она нашла отца в саду. Он мерил шагами расстояние между деревьями.
— Что, папа, задумал?
— Задумал, деточка, выкорчевать старые деревья, а на их место посадить саженцы по новому методу.
Дарка не могла представить, как будет выглядеть дом без этого пышного зеленого обрамления. К тому же молодые деревца первое время кажутся такими жалким несамостоятельными.
— Не надо их выкорчевывать, папа. Пусть сохнут и умирают сами, как люди.
— В том-то и дело, что деревья, как и люди, редко умирают от старости. По большей части век им укорачивают, как и людям, различные болезни. Надо будет с почестями отправить их на тот свет… Мы их срубим и сожжем в печах, как в крематориях. От старости они стали ленивы, капризны, не хотят плодоносить, а ухода требуют большого.
— И все-таки жестоко так поступать с деревьями только потому, что они стары!
— Ничего, доченька, на их место придут молодые. Что ты хочешь? Таков закон природы, одно сменяет другое.
«Одно сменяет другое…»
— Папа, а что с домнулом Локуицей? Где он теперь?
— Уехал от нас к своей сестре, куда-то в Штефанешти. А недавно я получил от него письмо, разумеется, подписанное другой фамилией, из Ясс. Верно, все же решил жить в большом городе. Честная, открытая душа… вот и сожрали его враги.
— А кто теперь на его месте?
Вопрос не случаен. От особы, занявшей место домнула Локуицы, во многом зависела судьба семьи Попович. И прежде всего — хлеб, служба отца.
— Да… произошло то, чего мы больше всего боялись. Прислали на нашу голову румына-гвардейца. Как же иначе? Локуица не соответствовал, значит, надо было заменить его тем, кто станет угождать… И новый угождает, да еще как! Одно спасение — пьет до бесчувствия! Перед самыми каникулами насосался браги, приплелся ко мне пьяный в стельку. Пришел и давай хвастать, что написал на меня вот такущий донос в сигуранцу… Расселся в комнате, точно свинья в кресле, плевал куда попало. А знаешь, как бабушка «любит», когда сорят на пол… Тут же «от души» признался, что собирать материал для доноса ему помогал кое-кто из местных жителей…
— Кто? — спросила Дарка, переводя дыхание.
Отец внимательно поглядел на нее.
— Меньше будешь знать — тебе легче будет… Между прочим, Манилу проговорился, что получил от своих хозяев задание втянуть в работу и учеников старших классов. Так разошелся к концу… Бабушка по наивности угостила его смородинной наливкой, и Манилу стал плясать чардаш, потом со слезами на глазах просил помочь подобрать «факты» из моей биографии… Слышала ты когда-нибудь о такой комедии? «Если, говорит, я не справлюсь с «работой», меня выгонят со службы, а диплома у меня нет, куда я тогда денусь?» Но самое смешное было на следующий день. Он пришел уже трезвый и стал валять дурака: дескать, накануне он нарочно разыграл пьяного, чтобы проверить мою дружбу… С чертями бы болотными тебе дружить, а не со мной! Вот кто занял место нашего Локуицы. Не было бы счастья, так несчастье помогло — теперь я хоть знаю, с кем имею дело. В таких случаях, скажу тебе, открытый враг — это уже полврага. Его хоть можно утихомирить, чтобы не пакостил. Главное — пережить, может, и дождемся лучших времен…
«И больше ничего? И это все?» — разочарованно думает Дарка, но взгляд ее останавливается на загоревших впалых щеках отца, на его преждевременно согнутой спине, и внутренний голос смолкает.
У отца уже нет сил для открытой: борьбы, а может быть, и никогда не было такого рода силы. Может быть, он из тех натур, которые в нормальных условиях еще могут достичь вершин, но для войны не пригодны.
Одно стало очевидно Дарке — отец не из породы Локуиц. Он не из тех, в ком неудачи и помехи рождают еще большее рвение. Локуица мог ударить кулаком по столу и крикнуть: «Надо действовать!» И верилось, он и впрямь начнет действовать.
Обшарив все уголки в саду и огороде, вдоволь наглядевшись на восходы и на закаты, вдосталь побродив на рассвете по холодной, сизоватой росе, Дарка утолила первоначальную тоску по селу. Это было так, будто она, изнемогающая, добралась до источника и зачерпнула первую пригоршню воды. Теперь ее больше интересовал дом. Заглянула и обревизовала, как говорила бабушка, все уголки и каморки, все шкафы, все ящики, добралась даже до бабушкиного сундука на чердаке, где старуха хранила сувениры своей молодости (веера из слоновой кости, пелеринки из страусовых перьев, смешные чепчики с двухметровыми бантами, какие-то письма), но и это занятие в конце концов приелось.
Тогда Дарка занялась «высшим образованием» Славочки. Уносила малютку в сад, расстилала рядно, опускалась на него и усаживала перед собой девочку. Начиналась «наука». Дарка прикасалась Славочкиной ручкой к ее носику, повторяя при этом: «Носик, это носик», потом отводила руку к глазу, приговаривая вслед каждому такому движению: «А это глазик». После десятого раза спрашивала: «Где у Славочки глазик? Ну, где глазик? Покажи пальчиком глазик!» И когда девочка показывала на носик, Дарка с терпеливостью профессионального педагога ласково, но упорно поправляла ее: «Это носик, а глазик тут. Там носик, а это глазик. Глазик. Где у Славочки глазик?»
И так без конца. На третий день, к превеликой радости всех домашних, Слава отлично умела отличать нос от глаза.
Но и эта педагогическая работа вскоре тоже приелась Дарке. Она понимала: ей скучно без настоящего дела. Ее оторвали от нормального ежедневного дела, каким были для нее занятия в гимназии.
Первая радость, вызванная ощущением простора, свободы, сознанием, что ей не грозит больше двойка, постепенно переходила в тоску.
Кроме того, Дарку не покидал подсознательный, тщательно скрываемый от себя самой страх, с которым она просыпалась по утрам: время летит, а она не занимается.
Конечно, Дарка могла достать румынские книжки и читать их для практики. Она никогда не относилась враждебно к румынскому языку: ведь это был язык домнула Локуицы; из чужих языков она больше всего любила и уважала именно его. Но мысль о том, что она, Дарка, должна читать эти книги по указке Мигалаке, убивала всякие добрые намерения.
Не хватало ей компании. Где-то задержались Данко и Ляля. Орыся с Улянычами не приехала. Из прошлогодней «братии» в Веренчанке были только Костик и Пражский. Рассказывали, что Костик и Пражский полуголые шатаются у пруда с удочками, но Дарка, слава богу, ни разу не встречалась с ними. Она сознательно избегала этой встречи. Прошлым летом они относились к ней как к ребенку, немного смешно играющему роль взрослого. Теперь, очевидно, все в их взаимоотношениях должно измениться. За год девушка так вытянулась, так «возмужала», что даже чужие люди в лавке или трамвае говорили ей «вы».
Поэтому Дарке хотелось, чтобы «новое» знакомство с Костиком и Пражским произошло незаметно, в большой компании. Пусть на здоровье ловят рыбу, а она подождет Лялю, Орыську и Данка.
Единственной Даркиной подругой была теперь Санда. Но она вышла замуж и, по буковинскому обычаю, не могла больше плясать на «данце» 4 |, а только на свадьбах, да и то специальные танцы для замужних. В церкви Санда стояла в углу, отведенном для замужних, и, даже возвращаясь домой, держалось поближе к старшим женщинам.
Саида, как и все замужние, носила на голове похожий на чепчик красный рогатый «фез». По двору она ходила в одном фезе, но, выходя за ворота, обязательно набрасывала на него платок.
41 На гулянках (жарг.).
Дарку, по правде сказать, больше всего интересовал муж подруги. Мама говорила, что Санда вначале не хотела выходить за него, но когда стало известно, что у жениха полон погреб картошки, согласилась. Картофель сохранился у него в эту голодную зиму отнюдь не потому, что он был умнее других, а наоборот. В то время, как все люди старались заработать на сахарной свекле, муж Санды, лентяй и увалень, вместо того чтобы ухватиться за эту новинку, засадил, как обычно, поле картошкой. И оказалось, что он поступил умнее всех.
У мужа Санды были давно не стриженные волосы цвета соломы. Ясными, широко открытыми глазами и небольшим, таким контрастирующим со всей фигурой личиком он походил на дурачка из сказки. Разница заключалась лишь в том, что в сказках дурачки обычно женятся на принцессах, а сами со временем становятся мудрыми королями, этому же судилось всю жизнь просидеть в дураках. Другое дело, что Санда и в самом деле выглядела рядом с ним принцессой из сказки.
— Как ты могла выйти замуж за него? — спросила Дарка, хоть и отлично понимала, что порочить мужа в глазах жены по меньшей мере бестактно. — Ведь это на всю жизнь! Всю жизнь у тебя перед глазами будет торчать эта соломенная стреха…
Санда покраснела и пожала плечами:
— Подумаешь!
Она степенно, точно давно уже хозяйничает, приглашает Дарку, словно важную гостью, в светлицу.
Светлица — это даже не комната, а склад парадной одежды, обуви, зерна, пряжи и прочего. Прежде всего здесь никто никогда не живет. Комнатой этой пользуются лишь при таких выдающихся событиях, как свадьба, крестины или похороны. На чисто застеленной кровати уголками кверху лежит гора вышитых цветными нитками подушек, на которых никто никогда не спит. Они неприкосновенны, — спят в соседней комнатушке, на подушках, набитых овсяной соломой. В головах кровати, во всю ширину ее, стоит окованный железом сундук, расписанный красными петухами с неестественно голубыми глазами. Печь, разрисованная птицами и цветами, так чиста, что кажется бутафорской. На печи, обычно служащей постелью, стоят мешочки с зерном, узелки с мукой. В доме, несмотря на жаркую погоду, холодно и сыро, как в погребе. Сквозь маленькие оконца, украшенные вырезанными из цветной бумаги кружевами, солнце не проникает.
Дарку смущает поведение Санды: откуда и зачем такие церемонии между двумя давними подружками-соседками?
Дарка. хочет любым способом разрушить искусственную преграду, вставшую между ними. Ей кажется, что стоит заговорить с Сандой душевно-душевно и та не выдержит и снова станет прежней ее подружкой.
— Санда, — Дарка как будто не произносит слова, а поет, — почему ты со мной какая-то такая… словно ты меня забыла, отвыкла за то время, что я не была дома? Мне так жаль тебя, Санда!
Дарке жаль подругу, она улавливает какое-то отдаленное сходство между Сандиной и своей незавидной судьбой.
Но та неумолима. Она производит впечатление человека, лишившегося памяти после тяжелой болезни. Даркины добрые слова пролетают мимо, не задев сердца молодой женщины.
— Не говори мне «ты», ведь я замужняя… Это неприлично. Я тоже буду «выкать», ты теперь, поди, уже барышня… Люди услышат, что мы говорим друг другу «ты», станут смеяться…
— Опомнись, Санда! Что с тобой? Да как же я буду называть тебя на «вы»! Ты что, забыла?.. Ведь мы росли вместе. Да нас не только люди, а куры засмеют, если мы ни с того, ни с сего начнем «выкать». Какая ты стала странная… я тебя не узнаю.
— Не пристало, барышня! Что не пристало, то не пристало! Когда я в девушках ходила, так могло быть, а замужней женщине «тыкать» не пристало, хоть вы и барышня.
Я вон даже к родной сестре пойду ребенка крестить, чтобы перейти на «вы». С кумой уже никто не заговорит на «ты».
— Почему тебе так хочется, чтобы все величали тебя на «вы»? Разве ты от этого станешь другая?
— Как это почему? — повысила голос Санда, и лицо ее заострилось. — Вы еще спрашиваете? А гордость? У замужней женщины должна быть гордость. Погодите, выйдете замуж, сами узнаете.
— Я никогда не выйду замуж.
— Это почему же? Найдется такой, кто и вас посватает. Подождите немного. Хотите, барышня, я покажу вам свое приданое? Поглядите, что дала мне мама.
Дарка так поражена необычайным поведением Санды, что ее не интересует даже приданое. Но если Санде так хочется похвастаться перед «барышней», пусть…
Из открытого сундука в нос ударяет запах слежавшегося полотна, непроветренных кожухов и не то ладана, не то воска.
Санда с благоговением вынимает и показывает Дарке пожелтевшие от времени, расшитые густым черно-красным узором сорочки, желтые сапожки с яркими кисточками, пестрые домотканые «горботки»[41], шитые парчовой нитью, цветные пояса — «крайки» — длиной в несколько метров, праздничный убор на голову, желтовато-белое льняное полотно.
Дарка рассматривала это все без особого любопытства, хвалила из вежливости. Она была не в силах избавиться от гнетущего впечатления, вызванного встречей, потом Дарку словно осенило:
— Послушай, Санда, ну что ты мне голову морочишь! Ведь это же не твое приданое, а твоей мамы. Ты думаешь, я так глупа, что не вижу, какое здесь все старое, пропахшее плесенью? Зачем ты так делаешь, Санда? Ведь это не твое, а твоей мамы, правда?
Санда и не думала возражать.
— Конечно! Было мамино, а теперь мое. Больше девок у нас нет.
— А нового мама тебе ничего не справила?
— А откуда взять новое, барышня? Сказать не штука. Слава богу, что хоть такое есть. Мама получила это приданое еще от своей матери…
— А доносишь его ты… Хотелось бы мне посмотреть, как ты разоденешься и пойдешь в воскресенье в церковь.
— Бог с вами, барышня! Кто ж его станет носить? Пусть лежит. А вдруг господь пошлет мне девочек, откуда же я им приданое возьму?
— Значит, и твоя дочка не будет носить эти наряды и станет прятать их для своих дочек, да?.. — печально заметила Дарка.
— Что же поделаешь, барышня! Что поделаешь, если с деньгами становится все туже.
Да, на этот вопрос трудно ответить. Неужели и впрямь нет иного выхода и приходится мириться с обстоятельствами, каковы бы они ни были?
Неужто у этой молодой, с сильными руками женщины нет ни малейшей надежды, что жизнь ее может стать светлее, чем была у ее матери и бабки? Неужто она не ждет от своей молодости ничего большего, чем вдоволь картошки и хлеба?
И на минуту Дарке стало не только совестно за Санду, но и жаль ее. Жаль человека, в семнадцать лет думающего о вещах, которые понадобятся ему в старости.
Прав, ох как прав был домнул Локуица, когда говорил, что современный социальный строй не только разоряет людей материально, но и разлагает их морально, убивает веру в свои силы, отнимает надежду на лучшее будущее.
— Да ведь эти горботки и кожушки расползутся от долгого лежания, а ты бережешь их для своих внучек!
Санда осторожно, словно и впрямь ее сокровища могли расползтись в руках, укладывала добро в сундук.
— Ну и пусть расползаются, — сказала она равнодушно, — это ведь не для носки… Это так, лишь бы в сундуке лежало. Случается, что у женщин нет дочек, а только сыновья… Бывают и совсем бездетные. Такие не хранят ничего, а все изнашивают при жизни, и хоронят их в тех же нарядах…
— Скажи, с тех пор, как ты вышла замуж, тебе живется легче?
— Ну да, — печально проговорила Санда, — легче! Хорошо, хоть маму не надо слушать…
— Это почему же ты теперь можешь не слушаться маму?
— Моя мама уже не властна надо мной, раз я замужем. Другое дело, попади я к свекрови: тогда ее власть, а для моих я — уже отрезанный ломоть.
— А я не знала. Мне казалось, родная мать всегда…
— Не всегда, барышня. Родная мать — от колыбели до венца, а свекровь и муж — до конца.
— А он хоть любит тебя?
— А на что мне его любовь? Слава богу, не очень. А то бы не выдержала, если бы он то и дело лез целоваться слюнявым рылом. Любовь, барышня, приносит счастье, только когда и мы любим. Запомните это хорошенько.
Дарка взглянула на подругу, глаза их встретились, и на миг показалось, что Санда не случайно советует запомнить эту истину. Но нет, Санда не могла знать, что у Дарки испортились отношения с Данком. И все же стоит запомнить эти слова: «Любовь приносит счастье, только когда и мы любим!»
Прощаясь, Дарка поцеловала удивленную Санду в щеку. Это был порыв благодарности, а за что — Санда и не подозревала.
Картошка, отравившая Дарке зимние каникулы, все еще, как призрак, нависала над Веренчанкой.
Настало лето. Налилась вишня. На вырубке за селом было красно от земляники. На выпасе появились шампиньоны. Сама природа, без помощи людей, спешила на помощь голодающему селу. Но люди хотели только картошки. Не могли дождаться Ивана Купалы, то есть седьмого июля, когда по старым неписаным законам можно без «греха» копаться в земле, выбирая молодую картошку, да и то лишь ранний сорт — «американку», а ее, кстати сказать, кроме отца Подгорского и войта, мало кто и посадил в этом году. Но что было людям до того! Большинство грешило уже давно, выкапывая из земли картофелины величиной с кукушкино яйцо.
Папа болезненно переживал: что же будет дальше? Подроют корешки у молодых, не набравших сил кустов, и урожай будет катастрофически мал. А ведь надо вернуть долг, прокормить себя и скот в течение года, оставить и на посадку.
Учитель всячески уговаривал людей, но его слова мало значили для голодающих. Их не интересовало будущее: будь что будет! Они понимали, что поступают плохо, но не находили в себе силы отказаться от этого.
Отец Подгорский прочитал проповедь о картошке. Ссылаясь на одному ему известные цитаты из священного писания, он стал доказывать, что есть недозрелую картошку не только вредно для здоровья, но и большой грех. Существует же притча о том, как человек перехитрил черта именно на картошке. А знают ли дорогие прихожане, что лебеда, например, вдвое-трое полезнее для организма, чем картофель, который не содержит в себе ничего, кроме крахмала и воды? Почему бы нам не попробовать это время перебиться лебедой, конечно, соответственно приправленной и заправленной?
Когда отец Подгорский произнес эти слова, в церкви произошло нечто небывалое. Чей-то звонкий, молодой голос крикнул на весь храм:
— Мы уже пробовали лебеду, теперь ваш черед, отче!
Отец Орыськи побледнел так, что даже губы пожелтели, но проповедь не прервал, а только переменил тему.
Все воскресенье и весь понедельник в селе только и было разговоров что о проповеди.
Папа вроде бы и сочувствовал священнику, но — Дарка это отлично заметила! — втайне был рад.
Однажды после полудня Дарка, подвязывая в саду георгины, заметила, что через огород напрямик, мимо подсолнухов, приближается женская фигура в белом. Сперва Дарка приняла ее за дочку арендатора, которая тоже училась в Черновицах и заходила иногда к Поповичам одолжить книжку. Дарка бросила работу и побежала навстречу гостье. Но это была не Эти, а сестра Данка Ляля.
Она ни крошечки не изменилась с прошлого года, лишь новая прическа с локонами на ушах и модное венское платье делали ее неузнаваемой.
Прежде всего Дарка подумала, что Лялю послал Данко. Эта мысль показалась ей такой правдоподобной, что у девушки перехватило дыхание.
Не в силах вымолвить слова, Дарка сделала вид, что любуется Лялиным туалетом. И было чем залюбоваться: поверх розового шелкового чехла наброшено элегантное платье-пенка, на ногах белые чулки, белые полотняные туфли с бантиками, на руках белые перчатки, а в дополнение ко всему сумочка из белого бисера и широкополая, тоже белая, соломенная шляпа с розовым бантом и веточкой блестящих, словно живых, черешен.
Никто, никто в Веренчанке не одевался так нарядно. Никто из местной интеллигенции не носил шляп, и Ляля казалась Дарке не живым человеком, а призраком, сошедшим с журнала мод.
Легко можно представить, что испытывала Дарка, стоя перед этой великосветской дамой, — босая, в грязном ситцевом платьице, которое она надевала специально для работ в саду.
— Даруся, как поживаем? — Ляля схватила Дарку за руки и прижала ее к своей надушенной груди. — Как вы выросли за этот год!
Дарку обдало запахом душистого горошка. Сходство Ляли с Данком было так велико, что девушке стало даже больно. Теперь она уже не думала, что Ляля явилась как посол от Данка.
Боже мой, те же удлиненные, зеленые, бархатистые, словно нежный молодой мох, глаза, тот же длинный породистый нос, те же четко очерченные, тонкие губы!
Дарка стояла растерянная, до слез взволнованная сходством между братом и сестрой, не зная, что говорить, что делать.
Но на этот раз бабушка оказалась настоящим дипломатом. Заняла Лялю Славочкой («А ну, покажи: где носик, где глазик?»), а Дарке подмигнула, чтобы та привела себя в порядок.
Мыться было некогда, Дарка надела туфли на пыльные ноги, быстро сменила платье, несколько раз провела щеткой по волосам и, на ходу очищая ногти от глины, выбежала в сад.
Ляля была слишком хорошо воспитана, она не заметила Даркиных пыльных ног, ни грязных рук.
По-украински сестра Данка говорила неважно, к тому же с иностранным акцентом, но не это поражало в ней. Наоборот, это скорее придавало ей своеобразное очарование. Ляля, как и прежде, разговаривала, жестикулируя и смеясь одновременно. Она, как и в прошлом году, спрашивала и сама отвечала на вопросы.
— Я не могу, а вы можете? Не могу жить, как… ну, как это называется?.. Такая малюсенькая комнатка, где живут монахи?
— Келья…
— Вот… вот… я не могу жить, как в келье… без людей… без движения… без шума… В Вене мы каждую субботу ходим в концерт. Бесплатно, как студенты музыкальной школы. А здесь я уже две субботы без концертов… Так дальше, право, нельзя. Мы сами должны устроить концерт. Вы на каком инструменте играете?
Со стороны Ляли было бы очень мило поинтересоваться этим, если бы она не позабыла прошлогоднюю историю с Даркиной музыкальностью.
К счастью, Ляля тут же перескочила на другую тему:
— Моя мама привезла меня в село пить козье молоко, чтобы я хорошенько поправилась за каникулы. Она, бедняжка, не понимает, что меня может поправить не молоко, а компания… движение… шум. Я говорю: «Данко, давай делать что-нибудь, а то я сойду с ума…»
«Значит, он уже в Веренчанке, — в Даркином сердце вспыхнула свечечка и тотчас осветила все мысли, все чувства, — он здесь…»
— Я говорю Данку: «Ты собирай парней»… — Уловив улыбку на губах Дарки, Ляля весело рассмеялась: — Ой-ой!.. Верно, не так сказала? Как будет правильно? Как литературно правильно назвать неженатого мужчину? Парень? Нет? Нехорошо? Надо говорить «молодой человек», да?
— Нет, просто «юноша».
— А почему не парень? Парень — это кавалер, да?
— Да, но это больше относится к деревенским…
— Ага, понимаю… понимаю! А мне нравится слово «парень»… Оно такое солидное. Я говорю Данку: «Организуем театр или концерт или пойдем на прогулку». Куда здесь можно пойти? Что здесь есть такого… сверх… необычайного?.. Нет? Ничего? Ах, это ничуточки не мешает! Мы придумаем, если нет! Вы знаете, что мы можем сделать? Мы можем сказать… что на каком-нибудь месте, например, когда-то, давным-давно, шел бой между нашими князьями и турками. Кто нам мешает? Мало ли тут всяких боев было? Ха-ха-ха! Все равно, был он или нет. Я вообще не верю историкам… Грундзахе[42] — была бы причина для прогулки… Я слышала, вы только подумайте, что Софи вышла замуж… Жаль… такая милая девушка, и вдруг — замуж… Вы не считаете, что это немножко смешно — выходить замуж? Подумайте — вдруг менять свою фамилию, чужую даму называть «мама», чужому господину говорить «папа». Ха-ха-ха! Да и вообще это просто смешно! Ну, одевайтесь, и пойдем к Подгорским.
У Дарки кровь прилила к лицу. Как же ей еще одеваться? Ляля поняла свою бестактность и мигом постаралась загладить ее:
— Это я так сказала, чтобы посмеяться над собой… Вы одеты стильно, так должна одеваться каждая элегантная дама в селе. Это я ох и раззява!.. Правильно я сказала «раззява»? Так надо говорить? Раззява. Я не подумала, что Веренчанка — не Вена… Поглядите, как смешно я выгляжу! Еще и шляпу надела на голову, ха-ха-ха!.. Фу! — Она сбросила шляпу с головы и повесила ее на руку, как корзинку. — А как там Орыся?
Дарке стыдно признаться, что Орыся до сих пор не зашла к ней. В конце концов, для Ляли этот вопрос вовсе не главный, Орыська в данном случае была лишь зацепка. Девушка заговорила о ней, чтобы расспросить о Стефке.
— А Стеф? Как поживает Стеф? Я такая свинка, ни разу не написала ему. О, совсем не потому, что не хотела, гот бегите[43]. Наоборот, мне очень хотелось написать ему хорошее письмо, но знаете, как это бывает? После занятий приходишь домой поздно, усталая, и думаешь: завтра обязательно напишу. А завтра снова уроки, дела, и снова устаешь, и снова говоришь себе: завтра уж обязательно напишу… И так все время. Он не сердится на меня, как вы думаете?
— Я думаю, нет… Стефко послал вам на рождество открытку.
— Да, да… Смешно так вышло…
— Почему смешно?
— Он написал по-украински, а мои дяди — ну, не чудаки ли? — подумали, что она написана по-турецки…
«Что за глупости! — Дарка хмурит брови. — И что за идиоты эти дяди из Вены!»
По мере приближения к дому священника у Дарки пропадает интерес к Лялиной болтовне. Сознание, что скоро она увидит Данка, парализует все чувства.
Первая радость оттого, что он в Веренчанке, медленно уступает место жгучему вопросу: как он встретит ее? Ведь все, в том числе и Ляля, еще с прошлого года знали, что Данко и Дарка симпатизировали друг другу. Но никто, кроме Стефка, — а его не интересуют чужие дела, — не знает, что Данко променял (да, да, надо иметь мужество называть вещи своими именами) ее на Лучику Джорджеску, дочку префекта.
Для Дарки это не только боль, но еще и стыд, который, может быть, сильнее боли. И вот теперь все должно всплыть па поверхность. Все узнают, что Дарку бросили. Что может быть позорнее для девушки? Она готова (к сожалению, и это уже поздно) уговорить Данка хоть на первых порах держаться так, чтобы окружающие не догадались об их разрыве. Как понятна ей теперь та девушка, которая просила казака:
А вот и знакомые ясени у ворот поповского дома.
Простой низкий дом с белыми глиняными колоннами навеял на Дарку воспоминания детства. Именно здесь рождались и рассеивались ее и Орыськины детские, а затем и первые девичьи мечты…
Большой, очень чистый двор пестрел конской ромашкой. Окна были раскрыты и завешены зеленоватыми сетками от мух.
Орыся, очевидно, увидала их в окно и выбежала навстречу.
«Вот как, — подумала Дарка, — знала от Стефка, что я давно в Веренчанке, и не зашла первая. Ждала, барыня, пока я приду…»
Орыся бросилась раньше к Ляле. Верно, так следовало, Дарка ведь «своя», а эта как-никак гостья в селе.
Дарка не могла прийти в себя от перемен, происшедших в Орыське. Ее когда-то смуглое, как у цыганочки, лицо стало белым, словно алебастр. На этом искусственно выбеленном лице черные как смоль брови выглядели неприятно. Лицо казалось маской. Ресницы были мастерски удлинены (как это достигалось, Дарка даже понять не могла). Ногти на руках (а может быть, и на ногах!) выкрашены в лиловый цвет. Да и манеры у Орыськи другие. Разговаривала она с неестественным пафосом, придавая обычным словам таинственное значение, или старалась произносить украинские слова с подчеркнуто иностранным акцентом.
— Почему ты не показывалась, Дарка?
— Я ведь не знала, что ты приехала, а ты знала, что я уже в Веренчанке.
Орыська проглотила это замечание. Обняла Лялю за талию и, как невесту, повела во двор. Дарка пошла следом за ними. Дорожка была слишком узка для троих. Пройдя несколько шагов, Орыська и Ляля остановились, им было что рассказать друг другу.
Только Ляля начнет рассказывать о своей жизни в Вене, Орыська тотчас перебивает и повествует о чудесах в Гицах:
— Там в мясоед не стихают балы. Только побывали на балу в офицерском клубе, как приглашают в клуб пограничников. Не успели отдохнуть, уже зовут на бал в общество пожарных.
— Матер долороза![44] И вы успеваете бывать на всех балах?
Ляля приехала из столицы, но должна признать, что Вена меркнет перед какими-то Гицами.
Орыська жеманно вертит головкой:
— Ах, разве можно всюду поспеть? Во-первых, ученицам гимназии официально запрещено посещать балы, — правда, учащиеся у нас, в Гицах, пользуются куда большей свободой, чем в Черновицах. Да, это надо признать откровенно. Во-вторых, надо вам знать, что мой уважаемый шурин Дмитро Уляныч, невзирая на то, что у человека высшее образование, не любит культурной компании. Одной же Софийке неудобно бывать где-либо, хотя там и принято, чтобы дамы приходили на бал без мужей.
До сих пор она, Орыська, бывала только на «домашних вечеринках». Но какие же это «домашние вечеринки»! Одно название. Это балы с цыганами, дамы на них являются в вечерних туалетах, мужчины — во фраках.
А какая в Гицах кухня! Ни мы, славяне, ни немцы, ни французы не умеем готовить, как румыны! Не кушанья, а поэмы! Орыська в жизни не ела такого теста. Особенно печенья с различными орехами, вплоть до кокосовых, да с медовыми сиропами.
Господи, а как умеют там готовить разные салаты из сладкого перца! А соусы с изюмом и гвоздикой, а маринады на меду? Только есть и пальчики облизывать! А фрукты в вине, а кофе-гляссе «по-королевски»! А как там одеваются женщины! Мы рядом с ними выглядим служанками, честное слово!
«Но, — Дарка мысленно защищает Лялю, — это уже преувеличение. Не может быть, чтобы Ляля выглядела как служанка! Это пусть Орыська расскажет своей бабушке!»
— Мы здесь, на Буковине, придерживаемся в костюме одного тона, — разливается Орыська, — и, как огня, боимся смешения цветов. А вы бы посмотрели, как смелы в выборе фасонов и комбинаций цветов румынские дамы! Однотонность не соответствует их горячему темпераменту. Румынская дама не задумываясь наденет к красному платью зеленый берет, сиреневые перчатки и такую же сумочку. Или к ярко-зеленому платью желтую, как шафран, пелерину и красные туфли.
А как высоко там развита косметика! Вы поглядите на мое лицо! Больше я вам ничего не скажу… Что вы думаете о моих ресницах? Ты, Дарка, верно, решила, что их искусственно удлинили. Да? Ничего подобного! Пожалуйста, потрогай пальцем и убедись сама — естественные. Мазала таким маслом, о котором — ты умрешь — не узнаешь!..
А какая меблировка! Все наши «столовые», «спальни», «гостиные», вместе взятые, могут провалиться сквозь землю. Квартиры там обставлены на восточный манер. В комнатах нет ни кресел, ни кроватей, только вдоль стен тянутся длинные, узкие диваны, устланные коврами, так называемыми «скорцами». И вообще все комнаты устланы коврами, как футляры. Окна днем и ночью как летом, так и зимой задрапированы тяжелыми темными, шитыми серебром шелковыми портьерами. И это неплохо. Летом они защищают от жары, зимой — от холода.
А какие там мужчины! Они наравне с женщинами пользуются косметикой, заботятся о своей внешности! Мужчины совершенно не стесняются посещать косметические салоны, делать массаж — там это принято. Все они ходят с маникюром, а кое-кто из молодых даже слегка подкрашивают губы, и никому в голову не приходит удивляться. У нас, на Буковине, люди буквально помешались на загаре, и все ходят черные, как черти. В Гицах — нет! Там женщины ревниво оберегают кожу. Всем хочется быть «белыми», быть может, потому что они от природы смуглые. В Гицах, например, дамы днем вообще не показываются на улицах…
— А что же они делают целыми днями? — не выдержала Дарка. Ей начинала действовать на нервы Орыськина болтовня.
— Спят или проводят время с модистками и косметичками…
— А почему они днем спят?
— Потому что поздно ложатся. Как ты все-таки не понимаешь, Дарка! Там женщины наравне с мужчинами пьют вино… А как там понимают любовь! Куда нашим буковинским волам до тамошних кавалеров! Там, — повернулась она к Ляле, — бывает, что и стреляются из-за любви…
Зеленые глаза Ляли становятся все шире, шире.
— Ох! До смерти стреляются?
— Да, иногда бывают смертельные исходы. Мужчина не считается мужчиной, если он ни разу не стрелялся из-за женщины. А какой милый обычай петь серенады! Если у тебя, к примеру, завелась симпатия, то «он» обязан петь тебе серенады! Если ты его действительно любишь и хочешь, чтоб он знал это, то открываешь окно и лично благодаришь за пение (может быть и оркестр). Если ты равнодушна, то не открываешь окна, а зажигаешь в комнате спичку (серенады поют по ночам), давая понять, что ты дома. А чтобы кавалер пришел к девушке без роз или коробки шоколада? Никогда!
Рассказ Орыськи совершенно околдовал сестру Данка. Она и расспрашивать уже не в силах, только с завистью вздыхает: по сравнению с Гицами Вена — дыра!
— Какая вы счастливая, Орыся!..
Орыська польщена, она лукаво улыбается. Ни о чем другом она и не мечтает, только бы ей завидовали! Узенькая, теперь так изуродованная белилами, лисья мордочка чуть не облизывается от удовольствия: «Что, завидуете? Это мне очень и очень приятно!»
Дарка не только не завидует ей, но еще и хочет, чтобы Орыська знала это. Именно знала. Ибо она уверена, что половина из того, что нагородила здесь Орыська, — плод ее фантазии. Пусть не думает, что все они так же глупы, как умна она. Ляля может верить Орыськиным выдумкам, но она, Дарка, не из тех, кому легко пустить пыль в глаза.
О господи, как она когда-то любила эту Подгорскую! Как верила каждому ее слову!
Орыське (еще бы!) не нравится, что Дарка равнодушна к ее рассказу о жизни в Гицах. Она не только обижена на подругу, но и злится, что та испортила ей настроение.
Ляля не понимает, что произошло. Почему Орыська вдруг перестала рассказывать? Почему Дарка нахмурила брови? Ляля не выносит заминок! Дальше, дальше! Давайте обследуем все комнаты в доме.
— А где же молодая хозяйка? Где Софи? Где вы, Софи?
Дарка насквозь видит эту нехитрую дипломатию Ляли. Она ходит по комнатам, громко кричит вовсе не потому, что ей нужна жена Уляныча, а чтобы Стефко услыхал ее голос. В Вене он был ей не нужен. Там у нее не нашлось и двадцати минут, чтобы написать ему несколько слов, а на этом безрыбье — и он кавалер…
Вместо Стефка появляется зять Подгорских, Дмитро Уляныч. Он очень изменился за те полгода, что Дарка не видела его. Не то чтобы постарел (этого пока еще нельзя сказать об Уляныче), но как-то отяжелел, посерел, включая и волосы. Какая блестящая, какая пышная шевелюра была у него прошлым летом! Дарке кажется, будто его глаза утратили всякий интерес к окружающему миру. Уляныч глядит на тебя, а создается такое кошмарное впечатление, что он смотрит сквозь тебя куда-то далеко-далеко.
Впрочем, увидав Дарку, он очень обрадовался.
— Здравствуй, Дарочка, здравствуй, — тряс он ее ладонь обеими руками. — Какая ты… — Но тотчас покраснел. — Простите, я по привычке… Как же вы выросли! Как проводите каникулы?
Только теперь заметив Лялю, он поздоровался с ней без особой сердечности. Орыська, которой почему-то не очень понравилось то, как тепло Уляныч поздоровался с Даркой, потащила подругу на веранду, откуда уже доносился Лялин смех.
— Пошли, пошли… Мужик! — бросила она с презрением, как только за Улянычем закрылась дверь. — Ты знаешь, ему не нравится жить в Гицах. Он, видите ли, тоскует по этой вонючей Веренчанке! Люди уезжают куда глаза глядят, даже за океан, и не умирают от тоски по родному краю, а этот такую комедию разыгрывает. Он никуда не хочет с нами ходить, ибо, видите ли, «презирает буржуев», а сам в подметки не годится этим самым буржуям. Однажды Софийка вытащила его на вечеринку, он надел фрак, но все равно выглядел как лакей. Но ты молчи о том, что я тебе рассказала…
На веранде собрались пани Подгорская (с годами она все больше и больше становилась похожа на старую злую цыганку), Ляля, Софийка (это просто расцвела, как роза) и Стефко.
У Стефка так горели уши, словно кто-то с обеих сторон прицепил к его голове по стручку красного перца. Он, казалось, совсем оглох от восхищенья и, как загипнотизированный, следил за каждым Лялиным движением. На его лице, словно в театре теней, отражались все интонации Лялиного голоса.
Как он любит эту непоседливую, легкомысленную сестру Данка! Сумеет ли она понять такую преданность, оценит ли?
И тут же Дарка вспомнила слова Санды: «Любовь приносит счастье, только когда и мы любим».
Что выиграла бы она, если б, например, Ивонко Рахмиструк любил ее, как Подгорский Лялю? Ничего. Абсолютно ничего.
Вот сейчас придет Данко. Может быть, он уже вместе с Костиком и Пражским приближается к ясеням у ворот. Войдет — и весь мир заиграет другими красками. А пока надо делать вид, что тебя интересуют все те нелепицы, о которых, перебивая друг друга, болтают женщины.
Мамаше Подгорской не терпится узнать, варила ли Даркина мама варенье из земляники, и девушке приходится вежливо рассказать об этом. Орыська мимикой показывает Дарке, как Стефко пожирает глазами Лялю. Дарка должна реагировать и на это.
И вместе с тем она ловит себя на том, что не сводит глаз с двери, так же как Стефко с Ляли. Куда б она не повернула голову, ее глаза все время устремлены на дверь, в которую должен войти Данко.
Теперь Софийка начинает рассказ о житье-бытье в Гицах. Она достаточно умна и не может относиться ко всему так некритично, как Орыська. В отличие от сестры, молодая женщина иронизирует над румынскими вертихвостками, которые ничем в жизни не интересуются, кроме косметики. Однако из слов Софийки не следует, что эти вертихвостки так уж глупы, как они выглядели в рассказе Орыськи. Прежде всего они хитры. Разыгрывают мужниных рабынь, а фактически командуют ими, как оловянными солдатиками. Каждая обращается к мужу не иначе, как «мой господин», а по сути этот господин вовсе не господин, а раб. Единственно, что подлинно прекрасно в этих краях, — цыганская музыка. Софийку не удивляют княжны, которые влюбляются в простых цыган. От их музыки и впрямь можно потерять голову…
Наконец Ляле надоело сидеть на веранде. Она теребит всех, даже хозяйку дома, и увлекает в сад. Дарка и тут разгадывает ее маневр. Ляля хочет перемолвиться словечком со Стефком, а здесь, на глазах у матери и хитрых сестричек, это невозможно.
По команде Ляли все встают, чтобы выйти в сад, а Стефко хватает кресло и несет его вслед за Лялей.
«Раб!» — глазами говорит Орыська Дарке.
«Раб», — соглашается та.
Очутившись в саду, Ляля превратилась в мотылька: порхала от цветка к цветку, склонялась над ними в грациозных позах, словно выполняя па в менуэте, и, вдыхая аромат, спрашивала название каждого цветка.
Спрашивала даже те названия, которые знала. Стефко ходил за нею, радуясь, что она обращается с этими вопросами к нему.
Неподалеку от клумбы рос одинокий куст благородной белой мальвы. Орыся рассказала, что когда-то там была и беседка. Ляля подбежала к кусту, прижалась лицом к лепесткам и, подняв глаза на Стефка, спросила:
— А как называется этот цветок?
Стефко украдкой взглянул на мать — та в эту минуту задумалась о чем-то — и шепотом ответил:
— Ляля!
Казалось, сестра Данка только и ждала этого слова. Она тотчас закружилась, раскинув руки, припевая: «Ля-ля, ляля!»
Никто, кроме Дарки, не слышал этого короткого диалога и не понял, чему так бурно радуется Ляля.
Все испытывали эстетическое наслаждение, любуясь девушкой, танцующей среди цветов.
Минутой позже Подгорская спросила (возможно, и она слышала ответ Стефка):
— А вы, Ляля, еще не обручились в Вене? Ваша почтенная матушка говорила мне, что есть претендент. Теперь самое время… Вы уже окончили консерваторию…
Дарка взглянула на Стефка — он прикрыл глаза, только губы задергались.
— О, нет, нет! — поспешно запротестовала Ляля, — еще есть время подумать! Был там один такой… Но нет, нет! Ничего из этого не выйдет. Мама просто хотела немного похвастать… Стеф, а как называется этот цветок? Вы понюхайте, понюхайте, я вас прошу! Ну что? Правда, он пахнет вербой? Смешно! Цветок — и пахнет вербой! Ха-ха!
— Идут! — закричала Орыська и побежала навстречу гостям, появившимся в конце дорожки.
Дарка почувствовала, что ноги ее наливаются свинцом. Даже если бы под ней вспыхнуло пламя, девушка не смогла бы сдвинуться с места. Она не смотрела в ту сторону, но и так видела Данка, высокого, светловолосого, самого красивого.
Молодые люди прежде всего поздоровались с хозяйкой, потом с Софией и в последнюю очередь с девушками.
Первым к Дарке подошел Костик. Как она была благодарна ему за это!
Он, смеясь, показал большие зубы:
— Это, братцы, не Дарка, а настоящая домнишора! Тут, поди, не подступись! Что прикажешь делать? И на «вы» переходить не хочется. Ей бы еще годик подрасти… Я думаю, мне, как кальфе[45], будет разрешено называть тебя и впредь по-старому. Не возражаешь?.. А ты, Орыська, чего так побелела? Встреть я тебя в полночь на кладбище, клянусь господом богом, помер бы со страху! А ресницы, девочка моя, что ты с ними сделала? Это, верно, «последняя мода» в Гицах, не так ли?
Пражский подошел к Дарке, поздоровался вежливо, серьезно. Этот ни капельки не изменился, остался таким же квадратным и прыщеватым, как в прошлом году.
— Здравствуй. — Это наконец подошел и Данко. Он то ли случайно, то ли нарочно последним поздоровался с нею.
Дарка, пылавшая, как уши Стефка, протянула Данку горячую, потную руку, и он крепко пожал ее узкой, сухой ладонью.
— Правда, как странно, — заговорил он неестественно громко, — в городе можно прожить год и ни разу не встретиться, а в деревне — вчера приехал, сегодня уже увиделись… Как поживаешь?
«Что он хочет этим сказать? Хочет сказать Орыське, а может быть, и товарищам, что в Черновицах не встречался со мной?»
Дарка с тревогой огляделась: какое впечатление произвели его слова? Она ничего не хотела, только бы он пощадил ее девичью гордость. Боялась, что Костик, пользуясь случаем, выскочит с глупой шуткой на тему: «Эх, любил казак, да покинул девку-чернобровку…» Дарке не хотелось давать этой лисичке Орыське повод для триумфа.
Стараясь подавить тревогу, Дарка весело, хотя и не очень громко, ответила:
— Ты вчера приехал? А я и не знала.
Да, он приехал вчера. Пришлось остаться ради благотворительного концерта в пользу бедных детей.
— Какие дети? Чьи дети? — ни с того ни с сего спросил Уляныч, незаметно появившийся в саду.
— Не знаю. Не интересовался, какие дети… украинские или румынские… Знаю, что бедные.
Уляныч громко вздохнул. Софийка смерила его взглядом и тоже вздохнула. Война между ними не стихала и при посторонних.
Данко снова обратился к Дарке. Он вежливо расспрашивал, как она проводит каникулы, не кажется ли ей Веренчанка скучной после Черновиц, какие у нее планы на дальнейшее.
Своей безупречной, холодной вежливостью он, очевидно, давал понять не только Дарке, но и всем окружающим, что теперь их отношения могут развиваться лишь в таком плане. Из этого легко можно было сделать вывод: все, что было прошлым летом, Данко не то чтобы позабыл, нет, не такая уж он бездушная колода, а просто считает детской игрой, самой обыкновенной «киндер либе»[46]. Но опасения Дарки были преждевременны. Данко был слишком хорошо воспитан, чтобы вести себя с нею как с «покинутой». Их встреча прошла так, как хотелось Дарке, — никто не заметил, как Данко охладел к ней. А может быть, кое-кто и заметил, но счел не стоящей внимания чепухой.
Это только мы сами глядим на собственные дела сквозь лупу, а для остальных и мы сами, и наши дела — не крупнее муравья.
XXVI
Все пляшут под Лялину дудку: что ее милости угодно, тому и быть.
Прежде всего она захотела организовать клуб. Как же это так? В Гицах есть клуб, в Вене есть, а в Веренчанке нет?
Итак, по Лялиному повелению в Веренчанке появился клуб. Юноши по ее приказу вынесли из одного класса часть парт (школа в Веренчанке, — а это бывает редко, — каменная, крытая железом), Ляля притащила из директорской квартиры картинки, вышитые полотенца, и по ее указанию Стефко развесил их по стенам. Комната сразу утратила казенный вид. Ляля приказала соорудить из бутылок вазы для цветов. Живые цветы придали комнате еще более уютный вид. Ляля вырезала из розовой бумаги (в этом она оказалась в самом деле непревзойденной мастерицей) витражи на окна, потолок разукрасили гирляндами дикого винограда, кто-то принес шахматы, Данко — скрипку, и клуб был готов.
Раз есть клуб, можно создать и театр. А устроить театр Ляле хотелось до чертиков. Это было единственным стимулом для ежедневных сборищ.
Теперь Ляле понадобилась пьеса, в которой могли принять участие все, все без исключения. А так как она не знала ни одной украинской пьесы, то дело это было передано (по старой традиции) Дмитру Улянычу.
Дарка не могла надивиться тому, как оживился Дмитро. Он прямо переродился. С таким юношеским запалом отдавался клубным делам, так суетился, что казалось, забыл об обязанностях женатого человека. Верно, он мнил себя еще студентом, свободным, ничем не связанным, беззаботным бродягой, каким был прежде. Стоило переносить Лялины капризы ради того, чтобы хоть на день вернуть чары молодости этому доброму честному человеку.
И верно, как и предвидела Ляля, теперь каждый день возникали новые причины для того, чтобы собираться.
То надо было решить, какой род драматургии избрать. Драму, комедию или, может быть, оперетту? В другой раз собрались, чтобы ознакомиться с пьесой, которую раскопал Уляныч в тайниках библиотеки отца Подгорского. Потом решали, под силу ли им выбранная пьеса. Затем откомандировали Дмитра в Черновицы за пьесами, отвечающими их артистическим и финансовым возможностям.
При всем том надо честно признаться, что каждый член «братии» что-то получал от клуба. Об Уляныче и говорить нечего. Он просто словно второй раз родился. Дарке казалось, что даже волосы его приобрели прежний блеск.
Ляле клубная работа открывала широкие возможности красоваться перед Стефком и, как должное, принимать его обожание.
Для Орыськи клуб был ареной, где она училась играть роль дамы. Фактически девушка копировала прошлогоднюю Софийку. Роль влюбленного тогда в Софийку Уляныча играл теперь Пражский.
Дарке не нравилось поведение подруги.
— Зачем он тебе? На кой черт ты кружишь ему голову, если он тебе не нужен?
Орыська назвала Дарку деревенской простушкой:
— Какая ты еще… Разве кружат голову молодым людям обязательно с какой-нибудь целью? А так… просто ради спорта. Уж лучше кружить им головы, чем терять свою, как ты из-за Данка…
— Неправда! — возразила Дарка, хотя чувствовала, как заалели щеки.
— Что «неправда»? Кому ты говоришь? Я тебе, Дарка, — Орыська кокетливо повертела головой, — не советовала бы сходить с ума… Данилюки такая уж порода. Бойся их! Ты погляди, что сделала Ляля со Стефком, — смотреть противно на эту тряпку! Я бы на твоем месте, — она лукаво опустила неестественно длинные ресницы, — я бы на твоем месте… не брезговала симпатией Ивонка Рахмиструка… Он же будущий врач!
Дарка решила избегать интимных разговоров с Орыськой о ком бы то ни было. Такие беседы оставляли в душе неприятный след.
Из Черновиц приехал Уляныч и привез пьесу, точно специально написанную для их клуба: участвовало в ней всего пять человек. Три главные роли (старый казак, его дочь Оксана и воспитанник — молодой казак, а впоследствии муж Оксаны) и две второстепенные (подруга Оксаны и старик кобзарь).
Недоразумения начались с той минуты, как стали распределять роли. Уляныч хотел поручить Орыське роль Оксаны. И не потому, упаси боже, что она сестра его жены. Рассуждая объективно, она больше всех подходила для этой роли и по внешним данным, и потому, что пела.
Но Ляля открыто, ничуть не смущаясь, заявила, что эту роль желает играть она.
Уляныч не ожидал, что она так откровенно заявит об этом. Он старался втолковать ей, почему она должна уступить эту роль Орыське:
— Вы скверно говорите по-украински. Учтите — играть надо не городскую барышню, а сельскую девушку с Полтавщины…
— О чем вы говорите? Все аусгецайхнет[47] знают, что это лишь театр, что я только играю… условность, не так ли? Все, кто придет на спектакль, поймут, что Оксану играет дочь директора Данилюка, которая учится в Вене и поэтому недостаточно владеет украинским. Что тут, майн готт[48], удивительного? Я проголосую… Кто против того, чтобы я играла Оксану? Посмотрите, пане Уляныч, никто не возражает… Значит, все «за». Я еще раз спрашиваю: кто «против»? Никого! Опять никого…
В самом деле, никто не проголосовал «против» (за исключением Данка, но он, как брат, не шел в счет), ибо все понимали, что и клуб, и спектакль — дело Лялиного темперамента. А вдруг, не дай бог, обидится и разгонит клуб? Что тогда?
Тут встала на дыбы Орыська. Она категорически отказалась играть подружку Оксаны. Уляныч предложил эту роль Дарке. Она согласилась, но ясно дала понять, что готова играть лишь потому, что ее просит Уляныч.
Данко, который должен был играть влюбленного в Орыську, отказался играть с родной сестрой. Кроме того, он был возмущен наглостью Ляли — да и кого бы это не возмутило? — и заявил, что у него нет «ни малейшего интереса» обниматься с Лялей.
Единственным кандидатом на роль влюбленного оставался Стефко. Влюбленные в жизни должны были сыграть это же на сцене. Но о горе! Стефко оказался так робок, так связан в жестах, так ангельски покорен, что походил скорее на монаха, чем на казака.
Уляныч категорически отказался от такого «влюбленного». Он заявил прямо: если Ляля настаивает, чтобы эту роль играл Стефко, то он, Уляныч, слагает с себя обязанности режиссера и в клуб больше ни ногой.
Да и Ляля с таким партнером вела себя на сцене просто невозможно: она, словно капрал, муштровала несчастного юношу, командовала им, учила, как он должен обнимать ее, прижимать к себе, а то и сама кидалась ему на шею.
— Нет, нет, нет! — чуть не рвал на себе волосы Уляныч, — нет у нас на Украине ни таких нахальных девушек, ни таких робких парней-идиотов!
После долгих споров было решено, что роль Петра сыграет Костик.
— Побойтесь бога, люди добрые, какой же влюбленный из этой жерди?
— Ничего, ничего, — успокаивал всех Уляныч, — фигура как раз у него подходящая. А вам хочется, чтобы у молодого казака брюхо было как бочонок? Парень горяч, смел в движениях, у него чудесный бас, — чего еще желать? Остальное дополнит грим!
Ляля, разумеется, и глядеть не может на Костика. Во время репетиции сердится, отворачивается от него, упирается, как только он делает вид, что собирается обнять ее, когда это надо по ходу пьесы. И теперь ей отлично удается образ скромной сельской девушки.
У Данка и Орыськи, которые не участвуют в репетициях, много свободного времени. Орыся не прочь (и совсем не скрывает этого) переманить в лагерь своих поклонников Данка, но тот держится чрезвычайно сдержанно. Ничто не в силах нарушить его душевный покой. Лучика зажала его сердце в кулак и держит, как свою собственность.
В конце июля случилось так, что от Подгорских пришли на репетицию только мужчины. Софийка и Орыся остались дома, были заняты какими-то домашними делами, о которых Уляныч не хотел подробно рассказывать.
Обычно после репетиции всей компанией провожали Дарку — она жила дальше всех. Но на этот раз из-за отсутствия сестер Подгорских ни у кого не было настроения для такой прогулки, и Уляныч поручил Данку «доставить» Дарку до ворот ее дома.
Возможно, при других обстоятельствах Дарка и обрадовалась бы такому случаю, но теперь нет. Наоборот, в глубине души зрела обида: неужели потребовалось вмешательство Уляныча, чтобы обычно такой галантный Данилюк проводил ее?
Впрочем, когда они остались одни, вдали от людей, под луной, посреди прудища, окаймленного вербами (только эти вербы и напоминали, что здесь когда-то был пруд), присутствие Данка приобрело в глазах Дарки иную окраску.
От тумана, окутывающего подстриженные кроны верб, от знакомого с детства запаха водорослей, от серебристой, гладкой, как лед, росистой поверхности прудища, от облачков, играющих в прятки с огромной красной луной, от торжественной тишины, опустившейся на человеческие жилища, от тревожного стука собственного сердца на Дарку нахлынули мучительные воспоминания.
Где-то здесь, поблизости, в такой же час Данко назвал ее волосы самыми красивыми в мире. Оба были тогда так взволнованы, что даже остановились. Он и теперь останавливается посреди мостика. Ему нравится, опершись на перила, глядеть, как искрится роса под лунным светом.
— Тебе не холодно, Даруся?
— Нет, не холодно…
— О чем ты задумалась? Или, может быть, грустишь? Не надо принимать все так близко к сердцу… Все еще может быть хорошо…
Дарка не улавливает его мысли и, чтобы не попасть впросак, спрашивает прямо:
— Что ты имеешь в виду?
— Я хочу сказать, что суда еще не было. Всякое бывает… Могут и оправдать…
«Вот оно что!..»
— Да, — признается Дарка твердым голосом (и запах водорослей, и алмазная поверхность прудища — все сразу исчезло), — мне жаль Ореста. Очень жаль, но совсем по-иному, чем ты думаешь… Вообще, Данко, ты меня понимаешь совсем, совсем не так…
— Я тебя не так? Ты не смеешь этого говорить!
— Почему?
— Потому, что думать так грешно… Ни одну девушку я не ставлю так высоко, как тебя. Могу дать честное слово.
— Ни одну?
— Ни одну! Из всех знакомых девушек я больше всех уважаю тебя…
«Уважает!» Преподавателя естествознания Порхавку мы тоже уважаем. Мог ли Данко яснее дать понять, что сердце его принадлежит только Лучике!
Лучику он не уважает, зато любит, а ее, Дарку, видите ли, страшно уважает, а любить не может.
Данко почувствовал, что ранил Даркино сердце. Он мягко взял ее за локоть и, коснувшись лицом ее плеча, сказал, показывая на луну:
— Как было бы хорошо сесть сейчас в лодку и плыть, плыть с тобой по этому волшебному морю…
Дарка не поддается обманчивому искушению. Она ведь не Славочка, которую ничего не стоит утешить, тем более что болит у Дарки не тело, а душа. Она горько улыбнулась и подумала: «Плыви себе по лунному морю с дочерью префекта, а со мной ходи по земле — всегда и везде».
Как-то под вечер к Поповичам зашла жена Уляныча. Еще год назад ей нравилось разыгрывать из себя даму, не выносящую даже запаха кухни, теперь же она предстала в новой роли домовитой хозяйки. У бабушки (это всем известно) есть особый рецепт соления стеблей салата, пошедшего в рост, и вот Софийка очень просит продиктовать ей этот рецепт.
— Да он вам не подходит, — уклоняется бабушка (ведь каждая хозяйка неохотно делится своим опытом). — Это надо делать в июле — августе, а эти месяцы вы будете у мамы в Веренчанке…
— Неизвестно, как сложится в будущем году. Возможно, я не приеду в деревню из Гиц. В Веренчанку на каникулы приедет только Орыся.
— Это почему же? У меня было трое детей, но все равно на каждое рождество и пасху, пока была жива мама, я приезжала с мужем и детьми к ней!
Но ведь нельзя сравнивать нынешние времена с тем, что было пятьдесят лет назад. Тогда людям материально жилось лучше, что верно, то верно. Во-вторых, и это главное, Веренчанка очень скверно влияет на мужа Софии.
— Как это Веренчанка скверно влияет? Как это может Веренчанка скверно влиять?
Молодая женщина объясняет: Уляныч места себе не находит, буквально теряет голову от тоски по родному селу. Вот и теперь — пора возвращаться в Гицы, и он уже закатывает истерику. К тому же дома сложились невыносимые отношения.
Даркина мама тактично молчит. Захочет гостья — сама расскажет, что за невыносимые отношения сложились в семье Подгорских.
— Вы знаете, у нас такое несчастье… Наш Стефко влюбился в Лялю Данилюк…
— И это вы называете несчастьем?! — раздраженно воскликнул папа и громко рассмеялся неприятным смешком.
Бабушка с удивлением поглядела на отца: что с ним произошло? Он теперь почти совсем не смеется.
И впрямь — что за несчастье, если молодой человек полюбил молодую красивую девушку?
Но, оказывается, дело не так просто, как представляется на первый взгляд. Они, то есть Ляля и Стефко, ровесники, иными словами — она стара для него как жена. Но и это не основная беда. Несчастье в том, что Подгорские готовили сына в священники, а эта «артистка» заявляет, что ни за какие сокровища не выйдет замуж за «аллилуйщика».
— Это плохо, — сочувственно присоединяется к разговору бабушка. — В свое время мне тоже очень хотелось, чтобы у моей Климци муж был богослов. Все же, как говорится, плывет в дом и от мертвого, и от живого…
— Мама! — ласково, но категорически обрывает мама бабушку.
— Ну что такого я сказала? Мне хотелось видеть тебя женой богослова? Да, хотелось. По-моему, это самая лучшая партия, клянусь своим здоровьем!
— Правда? — подхватывает Софийка. Она не знает, что в доме Поповичей никто всерьез не воспринимает бабушкину болтовню. — Вы тоже так думаете? А у Ляли нет иного слова, как «аллилуйщик»… У нас в роду сложилась традиция — старший сын всегда изучает богословие, потом занимает приход отца. Вся история с Лялей крайне неприятна нам… Для папы это же прямо удар!… Допустим, Стефко нарушит традицию и поступит в университет… Но где гарантия, что эта ветреница станет ждать его четыре года? И с пути собьет, и сама счастья ему не даст… Дома такое творится, что хоть завтра пакуй чемоданы да уезжай в Гицы. И уехала бы, если б не Дмитро, который никак не налюбуется Веренчанкой.
— А разве нельзя теперь обручиться? Обручение, — ищет выход бабушка, — равноценно браку…
— Она не хочет обручаться… Говорит откровенно, что не может взять на себя таких обязательств, не знает, что произойдет за четыре года.
— Хороша любовь, — вставила словечко мама, и Дарке захотелось расцеловать ее.
К концу визита выяснилось, что Софийка пришла не столько за рецептом, сколько для того, чтобы попросить Даркину маму «по душам» поговорить с Лялей, выяснить, о чем та думает, каковы ее планы на будущее.
Мама и обещала, и не обещала. Своих хлопот полон рот, нечего залезать в чужие.
И буквально на следующий день (просто смешно!) с такой же просьбой приходит к маме пани Данилюк.
Ого, она продолжает одеваться ярко, как шестнадцатилетняя девочка, и красит волосы под желток. Директорша так же непоседлива и болтлива, как Ляля. Она без всякой дипломатии приступает к делу.
— Что за беда, фрау Попович, — мать Данка хоть и прожила среди украинцев двадцать лет, но язык их не изучила, — я пришла к вам как мать к матери: что делать с моей Лялей? К ней прицепился этот Стефко… и не дает девушке спокойно дурьх штрассе[49] перейти. Он ее… как это говорят… преследует. Стефко не хочет понять, что, во-первых, он молод для нее, а цум цвайтенс[50]… что он имеет? Он еще никто не есть… О, чем есть Стефко Подгорский? Что мне делать, моя добрая, любезная фрау Попович? у меня такое… несчастье… Разве я ради того десять лет… ай-ай… десять лет держала ее ин Вин, у брата, чтобы выдать за попа?.. Овец ему стричь!.. Мой муш?! Вы не спрашиваете меня, фрау Попович, о моем муш… Он знает одно: все бери, только меня оставь… Ляля должна ждать Стефка четыре года… Ей уже двадцать… И что она станет делать эти четыре года? Брат пишет аус Вин, что он больше не может держать ее у себя. У него больная жена, ее надо везти нах Баден. А что станет Ляля ин Черновицы? Учить чужих детей она не захочет, стареть дома тоже не хочет… И у нее есть фрау Попович, ай-ай… порядочный… богатый… такой файный блондин ин Вин… И такое на мое голову, такое!.. Фрау Попович, я пришла к вам как мать к матери. Поговорите с моей Лялей, выбейте у нее из головы этого Стефка, она вас послушает… Я вас очень прошу, моя милая, моя добрая, милая фрау Попович!
Что мама говорила Ляле и что та отвечала, Дарка не знает, но на некоторое время обе матери успокоились.
А впрочем, честно говоря, теперь никто не обращал внимания на настроение мам. Жизнь «братии», которой Ляля дала толчок, приобрела такой размах, что не только вопли, но даже слезы матерей не в силах были остановить ее.
Все, начиная с Уляныча и кончая Пражским, которому досталась роль старого казака, жили только спектаклем.
Деятельность клуба, о котором никогда и не мечтала Веренчанка, силою обстоятельств выплеснулась за пределы школьного здания. По вечерам, когда шла репетиция хора, школьный забор облепляла сельская молодежь. Уже одно то, что в государственном учреждении, где на стенах висят портреты короля и королевы, поют народные украинские песни, поднимало дух забитого села. К тому же Уляныч, невзирая на упорное сопротивление жены, принял в хор одного альта и двух теноров из сельской молодежи.
Теперь, когда мимо школы, то бишь клуба, шествовал кто-либо из примарии[51] или жандарм в своей канареечной форме, сразу становилось ясно, что идет временный оккупант.
Вот что творила простая народная песня!
Однажды утром Дарка проснулась от пения в саду. Она в одной сорочке подбежала к окну, выглянула, и на глаза набежали слезы: пел папа!
Девушка перегнулась через подоконник и тоже запела с ним в унисон, только громче и фальшиво.
Папа погрозил ей рукой: «Ай, ай, кого ты передразниваешь, дочка?»
— Папочка, — Дарка протянула к нему руки, как делала теперь Славочка, — ты пел… Ты отдохнул за каникулы, правда? Я б хотела, чтобы ты вышел на пенсию, не переутомлялся и тогда бы каждый день пел нам… Папочка!..
Отец, держа лопату в руках, подошел к окну. Он выглядел совсем стариком, особенно когда его лицо оказалось в тени.
— Детонька, детонька!.. Я устаю не от работы. Уча детей, я бы прожил еще сто лет припеваючи. И на душе у меня легче не оттого, что я не бываю в школе, а потому, что Манилу дал мне каникулы… — Отец заговорил так, словно на месте Дарки стоял домнул Локуица, — какое это наслаждение — знать, что за тобой никто не шпионит… Ложусь спать и знаю — никто не слоняется у меня под окнами… Подойдет ко мне на улице вуйко — я разговариваю с ним и не оглядываюсь. Жаль, очень жаль, что скоро конец моему спокойствию. Ты понимаешь, я ведь сейчас дышу неотравленным воздухом. Вот почему распелся твой старый отец…
Как укоряла себя Дарка, что помешала отцу! Пел бы себе и не думал о Манилу, а она неосторожно напомнила. Черт надоумил ее затеять разговор с папой, она никогда не простит себе этого. Конечно, больше он не пел. Дарка готова была отрубить себе палец на руке, только бы вернуть отцу хорошее настроение. Но настроение — не сани, куда захотел, туда и повернул.
Как же случилось, что никому из их компании, даже такому опытному, разумному человеку, как Дмитро Уляныч, не пришло в голову, что их общая радость длится слишком долго и крах неминуем? Оглохли они все, ослепли от наслаждения жизнью или позабыли, в какое время живут?
Так вот самой жизни пришлось призвать «братию» к порядку. А когда сама жизнь приводит в чувство, то уж основательно.
Подготовка к спектаклю в разгаре. Ляля под логопедическим наблюдением Стефка целыми днями учится правильно произносить украинские слова. Уляныч, засучив рукава и напялив старый тещин фартук, пишет декорации (кисть у него больше похожа на веник). Орыська и Дарка красят старые простыни, из которых сошьют шаровары для казаков. Пражский пишет приглашения в Заставную, Кицмань и даже кое-кому в Черновицы. Костик целыми днями сидит перед зеркалом и, как говорит, изучает свою физиономию, которую он должен в ближайшие дни превратить в обаятельное лицо казака-запорожца, такое, чтобы в него влюбилась красавица Ляля!
И вот в самое горячее время сигуранца в Заставной запрещает постановку пьесы, мотивируя тем, что содержание ее может пробудить в народе антигосударственные настроения, ибо основная идея пьесы — отрыв Северной Буковины от Румынского королевства и присоединение ее к Советской Украине.
Это был такой абсурд, такая нелепость, что даже папа, по известным причинам державшийся в стороне от всех приготовлений, возмутился такими «порядками». «Вот кретины, вот круглые идиоты! — восклицал он. — Они даже не дают себе труда ознакомиться с текстом пьесы. У них заготовлен стандартный отказ, и они всякий раз слепо перепечатывают его, как только к ним попадает украинская пьеса».
Уляныч, лучше всех владевший румынским языком, написал в сигуранцу длинный протест (над редактурой его немало поработал и папа), в котором с убийственной логикой доказывалось, что пьеса совершенно аполитична и, следовательно, не содержит никаких антигосударственных идей. Это инсценировка старой поэмы, а содержание ее таково: старый казак-запорожец берет на воспитание сына своего друга, погибшего в бою с турками. У старика есть Дочь. Дети растут вместе, думая, что они брат и сестра. Когда же юноша вырос и пришла пора отправляться в Сечь, названый отец рассказал ему все. Молодые люди полюбили друг друга. Отец согласился отдать дочь за молодого казака с условием, что тот послужит в Сечи и станет настоящим запорожцем. Идет время. Во время боя с турками юноша попадает в плен и возвращается оттуда слепым. Он хочет освободить любимую девушку от данного слова, но верная Оксана настаивает на свадьбе.
Пьеса — чистый апофеоз любви. К тому же действие ее относится к началу прошлого столетия, и поэтому в ней не может быть даже намека на отрыв Северной Буковины от Румынского королевства и присоединение ее к Советскому Союзу.
Окончательный текст письма был зачитан на общем собрании клуба и принят без поправок, единогласно было решено, что к этому меморандуму нельзя ни слова добавить и ни слова вычеркнуть в нем нельзя.
Теперь всех интересовало одно: как сигуранца выйдет из глупого положения? Ведь признаться, что они совсем не читали пьесу, значит окончательно скомпрометировать себя. А сигуранца, как известно, во всех случаях «права»! Что они теперь запоют?
Настроение у «братии» не падало. Наоборот, все ходили потирая руки, злорадствуя. Подготовка к спектаклю не прекращалась: девушки шили шаровары, Уляныч трудился над декорациями.
Ответ пришел сравнительно быстро. Теперь «братия» могла убедиться, что в сигуранце «на украинских делах» сидят не дурачки, как казалось кое-кому. Оказывается, они не только прочитали пьесу, но вычитали в ней то, что там не написано и что хотели скрыть от них авторы письма. В протесте сказано, что это инсценировка старой поэмы, но не указано, кто ее автор. Сигуранца поможет актерам и напомнит, что пьеса — переработка поэмы Тараса Шевченко «Невольник». А существует закон, запрещающий обнародовать все без исключения произведения Шевченко. И тут же маленькая, частного порядка, приписка: дабы не вводить в обман уважаемых инициаторов спектакля, сигуранца сообщает, что в исключительных случаях, по специальному решению, допускается общественный просмотр некоторых произведений упомянутого автора, но только на территории города Черновицы, а в деревнях — ни в коем случае и ни под каким видом. И еще одно: в письме сказано, что пьеса из казачьей жизни. А так как казаки на Буковине никогда не жили, а селились на днепровских островах, сигуранца считает, что пьеса из казацкой жизни направит мысли буковинских крестьян на Приднепровскую Украину, посеет в головах сомнение об их румынском происхождении. В дополнение казаки еще грабили и убивали помещиков. И показывать их со сцены опасно, это может привести к нежелательному социальному движению на селе.
Иногда радость бывает так велика, что переходит в слезы, в данном случае возмущение и гнев были так велики, что вылились в смех.
Все, за исключением сестер Подгорских, высказались за то, чтобы не отступать, а бороться с сигуранцей до победного конца!
Уляныч лично поедет в Заставную и поговорит с ними «по-умному». Нигде — ни в афишах, ни в тексте — не указано, что пьеса написана по мотивам поэмы Шевченко, почему же она должна подпасть под закон, запрещающий ставить произведения поэта?
Было и другое предложение, — между прочим, его горячо поддерживал папа, — откупиться от этих собак «бакшишем», но Уляныч выступил против.
Папу удивила его принципиальность в этом вопросе:
— Странно, странно! Вы же приехали из краев, где за взятку можно купить родного отца…
— Именно поэтому и не терплю взяток, — коротко ответил Уляныч.
Впрочем, в Заставную поехал не он, а Костик. Уляныча, как он сам потом рассказал отцу, тесть вызвал в кабинет и заявил, что с него уже хватит этих забав. Побаловался на каникулах — и достаточно!
Его преподобие предупредили в сигуранце, что зятек его ведет себя не так, как требуется.
— Так у вас есть связи с сигуранцей? — спросил Дмитро, на что тесть многозначительно ответил:
— У меня есть семья. Да и кое-кому не вредно помнить, что он тоже не вольная птица. У тебя на иждивении жена и скоро будет ребенок. Я, — прибавил он, по привычке поглаживая русую бороду, — выдавал дочь за солидного, обеспеченного человека, а не за безответственного фантазера. Прошу тебя больше не вмешиваться в те дела…
И Уляныч официально перестал вмешиваться в дела клуба. Вот почему «братия» решила послать в сигуранцу Костика. Шутили, что раз в жизни выпал ему случай сыграть влюбленного — и такая неудача!
Вначале Костик равнодушно относился к насмешкам друзей. Но когда Уляныч и Пражский расписали, какие он понесет моральные потери, не выступив в роли влюбленного, Костик так разошелся, что его пришлось сдерживать. Он грозил, что выбьет окна в сигуранце, если они не дадут визы. Впрочем, и окна в примарии остались целы, и разрешения Костик не привез.
Сигуранца, правда, позволила ставить пьесу, но с условием, что действующие лица будут выступать в форме румынских пограничников.
Понятно, Костик изо всех сил старался доказать всю нелепость такого предложения. Во-первых, для этого надо перевести действие в наши дни и, следовательно, выбросить такие слова, как «казак», «турок», «Сечь», да и вообще изменить всю сюжетную структуру, — иными словами, зарезать пьесу.
— Все можно, — уверяли его в сигуранце, — село такое темное, что все равно ничего не поймет, а вот если местная интеллигенция выступит в мундирах пограничников, это будет иметь далеко идущее политико-воспитательное значение.
А во-вторых, почему господа студенты так настаивают на своем? Разве им не все равно, что играть? Они ведь не профессиональные актеры.
— Да, — пересказывал свой ответ Костик, — мы не артисты, но и не клоуны.
— В таком случае сигуранца может предложить перевод румынской высокопатриотической пьесы. И это не нравится господам студентам? Вот лучшее доказательство их «аполитичной» деятельности в клубе. Шовинистическая украинская пьеса — заметьте! — им очень нравится, а высокоморальная, воспитательная, патриотическая пьеса румынского автора не устраивает. О ней они и слышать не хотят. Хорошо, запомним это!
Папа, вместе со всеми ожидавший возвращения Костика из Заставной, услышав ответ, огорчился. Дарка понимала его. Дело было даже не в пьесе, угнетал сам факт бесправия, произвол сигуранцы, которая могла вмешиваться в любую область общественной жизни. Он сокрушался не о. погребенной пьесе, а о «знамении времени», к тому же каникулы близились к концу, и где-то уже собирался в Веренчанку Манилу.
Кончались каникулы, кончалось и лето. Чувствовали это не только ученики, которым родители уже снимали с чердаков чемоданы, но и птицы. Летали они теперь стаями, возбужденные, занятые сборами в дальнюю дорогу. Опустевшие поля наводили грусть, и ни кристальная голубизна неба, ни чистый, звонкий воздух не в силах были развеять тоску, плывшую над жнивьем вместе с «бабьим летом». По утрам и вечерам было уже холодно. Дикий виноград, предчувствуя близкий конец, наливался багрянцем, и алые пятна на фоне желтеющих листьев только усиливали гамму осенних тонов. Лишь кукуруза еще стояла в полях и на огородах. Ободранная ветрами, поблекшая от дождей, она громко шелестела сухими, жесткими листьями. И это тоже был один из голосов осеннего хора природы. Время, вопреки физическому закону, бежало не равномерно, а с удвоенной и даже утроенной скоростью.
Дарку огорчал этот стремительный темп еще и потому, что она должна была решить с родителями один очень серьезный вопрос, и притом в категорической форме, а у нее не хватало на это смелости. Но откладывать дальше — означало проиграть. И Дарка, набравшись мужества, пошла в наступление:
— Мамочка, папочка, я должна вам что-то сказать…
В комнате стало тихо. Бабушка, возившаяся у шкафа, подошла поближе к столу.
— Я хочу попросить вас подыскать мне другую «станцию», я не хочу больше жить у Дуток.
— Почему? — деловито спросила мама. — Я бы хотела знать — почему?..
Ах, почему, почему! Нельзя же рассказать, хотя причина ясна: она подозревает, что Лидка связана с агентами сигуранцы. А кроме того, Лидка в «их» организации. Вот почему Дарка не хочет спать с ней в одной комнате, сидеть за одним столом. Но посвятить в это родителей — значит окончательно лишить отца душевного покоя.
— Я не могу жить у Лидки… Мне надо готовить уроки, а ей в это время хочется танцевать или, еще того хуже, петь.
— Почему же ты до сих пор молчала? Эти причины легко устранить. Я уверена, если вежливо попросить Лиду, она послушает. А так ей могло показаться, что тебе приятно, когда она поет и танцует… Это не причина, доченька, чтобы менять «станцию».
У Дарки тонко-тонко закололо в груди. Неужели материнское сердце не чует, что дочь говорит неправду? Разве природа не наделила матерей способностью читать мысли своих детей?
— Я знаю, что не причина, — и Дарка решает, что чем ближе она подойдет к правде, тем для нее лучше, — но… я вообще терпеть не могу Лидку. Мне даже трудно есть с нею за одним столом… И пани Дутку я тоже не люблю. Она неискренна со мной. Мамочка, я очень прошу сменить мне «станцию»! — В Даркином голосе зазвучали слезы.
Бабушка, всегда принимавшая Даркину сторону, теперь перешла в оппозицию:
— Говорите, что хотите, а я никак в толк не возьму… Ребенок не хочет жить на «станции», которую я выбрала? Как это ребенок может хотеть или не хотеть? Раз ты ушла из дома, тебя ждет жизнь, подобная солдатской муштре: привыкай к невзгодам, привыкай к послушанию, привыкай к невкусной еде, к жесткой постели — и выйдет из тебя человек… Так я воспитывала своих детей и, слава богу, вывела в люди…
— Мама, — сначала тихо, потом громче (бабушка последнее время стало плохо слышать) встал на защиту Дарки папа, — девочка по-своему права. Ты не печалься, доченька, что-нибудь придумаем… Свет клином не сошелся на доме Дутки. Откровенно говоря, она и мне не очень нравится.
— Вот видишь, — весело рассмеялась мама, она была довольна, что отец взялся разрешить этот вопрос, — вот видишь, какой ты… Меня упрекаешь, что я балую Дарку, а сам потакаешь всем ее капризам. Доченька, видишь, какой у тебя «плохой» отец?
Дарке не надо говорить, какой у нее отец, она об этом знает лучше всех. Золото, а не папочка.
Всем было ясно, что спектакль не состоится, но «братия» продолжала регулярно собираться. Вместе с каникулами, вместе с отлетом аистов кончалось в жизни нечто неповторимо хорошее, и всем, очевидно, хотелось надышаться этим, как воздухом перед смертью.
Ляля, которая, судя по всему, вскружила голову не только Стефку, но и себе, выискивала любые причины, только бы «братия» держалась вместе! Например, ей принадлежала идея организовать прогулку в поле и печь там картошку.
У Подгорских, Костика, Пражского, наконец, у матери Уляныча были картофельные поля, но ни одно из них не устраивало Лялю. Как назло, все они лежали тут же, за селом, а Ляле хотелось печь картошку далеко, не ближе трех часов ходьбы туда и обратно.
— Вы знаете, что я придумала? Я чудесно придумала! Слушайте, мы будем ганц айнфах[52] красть картошку на чужом поле. Это страшно забавно, как вы думаете? Вы видали объявления на сельской канцелярии? «Кто будет пойман на краже картофеля с чужого поля», того… ха-ха!.. посадят в каталажку. Будет так смешно, если нас поймают… Зельбст ферштендлих[53], у кого длинные ноги, тот даст драпака, а остальные хлоп — и попадутся! Мы будем носить им передачу к окошечку… Это ужасно интересно, вы не находите?
— Ага, понятно: вы хотите втянуть нас в беду, а потом сбежать? Это ваша тактика, Лялечка, так сказать линия вашего поведения — подводить людей под монастырь, — заметил Костик. С тех пор как ему не удалось, сыграть роль Лялиного партнера, он ее недолюбливал.
— Чудак! Чудак! Чудак! — как попугай повторяла Ляля. — Какой монастырь? Я говорю про картофель.
Конечно, эта Лялина затея никуда не годилась. Придет же в голову — дочери или зять священника пойдут воровать чужую картошку!
Софийка, слывшая среди «братии» высшим авторитетом в вопросах морали и этики, назвала Лялин проект авантюрой и заявила при всех, что не только сама не примет участия, но не пустит ни Дмитра, ни Орыську.
И все же результат был таков: «братия» в полном составе направилась к зарослям акации… красть и печь чужую картошку. Ляля умела обвести людей вокруг пальца! Она убедила всех, будто там, куда они направлялись, начинались помещичьи земли, а красть на господских или поповских полях, как говорили крестьяне, не грех.
И хотя «братия» разбила лагерь за семь миль от села, какой-то человек, как говорится, застукал воров на месте преступления.
Ляле ради сильных ощущений очень хотелось, чтобы это был сам полевой. Она тут же подняла панику, «братия» кинулась врассыпную, а сама Ляля так неслась, что потеряла в кукурузе туфельку.
Как выяснилось позже, человек этот вовсе не был полевым, а туфельку Стефку пришлось долго искать. Правда, Ляля помогала, подпрыгивая на одной ноге и всякий раз хватаясь за его плечо.
Картошку испечь так и не удалось, но главное было достигнуто — смеха и впечатлений хватило на целых три дня.
В следующий раз Ляля выдумала какое-то «молод-зелье». Мол, растет такое в Когутовке за тополями, а отвар из него сохраняет человеку вечную молодость. Кто ж не хочет быть вечно молодым?
Дарка, со свойственной ей врожденной честностью, порой граничившей с наивностью, хотела знать, как вывернется Ляля, когда «братия» узнает, что никакое чудодейственное средство в Когутовке не растет и никогда не росло.
— Вот еще, есть о чем думать! Утром зелье было, мы опоздали, и люди уже выбрали его…
— Ты хочешь сказать — собрали?
— Собрали или выбрали… аллеc эгаль[54].
К счастью, «братия» отлично понимала, что дело совсем не в печеной картошке и не в чудодейственном зелье, просто Ляля любой ценой стремилась сохранить настроение времен репетиций в клубе. Кроме того, ей хотелось как можно больше быть со Стефком.
Стало известно, что Подгорские все же заставили сына заняться богословием. Но одновременно кое-кто из «братии», очевидно, под большим секретом, узнал: теологию Стефко будет изучать всего год, а затем перейдет в университет, на второй курс философского факультета. Этот стратегический маневр необходим, иначе мамы не оставят своих детей в покое. Ляля при каждом удобном случае заявляла, что «ни за какие сокровища в мире» не выйдет замуж за «аллилуйщика», а Стефко в свою очередь, правда, более спокойно, но не менее решительно «глаголил», что богословие — единственное его призвание.
Данко последнее время стал необычайно нежен с Даркой. Правда, он по-прежнему был очень скуп, осторожен в словах, но его поведение в целом говорило, что он не только уважает Дарку больше всех девушек, но еще и любит.
Девушке нравится такая немногословность. Они уже вышли из того возраста, когда можно разбрасываться словами, не придавая им значения. Теперь Дарка уверена: скажи Данко «нет», это, к сожалению, будет настоящее «нет», а скажи он «да» — и это будет твердое «да».
Данко усвоил отличный, только ему присущий способ двусмысленными (в хорошем значении этого слова) шуточками проявлять свою симпатию к Дарке.
Вчера, например, Лялю осенила идея пойти на межу Веренчанки и соседнего села Киселева, искать остатки крепости, построенной еще во времена печенегов.
В Веренчанке погода соответствовала прогулке — не жарко, в небе ни облачка, — но когда подошли к готару, налетел порывистый степной ветер и так похолодало, что кое у кого посинели носы.
Данко тотчас снял с себя пиджак и накинул его на плечи Дарке.
— Даня, — Ляле не понравилась галантность брата, тем более что Стефко пошел без пиджака и ей предстоял выбор: воспользоваться пиджаком Костика, к которому она испытывала физическое отвращение, или стучать зубами, — не забывай, что три года назад у тебя было воспаление легких.
В ответ Данко настоят, чтобы Дарка надела пиджак.
Девушка просунула руки в рукава, и ей показалось, что это сам Данко обнял ее. Верно, и Данко о чем-то подумал: он так взглянул на Дарку, что она от смущения опустила глаза.
Позже, когда возвращались в село, он словно между прочим сказал:
— Ты знаешь, на Востоке, позабыл, где именно, существует поверие, что вместе с одеждой человеку передается и частичка души. Понимаешь, что произошло? Ты сегодня взяла частицу моей души, а сейчас я возьму частичку твоей… Что ты на это скажешь?
«Я хотела бы… чтобы это было не поверием, а явью, чтоб с сегодняшнего дня ты и впрямь отдал мне часть своей души и взял всю мою».
Орыська своим лисьим носом пронюхала, что Данко теплее относится к Дарке, и мучила подругу, требуя признаний. Пишет ли ей Данко любовные записочки? Приносит ли цветы? Играет ли серенады у нее под окнами, когда все укладываются спать?
Дарка с достоинством отвергла все. Неужели Орыська считает Данка таким ограниченным? Зачем писать, если они и так каждый день видятся? Для чего приносить цветы, если у нее под окнами целое море этого добра? Зачем, словно вору, пробираться ночью под окна, если можно поиграть на скрипке и днем?
— Если все это так, значит, ты для него ничто, — вынесла приговор Орыська.
Дарку совершенно не задела Орыськина бестактность. Она просто не поверила этой лисе. У нее было достаточно оснований предполагать другое. Как она могла быть для Данка «ничем», если они обменялись душами? Орыська просто мстит подруге за то, что ей не удалось поймать Данка в свои сети, вот и все!
Папа все откладывал поездку в Черновицы для подыскания новой «станции». И вдруг в один прекрасный день вопрос был решен на месте, в Веренчанке. К матери неожиданно приехала погостить ее старая приятельница, еще по семинарии. Мама, как это обычно водится между подругами, поделилась с пани Фрозей своими горестями, и та решила, что Дарке лучше всего жить у ее матери на Домнике. Старушка живет одна в собственном домике, и девочка будет там как у Христа за пазухой. Правда, далековато от гимназии, но зато какой воздух! Впору не дышать, а пить, как молоко!
Мама давно знала эту семью и была спокойна за дочку. Отдавала свое дитя в заботливые руки.
Понятно, теперь мама была рада, что Дарка настояла на своем и отказалась от «станции» у Дуток. В жизни нет ничего плохого, что позже не обернется хорошим.
Бабушка, позабыв, как воевала с внучкой, теперь расхваливала Даркину сметливость. Как хорошо, что девочка догадалась забрать от Дуток свою подушку!
Данко, узнав, что Дарка будет жить на Домнике, тоже очень обрадовался. На Домнике жил и он.
— Держись теперь, отныне ты попадешь под мой контроль. Не бойся, я каждый день буду забегать к тебе, проверять, как ты готовишь уроки…
Конечно, Данко шутил, но такие шутки благодатной росой падали на Даркино сердце. Теперь и Данко признался, что тоже недолюбливал Лидку.
— Языкаста, бестактна и глупа, как сапог. И потом я вообще не люблю, когда бесцеремонно вмешиваются в мои личные дела.
Как ничего нельзя знать наперед! В начале каникул Дарка не ждала от них ничего хорошего, а тем временем эти неполные шестьдесят дней были сотканы из сплошной радости. Если и возникали тени, то они еще ярче оттеняли свет.
Даже Ляля, которая вначале держалась Орыськи (та ловко пустила пыль в глаза рассказами о жизни в Гицах), теперь решительно перекочевала на Даркину сторону.
Софийка и Орыська последнее время были целиком поглощены заготовкой маринадов и варенья на зиму. Улянычу приходилось за компанию сидеть с ними дома. Пражский и Костик тоже реже заглядывали в клуб, говоря, что не могут примириться с тем, что на их долю приходится по половинке девушки. Так что «братия», в сущности, состояла из четырех человек — Ляли, Стефка, Дарки и Данка.
Эта четверка не пускалась в дальние странствия, но Ляля и без того умела находить для прогулок интересные места».
Сегодня они собрались с кувшинчиками за ежевикой, которой, если верить Ляле, в лесу больше, чем листьев. Как и следовало ожидать, ягод оказалось очень мало (их собрали еще с утра), зато Ляля «открыла» живописные кусты шиповника с пурпурными кораллами, продолговатыми, словно миниатюрные вазы. Девушка тут же припомнила, что из шиповника приготовляют чудесное вино и мармелад, и тотчас приказала кавалерам обобрать все до единой ягодки. Стефко покорно принялся за работу и не бросал, хотя из пальцев сочилась кровь, а Данко совсем отказался от этого «колючего дела». Он уселся на пригорке и иронически поглядывал, как Стефко при каждом уколе высасывает кровь из пальцев.
Наконец Данку надоело это зрелище. Он взял Дарку под руку и медленно, чтобы не оставлять далеко позади тех двоих, побрел с нею в село.
Подойдя к железнодорожной станции, они услышали звуки рояля. Данко, прислушиваясь, остановился. В городе, где из стольких окон доносятся звуки музыки, Данко не обратил бы на это внимания, но здесь, в тишине сельского вечера, музыка поражала. Данко слушал, застыв на месте, и эта его отрешенность от окружающего мира напугала Дарку. Она представила себе, какие нежелательные для нее. воспоминания могут вызвать у Данка звуки рояля.
Из кустов выскочила Ляля, знаками подзывая их к себе. Должно быть, Ляля и Стефко решили идти в село не со стороны станции, а по тропке, мимо пруда.
— Данко, Ляля хочет, чтобы мы вернулись…
Он встрепенулся, словно его разбудили. И вдруг Дарка поняла такую простую и такую важную для ее душевного спокойствия вещь — Данко любит не Лучику, а ее музыкальность. Будь дочка префекта так же мало музыкальна, как она, Дарка, он бы и не взглянул в ее сторону!
Радость была так велика, что Дарка оставила Данка, бросилась Ляле на шею и поцеловала за ушком.
— Что случилось?
— Ничего… Мне вдруг стало очень легко на сердце…
Но вскоре произошло событие, в корне изменившее жизнь «братии».
Через два дня после похода за ежевикой без всякого предупреждения или хотя бы намека на него Ляля появилась в клубе с незнакомым мужчиной. Это был упитанный, розовый блондин с пухлыми губами и чуть ли не женской грудью. Такие люди в детстве всем очень нравятся, потому что похожи на девочек, а в зрелом возрасте они смешны. Незнакомец, одетый не по здешней моде, близоруко щурился.
— Знакомьтесь, — заговорила Ляля по-немецки, — это друг нашей семьи — господин Альфред Шнайдер из Вены.
Шнайдер неуклюже поклонился и еще раз назвал свою фамилию.
Уляныч довольно невежливо для хозяина нахмурился и тем самым выразил настроение всех присутствующих. На кой черт Ляля привела к ним этого рыжего Шнайдера? И как теперь быть? Переводить ему каждое сказанное слово?
Все сразу почувствовали себя скованными присутствием чужого человека. Можно было расходиться по домам, хорошее настроение развеялось, как дым.
Впрочем, Уляныча осенила счастливая мысль спросить Лялю, понимает ли господин по-украински.
— Ни слова, — ответила Ляля, приветливо кивая Альфреду.
— Так бы и сказали сразу, — повеселел Дмитро.
А Костик, обращаясь к гостю, вежливо заговорил:
— Приехал ты, а мы будем вести себя так, словно тебя и нет среди нас! Согласен?
Альфред взглядом попросил Лялю перевести слова Костика.
— Господин Костик говорит, что рад приветствовать вас в наших краях. Он надеется, что вы вскоре изучите наш язык…
Слегка поклонившись Альфреду, Костик спросил еще вежливее:
— А может, ты нам скажешь, какой черт принес тебя к нам и зачем?
— Что господин говорит? — снова повернулся Альфред к Ляле, сосредоточенно обдумывающей ответ, который мог бы оправдать смех «братии».
Наконец Ляля просияла. Придумала.
— Господин Костик вспомнил немецких офицеров, побывавших здесь в войну. Когда местные жители рассказывали анекдоты, то они смеялись трижды: первый раз, когда им рассказывали, второй, когда им объясняли, а третий когда понимали.
— Га-га! — Альфред так смеялся, что даже глазки его почти совсем спрятались в мясистых выпуклостях лица.
— Смейся, смейся, да не очень… Зачем же ты все-таки приехал сюда, черт тебя подери, вот что мы хотели бы знать!
Ляля перевела эти слова так:
— Господин говорит, что вам непременно понравятся наши окрестности и вы сможете сделать интересные зарисовки.
— Скажи ей, пусть не обманывает тебя.
— Яволь! Яволь! — поддакнул Альфред, не ожидая перевода.
Все развеселились. Костик так хохотал, что даже бился головой о притолоку.
Уляныч потрогал нос, что было у него признаком недовольства, потом отошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклу.
Первой опомнилась Ляля:
— Что случилось, пане Уляныч?
— А что могло случиться? Ничего не случилось. Огорчает отсутствие культуры у нашей «братии», и больше ничего. Они смеются над вашим гостем, а вам хоть бы что! Пора, — обратился он наконец ко всем, — и честь знать. Пора. Зачем вы насмехаетесь над человеком? Так могут разыграть каждого из вас в любой чужой стране — приятно вам будет, а? Как смешно, что немец не знает украинского языка! Прямо помереть можно со смеху! И вы тоже, Пражский!.. — Уляныч скорчил кислую гримасу. — А мне всегда казалось что вы такой культурный человек, хвалились, что много читаете…
Воцарилось неприятное молчание. Шнайдер вопросительно уставился на Лялю, требуя объяснить ему такую внезапную перемену настроения. Ресницы Ляли трепетали, словно крылышки мотылька. Она никак не могла подыскать ответ. Наконец нашлась! Ляля решила сказать правду, но так подать ее, чтоб и Альфреда не обидеть, и себя выгородить.
— Уляныч ругает их за то, что они громко смеются. Неприлично так вести себя в вашем присутствии, раз вы не понимаете по-украински. Он говорит, что в Вене люди вели бы себя приличнее.
— Никс, никс![55] — горячо запротестовал Альфред, раскланиваясь во все стороны, что должно было означать: «Продолжайте, продолжайте, я не имею ничего против».
Поведение Альфреда развязало язык Костику:
— Что это ты, человече, встал в позу попа и читаешь нам проповедь? Разве мы против него потому, что он немец? Будь хоть турком. Досадно только, что затесался к нам, испортил удовольствие и девушку нашу отбивает…
— Как это «отбивает»? — сквозь зубы процедил Стефко, ожидая от Ляли возражений. Она в самом деле подмигнула ему.
— Да… не женится на ней, а ходит, как телок за коровой. Вы, Ляля, отведите этого бычка за ограду, заприте в доме и возвращайтесь к нам. А ты уже испугался?
— Оставь меня, пожалуйста, в покое! — буркнул Стефко.
Весь вечер он был в плохом настроении. Трудно было предположить, что он ревнует Лялю. Скорее он просто злился, что чужой человек, приблуда, можно сказать, крадет у него Лялино время и внимание.
Стефко, верно, надеялся, что девушка при ее сообразительности сумеет подкинуть Шнайдера старикам-родителям, а сама вырвется хоть на часок. Но этого не произошло.
Шнайдер и впрямь ходил за ней, как телок за коровой. Наконец Ляля, не обращая внимания на Стефка, заявила всем по-немецки, чтобы понял и ее спутник:
— А теперь прощайте, мы с Альфредом пойдем и сыграем с моими родителями партию в бридж… В Вене существует милый обычай — правда, господин Альфред? — после ужина играть в карты… разумеется, в семейном кругу.
Данко, провожавший в этот вечер Дарку до дому, не мог прийти в себя — так возмутило его поведение сестры.
— Не понимаю, для чего она затеяла игру? Почему не скажет этому идиоту Стефку, что Шнайдер вовсе не «друг нашей семьи», а ее жених? Это же нечестно! В конце концов, это подло!
Дарка ужаснулась.
— Тем более, — продолжал Данко, — что Ляля сама женит его на себе. Немцу хотелось заполучить женушку с капитальцем, а тут наша Ляля попалась ему на глаза, а потом проникла и в сердце. Вот он и колебался полтора года, никак не мог отважиться, как говорят: сам не гам и другим не дам. Тогда мою сестричку осенила «идея», — иронизировал Данко, — припугнуть его Стефком, и, как видишь, помогло. Альфред тотчас приехал, и теперь они скоро поженятся.
— Господи! Что же будет со Стефком?
— А что может быть? Почему он не послушал меня?
Я же намекал ему. Не прямо, конечно, но достаточно прозрачно… Я говорил ему: «Оставь в покое мою сестру, все равно из этой муки хлеба не выйдет». А он? Декламировал в ответ стихи о любви. Вот и получил по заслугам… «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». Он еще должен поблагодарить сестру — ведь это она уговорила его записаться на богословский. Почему ты загрустила, моя маленькая? Разочаровалась? Не думала так плохо о моей сестре? Да?
Да! Она никогда не допускала мысли, что эта порхающая, как мотылек, щебетунья Ляля может оказаться столь лицемерной.
Дарка никогда не испытывала большой симпатии к Стефку. С детских лет он казался ей чересчур спокойным, чересчур хорошо воспитанным, вялым, — одним словом, пресным, как непосоленная рыба. Но теперь всеми мыслями, всем сердцем она была на стороне Стефка.
Бедный, бедный Стеф! Он ушел домой внутренне беспечный, недовольный лишь тем, что немец отнимает у Ляли время, принадлежащее только ему, Стефку. Юноше даже в голову не приходит, что этот немец забирает у него из-под носа любимую девушку.
Дарке хотелось предупредить товарища, но разум подсказал другое. Что может измениться от этого? Абсолютно ничего! Только у Стефка будет на одну спокойную ночь меньше.
Утром Дарка не успела еще позавтракать, как прискакала Орыська. Прибежала запыхавшаяся, специально для того, чтобы поделиться радостной новостью: наконец-то Ляля отказалась (Орыська сказала «отвязалась») от Стефка!
— Мы все так рады, так рады, я не выдержала и побежала к тебе. Знаешь… такая… новость… свадьба в Веренчанке! Возможно, из Вены приедут его родные… И ты… Ох, ах… даже голова закружилась!.. Мы с Софийкой уже заявили дома — пусть Дмитро и папа где хотят достают деньги, но наши туалеты должны затмить венские моды… Гицам надлежит покорить Вену… У нас дома такой переполох, отец озабочен, где достать наличные. Дмитро, как обычно, против. У мамы от всего этого разболелась голова. Софийка собирается в Черновицы, хочет привезти портниху — ведь не остается времени ездить на примерки. А я удрала из дому…
— Погоди, погоди! — Дарка не может прийти в себя от обрушившегося на нее ливня слов. — А как Стефко? Как он переживает все это?
— Стефко? Подумаешь! Поделом дураку! Впредь будет умнее… Пока «казак не ест, не пьет, только белы ручки ломает», но это все пройдет, до свадьбы заживет!
— Вы и его хотите тащить на Лялину свадьбу?
— А как же иначе? — Орыська прищурила злые, кошачьи глаза. — Софийка не хочет, чтобы из-за его глупого романа мы стали притчей во языцех… Ни малейшего скандала, ни малейших оснований для сплетен… Отец прикажет Стефку присутствовать на свадьбе, и он пойдет… Даже будет петь на хорах во время венчания… Увидишь!
Дарка слышала, что и у Данилюков тоже лезли на стены от радости. Мать, по словам Данка, помолодела на десять лет. Ляля после разговора со Стефком с полчаса ходила печальная, а теперь снова тараторит и вертится по дому, как юла.
На фоне общей радости в семьях Подгорских и Данилюков страдания Стефка выглядели скорее смешно, чем серьезно. Он напоминал комического героя, трагическим переживаниям которого никто не сочувствует.
Все, и дети, и родители, жили под впечатлением близкой свадьбы, назначенной на двадцать третье августа.
Сам Подгорский поехал в Черновицы, к митрополиту, за разрешением обвенчать молодых ускоренным порядком, то есть второе и третье оглашения сделать в день свадьбы. Подгорские не менее Данилюков были заинтересованы, чтобы брак Ляли с Альфредом поскорее стал фактом.
Софийка тоже съездила в Черновицы, привезла оттуда портниху, которой, по рассказам Орыськи, надо было каждый день подавать к обеду торт и мороженое.
Ляля, оставившая за собой право командовать, потребовала, чтобы во время брачной церемонии пел хор нашей «братии».
Гостей пригласили столько, что пришлось отвести под свадебный банкет все четыре класса. Мать Данилюков ходила по селу с двумя деревенскими девушками и собирала ковры, скатерти, занавески, столовую посуду, вышитые рушники, вазоны, — одним словом, все необходимое для сервировки стола и украшения комнат. Это не вызывалось необходимостью, просто Лялина мама хотела поразить богатым убранством мать и тетку Альфреда, которые должны были прибыть на свадьбу самолетом.
Никто из обитателей Веренчанки до сих пор даже издали не видал самолета, и вот народу представился случай хотя бы поглядеть на людей, прилетевших в Черновицы из самой Вены.
Госпожа Данилюк жаловалась веренчанским дамам, что все это так «внезапно», так «неожиданно» случилось, что она даже не успела как следует приготовить дочери приданое. Но все знали, что это комедия.
— А как же Стефко? — всякий раз приставала Дарка к Орыське. — Почему никто не обращает на него внимания? Он ходит такой страшный… я даже боюсь — ты слышишь? — чтобы он не сотворил с собой что-нибудь…
— Ты имеешь в виду, что он вскроет себе вены или повесится? Стефко этого не сделает…
— Почему ты так уверена?
— Ведь это скандал, а мой брат слишком хорошо воспитан, чтобы устраивать скандалы… Уж я-то знаю своего брата!
Поповичи тоже были приглашены на свадьбу. Мама, которую Даркины неприятности в гимназии, а затем история отца с сигуранцей заставили позабыть, что она молода и красива, теперь словно пробудилась от зимней спячки.
Она подошла к зеркалу, поглядела на себя слева, справа, стянула платье в талии и решила, что ей еще не к лицу появляться на свадьбе золушкой.
О новых туалетах (как у Подгорских) не могло быть и речи. Мама вытащила из шкафа старые вечерние и другие платья, с разрешения бабушки прибавила к ним ее бальные туалеты и задумалась: как превратить этот ворох старого шелка и пожелтевших от времени кружев в два элегантных вечерних платья для себя и дочери?
Дарке шел семнадцатый год, а на вид можно было дать все восемнадцать. Девушка первый раз появлялась «на людях», а это не шутка.
Бабушка любила выходить с честью из безвыходных положений (иногда это ей удавалось, иногда не очень). Вот и теперь, когда мама стояла, заломив руки, перед грудой старых вечерних платьев, старуха вдруг заявила с лукавой улыбкой, что у нее есть кое-что для внучки.
Этим «кое-чем» оказалось чудесно сохранившееся (даже мама не имела о нем понятия!) бальное тафтовое платье цвета морской волны с колоссальными буфами, отороченное золотым, слегка потускневшим от времени кружевом.
Дарка натянула на себя платье, и выяснилось, что бабушка в молодости была лишь немного тоньше в талии. Старуха подобрала Дарке волосы, и та, поглядев в зеркало, ахнула от восторга.
— Вот и свалилась с твоей головы забота, — утешала бабушка маму, потирая руки от удовольствия. — Ну, что, детки, пригодилась на что-нибудь и старая мама, а? Что ж ты молчишь?
Бабушке, конечно, хотелось услышать похвалу из маминых уст, а та в раздумье поглаживала пальцами лоб.
— Видите ли, мама, платье прекрасное… Дарке очень идет… но… но… она не может появиться в нем без переделки.
— Это почему же, хотелось бы мне узнать? Что ты думаешь здесь переделывать? Немного выпустить в талии — с этим я и сама справлюсь… А больше не вижу необходимости что-либо переделывать.
— Мама, пожалуйста, поймите меня: нельзя… теперь никто не носит такие буфы… Девочка будет выглядеть в нем как огородное пугало. — Мама забылась и произнесла лишнюю фразу.
С бабушкой произошло нечто неслыханное: она вдруг вся преобразилась. Глаза заблестели, потом покраснели, губы втянулись, подбородок задрожал, и по щекам полились слезы.
— Может… и я уже стала пугалом? Может, и я уже не модна для вас? Так скажите мне, а то я не знаю, что модно, а что Не модно!..
Мама бросилась к бабушке. Как девочка, упала на колени и стала покрывать горячими поцелуями сухие, морщинистые руки.
Потом мама угостила всех вареньем. Бабушка сидела на почетном месте, и ей на блюдечко накладывали самые большие порции. Вопрос с платьем был разрешен компромиссно: буфы можно заменить рукавчиками-крылышками, а поблекшие золотые кружева — белым газом.
Папа попросил его преподобие купить в Черновицах новый черный галстук-бабочку для фрака, — тот, в котором папа венчался, слегка порыжел.
— А этот я буду хранить уже до свадьбы своих дочек, — шутил папа.
Сам собой возник вопрос, что дарить молодым. Будь в доме деньги, все разрешилось бы очень просто, а так надо было придумать что-то эффектное и недорогое.
Мама и бабушка долго совещались и наконец решили: бабушка испечет «свой» торт (триста граммов миндаля сладкого, триста горького), а разукрасить торт попросит Рузю — кухарку помещика. Она такой мастер, может вылепить на торте что угодно — цветник, замок, медведя, а то и человека. Бабушка посоветует ей сделать башню церкви св. Стефана в Вене. Такой подарок привлечет всеобщее внимание. А чтобы у Ляли, кроме торта, который съедят гости, осталось что-то на память, мама поднесет ей торт на полотенце, расшитом селезнями.
Папа, до сих пор не принимавший участия в предсвадебной дискуссии, тут взял слово:
— Что касается торта с башней Штефанскирхе, я согласен. Каждому свое. А что касается полотенца с селезнями — протестую. Это полотенце — подлинное произведение искусства, а они ничего не смыслят в нашем народном искусстве, не любят его… Подаришь полотенце госпоже Шнайдер, а у нее на кухне станут вытирать им тарелки.
Эти слова убедили маму. Она подошла к папе, потрепала его по щеке, сказала:
— Ты прав…
В субботу накануне свадьбы по селу пронеслась новость: из Вены «прилетели» мать и тетка жениха. Санда собственными глазами видела, как пролетка въезжала на школьный двор. Надо сказать, что Санду разочаровал вид гостей. Она представляла себе бог весть кого, а в пролетке сидели две седые дамы, одетые в черное, как жена арендатора в шабес[56].
Венчание было назначено на воскресенье в пять часов дня. Как и положено, приглашенные прежде всего направились в церковь. Дарка с родителями пришли, когда там было битком набито.
Церковный староста шнырял в толпе и вылавливал за уши мальчишек.
— Чего толчетесь? Кто вас здесь не видал? Прибежали прямо с навозной кучи, воздух портите, а потом у господ головы болят. Ступайте, ступайте во двор, надо будет — позовут…
Церковь находилась всего в нескольких шагах от школы, но молодых пришлось ждать долго. Дарка несколько раз выходила проветриться. За исключением Данка, который был шафером, хор «братии», подкрепленный двумя тенорами и одним альтом из сельской молодежи, томился на клиросе. Орыська не ошиблась: Стефко стоял среди певчих. В новом черном костюме, бледный, с темными кругами под запавшими глазами, он напоминал монаха.
Но вот от ворот долетел шум. Мальчишки, которых церковный староста выпроводил за уши, снова проскочили в церковь, как мышата в щель.
Послышались голоса: «Идут, идут!» Гости, вышедшие подышать свежим воздухом, потянулись в церковь, чтобы не толпиться впереди молодых.
Ляля в белом облегающем платье чуть ли не до подбородка, окутанная молочной фатой от бровей до каблучков атласных туфель, с гроздьями мелких белых цветов на висках, казалась снегурочкой из сказки.
В руках она держала большой букет белых роз, среди них зеленели веточки аспарагуса. Ляля стояла прямо и неподвижно, как статуя. При свете восковых свечей ее лицо казалось мраморным. Ни единая морщинка, ни единая гримаска не нарушали его идеальной гладкой поверхности.
Альфред выглядел сонным. Казалось, он совершенно равнодушен к происходящему вокруг. Немец напоминал послушного пациента, который делает все, что ему прикажет врач, и ничему не удивляется.
На матери и тетке Шнайдера были дорогие платья из тафты стального цвета. Важные седые дамы с золотыми цепочками вокруг шеи и бриллиантовыми брошками на груди отличались от всех своей напыщенностью.
Когда священник спросил Лялю: «А раньше ты никому не давала слова?» — по церкви пронесся шепот.
— Нет, — твердо и громко ответила Ляля, словно возражая шепоту за спиной.
Альфред всякий раз, как ему надо было произнести «да» или «нет», сообразуясь с текстом вопроса, смотрел на невесту, и она ему подсказывала ответ.
— Ничего себе символ, — шепнул отец матери, достаточно громко, чтобы услышала Дарка.
Церемония бракосочетания закончилась. Священник Подгорский провозгласил, что отныне Альфред и Ляля — муж и жена перед богом и людьми. Начались поздравления. Первыми подошли родители, потом родственники, а затем потянулись ближние и дальние знакомые.
Подошла и Даркина очередь. Ляля, которая со многими целовалась, только чмокая воздух, вдруг прижалась щекой к Даркиной шее:
— Не думай… плохо обо мне…
Стефко отказался поздравить молодых. Его кольцом окружила вся семья — мама, папа, сестры, — и каждый на свой лад (мать, например, пожирала сына грозными цыганскими глазами) уговаривал его не позорить семью и поздравить молодоженов.
Он же стоял неподвижно, как телеграфный столб. И только когда молодые скрылись за церковной оградой и поздравлять уже было некого, Стефко поплелся за свадебным шествием.
Праздничный стол растянулся через коридор на два зала. На нем красовались все запасы серебра, фарфора и хрусталя, собранные среди веренчанской интеллигенции. Перед каждым прибором лежало красное яблочко с воткнутой в него карточкой, на которой красовалась фамилия гостя. Края скатертей во всю длину стола были увиты гирляндами хвои. От хвои, от спелых яблок пахло рождеством.
Дарке досталось место в первом зале, между Костиком и Мирославом Равлюком.
Мирослав был Лялиным гостем. Ей очень хотелось, чтобы среди приглашенных были «лучшие люди», то есть люди со званием или состоянием. Равлюк попал в число приглашенных как сын фабриканта, только для того, чтобы Ляля, представляя его венским гостям, могла сказать: «Герр Равлюк, сын фабриканта».
На почетном месте, как принято, сидели молодые. Ляля слегка удивленным, меланхолическим взглядом осматривала гостей, словно не понимая, зачем собралось столько народу.
Альфред, как видно сильно проголодавшийся за время церемонии, теперь насыщался с истинно немецким аппетитом. Медленно, наслаждаясь, словно дегустатор, он поддевал вилкой мясо, накладывал сверху какую-либо острую приправу и осторожно, чтобы не измазать белоснежную салфетку, разложенную на коленях, отправлял все в широко открытый рот.
Когда провозглашали тост за молодых, Альфред поднимался, вытирал губы салфеткой, кланялся и тотчас же принимался за еду.
Старый Данилюк переводил зятю тосты (с украинского на его родной немецкий). Шнайдер еще раз кланялся, но уже менее торжественно.
Тостов было много, и после каждого невесте приходилось пригубить рюмку. Наиболее дерзкие из гостей, произнося тост, требовали, чтобы Ляля пила до дна.
— До дна! До дна! — горланили они до тех пор, пока, молодая не опрокидывала рюмку вверх дном.
В результате вскоре опьянели не только гости, но и Ляля. На щеках заиграл румянец, глаза блестели, она щебетала и смеялась. Наконец, вопреки обычаям, невеста вышла из-за стола и принялась организовывать застольный хор. Юноши грянули «На кедровом мосту», а выводя: «Гоп, пчех-уха-ха», так ухнули, что от сотрясения воздуха на носу у старухи Шнайдер задрожало золотое пенсне. Лялиной свекрови явно не понравилось поведение невестки. Несколько раз она незаметно, движением бровей, старалась вернуть Лялю на ее место рядом с мужем. Но невестка даже не глядела в ту сторону. Она была занята Стефком. Ей, видно, очень хотелось поговорить с ним, но юноша явно избегал этого.
Пани Данилюк совершенно не огорчало поведение дочери. В церкви только что завершился акт передачи девушки Шнайдерам, и мать была не только на седьмом небе от счастья, но чувствовала себя свободной от всякой ответственности за дочь.
Она сама рассказывала Даркиной и Орыськиной матерям о том, какое счастье выпало на долю ее дочери. Ляля, мои милые, заполучила в мужья не только коммерческого советника с виллой, но и готовое приданое. У Альфреда была сестричка. Барышне шел двадцать первый год, у нее был жених, но перед самой свадьбой девушка заболела скарлатиной и умерла. Можете себе представить, мои дорогие, какой это был удар для бедной матери! А теперь все приданое, — а вам не надо объяснять, какое приданое готовят богатые немки своим дочерям, — по желанию матери, уважаемой фрау Амалии, достанется жене ее сына.
Все, все, от мехов до коврика у входной двери, найдет Ляля в своем новом доме.
После двенадцати ночи невеста сняла фату, переоделась в темное платье и стала «дамой».
Венок с фатой по очереди надевали девушки. Всякий раз оркестр сопровождал это вальсом, и девушка в фате проходила несколько туров с тем, кто приглашал ее. Существует поверье, что первая надевшая венок после невесты первой в этом году выйдет замуж. Ничего удивительного, что Орыська была этой первой. Пражский пригласил ее на «девичий вальс», и она, не имея права отказаться, с кислой миной закинула ему руку на шею.
Орыськиным соседом за столом оказался молодой офицер пограничной заставы, с блестящими кудрями и маленькими черными усиками, которого Данилюки по различным соображениям политико-дипломатического характера не могли не пригласить. Орыська все время кокетничала с ним, надеясь, что именно он пригласит ее на «девичий вальс».
Девушки спешили замуж, и Даркина очередь подошла не скоро. Надевая венок на голову, она подумала: «Если меня пригласит на вальс Данко, значит, пути наши когда-нибудь сойдутся, а если Равлюк, то мечты мои напрасны».
Данко уже стоял перед Даркой, склонив голову.
Счастливая, она протянула ему руки, обняла за шею, и тотчас все закружилось — и стены, и столы, и люди, сидевшие за ними. То ли цыгане играли так, словно сам черт водил их смычками, то ли пол от воска стал скользким, как каток, то ли оба они немного захмелели, но Дарке казалось, что она падает, потом отталкивается и снова летит ввысь… ввысь… ввысь…
И не держи ее Данко за талию, она, может быть, и впрямь полетела бы под потолок.
— Погляди мне в глаза, Даруся! Я хочу прочесть в них, что ты все мне простила… Почему ты отворачиваешься? Я знаю, девочка, что не всегда был с тобой таким, как нужно, моя добрая, моя маленькая любовь…
«Он пьян, но… Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А этот пьяный язык говорит такие милые сердцу слова».
— Дарка, ты не сердишься на меня?
Девушка не успела возразить — из коридора долетел шум, возгласы, и музыка оборвалась.
Гости ринулись из танцзала к выходу, но людская волна, катившаяся из коридора, захлестнула их и водворила обратно. Посреди зала образовался круг, в нем стоял пьяный человек небольшого роста, всклокоченный, с разинутым губастым ртом. Он водил вокруг отупевшим взглядом, идиотски улыбаясь. Галстук сбился на сторону, пиджак был в известке, а сам человечек едва держался на. ногах.
— Кто это? Кто? — шептались гости.
Дарка протиснулась к отцу, чтобы спросить у него.
Папа, белый как снег, шепнул:
— Вернулся Манилу.
А тот, набычась, шел в лобовую атаку на людей, сбившихся в углу между столом и печью. Альфред героически заслонил собой мать и тетку. Ляля стояла рядом, держась за его руку. На лице ее был не страх, а лишь острое любопытство.
Манилу медленно, словно вел психическую атаку на дамские нервы, продвинулся к столу и со всего размаха стукнул по нем ладонью. Женщины ахнули, а у Ляли лишь слегка вздрогнули веки. На миг обезьянье лицо грозно застыло, и вдруг раскатистый пьяный смех расковал его. Орангутанг со сбившимся на сторону галстуком вдруг приобрел на диво человеческий облик. Его, пожалуй, можно было назвать нормальным, если б не пьяные, помутневшие глаза.
— Что, испугались? Бойтесь, бойтесь! Я… того… люблю, когда меня боятся… Так должно быть… по… по… роду службы… вы должны меня… бояться. Хорошо… очень хорошо… ха-ха! Директор празднует свадьбу, а своего сослуживца, свинья… не приглашает… Эй, директор, иди-ка сюда и объяснись: почему ты не пригласил меня на свадьбу? Приказываю тебе… иди сюда… Ты директор… но слушаться должен меня… га-га-га!.. Ну, директор, так почему ты не пригласил меня на свадьбу? Потому, что Штефан Манилу румын? Да? Ну, говори: потому, что румын, да? Сейчас мы запишем, что директору Данилюку не нравится румынская нация. Сейчас… А вы чего вытаращились? Запишем и вас… Погоди ты, кудрявый, ты чего меня испугался? Что я, черт с хвостом? Гляди… где у меня хвост? А, — он ударил себя ладонью по лбу, — вспомнил, вспомнил… У вас совесть нечиста, вот вы и боитесь меня… Запишем, запишем: «нечиста политическая совесть»… га-га!.. А почему меня никто не угощает? Эй ты, молодой, как тебя там?! Угощай гостя… Ты не гляди, что я не приглашен… Я, Штефан Манилу, могу заткнуть за пояс всех приглашенных баранов… Га-га-га!.. Ведь я… Кто вспомнит, кто я?
— Хам, подлец, вот кто ты! — крикнул Уляныч, посеревший от гнева.
Манилу вылупил глаза. Смелость Уляныча так потрясла его, что он не нашелся, что ответить.
Софийка кинулась к мужу, раскинув руки крестом, преграждая дорогу к Манилу.
— Софийка, пусти меня! Вот перед вами, уважаемые гости, символ судьбы нашего народа на Буковине… Явился в наш дом, плюет нам в лицо, а мы молчим, как стадо баранов!.. Софийка, пусти меня, я ему…
Его преподобие зашел сзади, схватил Уляныча за обе руки.
— Ты пьян, — сказал он громко и шепотом добавил: — Ты хочешь погубить нас всех?.. Софийка, уведи его на кухню и дай черного кофе, ведь он совсем не в себе…
— Неправда… я в здравом уме… Не затыкайте мне рот, отец, не бойтесь… Я ничего больше не скажу… Трусы вы все, трусы!
Но его преподобие, не выпуская рук Дмитра, уже вел его к двери.
С Манилу слетел хмель, и он, словно испугавшись своей трезвости, ринулся к недопитым рюмкам и принялся опрокидывать одну за другой себе в глотку.
— Кофе дайте ему, — Манилу снова обрел дар речи. — Кофе дайте ему, черного кофе, чтобы не пугал больше людей… Га-га!.. Почему не смеетесь? Га-га!.. Он напугал Штефана Манилу… А почему молодая не за столом, я спрашиваю? — вцепился он в Дарку. — Почему ты не рядом с мужем?
— Это не молодая, Манилу, это моя дочь, оставь ее в покое.
— Твоя дочь, Попович? Иди сюда, я тебя поцелую за то, что она твоя дочь. Попович, ты меня презираешь, ведь я… доносчик, да? Ты, верно, думаешь, что доносчиком легко быть? Легко-о? Мне говорят: давай факты, а где… я возьму факты? Фактов нет! Ха, а откуда взять, если нет? Попович, где ты берешь деньги, когда у тебя их нет? Говори правду… Ты знаешь, что мне надо говорить только правду… это твоя дочка? А почему она в фате? Попович, а может, ты врешь и она вовсе не твоя дочь? Почему они все встали? Почему не пляшут? Не умеют плясать? Тогда я сейчас спляшу!.. Эй, освободите столы… Сейчас я буду на столе гору[57] плясать…
Да, видно, не судилось ему сплясать гору на столе. Офицер заставы, тот самый, с которым весь вечер кокетничала Орыська, вошел в комнату, привлеченный шумом. Поняв, в чем дело, он схватил Манилу за шиворот, поволок к двери и, угостив пинком, вышвырнул в темень ночи, не заботясь о последствиях. Для полного спокойствия он запер дверь. Потом вытер платком руки, поправил мундир и извинился перед Данилюками за «неудачное выступление» своего земляка.
Директор тоже просил гостей забыть «маленькое недоразумение» и продолжить празднество, но никому уже не хотелось веселиться. Ради приличия гости посидели еще с полчасика и разошлись.
Двумя днями позже Ляля уезжала в Вену. Дарка даже не пошла провожать ее. Бессовестное предательство Ляли лишило ее в Даркиных глазах не только симпатии, но и уважения. Девушка больше не верила ни Лялиным словечкам, ни тем более слезам. Даркина память сохранит образ изменчивого мотылька, которому она обязана не одной хорошей минутой, но мотылек этот не будет иметь ничего общего с фрау Элен Шнайдер.
Вскоре после Шнайдеров уехали и Улянычи с Орыськой.
Накануне их отъезда Дарка провела полдня у Подгорских. Последний раз они вместе ужинали в беседке, последний раз бродили по аллеям сада, последний раз любовались с холма прудом, в котором, как в зеркале, отражался закат.
И только когда Уляныч предложил Дарке проводить ее домой (Софийка и Орыська паковали в дорогу мелочи), девушка поняла, что Дмитро и был той единственной силой, что так долго удерживала ее у Подгорских.
С момента его бунта на Лялиной свадьбе Дарка прониклась к нему чувством какой-то особой близости. Она думала о той дорожке, по которой он сам направил свою жизнь. Не женись Дмитро на Софийке Подгорской, все у него сложилось бы иначе. Но что поделаешь! Он мечтал об этой женитьбе, как о самом большом счастье, теперь же воюет со всей семьей, а они откровенно потешаются над ним. Среда засасывает его, как трясина, а он лишь размахивает руками…
Дарка и Уляныч шли молча. Казалось, все, что можно сказать, было сказано в беседке за столом, в саду, на берегу пруда. Теперь только шли и пережевывали собственные мысли.
— Пойдем по дороге или напрямик, через перелаз? — спросил Дмитро.
— Через перелаз, — не думая ответила девушка.
Молчание Уляныча не только разочаровало ее, но в какой-то мере и обидело. В глубине души она надеялась, что он раскроет ей свое сердце.
— Хорошо, — лаконично согласился Уляныч.
Когда миновали кузницу и свернули на дорожку, ведущую в рощу акаций, перед ними вдруг возникла картина: на завалинке хатки, по окна вросшей в землю, сидела не старая еще женщина и билась головой о стенку, причитая во весь голос. Муж стоял рядом и лишь шевелил губами. Он был трезв, но казался не совсем нормальным. При каждом новом взрыве рыданий мужчина силился что-то произнести, делал робкое движение рукой и этим ограничивался.
— Зачем отдал? Зачем отдал, спрашиваю? Чего ты испугался? Ой, не могу!.. Ой, помру!.. Чего ты испугался?.. Тюрьмы? Тебе страшна тюрьма? Тебе? Ох, не могу… Ох, помру на месте!..
Уляныч подошел совсем близко, но женщина все еще не замечала его. Пришлось окликнуть:
— Что случилось? Что вы хотите от мужа?
Услышав голос постороннего человека, женщина опомнилась, перестала рыдать, быстро запахнула сорочку на груди, заправила под фез растрепавшиеся волосы.
— Черти б его побрали! Работал, прошу прощения, на винокурне… Работал, работал… Наконец я говорю: «Поди попроси, что тебе причитается, а то больше нет мочи терпеть… Ребята голодные…» Вот он и пошел… Лучше бы он за своей смертью пошел! Пошел… Я еще ему наказала: «Пойдешь по тракту — купи соли у Кивы». Он и завернул за этой солью… Лучше б у него ноги отнялись у порога! Вот и застукал его там этот Манилу, или как его там зовут… Увидал у моего деньги и потребовал: «Отдай, а то наложу штраф за то, что твоя собака хотела покусать моего ребенка…» А какая же у нас собака? У нас кота и то нет, не то что собаки… Ведь ее кормить надо… Мой уверяет, что нет никакой собаки; что дети дома мамалыги ждут, а тот возьми и скажи: «Сейчас отдай все деньги, не то худо тебе будет», а этот дурак возьми да и отдай… Там, говорит, кроме Манилу, еще два жандарма стояли… А что тебе жандармы? Что они с тобой сделают?.. В тюрьму посадят? Пусть сажают всех вместе, может, хоть там перезимуем… Зачем ты отдал? — снова вцепилась она в мужа. — Скажи, зачем отдал?.. А то сейчас конец тебе придет!.. Для чего отдал? Чем я теперь голодные рты накормлю? Чего ты испугался? Тюрьмы? Тюрьмы испугался?
Уляныч, краснея, пошарил по карманам, сунул женщине в руку несколько банкнот и, словно стараясь побыстрее удрать от этого места, потянул Дарку за собой.
— Да, — проговорил он, когда они отошли подальше, — это совесть наша повстречалась с нами и заговорила. — Уляныч собирался закурить, но, не найдя спичек, так и держал незажженную сигарету в зубах. — Народ страдает, переживает трагическую эпоху, а чем занимаемся мы, славная его интеллигенция? В данном случае веренчанская интеллигенция? Чем занимались мы все лето? Вот только что мы видели, как билась головой об стенку женщина, которую среди бела дня ограбили представители власти. Сколько таких ограбленных, обиженных, угнетенных? А мы с вами? Мы на целых два месяца забили себе головы проблемой: кого выберет Ляля — Альфреда или Стефка? Какими убогими, какими ничтожными, какими никчемными кажутся все эти наши личные «страдания» перед лицом народного горя! Да, если б мы могли взглянуть на жизнь с вершины ее общественного развития, наши радости и заботы предстали бы совсем в ином свете… Оторвались мы, Дарка, от народа… Не связаны с ним реально, для нас понятие «народ» сводится к каким-то идеалистическим страданиям. Но народу нужны не наши интеллигентные терзания, а конкретная помощь… руководство… организация протеста и борьбы, а этого пока наша интеллигенция ему дать не может… Ибо каждый из нас связан государственной должностью и во имя этой должности, этого хлеба, обязан равнодушно взирать на сцены, подобные той, что мы только что видели. Знаете, — он остановился и неожиданно крепко сжал ее руку, — для дела было бы в десять раз полезнее, если б большинство интеллигенции ходило без работы!.. Но наши «друзья» хитры: они купили нас за кусок колбасы, нас, интеллигенцию, а с народом… видите что вытворяют… А мы если и протестуем, то лишь шепотом: ведь я, ваш отец, Данилюк — все мы на государственной службе, малейший голос протеста — и мы лишимся ее.
— Ну, зачем вы так расстраиваетесь, Уляныч?
— Не жалейте меня! — отрезал он грубо. — Жалейте эту женщину, ведь у нее отняли последние гроши, а она на них собиралась купить мамалыгу детям… «Так расстраиваетесь»! В том-то и дело, что мы чересчур спокойны, слишком уж глубоко запрятана наша совесть! В этом-то и дело…
Внезапно он умолк, бессильно выпустив Даркину руку.
— Вы влюблены, — заговорил он вскоре, но уже совершенно иным тоном, — вам хочется любить, мечтать, верить, надеяться, а я завел разговор бог знает о чем… К тому же вы еще ребенок! Но мне бы очень хотелось, чтобы в вас всегда говорил голос совести… как у Локуицы… А теперь разрешите мне помолчать.
Когда дошли до ворот и надо было прощаться, Уляныч сжал Даркину голову ладонями и трижды поцеловал в лоб.
Дома папа спросил:
— Почему ты так печальна, доченька? Нелегко, видно, прощаться с каникулами?
— Папа, ты думаешь совсем не о том, — ласково возразила Дарка и тотчас спросила: — Папа, а где теперь может быть Локуица?
— О, да! — отвечая на ее мысли, проговорил папа. — С этого человека ты во всем можешь брать пример.
После отъезда Улянычей Данко сблизился с Костиком и Пражским. Возникла чисто мужская компания. Дарка осталась одна.
Да и времени для прогулок не было. Шла подготовка к отъезду.
Вначале предполагали, что в Черновицы поедет мама, запишет Дарку в гимназию и, воспользовавшись случаем, отвезет ее постель и зимнее пальто на новую «станцию». Но когда дошло до дела, поехал все-таки отец.
Дарка с нетерпением ждала его возвращения. Очень хотелось узнать, какова новая «станция». Правда, мама успела подробно рассказать, но девушке казалось, что это скорее воспоминания о днях маминой молодости, ведь теперь там, наверно, все по-другому.
Не успел отец перешагнуть порог, как мама вскрикнула не своим голосом:
— Что с тобой? Заболел?
Отец попробовал ободряюще улыбнуться. Он, бедняжка, не ожидал, что домашние поймут все с первого взгляда.
— Успокойтесь… ничего особенного… Сейчас все расскажу, только дайте мне попить… Нет, не хочу воды. Дочка, дай мне стакан холодного молока… А… а… спасибо… Так вот, ничего страшного… Дарку не приняли в гимназию…
— Как это не приняли? Почему не приняли? — Мамино лицо пошло красными пятнами.
Отцу трудно было что-либо объяснить. Больно говорить о вещах, ставших уже неопровержимым фактом. Да и что непонятного в такой, казалось бы, простой фразе: «Дарку не приняли в гимназию»?
Мамины глаза, мамин рот, мамины руки, вся ее фигура ждали пояснений.
— Так вот, — снова начал отец, — составили новые списки. Принимают не всех… Из Даркиного класса не приняли Ореховскую, Сидор, Романовскую… и еще кого-то, не помню фамилии…
— Как это не приняли? Я спрашиваю тебя толком, что значит не приняли, а ты перечисляешь фамилии. — Голос мамы звучал раздраженно.
Отец виновато пожал плечами:
— По-моему, я сказал ясно… Дарке и тем, кого я назвал, министерство просвещения вообще запретило посещать школы на Буковине… Они могут учиться только в регате…
— А в мужской гимназии? — вмешалась бабушка, словно это могло хоть в какой-то мере облегчить Даркину судьбу.
— Не знаю точно, слышал, что еще хуже… Говорят, половину отсеяли…
«Данко остался. Таких, как он, не отсеивают». И вдруг в Даркином сердце вспыхнул злой огонек, но она мигом погасила его.
Дарка боялась, что маму свалит такой удар, а все получилось точнехонько как в басне про медведя: когда на него падает ветка, он ворчит, а когда полено, то молчит. Молодчина мама, молодчина!
— Ну что ж, — сказала она, обнимая отца за шею, — головой стену не прошибешь. Раз нет иного выхода, Дарка останется дома.
— Как это «дома»? Перестать учиться? — спросила дочка дрожащим от слез голосом.
— Что ты понимаешь под словом «дома»? — спросил и отец, деликатно высвобождаясь из рук жены.
Мама пояснила:
— Во-первых, как же я отдам ее чужим людям? Во-вторых, допустим даже, что Дарка окончит гимназию, а дальше что? Где гарантия, что тебя до тех пор не выгонят с работы и ты сможешь помочь ей закончить университет? Допустим, Дарке даже удастся закончить университет, а что дальше? Все равно она не получит работы и будет сидеть дома с дипломом… Так уж лучше пусть сидит без него…
— Ох, жена, — отец обеими руками вцепился в свои сильно поредевшие волосы, — неужели ты думаешь, что эта беда будет длиться вечно? Неужели ты про себя в душе… в душе, — отец ударил себя кулаком в грудь, — не веришь, что наступят перемены? Да если б я думал, что у нас никогда не будет свободы, я не мог бы жить! Тогда надо повеситься на сухой вербе, ведь у меня есть еще один ребенок… Я, — закончил он уже спокойно, — думал, что твой политический кругозор шире…
— Дело не в политике, — резко возразила мама, — я, как женщина, как мать, практически подхожу к делу, а ты, — махнула она рукой, — как был мечтателем в студенческие годы, таким остался и в старости…
— А теперь послушайте, что я вам скажу, — вмешалась в разговор бабушка. — Раз на то пошло, Микола, так пусть Дарка в самом деле остается дома… Погоди, не перебивай меня, ты еще не знаешь, что я хочу сказать… Дарка останется дома, а деньги, которые мы собирались тратить на нее, станем откладывать… Потом Дарка подучится немного, так, для отвода глаз, и мы купим ей аттестат зрелости. Что? Что ты скажешь на это? — Бабушка взглянула на отца сияющими глазами.
— Мама, вы ей купите диплом, а не знания… А я не хочу, чтобы моя дочь была неучем. Вот что я скажу вам, мама!
— «Знания, знания»! — передразнила обиженная бабушка. — Постыдился бы такое говорить! Да их знания принесут ребенку больше вреда, чем пользы. Скажет, только бы пойти наперекор теще…
— Микола, мама права…
— Нет, нет и нет! — Отец вскочил и заходил по комнате. — Тут я не уступлю. Дарка пойдет в гимназию! Ей, слава богу, семнадцатый, и я внутренне убежден, — отец положил руку на грудь, — что моя дочь прекрасно отличает белое от черного. Им уже не отравить ее душу! В этом я уверен! А математику, физику, химию, иностранный язык, румынский, да, даже румынский, латынь, древнюю историю, географию Дарка будет знать. Это и есть те знания, которые я имею в виду.
Неужели это тот самый забитый папа, которым, казалось, мама и бабушка вертели, как хотели?
Папочка, любимый! Жизнь изо всех сил пригибает его к земле, а он не сдается. Он преисполнен веры. Если бы к этой вере еще и воля, отец мог бы зажечь и повести в бой пол-Буковины!
В ту ночь у Поповичей долго горел свет. Когда же мама принялась стелить постель, было решено, что Дарка поедет в штефанештскую гимназию, к сестре домнула Локуицы.
Сестра Локуицы два года назад приезжала на каникулы в Веренчанку и, несмотря на то, что оказалась простенькой горожанкой, оставила о себе очень приятное впечатление. Всем нравилось, как гармонично сочетались в ее характере уверенность и скромность. Отец сказал, что она достаточно умна, чтобы найти свое место в любом обществе. Женщины Веренчанки были поражены, как много она успела сделать за такой короткий срок своими маленькими ручками (руки и ноги у домнишоры Зои и впрямь словно детские).
Прежде всего она вышвырнула из дома своего брата все до последней щепки, побелила стены, вымыла окна, по оконным рамам и дверным косякам прошлась щелоком, потом выкрасила их в приятный зеленый цвет и обвела белой каемкой, выбила все мягкие вещи, полакировала мебель. Затем взялась за сад и огород. Одним словом, когда в сентябре Зоя уезжала от брата, под его обновленными окнами цвели анютины глазки, а кладовая была набита различным вареньем, домашним мармеладом, маринадами и всевозможными наливками.
— В такие руки я спокойно отдам дочь, хотя знаю Зою поверхностно, — сказал отец бабушке.
А та хоть старенькая, а тотчас поймала его на «неверном политическом шаге»:
— Вот тебе и на! И это называется мужской ум! Ведь из первого же Даркиного письма наша сигуранца узнает, что твое дитя живет у Локуиц, и, клянусь здоровьем, нас всех тут съедят живьем…
Отец с минуту полюбовался бабушкиным воинственным видом, потом ласково взял ее за руку — так он поступал всегда, когда хотел перебить ее.
— Вы правы, мама. Тут уж я должен вас похвалить. Видишь, какая у нас мама? — обратился он к жене. — Говорю, я должен похвалить ваш «политический ум»… В самом деле, опасно было бы посылать Дарку в Штефанешти, если б не одна счастливая случайность: Зоя носит другую фамилию… Они ведь брат и сестра только по матери, а отцы разные. Я напишу домнишоре… Локуица как-то дал мне свой домашний адрес… Но письмо нельзя посылать из Веренчанки. Завтра я выйду к утреннему поезду и попрошу арендатора опустить письмо в Черновицах, а то как бы… Тсс! — неожиданно оборвал он на полуслове и ни с того ни с сего стал рассказывать о том, что в Черновицах появились дамские туфли нового фасона.
Бабушка, которая, произнеся «политическую речь», тут же задремала, проснулась от громкого лая Цыгана.
— Микола, выйди-ка, похоже, кто-то шатается по саду. Вот наказание господнее с этими мальчишками! Осталось несколько яблок — и тем не дадут дозреть…
Ни отец, ни мать никому не говорили, что Дарка попала в список неблагонадежных, но Подгорская откуда-то узнала и сама (а это бывало не часто) пришла к Поповичам.
Целью ее экстренного визита было не столько выражение сочувствия, сколько желание похвастаться перед Даркиной мамой своей прозорливостью: как хорошо, что они, Подгорские, еще полгода назад перевели Орыську в Гицы. Она уже освоилась там, прекрасно овладела румынским языком, и теперь ей все нипочем.
Дарке противно было слушать эти фарисейские речи. Сидела напротив Орыськиной мамы и вертелась, как курица, готовая снестись. Так и подмывало спросить: «Кому вы замазываете глаза, любезная пани Подгорская? Ведь именно таких, как ваша Орыська, оставят на Буковине. Жаль, вы не слышали, как в конце учебного года «Альзо» сокрушался по поводу вашей доченьки…»
«Данка тоже оставили, — и в Даркином сердце снова вспыхнул злой огонек. — Но Данко не пара Орыське, — мысленно защищала его Дарка, — он артист. Кто знает, кем может стать Данко! Он не вмешивается в политическую борьбу, потому что всецело поглощен музыкой. А Орыська? Он не герой, но и не предатель. Данко порядочен по натуре, а Орыська — продажная лиса…»
— Куда же вы думаете послать Дарку, пани Попович? Это ведь так важно — решить, кому поручить своего ребенка…
— Еще не знаю, пани Подгорская. Мы подумаем, посоветуемся… Ничего не могу сказать заранее…
Гостья, поглядывая на маму, производила какие-то манипуляции с замочком своей сумочки.
— Я могу, конечно, если вы хотите, попросить мою Софийку. Возможно, она согласится взять Дарку на «станцию», а там, вы сами понимаете, ей будет как у Христа за пазухой. Правда, у Софийки всего две маленькие комнатки… Я не знаю, согласится ли она, но, может быть…
— Спасибо… не беспокойтесь. — Мама холодно, но вежливо отклонила предложение.
Отец потом шутил, что это была самая большая общественная доблесть, на которую отважилась бабушкина дочка.
— Что ты имеешь против Улянычей? — спросил папа, когда обиженная пани Подгорская ушла домой.
— Против самого Уляныча абсолютно ничего. Я только не хочу, упаси боже, чтобы Дарка уподобилась Орыське. И все! Хоть ты и твердишь, что твоей дочери, — не могла удержаться мама, чтоб не уколоть папу, — семнадцатый год и она сама разбирается, где белое и где черное, но я хочу уберечь ее от вредных влияний. Понял ты меня, педагог?
«Мальчишки всегда остаются мальчишками», — Дарке пришлось это признать. Будь то обыкновенные мальчишки или одаренные музыканты, их всех тянет к оружию, как пьяниц к водке.
С тех пор, как у Ляли на свадьбе домнул Чабану (так звали пограничника) вышвырнул Манилу за дверь, он прослыл среди веренчанской интеллигенции не только смелым, но и порядочным. О нем теперь говорили: «Он хоть и румынский офицер, но человек порядочный». И это давало нашим юношам (Костику, Пражскому и Данку) моральное право дружить с ним. Домнул Чабану, как офицер, мог носить любое оружие, и ребята прилипли к нему, как смола к подметке.
Охота на диких уток совсем опьянила их. Они забыли обо всем на свете. Данко, например, вовсе не думал о Даркином существовании. Стрельба, утки, болото, камыши — вот мир, который теперь, как видно, целиком заполнил его.
Девушка болезненно переживала такое равнодушие со стороны Данка. Тем более что через несколько дней она едет в Штефанешти и они не увидятся до рождества. Может быть, знай Данко, что она больше не будет учиться в черновицкой гимназии, он пожертвовал бы этими проклятыми утками, чтобы провести последние дни с ней. Может быть… Но как дать ему знать? Единственным посредником между ними был Стефко Подгорский, но его не было в Веренчанке. За ним приехала тетка и увезла в Карпаты, чтобы он немного оправился от удара, нанесенного Лялей.
Да и стоило ли вообще разговаривать с Данком, раз он сам не чувствовал потребности поинтересоваться судьбой Дарки?
Он, верно, успокоился, узнав, что лично его нет в списках «неблагонадежных», а остальные, в том числе и Дарка, его не интересовали.
Такие переживания отнюдь не способствовали хорошему настроению. Девушка была раздражена, готова каждую минуту вспылить из-за любой мелочи, ответить грубым словом или плачем.
Бабушка по старческой наивности относила скверное настроение Дарки за счет приближающейся разлуки с родным домом. Однако мама, у которой в таких делах глаз был более наметан, не упрощала ничего. Она подозревала, что здесь, кроме тоски по родному дому и по родной стороне, кроется еще что-то.
Дарка не раз чувствовала на себе пристальный, суровый взгляд мамы, а когда глаза их встречались, та неодобрительно покачивала головой: «Ох-ох, и куда это все заведет?»
Теперь мама не упускала ни малейшей возможности и всякий раз заводила разговор о современных девушках, «совершенно утративших девичью гордость». Чтобы во времена маминой молодости девушка сохла по парню, который не обращает на нее внимания? Да ни за что на свете! Будь он хоть золотой, и не взглянула бы в его сторону!
Бабушка не понимала, куда клонит мама, но тоже поддакивала. Вот как, например, случилось с нею самой. Дальше шла история о том, как один молодой адвокат объяснился бабушке в любви, а потом целую неделю не показывался и не сообщил записочкой, почему не мог прийти. И хотя потом выяснилось, что он не мог ни прийти, ни прислать записку, так как его срочно вызвали на судебное разбирательство в глухое село, бабушка не простила ему неуважения к ее особе. Порвала с ним, хотя позже, — тут бабушка вздыхает, — возможно, и жалела… Да, да, клянусь здоровьем, раньше девушки больше дорожили своей амбицией!
Дарка не принимала близко к сердцу этот рассказ. Только думала: «Прости ей господи, ведь она не знает, что говорит!» Но мамино подчеркнуто холодное равнодушие причиняло гораздо более глубокую боль, чем та могла предполагать.
Прячась по углам и глотая слезы, Дарка спрашивала себя: «Неужели мама думает, что так она выбьет Данка у меня из головы? Меня связывает стыдливость, а она почему первая не подойдет, не расспросит? У кого, как не у мамы, должны найтись слова утешения? С кем, как не с ней, я должна поделиться своей болью? Почему она не хочет понять, что нужна мне сейчас больше, чем когда-либо, что мне необходимо ее ласковое, рассудительное, умное слово?»
Но мама не желала ничего понимать. Она вообще не признавала такого рода страданий.
Может быть, ей хотелось, чтобы дочкино сердце спало как можно дольше, ибо мать по собственному опыту знала, что когда оно просыпается, то ему, к сожалению, приходится больше плакать, чем смеяться… Но… но… раз уже свершилось, то как можно приказать проснувшемуся сердцу: «Закрой глаза и спи!»
Чтобы не попадаться матери на глаза, Дарка целыми днями пропадала в отцовской библиотеке. Она хваталась за книги, не в силах ни одну из них дочитать до конца, вылавливая лишь места, созвучные ее душевному состоянию. Так, случайно, ей в руки попал том известной буковинской писательницы Ольги Кобылянской. Бегло перелистав и эту книгу, Дарка наконец нашла в ней то, что было написано для неё, для нее одной: «Есть род любви у женщин, который мужчине не понять. Слишком необычна она для него. И вот такую широкую любовь, способную дать мне вполне развиться, дать мне расцвести, отдала я ему. Не на один день — навсегда. Каждый жест его был мне нужен, его лицо было мне нужно, голос его был нужен, его хорошие и дурные стороны.
Он был мне нужен, чтобы я стала совершенной и чтобы многое, спавшее во мне, пробудилось…»
И на той же странице, ниже: «Кинула ему под ноги все лилии своей души, но он не узнал их. Думал, что цветы эти вянут и вновь оживают в воде. Но лилии не оживают в воде».
Теперь Дарка не разлучалась с этой книгой. Она выискивала укромные уголки, чтобы вновь и вновь перечитывать места, которые известная писательница написала для нее одной.
Ольга Кобылянская сделала так, что Дарка Попович нашла наконец свое место в жизни.
Не походила ли Дарка до сих пор на человека, который, придя на бал-маскарад, надел чужую маску и потому так плохо себя чувствовал?
О, теперь Дарка знает, какая маска ей больше всего к лицу, — это маска гордой, одинокой, далекой царевны.
Даркино воображение рисует даму в черном, с белым, как мел, лицом и скорбно сжатыми губами. Где бы ни появилась «черная дама», всюду возникало траурное настроение. Не один любопытный будет ломать себе голову над загадкой, какую трагедию пережила «черная дама», но Дарка будет молчать, как камень. И только много-много лет спустя, уже совсем старенькая, сидя зимним вечером в большом старинном кресле, окруженная детьми и внуками Славочки, она расскажет им историю своей любви. Данко, к тому времени известный на весь мир музыкант, женится на знатной аристократке (только не на Лучике Джорджеску!). Все завидуют его славе, богатству, и никто не знает, как он несчастен. Сквозь все его произведения красной нитью проходит один печальный мотив — тема потерянного рая.
Дарке нравится ее новая роль. Она ходит с гордо поднятой головой, скорее влюбленная в свою боль, чем в реального Данка, и всякий раз по-иному представляет себе встречу с Данком — ведь им еще придется встретиться. То ей представляется, как она проходит мимо, не подарив его даже взглядом; то хочется, чтобы он бежал за нею, с мольбой простирая руки, а она, глядя через плечо, бросит ему лишь одно убийственное слово: «Поздно!» — и пройдет дальше беззвучно, как тень.
Но в жизни все бывает иначе, чем представляют себе люди, и встреча Дарки с Данком не была похожа ни на одну из сцен, созданных Даркиным воображением.
В один из дней (собственно, не в один из дней, а в самый последний день каникул) девушка увидала Данка у ворот. Он просто пришел, остановился и ждал, пока она заметит его и выйдет. На его загорелом, местами облупившемся от солнца лице было столько мальчишеской веселости, что Дарка мигом поняла, как смешна она будет в роли гордой царевны.
Впрочем, теперь, когда перед нею стоял не воображаемый, а реальный, живой человек, когда этот человек не спускал с нее влюбленных глаз, когда на этом человеке была яркоголубая рубашка, так шедшая к его загорелому лицу, не требовалось никакой игры.
Оказывается, Данко только сейчас узнал, что в их гимназии, как он выразился, «были кое-какие неприятности у товарищей».
— Вот я и подумал: а что если и мою Дарусю не приняли в гимназию? — шутит он, напуская на себя грустный вид.
— А меня и в самом деле не приняли, и я еду учиться куда-то в Штефанешти…
Испуг, разочарование, боль, недоумение, отразившиеся на лице Данка, красноречивее слов говорили о том, что значила для него Дарка.
Растаяла, как дым в небе, «гордая царевна», и на ее месте оказалась самая обыкновенная, обезумевшая от счастья, что ее так любят, девушка.
— Даруся, маленькая Даруся, почему же ты раньше не сказала мне об этом? Я бы десять раз плюнул на этих уток… Злая ты… Неужели для тебя ничего не значат эти последние дни? Неужели тебе не хотелось провести их со мой? Ты знаешь, ведь теперь мы увидимся только на рождество… Как наказать тебя, моя любимая, злая девочка?
Они стояли у открытых окон, в которых каждую минуту могла появиться мамина или бабушкина голова (папа, к счастью, в этот день был в поле). Дарку это так связывало, что слова застревали в горле. Ей хотелось объяснить Данку, как грубо он ошибается, ведь она подозревала его в невнимании и очень страдала от этого. Но вместо объяснений Дарка молчала и лишь смотрела на него преданными, влажными от переполняющих ее чувств глазами.
— А мне надо завтра уезжать… И я всю неделю думал, что мы едем вместе…
— А я еще жду письма из Штефанешти. Не знаю, когда ответит домнишора Зоя… Как придет ответ, так поеду, а когда это будет, не знаю…
— Как жаль, ах, как жаль! — Данко в растерянности потирает лоб. — Однако, знаешь что? — и в голосе его звучат властные нотки: — Ты должна задержаться в Черновицах и один день посвятить мне. Хорошо?
Дарка замирает от страха: Данко громко, не таясь, разговаривает о таких вещах! Если в окне и не торчит ничья голова, то где порука, что никто не слушает их, притаясь за занавеской? Ведь от окна до ворот несколько десятков шагов.
— Я точно не знаю, когда буду в Черновицах, — шепчет Дарка, стараясь дать понять юноше, что надо быть осторожнее.
Данко понял ее и тут же совершил еще большую оплошность — пригнул голову Дарки к своему уху и зашептал:
— Тогда телеграфируй мне…
Испуганная отчаянной смелостью Данка, девушка вырывается, для безопасности отгораживается от него калиткой (совсем одичал мальчишка на лодке!) и кивает головой: да, да, буду телеграфировать. Хотя заранее знает, что этого не будет.
Неужели он не понимает, что Веренчанка — село, а не город? И стоит Дарке послать телеграмму, как завтра же ней станет известно каждому встречному и поперечному…
Девушка мигом находит более удобный, более верный способ связаться с Данко: по приезде в Черновицы она пойдет к Стефку, а тот уже сообщит Данку о ее приезде, укажет место свидания.
А пока пусть Данко думает, что она и впрямь настолько независима от папы и мамы, что свободно может назначать свидания по телеграфу, как взрослая.
Еще об одном ей очень хочется поговорить с Данком, но она не знает, как начать. Чувство справедливости подсказывает Дарке, что у нее нет ни малейшего права спрашивать о таких вещах. В Черновицах Данка ждет не только музыкальное училище, но и Лучика Джорджеску.
Дарка начинает издалека:
— Ты, верно, соскучился по своим музыкальным занятиям?..
— О да! — откровенно признается Данко. — Иногда мне очень не хватает атмосферы нашего концертного зала… Ты никогда не выступала на сцене? Нет? Тогда тебе неведомо то особое чувство, которое владеет артистом, когда он стоит перед бездной темного зала, не зная, что обрушится на него оттуда… Но в этом году я буду готовиться к аттестату зрелости, и да простит меня музыка…
«Музыка-то простит, а простит ли Лучика?»
Данко наблюдателен. Он сразу почувствовал, что настроение у Дарки изменилось.
— Не надо думать ничего дурного, — грозит он ей пальцем — а то будешь иметь дело со мной…
Дарке стыдно, ее застигли врасплох, но… она счастлива. Девушка опускает ресницы и только собирается поднять их, чтобы еще раз убедиться, что глаза Данка говорят правду, как за спиной раздается голос бабушки:
— Дарка, ку-ку? Погляди, кто ждет тебя? Скажи, Славуня, скажи: «Па-па».
— Па-па… — лепечет девочка.
Понятно, что Дарке не пристало дольше стоять с Данком. Присутствие свидетеля так смутило обоих, что они даже не подали друг другу рук.
Данко снял фуражку, чтобы поздороваться с бабушкой, да так и остался стоять с непокрытой головой.
В Дарке все кипело. Столько лет прожить на белом свете и до сих пор не знать, что можно, чего нельзя!
Дарка проснулась на рассвете. За окнами серая пелена, кое-где пронизанная красными нитями восхода. Осторожно, чтобы не шуметь девушка встала с постели, накинула на себя простыню и, тихонько открыв окно, выглянула в сад.
Деревья еще спали. Листочки на ветвях свернулись от утреннего холода, словно тюльпаны. Роса на траве приобрела уже полынный цвет первых заморозков.
Было около пяти часов. Утренний поезд уходит в Черновицы через три часа. Данко, верно, с вечера завел будильник и теперь безмятежно спит. Она представляет себе его загорелое лицо с чешуйками на носу, волосы, разметавшиеся по подушке. И вдруг материнская нежность подступает к сердцу:
«Спи, я буду охранять твой сон».
Дарка стояла, облокотясь на подоконник, а мысленно была рядом с любимым. Вот он проснулся, умылся, собрал вещи. Когда же он сел завтракать, девушка отошла от него. Наступил день, и все в доме (за исключением Славочки) встали.
И все же в то утро она не могла усидеть в комнатах. Слонялась по саду и, чтобы не вызвать ни у кого подозрений, возилась с астрами, выпалывала бурьян, подвязывала, подпирала слабые стебельки более сильными.
«Наступит час, когда я, его невеста, у всех на глазах пойду провожать его на вокзал с цветами, и никто не осудит, а все станут удивляться и завидовать, что мне выпало счастье быть его невестой…»
И тотчас слышится Дарке трезвый голос мамы или бабушки, хотя их нет поблизости:
«Дурак надеждой богатеет… Мечты, мечты, все одни мечты…»
«Не стану мечтать, — клянется Дарка, — не стану испытывать судьбу. Пусть сама решает».
XXVII
Четвертый день, как уехал Данко. Дарка носится с томиком Кобылянской, как с молитвенником. Теперь каждому ее сердечному порыву в книге находится соответствующее место!
Четвертый день нет Данка, и девушка читает: «Был и негу», а перед этим: «Марта, разве ты никогда не теряла свою мать в большом городе? Один раз, семилетним ребенком, я потерялась. Второй раз такое отчаяние, боль и страх я испытала, лишь когда внезапно осталась без него».
К вечеру четвертого дня приходит краткий, но ясный ответ от домнишоры Зои: «Принята заочно. Телеграфируйте дату приезда».
— Поедешь двенадцатичасовым, — практично решает мать, — у тебя будет в запасе полтора часа до бухарестского поезда. Вот и хорошо.
— Мама, мне хотелось бы поехать утренним, — говорит Дарка, стараясь казаться внешне спокойной.
— Зачем ехать утром? На утренний бухарестский ты все равно опоздаешь — он отходит за двадцать минут до прихода веренчанского. Сидеть целый день, до восьми вечера, в Черновицах не имеет ни малейшего смысла.
«Смысл, мамочка, как раз есть. Прежде всего я условилась с Данком. По-твоему, не следовало этого делать, но раз уж я обещала, согласись, надо держать слово. Но это не все. Там еще Наталка. А ведь она, мама, не только подруга по гимназии. Это еще и кружок. Не могу же я уехать в Штефанешти, не повидавшись с товарищами и вообще не решив, как быть дальше…»
А мама допытывалась:
— Кто у тебя там есть? Лиду ты всегда ругала, даже отказалась жить у них на «станции»… Стефу Сидор последнее время тоже мало вспоминаешь. Кто у тебя там такой близкий, что из-за него ты не хочешь провести лишний денек дома? Я не вижу причины, почему бы тебе не поехать двенадцатичасовым…
Даркины покрасневшие от слез глаза молят: пощади меня, пощади! Не могу же я рассказать все. Будь чуткой, мама. Пойми, есть вещи, которыми нельзя поделиться даже с тобой.
Но мама беспощадна. Страх, что дочь наплюет на девичью гордость, делает мать неумолимой. Больше всего она боится, как бы кто-нибудь не насмеялся над ее ребенком.
И тут пришлось вмешаться отцу. Правда, он так же, как мама, не понимает Дарку, зато в вопросах «приличного поведения» куда снисходительнее. Для отца вопросы «пристало» или «не пристало» не столь принципиальны, и поэтому он расправляется с ними проще.
— Климця, ну разреши ей денечек побродить по улицам, с которыми она расстается. Пусть в последний раз полюбуется Прутом с Домника, простится с подругами… Ну можно ли отказать ей еще и в этом? Ведь я же тоже еду. Посажу дочку в бухарестский поезд, так о чем же здесь разговаривать?
Папины слова надо понимать так: «Даже если у Дарки в Черновицах и есть кто-то, с кем она хочет встретиться, все равно не надо волноваться… Я буду внимательно присматривать за ней».
— Так? — Мама поворачивает к дочери строгое (как эта строгость не идет к пухлым маминым губам) лицо. — Так?
— Нет! — резко отвечает Дарка на вопрос, который мама не решается облечь в слова. — У меня там дело (Дарка в этот момент думает о кружке, чтобы перед самой собою не быть негодницей, которая обманывает родную мать). И прошу не отговаривать меня, все равно я остановлюсь в Черновицах. Потому что так… надо.
В Даркиной фигуре было столько решимости, что мама окинула ее долгим укоризненным взглядом и не спросила, какое это дело.
Не спросила… вообще у нее пропала охота разговаривать с упрямицей, с таким непокорным, дерзким созданием, как ее старшая дочь.
Мама встала и вышла на кухню. Папа (он, как союзник Дарки, разделял с ней вину) вышел за нею. До девушки долетели слова:
— И в кого она такая упрямая? Словно кремень. Раз решила — режь на куски, не отступится…
— Почему ты говоришь «упрямая»? Она просто волевая. А в кого уродилась? Не знаю. Во всяком случае, не в меня. И слава богу!
Перепалка накануне Даркиного отъезда имела и свою хорошую сторону. Расставаясь, мать и дочь помнили этот разговор. Прощание было сердечным, но лишенным какой бы то ни было сентиментальности, чему дочка, откровенно говоря, была очень рада.
Дарка подсознательно готовила себя к самостоятельной жизни. А казалась она ей ухабистой, усеянной камнями дорогой. Чем же помогут сентиментальные слезки, если надо шагать в неведомое, стиснув зубы и сжав кулаки?
Поезд несся по хмурым, поблекшим нивам. На них не было ничего, кроме кукурузы и картошки. Картофельные поля, весною походившие на усыпанные лиловыми цветами лужайки, теперь пестрели скрюченной, высохшей ботвой, подчеркивая еще более меланхолическое настроение природы. Даже камыш над озерами надел бархатистые коричневые колпачки цвета той же сухой картофельной ботвы и переспелой кукурузы.
Одно лишь небо радовало глаз безукоризненно чистой темно-синей глубиной, но и ее затмевали последние стаи перелетных птиц.
И только предстоящая скорая встреча с Данком отвлекала Дарку от печальных мыслей.
Словно забытый мотив, вспоминались Дарке слова Уляныча: «Если бы мы могли взглянуть на жизнь с вершины ее общественного развития, то и наши радости, и наши печали предстали бы в ином свете».
«Верно, — мысленно отвечала Дарка, — только не сразу можно вскарабкаться на эту вершину, но я хочу… я должна… я буду!..»
По приезде в Черновицы отец повел дело так, как и следовало между добрыми коллегами.
— Я сдам вещи на хранение, а ты иди по своим делам… Только не позже семи будь на вокзале. Вот тебе двадцать леев. Может, проголодаешься и захочешь перекусить. Конечно… гм… наша мама была б немного недовольна тем, как я распорядился, но я думаю… Одним словом, помни: не позже семи… У меня ведь здесь целая куча дел!
«Стоило, — подумала Дарка, — родиться на свет хотя бы ради того, чтобы иметь такого отца!»
Она помогла ему отнести вещи в камеру хранения и, пока отец сдавал их, направилась в город.
Теперь, когда у нее оказалось столько свободного времени, Дарка все видела другими глазами — и движение на улице, и дома, и скверы. Раньше она всегда спешила, и ей некогда было все это разглядывать.
Было около девяти часов. Данко уже сидел за партой. Наталка, верно, еще не вставала; а кто еще мог интересовать Дарку?
Она шла вперед, внимательно приглядываясь ко всему.
По привокзальной улице, прямой, как стрела, до сих пор сохранившей в народе старое австрийское название Банхофштрассе, беспрерывным потоком двигались люди, преимущественно крестьяне из окрестных сел. Пестрые тайстры[58] на плечах ярко выделялись на фоне белых рубашек, придавая особую красочность живому потоку. Женщины, несмотря на холод, большею частью шли босиком. Исколотые жнивьем ноги растрескались, как свежевспаханные борозды, но несмотря на это, сорочки у женщин были расшиты бисером и блестками.
И лишь горботки отделяли в этом хороводе богатых от бедных. У богатых горботки плотные, из блестящей тонкой шерсти, перевитые серебряными нитями. У бедных — домотканые, грубой работы, жесткие и такие редкие, что сквозь них просвечивала нижняя юбка — «пидтычка».
С улицы, берущей свое начало от «шифы» (здесь когда-то помещалось пароходство, и название так и прилипло к этому месту), потянулся вверх караван женщин с пирамидами корзинок на головах. Это немки-колонистки — на Буковине их называют «швабками» — двигались на базар, неся овощи и молочные продукты.
У колонисток, как на подбор, стройные, точеные фигуры. Дарка подумала, что их необычайная грациозность не случайна. Это, верно, следствие того, что им изо дня в день приходится носить на головах корзинки, а зачастую даже бидоны с молоком.
Вот вышел из корчмы старый липован с дочкой или невесткой. Поверх заправленных в юфтевые сапоги полосатых штанов на нем ярко-красная шелковая косоворотка, украшенная тяжелыми золотистыми пуговицами, и самодельная соломенная шляпа. Редкая белая борода веером распласталась на груди. Молодая липованка своей лесенкой юбок, широкими рукавами и ярким, завязанным на затылке платком напоминала цыганку. Только курчавые светлорусые волосы и синие глаза выдавали ее.
Дарка знала: липоване — это староверы, много лет назад бежавшие из России, где их за религиозные убеждения преследовало царское правительство. Они оседали в буковинских деревнях группами, сохраняя на протяжении многих лет не только родной язык, но и все обряды своей веры. Отбившись от родной земли, липоване не привязались и к чужой. Они почти не занимались земледелием. На Буковине славились тем, что скупали у людей садовый урожай «на корню», а позже целый год торговали фруктами.
Дарка залюбовалась нежной красотой молодой липованки. Она хоть счастлива?
Почти всю правую сторону длинной Банхофштрассе занимали низенькие, тесно прижавшиеся друг к другу домишки. Здесь продавались хозяйственные товары, крестьянская утварь, размещались харчевни, от которых разило дешевым вином. Тут же были и магазины с яркими тканями, кожей и готовой обувью, обменные пункты, где на месте меняли пряжу и воск на гвозди или керосин, парикмахерская с пиявками за витриной, фотограф с бутафорским конем и самолетом. Все эти «предприятия» были монополией мелких еврейских торговцев. Здесь они творили свои «гешефты», здесь же и жили в маленьких комнатенках и кухоньках за лавкой. Еще улица эта славилась многочисленной детворой. Буквально возле каждой лавчонки копошились, зачастую голопузые, растрепанные, покрытые пухом из перин, малыши.
Дарка задумалась: куда идти? С кого начать? Решила еще немного побродить по городу, а потом зайти к Наталке.
Девушка была очень удивлена, когда, невзирая на ранний час, застала у Ореховской Гиню Иванчука. Дарке казалось, что после своего памятного выступления на собрании кружка Иванчук не захочет больше бывать у Ореховских. Как выяснилось потом из разговора, он действительно впервые с того вечера зашел сюда. Пришел с тем же, что и Дарка: как же, в конце концов, быть с кружком? Может быть, стоит собраться еще раз, пока народ не разбрелся по свету?
— Соберемся сегодня в семь. Согласны?
Нет, Дарка не может в семь, в это время как раз отходит ее поезд.
Гиня не упускает случая выругаться:
— Черт подери это бабье племя! Всегда они чего-нибудь не могут! А в четыре можете?
Да, в четыре она может.
Гиня мигом схватил шапку и побежал собирать товарищей к четырем часам.
Когда Иванчук вышел, в комнате словно бы повеяло свежим ветерком. Теперь можно было поговорить свободно.
— Что же ты думаешь делать, Наталка?
Откровенно говоря, Дарка не очень хорошо чувствует себя — ведь она одна из первых устроилась уже в новой гимназии.
— Думаю в этом году немного отдохнуть. С моим здоровьем… — Наталка сделала паузу, словно колеблясь, говорить ли правду, — не все в порядке. Ты знаешь, я не люблю скулить, а тем более не люблю сочувствия… Но с некоторых пор я очень быстро устаю. А ты ведь знаешь, я не лентяйка… К тому же у меня теперь по вечерам повышается температура…
— Ты думаешь куда-нибудь поехать? Может быть, в горы?
По губам Наталки пробежала неясная улыбка.
— Горы! Конечно, неплохо бы… но если мы все разъедемся, кто же будет носить передачи Оресту?
Это было то, о чем Дарка хотела, но не решалась спросить, боясь причинить подруге боль. Но теперь, когда та сама заговорила, Дарка почувствовала себя свободнее.
— Что с ним, Наталка? Я так часто думаю о нем… Цыганюк на всю жизнь останется для меня образцом мужества и преданности делу. Ведь он никого не выдал… никого-никого!
— Да, — лишь одним словом откликнулась Наталка.
От Ореховских Дарка пошла к Лидке. Стефка она могла застать не раньше часа дня. Надо было убить время.
Теперь, когда не требовалось оправдываться перед Дутками, Дарка свободно могла показаться на Русской улице. Тем более что, как говорил папа, Дарка хотела попрощаться с дорогами, исхоженными ее ногами.
Занятия в женской гимназии начинались после обеда, значит, Лидка дома.
Двухмесячное пребывание на берегу Черного моря сильно изменило ее. Она не только сильно пополнела (хотя, по уверениям Лидки, аппетит пришел только в Черновицах, как результат морского климата), но и загорела, кожа приобрела янтарно-золотистый оттенок. Лицо, икры, руки блестели, словно намазанные маслом. Волосы выцвели, даже брови выгорели от южного солнца и соленой воды. Но это все не портило ее, а красило.
Увидав Дарку, Лидка бросилась к ней, громко выражая сочувствие, но Дарка, конечно, ни капельки не верила ей.
— Бедненькая, бедненькая, как мне тебя жаль! Ты лишилась гимназии! Какая несправедливость! Я не люблю учиться и должна кончать гимназию, а ты так рвалась к науке и… Бедняжка, бедняжка!
Но узнав, что Дарка не осталась без гимназии, а, наоборот, едет учиться в Штефанешти, Лидка тотчас ей позавидовала. Во-первых, какая Дарка счастливая, что вообще может жить на «станции». Вот ей, Лидке, верно, никогда не удастся вырваться из дому. Вечно, всю жизнь, до гробовой доски, дома, дома и дома… Во-вторых, Дарка едет в один из городов регата. Перед началом учебного года к Дуткам забегала Орыська. Ох, и порассказала же она, как живут люди по ту сторону!
— Ты счастливая, повидаешь мир, а я должна киснуть в этой дыре…
Дарка в душе смеялась. Из рассказов Локуицы она знала, что Черновицы — столица по сравнению с Штефанешти, где по рынку прохаживаются козы, как дома в огороде. Но ей не хотелось разочаровывать Лидку. Пусть думает, что подруге и впрямь повезло.
Желая не казаться обиженной жизнью, Лидка стала хвастаться перед Даркой своим пребыванием в приморском лагере:
— Если бы ты знала, как там кормили! Ты, верно, даже на пасху не ешь того, чем нас там потчевали. Порции не ограничены, уплетай сколько влезет! И не думай, что только суп или второе, но и виноград, и арбузы. Честное слово, не лгу! После обеда приносили корзину винограда — и лопай сколько хочешь! Честное слово! Не веришь?
Дарка верила. Заманили их, как свиней корытом, а эта дуреха еще хвастается! Но хозяин откармливает свиней на сало, — значит, и эти хозяева старались не зря…
— А что вы там делали? Ели, отдыхали, купались в море, спали и снова ели? И все? — Дарка делает вид, что издевается над Лидкой и ее лагерем, но та попадается на крючок и выкладывает то, о чем при других обстоятельствах не проронила бы ни слова:
— Нет, не все. Почему все? Нас там еще обучали военному делу. Ох, как смешно девчата прижимали винтовку к плечу! Лопнуть можно со смеху! Кроме того, мы изучали устав черчеташек, слушали лекции по… — И вдруг сообразив, кто все это из нее выуживает и с какой целью, Лидка даже изменилась в лице. — А почему тебя это интересует? — накинулась она на Дарку. — Какое право ты имеешь расспрашивать, что мы там делали?
Теперь Лидка наступает на Дарку без всякой дипломатии, прямо в лоб:
— Почему ты устроилась именно в Штефанешти? Кто у тебя там? Родственники? Знакомые?
— Знакомые отца.
— Откуда у твоего отца знакомые в Штефанешти? Эх, Дарка, ты что-то крутишь! Крутишь, крутишь! Гляди, как покраснела! Ага, попалась, кошечка! Теперь уж не отвертишься. Ну-ка, выкладывай, что за знакомые и откуда они взялись…
— Да тебе-то что до этого? Ну, знакомый отца, ну, народный учитель… ну, учились с отцом на курсах румынского языка в прошлом году в Яссах…
— А как его фамилия? И зачем ему, румыну, изучать румынский язык? Ведь курсы организованы для тех, кто не знает государственного языка!
«Да, — подумала Дарка, — морской курорт не пропал даром, — «государственный язык»!
— Знаешь, Лидка, это уже слишком…
— Дура! Ты ведь можешь назвать мне любую фамилию, какую сорока принесет тебе на хвосте, — проверять я стану, что ли?
В комнату вошла пани Дутка. Как всегда, руки сложены на животе, а два больших пальца вертятся один вокруг другого. Когда Лидка умолкла, мать заговорила:
— Я знаю одно — где бы Даруся ни жила, такой кухни, такой постели, такой опеки, как у меня, у нее не будет никогда. Обидно только, Даруся, что вы не известили меня о ваших планах, я бы подыскала себе кого-нибудь другого на «станцию».
«Ох, пани Дутка, хоть теперь прекратите ваше нытье, оно ведь трогает меня как прошлогодний снег!»
— А лучше всего, — тянула хозяйка, не переставая вертеть пальцами, — никуда не уезжать из родного города. Вот как, например, моя Лидуня или я. Поверит ли кто-нибудь, что за всю жизнь я ни разу не побывала в деревне? Зачем? То, что мне нужно, крестьяне сами принесут в город… Если б вы, Даруся, слушались меня, то и по сей день посещали бы черновицкую гимназию, как Лидуня. Но вы не любите слушаться, ох, не любите!.. Только фыр-фыр… и все по-своему. А так не надо… Я не раз говорила вам, Даруся, подумайте, с кем вы дружите… и что вы отвечали мне на это?
— Мама, после обеда не подают горчицу. Хватит! — прикрикнула Лидка на мать и, повернувшись к ней спиной, перевела разговор на другие рельсы:
— Дарка, а тебе не хотелось бы повидаться с Данилюком? Может, ты телеграфировала ему, и он встретил тебя на вокзале? Признайся, Дарка, признайся, на который час у вас назначено свидание? Чего же ты молчишь? Признавайся!
Дарке вспомнился пьяный Манилу на Лялиной свадьбе, который вот так же заставлял отца «признаваться» ему.
Как жаль, что поблизости нет никого похожего на домнула Чабану, чтобы поступить с Лидкой так, как тот с Манилу!
— А ты кто, поп, чтоб перед тобой исповедоваться? И вообще ты сильно ошибаешься, если думаешь, что меня интересует Данилюк…
— Так-таки не интересует? Не интересует, говоришь? Можешь дать честное слово, что не интересует? А мне Орыська другое рассказывала…
— Ну, Орыська! Глупая интриганка!
— Так уж сразу и интриганка? Она рассказала только то, что было… И смешно, что ты теперь так открещиваешься… Ей-богу, смешно. Ведь я знаю больше, чем тебе кажется! Ну, признайся — ведь все-таки тебе хочется видеть Данилюка? Хочется? Жаль, что ты не написала, когда приедешь в Черновицы, а то я как раз вчера встретила Данка…
«Тук… тук… тук…» — выстукивает у Дарки в висках, но на лице все та же маска равнодушия.
Лидка поднимает юбку выше колен.
— Тебе нравятся мои ноги? Правда, словно атласные? Пощупай, какая гладкая кожа. Орыська говорила, что в Гицах боятся загара. Фу, глупые мещанки! У нас загар — последняя мода! Вчера иду по Ратушевой улице — и кого я вижу? Ты слушаешь? Данилюка с Лучикой Джорджеску! Домнишора даже не в форменном платье, а в белом шерстяном, вышитом вокруг шеи и по подолу… Очень красивый фасон! Данко шагает и думает, что никто его не видит. И так наклонился, так наклонился к Лучике, что головы их почти соприкасаются. Погоди, думаю, вот я тебя напугаю! Да как закашляюсь! Они отскочили друг от друга, словно их кипятком ошпарили. Я думала, Богдан из мести не поздоровается со мной. Но нет — снял фуражку, поклонился, а потом (ты знаешь мой характер) я оглянулась и вижу, честное слово, вижу, как он поддерживает ее под локоть… Ах, думаю себе, мерзавец ты паршивый! На каникулах в Веренчанке кружил голову одной, а теперь другой? Лучика, видно, расспрашивала его, кто я такая и откуда он меня знает… Орыська рассказывала, что румынки ужасно ревнивы… Хорошо, Дарка, что ты уезжаешь из Черновиц, а то Джорджеску выжгла бы тебе глаза серной кислотой. Ха-ха-ха!
«Тук… тук… тук», — не перестает стучать в висках. К этому нестерпимому стуку присоединяется еще неприятный шум в ушах. Смешно, в самом деле смешно, если б Данко из-за Дарки совсем забросил музыкальные дуэты с Лучикой… Да и стоит ли вообще обращать внимание на болтовню такой особы, как Лидка?
Хорошо, все это так, все это верно, но почему так болит сердце? Откуда эта невыносимая боль, которая, если ее не унять, может довести до несчастья?..
И в памяти Дарки встают слова Кобылянской в том порядке, в каком они напечатаны в книге:
«Я могла бы умереть от тоски, если б тот, кого я люблю, бросил меня, но ни за что, ни за что на свете я не стала бы удерживать его, если б он захотел меня бросить. Лучше умереть, чем покориться, чем просить милостыню».
Да, лучше умереть, чем просить милостыню у любви! И в тот же миг девушка решает: она не пойдет к Стефку! Не надо, чтобы Данко даже знал, что Дарка сегодня в Черновицах. Пусть он прохаживается с дочкой префекта, поддерживает ее под локоть, чтобы она не сбила ноженьки о мостовую, пускай любуется ее новым платьем, вышитым у ворота и по подолу!
Пускай!
Ей, Дарке, ничегошеньки не надо от него!
Дарка пришла к Ореховской за несколько минут до назначенного срока, но уже почти все собрались.
Надо сказать, что это собрание было лишено прежней романтической окраски: кружковцы входили без условного стука, и деловое заседание не надо было маскировать чайным столом. Сигуранца не только была информирована о существовании тайного кружка, но располагала и алфавитным списком всех его членов. Ведь ни одному из них министерство просвещения (читай: сигуранца) не разрешило учиться на Буковине.
К чему теперь комедия с конспирацией, раз они и так лишены самого дорогого — права посещать свою гимназию…
Последней пришла Стефа Сидор. Увидав Дарку, она, даже не поздоровавшись с хозяйкой дома, бросилась к подруге и крепко, от всего сердца, сжала ее руки.
За время каникул Стефа похудела и возмужала. Она, как и прежде, увлекалась туризмом. Зная ее характер, Дарка была уверена, что и на этом поприще Сидор идет впереди всех, даже во вред своему здоровью.
— Дарка, что же будет? Что ты думаешь делать? — И, узнав, что та уже записана в штефанештскую гимназию, Стефа тотчас призналась, что и ее устроили учиться в Яссах. Если б Дарка никуда не попала, Сидор промолчала бы и о себе. Эта деликатность снова пленила Дарку. Уснувшее было чувство любви к этой девушке сегодня пробудилось вновь и мягко зазвучало в Даркином сердце.
Стефа обняла подругу за плечи (в эту минуту и восстановились их старые добрые отношения).
— Я сперва очень огорчилась, узнав, что меня исключили из нашей гимназии. Очень! Но потом отец сказал мне…
— Что же сказал тебе отец?
Стефа заговорила тише:
— В Яссах я одновременно смогу посещать и школу молодых художников…
Струна в Даркином сердце снова зазвенела, но теперь уже резким диссонансом.
— Надеюсь, ты не радуешься, что нас выгнали из гимназии?
Глаза Стефы под челочкой беспокойно забегали.
— Как ты можешь так думать! Меня это очень обижает… Ты просто не поняла меня. Я только хотела сказать, что… лично я ничего от этого не теряю…
— Я так и поняла…
Вошел брат Наталки, и внимание всех сосредоточилось на нем.
— Ты слышала, — делая вид, что поправляет Дарке прическу, шепнула Сидор, — его уволили с работы. Ты знала? Он был представителем фирмы «Фонтан унд зон»[59] и поэтому мог бывать за границей, а теперь кончено. Его подозревают…
Стефа не успела договорить. Роман Ореховский предложил всем рассаживаться.
И хотя Дарка отлично понимала, что мечты ее несбыточны, она все время ждала, что вот-вот откроется дверь и войдет Орест Цыганюк. Заиграют на свету стеклышки пенсне, а низкий гортанный голос поведает им, что история с арестом — это лишь кошмарный сон и вот он, Орест Цыганюк, стоит перед ними, живой и здоровый!
Ореховский не садился, а стоя ждал, пока все рассядутся и наступит тишина. Он совершенно не походил на безработного. Решительное, мужественное лицо, крепко сжатые губы, весело блестящие глаза, темная от загара шея, старательно отутюженный пиджак.
— Прежде всего должен поинформировать вас: мои личные дела сложились так, что я теперь человек свободный. Но боюсь: эта «свобода» — начало моей неволи. Есть основания подозревать, что сигуранца будет наступать мне на пятки.
— Поэтому вы устроили собрание у себя дома? Какого черта, разрешите узнать? Решили навести их на след?
Ореховский смерил Иванчука презрительным взглядом:
— Скажите, только искренне: вы действительно так… наивны? Ведь сигуранца еще до ареста Цыганюка поименно знала всех членов кружка! Вы что ж, думаете, если б она считала нужным арестовать вас всех поголовно, то не смогла бы это сделать? Но зачем ей лишний шум? За границей, а главное — в Советском Союзе, пресса только что перестала печатать материалы о расстреле бухарестских коммунистов, а вы хотите, чтоб вслед за тем сигуранца бросила за решетку украинскую гимназическую молодежь? И потом учтите, — теперь он обращался уже ко всем, — еще один политико-психологический момент. Бросить вас в тюрьму — значит создать вокруг вас ореол мучеников за идею… Нужно ли это государству? И сигуранца придумала прямо-таки гениальный план зарезать вас без ножа… Вместо того чтобы посадить в тюрьму и тем вызвать нежелательные настроения среди украинского «миноритета»[60], она обезвреживает вас, рассеивая по всей Румынии. Обратите внимание: ведь имеется инструкция не принимать более двух человек в одну гимназию, ибо трое… «трес фациунт коллегиум»[61], как вам известно.
— А вы откуда знаете о секретных инструкциях? — спросил Иванчук. Он нервно вертел в руках трость, это говорило о его внутренней растерянности.
— На провокации не отвечаю, — с саркастическим спокойствием заметил Ореховский, пожав плечами.
— Это ваше право, а теперь дайте мне слово. — Иванчук обошел кресло и оперся на трость: так на картинах рисуют казаков — стоит, положа руку на ружье. Было ясно: поза придумана заранее.
— Я хотел сказать, что… Прежде всего, мы должны уяснить себе наше положение. Ореховский говорит, что сигуранца рассеет нас по всей Румынии, как мак, и тем самым окончательно обезвредит. Прекрасная концепция, ничего не скажешь! Но я хочу возразить — всех не рассеять! Не все, черт побери, собираются покидать родную, политую потом и кровью прадедов землю! Я хочу сказать, что, кроме низких, шкурнических интересов, — он сплюнул, — есть еще патриотизм! Есть кое у кого в груди сердце, которое бьется во имя матери Украины!
— Хорошо, хорошо, — перебил его Ореховский, — вы из «патриотизма» останетесь в Черновицах, из «патриотизма» не окончите гимназию, думая, что этим окажете услугу своему народу, а ему необходима интеллигенция, необходима, как вода и хлеб…
— Я не один так думаю, Ореховский. Нас тут…
— Поменьше о том, сколько вас. Меня сейчас интересует другое: что вы намерены делать? Каковы ваши планы на будущее?
— Вас интересуют шкурно-личные интересы или общенародные?
— Начнем с «общенародных», — едва сдерживая ироническую улыбку, ответил Ореховский.
Иванчук эффектным жестом отбросил трость в сторону и театрально выпятил грудь:
— Наша цель — работа для народа, и, кроме нее, нет у нас иной… Вот вся наша программа и планы, как на ладони…
— А поконкретнее нельзя?
Иванчук, как видно застигнутый врасплох, не зная, что ответить, почесал за ухом.
— Говори, это же не секрет, — поддержал его Равлюк.
— Итак, — Гиня откашлялся, — мы думаем вступить в студенческую корпорацию «Запорожье».
— Объяснений не требуется! Мы знаем, что такое «Запорожье», «Черноморцы»! — крикнула Романовская из-за рояля.
— Правда, туда принимают только студентов, но нас, как потерпевших за идею… гм… я уже, того, узнавал, примут и без зачетных книжек. Там мы дадим присягу служить нации… жизнью оберегать ее честь, свою честь и честь казачества… У кого нет идеала выше, чем служение нации, выходите! — Иванчук призывно простер руку и тотчас, позабыв о своей высокой роли борца за честь народа, по-мальчишески вытер пот со лба, оставляя на лице темные полосы.
— Браво! Браво! — захлопал Ореховский, а вслед за ним и Наталка. Дарка не знала, как вести себя: хлопать или сдержаться?
Наталка поднялась с кресла и встала рядом с братом. Кирпичный румянец еще больше подчеркнул нездоровый цвет ее лица.
— Дайте мне слово. Я хочу дополнить тебя, Гиня. Ты умолчал об организационной структуре ваших студенческих корпораций и тем самым утаил кое-что интересное и… поэтичное! Ты ведь должен был рассказать, что прежде, нежели стать казаком, надо пройти две нижних ступени — «профуксов» и «фуксов»… Сначала вас примут в корпорацию как «профуксов», станут обучать хорошим манерам и танцам…
— Только без демагогии! Нас примут сразу в «фуксы», так что танцы и хорошие манеры здесь ни при чем.
— Та-а-ак? Тогда надо поздравить вас с успехом!
— Черт тебя подери, можешь ты выражаться яснее?
— Иванчук, я призываю вас к порядку! Вы в помещении, а не на запорожском коше. Говори, Наталочка, — Роман пододвинул сестре кресло.
— Ты сказал, что от тебя потребуют присягу, а почему ты не описал эту церемонию? Почему не сказал, что в честь тебя зажгут свечи, возложат тебе на плечо как средневековому рыцарю, саблю, ты опустишься на колени, положишь руку на эмблему корпорации, как на евангелие…
— Не надо, Наталочка, — наморщил лоб Ореховский. Ему, по-видимому, не хотелось, чтобы Иванчук еще раз грубо оборвал сестру. — Ты ближе к делу… ад рем[62]…
Наталка кивком ответила брату и продолжала:
— Итак, ты станешь «фуксом». Через полтора года — и это самый кратчайший срок — тебя примут в настоящие «казаки»… Тут уж придется держать «казацкий экзамен». Что же у вас будут спрашивать?
— Украиноведение! — выпалил Равлюк.
— Да, — подтвердила Наталка, — украиноведение. Кодекс чести. Историю. И чью бы, вы думали, историю? Историю и географию всех украинских студенческих корпораций в мире… И все! После посвящения в «казаки» еще одна присяга со свечами, саблями и эмблемами и, наконец, «казацкий банкет» в вашу честь, на нем еще одно испытание, правда, уже алкогольного порядка. Там вам присвоят «банкетные имена». Не знаю только, какое достанется тебе, — «Слон», «Небылица», «Щепка» уже есть…
— Слушай, ты того… — захрипел Иванчук.
— Спасибо, что напомнил. Я и то думаю, что пора перейти к существу вопроса. Мне хочется сказать о положении девушек в этой организации. Формально девушки-студентки имеют право быть членами «казачества». Это так, для проформы. А де-факто все выглядит иначе. У девушек «казачек», как бы это сказать, «собственная автономия». Но эта автономия — просто смех разбирает — лишает «баб» права присутствовать на казацком коше. Как «неполноценные», они вне кодекса чести. Зато — и это, право, трогательно — у каждой «казачки» есть «побратим». Он обязан всегда и всюду оберегать ее честь… Девушка-«казачка» не имеет права одна ходить по улицам… Почему я так размазываю? Потому, Гиня, потому что временно я тоже остаюсь в Черновицах… И теперь, когда члены нашего кружка разбредутся, — мне тоже надо искать где-то «аншлюсе»[63], как говорят буковинскиё австрийцы… Я, как и ты, хочу работать для своего народа. Признаюсь, я заходила в секцию студенток при «Запорожье», интересовалась их общественной работой, узнала, что они ведут работу с населением пригородов… Это мне очень понравилось, но позже я узнала, что эта «работа для народа» или «среди народа» сводится к тому, что студентки учат городских девчат вышивать ризы и делать искусственные цветы для церкви… А я, — Наталка развела руками, — еще не утратила здравого смысла. Я уже не говорю о том, что это позор, — да, Иванчук, позор в двадцатом столетии загонять девушек-студенток… — она начала волноваться, красные пятна расплылись по всему лицу, а над верхней губой заблестели росинки пота, — в средневековую кабалу… И вообще дело не только в этом…
Ореховский наклонился к ней:
— Может, приляжешь?.. Хватит с тебя сегодня.
И сам отвел cестру к дивану. Потом прошел на кухню, принес оттуда стакан с розовой жидкостью, похожей на смородиновый компот, заставил Наталку сделать несколько глотков и только после этого занял свое место за столом.
— Наталка назвала это позором… Да, это так, но это еще и преступление. Непростительное преступление перед народом, перед собственной совестью, если она вообще сохранилась у вас… Вы что ж, хотите сабельками, побрякушками, бутафорскими булавами отвлечь студенческую молодежь от действительности? А вы знаете, какова эта действительность? Знаете?! А знаете, сколько тысяч людей ходят без работы и хлеба? А что творится в деревне? Вы слышали о карательных экспедициях? Или, быть может, вас интересуют цифры смертности детей, уже превысившие естественный прирост населения? А сколько рекрутов только за один последний год покончили в армии жизнь самоубийством? Знаете?.. Да ни черта вы не знаете! И знать не хотите! Позвякиваете сабельками и благословляете своих «побратимок» лепить цветочки и вышивать узоры на поповских ризах…
Он вынул из нагрудного кармана платок, вытер руки, потом схватил стакан и допил оставшийся компот. Гиня злорадно улыбнулся:
— Вы того… полегче, Ореховский… Не думайте, что собьете меня с толку разговорами о концлагерях, ведь мы знаем, кто преимущественно сидит в них!
— Кто? Ну, кто? — даже приподнялась Наталка.
— Разве ты не знаешь? Коммунисты!
Ореховский просиял. Провел рукой по волосам и кивнул сестре.
— Именно этого я и ожидал от вас, Иванчук. Прекрасно! Концлагеря и тюрьмы переполнены коммунистами, выходит (лицо его становится спокойнее), они в первую очередь и есть те, кто выступает против существующего порядка… А известно, что враги наших врагов всегда наши друзья…
— Погодите… не спешите… А вы знаете, что такое Коммунистический Интернационал?
— Думаю, что знаю.
— Ага… А теперь я спрошу вас, и притом прямо: как вы, черт подери, представляете себе мое «братское сосуществование» с румыном?
— Более или менее так, как этот вопрос уже разрешен в России…
— Не заговаривайте мне зубы, а конкретно отвечайте на вопрос: вы, Роман Ореховский, верите, что при вашем социализме могут жить в дружбе украинцы и румыны, румыны и венгры, поляки и украинцы?
— Да, безусловно верю! Россия абсолютно убедительный тому пример.
— Что вы — Россия да Россия!.. Москаль мягкосердечен… Лучше скажите, как вы думаете жить в дружбе с румыном или венгром?
— Вы, Иванчук, не стригите всех румын под одну гребенку… Что вы сравниваете интересы боярина, владельца огромных земельных массивов, с батраком, фактически отрабатывающим у него барщину?..
— Не могу… Все румыны добрые, когда спят… Возможно, я бы и согласился, черт подери, на ваше «братство народов», будь в нем хоть малейшая справедливость!
— Какой справедливости хотите вы, Иванчук?
— Как это какой? Самой что ни на есть обыкновенной… Прежде всего я должен отплатить румынам за обиды, нанесенные нам за эти годы… Я бы отнял у румын все до единой гимназии, выгнал бы всех румын с государственных должностей, запретил их ремесленникам иметь собственные мастерские, не пускал бы их молодежь в высшие учебные заведения, запретил бы, как они это делают с нашими Франко и Шевченко, читать их классиков, наплевал бы им в лицо, как они плюют нам… а уж после… кто знает, черт подери, возможно, и сам захотел бы «Интернационала»!
— Вы невыносимы! Тогда нельзя будет и говорить о дружбе: ведь румыны тоже захотели бы реванша, а затем вы снова захотели бы отомстить им… Политика, которую проповедуете вы, — политика реваншизма, и она лишь льет воду на мельницу буржуазного правительства…
— Почему?
— Вы пытаетесь отвлечь внимание тех же ремесленников и крестьян от основного — от борьбы за свои права и поссорить их между собой, на радость и утешение эксплуататорам… Как видите, сказка про белого бычка…
— Значит, прощать, да?
— Не прощать, а изучать, разбираться в исторических условиях… а потом, — и это главное, именно то, чего вы не хотите понять, — рассматривать исторические явления в их социальном разрезе…
— Что вы, «товарищ» Ореховский, вечно со своим социализмом!.. Для меня, если быть откровенным, коммунист украинец такая же зараза, как коммунист еврей, румын или поляк.
— Быстро же вы стали «Интернационалистом»! — рассмеялся Ореховский.
Иванчук, почувствовав, что сморозил глупость, залился краской и хрипло крикнул:
— Я… перестрелял бы их всех!
— Скоро же вы расстреливаете людей…
— Ведь мы не пацифисты, в которых вы хотите нас обратить! «Братство», «дружба народов» — это фата-моргана, Ореховский, над которой посмеется даже лошадь. Украинский народ не хочет никаких «союзов»… На протяжении всей истории украинцы только то и делали, что вечно вступали в союзы с кем-либо, и вечно их обманывали… Поэтому мы больше никому не верим! Украинский народ хочет быть самостоятельным и жить, ни от кого не завися… от Сана до Дона!
— Сдержитесь, Иванчук, и не расписывайтесь за весь сорокамиллионный украинский народ: ведь он еще в семнадцатом году заявил всему миру, чего он хочет и с кем ему по пути. Между прочим, у вас неплохой аппетит. «Самостийная Украина», а вы там — министр внутренних дел?.. Представляю, с каким наслаждением вы расправились бы с неукраинским населением! Да и… с украинским тоже. С теми, конечно, кто не угоден вам…
— А я еще раз заявляю вам: мы не пацифисты. Мы… мы… потомки шевченковских гайдамаков, сто чертей вас побери!..
— Не кощунствуйте, Иванчук. Они были народными мстителями, а вы… — И, заложив руки в карманы, Ореховский продекламировал:
Когда он окончил читать длинное, все в том же стиле, стихотворение, Гиня воскликнул:
— Что ж здесь плохого? Святая правда: «Мне любовь ненавистна. Вражда — мой кумир…» Да, черт возьми, под этим стихотворением я готов подписаться руками и ногами!
— Ха-ха-ха! — рассмеялась Наталка, даже слезы выступили на глазах. — Ха-ха-ха! Браво, Гиня, браво! Ведь это же перевод одного из стихотворений Тудоряну!
Иванчук вытаращил глаза. Такой глупой рожи Дарка еще не видывала.
— Свинство! Провокация! Подлая, отвратительная провокация! Кой черт мог подумать, что вы пуститесь на такую уловку… Откуда, к дьяволу, я мог знать, что это стихи Тудоряну?
— Тем искреннее это у вас получилось, Иванчук! Вы выдали себя с головой. Под стихами Тудоряну вы подписываетесь «руками и ногами». Выходит, вам с ним по пути?
— Неправда! Нам не по пути с тудорянами, но мы не хотим быть и вместе с коммунистами… Вот наше политическое кредо!
Чувствовалось, что Ореховский теряет терпение:
— С вами трудно разговаривать, Иванчук, ведь вы же противоречите сами себе… К чему призывает в своем стихотворении Тудоряну? Жечь, убивать, грабить и смаковать, как патоку, человеческую кровь. Ведь вы тоже стремитесь к этому. Вам тоже приятен «соленый запах крови». Итак, рассуждая логически, ни малейшей разницы между вами нет.
— Вы меня обижаете! Выбирайте слова!.. — Глаза Гини налились кровью, как у кролика. — Не забывайте, что мне предстоит жизнью оберегать честь нации и свою собственную… Равлюк, Стефа, почему вы молчите? Вы ведь тоже вступаете в корпорацию!..
Стефа покраснела и нервно стала вытирать платочком ладони. Ореховский слегка наклонил голову, давая понять, что она может говорить.
— Я не думала, что сегодняшнее собрание пойдет по такому пути… Я очень разочарована, если не сказать больше. Мы все знали, что Ореховские симпатизируют красной России… Об этом не говорилось открыто, но это чувствовалось… Но сегодня господин, то бишь товарищ Ореховский…
— Для вас «господин», — подсказал Роман.
Стефа машинально поблагодарила его кивком головы.
— …господин Ореховский поставил вопрос совершенно открыто. Я скажу о себе: никогда, ни при каких обстоятельствах мне не может быть близок румын, поляк, венгр или даже русский… Но… я спрашиваю: чего хотят коммунисты? Кажется, я не ошибусь, если скажу: они хотят, чтобы государственную власть взяла в руки улица… несознательная, темная, культурно отсталая масса…
Ореховский опустил папиросу, так и не раскурив ее.
— Ага! А почему вы все распинаетесь за народ? Кто, скажите мне на милость, собирается отдать «душу и тело» за «нашу свободу»?
— Да, да, — поддакнула Стефа, все время оглядываясь на Иванчука, — за народ! Именно за народ, а не за толпу, за сброд… За почтенных хозяев нации, за ее цвет, а не за толпу…
— «Толпа» — это русское слово, — иронически заметила Наталка.
Стефа жестом попросила не прерывать ее.
— Толпа, которая, дорвавшись до власти, прежде всего варварски уничтожила бы все культурные ценности…
Ореховский нетерпеливо перебил ее:
— Вы знаете, Сидор, я хочу, но не могу вас спокойно слушать. Как вы себе все представляете? «Толпа» с зажженными факелами будет бегать по улицам, поджигать музеи, картинные галереи, библиотеки… Примите к сведению: в Московском Кремле сохранены не только ценные царские одежды и короны, но и кареты, в которых ездил царь-батюшка…
— Не знаю! Я там не была так же, как и вы, Ореховский! Вы верите тому, что доходит до вас через десятые руки, а я нет… Я верю тому, что вижу собственными глазами…
— Интересно, Сидор, что же вы видели «собственными глазами»?..
Стефины пальцы нервно комкают платок.
— «Собственными глазами» — это в некотором роде идиома… Но я знаю, как этот ваш «народ» весной расправился с обстановкой помещичьего дома в селе Острица. А были там, к вашему сведению, картины, стоившие миллионы… Что же сделал ваш народ? Выколол глаза на всех портретах!..
— Ого! — Ореховский наконец прикурил. — Видно, очень уж допекли крестьян потомки господ, увековеченных на портретах, если наш медлительный буковинский мужик решился на такое… Выкалывать глаза господам, мирно висящим на стенах… Ха!..
— Вы того… не мудрствуйте, а отвечайте на вопрос! — вмешался Иванчук.
— Что же отвечать? Сидор сокрушается о портретах и не хочет разобраться в том, что послужило причиной бунта. Она не видит людей, умирающих от истощения на полях, кстати говоря, у того же украинского помещика! Не видит тех, кого истязают в застенках сигуранцы, — ведь Сидор более сродни помещик, или, как она изволила выразиться, «почтенный хозяин», чем народ, от имени которого вы здесь распинаетесь. Но учтите, Сидор, — ваши разглагольствования вызовут только смех, да, да — только злой смех того народа, чьи интересы вы якобы защищаете.
— Вы, Ореховский, еще не знаете, что я хочу сказать, — протестует Стефа. — Я хочу сказать, что для нас…
— Конкретнее! — крикнул кто-то из юношей.
— Для украинской интеллигенции, — поправилась Стефа, — не так страшен стихийный взрыв, который, я думаю, всегда можно погасить…
— Допустим, не всегда, — раздался тот же голос, но Стефа не обратила внимания на реплику.
— … как эта ваша организованная масса, о которой вы любите говорить… ну, та, что в России… если б она, дорвавшись до власти, перевернула всю жизнь вверх корнями. — И, ухватившись за это сравнение, Стефа продолжала развивать мысль: — Не может цвести и плодоносить дерево, не имея в земле корней… А в данном конкретном случае самое важное — это национальная борьба, и ради нее нам надо объединить все силы, а не распылять их искусственным делением на «богатых» и «бедных»…
— Позвольте, позвольте, — не дал ей закончить Ореховский, — для вас социальное неравенство — это «искусственное деление»? Что же! В ваших устах это звучит естественно… Но я думаю, что украинскому рабочему совершенно безразлично, кто его эксплуатирует — фабрикант румын или — к примеру, скажем, — отец нашего уважаемого Равлюка…
Равлюк вскочил, словно его дернули за шнурок. Красивое лицо с темным пушком над губой пылало от гнева:
— Простите! Вы обижаете моего отца, которого совершенно не знаете! Вы не знаете, как румыны прижимают нас налогами! Вы ошибаетесь! Грубо ошибаетесь! Рабочему, нашему, украинскому рабочему, отнюдь не все равно, у кого работать. Вы бы взглянули, какую икону преподнесла отцу под Новый год группа рабочих нашей фабрики… и какой патриотический адрес… Вы ошибаетесь! Вы ничего не знаете! Вы кабинетный патриот! Прочтите этот адрес, и вы заговорите по-другому!
Романовская замахала руками, требуя, чтобы ей сию же минуту дали слово.
— Ты думаешь, рабочие сделали это от великой любви? Они, знаешь, придерживались народного присловья: «Гладь волка по шерстке!»
Дарка не выдержала и рассмеялась. Роман Ореховский погрозил ей пальцем. Романовская продолжала:
— Ты думаешь, что… фабриканту румыну они не преподносят «патриотического» с румынской точки зрения адреса?
— Это бесхребетность! Это беспринципность! Это… — Пена выступает в уголках губ, Равлюк шарит по карманам в поисках платка.
— Нет, — отвечает за Романовскую Ореховский, — это борьба за существование. Нашему Ивану или Павлу из Жучки пока выгодней работать у вашего отца, чем, к примеру, на заводе Сигулэску. Это факт. Но факт и то, что вашему отцу выгоднее использовать труд забитых батраков из окрестных сел, чем труд сознательных городских пролетариев… Верно и то, что этот же Иван или Павло с одинаковым удовольствием сбросил бы со своего хребта Сигулэску и, простите за неделикатность, вашего папочку…
Равлюк ударил кулаком по ручке кресла, с которого только что вскочил:
— Извините!
— Не за что, — спокойно ответил Ореховский.
— Извините! Вы хотите сказать, что ставите моего отца на одну доску с румыном?
Стефа тоже подхватилась, вышитый платочек снова забегал между пальцами.
— Может быть, вы и моего отца…
— Садитесь, Сидор, — Роман рукой указал ей на кресло. — Вы правы. Я не вижу разницы между председателем суда румыном и украинцем… Ни тот, ни другой в нынешних условиях не может быть, даже если бы захотел, порядочным человеком…
— Что вы сказали? Повторите! — У Стефы побелели губы.
В два прыжка Равлюк оказался перед нею, загородил ее вытянутой рукой, словно жизнь девушки была в опасности.
— Успокойся, Стефочка! Я твой побратим. Я сумею защитить твою честь…
— Отлично! — воскликнул Гиня. — Отлично, Равлюк! Нам нечего делать там, где оскорбляют нашу личную… и, того, национальную честь…
Все вскочили с мест. Равлюк вынул из портфеля визитную карточку, поставил ее на стол перед Ореховским.
— Господин Ореховский, я жду ваших секундантов…
— Ах, вы, — Роман оглянулся, словно ища палку, — клоун несчастный! Вы еще будете угрожать мне дуэлью? А ну-ка, выметайтесь отсюда! Пусть это вас не обижает, Сидор, ваши «побратимы» освободили вас от обязанности реагировать на оскорбления… Вот порог!
Гиня Иванчук первый переступил его. Стефа обернулась, стоя уже в дверях. Она что-то сказала, но так невнятно и тихо, что никто из оставшихся не разобрал ее слов. Равлюк, которому пришлось замыкать шествие, хлопнул дверью.
Было слышно, как быстро они сбегают по ступенькам.
Ореховский подошел к окну, распахнул его, словно хотел проветрить комнату. Наталка, скрестив руки на груди, благоговейно глядя на брата, ждала, что он скажет.
Тишина становилась гнетущей.
У Дарки физически болела грудь, казалось, чья-то рука сжала сердце в кулак и ритмично выжимала из него кровь, как сок из лимона.
Стефа Сидор первая ввела Дарку в этот дом, а теперь дороги их разошлись и никогда не сойдутся, разве только скрестятся… Но что делать, если правда, — а это Дарка чувствовала умом и сердцем, — правда на стороне таких, как Ореховские.
Роман стал наводить порядок в комнате. Расставил по местам кресла, выбросил пепел из пепельницы, расправил ковер на полу.
— Да, — заговорил он наконец, — печально все это… Сидор, Равлюк — те хоть защищают свои шкурные интересы, а что ищет среди них этот идиот Иванчук? Чьи интересы защищает он? Блокируется с сидорами и равлюками потому, что народ его угнетают румыны и он не может, дурак, простите, понять своим куриным умишком, что без решения социального вопроса и речи не может быть о каком-либо национальном освобождении. Да, печально все это. А самое печальное, что рано или поздно такие, как Иванчук, попадают в лапы международной разведки и пропадет парень ни за грош! Тот же Равлюк продаст его, и не за тридцать серебреников, а за тридцать копеек! Таскать каштаны из огня чужими руками — это они умеют!.. Ну, — снова движение рукой ото лба к волосам, — хватит на сегодня политики! А вы, — он обвел взглядом каждого в отдельности, — сделайте для себя вывод из сегодняшнего, с позволения сказать, собрания: как можно больше учиться и читать, читать и учиться. Ведь вы слышали, как этот Равлюк обыграл «патриотический» адрес? Они хитрее вас! А теперь, Наталочка, чаю! Только крепкого!
Когда Дарка вышла от Ореховских, солнце уже приближалось к горизонту. Тяжелое впечатление от собрания и его финала не покидало девушку. «Так иногда и родители, — размышляла Дарка, — отрекаются от детей, если те становятся негодяями, но все равно страдают от разлуки с ними…»
Нечего таить, Дарка тосковала по Стефе, по старой закадычной подруге Стефе. Девушка отлично понимала, что боль лишена здравого смысла и логики, но от этого не становилось легче. Дарка уже жалела, что не пошла к Стефку. Данко сумел бы направить ее мысли и чувства в другое русло. Более того, она уверена: расскажи ей Данко о встрече с Лучикой — и Даркина ревность рассеялась бы, как предрассветный туман. Впрочем, еще есть время. Можно забежать к Стефку. Нет! «Поддерживал ее под локоть и наклонялся к ней, да так, что головы их почти соприкасались…»
Зачем это? Музыкальные интересы требовали, что ли?
Не зная, как справиться с нахлынувшими на нее тяжелыми мыслями о Данке и Стефе, девушка дошла до лесопарка на Домнике.
Дарка взбиралась по дорожке все выше и выше. Зеленое царство раскинулось перед ней во всей красе. Вблизи деревья казались еще совсем зелеными, но если взглянуть на их кроны сверху, с горы, становится заметно, что березки окрасились в желтоватые тона, словно на них падал свет лампы, клены разрумянились, будто их пощипал морозец, а листья на дубах съежились и закурчавились по краям, начиная усыхать.
Весь южный склон, до самой вершины, был покрыт кустами калины и рябины. Сверху они казались кострами огненно-красных цветов. Если б рука человека перенесла все это на холст, художника обвинили бы в неестественном буйстве красок.
Поляны заросли цветами, и их пышные гроздья спускались до самой земли, были и ползучие, нежные, желтые и белые, на тонюсеньких стебельках. Все это цветы осени, они не любят ни весенней прохлады, ни летней жары, а лишь ласковую температуру золотой осени.
С вершины Домника казалось, что город лежит на дне колоссальной чаши, обрамленной по краям густыми садами. С высоты, на которой находилась Дарка, невозможно было различить улицы. Они терялись среди деревьев, словно узенькие тропочки в лесу. Дарка никак не могла отыскать дом, где жил Данко. Но глаза души видели все: маленькую, темноватую от зелени за окном комнату и Данка — он стоит перед старинным зеркалом и расчесывает пышные волосы.
Ах, боже мой, почему старинное зеркало? Почему гребешок и зеркало, а не скрипка и смычок?
Дарка постояла на вершине, потом поднялась еще метра на полтора выше, к каменной глыбе, еще раз с птичьего полета полюбовалась квадратами парков, голубой лентой Прута, расписными крышами митрополии, белеющими лентами главных магистралей, холмами и долинами родного города, печально вздохнула и стала спускаться.
От речки потянуло прохладой, да и отец, верно, давно закончив все дела, ждет дочку.
Часы на ратуше пробили четверть седьмого.
Конечно, папа уже ждал Дарку. Он шагал, заложив руки за спину, перед главным входом в вокзал — туда и обратно, туда и обратно. Увидав дочку, он так обрадовался, что ей стало стыдно. Если б девушка знала, что так нужна отцу, разве стала бы она бесцельно бродить по Домнику?
— Я уже все глаза проглядел… Как появится женская фигура в светлом платье, так думаю, что ты. Даже глаза заболели от напряжения. А как ты? Повидалась с подругами? Может быть, заглянула к Дуткам? Ты ела? Не голодна?
Дарка чувствовала, что если отец не замолчит, она не выдержит и разревется. К счастью, папа отправился в камеру хранения за вещами. Его беспокоило, что у Дарки кроме трех больших мест еще и сумка с продуктами. А может, прикрепить ее к маленькому чемодану?
Дарка принялась помогать отцу. Оба склонились над чемоданами, а когда девушка выпрямилась, то увидала на противоположной стороне Наталку с братом и Стефка Подгорского. Все трое — мужчины по бокам, Наталка в середине — шли прямо к ним.
Как обрадовалась Дарка появлению Стефка!
Не владея собой, она кинулась навстречу, сразу же припала к Стефку. Сердце подсказывало — он посланец Данка. Стефко (как изменили его длинная ряса и черная широкополая, как у монахов, шляпа), смущенный такой встречей, робко шепнул Дарке, что прежде всего надо познакомить отца с Романом Ореховским.
Минутой позже, когда отец и Ореховский размышляли, как безопаснее прикрепить сумку к чемодану, а Наталка увлеклась архитектурой вокзала, словно впервые видела его, Стефко единым духом выпалил:
— Он очень обижен на тебя, почему не дала знать о приезде. Данко узнал случайно, от Лидки. Сегодня у него обсуждение программы концерта… Если сможет, то прибежит. Просил передать привет и еще раз напомнить, что очень обижен на тебя…
— Скажи ему… передай ему… — Дарка не находила слов. Возможность повидать Данка совсем опьянила ее.
— Что с тобой? — подошла Наталка.
Она спросила еще что-то, но Дарка ответила невпопад.
— Наталка, если б ты знала…
— Ты не умеешь владеть собой, а это плохое свойство, — шепотом сделала ей замечание подруга. — Но я рада, что ты не плачешь.
Роман Ореховский вмешался в разговор:
— Пойдем, Наталочка, у тебя сегодня трудный день. — И, взяв сестру под руку, заговорил с Даркой: — Я принес вам кое-что почитать. Пока небольшая брошюрка. Но будьте осторожны. Когда приедете на рождество, побеседуем.
Отец, согнувшись, нес большой чемодан. Ореховский пошел помочь ему, и Дарка заметила, как ловко Роман засунул брошюрку-книжечку под чехол чемодана.
До отхода поезда оставалось семь минут. Первым ушел с перрона Стефко Подгорский. Он извинился и сказал, что должен спешить к вечерней молитве. Ореховские тоже считали, что последние минуты принадлежат отцу.
Дарка стояла на ступеньках вагона. Папа смотрел на нее снизу, а она, вытянув шею и прищурив глаза, смотрела куда-то поверх его головы.
Наконец кондуктор попросил домнишору занять место в вагоне, сейчас поезд тронется.
Дарка шагнула в тамбур, но рук с перил так и не убрала. Теперь и отец догадался — она кого-то ждет.
— Еще кто-нибудь придет провожать тебя?
Дарка уловила нотки укоризны в его голосе.
— Нет… да…
Отец молча положил свою руку на Даркину. Теперь он вместе с дочкой смотрел на дверь. Папа, безусловно, порадовался бы от души, если б мог первый сообщить ей приятную новость. Но тот, долгожданный, не явился.
Свисток дежурного. Последнее пожатие рук. Поезд тронулся. Отец шел рядом с вагоном, стараясь шагать не отставая. Так он прошел несколько шагов, и поезд обогнал его.
Дарка побежала в купе. Когда выглянула в окно, отца уже не было видно. Торчал лишь клюв водокачки.
Впервые в жизни девушка едет на юго-восток от Черновиц. До сих пор она знала одну дорогу: через Лужаны, Кицмань на север, к Веренчанке.
Чтобы не думать об отце, оставленном на произвол Манилу, о маме, с которой так сдержанно простилась, о Данке и Стефе Сидор, Дарка размышляла над тем, какой покажется ей румынская земля, о которой столько наболтала Орыська.
Но и здесь девушке не очень повезло. На самой границе Буковины и регата Дарку настигла ночь. Пришла она неожиданно. Люди в вагоне зажигали свечи. Дарка вспомнила, что и у нее в чемодане на всякий случай лежат две восковые свечи.
На какой-то небольшой, заросшей диким виноградом станции, в темноте напоминавшей беседку, в вагон ввалилась группа лесорубов, а за ними старый гуцул с туго набитыми бесагами[64] через плечо.
Румыны все как один были смуглые, черноглазые, длиннолицые. При тусклом освещении они походили друг на друга, как братья-близнецы. Одеты все очень бедно. Те, на ком черные суконные безрукавки, выглядели еще более или менее прилично, а остальные, в заплатанных пиджаках, совсем походили на нищих.
Дарка обратила внимание на буковинского гуцула. В его ясных усталых глазах читалась безутешная боль. Седые волосы длинными редкими прядями спадали до плеч. Он сидел, опершись на палку, ни на кого не обращая внимания; казалось, старика совершенно не интересовало происходящее вокруг.
Лесорубы, видно, спешили к поезду и не успели поужинать, теперь они делили между собой кукурузный малай и брынзу.
Вдруг в противоположном конце вагона послышался шум.
— Контролер… контролер… — прошелестело из уст в уста.
Дарка приготовила билет. Гуцул вытащил из-за пазухи платок и в поисках билета перебирал различные бумажки. Лесорубы, продолжая ужинать, только переглянулись.
— По скольку?
— По семь…
— Маловато вроде. А? Может, по десять?
— Давай двадцать, коли есть!.. Я говорю — по семь. Это ведь не старший, а тот щенок…
— Верно, по семь.
Один из лесорубов протянул ладонь, и в нее, как в копилку, посыпались деньги.
Дарке все было ясно: лесорубы ехали без билетов и теперь собирались умаслить контролера. Удивляло лишь то, как откровенно, без малейшего стеснения, они торгуются между собой. Когда приблизился контролер, румыны с еще большим аппетитом принялись уписывать малай и брынзу. Тот, что собирал деньги, даже не поднимаясь с места, сунул в руку контролера пачку банкнот.
Контролер, такой же черноглазый, с блестящей оливковой кожей, похожий на лесорубов, только более полный и круглолицый, подозрительно смял деньги в кулаке.
— Эх, ребятки, не маловато ли?..
— Знаем… Хватит, хватит!
Гуцул молча, с немой покорностью протянул контролеру билет. Тот поглядел и схватился за голову.
— Ай-ай… такой старый, а такой глупый!… И куда ты, дед, только глядел, когда билет брал?
В глазах старика появился страх. Он растерянно смотрел то на контролера, то на билет.
— Не годен? — встревоженно спросил он на ломаном румынском языке. — Не годен? Как же не годен? Я ж его в кассе на вокзале брал…
— Он хочет домой! Отошлите его домой! — хохотал кондуктор.
Лесорубов, очевидно, оскорбили насмешки кондуктора над стариком. Они оторвались от еды и принялись объяснять гуцулу, что билет «бун»[65]. Что он спокойно может ехать — «чах-чах» — и не обращать внимания на кондуктора, потому что он — «пшик», плюнуть и растереть, тьфу — и нет его.
Старик никак не мог уразуметь, в чем дело. Если билет настоящий, как говорят эти добрые люди, почему же контролер схватился за голову? Зачем так напугал его?
И только Дарка объяснила ему по-украински (старик, услышав родную речь, так и просиял), что билет действителен. С этой стороны все в порядке. Но контролер обижен на гуцула, который по глупости взял билет до самого Бухареста, вместо того чтобы оплатить половину дороги, самому выгадать и дать немного заработать контролеру.
— Интеледж! — Кондуктор стукнул его пальцем по лбу.
— Ага-а, — поддакнул старик. Минутная радость, вызванная тем, что он в безопасности, прошла, и лицо его снова стало суровым и недобрым. — Эй ты, — он с размаху отбросил руку кондуктора, — убери пальцы с моего лба, а то как бы я не огрел тебя палкой!.. Никогда не был я жуликом и не собираюсь им быть… Гады вы подлые!
— Что старик плетет? — обратился кондуктор к Дарке.
Она вспомнила, как Ляля переводила Альфреду, и воспользовалась этим же приемом:
— Он говорит, что в следующий раз сядет в поезд с перронным билетом…
— Ну, — покосился на старика кондуктор, — ты знаешь, чем это может кончиться? Билет надо брать, а то ты, свинья, можешь еще ляпнуть, что я научил тебя ездить без билета. Билет нужен, но не полный, понял? Билет нужен, государство не намерено тебя, вонючего, задаром возить…
— Глядите, какая напасть… — Гуцул для большей безопасности подсел к Дарке, инстинктивно чувствуя в ней защитницу. — Чуть не оштрафовали за то, что взял билет. Скажите, барышня, что это за порядки такие и долго ли еще будут издеваться над нами?
Дарка, опасаясь, что кондуктор немного понимает по-украински, уклонилась от столь остро поставленного вопроса. В свою очередь она расспросила соседа, куда и зачем он едет: ей казалось, что старик не много путешествовал на своем веку.
— К сыну еду, барышня! Уж второй год служит в армии. Вот, почитайте. — Старик снова шарит за пазухой, вынимает платок, ищет бумажку с адресом сына. — Бухарест, верно? Вон, глядите, что пишет: «Либо приезжайте ко мне, либо жизни себя лишу, а потом не плачьте обо мне». Трудно ему там, барышня! Языка не знает! Они ему приказывают: «Дряпте», а он не знает, право это или лево… А там, знаете, не так ногу поставь — и уже лупят…
— Разве в армии теперь бьют?
— А вы разве не знаете?… Бьют… бьют, чтоб их на том свете дубасили!.. Бросают на лавку и молотят палками, как цепами… У кого слабое сердце, тот сознание теряет, его водой отольют и бьют дальше… сколько приказано. А почему бы народ так бежал из армии? Даже штрафами не запугали, все равно бегут… Нет мочи, барышня! Так и мой Петро. Ая! А ведь он мне сын. Пишет: «Или приезжайте и привезите немного денег моему начальнику, или заказывайте заупокойную службу — аус тут мне». А где денег взять, если от податей, как от бешеных псов, не отвязаться!.. Берегла моя старуха себе на похороны несколько золотых дукатов… еще от прабабки достались ей… вот и отдала их. «На, говорит, вези. Меня похороните в чем бог пошлет, только бы он, упаси боже, на себя руки не наложил…»
Лесорубы сошли на одной из станций, которая даже не была освещена, просто кто-то вышел к поезду с фонарем. В вагоне стало почти пусто.
Гуцул вытер лавку полой сердака[66].
— Укладывайтесь, барышня, без привычки трудно не спать. Укладывайтесь, а я постерегу ваши вещи.
— Вы сами ложитесь, я ведь к знакомой еду, а вам бог знает где придется следующую ночь провести… Меня ждет постель, и ехать недалеко…
— Как недалеко? Разве вы не в Бухарест? — На лице старика отразился такой испуг, что Дарка пожалела о сказанном. Он казался беспомощным ребенком. Разговор с контролером сделал его недоверчивым и окончательно лишил веры в собственные силы. — Ой, как же я доеду без вас, моя золотая? Да у меня только и надежды было, что на вас… А теперь я словно посреди реки остался… Огорчили вы меня, барышня, так, что и сказать не могу… Ой, мамочка, ведь они меня начисто там вокруг пальца обведут!
— Не обведут, только вы виду никому не подавайте, что у вас немного денег есть… А поезд довезет вас до самого Бухареста.
— Ох, довезет… довезет… Возил бы лучше их на тот свет… А вы на меня не глядите и не принимайте близко к сердцу то, что я говорю. Человеку всегда кажется, что его заботы всего важнее. А поглядишь — в каждой хате своего хватает. Вот гляжу на вас и думаю: разве радость погнала вас из дома, с родной стороны, от отца-матери? А я думаю, что моя беда самая горькая…
И, так приговаривая, он все-таки заставил Дарку прилечь на скамью, подложить под голову вместо подушки его тайстру. Как только девушка улеглась, она тотчас заснула. Сон был беспокойный, но крепкий, как под наркозом. Когда Дарка проснулась, в окнах уже серело. Гуцул сидел на том же месте, опершись подбородком на посох, не изменив позы с вечера.
За окнами расстилались бесконечные поля кукурузы.
— Мошии, — пояснил старик.
Дарка знала от домнула Локуицы, что «мошии» — это огромные земельные массивы, которые местные помещики, так называемые «бояре», обрабатывают по старой крепостнической традиции. Крестьяне здесь так бедны, что вынуждены ходить к барину на работу, а тот с помощью своих арендаторов и сельских корчмарей, которые есть в каждом селе и которые, в сущности, являются его агентами во всех других делах, управляет так, что весь летний заработок попадает в кассу арендатора. Ограбленный крестьянин, оказавшись в безвыходном положении, уже зимой за мизерную плату продает свои руки на будущее лето. Одним словом, мужик всегда находится на положении господского должника. И даже если такой бедняк умирает, долг его переходит на детей.
Поезд приближался к какой-то деревне. Низенькие, зачастую небеленые хатки-мазанки производили удручающее впечатление. Не оживляли эту печальную картину ни виноградники, ни цветы, в изобилии разросшиеся во дворах, — признак, что в хозяйстве нет даже кур. Единственными хозяйственными строениями были кошницы[67] из лозы и четырехугольные загородки для овец, которые, верно, и зимовали на снегу. Лишь кое-где среди этого убожества мелькали побеленные, даже расписанные дома, крытые цинком, с высоким, обмазанным глиной и побеленным плетнем.
— Видите, барышня, нигде люди не живут одинаково. Я иногда, прости меня, господи, думаю: а равны ли мы будем все там, в раю?
Поезд остановился. К нему подошли подростки и старые женщины с ведерками вина. Темно-лиловое вино сочилось у них между пальцами, стекало через края стаканов, а люди ходили от окна к окну, зазывая:
— Чине врей винул? Винул! Винул![68]
В вагон ввалилась толпа батраков, об этом можно было догадаться по мешкам зерна, которые люди волокли за собой. Они казались родными братьями лесорубов — такие же красивые, черноглазые, смуглые, с блестящей кожей, только еще более оборванные. В вагоне сразу запахло дешевым вином. Дарка поняла, почему они такие веселые. Все, не исключая и женщин, немного подвыпили.
Седой патриарх со смоляными бровями продолжал рассказывать историю о каком-то Ионе. Собственно говоря, в истории этой не было ничего смешного, но мужики так и раскачивались от смеха, а женщины били их кулаками по плечам, как по барабанам.
— Я его спрашиваю: «Почему не женишься, — простите на слове, — свинтус?» А он говорит: «С чем жениться? С голой, — простите на слове, — задницей? Вот заработаю денег, тогда и женюсь. Иду, говорит, на мошию, а вы подыщите мне тут молодку». Я думал, простите на слове, что имею дело с разумным человеком, и в самом деле подыскал ему молодку. Немолодая она, конечно, тринадцать лет как вдова, но для Ионы, как он, простите на слове, с характером, так в самый раз. Невеста готовится к свадьбе, а Иона всё не является. Уж и жатва прошла, а Ионы все нет. Хата лебедой поросла. На крыше овес высеялся и уже доспевает… На подоконнике черешенка выросла, а Ионы нет…
Кто-то недоверчиво кашлянул. Рассказчик обиженно замолчал, запыхтел трубкой.
— Рассказывайте, Штефан, рассказывайте…
— Если я вру, зачем же мне рассказывать? Я могу и помолчать. Мне ни к чему эта история, я ее и так знаю… Раз говорю, что черешенка на окне выросла, значит, выросла. Я же не сказал «дуб» или «пихта», а «черешенка». Даже «черешня» не сказал…
— Твоя правда… А черешенка может быть чуть побольше мизинца… Чтоб ему, тому разбойнику, что покашливает, рот свело… Давайте дальше, Штефан, как вы сватом Ионы были…
— Об этом-то я могу рассказать, вот только не люблю, если меня кто, простите на слове, дураком считает. На чем я остановился?.. Итак, вернулся Иона…
— Вернулся все-таки, сердешный! И что же?
— А ты не спеши. Надо все по порядку, как история шла. Я врать не умею и не люблю. Коли говорю «черешенка», так и понимай: черешенка, что только что вылупилась из зернышка, чуть побольше мизинца, а не дерево, из которого тебе гроб сколотят… На чем я остановился?.. Ага! Вот приехал Иона — и прямо ко мне. В хату к себе не может войти: крапива да бурьян не пускают… Пришел за косой, а я ему говорю: так, мол, и так, невеста ждет, покупай только цуйки[69] и прямо к попу. И так обрадовался он, так обрадовался, говорю вам, что даже шапку наземь кинул…
— Может, пьяный был? — недовольно перебила молодая женщина. Могло показаться, что она позавидовала той вдове.
— Какие вы, ей-богу! Что за люди пошли! Как же пьян, если только за цуйкой собрался? Слушала б лучше, что я рассказываю, а то вырвется, прости, господи, как телок… Итак, побежал он на радостях за цуйкой. А в корчме осенью, известное дело, народу всегда много. И стал он на радостях, что женится, угощать всех и доугощался до того, что одолжил у моего кума пять леев… А я ничего не знаю. Хоть бы меня, как свата, пригласил, черт небритый, простите на слове, так нет! Сижу себе на завалинке, гляжу — он идет… Зеленый, сгорбившийся, ровно полный день с коноплей мок, простите на слове. Пришел и стал столбом передо мною. Хоть бы словечко проговорил. «Ты что, спрашиваю, онемел или белены объелся?» А он в ответ: «Пришел сказать, что запираю хату на прут, а сам иду к барину, перезимую где-нибудь в конюшне, а ей передай: если может, пусть еще зиму подождет».
— И ждет? — окружили рассказчика женщины. — Боже ты мой! Сколько ж ей лет? И охота еще зиму ждать!
— Ага… ага… А ты бы не стерпела?
— А что, и не стерпела бы!
— А она, видишь, как порядочная, ждет… «Теперь, говорит, как вернется он с мошии, сама выйду встречать и сама куплю цуйку…»
— Ох, уж эта цуйка! И не говорите, дедушка! Наш мужик за вино и водку родную мать продаст! Сами слышали — как вол ворочал целое лето, а за день все спустил в корчме… Жениться собрался — и фью-уть! Ушло все с вином и цуйкой, сгореть бы ей!
— А ты, Мариора, чего горячишься? Твой мужик пьет, бедняга, только по субботам…
— Верно, не часто, зато здорово! А вы послушайте, какая чудасия приключилась в нашем селе прошлой весной… Взбрело на ум нашей помещице в вине искупаться.
— Не может быть, Мариора, не может быть, дочка, — заволновался старик.
Дарка не могла понять, что его волнует: то ли что госпожа столько вина испортила, или то, что рассказ Мариоры будет интереснее его «истории»?
— Как это не может быть? — грозно сверкнула глазами Мариора. — Как не может быть, если я рассказываю? Моя родная сестра служит у этой барыни в горничных, не выдумала же она… да и все село знает!
Штефан завертелся на лавке.
— Я же не спорю, ну, купалась, но чтоб в чистом вине, простите на слове, не верю… Не говорю «врешь», но не верю. Сам не люблю врать и о другом так не думаю, но не верю… Может, долила в купель литра два… ну, может, пять… знаешь, господа любят всякие штучки, но чтоб купалась!..
Разгневанная Мариора встала, уперла руки в бока. Казалось, она готова была кинуться на Штефана с кулаками.
— Чего вы мне здесь болтаете «долила», когда она купалась в вине!… Приказала выкатить из погреба бочку вина, выбила затычку, и девушки потащили ведра с вином на кухню… Подогрели его — и, красное, как кровь, прямо в ванну. А она и влезла туда голышом…
— Ну и ну! — прошелестело среди мужиков. — Столько добра перевести!..
— Не бойтесь, не перевела ваше «добро». Три или четыре дня покупалась она, а на пятый довелось ей куда-то ехать… Видно, хорошая новость была, — распушила барыня хвост, с челядью шутит, кучерам приказала на обед мясо сварить… А потом на радостях созвала слуг и говорит: «Можете вино из ванны выпить, не дожидаясь моего возвращения».
— И пили? — со страхом спросила пожилая женщина.
— Девушки не пили, брезговали, а мужики тянули, как свиньи…
— Свят-свят-свят! — перекрестилась старуха.
— И хоть бы, свиньи, прокипятили его, так нет! А вы говорите, Штефан… Да Мужик за вино и цуйку родную мать продаст!..
Поезд подходит к Штефанешти. Рельеф окрестностей менялся. Безграничные однообразные массивы помещичьих земель скрылись вдали, на горизонте вырисовывались узенькие, длинные полосочки крестьянских полей. Равнина переходила в холмистую, покрытую ручьями и оврагами местность. Склоны, как правило, засажены виноградом. В деревне, к которой подошел поезд, не было видно мазанок. Белые домики, казавшиеся еще белее от побеленных, обмазанных плетней, на фоне зеленеющих садов выглядели очень живописно. Почти в каждом дворике цвели георгины. Люди, шагавшие мимо окон по дороге, казались Дарке уже не такими бедными, как те, кого она видела раньше. На некоторых мужчинах были башмаки, большинство же ходило в постолах[70], а женщины — босиком.
Еще один поворот дороги по краю оврага, на дне которого паслось стадо черно-белых коров, — и поезд, тяжело засопев, начал карабкаться в гору. Когда наконец паровоз взобрался на плато, городок Штефанешти раскрылся во всей красе. Розово-зеленый, он тянулся вдоль берега реки. Большинство домишек было выкрашено в розовый цвет, а несколько больших зданий, словно великаны, высились среди крошечных домиков и казались взрослыми меж детей. На церковном куполе ослепительно блестел золотой крест. Два-три, насколько можно было судить по внешнему виду, государственных учреждения были крыты ярко-красной черепицей. Эти алые пятна оживляли панораму Штефанешти.
«Хороший городок», — подумала Дарка с облегчением. Она подтащила вещи поближе к выходу. Старик с Буковины старался во всем быть ей полезен.
— Прощайте, бадико[71], и не падайте духом… Даст бог, и в наше оконце заглянет солнце…
Старик смотрел на нее скорбными, покрасневшими от бессонной ночи глазами.
— Бог бы говорил вашими устами! Хоть бы годик нам пожить по-людски! Если б вы знали, какие это для меня дорогие слова… И чем мне только отблагодарить вас? Возьмите хоть это, — он метнулся к своим бесагам, вынул три больших, словно капустные кочаны, чудо-яблока.
Дарка не решалась сказать, что едет туда, где яблоки дешевле картошки.
Гуцул не знал, куда девать яблоки. Дарка в двух руках держала три предмета. Наконец старик догадался сунуть яблоки в сумку с едой. Опустевшая в дороге, она снова наполнилась.
— Не надо, бадико, не надо…
— Молчите, барышня! Только и памяти будет вам обо мне… Ох, как же плохо, даже сказать не могу, что вы не едете со мной в Бухарест, провались он пропадом…
— Счастливо, бадико! Счастливо! Не надо… не надо, не выходите из вагона! Будьте здоровы и держитесь крепче!..
Поезд стоял в Штефанешти не больше пяти минут. Только Дарка успела выгрузить вещи, как дежурный дал свисток.
Удивительно, до чего спокойно чувствовала себя Дарка, ступив на штефанештскую землю. Она заранее подготовила себя к тому, что домнишора Зоя может ее не встретить. Подумала и о том, что на этой маленькой станции может не оказаться ни носильщика, ни извозчика и ей самой придется со всем справляться. Откровенно говоря, девушка не имела ничего против приключений. Ей хотелось позже написать маме, а может быть и еще кое-кому, о том, как мужественно она преодолевала дорожные препятствия. И Дарка была разочарована, что все шло так гладко. Еще бы! Не успела она оглядеться, как к ней подошла щупленькая, небольшого роста женщина, и Дарка скорее догадалась, чем узнала в ней сестру домнула Локуицы.
Она несколько раз, правда, всегда мельком, видела Зою в Веренчанке, но как-то не обращала на нее внимания. Сейчас дело обстояло иначе. Девушка присматривалась к Зое, как к человеку, с которым ей придется есть за одним столом, спать под одной крышей, а может быть, даже в одной комнате.
Изменилась ли Зоя? Безусловно. Лицо похудело, глаза расширились. Мужская прическа и куртка с засученными рукавами делали ее похожей на мальчишку, выдавали лишь морщины на лбу. Зою нельзя было назвать красивой, но выражение ее глаз было ни с чем не сравнимо. Она, протянула Дарке руки, и та с удивлением заметила на указательном пальце левой руки большой потемневший серебряный перстень.
Зоя спросила голосом домнула Локуицы:
— Домнишора Попович?
— Да. А вы, думаю…
— Именно!
— Как же вы сразу узнали меня?
— Не спрашивайте. Сошла с поезда белокурая девушка с вещами… и постелью. Новое дело! Будто у меня не нашлось бы для вас подушечки! Ну ладно, а теперь чувствуйте себя на нашей земле как дома.
Она наклонилась и трижды церемонно поцеловала Дарку в губы.
На улице у вокзала стояли две таратайки-одноконки, — верно, в ожидании пассажиров. Таких бричек Дарка на Буковине не видала. Высокие, так что взбираться приходилось по лесенке, а дно маленькое, с низенькими бортиками.
Неподалеку от бричек, прислонясь к забору, прямо на земле сидели извозчики, оба черные, усатые, в кепках, сдвинутых на затылок. Казалось, их мало трогало, кого выберет Зоя. Ее выбор пал на старшего из них. Он лениво поднялся, отряхиваясь и позевывая, пошел к лошади.
Даркины вещи не умещались в бричке. Извозчику пришлось укрепить их сзади. Наконец все было уложено, возница взгромоздился на козлы, причмокнул, и лошадь тронулась.
Вот и Штефанешти!..
Они въехали в улицу, с двух сторон окаймленную высокими белыми заборами, из-за них выглядывали верхушки яблонь и слив. Все дома, даже те, у которых окна касались земли, имели крылечки. Под крышей каждого домика на жердях сохли красно-желтые связки кукурузы «чинкантине»[72]. Между окнами на шнурах висели грибы и нарезанные кружочками яблоки. На специально приделанных к крышам дощечках подсыхал будз[73].
У каждого крылечка цвели георгины. Дарка никогда не видывала таких великанов. Цветы величиной с тарелку клонились к земле от собственной тяжести.
Бричка свернула налево и затарахтела по булыжной мостовой. Въехали в центр городка. Появились каменные двух- и трехэтажные дома, вместо глиняных заборов здесь высились железные решетки, выкрашенные в какой-либо веселый цвет — ярко-голубой, канареечный. Пристрастие к ярким цветам отразилось и на флюгерах-петухах, украшавших крыши. Дарке бросилось в глаза, что здесь чуть ли не каждая третья лавчонка — винный погребок. Зоя показала гостье примарию — здание, построенное после войны. Большой неуклюжий дом распластался поодаль от остальных, словно хотел подчеркнуть свое особое, исключительное положение в городке.
Домнишора подмигнула Дарке, намекая на присутствие третьего человека, и высказала приблизительно эту же мысль:
— От нашей бедноты разит чесноком. Жрут его, как свиньи, даже дома провоняли им… Вот и пришлось строить примарию в стороне. А как вам нравятся наши штефанештские моды? У вас в Черновицах одеваются иначе. Там женщины носят короткие юбки, а у нас, как видите…
По дороге им и правда попадались пестро одетые женщины в длинных юбках и в фантастически расписанных шалях. Но Дарка не замечала и следа той сказочной роскоши, о которой с таким восторгом болтала Орыська. Наоборот, население в целом казалось беднее, чем черновицкое. Вот переходит дорогу женщина в пестрой юбке и белой блузке с рукавами как паруса. На голове кокетливо повязан яркий шелковый платок с кистями, спадающими до самых плеч, а ноги босые.
— Нравится вам наша мода? — повторяет Зоя.
— Мне все новое интересно, — уклончиво отвечает Дарка.
Бричка снова въезжает в предместье. Тесная, темная, улочка; приятно веет прохладой от тенистых деревьев, склонивших ветви через заборы. Снова тянется ряд деревянных домишек с крылечками и георгинами.
В одном из таких и живет Зоя Береску. С улицы домик не виден. Он низенький, по самую крышу увит виноградом, лозы взгромоздились даже на крышу. От калитки к крылечку тянется живой туннель. Темно-лиловые гроздья муската, большие, продолговатые, так прозрачны, что солнце просвечивает сквозь них, как через стекло, «дамские пальчики» соблазнительно свисают со «стен» и «потолка» туннеля.
Зоя поставила у порога чемодан, протянув руку, сорвала кисть лилового, покрытого пыльцой, еще теплого от солнца муската, подала Дарке на вытянутой ладони, как на блюде.
— Еще раз приветствую вас, уже дома!
Дарка, не зная, что это — обычай или особое уважение к ее особе, взяла виноград и поклонилась полусерьезно-полушутливо.
Зоя сорвала гроздь и себе, поднесла ее ко рту, словно чашу с вином. Держа кисть вертикально, она медленно, по мере того, как виноградинки исчезали во рту, опускала ее все ниже.
Дарка последовала примеру хозяйки.
Ароматный, освежающий, кисло-сладкий сок заполнял рот. Смылась с зубов придорожная пыль, и приятный холодок разлился по всему телу.
XXVIII
Любопытно, что в шестой класс штефанештской гимназии Дарка вошла смелее, чем год назад в Черновицах — в пятый. Год жизни в городе сделал свое. Раньше Дарку угнетало чувство собственной неполноценности, отравившее ей не одну радость в жизни.
Теперь девушка стояла на пороге нового класса, хоть и настороженная, но внутренне собранная, так что могла даже улавливать детали.
С первого взгляда она заметила, что и кубатура класса, и количество учениц здесь меньше, чем в Черновицах. Дарка насчитала всего одиннадцать учениц.
— Я буду учиться с вами, — произнесла она заранее заготовленную фразу, — но я плохо знаю румынский.
Первой откликнулась Илона Моршан. Такие моменты запоминаются. Она подошла к Дарке, дотронулась до ее руки и приветливо спросила:
— Правда?
У девушки длинный, тонкий нос и толстые, чуть оттопыренные губы.
— А почему ты плохо говоришь по-румынски? Какой же язык твой родной? Французский?
— Украинский, — не без колебания и не так громко, как ее спросили, ответила Дарка. Она не знала, как отнесутся к ней новые подруги, поняв, что она украинка.
Например, в черновицкой румынской гимназии этого было вполне достаточно, чтобы остаться совершенно одинокой, как ветряк посреди поля.
— Украинянка? А что это за нация? Я никогда не слышала о такой…
— Это большевистская нация! — с вызовом не только в голосе, но и во всей фигуре крикнула высокая ученица с пышными каштановыми волосами. Миниатюрный, усыпанный алмазами крестик искрился у нее на шее. — Как же тебя приняли в нашу гимназию? — Она повела плечом в сторону Дарки, уже готовая презирать или бойкотировать.
Дарка невольно оглянулась, ища защиты. Нечего оглядываться! За спиной нет больше Ореховской. Жизнь отняла уже у тебя роль «наивной сельской девочки» и кинула ее тому, кто пришел тебе на смену. А как бы повела себя в данном случае Наталка? Для таких сравнений нет времени. Либо надо тут же дать отпор, либо остаться в дураках.
— Ты, верно, плохо знаешь географию, если тебе не известно…
— Ох-хо-хо, — перебивает Илона, — не будем лучше говорить, как она знает историю и географию! Давайте я вас познакомлю… Как тебя зовут?.. Дарья? Как же это будет по-нашему… Ага, Дарика. А это, Дарика, Аглая. Ее отец гонит водку. Чего морщишь нос? Неправду говорю? Аглая самая богатая девушка во всей округе. Разрази меня господь, если я лгу! А эта, которая вошла, — Моника. Моника, у нас новая подруга! Это Моника Сада, дочь генерала в отставке. Она считает себя самой красивой в Штефанешти. Когда окончит гимназию, разрази меня бог, если лгу, примет участие в конкурсе на звание королевы Румынии по красоте…
— И приму! А ты нет, потому что у тебя нет данных… Раз ты так остра на язык, я тоже скажу: тебя никогда и близко не подпустят к этому конкурсу…
Илона смеялась, ее небольшие глазки совсем скрылись за веками.
— Ох-ох, Моника, как ты сразу рекомендуешь себя новой подруге! Так она хоть недельку думала бы, что у тебя, кроме красоты, есть хоть капелька разума…
— Что за разговоры, Илона? Кто тебя уполномочил вести их?
Дарка обернулась на голос. Худенькое личико, неприятные, тонкие, нетипичные для румынок губы и злые, наглые глаза.
— А, наконец и ты заговорила! — Илона повернулась к тонкогубой девушке и сделала неуклюжий реверанс. — Разрешите вас представить — первое лицо в классе, самая значительная особа во всем городе, дочь примаря[74] домнишора Маргарита Василеску. Теперь, Дарка, ты знакома со всеми «тремя грациями» нашего класса…
— Ты лучше о себе расскажи… А нам ни к чему слушать твою болтовню. — Дочь примаря взяла под руку Монику и Аглаю, и они вышли в коридор.
К Дарке подошла девушка с продолговатыми меланхолическими глазами и кудрявыми, словно посекшимися, волосами:
— На моей парте есть место. Хочешь сидеть со мной?
— Хочу, — ответила Дарка. Девушка понравилась ей с первого взгляда.
Но Илона, незаметно подтолкнув Дарку, отвела ее в угол.
— Не садись с ней, она еврейка…
— Ну и что? — очень удивилась Дарка.
— Ох-хо-хо!.. Откуда ты приехала? Ведь над тобой все будут смеяться, если ты сядешь с ней. — И тут резко, словно отрубила, ответила за Дарку: — Новенькая не сядет с тобой, она сядет со мной…
Вошел учитель географии, разговоры немного поутихли, хотя ученицы и не спешили занять свои места. Учитель был пожилой человек с лысиной, покрытой пушком, в пенсне на самом кончике крупного сизого носа. Дарка сразу заметила, что туфли его зашнурованы шнурками разного цвета.
— Господин учитель, у нас новая ученица! Вы бы хоть поглядели на нее! Без очков, без очков!.. Вы ведь не видите в пенсне на расстоянии!
Учитель опустил руки.
— Садитесь, пожалуйста, садитесь! Домнишора Попыску, вы на прошлом уроке обещали сразу после звонка занимать свое место. Вы же обещали…
Попыску стояла перед оконным стеклом и поправляла бант на груди.
— Это вам послышалось или приснилось, господин учитель… Я не могла дать такого обещания… Вы же знаете, мне необходимо движение… Как же я могу целый час высидеть за партой?
— У вас на всех уроках так? — Дарке жаль учителя, и она недовольна тем, что никто не реагирует на такое неуважение к старому педагогу. Но как реагировать? Ведь она только первый день здесь.
Илона Моршан, прижав руки к вискам, качает головой.
— Тебе придется ко многому привыкать… Что ты хочешь? Попыску не беднее Аглаи, но, как видишь, «три грации» не принимают ее в свой круг. А учитель… ох… У него ведь семь или восемь детей, вот он и терпит в надежде, что ему кое-что перепадет от ее родителей. Кроме «трех граций», остальные восемь учениц живут в ладу… Только с Эстер Тайхман никто не хочет дружить. Ее отец отвалил немало тысяч на оборудование гимназии, Эстер приняли, но все равно никто не станет сидеть с нею за одной партой. Разрази меня господь, если вру!.. А тебе нравится наша гимназия?
Дарка пожала плечами. Что здесь может нравиться?
Возможно, позже все уладится, но первый день занятий произвел на Дарку удручающее впечатление.
Зою она застала на крыльце. Та чистила фасоль.
— Как вы себя чувствовали в гимназии, домнишора Дарика?
Отвечать не хотелось, хотя вопрос и был задан кстати.
— Я еще ничего не могу сказать… А где теперь домнул Локуица? Он никогда не приезжает сюда?
— А что он позабыл здесь? — Зою как будто рассердил вопрос. — Веди он себя правильно, жил бы до сих пор в Веренчанке. Чего ему там не хватало? Есть было нечего или жить негде?
«Она очень недалекая. Откуда у такого умного брата такая ограниченная сестра?»
Первые дни в Штефанешти Дарка ждала письма от Данка. Ее не беспокоило, что он не знал адреса. Девушка не раз слышала, что молодые люди в таких случаях достают адреса из-под земли. Написать первой Дарке даже в голову не приходило. Такой поступок, запрещенный кодексом хорошего тона, считался смертным грехом, и она раз и навсегда отбросила эту возможность как нереальную.
Девушке вспомнилась бабушкина история с адвокатом. Дома она слушала ее краем уха, не придавая особого значения этому эпизоду бабушкиной молодости. Но теперь бабушка стала для нее образцом. Вот как надо дорожить своей девичьей гордостью! Нет, нет! Ни за что на свете она первая не напишет! «Лучше умереть, чем покориться, чем просить милостыню…»
Но на дворе стояла такая золотисто-багряная, пахнущая ранетом осень, что умирать не было ни малейшего желания.
По воскресеньям, после обеда, накормив утят и поросят, Зоя брала Дарку на прогулку в окрестности Штефанешти. Девушка, выросшая в Веренчанке, не могла досыта налюбоваться тем, что творилось в природе, и прежде всего чудесной панорамой горно-лесистых окрестностей. С монастырской горы Штефанешти со своими бело-розовыми домиками и красными черепичными крышами выглядел как драгоценный камень в зеленом кольце леса.
Невзирая на кажущееся спокойствие, гармонически царившее на небе и на земле, в природе шла ожесточенная борьба между жизнью и смертью. Среди сухих, сожженных горячим солнцем растений пробивалась сочная молодая травка. Терновник, уже раз произведя на свет плоды, захотел вторично испытать родительскую радость: он зацвел, правда, робко и не так сильно, как весной, но в прозрачном, чистом до звона воздухе миндальный запах этого цветения разносился далеко вокруг. Листва на деревьях не вяла, а лишь, отдавая дань прекрасному, меняла цвета. Да, с красками творилось нечто невообразимое! На самом склоне монастырской горы рос куст. На свежие, сочно-зеленые листья его словно кто-то небрежной рукой набросал свекольно-красные пятна. А небо! Дарка не помнит, чтобы ей когда-либо приходилось видеть такой теплый зеленовато-синий тон. Небо казалось бесконечно высоким и вместе с тем очень близким. Разогретый воздух струился вдали, словно дым. Солнце не грело, а припекало, но летней духоты не ощущалось. Малейшая тень давала прохладу, в лесу, под густой сенью деревьев, было даже сыро и холодно.
Зоя собирала лечебные травы (ее деятельная натура и здесь не находила покоя). Она учила девушку, какие травы и в какое время надо собирать и как хранить. Дарке запомнилось одно лишь название — цветок «Иван-предсказатель», желтый, на высоких стеблях.
Только два воскресенья не ходила Зоя с девушкой на прогулку, и эти дни Дарка считала потерянными для себя. Она слонялась по крохотному садику и, обрывая ромашку, гадала: «Любит — не любит». В эти дни к Зое заходила какая-то женщина, до самого носа закутанная в черную шаль, но, судя по глазам, молодая, — больше Дарка ничего не могла сказать о ее внешности. Они шептались с хозяйкой, и та сразу же начинала собираться. Зоя сосредоточенно надевала выходное, отнюдь не нарядное платье, а у Дарки на кончике языка вертелся вопрос: «Куда?» Но она пересиливала себя и не спрашивала. Оба раза Зоя вернулась домой поздно ночью. И только наутро, не зная, куда спрятаться от вопрошающих глаз девушки, пробормотала что-то невнятное о несправедливости и о наших обязанностях бороться с нею. Но тотчас, словно испугавшись, забрала свои слова обратно:
— Пей молоко и не прислушивайся к тому, что я здесь болтаю…
Дарка оглянуться не успела, как пролетели погожие осенние дни. Это произошло незаметно. Небо, правда, долго и терпеливо подготавливало людей к перемене, но, когда однажды по окнам зашуршал холодный осенний дождь, Дарка восприняла это как обидную неожиданность. Осенние дожди, по словам хозяйки, бывают здесь затяжные.
Ноябрь доживал последние дни.
Уже неделя, как сверху сеется холодная изморось, «свинский дождь». Небо давно утратило южный лазурный оттенок. Посеревшее, лохматое от тумана, оно мокрой грудью наваливалось на землю и давило на крыши, на деревья, на человеческие сердца.
В саду почерневшие, голые деревья плачут от холода и недостатка солнца. Воздух пропитан болотной сыростью, запахом прелой листвы — даже дышать трудно. Под окнами, борясь с ветрами и заморозками, не сдаются георгины. На фоне декорации обнаженного сада даже они не радуют глаз.
Окна не просыхают от слез. Сквозь их заплаканные стеклянные глаза пейзаж за окнами кажется еще более печальным. Дарка, недовольная собой и всем окружающим, снует по низеньким, потемневшим от непогоды комнаткам…
А на Буковине, верно, уже выпал снег. Искристый, он окутал белым покрывалом поля за селом, стер грани между небом и землей. В белом снежном зеркале отражается голубизна неба, и нельзя простым глазом различить, где кончается земное и начинается небесное царство. А солнце! Оно так ослепительно, как не бывает даже в жатву. На него невозможно глядеть, не прикрыв глаза козырьком ладони.
Воздух звонкий, прозрачный, бодрящий! Не воздух, а нектар!
Край родной, ты вдвое роднее на чужбине!
В Даркиной комнате на столике пирамидкой сложены учебники, но у девушки нет большого желания приниматься за них, хотя румынская терминология и поныне приносит ей немало трудностей.
Откровенно говоря, новая гимназия в какой-то мере уже успела отравить в Дарке стремление к знаниям. В женской гимназии Штефанешти учились преимущественно дочери богатых родителей. Они не скрывали, что гимназия для них — лишь мост для перехода в следующую фазу бытия — замужество. Замужество — это цель, гимназия — путь к этой цели.
Кроме того, перед каждой четвертью по установившимся традициям все богатые родители давали директору и учителям бакшиш (каждый соответственно своему карману). Ученицы знали, что учителя получали «подарки», и соответственно вели себя в гимназии. Понимая, что учителя попали не только в материальную, но и в моральную зависимость к их родителям, девушки, особенно богатые, вели себя в классе развязно, буквально терроризировали слабохарактерных учителей, а тем приходилось плясать под их дудку. Надо принять во внимание и то обстоятельство, что преподаватели вот уже пятый месяц не получали жалованья, ибо предыдущий министр финансов ограбил государственный банк и бежал за границу.
Из одиннадцати новых соучениц Дарка пока ни с кем не подружилась. Все, за исключением «трех принцесс», были как будто и неплохие, но ни одну из них нельзя было близко подпустить к сердцу. Только с Илоной Моршан у Дарки сложились относительно хорошие отношения, хотя и здесь сказывалась разница взглядов в вопросах воспитания и, так сказать, этики.
Когда под впечатлением Наталкиного письма Дарка рассказала Илоне, что в Черновицах кое-кто ее очень интересует, Илона тотчас спросила:
— А кем он будет, когда кончит гимназию? Сколько будет зарабатывать?
Сбитая с толку девушка ответила, что Данко пока только заканчивает гимназию, а в будущем готовится стать музыкантом. Илона замахала руками:
— Охо-хо-хо!.. Святой дух да хранит тебя от музыканта! С музыкантом можно крутить романы, но… ох-хо-хо!.. как можно думать о нем серьезно? Музыканты — это нищие! Пусть цыгане занимаются музыкой! Ты подумай над тем, что я тебе сказала. Хорошенько только подумай!
Дарка передала Зое разговор с подругой. Не без задней мысли, конечно. Было интересно узнать, как она отнесется к этому.
С сестрой домнула Локуицы по матери (Зоя почему-то упорно подчеркивала это) у девушки сложились своеобразные отношения. Хуже всего было то, что она до сих пор не знала, что представляет собой Зоя. В Зоином характере уживались нежность и грубость, сердечность и едкая ирония, откровенность и просто обидная замкнутость. Однажды хозяйкой овладела такая нежность к Дарке, что она обязательно захотела перейти на «ты», несмотря на то, что между ними была разница в десять лет. А через три дня у Зои в гостях был какой-то молодой человек, и она не только не пригласила Дарку к столу, как принято в этих краях, но даже на осторожный вопрос девушки, кто он такой, холодно ответила:
— Ты все равно его не знаешь. Просто человек.
Мужчины бывали у Зои довольно часто. Но после такого ответа Дарка делала вид, что не замечает гостей хозяйки. Тогда Зоя первая заговорила, что в Штефанешти на базаре продукты продаются за бесценок. Вот ей и приходится сбывать кукурузу и вино в другие места, а для этого необходимы связи среди купцов. Вот они и приходят («лезут», — сказала Зоя), предлагают свою цену, но Зоя не верит им.
Дарка тоже не поверила. Версия о купцах показалась ей слишком уж подозрительной. Сколько, в конце концов, у Зои этой кукурузы или вина?
Думать, что хозяйка просто любит мужское общество, Дарка тоже не отважилась. Зоя была чересчур серьезна… и набожна. Эта набожность сестры (хоть и по матери!) домнула Локуицы не укладывалась у девушки в голове. Хозяйка почти каждый день бегала в церковь и всякий раз несла туда большую восковую свечку.
— Зоя, ты разоришься на свечах! — как-то заметила Дарка, которую временами раздражала глупая набожность хозяйки.
— Ничего… ничего, это окупится сторицей.
— Как понять?
— Просто, Дарка, совсем просто. На том свете каждая моя свечка превратится в куст винограда… Еще и тебя не раз угощу…
Что это? Ирония или наивная простота? Дарка не могла разгадать.
Узнав о Данке, Зоя процедила сквозь зубы:
— Украинян?
— Да.
— Значит, и впрямь быть ему нищим, если он музыкант…
— Почему?
— Потому… Разве ты не знаешь, Даричка? Чтобы выступать в театрах… или концертах… конечно, не у нас в Штефанешти, а, например, в Яссах, в Бухаресте или у вас в Черновицах, надо иметь право…
— Какое право?
— Надо состоять в музыкальном обществе… Быть его членом, поняла?
— Ну и что? Ты думаешь, Данилюка с его талантом могут не принять в члены общества?
— Не примут, голубушка, не примут! Туда принимают только румын. Это я знаю, как дважды два… Таков закон. Закон! Знаешь, что значит слово «закон»?
Зоя ехидно улыбается, а Дарку трясет от ярости.
— Чему ты так злорадно усмехаешься? Ты тоже веришь, что украинцы, болгары, русские, венгры, немцы, евреи, подвластные румынскому правительству, лишены музыкального дара? Скажи мне… сейчас же… здесь: ты считаешь такой закон справедливым?
Хорошенькое лицо Зои стало по-сестрински добрым.
— Что же ты на меня кричишь? — спросила она ласково. — Подумай сама… справедлив ли такой закон?..
— Нет, ты мне скажи, ты ведь румынка… Это твое государство издает такие законы…
— А я еще раз говорю, — с той же добротой в голосе ответила Зоя, — подумай сама…
Теперь Дарка станет думать. Она старается представить себе, что будет с Данком через шесть месяцев, когда он окончит гимназию. Двух мнений быть не может — поедет в Вену и поступит в консерваторию. Материальные трудности ему не угрожают, Ляля освободит его от них.
Вена, город вальсов, обогатит Данка музыкальными впечатлениями. Там найдется пища для его музы. В консерватории, под руководством профессоров с мировыми именами, он углубит свои теоретические познания, отшлифует мастерство. И наконец настанет день, когда ему торжественно вручат диплом об окончании Венской консерватории. При этом люди, которым нельзя не верить, скажут Богдану (через пять лет он уже перестанет быть Данком), что у него недюжинный талант. Теперь только работать, настойчиво работать — и успех, слава обеспечены.
Этот вечер станет самым счастливым в его жизни. Ляля, ее муж, его друзья, их друзья, друзья их общих друзей — все облепят его, как пчелы медоносный цветок. Ночь пройдет в тостах и предсказаниях счастливого будущего. Данко, опьяненный от вин и женских ласк, поверит в свою счастливую звезду, которую теперь не омрачит ни единая тучка.
Но на смену ночи придет день, а с ним отрезвление не только от вина, но и от иллюзий.
Данилюк проснется утром и спросит себя: а что же дальше? Как ни богат и влиятелен советник коммерции, он не может подарить талантливому шурину австрийское подданство.
Элегантная Вена не желает брать на себя никаких административно-материальных обязательств. Теперь каждое государство, каждый город всеми силами защищается от наплыва иностранцев. Какой же отец усыновит чужого ребенка, если не может устроить собственного?
Ляля в лучшем положении, она родилась женщиной и получила в подарок от мужа не только фамилию, но и австрийское подданство. Богдан может трижды жениться на австрийских «фройляйн», но ни одна из них не одарит его своим подданством. Это он может наделить их подданством Румынского королевства.
Данку придется, погостив у сестры на каникулах, укладывать скрипку в футляр и возвращаться на Буковину.
Понятно, на этом крохотном клочке зеленой буковинской земли Данко станет первой величиной в музыкальном мире. И отнюдь не только потому, что у него диплом Венской консерватории. Все решит талант, отшлифованный, как алмаз, пятью годами упорного труда.
Но для того, чтобы проявить силу таланта, недостаточно четырех стен собственного дома. Музыка как никакой другой род искусства требует непосредственного контакта с публикой. А закон («Ты понимаешь, что значит слово «закон», Дарика?») хозяев Буковины гласит: выступать с собственными музыкальными произведениями или исполнять чужие могут только члены общества румынских композиторов и исполнителей.
Перед Богданом будут два пути: либо во всеуслышанье отречься от самого себя, и тогда его ждут слава, успех, а вслед за тем и материальные блага, либо соблюсти элементарную человеческую порядочность, и тогда ему уготована судьба безработного, бесправного музыканта, нищего.
Дарке нетрудно представить и такую картину: Данко, сжимая скрипку под мышкой, топчет камни мостовой у двери кафе в надежде, что кто-нибудь из господ позовет его сыграть чардаш. Дарка не знает, насколько волевой характер у Данка, но в одном она уверена: композитор, лишенный права печатать произведения и выступать публично, не нужен Лучике Джорджеску. О нет! Она будет стыдиться его. Лучика станет презирать Данка за то, что он остался честным человеком. Власть имущие не только захлопнут перед ним двери в музыкальные учреждения, но еще и станут жестоко преследовать его за непокорность. Для него наступят черные дни. Музыка не сможет прокормить Данка. Ему придется переменить профессию, когда вся его душа, все его существо будет рваться к музыке.
Разве не понадобится ему тогда верный, преданный, честный, работящий человек? Не станет ли обязанностью Дарки шагать рядом с ним и поддерживать его веру в лучшее завтра? Не она ли призвана сделать так, чтобы Богдан нес свой жизненный крест не с чувством неполноценности и унижения, а гордо и непримиримо?
Вера — это могучая сила. Как бы жил бедный папочка, терроризируемый Манилу, без этой веры?
Ах, как умеет вселять и поддерживать в людях веру брат Наталки — Роман Ореховский!
Ореховский… На чердаке (не без стыда признается Дарка) между чехлом и стенкой чемодана лежит брошюра, та самая, которую на вокзале засунул туда Роман. Лежит почти три месяца. Позавчера Дарка лазила на чердак пришивать петлю к чехлу (не в ее характере откладывать такую работу до дня отъезда), и брошюра попалась на глаза. Небольшая серенькая книжечка в мягкой обложке, подписанная буквами Р. К. Ничего не говорящее название «Закон жизни» не вызывает особого интереса. Дарка открыла первую страничку. Вступление не увлекло ее, она бросила, не дочитав. Скучно, обо всем сразу и ничего конкретного. Дарка засунула брошюрку на старое место. Теперь она решает дочитать ее до конца. Ведь стоит Дарке показаться в Черновицах, как Ореховский спросит, какое впечатление произвела на нее книжка.
Из уважения к Роману превозмогая неохоту, девушка полезла на чердак и достала брошюрку. Принялась читать вступление с того места, на котором остановилась два дня назад. Ничего интересного Дарка так и не вычитала в нем, но, продравшись сквозь него, словно сквозь живую изгородь, она очутилась в чистом, залитом солнцем поле.
Как поняла Дарка, автор поставил себе задачу провести параллель между историческими условиями, господствовавшими в царской России накануне Октябрьской революции, и современной политической обстановкой в Румынии. Мысль свою он подкреплял множеством примеров, взятых из жизни.
Для Дарки была просто открытием доказанная автором взаимосвязь международных событий. В политике так же, как и в математике, действовала железная логика.
Камня на камне не осталось от того толкования истории, какое преподносили девушке в гимназии Мигалаке и его прихвостень Мигулев. Например, Мигалаке трактовал Великую Октябрьскую революцию как следствие «деморализации измученных на фронте войск», в то время как это было завершением многолетней, организованной революционной борьбы лучших сынов русского народа, плодом неизбежного развития жизни общества, в силу чего созрели необходимые условия для такой революции.
Р. К. доказывал, что русские начали борьбу в более сложной политической обстановке, чем та, что господствует сейчас в Румынии, и все же дело увенчалось успехом.
Итак, какой же из этого вывод? Только один: «Боритесь — поборете!»
Свои доказательства автор строил на параллелях, а сопоставление и противопоставление фактов подтверждали неоспоримую правильность его взглядов.
Р. К. как бы заранее знает, что таким, как Дарка, мало одних аргументов. Факт становится достоверен, если его подкрепить цифрой. От цифр, — а у Дарки нет ни малейшего основания им не верить, — даже рябит в глазах: освобожденные народы Советского Союза обгоняют историю и за несколько лет достигают таких успехов, для которых современной Румынии нужны столетия!
Значит, делает для себя вывод Дарка, не вражда между народами, не кровавый реваншизм (которого так жаждет Гиня Иванчук) ведет к освобождению.
Так-то оно так, риторически полемизирует сам с собой Р. К., но не надо забывать и того, что вся «Романия маре» в когтях сигуранцы, как муха в сетях паука. Правительство Братяну расправляется с малейшими признаками революционного движения, невзирая на то, кто его организует — румынские рабочие или «миноритет», независимо от того, носит ли это движение национальный или социальный характер.
«В двадцатом году («Тогда мне было десять лет», — думает Дарка) по всей Румынии прокатилась волна забастовок. Целый день не было движения на всех железных дорогах страны».
Постой, постой, теперь Дарка что-то припоминает! Вот где она, правда! А в Веренчанке, — Дарка отлично помнит, — начальник станции заявил пассажирам, — как раз в этот день мама вместе с Даркой собралась в Черновицы, чтобы купить ей первую шапочку по мерке, — будто министерство путей сообщения вводит локомотивы нового типа и поэтому изъяло все старые.
Самое печальное, что даже папа тогда поверил в эту сказочку!
И снова мысль возвращается к тому, о чем больше всего болит сердце: а что будет с Данком?
Два часа назад девушке мерещилось, как он, держа скрипку под мышкой, стучится в двери различных кафешантанов. Теперь, как ни странно, Дарка видела будущее Данка в ином свете. Представляет его трудное положение, но не трагедию. А это не одно и то же!
Перед Данком захлопнулись двери позолоченных залов с нарядными люстрами, бархатными ложами, но кто преградит ему дорогу в народ? Ведь публика, заполняющая те залы, еще не народ! Лишат Данка возможности выступать публично — музыка его уйдет в подполье. И тогда, вместо того чтобы подлаживаться под извращенный вкус горсточки избранных, вместо того чтобы щекотать их заплывшие жиром нервы, музыка Данка примет на себя другую, почетную и достойную истинного таланта миссию. Знаменем его музы станет призыв к борьбе с тиранией!
Законы их государства запретят упоминать имя Данка? Ничего! Имя автора гимнов свободе, смелых маршей, зовущих в бой, симфоний, сложенных в честь победы, будет — народ!
Пусть попробует сигуранца арестовать и упрятать за решетку весь народ!
Вот она, верная, неотступная спутница революции — песня! Во все эпохи песня окрыляла повстанцев, вела в бой, воодушевляла на борьбу против угнетателей.
И Дарка призвана сберечь для народа еще один талант — Данка — и направить его (о, нелегкая это миссия, Дан!) на борьбу за народное освобождение.
Может ли выпасть на долю человека, не наделенного особыми дарованиями, более почетная роль в жизни?
«Не фантазируй! Не фантазируй, горячая голова!» — уговаривает себя Дарка, ибо мечты о будущем становятся слишком прекрасными и поэтому неосуществимыми. Нет-нет… Тогда жизнь превратилась бы в сказку, а этого не бывает.
Погоди, — а кто сказал, что такого не бывает?
Р. К. пишет, что не только бывает, но будет наверняка, если люди доброй воли дружно приложат к этому свой ум и совесть.
Скоро три месяца, как Дарка уехала из Черновиц. За это время она не послала Данку ни одной открыточки и от него не получила ни словечка. Знала о нем только то, что писала Наталка. Дарка понимала, что первыми пишут те, кто уезжает, а не те, кто остается. Но это было слабое утешение для ее израненного сердца. Если б Данко по-настоящему хотел написать ей, он пренебрег бы формальными причинами. Он давно мог узнать ее адрес. О, для жаждущего нет преград! Теперь же девушка решила написать ему первая. Усевшись за стол перед чистым листом бумаги, она почувствовала, как трудно будет написать это короткое, помимо воли суховатое письмо.
Раздражало все же, что ей первой приходится делать шаг к сближению. Где бы он ни был, дорога от него к ней всегда будет такой же, как от нее к нему. Ранило девичью гордость то, что он устоял там, где она покорилась. Но и тут на помощь пришла «Царевна»: «Только в любви покорность обретает смысл». А здесь речь идет не только о ее личной любви, а и о той, другой, всеобъемлющей!
Дарка писала это короткое письмо долго, обдумывая каждое слово. Побежала, опустила конверт в ящик и, не успев вернуться домой, уже стала ждать ответа.
Ночью, лежа в кровати, она высчитывала. Письмо до Черновиц идет не больше трех дней. Туда три, обратно три — это уже шесть. Если округлить — неделя. И еще, еще целых четыре дня Дарка отпускала Данку, чтобы он мог прочитать, подумать и ответить на ее письмо. Итак, не позднее чем через десять дней должен прийти ответ!
Это крайний срок, а если Данко захочет ответить сразу, тогда она получит письмо на седьмой, а может быть, даже на шестой день.
Ни на шестой, ни на седьмой день письма не было. На восьмой день пришло письмо от Наталки. Оно произвело на Дарку тяжелое впечатление. Подруга шифром сообщала, что Орест получил десять лет тюремного заключения. «Мой друг поехал отдыхать на десять дней». Его переводят в злосчастную тюрьму в Йонешти. И хотя там нет гимназии, а только какие-то подготовительные курсы, дающие право сдавать на аттестат учительской семинарии, Наталка также поедет в тот город. Тем более что, как это ни странно, климат там здоровый.
Письмо подруги дышало спокойствием. Она, как догадывалась Дарка, заранее подготовилась к приговору. Сообщая этот печальный факт, Наталка попутно писала и об общих знакомых, в какой-то мере интересующих Дарку, живущую на чужбине. Например: Ивонко Рахмиструк поступил на медицинский факультет в Бухаресте и, если верить слухам, перед отъездом обручился с Лидкой Дуткой.
Да, это новость! Гиня Иванчук в порядке исключения добился приема в студенческую корпорацию «Запорожцы», хотя он не студент. Теперь Гиня расхаживает в форменной шапочке, с пестрой лентой через всю грудь и проявляет «активность» — он уже дважды участвовал в еврейских погромах. Вот и все черновицкие новости. Да, еще одна! Мици Коляска вышла замуж, Наталка случайно встретилась с ней на улице. Та просила передать подругам, что обязательно сдержит слово и угостит всех тройной порцией мороженого, только надо подождать до лета.
Привет от брата.
«Привет и спасибо твоему брату», — подумала Дарка, но на письмо ответила не скоро.
Наступило девятое утро, а письма от Данка не было.
Штефанештский почтальон, ободранный подросток в пышной барашковой шапке (единственная ценная вещь на нем), опаздывал с доставкой почты более чем на полсуток.
Почта из Черновиц (Дарка все разузнала) приходила в полдень. Чтобы не прерывать рабочий день, Думитраке являлся на почтамт вечером, забирал почту домой и на рассвете следующего дня разносил адресатам.
Дарка всегда получала письма по утрам, перед уходом в гимназию. Все эти дни она завтракала, одевалась и причесывалась у окна. Немного успокаивалась, лишь когда островерхая шапка Думитраке проплывала мимо калитки. Нервы Дарки были напряжены до предела.
Прошел десятый день — ответа не было. Это уж такая грань, за которой наступает взрыв или полная апатия. Мысль, что письмо от Данка может прийти в полдень и, вместо того чтобы попасть к ней в руки, целую ночь пролежит в сумке Думитраке, была для Дарки нестерпима. Девушка решила не ждать, а действовать. Пробурчав что-то невразумительное о том, что ей будто надо зайти к Илоне по учебным делам, Дарка бросилась к почте, чтобы перехватить Думитраке. Хотела договориться с ним (намекнув на благодарность), чтобы все письма, адресованные ей, он приносил немедленно, как только прибудет корреспонденция. Но то ли она пришла рано, то ли опоздала, но Думитраке повидать ей не удалось. Она около часа кружила возле почты и разочарованная, грустная вернулась домой.
По дороге Дарка не только обрела некоторое равновесие, но постаралась взглянуть на свое путешествие со стороны, глазами мамы или бабушки.
Права бабушка, называя внучку несдержанной, горячей натурой. Какими глазами посмотрел бы на Дарку этот Думитраке, если б она попросила принести ей письмо ночью?.. А что, если оно вообще не придет? Тогда ради престижа ей пришлось бы выдать первое же пришедшее на ее имя письмо за это «важное». А потом — кто поручится, что мальчишка не поделился бы своими соображениями с Зоиными соседями?..
Дарка уже радовалась, что разминулась с почтальоном. И, обретя хоть малюсенькое зернышко удовлетворения, немного успокоенная, вернулась домой.
Зоя встретила ее сосредоточенная, взволнованная. Глаза, обычно такие спокойные, казались растерянными, в них притаилась тревога.
— Что случилось?
— Это я хочу спросить у тебя. — Зоя держала руки за спиной, видно что-то пряча. — Дарика, кто тебе дал «эрку»? От кого ты получила ее? Вот что я хочу знать…
Девушка не только не понимала, но даже не догадывалась, чего от нее хотят. Она не знала, что означает странное слово «эрка». Дарка сморщила губы, не понимая. Тогда Зоя протянула ей брошюрку Р. К., которую Дарка, уходя из дому, забыла на столе…
— А… так ты это называешь «эркой»! Не имеет значения, кто дал мне ее. Я поступила неосторожно, оставив ее на столе… а ты поспешила поинтересоваться?..
— Вот именно, я оказалась настолько неделикатна, что сунула нос в чужие дела. Хватит, я уже обожглась на своем братце… Хватит! Ты скажи, кто тебе ее дал?
— Зоя, — попробовала Дарка по-хорошему, — ты должна понять. Я не могу сказать тебе, кто дал мне брошюру, ведь у человека могут быть неприятности, понимаешь?
— Ах, так? — еще больше вскипела Зоя. — Ты хочешь, чтобы неприятности были у меня? Сейчас же… сейчас же говори, кто дал тебе эту заразу, а то…
Дарка смерила ее презрительным взглядом:
— А то пойдешь в сигуранцу и донесешь, что твоя квартирантка читает запрещенную литературу? Ты это хотела сказать? Можешь идти… Человек, давший мне эту книгу, не живет в Штефанешти. Брошюру я привезла с собой из Черновиц… И еще раз повторяю: я не назову фамилии человека, давшего мне книжку… Делай со мной, что хочешь, — мне все равно…
По мере того, как Дарка говорила, Лицо Зои становилось все ласковее и ласковее, наконец совсем просветлело. Тон был еще груб, слова не очень нежны, но глаза уже сияли радостью. Откуда эта внезапная перемена, где причина радостного возбуждения? Дарка ничего не понимала. Она просто относила все за счет Зоиного изменчивого и склонного к крайностям характера.
— Ты не удивляйся, что я так… Но у меня было много неприятностей из-за брата. Чуть не выгнали из церковного братства за его штучки… Да всякие… запрещенные книжки…
— Зоя, — сердечно заговорила Дарка, безмерно радуясь тому, что недоразумение так счастливо разрешилось, — Зоечка, если б ты только захотела внимательно прочесть брошюрку… Погляди, она совсем тоненькая, вступление читать не надо, оно скучное… Но если ты вот это… здесь прочитаешь… поверь мне, станешь глядеть на мир другими глазами. Я уверена… что тебе… будет все равно, выгонят тебя из братства или не выгонят…
Зоя искоса поглядывала на Дарку, машинально разглаживая складочки на скатерти.
— Легко купить тебя, Дарика, разрази меня гром, так легко! Прочитала тонюсенькую книжицу, которая и ста граммов не весит, и сразу гляди, как запела… Не поспешно ли? А?
Волна нежности схлынула, перед Даркой снова стояло не только несознательное, но и закостенелое в своей ограниченности существо.
— Зоя… ты сама не знаешь, что говоришь… Что значит поспешно? Допустим, — Дарка догадалась, что, разговаривая с Зоей, надо оперировать не понятиями, а образами, — ты думала о каком-то человеке, что он порядочный, так же как считаешь монахов благодетелями…
— Ну! О монахах ты поосторожнее, — прервала ее Зоя, хмуря брови.
— Ты думала, например, что твой сосед честный человек, — продолжала Дарка, — а тебя взяли за руку и показали, как этот «честный», ну, скажем, ворует у тебя виноград. Тебе понадобилось бы много времени, чтобы поверить, что твой сосед вор? Да ты сразу же, собственными глазами увидав, как он ворует, поверила бы, что он вор. Так и с этой, как ты говоришь, тонюсенькой книжицей… Мне сказали, и я поверила… Почему ты думаешь, что надо не раз повторять одно и то же, чтобы убедить человека? Так «понимать» учат только попугаев…
— Ого! — Зоя заговорила веселым, лишенным злых и иронических интонаций голосом. — А вы уже вышли из возраста попугаев? И, как я погляжу, собираетесь поучать других? Ну, слава богу! А то я не знала, с какой стороны подойти к тебе… — И она, не давая опешившей Дарке опомниться, обхватила ее маленькими ручками и сжала в объятиях, словно в клещах.
Вот и выплыла наружу общая тайна. И сразу все показалось игрой в прятки. Еще бы! Дарка собиралась просвещать хозяйку — профессиональную подпольщицу с многолетним стажем, а Зоя в свою очередь не знала, как подступиться к белобрысой украиночке из интеллигентной семьи.
Девушки и не заметили, как от общего перешли к интимному! Дарка первая рассказала подруге, что в Черновицах кончает, гимназию один молодой музыкант по имени Данко.
— Дарика, Дарика! Молода ты еще, много не знаешь. Не знаешь, между прочим, что среда засасывает человека, как трясина. Если твой Данко пять лет проведет в доме коммерческого советника, то… Но не буду каркать над твоим счастьем, не буду, драгуца! Испытай силы! Без борьбы ничто не дается, сестренка моя русокудрая!
Зоя вскользь упомянула, что у нее тоже есть или, точнее, был «кто-то». Был и нет, хотя он жив. А это главное. Пока есть жизнь, есть и надежда.
— Дарика, мне послышалось или уже и впрямь пропел петух? Пошли спать, а то солнышко засмеет нас, застав на этом диване!
Дарке снился страшный сон. Кто-то сталкивал ее в глубокую пропасть, такую глубокую, что и дна не видно. Это Зоя, не в силах побороть Даркин каменный сон, просто тащила девушку с постели.
— Вставай, соня, а то опоздаешь в гимназию!
Оживление Зои показалось Дарке подозрительным.
— Нет, не встану, пока не скажешь, чему ты так рада. Ну?
— Что, заметно по мне? Вот так-так! А я хотела сделать тебе сюрприз. Ну, раз уж догадалась, получай!
И она не подала, а бросила Дарке на грудь два письма. Одно Дарка узнала сразу — от мамы, второе — от Данка.
Девушка схватила письма и, словно щука, поймавшая добычу, нырнула под одеяло. Радость была так велика, что она стеснялась показать Зое свое поглупевшее от счастья лицо. Вытерла под одеялом слезинки и только тогда высунула голову.
— Сразу! От мамы и от Данка! От Данка и от мамы!
Дарка взвесила письма на ладонях и первым вскрыла письмо Данка.
Хозяйка взяла ведро для торфа и вышла из комнаты.
Данко не был искушен в писании писем девушкам. Стиль его был прост, без всяких поэтических аллегорий и сравнений, фразы короткие, логичные.
В первых строках своего письма (так и было написано) он просил у Дарки прощения за то, что долго не отвечал на ее милое послание. Между прочим, ему немало времени пришлось дожидаться весточки от злой Дарки. Чуть было не рассердился на нее! («Ему и в голову не приходило, что он первый может написать мне».) Но, кстати говоря, Данко не виноват, что Дарка получит ответ так поздно. Это фокусы его матери, приехавшей навестить сына. Он вынужден был признаться, что ему за полугодие грозит двойка по математике. Вот мать и решила не показывать Даркиного письма, пока он не ликвидирует двойку. Чтоб не забивал себе голову Даркой. Бедная мама не знает, что у него и так голова забита этой Даркой. Честное слово, он даже никогда не предполагал, что так будет скучать по ней. Всякий раз, проходя по Домнику, он вспоминает, что Дарка должна была жить здесь. Данко будет ждать ее приезда в Веренчанку. Сейчас зима, но разве не приятно пройтись по белой дороге, между двумя рядами акаций, запорошенных снегом? До свидания, милая Дарка! До свидания в нашей Веренчанке!
Дарка, прижимая письмо к груди, думала: «Неужели воздействие среды Шнайдеров окажется сильнее моей любви? Да простит меня Зоя — не верю. Пусть называет меня наивной, пусть сколько угодно покачивает головой, а я все равно не верю!»
Именно в эту минуту Зоя вошла в комнату.
— По глазам вижу, что письмо от него…
— Да…
— А мой Траян уже третий год в тюрьме…
Дарка притворилась, что не расслышала печальных слов Зои. Ей нечем было утешить подругу.
Письмо мамы было ответом на Даркино, в котором та в мрачных красках описывала свою жизнь в Штефанешти. Дарка каждой фразой намекала на одиночество, на трудный Зоин характер, на свою моральную изоляцию.
Дарка написала письмо под впечатлением пасмурного, дождливого дня, а потом сама жалела, что опустила его в ящик. И вот теперь мама ровным, образцово-показательным почерком давала советы дочери: «В жизни, доченька, надо привыкать ко всему. Кого больше закалят жизненные невзгоды, тому потом легче живется». Мама от всего сердца сочувствует своей доченьке. Зная Даркин характер, она представляет, как девочке тяжело переносить одиночество, но одно маму радует — ее дитя в безопасном месте. «А в наше время, доченька, это едва ли не самое главное…»
«Мама, — говорит ей Дарка через заснеженные просторы, — мама, как ты не понимаешь, что в нынешнее время единственное безопасное место есть только в твоем сердце?!»
XXIX
Три вечера подряд в бабушкиной комнатке допоздна горел свет. Столько потребовалось времени, чтобы Дарка рассказала все дочиста, или, как говорит бабушка, от «а» до «зет», о том, как ей живется в чужом городе, в чужой гимназии, но не у чужих людей.
На этот раз табель без двоек как будто не имел для родителей никакого значения. Дарку это даже немного обидело:
— А хороший табель — это для вас ничего не значит?
Папа объяснил:
— Ну, как не значит! Но, видишь ли, Дарка, ты на двойки никогда не училась, а то, что было… это скорей всего за счет твоей невнимательности. А когда к тебе перестали придираться, ты сразу же показала, на что способна! Я ни капельки не сомневался в твоих способностях… Меня мучало, как ты приживешься на чужбине… среди чужих… Вот что было для нас важнее всего!
«Мне кажется, что надо было больше говорить о своей тоске по дому и родной стороне. От меня этого просто ждали. Папа и мама как будто слегка даже разочарованы, что я так безболезненно приспособилась к новым условиям. Я не могла им сказать, что моя тоска по дому распространяется еще кое на кого помимо нашей семьи. Пусть уж лучше считают меня черствой».
И только четвертый день начался как обычный день.
На кухонной плите «дышала» жиденькая, специально для Славочки, мамалыжка. Бабушка жаловалась, что кто-то вчера оставил во дворе подойник. Теперь придется его снова выпаривать и в кухне снова «заплачут» стены и стекла. Папа на краешке плиты подсушивал на газете свою ежедневную порцию табака. Мама надевала ребенку папучи[75] (утром на кухне теплее). Славочка, играя, капризничала, поджимала пальчики, ножка не влезала в вязаную туфельку, а мама не могла уговорить девочку, чтобы та держала стопу свободно. Мама нервно поджимала губы, Славочка смеялась и дергала то левой, то правой ножкой. Дарка мыла посуду после завтрака, автоматически опуская чашки в одну, потом в другую миску с водой и симметрично укладывая их вверх донышками на жестянке, которая служила когда-то подносом. А мысли ее были заняты письмом Данка, в котором он достаточно скупо сообщал, что, верно, не сможет приехать на рождество в Веренчанку, потому что будет в Берегомете готовиться с друзьями к экзаменам на аттестат зрелости. Слово «друзья» в этом письме не означало только представителей мужской половины молодого поколения. В этом контексте оно для Дарки вырастало в своего рода мафию, которая имела силу приказывать и вообще распоряжаться его особой.
Возникла новая угроза их отношениям с Данком. Надо сказать, что Дарка и раньше улавливала в его разговорах нотки опасного и в то же время непонятного ей увлечения друзьями так, словно это была для него единственная и высшая власть. И это, верно, так и есть. Теперь от ребят зависит, появится ли Данко на день-два в Веренчанке. Какая им забота, что Данко учится в Черновицах, а она — в регате, что рождественские каникулы так коротки, а до летних так далеко…
Кто-то постучал в дверь. Кто бы это? Ни соседи-крестьяне, ни почтальон, которого можно ждать в эту пору дня, не стучат. Дарка вынула руки из воды и предусмотрительно спрятала их за спину. А что, если Данко устроил ей сюрприз? Сердце защемило и сразу же подскочило к горлу. Напрасные страхи! В дверях стоял длинный, как жердь, головой под притолоку, Петро Костик. В сильно поношенном пальто (с тех пор, как Дарка помнила Костика, он всегда ходил в этом сером балахоне с разными пуговицами), Костик выглядел, как бы это сказать… довольно… ну, словом, довольно неэлегантно.
Родители обрадовались гостю (мама, может быть, еще и потому, что сразу передала Славочку бабушке). В конце концов, старая истина, что в селе зимой всегда рады гостям.
— О, какой гость! Какой неожиданный гость! Медведь, что ли, в лесу сдох?.. Заходите, заходите…
Мама, наскоро подкалывая растрепавшиеся волосы, открыла перед Петром дверь в комнату. Папа завернул в газету свой табак и отправился вслед за ними.
— Его нарочно держат в сыром месте, чтобы стал влажным и меньше крошился, а курить такой табак невозможно — не тянет. Может, разденетесь, пане Костик, в комнатах тепло…
Костик поблагодарил за внимание к своей особе, но снимать пальто отказался.
— Так, может, хоть шарф с шеи снимете?
Но он не захотел снимать и шарф.
Папа всегда недогадлив в подобных ситуациях. Наверное, у гостя просто несвежая сорочка. Он, должно быть, сегодня еще и не причесывался. На самой макушке, словно пушок одуванчика, торчало перышко.
Да, как только Костик перешагнул порог комнаты, Дарке показалось, что пришел он не с добрыми вестями. Почему она об этом догадалась? По многим причинам. Ну бывало ли когда-нибудь, чтобы, увидев Дарку после продолжительной разлуки, Костик не приветствовал бы ее экзальтированными (правда, не всегда тактичными.) восклицаниями?
Дарка еще не успела вымыть руки, как Костик сам позвал ее:
— Где ты там, Дарка? Поди-ка сюда, услышишь новость!
За Даркой вошла и бабушка, держа Славочку за ручку (удивительно, какими любопытными становятся люди в старости): дескать, она уже обула ребенка и не знает, что ей делать дальше.
Но мама сказала, что Славочку надо накормить, и бабушка снова вышла.
Папа попросил Петра не рассказывать новость, пока он не закурит: уж если праздник, так пусть будет пасха.
— Слушаем вас, пане Костик! Садись, Климця.
Папа усадил маму рядом с собой и обнял ее за талию.
«Меня это не смущает. Наоборот, я рада, что между ними сохранились такие отношения».
— Я пришел… — Костик встал. Карманы его пальто были совершенно вытерты. — Я пришел пригласить вас на мою свадьбу. Знаю, что надо было прийти с невестой, но прошу вас, пане Попович, — начал он по сельскому обычаю с главы семьи, — и вас, пани, и тебя, Дарка, от себя, и от моей мамы, и от невесты, чтоб вы были так добры и пришли ко мне на венчание и на свадьбу, которая состоится в эту субботу в четыре часа дня в местной церкви в Суховерхове…
Сказал, отер лицо платком неопределенного цвета и сел.
Не назови Костик место и день свадьбы, всю его болтовню можно было бы принять за шутку, тем более удачную, что подана она была в таком серьезном тоне.
Дарка посмотрела на маму, мама — на папу. Папа пожал плечами. Никто ничего не понимал.
Удивительнее всего было то, что Костику вообще не подходило само слово «женитьба». Мало того, что, на Даркин вкус, он внешне не очень привлекателен, у него еще характер — вся «братия» может это подтвердить — просто невыносимый. Он, кажется, не уснет, если в течение дня не испортит настроение хоть одному человеку. Дарка, да и не только Дарка, помнит, как позапрошлым летом сестра Данка Ляля закатила настоящую истерику, когда ей предложили, чтобы ее партнером в спектакле был Костик. Не помогали никакие заверения Дмитра Уляныча как режиссера, что Костик не будет целовать ее, а только прижиматься щекой к ее щеке, и то лишь в крайнем случае. Ляля заупрямилась и не хотела даже делать вид, что целуется с этой лошадиной мордой. Не запрети сигуранца спектакль, кто знает, до какого скандала дошло бы в любительском драмкружке, и все только из-за того, что Костик уперся, как осел, желая играть первого любовника.
Какая же девушка решилась выйти замуж за этого шалопута?
Еще полминуты — и молчание могло стать неприличным, но мама не допустила до этого.
— Поздравляем, поздравляем! А можно узнать, кто ваша невеста?
— Какая разница? Как говорил мой дед: «Возьмешь поганую — привыкнешь, возьмешь красавицу — тоже привыкнешь». Так зачем ломать себе голову? Вы должны знать моего будущего тестя. Елинский, эконом суховерховского помещика.
— Бывший эконом, — со свойственной учителям педантичностью поправил папа, за что и прочел упрек в маминых глазах.
— Да, да, бывший, — поспешно согласился Костик, — вы правы, пане Попович. Елинский служил у суховерховского помещика много лет, но недавно сигуранца пожелала, чтобы на этой должности был свой. Понимаете, что это значит? Вот барин и взял румына-колониста.
— Но у вашего будущего тестя есть земля, и он, верно, не очень грустит об этой должности. Теперь такое время, что лучше пахать землю и ни от кого не зависеть.
Мама в своей роли.
— Погоди, Климця, погоди, скоро и мне придется стать независимым и пахать землю, что ты тогда запоешь?..
Нет, папа и впрямь неисправим. Мама промолчала, сжав зубы. Как, должно быть, действует ей на нервы этот недопустимо откровенный в своей простоте человек!
В комнату входит (может быть, лучше — проскальзывает) бабушка, держа Славочку за ручку, хотя в семье существует закон, запрещающий ребенку быть там, где курят.
— Я сейчас, — успокаивает она маму, — сейчас заберу ребенка. Я только хочу сказать, что наш гость женится на шляхтянке. Елинские — шляхта, я не знаю, знаете ли вы.
Бабушка, сама происходившая из шляхты, чем в старости очень гордилась, посмотрела с вызовом на отца. Папа именно в эту минуту заинтересовался молоденькой черешней за окном. Папе не хочется обижать бабушку. Наоборот, он хочет, чтобы ей казалось, будто ему неловко, что сам он из простых. В те времена, когда Дарка была ребенком, папа вел с бабушкой резкие принципиальные споры, пытаясь доказать, что нынешняя пролетаризованная шляхта на Буковине — это в большинстве потомки ренегатов, которые после присоединения в шестнадцатом столетии Буковины к Галиции (где тогда правили польские магнаты и шляхта) ради ожидаемых привилегий отказались от православной веры и перешли в католичество. Со временем таким образом сфабрикованные шляхтичи совершенно растворились среди украинцев, и единственным признаком их социального превосходства было то, что Иван называл себя Яном и при любых обстоятельствах, даже если ходил босиком, носил камизельку[76].
По этому случаю в народе бытовала такая притча:
«Вспотел шляхтич, окучивая картошку, сбросил камизельку, положил ее на межу. А по дороге проходил посторонний человек, видит — окучивает крестьянин картошку — и здоровается с ним по обычаю:
— Бог помощь, Иван!
— Я тебе не Иван, а Ян!
— А откуда мне знать, что ты шляхтич? — спрашивает прохожий.
А Ян показывает тяпкой на камизельку, что лежит на меже:
— А там что лежит?»
Дарка, вспомнив этот анекдот, спросила Костика:
— А теперь вы тоже летом и зимой будете носить камизельку?
Бабушка фыркнула на Дарку:
— Постыдилась бы задавать такой вопрос! Дурак какой-то выдумал, а еще большие дураки повторяют… Пойдем, Славочка, отсюда…
Бабушка обиделась. Мама тотчас встала и вышла вслед за своей мамой. Наверно, будет ее там успокаивать. Да, в семье бабушка в таком же привилегированном положении, как и Славочка.
— Я не хотел бы, пане Попович, чтобы вы плохо думали обо мне. — Костику стало жарко, он сорвал шарф. Как и подозревала Дарка, он был в грязной рубашке и без галстука. — Я не думал жениться ни на шляхтянке, ни на фальчах[77], это я вам честно говорю, но положение у меня просто безвыходное. До каких, ну, до каких пор можно обманывать людей и себя? Я уже пятый или шестой год числюсь студентом третьего курса юридического факультета, а на самом деле меня давно уже выгнали из университета за неуплату.
Я тянусь к интеллигенции, понимаете, пане Попович, а моя мама волочит на плечах колючие ветки акаций, чтобы сварить мне, вечному студенту, картошку в мундирах… Когда-то, в ваше время, студент в Черновицах еще мог продержаться частными уроками, а теперь? Теперь в городе таких голодранцев, как я, больше, чем собак… Я мог бы пойти к помещику в поле или на пивоварню брагу мешать, но я не могу, мне это не подходит, я как-никак студент, член известной вам полулегальной студенческой корпорации с гордым названием «Сечь». Своим поступком я нанес бы ущерб престижу корпорации, и меня вытурили бы оттуда, а это мой единственный пропуск в общество. Без корпорантской шапочки и стяжки[78], хоть их теперь и запрещено носить, я в моем положении — нуль, пане Попович. Если б существовало такое математическое выражение, то я был бы нуль в квадрате. Бывший студент — это деклассированный элемент, которого все и всюду почитают за ничтожество. Но я разговорился!.. — И, только сейчас спохватившись, что он без галстука и в несвежей сорочке, Костик торопливо обмотал шею шарфом.
«Мне стало по-человечески жаль его. Я сказала себе: запоминай, Дарка, — чистая сорочка для мужчины, кроме гигиены, еще и значительный моральный фактор».
— И вот в пору таких раздумий и настроений, — продолжал гость, — является сваха от Елинских из Суховерхова: так, мол, и так, старики не имели бы ничего против выдать за меня свою Артемизию. И это меня так разозлило, так разозлило…
— А что же вас так разозлило, пане Костик? Я не вижу в этом ничего для вас оскорбительного… Как говорится, не хотите — как хотите…
— А то разозлило, пане Попович, что Елинские угодили именно в самый момент психической депрессии, знали, когда заслать ко мне сваху. Так это меня укололо, что я прогнал ее, да еще едва не стукнул на дорогу.
— Бить женщину?! И это говорит член студенческой корпорации?
— Я такой же корпорант, как и студент, а вы меня не можете понять потому, что вы даже мысленно никогда не были в моем положении. Вы простите, что я так…
— Ничего, ничего…
— Тогда и маме досталось от меня. Стал кричать на весь дом, что не собираюсь надевать на себя ярмо. Но моя мама, хоть и неграмотная крестьянка, оказалась умнее своего сына, вечного студента, и, провожая сваху до ворот, велела ей прийти еще раз. И что вы думаете, пане Попович? На третий раз я сказал: «Пусть будет так». Потому что подумал: чем продавать себя наемнику-оккупанту, уж лучше наняться к своим, к жениной родне…
— Я не знаю, что вам сказать… Это дело тонкое, — деликатно откликнулся на эту тираду папа.
Вошла мама. По ее сияющим глазам можно было догадаться, что она только что помирилась с бабушкой.
Присутствие мамы, как всегда, подняло настроение у папы, и он заговорил бодрее:
— Вы уже проучились два года в университете, можете хлопотать о какой-нибудь канцелярской службе. Ну, например, у какого-нибудь адвоката в Черновицах или еще где-либо…
— Адвокату сигуранца скажет то же самое, что сказала суховерховскому помещику…
— Простите, пане Костик, — вмешалась в разговор мама, — но ведь определенный процент не румын, да, да, определенный процент может держать каждый предприниматель.
— Конечно! А после двух лет обучения (а это же как-никак половина университетского курса!) можно устроиться в любом государственном учреждении…
Папин наивный оптимизм, очевидно, начинал действовать Костику на нервы, потому что он не дал отцу закончить мысль:
— Пане Попович, здесь, на Буковине, мне работы не дадут, а если б даже и дали, то потребовали бы, чтоб я работал еще на одной. Вы понимаете, о чем идет речь?.. То-то и оно! А я считаю, что унижаться, человек тоже может лишь до определенного предела. Не понимаю только, какого черта в гимназии нам вбивали в голову на примерах из античной истории и литературы, что честь превыше всего?
— Но это же так…
— О, это уже давно не так! Что вы хотите, если в наше время хлеба ради оправдывается любая подлость, любое страшное свинство. Когда-то, при Франце-Иосифе, — вы это время помните лучше меня, — предателю или доносчику в обществе руки не подавали, а сегодня? Сегодня стоит такому подлюге объяснить, что он совершил подлость ради куска хлеба, как общество уже не имеет к нему никаких претензий. Да подавись он таким хлебом! Ведь подобным способом можно оправдать любую уличную девку, любого жулика. Прошу прощения, Дарка. Можно закурить?
— Пожалуйста, пожалуйста!
— А кроме того, сигуранца не забудет мне того, что я в позапрошлом году, стуча кулаком по столу, добивался разрешения на постановку спектакля. Уж очень мне тогда хотелось сыграть с Лялей Данилюк… Еще и сегодня не могу вам объяснить, почему мне этого так хотелось. Но я тогда достаточно им наговорил! Запомнили они меня, не сомневайтесь!
— Ну, когда это было! Они давно уже забыли все!
— Забыли? — удивился Костик папиной наивности. — Нет, нет. В этом учреждении ничего не забывают. Человек, которого сигуранца хоть раз занесла в свою черную книгу, бессмертен. Где-где, а тут ему бессмертие гарантировано, пане Попович. Умирать могут люди, а не списки с их фамилиями. Вы что же, — не знаете, где мы живем?
Конечно, папа знает, где он живет, но все же положение Костика не столь безвыходно, как ему сейчас, в нервном возбуждении, кажется. Имея образование, он может получить должность в любом городе регата, потому что там повсюду (за исключением разве Бухареста или другого большого города) не хватает грамотных людей. В регате, возможно, с него и не потребуют выполнения других обязанностей.
— Я согласен с вами, что в регате легко можно получить работу. Почему бы нет? Я бы растворился там в румынском море, как щепотка соли в бочке с водой. Но в меня, видите ли, вселился какой-то бес, и я не хочу ради хлеба покидать свою землю. Почему я должен это делать? Чтобы освободить место еще одному колонисту? Не хочу — и баста! Хочу жить на своей земле и умереть здесь, где родился и где похоронены мой дед и прапрадед моего деда. Хочу лежать на веренчанском погосте и чтобы на кресте была высечена кириллицей моя фамилия. Может быть, по этим белым каменным крестам когда-нибудь станут читать историю Буковины и узнают, что на этой земле жили… украинцы…
— Эх, пане Костик, не надо поддаваться черным мыслям. Я вам скажу, не так страшен черт, как его малюют, — пробует мама поднять настроение гостя. — Не проглотила нас императорская Австрия, не проглотит и боярская Румыния. Как-нибудь перебьемся…
Костик забывает, в чьем он доме, кто тут хозяйка, и аффектированно хохочет (а это он умеет!) маме прямо в лицо.
— Как-нибудь перебьемся, говорите? Вы гениальны! Пане Попович, слышите, вашу супругу на ближайших выборах надо сделать депутатом.
— Я не понимаю, что вы этим хотите сказать, и вообще не знаю, что произошло, — сухо отрезал папа, явно обиженный за маму.
Это сразу привело Костика в себя.
— Я прошу прощения, но это «перебьемся» сейчас самый популярный клич наших ура-патриотов. Вот до чего дошло. И поэтому я думаю, что более достойно ради хлеба жениться без любви, чем идти на службу к врагу.
— Гм, — отец дипломатически кашлянул, — женитьба без любви и служба в регате, — папа тактично обходит тему продажи себя сигуранце, — это настолько разные вещи, что о них нельзя дискутировать в одной плоскости. Брак по любви, пане Костик, — это и есть то земное счастье, за которым многие гонятся, только мало кто знает, как оно должно выглядеть. И лишь на склоне лет человек оценивает, какая милость божия выбрать себе пару по велению сердца.
«Данко, — звенит что-то во мне, — я тоже хотела бы, чтобы мой муж на склоне лет мог сказать мне то же самое и чтобы (я зажмурю глаза, а ты заткни уши!)… и чтобы… этим мужем был ты».
Надо принять во внимание и тот факт, что Костик идет в примаки к Елинским. Как бы шляхта когда-нибудь не попрекнула, предостерегает папа, что взяли его в чем был.
Выходит, Костик не должен продаваться ни шляхтичу Елинскому, ни румынским оккупантам. Но как же тогда жить вечному студенту? Действительно, на какие средства должен существовать человек, который не хочет торговать своей честью — личной, национальной или классовой?
В нашем цивилизованном мире существуют даже общества охраны животных. А может, имело бы смысл создать международный фонд помощи тем, кто Не по своей вине оказался в трудном положении и стремится сохранить принципиальность?
Дарка так погрузилась в размышления, что до ее сознания не сразу дошли слова Костика:
— Вам так жаль меня, пане Попович? Тогда знаете что? Выдайте за меня вашу Дарку.
«Вот вам и весь Петро Костик. Знакомьтесь!
Ну, не права ли я была, когда говорила, что Этот паршивец не заснет ночью, если не испортит днем настроение хоть одному человеку? Я бы знала, что ответить такому наглецу, если бы осталась с ним с глазу на глаз. А так послушаем, что скажет мама».
— Ну чего вы ее в краску вгоняете, пане Костик? Из нее еще такая невеста, как из вас митрополит!
— Сударыня, — скалит свои лошадиные зубы этот черт, — Дарке уже и сегодня не грех выскочить замуж! Глядите, как она расцвела на каникулах! Вы скажите лучше, что не хотите меня в зятья, потому что у вас кто-то другой на примете!
Папа разглаживает вчерашнюю газету и зачем-то старательно складывает ее вчетверо.
— А что вы на это скажете, пане Попович?
«Представляю, какой театр устроил бы тут этот Костище, если б еще выпил сливянки!»
Папе остается одно из двух: обратить все в шутку или поставить Петра на место так, чтоб у того в пятках отдалось. И миролюбивый папочка выбирает первое:
— Погодите, погодите, нельзя сватать девушку, не спросив у нее, хочет ли она за вас замуж. Пойдешь за пана Костика, Дарка?
Это должно звучать как шутка, но почему-то никто не смеется.
Из кухонной двери высовывается голова бабушки. По выражению ее лица (когда она сердится, у нее как-то по-особому втягиваются губы) можно догадаться, что она не настроена шутить.
«Что за глупая ситуация! Если я сейчас не утру нос этому прохиндею, то вмешается бабушка, и тогда нашему гостю несдобровать. Мама и папа молчат, — верно, тоже ждут, что я скажу. Хорошо, мои дорогие, я отвечу ему, только совсем не то, чего вы ждете.
Слышу голос моей совести: «Встань и скажи им всем, пусть раз и навсегда знают». Не могу сразу решиться. Еще колеблюсь. Тогда моя совесть приказывает мне вторично: «Будь смелой! Встань и скажи!»
Дарка встала и сказала, запинаясь:
— В мире есть только один человек, за которого я могла бы выйти замуж, а больше я ни о ком и не думаю.
«Так я сказала. Если мне судилось совершить в жизни подвиг, то я совершила его в тот день, хотя день этот начался как обычный…
Я не могу сказать, как я выглядела, когда говорила это, как «выглядел» при этом мой голос. Одно я успела заметить: впечатление мои слова произвели колоссальное!»
Все замерли, словно зачарованные злой силой. Если бы у кого-нибудь из них в эту минуту была в руке ложка с едой, рука повисла бы в воздухе. Дарка не ждет, пока фигуры вокруг нее снова оживут. Она демонстративно издалека обходит Костика, одновременно оскорбленная и торжествующая, выходит из комнаты и идет к себе, к тому единственному месту, где можно укрыться, — к своей постели.
«Я твердо решила не плакать, но слезы все равно текли по лицу. Я пробовала сдержать их, но они не слушались и продолжали течь. Тогда я махнула на них рукой, и их не стало.
За стенкой заговорили. Наверно, осуждают меня. Или, наоборот, игнорируют мою выходку и нарочно громко рассуждают о… погоде (о политике небось так бы громко не говорили)… Меня немного мучает совесть, что я снова сорвалась и разочаровала маму, которой так хочется, чтоб ее дочка была такой, как у всех людей.
Через некоторое время я слышу, как папа провожает Костика до порога. Когда открывается кухонная дверь, оттуда доносится звон ложек. Кто-то за меня домывает посуду. Да, да, сейчас домоют, вытряхнут над ведерком скатерть, прополощут и повесят сушить над плитой тряпочку, а потом мама или бабушка (я хотела б, чтобы это была мама) зайдет сюда отругать меня за недостойное поведение при постороннем человеке.
Что ж, я готова к экзекуции. Скрипнула кухонная дверь, и я по шагам узнала маму.
— Почему ты лежишь, словно больная? — Голос у мамы не злой, но и до ласкового ему далеко. — Осрамила нас и себя, а теперь плачешь?
— А я не плачу.
— Это плохо, что ты не плачешь. Я думала, моя дочка уже повзрослела. Ведь тебе, девочка, через полгода будет семнадцать, а ты повела себя, как, как… я даже не знаю, как это назвать… Ты что, шуток не понимаешь? Ведь пан Костик пошутил, а ты…
— А я тоже пошутила.
Мамин голос метнулся в сторону:
— Хороши шуточки, нечего сказать! Где это видано, чтобы барышня в твоем возрасте при постороннем человеке, в присутствии родителей заявляла во весь голос, что она только за него выйдет замуж и больше ни за кого? Откуда это у тебя? Где ты это вычитала? Это же нескромно, Дарочка! Ты еще ребенок, и тебе вообще рано думать о таких вещах, а не то что громогласно заявлять об этом. Ты так меня ошеломила, что впору было сквозь землю провалиться. Деточка, — мамин голос стал ласковым и мягким, — всему свое время. Пока что думай о книжках, на все остальное еще будет время, Дарка, поверь!..
«Еще будет время»! В эту минуту действительно хочется быть учтивой, но это сакраментальное «еще будет время» преследует меня с тех пор, как я себя помню (конечно, по разным поводам).
Я хочу верить тебе, мама, что мне еще не время думать об этих вещах, все еще впереди, но ты скажи это моему сердцу, может быть, тебя оно и послушается, а меня — нет.
Мама гладит меня по голове. Спасибо, мама, но на этот раз твои испытанные лекарства не утоляют боли.
После паузы:
— Дарка, ты имела в виду Данка Данилюка? Да?
Молчу. Зажала кулаком рот и молчу.
— Выбей его из головы, — советует мне моя добрая мама, — это не для тебя. Музыканты — все равно что цыгане.
— Хорошо, я выбью его из головы, — говорю я и представляю, как беру в руки свою голову и вытряхиваю («выбиваю») из нее, как пыль из ковра, мою любовь к Данку Данилюку.
Клянусь, если у меня будет ребенок, я никогда-никогда не потребую от него, чтобы он выбил из головы того, кого полюбит.
— Киндерлибе, детская любовь, деточка, — философствует мама, — она, как корь, проходит быстро и без осложнений. Не падай духом. Еще встретится на твоем пути человек, достойный тебя, это и будет твоя пара. Твоя вторая половина… Знаешь, как в той легенде? А сын директора — ветрогон. Ты так тоскуешь по нем, а он, мне кажется, не очень-то по тебе скучает. Люди говорят (какие люди, что за люди, мама?!), что ему больше нравится Орыська со своим голосом. Не стала бы я на твоем месте забивать себе голову тем, кто заглядывается на других, девочка. Надо еще и девичью гордость иметь!
Мама, сейчас же замолчи, потому что я не выдержу и закричу от боли! О какой девичьей гордости может идти речь, когда кровоточит сердце?
Духовная пуповина, которая до сих пор связывала меня с мамой, обрывается. Мне кажется, что на этой грани где-то оборвалось и мое, как сказал бы поэт, золотое детство.
— Эй, что вы там делаете? — кричит из сеней бабушка. Ее любопытство больше не выдерживает.
Мама целует меня в лоб, а я, неблагодарная, не могу ответить на поцелуй. Встаем, полупримиренные, и идем в кухню. Там все без изменений: папа продолжает подсушивать свой табак на краешке плиты; Славочка укладывает куклу в коробку из-под бисквитов; кот, которого сегодня забыли покормить, задрав хвост, выпрашивает то у мамы, то у бабушки свою порцию молока.
— Дарка, собери все грязное белье, завтра постираем твои вещи, чтобы потом не устраивать тарарам в последнюю минуту.
Мама тоже хочет подчеркнуть, что жизнь в нашем доме ни капельки не вышла из берегов».
Завершается это странное утро замечанием бабушки:
— А я и не знала, что Костик такой вицман[79].
Да, пожалуй, это и в самом деле так. Дарке пришлось согласиться с мамой (папа в этом вопросе сохраняет строгий нейтралитет), что она, то есть дочка, а не мама, и впрямь не такая, «как дети у людей».
Дарка столько раздумывала, так переживала, узнав о намерении Костика жениться на полуграмотной шляхтянке, а между тем общественность Веренчанки приняла это известие совершенно спокойно. Никого не удивляло, а тем более не волновало, что недоучившийся студент женится без любви на девушке, которая может ему гарантировать целые штаны, башмаки на зиму и трехразовое питание.
Се ля ви — такова жизнь, Дарка Попович!
Кстати говоря, людей волновал не столько самый факт женитьбы, сколько все то, что поднялось вокруг свадьбы, к тому же помноженное на самые разнообразные догадки.
Каждая очередная версия начиналась словом «говорят» (ищи ветра в поле!). Дарка так и окрестила этот неуловимый источник: всевидящий, всезнающий пан Говорят.
Так вот, этот пан Говорят принес весть, будто отец невесты поручил будущему зятю позаботиться о разрешении сигуранцы на сборище с песнями и танцами, то есть на свадьбу, чтобы позднее ни у гостей, ни у хозяев не было неприятностей.
Елинский обратился к нему как к нормальному человеку, который знает, в каких условиях живет, а в зятя словно бес вселился.
Он (можно подумать, что только он один!), исконный хозяин этой земли, должен унижаться и просить у оккупантов разрешения попеть и потанцевать на собственной свадьбе? А может (тут он сказал такое, что Дарке стыдно произнести вслух), может быть, надо еще попросить у сигуранцы разрешения… лечь в постель с собственной женой?
Папа (папа!!!) осудил Костика:
— Нельзя быть таким эгоистом. Он женится на фальчах и плюет на сигуранцу. А как же быть всем нам, государственным служащим? Допустим, я могу не петь и не танцевать, но одного моего присутствия там достаточно, чтобы обвинить меня в подстрекательстве бунтарскими песнями к антигосударственным действиям. А Костик не хочет этого понять…
Мама сразу нашла практический выход из положения:
— А что, если тебе на это время заболеть?
— Нет, Климця, не уговаривай меня вести себя так, из этого ничего не выйдет. К тому же ты забыла, что со мной на свадьбе должна быть Дарка. Чем ей прикажешь заболеть? Может, у нее в это время заболит зуб, и… ну кто поверит, что у нашей дочки может болеть зуб?
«Нет, мои дорогие, я не заболею, а просто, даже без предупреждения умру, если не поеду в Суховерхово на свадьбу. Ведь пан Говорят уже донес, что Данко наверняка будет там, — надо же спеть молодым в церкви «Многая лета», а какой хор может обойтись без дирижера?
Ведь я, как выяснилось, не такая, как другие дети, так что будьте со мной осторожны, а то я и без вашего разрешения сбегу на эту свадьбу».
Вечером, когда семья пила молоко на сон грядущий (ничто так не способствует здоровому сну, как стакан теплого парного молока с ложечкой меда — рецепт бабушки), папа, верно переосмыслив за день сказанное утром, подошел теперь к делу с другого конца:
— Надо что-то придумать, жена. Я пока еще не знаю, что и как, но знаю одно — не пойти к Костику на свадьбу не могу. Это, тоже, если хочешь знать, выглядело бы просто непорядочно.
— С чьей стороны? — Мама не пришла в восторг оттого, что папина ориентация изменилась.
— С нашей, женушка, с нашей. Костик прав в одном: нельзя показывать оккупантам, что мы так уж их боимся, иначе они сами будут смеяться над нами. С сигуранцей — как с собакой: убегаешь — она за тобой гонится, а смело идешь на нее — пятится. Я не думаю, чтобы его преподобие разрешил бы ехать на свадьбу зятю и Орыське, если сигуранца не дала разрешения. Какая-то договоренность должна же быть.
— Ты хочешь сказать, что его преподобие в хороших отношениях с сигуранцей?
— Давай прекратим эту пустую болтовню! Ничего я не хочу сказать… Нет, хочу сказать, чтобы ты вынула из шкафа мой черный анцуг[80] и поглядела, все ли пуговицы в порядке. Послушай, женушка, когда я в последний раз надевал черный костюм?
— Не так давно, на свадьбу Ляли Данилюк.
— А, верно.
Еще не прояснилось дело с разрешением на свадьбу, а пан Говорят уже принес весть о новой выходке зятя, то бишь будущего зятя Елинских.
Как-то Елинский намекнул Костику, правда, весьма осторожно, весьма вежливо (зная уже немного его характер): будет хорошо, если семья жениха, дабы не давать пищи злым языкам, появится на свадьбе, — разумеется, в общем-то, в сущности, только ради приличия, — одетая не по-деревенски.
Костик, даже не поинтересовавшись как следует, чем вызвана необходимость такого маскарада, сразу же облаял тестя: что-что? Его семья должна разыгрывать из себя богачей? А что, разве почтенному тестю не известно, откуда родом его будущий зять? Выходит, надо отказываться от последнего национального признака?
Какой признак, что за признак? Елинский не очень-то понимал своего норовистого зятя. Ни о каком признаке, боже упаси, речь не идет! Он хотел, ну просто хотел, чтоб злые языки потом не мололи бог весть что. Ну, точнее, имея в виду здешнее общество, которое будет на свадьбе, хотелось бы… ну, как бы это сказать… одним словом, зять должен понять его…
Костик понимает одно: кто не признает его народа, может не признавать и его, Петра Костика, а от алтаря отступить еще не поздно.
Говорят, эта угроза сыграла свою роль. Тесть сразу присмирел, а Костик, воспользовавшись временной победой, сам пошел в атаку. Если дело обстоит так, то он нарочно уговорит родных явиться на свадьбу в старинных нарядах, добытых с самого дна сундуков, из-под низу всего, что висит на жердках. Мужчины пусть надевают белые шерстяные гачи[81], сердаки, кожухи со шнурами, а женщины — красные сапожки с отогнутыми голенищами и фезы под шарфами…
И еще об одном Костик хочет условиться заранее, во избежание скандала: у него на свадьбе не должно быть отдельных столов для господ и мужиков, когда возле одних тарелок лежат серебряные ножи и вилки, а возле других деревянные и железные ложки. Для него все свадебные гости равны!
— Тут уж Костик не прав, — сказала мама, которая не поддерживала ни ту, ни другую сторону. — Он должен понимать: крестьяне будут лучше чувствовать себя в своей компании, чем среди господ. А что до ножей и вилок, то это просто смешно. Зачем же мучать мужика и заставлять его орудовать ножом и вилкой? Пусть уж ест так, как привык дома, ложкой. Нет, этот Костик совершенно невыносим. Не завидую его жене. — При этом мама почему-то поглядела на Дарку.
Любопытно, — если свадьбу сестры Данка можно было сравнить со спектаклем в профессиональном театре, где от зрителей скрывают все подготовительные работы, то свадьба в Суховерхове, если придерживаться этого сравнения, напоминала любительский спектакль (например, у нас в Веренчанке), где во всей подготовке — от костюмов до декораций — принимает участие полсела.
Кстати о костюмах. За три дня до свадьбы выяснилось, что у Пражского (первого дружки) нет черного костюма.
— Как это? — удивлялся кое-кто. — Вообще нет праздничного костюма?
Есть костюм, и достаточно приличный, но темно-синий.
— Темно-синий на такую свадьбу не годится — пришли к единодушному решению все круги веренчанского общества. — Надо черный.
А где его взять? Проще всего было бы сесть в поезд, доехать до Черновиц и купить новый костюм, но этого, как выразился Пантелеймон, веренчанский дьячок, не позволяет касса Пражских. Остался один-единственный выход — занять у кого-нибудь черный костюм. Да, но у кого? Парни (Дарка ненавидит, проклинает это слово), которые по такому случаю внимательно присмотрелись к Василю, выяснили, что фигура у него нестандартная. Он невысок, но очень широк в плечах. Длиннорукий, но коротконогий. И «братия» стала ломать голову, где бы найти двойника Пражскому по фигуре и… к тому же такого человека, к которому можно было бы обратиться с подобной необычной просьбой. Искали соответствующую кандидатуру, искали и все же нашли. Брат жениха напомнил веренчанцам, что отец аптекарши не всегда был маленьким, сухоньким старичком. Много лет назад это был плотный, правда, низкого роста мужчина, общим силуэтом (Уляныч теперь зачастую употребляет интеллигентные словечки) очень напоминавший нашего дружку.
Занимать вообще дело не из очень приятных, а тем более одежду, которую человек, возможно, бережет уже только на смерть, но у Пражского и его друзей иного выхода не было. Никто из них не надеялся, что все пройдет так гладко. Но старик, узнав, в чем дело, тотчас охотно согласился одолжить костюм. Попросил только, чтобы Пражский примерил при нем. Когда тот исполнил его волю (еще бы — за такую услугу!), старик был просто счастлив, что его костюм еще для чего-то пригодился.
— Хорошо, хорошо, очень хорошо! — лепетал он, приглаживая и одергивая анцуг на Пражском. — Вы возьмите в руки, пощупайте, что это за материя! Какой костюм! Теперь такого не найдешь в самом Бухаресте! Я уже думал, — он смахнул слезу, — что меня в нем положат в гроб, а он, гляди-ка, потанцует еще на свадьбе. Хорошо, хорошо, очень хорошо…
«К свадьбе у Данилюков мама перешила мне, платье из бабушкиного бального. Но, во-первых, тогда было лето, во-вторых, я была на полтора года моложе, так что могла еще появиться на людях в перешитом платье. А теперь не хочу. Я надену свое светло-серое шерстяное, с широкими, по-гречески разрезными рукавами, подбитыми голубым атласом. В конце концов, другого парадного наряда для зимнего сезона у меня нет.
Орыся, услыхав мой проект, покрутила носом. (Характерно — чем она становится старше, тем больше у нее заостряется носик. Кое-кто из ребят считает, что это придает ей пикантности, а я думаю — наоборот.)
— Молодой барышне не к лицу идти на свадьбу в таком платье. Или, может, ты хочешь подладиться под них? — Орыся имела в виду шляхту.
Сама она и не думает подделываться под шляхтянок. Должна же быть какая-то разница между нею и этой публикой. Или Дарка считает, что Орыся ради какой-то гуманности или деликатности станет опускаться до их уровня? Наоборот. Да, да, наоборот! Орыся, например, явится на свадьбу в серебристом кружевном платье на ярко-красном чехле, а к нему прическа а ля Пола Негри, плюс серебряные туфельки, плюс серебряная вечерняя сумочка.
— Это хорошо для светского бала, а не для скромной сельской свадьбы! — осмелилась я не согласиться с Орыськой в области бонтона.
— Я знаю, можешь меня не учить. Это я нарочно. Я одеваюсь не для них. Мне говорил швагер, что на свадьбе, возможно, будет кое-кто из черновицких студентов. Компрене ву, понимаете, мадемуазель? А у твоего Данилюка есть черный костюм или ему тоже придется занимать? Правда, на его фигуру подобрать нетрудно…
Орыська хотела уколоть меня, а тем временем ее шпилька доставила мне только радость («твой Данилюк»!)…
Когда до свадьбы оставались уже не дни, а часы и из Суховерхова в Веренчанку уже долетал (конечно, символически) запах копченых домашних колбас, слоеных пирогов, разных мазурок и бабок (вытесненных в городах вошедшими в моду тортами), жених снова выкинул коленце.
Верно говорит моя мама, намучается с ним его жена!»
Когда окончательно обсуждали список гостей, приглашенных на свадьбу, Елинский предложил включить в него и своего преемника, нынешнего эконома суховерховского помещика, Траяна Лупула. Костик резко запротестовал: «Э, нет, уважаемый тесть, до сих пор я шел на уступки, а тут уж тпрр — стой!» Что у него, Петра Костика, общего с этим голаном?[82] Тесть что, окончательно решил подперчить ему день свадьбы? А может, эта женитьба ему, Костику (Дарка думает, что здесь пан Говорят преувеличил), и так не сладка? Ну зачем, хотел бы он знать, зачем на свадьбе колонист, просто враг?
Елинский сначала мялся, жался, хрустел пальцами, пожимал плечами, делал какие-то многозначительные, но непонятные Костику жесты, заговорщически подмигивал зятю, — одним словом, прилагал все усилия, чтобы его поняли без слов, — но все было напрасно.
Мужицкий сын Костик хотел получить простой ответ на простой вопрос: зачем ему колонист на свадьбе?
Наконец, убедившись, что все его старания тщетны, Елинский заявил напрямик: зять должен понять, что вступает не только в брак с Артемизией, но и в новую семью, у которой есть свои обычаи, свои связи, свои взгляды на жизнь. А жизнь, Петро, — это прежде всего хорошие отношения с людьми, среди которых живешь. Как же зять представляет себе жизнь среди суховерховских людей, если он готов перессорить своего тестя со всеми? Почему эконом должен быть на свадьбе? Да, потому, Петро, что этого требует… политика.
Услышав это слово, Костик икнул, словно в испуге. Политика? Он от нее (тут Костик выругался) сбежал в Суховерхое, а она и тут настигла его? Елинскому пришлось объяснить своему холерическому зятю, что он имел в виду не политическую политику, а хозяйственную.
— Какую?
— Такую, какую слышишь. Хозяйственную. А теперь, зятек, слушай внимательно и, как говорится, мотай себе на ус. Так же, как не может, например, сапожник-ремесленник не то что выдержать конкуренцию, а и просто удержаться по соседству с фабрикой обуви, так сегодня средний хозяин в селе не может свести концы с концами без поддержки поместья.
— Как? — снова перебил Костик. — Значит, поместье поддерживает все средние хозяйства в селе? Что-то я о такой политике не слышал.
— Всех поместье не поддерживает, потому что тогда и само разорилось бы. Но хозяйства, не опирающиеся на поместье, не живут, а прозябают, а нам с тобой, дорогой зять, и твоим детям, и моим внукам надо не прозябать, а жить.
Но в какой же поддержке, пусть наконец тесть скажет, нуждается хозяйство Елинских?
Хорошо, тесть сейчас все выложит начистоту. Вот, к примеру, до сих пор Елинский получает в поместье (конечно, за соответствующую плату) и отборную пшеницу на семена, и телочек от породистых быков, и жеребят от матерей с метриками, не говоря уже о рассаде из теплиц и саженцах фруктовых деревьев. Но это еще не все. Получит, например, поместье вагон искусственного удобрения — отпускают несколько центнеров и Елинскому. Или экспортирует поместье большую партию свиней за границу — как говорится, заодно и Елинский подбросит десять или двенадцать штук. Отправляют клубнику для черновицких ресторанов — к пятнадцати или скольким там корзинам присоединит Елинский и одну свою. А кто руководит всеми этими хозяйственными операциями? Помещик? Какое там! Эконом. Запомни это, зять, на всю жизнь. И поэтому Елинским даже выгодно пригласить на свадьбу Лупула.
— Погодите, погодите, не трещите так много, — остановил Костик тестя. — Выходит, я бежал от политической неволи и попал в другую зависимость — хозяйственную?
— А ты как думал, сынок? На земле нигде нет свободы человеку… Да и на небе будешь зависеть от более праведного, более заслуженного перед богом, чем ты…
— Если человек должен жить только так, то знайте, отец, — Костик впервые так назвал Елинского, — тогда знайте, что я…
Непристойное слово, которое употребил при этом Костик, опустим. Все, что ему объяснил тесть, он понял, одно только неясно: почему у него на свадьбе должен быть осведомитель сигуранцы, этот подлец Лупул?
— А, Траян Лупул! Между нами говоря, человек он неплохой. Только пентюх ужасный. Может, простите на слове, при дамах ковырять пальцем в носу, но как человек ничего.
— Да как же ничего, если он сотрудничает с сигуранцей?
— И что из этого? — добродушно рассмеялся Елинский. — Пусть себе работает на здоровье. Кому это мешает, если все об этом знают и каждый на свой лад остерегается его?
— А я не хочу сидеть за одним столом с доносчиком!
Тогда тесть выложил свой последний аргумент: хочешь ты или не хочешь, а Траян Лупул на свадьбе должен быть! Надо учесть, что само присутствие Лупула среди гостей сигуранца будет расценивать как естественное разрешение на сборище с играми и танцами.
Этим последним аргументом тесть одновременно и убедил и морально убил Костика. Тот согласился позвать Лупула с одной оговоркой:
— Но я лично приглашать его не буду. И не хочу, чтоб Артемизия…
— А это и не требуется! Он и без твоего приглашения придет. Я волновался только, чтобы ты не устроил скандала на свадьбе. А прийти он и сам придет. Он — не гордый.
И вот наступил день и час, когда надо было ехать на свадьбу в Суховерхов. Поповичи, Орыся и Уляныч должны были ехать в одних санях. Впрочем, когда на звон колокольчиков Дарка и папа вышли из дома, в санях, закутанная по самый нос, сидела одна Орыська. А где же Уляныч? Зять, объяснила Орыська, чтобы им было удобнее, по дороге пересел в сани, которые повезли в Суховерхов семью жениха.
Когда все разместились в санях (папа и кучер сидели лицом к лошадям, а Дарка с Орыськой плечами опирались о спины мужчин, которым предстояло защищать их не только от ветра, но и от снега из-под конских копыт), Орыська заговорила шепотом, чтобы не слышал кучер:
— Ты думаешь, Дмитро действительно пересел только для того, чтобы нам было удобнее?
— Думаю — да. А что?
— Он пересел в те сани, потому что ему приятнее, ты слышишь, приятнее ехать со своим мужичьем, чем с нами. Говорю тебе, это главное. Как его ни муштрует Софийка волка все равно в лес тянет. Мажь Федора медом, а Федор все Федор. Софийка только теперь понимает, какую глупость сотворила, но что ж поделаешь? Уже поздно. Зато мне будет наука. Никогда, — проговорила она с непонятной Дарке горячностью, — никогда я не выйду замуж за сына простого мужика!
Дарка, напротив, думала, что пребывание в регате, собственно, не в регате как таковом, а в относительно большом городе, каким, по описанию Орыськи, были Гицы, контакты (хотя бы в гимназии, где Уляныч преподавал математику) с интеллигентными людьми изменили Уляныча к лучшему и он приобрел приличные манеры.
На второй день рождества Поповичей пригласили к Подгорским. Дарка, чтобы развеять свою тоску по Данку, которого ей не удалось там встретить, поскольку он вообще еще не приехал в Веренчанку, весь вечер наблюдала за поведением хозяйского зятя. Оно было безупречным. Непринужденность, с какой он приветствовал гостей, помогая дамам снять верхнюю одежду, галантность, с какой целовал старшим дамам руки, легкость, с какой вводил мужчин в курительную комнату, где их уже ждал зеленый столик, элегантность, с какой заправлял манжеты сорочки в рукава, стиль его анекдотов, сосредоточенное внимание, с которым умел слушать нудного соседа, подбор слов в его речи — все свидетельствовало о том, что Дмитро Уляныч из деревенского парня стал интеллигентом. Правда, в одном Орыська была права на сто процентов: Уляныч не смог и, верно, никогда не сможет духовно порвать со своей мужицкой стихией. И если у Костика тяга к своему носит несколько романтический и болезненный характер, то у Уляныча эта привязанность к своему имеет глубокие и трагические корни.
Почему глубокие и трагические?
«Не знаю. Так мне кажется, а мне нет еще и семнадцати.
И снег из-под лошадиных копыт (мужские спины не очень-то защищали от него), и звон колокольчиков, и бесконечное заснеженное поле — как бы все это иначе воспринималось, будь ты, любимый, рядом!»
Когда сани въехали во двор невесты, оказалось, что все уже ждут запоздалых гостей, чтобы идти в церковь. Даркины глаза и сердце тотчас успокоились, как только в толпе молодых людей она увидела Данка. Как он вырос за это время, что они не виделись! Вытянулся и поэтому, очевидно, еще больше ссутулился. Было похоже, что и он искал Дарку. Встретившись с ней глазами, он приветствовал ее вежливо, но как чужую. Дарка поняла почему. «Мафия» следила за каждым его жестом. Когда их взгляды встретились снова, он бровью повел в сторону друзей: мол, я бы подошел к тебе, но теперь не могу.
«Но за столом будешь рядом?..» — спросила его в свою очередь Дарка.
«А как же иначе?»
«А эти, — теперь Дарка повела бровью в сторону «мафии», — разрешат тебе?»
«Не делай из меня такого уж безвольного раба!» — так же без слов, одной злой складочкой между бровями, ответил Данко.
Церковка была недалеко от усадьбы Елинских, так что свадебная процессия во главе с женихом и невестой двинулась пешком. Дарке понравилось, что семья жениха явилась одетая не по старинке и не по моде, а так, как было принято в селе.
Дарка опасалась, что жених у самого алтаря снова выкинет какое-нибудь коленце, но, слава богу, все закончилось хорошо. Позже, за столом, говорили, что мама Костика стояла у него за спиной и буквально придерживала за полу сюртука, чтобы он в последнюю минуту не сбежал из-под венца.
Жених не очень горячо, но и не очень вяло заявил, что по доброй воле берет в жены стоящую рядом с ним невесту. Священник прочитал соответствующее место из евангелия, благословил кольца, молодые надели их себе на пальцы и стали уже мужем и женой. Все так просто, что даже страшно.
Возвращение из церкви несколько затянулось — всем хотелось поздравить молодых.
Дарка смогла поздравить Костика только в доме. Когда она подошла к молодому, он наклонился якобы поблагодарить за добрые пожелания, но спросил страстным шепотом:
— Ты почему не захотела выйти за меня замуж? Я б тебя, глупенькую, на руках носил…
«У меня, очевидно, было очень растерянное лицо, потому что Данко подошел ко мне и спросил:
— Что с тобой? Что он сказал тебе?
На мое счастье, вокруг все засуетились (гости старались занимать места целыми компаниями), и я могла не расслышать вопрос Данка. А стало быть, и не ответить на него».
— Сядем вот здесь, — Дарка указала на первые свободные места с края, боясь, чтобы кто-нибудь не перетянул Данка в свою компанию и не разлучил его с нею.
— А почему здесь? Не спеши. Мы тоже сядем со своими. Может, еще петь придется. А где Орыся?
«Не знаю. Не знаю. Боже мой, а что, если мама права и он предпочитает мне эту музыкальную гусыню?»
Орыся как раз оккупировала шесть мест за другим столом и подавала знаки, чтобы пробирались к ней. Ее окружали четверо, то есть все бывшие на свадьбе студенты. Одного из них, с красивой фамилией Соловей, Дарка знала по черновицкому поезду. Соловей садился в Кицмани и всегда почему-то в последний вагон.
Он, видимо, тоже помнил Дарку, потому что, когда их знакомили, оба одновременно воскликнули:
— А мы уже давно знакомы… не раз виделись!
Орыська (конечно, как она и рассчитывала) сразу же оказалась в центре внимания. Ее серебряному платью и впрямь суждено было сыграть большую роль.
Дарка посмотрела на молодых. Они сидели на почетном, устланном коврами месте, как два случайных попутчика на одной вагонной скамье.
Ляля Данилюк тоже не по любви выходила замуж за своего Альфреда, но та хоть за свадебным столом сыграла роль влюбленной в новоиспеченного мужа, чем хоть немного замаскировала свой позор. (Дарка убеждена, что выходить замуж без любви — это позор, да еще какой!)
Молодая пани Костик не овладела этим искусством, и еще неизвестно, захотела ли бы им воспользоваться, даже знай она его секреты. Все ее внимание привлекали свашки, которые разносили кушанья по столам: подают ли они в том порядке, как было намечено, начинают ли с тех столов, с которых им было велено?
Молодой тоже, словно гусак, вытягивал и без того длинную шею, чтоб еще раз убедиться, не обходят ли свашки лучшими блюдами мужицкие столы.
Верно предсказывала мама Дарки, крестьяне действительно сели все вместе.
— А где Уляныч? — спросила Дарка Орыську, чтобы знать, держать ли для него свободное место.
— Где? — Орыська даже раскраснелась от злости. — Оглянись и увидишь, где мой зять. Уселся среди мужичья…
— Так, может быть, молодой попросил его об этом?
— Попросил? Его об этом просить? Не будь смешной…
Места было мало, людей много, скамьи стояли вплотную к столам, так что поистине было мукой вставать при каждом тосте, а сидя поздравлять молодых в этой среде, как видно, не принято.
— Я ехал сюда и все время думал, застану ли тебя здесь…
— Еще немного — и меня не было бы на свадьбе…
— Э, нет! Я должен был тебя видеть. Знаешь, что бы я сделал, если б не застал тебя здесь?
— Что?
— Я бы сразу после свадьбы пошел к твоим и с порога набросился бы: «Куда вы подевали мою Дарку?»
— Ты правда так бы поступил? И так спросил бы? — Девушка хочет еще раз услышать от него «мою Дарку» и искренне сожалеет, что этого не может услышать мама. — Как бы ты им сказал? Как?
Данко не подозревает коварства. Он доволен, что Дарке понравилась его шутка, и повторяет фразу целиком.
Даркина рука под скатертью с благодарностью ложится в его ладонь…
— Ты знаешь, я вижу двух тебя.
— Дан, ты…
— А Ты выслушай до конца. Тебя всегда две. Одна — та, которая всегда со мной, а вторая — та, что далёко от меня. Ты не рассердишься, если я скажу, что лучше отношусь к той, далекой? Той, что со мной, я зачастую сознательно Причиняю боль. Знаешь, иногда в человека вселяется черт… А той, второй, далекой, я никогда бы не причинил неприятностей. Но ведь и она ко мне относится лучше, чем ты. Ты не обиделась?
— Нет.
«Я не вправе обижаться, потому что и со мной порою происходит то же. А может, это расщепление психики вообще свойственно влюбленным?
Мне грустно. Тот, далекий Данко не прищурился бы так иронически, как сделал этот».
Только взялись за вилки (кулинарные запахи, которые еще за три дня до свадьбы долетали из Суховерхова до самой Веренчанки, полностью себя оправдали!), как у входной двери послышался шум. Какая-то пара нестарых, одетых по-городскому черноволосых людей, на радость присутствующим, шумно пробиралась к молодоженам, держа под мышками, как уже успели проинформировать Дарку соседи, двух гусынь.
Со всех сторон послышались восклицания:
— Расступись, процессия идет!
— Эй, Траян, куда прешься со скотиной, не видишь, что люди сидят?
— Заберите у человека гусей, а то еще вылетят и наделают баджокури[83].
Волна веселья возросла, когда молодые, приняв из рук гостей подарок, подняли птиц, чтоб показать их всем, а гуси поняли это как сигнал к свободе и загоготали.
Избавившись от хлопотливого груза, Лупул с женой стали пробираться к единственному свободному месту, которое Дарка держала для Уляныча.
— Может, побыстрее позвать сюда учителя? — предложил кто-то, чтоб таким образом не допустить сигурантщика в компанию.
Куда там! Попович в соседней комнате еще с тремя учителями (правда, дверь в зал была распахнута) резались в карты так, что дым шел! Дарка знала: нет такой силы, которая способна оторвать отца от карт, особенно если поблизости нет мамы. Оставалось одно — принять сигурантщика в свою компанию.
По всему было видно, что Лупул в достаточно близких отношениях с местными жителями, и это, должно быть, удивило не одну только Дарку.
Сидя визави, Дарка могла спокойно поближе присмотреться к сотруднику сигуранцы. Это был типичный уроженец юга своей страны: невысокий, плотный, с оливковой кожей и ранней склонностью к ожирению. У его жены при необычайно (быть может, даже слишком) правильных чертах лица были смуглые щеки и полная, в жировых складках шея. Не зная как следует украинского языка, она придумала себе способ общения и на все, с чем к ней обращались, отвечала смехом. Смеялась она искренне, по-детски широко раскрывая рот.
Лупул всем по очереди сунул свою здоровенную руку, представил жену, обняв ее на глазах у всех, и высказал надежду, что всем будет весело…
Несколько освоившись с компанией, Лупул налил (начиная с себя и своей жены) всем соседям, до которых мог дотянуться (остальным он предложил сделать это самим), и попросил слово для тоста.
В зале притихли, правда, не сразу. Те, кто не знал о существовании Траяна Лупула, расспрашивали соседей, кто он, а узнав, с кем приходится иметь дело, тут же замолкали и с любопытством ждали, что он скажет.
Лупул широко, ладонью, вытер рот (прав был Елинский, говоря, что он пентюх), хихикнул для храбрости и на ломаном, на четверть украинском языке пожелал молодой паре, чтоб у них все сладилось и чтоб через год все собрались снова в этом доме на крестины.
— Бери, Петрика, пример с меня. Я так пристрастился к этой работе, что уже через три месяца после свадьбы вынужден был праздновать крестины.
— Ах ты гоцуле[84], ах ты голане, ах ты проходимец! — Жена била его кулаками по плечам, а он нарочно, на потеху публике, охал и корчился от боли.
И муж, и жена, и гости посмеялись вдоволь.
Выступление Лупула по ассоциации напомнило Дарке, как у Ляли на свадьбе безобразничал пьяный представитель сигуранцы, а перепуганные гости жались по углам.
Что ни говорите, а Елинским (ну, и Костику тоже!) повезло с гостем из сигуранцы.
Невозможно определить, кто первый подал голос. Во всяком случае, песня раздалась не там, где сидел еще молодой, но уже достаточно известный в музыкальных кругах дирижер Богдан Данилюк. Не там хотя бы потому, что напротив дирижера сидел неофициальный представитель сигуранцы.
Не исключено, а, пожалуй, более всего правдоподобно, что запел сам жених, а за ним уже потянулись остальные. Но не прошло и нескольких минут, как Данко вскочил на табурет, чтоб ему удобнее было управлять хором.
Даже папа, тот папа, который в Веренчанке так разумно объяснял маме, что если он и не будет петь и танцевать, все равно его первого обвинят в том, что он подстрекал бунтарскими песнями к антигосударственным действиям, — даже папа, не выпуская карт из рук, тянул громко и фальшиво:
Он мог бы впоследствии доказывать, ссылаясь на свидетелей, что не пел никаких бунтарских песен, но где же найти среди работников сигуранцы дурачка, который бы ему поверил? Разве эти господа не понимают, что речь идет не о буквальном тексте песни или динамике мелодии, а о настроении и реминисценциях, какие данная песня вызывает? Разве для обвинения в антигосударственной позиции, не достаточно того единственного факта, что собравшиеся позволяли себе распевать песню на родном языке, который формально запрещен? Тем паче, что этот язык, как доказывают ученые, представляет собой всего лишь русифицированный румынский и интеллигенция должна как можно скорее помочь очистить его от каких бы то ни было иностранных влияний и примесей, а не активно поддерживать это антинаучное и антигосударственное филологическое явление.
«И я, несчастное создание, которому слон на ухо наступил, тоже пою. Нет, я не пою — я кричу! Это уже куда позднее, на склоне лет, я буду рассказывать, как один-единственный раз пела в хоре под управлением известного скрипача и дирижера Богдана Данилюка».
Свершилось чудо двадцатого века: люди развеселились и забыли (о, как это прекрасно, как это неповторимо прекрасно!), что на земле предков им запрещено петь песни на родном языке. И поэтому сентиментальная, бесхитростная песенка о красавце парне и девушке, у которой «глаза, как звездочки, светят в ночи», в этих условиях (господа сигурантщики не ошиблись!) в самом деле звучит как призыв к бунту.
О, воистину велика притягательная сила запретного плода!
Певцы еще пребывают в забытьи, когда отец молодой влезает на табурет, с которого только что дирижировал Данко, и просит любезных, дорогих и еще каких-то там гостей послушать минуточку, что хочет сказать домнул Лупул.
— Хватит, хватит, уже говорил!
— Мы хотим петь, а не слушать чью-то болтовню!
— Спокойно, друзья! Подумайте, с кем мы имеем дело!
— Да уж ладно, пусть скажет…
— Эх, и тут нет от него покоя!
Лупул, уже сильно подвыпивший, растрепанный, в выбившейся из брюк рубахе, с асимметричными, как после припадка падучей, глазами и кислым выражением лица, опираясь на плечо жены, поднялся из-за стола и стал лепетать на том же ломаном украинско-румынском языке:
— Атенчюня…[85] Я думал, что вы люди, а вы порц ештешти[86]. Еште аша параграфул[87], что надо прежде всего петь по-румынски, а вы, гоци, че ац ми фекут?[88] Вай мне!.. Что будет теперь моя голова? Вай мне… Че ац ми фекут, а? Вай де мени, вай де мени![89]
Он запустил все десять пальцев в волосы и, не зная, что ему дальше делать с руками и людьми, которые не хотели его слушать, в отчаянии налил себе стакан вина и выпил его, как цуйку, единым духом.
Какой-то человек, которого при других обстоятельствах можно было бы принять за представителя похоронного бюро, как петух, вскочил на ту же табуретку и проговорил высоким дискантом:
— Прошу всех успокоиться. Закон есть закон. Домнул Лупул прав. Мы повели себя… хотя, гм… я уже много лет не пою… и пока еще не поздно, нам надо исправить свою ошибку! Пожалуйста, начинайте, домнуле Лупул, будьте добры, — обратился он к эконому на хорошем румынском языке, — а мы все — не так ли, господа? — подтянем. Мы любим украинские… о, пардон, я хотел сказать — румынские песни, так что начинайте, а мы подтянем.
— Тяните уж, пока не лопнете! — бросил кто-то весело, чтобы рассмешить гостей, но не всем стало смешно от этой шутки.
Лупулиха, которая наконец поняла, чего хотят от ее мужа, громко, по-детски, рассмеялась, широко открывая рот (впрочем, она, вероятно, рассмеялась бы так же и ничего не поняв), и сказала на родном языке, не переставая смеяться:
— Да чего вы хотите от него? Он пьян, как свинья. Я буду петь, а вы все, — она сделала призывный жест рукой, словно хотела поднять всех на ноги, — подтягивайте.
Она встала, одернула на животе платье, для чего-то взялась рукой за ухо (это было одно из автоматических движений, которыми женщины проверяют, в порядке ли их прическа) — и произошло второе чудо этого вечера. Конечно, не в масштабе столетия, но, во всяком случае, для веренчанцев немаловажное.
Из этого бочоночка с круглой шейкой полилась такая чистая, такая окрашенная глубоким чувством мелодия, что все присутствующие без особого принуждения, зачарованные песней и ее исполнением, подтянули рефрен: «Де че ну вий, де че ну вий?»[90]
Дарка, словно на крылышках рендунерилор[91], перенеслась в лесистые окрестности Штефанешти, куда она ходила с Зоей за лесными орешками и где они вдвоем пели эту самую «Рендунеле», причем каждый вкладывал в песню свой особый смысл. Подтягивая Зое «Рендунеле» Дарка выплакивала свою тоску по родной стороне, дому и, понятно, по нем.
Нет-нет, прекрасная песня никак не ассоциировалась с врагами и оккупантами. Это, должно быть, чувствовала не одна Дарка.
Кто-то тронул Дарку за локоть. Уляныч.
— У нее есть голос! Кто бы мог подумать? Хорошая песня. А чья музыка?
— Не знаю. Слова Эминеску.
— Это я знаю…
Папа подошел к ним. Рядом стал Данко. Он тоже был под впечатлением голоса жены Лупула.
— Вот так и пропадают таланты. Ей надо было кончить консерваторию, а не выходить замуж за пьяницу. Такой голос, такой от природы поставленный голос! Это нечто необыкновенное!
Дарка слышала, как Уляныч, держа отца за руку, не говорил, а нашептывал ему:
— Знаете, что пришло мне в голову? Мне кажется, меня наводит на эту мысль наша Буковина, что наступает время, когда более сильные народы поглощают более слабые и культурно и экономически стирают их с лица земли, как препятствие, стоящее у них на пути и мешающее их развитию. Уничтожают не пушками, не ядовитыми газами и не специальными законами, а экспансией культуры. Начнутся, это я вам говорю, крестовые походы культуртрегеров на своих слабых соседей.
— Ну, если это так, господин учитель, то нашему народу предстоит еще долгая жизнь на этом клочке Буковины. С богатством нашей народной культуры кто сможет нас вот так хап — и проглотить?
— Вы хотите сказать, что наш национальный организм настолько здоров, что как-то сам выживет, а история поможет ему в этом? Я имею в виду этот клочок Северной Буковины, где мы с вами живем, хотя обо мне нельзя сказать, что я тут живу. Я не стану называть никаких там организаций — Лиги Наций и ей подобных, я беру историю, на которую вы уповаете. История, как и все лиги, помогает прежде всего сильнейшим, которые могут обойтись и без помощи. Что можно пану, нельзя Ивану.
— Тихо, тихо! — Папа поглядел вокруг. — Не место тут… Тихо, друг мой, тихо… — И, как бы вытирая губы, прижал палец ко рту, призывая к молчанию.
Уляныч раздраженно повернулся к собеседнику:
— А что я такого сказал? По-вашему, уже и слово «организация» нельзя произнести? — И продолжал, хотя папа медленно, полушажками, отходил от него: — Что ж нам теперь, уж и собственной тени бояться?
— Вот-вот, святые слова! — со смехом вмешалась в разговор посаженая мать, которая призывала всех занять свои прежние места (чтобы не возиться с мытьем посуды) и выпить за молодую, потому что сейчас с нее будут снимать фату…
Есть, наверное, уже никто не хотел, но все усаживались за столы…
Наступил важный момент свадебной церемонии. У Дарки зародилось подозрение, что хозяева торопят события искусственно, чтобы отбить у людей охоту петь песни. Тем более — никто не мог гарантировать, что за «Над Прутом в долине…» не последует «Мы гайдамаки…». От стихии всего можно ожидать.
Причитания молодой были типичной мешаниной местного, народного, и наносного, заимствованного позднее, свадебного обряда. Молодую усадили на покрытый подушкой стул посреди комнаты (Ляля не садилась на подушку, а в соседнем селе невеста вообще садится с подушкой на колени к жениху), а посаженая мать с дружками сняли с молодой фату. Елинский, как сообщал пан Говорят, выплакал у зятя, чтобы все обошлось без обрядовых песен. Фату посаженая мать передала одной из дружек, а невесте надели на голову старинный чепец, который теперь не носят и столетние бабуси. Посаженая мать за деньги заняла его у кого-то, кто этим специально промышлял. В конце концов, чепец в данном случае символизировал благородное происхождение невесты, так же как и пресловутая камизелька у мужчин.
Невеста только теперь, когда избавилась от тревоги, что жених может сбежать от алтаря, когда убедилась, что на свашек во всем можно положиться и в кухне, и за столом, позволила себе немного расслабиться.
Ее полное, с хорошо очерченным подбородком, можно сказать, ординарное личико молодой девушки, проводящей много времени на свежем воздухе, не выражало ничего, кроме приятной усталости и тайного желания, чтобы все это поскорее кончилось.
У нее были светлые, белокурые, без претензий на пепельный или медный оттенок, густые волосы, розовая кожа и, чтобы не нарушалась гармония, простой курносый носик и самые обыкновенные синие глаза. И только губы, массивные, длинные и властные, казались одолженными у кого-то. «Как бы Костик не был с ней несчастным, а не она с ним», — подумала Дарка.
Непропорционально большие, слишком уж рабочие руки, особенно ладони, свидетельствовали, что молодая не из ленивых. Обувь она тоже носила на номер больше, чем ей было предназначено природой при рождении.
В старинном чепце с рюшиками и бантиками, которые спускались на шею, словно сосульки, жена Костика выглядела иностранкой.
Когда церемония превращения невесты в жену закончилась, к ней подошел Петро, по-мужски неуклюже снял с ее головы чепчик, вынул из-под полы пиджака заранее приготовленный узорчатый платок, подмигнул своей матери, которая, как нетрудно было догадаться, была посвящена в то, что должно было произойти, и они вдвоем повязали Артемизии голову платком, как носят в жару веренчанские хозяйки.
Гости, которые не проявляли особого интереса к причитаниям и уже собирались покинуть свои места, теперь снова засуетились, стараясь пробиться поближе к молодым.
Костик, подождав, пока все успокоились, взял жену сзади под мышки, поднял ее и крикнул:
— Поглядите, какая у меня женушка!
Оказавшись снова на полу, Артемизия повернулась лицом к мужу, и тут случилось то, чего гости меньше всего ожидали: Артемизия поднялась на цыпочки и закинула своему законному мужу руки за шею, а он с радостно сияющим, в эту минуту совсем не «лошадиным», лицом крепко прижал ее к груди. Их поцелуй продолжался несколько дольше, чем положено в таких случаях.
Оба наконец смирились со своей судьбой, признав друг друга мужем и женой. Дарку, как и многих присутствующих, тронула эта сцена, только непонятными остались для нее слова Костика, произнесенные в ответ на ее поздравление: когда же он был неискренен — тогда или теперь?
Музыка играла непрерывно, а в маленьком кругу девушки — прежде всего эта честь выпала дружкам — танцевали одна за другой в фате невесты. Здесь жило то же поверье, что и во всем цивилизованном мире: та, что первой после новобрачной наденет на голову фату, первой и выйдет замуж.
«На Лялиной свадьбе меня пригласил на такой танец сам брат молодой Богдан Данилюк. А где же он теперь? Нет, в самом деле, я не вижу его среди парней, которые ждут очереди потанцевать со своими симпатиями в фате и, конечно же, сделать для себя соответствующие выводы».
Дарка еще раз растерянно огляделась вокруг. Данка не было, а тут как раз посаженая мать протянула ей фату. Ничего не поделаешь, пришлось подставить под нее голову, что Дарка и сделала, скорчив при этом такую мину, словно шла с нелюбимым под венец.
«Интересно, кто теперь пригласит меня танцевать?»
Пригласил ее студент Соловей. Тот, кого она знала только с виду, по совместным поездкам в черновицком поезде.
— А я специально ждал, чтобы потанцевать с вами, как с невестой. Вы знаете, какое поверье с этим связывают?
«Знаю и как раз потому хотела, чтобы пригласил меня Данко. Ты красивый парень, а еще красивее у тебя фамилия, но ты не Богдан Данилюк, и поэтому у меня грустные, как ты заметил, глаза.
Моя погибель нашлась. Ничего особенного не случилось. Данко с еще одним кавалером вышел поглядеть на звезды».
Увидав Дарку без фаты, он с удовольствием (а может, от холода) потер ладони.
— Сейчас, Дарка, сейчас потанцуем. Ты помнишь, как мы танцевали на Лялиной свадьбе?
— А я уже протанцевала свой круг.
Дан прекрасно разыграл искреннее возмущение:
— Уже протанцевала? Да как ты посмела? Где мой соперник? Давайте его сюда, я вызову его на поединок!..
— Ты же сам проворонил меня, — сказала Дарка с упреком, который был совсем некстати. И при этом еще подумала, как о посторонней: «Следи, как бы и впрямь не умыкнул ее у тебя из-под носа какой-нибудь Соловей…»
— Нет-нет, Дарка, я тебя так не отпущу. То, что ты с кем-то там танцевала, меня не касается, ты должна со мною.
С развязностью сильно подвыпившего он попросил у незнакомой девушки тоненькую, прозрачную, как паутинка, шелковую шаль, которая украшала ее плечи, и, кое-как накинув Дарке на голову, заверял всех вокруг, что она в фате.
Было так тесно, что они не вальсировали, а только, прижавшись друг к другу, покачивались в такт музыке.
«Танец, — пришла Дарке в голову глупая мысль, — пожалуй, единственная возможность непринужденного общения, которую не отняла у человека цивилизация.
Я вдыхаю запах его одежды, которая пронизана остатками запахов незнакомых мне помещений и людей.
Мы покачиваемся в ритме, как Два куста камыша. Он и она. Ты и я замыкаем собой целый мир. Еще никогда мы с тобой не были вдвоем так долго (провинциальные музыканты не обращают внимания ни на время, ни на усталость) и близко. Моя рука обнимает твою шею. Твоя крепко, очевидно, чтобы я не сбилась с ритма, прижимает меня к твоей груди.
О, как хочется, чтобы эта минута длилась как можно дольше, потому что неизвестно, когда еще она повторится (если настроения вообще могут повторяться)…»
Терпение лопнуло не у тех, кто играл, и не у тех, кто танцевал, а у тех, кто из-за отсутствия места не мог танцевать. Они-то и прервали танец и затеяли игру.
Дарка уже принимала участие в такого рода играх, смысл которых был в том, чтобы девушка и парень остались одни в темной комнате, где они по правилам игры должны были поцеловаться.
…Дарке повезло, что Орыська пригласила в «монастырь» Данка, а уже он Дарку.
Она встала и пошла навстречу, сразу же решив, что после Данка больше не позовет в «монастырь» никого, чтобы чужие губы не смыли следов его поцелуя. Жаждала — и не скрывала этого — побыть с ним наедине, без свидетелей, а уж если быть откровенной до конца, то с трепетом ждала и его поцелуев. Открыв дверь «монастыря», Дарка сразу увидела, что в комнате не так уж темно, высоко на печи мигала коптилка. Улыбающийся Данко протянул Дарке руки. Доверчиво ответила тем же жестом. Доведись ей свидетельствовать на суде, так бы и призналась: пошла навстречу его улыбке. Как же она могла не верить ему? Но в следующее мгновение он уже без улыбки бросился к ней и молча повел себя так, как никогда еще не вел себя с нею, — до боли стал целовать губы, шею, грудь.
Когда наконец Данко отшвырнул (да, да, отшвырнул!) ее, оба они пошатывались, словно после непосильной физической работы. Растрепанный, с заплывшими кровью глазами, Данко показался Дарке неприятным и чужим.
— На, причешись. — Он протянул ей расческу, смахивая носовым платком пот со лба.
Из комнаты они вышли вместе, что вызвало бурю негодования у мужчин, которые тоже надеялись побывать в «монастыре». Данко нашел в себе силы заявить, что Дарка предпочитает светскую жизнь и поэтому не желает оставаться в «монастыре». В ответ «мафия» запела:
«Хороша мамалыга», — с горькой иронией подумала Дарка. Она втянула шею, не уверенная, что на ней не осталось следов от его бешеных поцелуев. Чувствовала себя так, словно в ней растоптали что-то очень дорогое… С ней поступили грязно, эгоистично, как с первой встречной. Она сдержалась, чтобы не выдать себя. Главное — перед Орыськой, которая уже что-то заподозрила:
— Ты почему такая взволнованная? Ведь не в первый же раз он тебя поцеловал?
Данко тоже тихонько спросил:
— Почему моя маленькая так печальна?
— …Мне грустно оттого, что ты меня совсем, совсем не понимаешь. — И у нее чуть не слетело с языка: «Как же мы будем жить вместе, если совсем не понимаем друг друга?»
— Это почему же я тебя не понимаю? — Он хотел взять ее руку и спрятать под скатерть, но Дарка воспротивилась. — Как я тебя не понимаю? В чём, ну в чем, ты можешь мне сказать? Можешь мне довериться? — Он сделал ударение на этом слове.
Она ответила после паузы:
— Мне обидно, что вот до чего у нас дошло.
Он был совершенно сбит с толку. Казалось, он даже не знает, о чём идёт речь.
— А до чего у нас дошло? Ты понимаешь, что говоришь?
— Об этом я могла бы спросить тебя. Почему ты прикидываешься, будто не понимаешь, что я имею в виду? — Дарка почувствовала, что внутри у нее все рыдает. Вот будет позор, если она не сдержится и эти рыдания вырвутся наружу!
Данко словно что-то предчувствовал. Он пододвинул ей стакан компота.
Выпей немного.
Она послушалась.
— Ты так и не скажешь мне, чем я провинился перед тобой?
— Что я могу тебе сказать, если ты и сам чувствуешь, что уже не сможешь любить меня такую… такую… исцелованную… такую… такую грязную!
Данко на миг застыл. Дарке показалось, что он хочет рассмеяться во весь голос, но, как видно, она не так истолковала гримасу на его губах, потому что он вдруг коснулся рукой ее подбородка и сказал с нежностью, от которой у нее снова помутилось в глазах:
— Даруся, погляди мне в глаза… Ты наивная-наивная девочка.
— Почему я наивная? Это ты так думаешь и поэтому слишком много позволяешь себе. Я больше знаю, чем тебе кажется, и все же ты невозможен.
— Нет, нет, ты просто наивный ребенок, — стоял он на своем. — Ведь такую девушку потом хочется еще больше целовать и любить. Ты ничего не понимаешь в этих делах.
Она только отрицательно покачала головой. Не верила ему, а его самоуверенность повергала ее в еще большую меланхолию.
А он некстати, во вред себе, добавил еще:
— Ты чуть не выцарапала мне глаза, когда я хотел по-настоящему поцеловать тебя… Ну, так, как взрослые мужчины целуют девушек. Ты сама — только не обижайся — вроде бы сопротивлялась, а на самом деле вся тянулась ко мне. Ты тоже хотела, да, да, даже не пытайся протестовать, чтобы тебя так целовали.
Он не должен так говорить, даже если бы так и было, но ведь это — неправда. Тягостно сознавать, но она считала его более деликатным. Не любила его в эту минуту. Более того — не уважала. Он был для нее только мужчиной, одним из представителей грубой силы, грубого пола.
Боже, она уже не была той тринадцатилетней Даркой, которая когда-то приняла первые признаки половой зрелости за беременность. Теперь она была взрослой. Теоретически для нее уже не было тайн в области отношений между мужчиной и женщиной. И хотя она, — тоже, впрочем, теоретически, — знала уже, что большинство мужчин именно так подходит к любви, ее девичья гордость была глубоко оскорблена. Самым грустным было то, что Данко совсем не понимал, в чем его вина. И Дарка снова и снова обращалась к своей великой духовной наставнице Ольге Кобылянской: «Существует род любви, который никогда не будет доступен мужчине».
Она не могла справиться со своими нервами. Данко обидел ее, но она не собиралась мстить ему: чувствовала себя униженной, но готова была простить его; ей было больно, но даже и в голову не приходило порывать с ним; была зла на него, но не собиралась отдавать его другой. Всем ли девушкам, думала она, суждены такие испытания? Если хоть половина юношей на земном шаре такие, как Данко, то такому же количеству девушек предстоит испытать то же, что и ей.
Свашки стали разносить на подносах черный кофе в специально предназначенных для этого чашечках. Большинство гостей не понимало: почему вдруг ночью подают кофе, да еще без молока и хлеба? Кое-кто протягивал руку, думая, что это компот, но, убедившись, что в чашке черный кофе, ставил ее обратно на поднос. Однако были среди гостей и такие, кто сразу понял, что черный кофе должен утвердить аристократический стиль свадьбы.
Папа за своим столиком выпил кофе за себя и за двоих партнеров. Это сразу же отрезвило его не только от алкоголя, но и от революционного настроения.
Он знаком подозвал Дарку:
— Я думаю, нам пора домой.
— Уже? Я должна уходить первой, когда никто еще и не думает трогаться с места?
Как раз подошел Уляныч. Отец обратился к нему за моральной поддержкой:
— Я думаю, что самым правильным будет сейчас отправиться домой.
Зять Подгорских как-то подозрительно покосился на папу и грустно улыбнулся:
— Честное слово, пане Попович, если меня спросят, я скажу, что вы не пели ни украинских, ни румынских песен.
— А вы знаете, действительно могут спросить.
Дарке стало жаль папу и чуточку… стыдно за него.
— Меня не спросят, пане Попович, это я вам гарантирую, но что не спросят никого другого, этого уж я гарантировать не могу. Я за то, чтобы ехать домой. Тем более что как раз договорился с Орысей: она остается тут до завтрашнего вечера, а я не показываюсь до этого времени в Веренчанке, у тестя. Орыся заедет за мной к моей маме, и домой мы явимся вместе.
— Не понимаю, зачем эта… — папа чуть не сказал «комедия», но и так было совершенно ясно, что он имел в виду.
— Вы поймете, если я скажу, что иногда мне бывает очень больно, когда спрашивают: «А почему ты опять идешь к маме? Ты ведь недавно был». Или: «Иди, но не сиди там долго, как всегда». А так я все-таки побуду с мамой.
Аргумент Уляныча Дарку не только убедил, Но и растрогал. Уважение к матери — это тоже одно из свойств порядочного человека, не так ли?
«Едем! Но куда же подевался Данко? А вот и он. Его задержал хозяин дома. Пойду послушаю, чего он хочет от моего парня».
— Я вам скажу, пане Данилюк, я не очень разбираюсь в музыкальных инструментах, но вот что люблю, так это скрипку. Мамин брат, мой дядя, чудесно, говорю вам, чудесно играл на скрипке. Теперь уж и мамы нет, и дяди нет, и мы с вами, Данилюк, будем покойниками, только я пораньше, а вы попозже, хотя это, как говорится, никому не известно…
— Но вы о чем-то хотели спросить, пане Елинский?
«Данко понял: я что-то хочу сказать ему».
— Ага, да, да! Как вы думаете, теперь, когда моя Мизя вышла за студента, наверно, не худо иметь в доме пианино? Я вам признаюсь искренне, что сделал одну ошибку в воспитании своей дочери — не посылал ее учиться. Глупый отец думал, что так она хоть получит на фальчу поля больше, а там еще как сказать… Возможно, если б она немного поучилась и умела… на пианино пальцами перебирать, так, может, заполучила бы «академика», — вы меня понимаете? В поместье есть пианино, неплохо бы купить и для моей Мизи. Но уж больно громоздкая штука!
— Так ведь есть и маленькие пианино.
— Вот это другое дело.
Дарка подошла, взяла Богдана под руку.
— Прости, я должна тебе что-то сказать.
— Извините… — Елинский, кланяясь, деликатно отошел в сторону.
— Совсем замучил меня старик. Спасибо, что догадалась меня вызволить.
— Нет, я действительно должна тебе кое-что сказать. Мы уже уезжаем домой. Ты знаешь, где твое пальто, шапка?
— Уезжаете? — спросил он озадаченно. — А почему так скоро?
— Так надо. Позднее я все тебе расскажу. Где ты раздевался?
Данко не двигался с места.
— Наши остаются до завтра. Костик хочет отдельно попрощаться с «братией». Орыся тоже остается. Оставайся и ты. Попроси папу, пусть оставит тебя под моей опекой, — не то серьезно, не то шутя советует Данко.
— Так ты потому остаешься, что они тебе приказали? А если ты не послушаешься и поедешь с нами, что тебе будет за это?
Данко недовольно морщится:
— Ты говоришь глупости, Дарка. Ничего мне не будет. Кроме того, я сам хочу присутствовать на прощании с «братией». Это мой долг перед побратимом. Но даже не это теперь главное. Пойми, если б я сейчас уехал с вами, друзья высмеяли бы меня за то, что бегаю за юбкой.
«Не глупи! Все твои друзья бегают за юбками», — подумала Дарка со злостью, на какую только была способна.
— Ну что? Что? — Он наклонился к ней так близко, что их носы соприкоснулись. — Ну что ты, маленькая, расстроилась? Я не могу поехать, значит, оставайся ты! Тебе трудно понять это, но «братия» есть «братия». А может, они как раз хотят испытать, не мамалыга ли я? Тем более что я, как только получу аттестат, хочу вступить в корпорацию «Сечь»… Правда, она полулегальная… А там, — он виновато улыбнулся, — знаешь, какие законы? «Мне с бабою не возиться…» Чего ты так поглядела на меня? Верно, я немного преувеличиваю, но вообще будет лучше всего, если ты останешься. Пойди скажи отцу, что Орыся остается, наверно, и тебе разрешат.
— Папа знает, что Орыся остается.
— Ну, так в чем же дело?
«Не могу же я ему сказать, что мой папа переволновался и хочет домой, но без меня не смеет показаться маме. Вот и вся закавыка! А папа уже идет к нам с моим пальто и бабушкиным пледом в руке.
— Поехали, Дарка. Попрощайся с молодыми, и поехали. Лошади уже ждут.
Помогая мне надеть пальто, Данко ловко и незаметно прижал меня к груди.
Однажды он уже сделал так, когда я еще училась в черновицкой гимназии. И именно потому, что сейчас он повторил это, у меня возникло подозрение. А что, если это всего лишь привычный жест, так же, как при прощании кланяться и шаркать ногой? Я злюсь потому, что обижена. Орыся остается, а я должна ехать.
Моя мама — страшный враг грубых слов в устах молоденьких девушек (понимай: в моих устах), а мне не хочется верить, чтобы мама в молодые годы не знала, как иногда может успокоить грубое словечко, произнесенное громко и с ударением. Вот обозвала я Данка и его компанию идиотами, и у меня сразу отлегло от сердца.
В санях я настолько успокоилась, что Могла мысленно продекламировать соответствующие моему настроению стихи (автора не помню), которые начинаются словами:
а кончаются:
А вообще я мечтала (если б это было возможно) на время езды заснуть мертвым сном или оглохнуть, чтобы не расстрачивать своего внимания на разговор папы с Улянычем».
Но вскоре Дарка благодарила бога, что он не внял ее мольбам и не послал ей ни мертвецкого сна, ни временной глухоты, потому что мужчины на заднем сиденье разговаривали об очень интересных вещах.
— Вот видите, — говорил Уляныч, — нынче они стали хитрые. Убедились, что сигурантщик, которого все ненавидят и боятся, не приносит много пользы, а, наоборот, своим присутствием только еще больше разжигает в людях ненависть к власти. И вот пожалуйста, подсовывают людям добродушного, простоватого пьянчужку Лупула.
— Я думаю, что это не система, а случайность.
— Наш пан Попович, — сказал Орыськин зять, — всегда ради святого спокойствия старается все упрощать. Вы думаете, с Лупулом — это случайность, а я думаю — нет. Глядите, как они изменили тактику. Больше не прячут от людей своих доносчиков, как было раньше. Вот вам один из них — Траян Лупул! Лупул сотрудничает с ними, и что из этого? Они проявляют этой, я бы сказал, игрой в открытую даже некоторое рыцарство в стиле «иду на вы». С другой стороны, разве такой добродушный, компанейский человек, всегда готовый выпить с кем угодно, может быть злым? Вот они и надеются, что мы сделаем из этого более широкие выводы. Ну, скажем: разве может быть злой власть, которая держит в сигуранце таких людей?
Пале, верно, хватило и костиковского политиканства, и он, желая уйти от скользкой темы, спросил на свою голову:
— А как чувствует себя ваша супруга?
Софийка, как всем известно, вот-вот ждала ребенка, и вопрос отца в присутствии подрастающей дочки был неуместен. По крайней мере так бы его квалифицировала мама.
— Ничего, слава богу, держится. Да, пане Попович, другой отец на моем месте радовался бы, что увеличивается семья, особенно когда ждут первого ребенка и этот ребенок может оказаться сыном, а мне не дано испытать эту радость.
«Папа не понимает Уляныча. Признаюсь откровенно — я тоже».
— Вот тебе и на! А почему это вы не можете радоваться появлению своего ребенка? (Папа был более опытным отцом и знал, что сыновья по заказу не рождаются.) Даст бог, все кончится благополучно, и будет у вас такой казачина, что только держись!..
— Так бы и должно быть, но разве у нас как у людей? Разве мы нормальные и живем в нормальных условиях?
— Кого вы имеете в виду? Не удивляйтесь, но я вас не понимаю!
— Я имею в виду, пане Попович, себя, Костика, которого мы только что женили, вас и вообще всех украинцев на Буковине. Вы можете сказать, что мы живем нормально? Вот я. Работаю черт знает где, в Гицах, потому что на Буковине не нашлось для меня места. Я послан в регат сознательно, по плану, для того чтобы следующее поколение ассимилировалось, да так, чтобы и следа от украинцев не осталось.
Папа пробует шутить:
— Будут у румын хлопоты с вашей фамилией, пане Уляныч. Улянеску не очень-то звучит.
— Видите ли, в чем дело. Они знают, что с большинством наших — с людьми моего или вашего поколения — они уже ничего не сделают. Мы еще принадлежим к поколению, которое в школе обучали уважать и любить — ведь и этому надо учить — родную речь. Гм, смех, да и только, — Уляныч и в самом деле рассмеялся, — что за дикость, что за варварство двадцатого века — отбирать у людей родной язык? Ну по какому, я вас спрашиваю, по какому праву? Ведь даже зверь в лесу или птица и те ревут и щебечут каждый по-своему. Нас они не могут взять голыми руками, а для моего сына им уже не надо будет надевать рукавицы.
— Не надрывайте себе голос на морозе, пане Уляныч.
— Оставьте меня в покое, пане Попович! Я себе сердце надрываю, а вы о голосе. Не говорите мне ничего. На свадьбе шикали на меня. Ну, там и в самом деле было много разных людей, а тут, под открытым небом, среди ночи, дайте мне хоть раз в жизни выговориться. Иногда я думаю, что если б человек своевременно мог выговориться, в мире было бы меньше сумасшедших. Дарочка, тебе не скучно с нами?
Дарке не было скучно, о чем она и заявила.
«Мне не может быть скучно еще и потому, что я слушаю их интересную дискуссию, по правде говоря, вполуха. Замолчи, глупое сердце! Это не беда, что мы любим больше, чем нас. Зато мы с тобой будем по-женски экономить запасы любви, чтоб когда-нибудь иметь чем наделить и то, второе сердце, которое теперь веселится…»
— Вы сказали, что у меня родится казачина. Я и сам так думаю и радуюсь, как каждый отец. С одной стороны, радуюсь, а с другой — мне хочется биться головой об стенку… Сидите тихо, пане Попович, я сейчас объясню. Когда у меня родится сын, мне захочется назвать его настоящим казачьим именем, — скажем, Тарас или Ярема, — но я не смогу этого сделать, чтобы не повредить ребенку, чтобы над ним потом не смеялись в школе и он сызмальства не испытал бы душевной боли. Одним словом, надо, чтобы он не был тем несчастным цыпленком с чернильным пятном на спинке, которого каждый может клюнуть.
— Вы слишком трагически воспринимаете все это, пане Уляныч.
— Не трагично, пане Попович, а реалистично. Я знаю, если меня из Гиц не вышлют дисциплинарным порядком в какой-нибудь глухой угол нашей «Романии маре», я дослужусь там до пенсии. Да, именно до пенсии. Но сегодня я не уверен, что вместе со мной захотят вернуться на Буковину и мои дети. Для них родиной, патрией, будет уже регат, город Гицы, а Веренчанка станет чужим местом, куда отец насильно возил их к бабушке на лето. Мои дети станут уже чужими среди своих… и своими среди чужих. Вот, пане Попович, тема для драмы, которая ждет своего Шекспира. И каким обедненным на фоне этой проблемы кажется Гамлет, принц датский, со своим «быть или не быть?».
И так же, как четыре года назад, на скале, он взволнованно продекламировал:
Минуту под впечатлением слов Франко молчали оба. Первым откликнулся папа:
— Вы так говорите, пане Уляныч, словно в нашей жизни ничто и никогда не изменится. А я все-таки верю…
— А во что вы верите?
— Верю, — горячо воскликнул папа (гляди, гляди, какие мы отважные!), — что будут, должны быть перемены к лучшему!
— «Сгинут наши супостаты, как роса на солнце»? — иронически продекламировал Уляныч, чего, наверно, не должен был делать. Все-таки папа значительно старше его. — Одной веры мало, пане Попович, хотя в святом писании и сказано, что вера чудеса творит. В наш век этого мало. Сила нужна, пане Попович, сила. А вообще критерием значимости того или иного народа в мире является, как правило, то, как к нему относятся на международной арене. И поэтому я думаю, что для будущего всего украинского народа важнейшим фактором является существование за Днепром Украинской Советской Республики, которая перед всем миром официально называет себя украинской. Ее нанесено на карту мира.
— Постойте, постойте, пане Уляныч, ведь это прямая агитация за большевиков, а вы знаете, что наше государство ничего так не боится, как слова «большевик»?
— Конечно, знаю! А спросите среднего румына, что такое «большевик», и он не будет знать, что вам ответить. Вы говорите… Я зять попа, как же я могу агитировать за большевиков? Я не агитирую за них, но я подхожу, повторяю еще раз, подхожу к делу реалистично. Вы присмотритесь, что происходит в мире: где бы ни появился узурпатор, первое, что он делает, — это насаждает свою культуру. Главная его задача — уничтожить культуру коренного населения. Я дальше буду говорить о нашем клочке земли — Северной Буковине. Каких только культур, языков тут нам не насаждали! И турецкий, и польский, — трудно поверить, что в свое время государственным языком у нас был польский и немецкий, а теперь румынский. И все для того, чтобы нас просветить. Может, это действительно чудо, вы правы, что наша национальная культура столь устойчива, может, это и впрямь чудо, что буковинский крестьянин на протяжении столетий находил в себе силы сопротивляться всем культуртрегерам. А вы посмотрите, — только, пожалуйста, не обвиняйте меня снова в том, что я агитирую за них, — как повели себя большевики на колоссальной территории бывшей царской России, злополучной тюрьмы народов. Одновременно с коренными социальными реформами — у нас может быть свой взгляд на них — они поднимают национальную Культуру всех без исключения, даже самых малых, народностей, о существовании которых мир до сих пор даже не знал. Что ни говорите, ничего подобного в истории не было, и это сразу вызвало у многих доброжелательное отношение к новому общественному строю. И я вас уверяю, пане Попович, этим они могут удержаться.
— Вы не забывайте о земле, — проснулся хлебороб в отце.
— Да, земля… и национализация крупных предприятий… но нас пока касается то, что делается у нас под носом.
— Ну хорошо. Вы говорите, что подходите к делу реалистично, так я хочу спросить: какой же реальный выход вы видите из нашей беды?
Уляныч ответил не сразу:
— Этого-то я и не знаю, пане Попович. И, верно, большинство не знает, как вылезти из этой беды.
— Так, может, и нам устроить революцию, как на большой Украине?
Отец пошутил, а Уляныч ответил ему серьезно:
— Это не шутки, если принять во внимание, что Румыния, по сути, еще до сих пор феодальная страна. Видите ли, я не знаком со статистикой, возможно, Румыния занимает первое место в Европе по безграмотности. Но я точно знаю — ни в Европе, ни во всем мире нет другого государства, где бы так попирали законы, где бы так процветало санкционированное правительством бесправие, где бы так официально и всевластно господствовала взятка. Говорят, у нас за бакшиш можно достать все, кроме родной мамы, — впрочем, я не уверен, что где-нибудь в глухомани не торгуют уже и родными мамами.
— Ну, — отца не покидало хорошее настроение, — так что Же еще надо, чтоб у нас вспыхнула революция?
Уляныч повернулся к отцу.
«Мой папочка и в данном случае сохранил нейтралитет. А вообще мы все трое (трое!) почувствовали себя утомленными политической дискуссией».
Дарке кажется, что она даже задремала в тишине.
Когда приехали, папа, направляясь к дому, сказал:
— Не говори маме, что я играл в карты. — И поторопился добавить: — В этом нет ничего страшного. У меня вообще от мамы нет секретов, но ей будет неприятно.
— А почему неприятно?
— Дядя Юзя — он тебе двоюродный дед, ну, знаешь, тот бабушкин брат, что в Америке, — когда-то проиграл не свои деньги и вынужден был бежать в Америку… С тех пор мама не переносит, когда я сажусь играть в карты… Ну, амба и ша!
«Господи, папа ищет во мне союзника! Это уже конец света, как сказала бы наша бабушка».
По ту сторону двери, спросонья не попадая в замочную скважину, возились с ключом.
Наконец дверь открылась. На пороге, закутавшись в одеяло, стояла бабуся.
— О, что это вы так скоро?
Папа, обметая веником снег с сапог, ответил что-то невразумительное.
Теплый аромат печеной картошки ударил Дарке в ноздри.