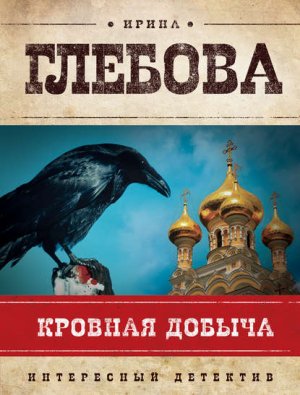
1
Петрусенко остановился около камеры, из которой доносились буйные крики и взрывы хохота. Посмотрел на сопровождающего его командира караула, стараясь взглядом выразить полное недоумение.
– В чем дело, прапорщик?
Недоумение это было наигранным, поскольку Викентий Павлович Петрусенко, только войдя на территорию губернской тюрьмы, сразу понял, как плохо обстоят здесь дела. За долгие годы своей службы ему приходилось бывать в этом заведении много раз. Да, здесь всегда было мрачно, что отражалось даже в названиях – район «Холодная гора», улица Тюремная. Но порядок и дисциплина раньше соблюдались строго: даже его, хорошо известного и тюремному начальству, и рядовым караульным следователя по особо важным делам, а три последних года – начальника губернской сыскной полиции, проверяли по всем правилам, прежде чем пропустить внутрь. Теперь же оказалось достаточно записки председателя милицейской комиссии Кина, которую он предъявил младшему офицеру на входе. У самого же Петрусенко документов и не потребовали. Тюремный двор, всегда исключительно чистый и ухоженный, был замусорен, между корпусом прачечной и мастерскими рос бурьян, а в нескольких окнах больничного корпуса торчали вывороченные из стен прутья решеток.
У входа в первый корпус для заключенных два охранника сидели на ступеньках крыльца и курили. Петрусенко и сопровождающий его командир караула подошли вплотную, только тогда солдаты нехотя поднялись, причем один из них даже не затушил папиросу. Викентий Павлович промолчал, но прапорщик, оправдываясь, пояснил:
– Это недавнее пополнение, солдаты запасных полков. Наших опытных стражников и надзирателей в марте разогнали. Как же, они ведь «сатрапы» и «душегубы»! Потом хватились и прислали этих, запасников. Может быть, конечно, у них много революционного энтузиазма, но опыта по тюремному надзору никакого.
– А вы, господин Павлов, как с ними справляетесь?
Прапорщик с горечью махнул рукой.
– Я для них тоже сатрап, из старорежимных тюремщиков!
Викентию Павловичу все это было хорошо знакомо. Шло лето 1917 года. Несколько месяцев назад, сразу после февральского переворота и отречения царя, все высшие чины царской администрации здесь, в городе, были арестованы. Арестовали и Петрусенко – начальника губернской полиции. Правда, многих вскоре освободили. Петрусенко тоже вернулся домой и с интересом наблюдал со стороны, как новая власть наводит новый порядок. Было тревожно: Викентий Павлович понимал, что перемены еще только в самом начале. Но все же в тот момент острое любопытство – «как же у них получится?» – пересиливало другие чувства. Тем более что банки исправно выплачивали проценты с вкладов, работали и учебные заведения. Это очень утешало Викентия Павловича и его жену Людмилу Илларионовну, ведь старший их сын Александр учился в последнем классе гимназии, им очень хотелось, чтоб юноша получил диплом. Одиннадцатилетняя дочь Катюша тоже должна была окончить среднюю ступень Мариинской женской гимназии, и как раз там сохранялся наибольший порядок. Больше всего волнения и вольные настроения затронули студенчество, но на юридическом факультете, где учился племянник Дмитрий, занятия также продолжались. У Петрусенко вообще создалось впечатление, что в растерянной, разваливающейся стране и в их городе, ввергнутом в хаос, наиболее стойкими, преданными своему долгу оказались именно педагоги.
Новая власть наводила новый порядок. Власти, правда, было две, и каждая очень быстро поняла: вместе с дарованными свободами вырвалась на волю преступная сила. Преступникам некому оказалось противостоять, а вот у них была и организованность, и свои законы. Жестокость и беспощадность уголовников развеяли надежды на то, что угнетенные царским режимом воры и бандиты станут рьяно защищать революцию. Воры и бандиты с увлечением занялись привычным делом – разбоем и грабежом.
Уже в апреле чиновники Временного правительства создали «народную милицию». Советы рабочих и солдатских депутатов тоже стали собирать свою «рабочую милицию», но пока они подбирали в нее сознательных заводских рабочих, «народная милиция» уже начала действовать. А в мае к Викентию Павловичу Петрусенко неожиданно пожаловал сам председатель милицейской комиссии Петр Кин. Невысокий худой человек с хмурым взглядом, в офицерском френче без погон, нервно прохаживался по комнате, которая в небольшом особняке семьи Петрусенко являлась рабочим кабинетом Викентия Павловича.
– Ваш арест был ошибкой, хотя и неизбежной для данной ситуации, – говорил он отрывисто. – Мы, новые лидеры России, будем еще ошибаться не раз. Главное, чтобы быстро учиться на своих ошибках и быстро их исправлять.
– Некоторые ошибки непоправимы.
Петрусенко сидел за своим рабочим столом, на привычном месте, курил трубку. Кин остановился перед ним, пожал плечами.
– Бывает и так. А вы в своей сыскной работе никогда не ошибались?
Викентий Павлович не ответил, чуть усмехнулся в усы. Он не собирался дискутировать с этим человеком. Он не знал Кина – тот был прислан в Харьков, – но не сомневался, что с работой полицейского департамента тот не сталкивался даже как политический заключенный. Скорее всего, Кин был партийным функционером умеренно правого толка… Начальник новой милиции отвел глаза, не выдержав ироничного прищура своего собеседника.
– Помогите нам не ошибаться, – сказал и наконец-то присел в кресло. – Мне приходилось слышать о вас прежде как о талантливом уголовном следователе. Громкие дела расследовали, кое-что я даже помню. Если согласитесь пойти на службу, уже одно это заставит бандитов поутихнуть.
Петрусенко отложил трубку, серьезно посмотрел на Кина.
– О конкретной службе пока говорить не будем. Я пойду к вам консультантом по криминальной ситуации в городе – на первое время. А дальше будет видно…
И оказался Петрусенко в необычной для себя роли наставника и учителя: новым сотрудникам новой полиции, которая называлась непривычным словом «милиция», разъяснял принцип картотеки, знакомил с криминалистической лабораторией. Он сумел добиться возвращения нескольких опытных сотрудников лаборатории и даже кое-кого из сыскных агентов. Вечером и ночью по городу ходили патрули, люди вновь стали обращаться за помощью. После нескольких ограблений Петрусенко организовал облавы на воровские притоны – очень удачные. Как раз в это время тюрьма, сильно опустевшая после переворота, стала вновь наполняться.
Викентий Павлович был рад, что согласился стать только неофициальным консультантом. Две власти, пытающиеся управлять городом, иногда объединяли свои усилия, но чаще спорили и требовали каждая свое. Обе милиции – «народная» и «рабочая» – тоже нередко конфликтовали. Ничего хорошего из этого не получалось, и первым по-настоящему тревожным сигналом стала докладная записка прокурора судебной палаты. Господин Шидловский писал о беспорядках, царящих в губернской тюрьме, и предрекал скорые массовые побеги. Председатель милицейской комиссии лично попросил господина Петрусенко проинспектировать тюрьму и сообщить свои наблюдения и свои рекомендации…
– Заглянем в эту веселую камеру. – Петрусенко кивнул прапорщику. – Открывайте!
– Охрана, двое ко мне! – скомандовал Павлов. – Ружья держите наизготове, когда мы зайдем, станете у двери.
«Тоже из новых, – подумал Петрусенко об охране. – Старую гвардию инструктировать не нужно было бы…»
В камере вовсю шла игра в карты, на вошедших почти не обратили внимания. Лишь один из игроков соизволил отвлечься.
– Начальство пожаловало! – Он тоненько хохотнул. – Господин прапорщик, присоединяйтесь к нам! А что, вот доберется новая власть до вас, мы вас встретим как родного!
– Ты, Жучок, как всегда, блещешь остроумием.
Петрусенко шагнул на свет из-за спины прапорщика. Его узнали, и не только тот, кого он назвал Жучком. Он увидел нескольких своих давних «знакомых»: от мелкого мошенника Баринова до отъявленного бандита Скрыпина по кличке Рыпа. В камере наступила тишина, и заключенные без всякой на то команды начали подниматься на ноги.
– Это называется «Не ждали», – усмехнулся Викентий Павлович. – Как и при старой, так и при новой власти сидеть будете вы, а мы вас – ловить и охранять… А что, – он удивленно обернулся к Павлову, – это все обитатели этой камеры? Многовато! Неужели тюрьма так переполнена?
Прапорщик, побелевший от бессильной ярости, мотнул головой.
– Нет, конечно! Половина из других камер. Делают что хотят!
– В гости ходить – дело хорошее! – Петрусенко медленно пошел по проходу между нарами и, отодвинув в сторону двух заключенных, вытащил из-за их спин третьего, усиленно пытавшегося отвернуть лицо. – Особенно если есть среди друзей такой умелец, как Веня Ключник!
– Напрасно вы, господин Петрусенко, я ни при чем!
– Это мы скоро узнаем… Охрана, развести чужаков по одному по их камерам. Каждого обыскать, ключи от камер – а они обязательно кое у кого найдутся, – изъять! Господин Павлов, распорядитесь провести тотальный обыск по камерам, на площадке для прогулок, в отхожих местах, в коридорах между камер… Что, Веня, думаешь, не найдем твой инструмент? Да ты небось не слишком его и прятал-то?
В коридоре Петрусенко удрученно покачал головой.
– Такого безобразия я все-таки встретить не ожидал! Подозреваю, что новая охрана заключенным сочувствует, иначе как бы такие прогулки из камеры в камеру были возможны? Наверняка взятки берут, записки на волю передают… Вас, прапорщик, не виню, знаю – по вашему рапорту прокурор писал свою докладную записку. Сейчас эта братия немного присмиреет, потому что меня они хорошо знают. А я доложу новому начальству о том, что здесь творится, потребую принять меры.
Они остановились еще у одной камеры, охранник только что запустил туда двух заключенных, из «гостей».
– Ну вот, – весело сказал Петрусенко, заходя следом. – Место свое надо знать. Ключ от камеры нашелся?
– Да, вот у этого, – указал охранник.
Викентий Павлович осмотрел самодельный ключ, кивнул удовлетворенно.
– Веня – мастер хороший… Здесь что, есть больной?
Он прошел вглубь, к дальним нарам, откуда послышался долгий натужный кашель, словно человек задыхался. Тот, кого он там увидел, и в самом деле выглядел очень больным: бледное лицо с впавшими щеками, крупные капли пота на лбу, а на скулах – горячий неестественный румянец. «Совсем молоденький», – успел подумать Викентий Павлович, как заключенный, превозмогая надвигающийся приступ кашля, приподнялся на локте и проговорил:
– Господин Петрусенко, не узнаете меня? Викентий Павлович?
– Узнаю, Иван Павлович, – ответил Петрусенко после почти незаметной паузы. За эти несколько секунд он успел сначала мысленно удивиться тому, что видит единственного сына миллионера Христоненко в таком месте и таком виде, потом напомнить себе о нынешнем времени и обстоятельствах, вспомнить, что отец этого молодого человека умер от туберкулеза, и с жалостью подумать о том, что Иван, похоже, тоже серьезно болен… – Хотя, признаться, узнать вас непросто. Вижу, вы нездоровы? Я распоряжусь, вас переведут в больницу.
Молодой человек кивнул, обессиленно откинув голову на подушку, по его щеке катилась слеза. Петрусенко отвернулся, сдерживая волнение. Он не стал здесь, в камере, ни о чем расспрашивать Ивана Христоненко. Идя к выходу, сказал прапорщику жестко:
– Прямо сейчас, господин Павлов, переведите этого заключенного в больничный корпус. Подозреваю, что у него может быть туберкулез. А я в ближайшие дни пришлю хорошего специалиста для обследования. А сейчас пройдемте в контору, я хочу посмотреть дело Ивана Павловича Христоненко.
2
– Бог мой, Викентий! Неужели Ванечка Христоненко и в самом деле виновен?
Во взгляде Людмилы Илларионовны, вопреки ее невольному восклицанию, читалось обреченное понимание того, что да, все может быть. Следом за мужем она прошла в его кабинет, неся поднос с фарфоровым чайником и двумя чашками. Когда в доме не было детей, они любили пить чай именно здесь. Петрусенко всегда охотно рассказывал жене о своих делах, иногда опуская самые жестокие подробности. Людмила прекрасно слушала, быстро проникала в суть сложных интриг, и часто ее замечания наталкивали Викентия на разгадку. Сейчас, уступив жене кресло у стола, он подвинул поближе стул, взял из ее рук чашку. Сделал первый глоток и печально покачал головой:
– Увы, молодой Христоненко, как ты выразилась, и в самом деле виновен. Он воспротивился приказу новых властей, а подобное при любом правительстве наказывается. Другое дело, что при прежнем порядке его на такие действия просто не вынудили б… Я сейчас расскажу тебе. В Настасьевке по приказу кого-то из представителей Временного правительства в нашей губернии решили разместить воинскую часть. Иван Павлович кинулся доказывать, что этого делать нельзя, но его слушать не стали и к высшим чинам не пропустили. Тогда он кликнул нескольких своих друзей, на подступах к имению они перекрыли дорогу, Иван стрелял в офицера. К счастью, только ранил несильно.
– Еще бы! – Людмила Илларионовна печально улыбнулась. – Отец учил его музыке, живописи, верховой езде, риторике, но никак не убийству. Он, наверное, и оружие впервые держал в руках! Но, Викеша, он ведь был прав! Ты согласен? Это же Настасьевка, жемчужина всей Украины! Ее превратить в казарму, это надо только додуматься!
Викентий Павлович обнял жену за плечи:
– Верно, Люсенька, прекрасное место Настасьевка!
Они вдвоем несколько раз гостили у Павла Ивановича Христоненко, сахарозаводчика, миллионера, мецената. Это родовое имение, так же как и родовое состояние, заложил старший Христоненко – Иван Григорьевич. Километрах в восьмидесяти от Харькова он выбрал живописное место: песчаные берега реки Мерчик, вековые дубравы, рядом – старинное село, из первых здешних поселений. Первый хозяин успел почти построить дом, разбить оранжереи, парк, манеж, но вскоре умер. А достроил Настасьевку его единственный сын Павел.
– Какой чудный там парк! Сколько экзотических деревьев, их везли из разных стран, даже из Америки. Помнишь, Викеша, мы поехали всей компанией верхом на террасы, километров за десять от усадьбы? Какое это грандиозное сооружение, как умно сделано! Огромные дуги развернуты весь день к солнцу, чтобы экзотичным растениям было побольше тепла. А акустика, улавливающая все звуки природы! А сам дом такой необычной, утонченной архитектуры. Говорят, его проэктировал академик Щусев. Это правда?
– Да, – кивнул Викентий Павлович. – Там многие наши славные мастера потрудились: и архитектор Рухлядев, и скульпторы Матвеев, Коненков, и художник Савинов. А Спасо-Преображенская церковь с ее великолепной коллекцией картин и старинных икон! Да ты это знаешь лучше меня, ведь ты филолог-искусствовед.
– Мне так нравится эта церковь, такой нигде больше не видела! Она построена ведь недавно, в тринадцатом году? А кажется такой старинной: словно вросшей в землю, с одной большой маковкой, со звонницей…
– Павел Иванович так и строил ее, специально под старину. Ты же помнишь, в стены вмонтированы средневековые фрески, а внутри стены украшают росписи современные, но тоже сделанные в старом стиле.
– Да-да, и крест, вырубленный из камня почти тысячу лет назад, и старинные иконы… Господин Христоненко с самого начала хотел, чтоб в этой церкви был музей древнерусского искусства. Что же будет теперь с ней? И со всей Настасьевкой?
– Начало, как видишь, печальное. А новой власти надо было бы учесть, что Христоненко не только богачом был, а, значит, по их мнению, кровопийцем. Он не жалел средств ни на поддержку искусства, ни на здравоохранение, ни на образование. От отца унаследовал щедрость и сострадательное сердце. Ты ведь, Люсенька, не помнишь старого Христоненко, Ивана Григорьевича, он умер давно, мне было лет семнадцать-восемнадцать.
– Как нашему Саше…
– Да, – Викентий Павлович кивнул. – Мой отец дружил с ним, мы не раз бывали в Сумах, где жил Иван Григорьевич тогда. Но основной своей деятельностью, в том числе благотворительной, он занимался в Харькове. Замечательный был человек! Происхождения самого простого, разбогател на торговле сахаром, потом, когда отмена крепостного права вышла, скупал земли у разорившихся помещиков, заводы стал строить. Но никогда не забывал о тех годах, когда нужду знал. При своих заводах школы и больницы бесплатные открывал для рабочих и их детей, основал фонд противопожарного общества, трехэтажное студенческое общежитие построил.
– Дом Христоненко на Сумской улице?
– Да, и проживание для ребят там бесплатное, и столовая. Старик Христоненко вообще очень тянулся к образованным людям. Сам-то он хорошо если церковно-приходскую школу окончил, но прекрасно понимал, что такое наука, образование. Был попечителем нашего университета, выкупил здание для музыкального училища, большой пай внес на создание школы при духовной семинарии. Я не все, конечно, помню, но знаю, что материально поддерживал и писателей, и художников, и актеров. Ну и сыну своему Павлу прекрасное образование дал.
– Еще бы! Павел Иванович умнейший, интеллигентный человек был. У нас в Москве учился.
Викентий Павлович улыбнулся, погладил жену по руке.
– Помню, помню, что ты у меня из московской интеллигенции. И что Павла Ивановича знала еще до того, как со мной познакомилась.
Людмила Илларионовна была коренной москвичкой, оканчивала высшие женские историко-филологические курсы, где содержательно изучалось и искусствоведение. В свои студенческие годы бывала в московском доме Христоненко, который радушно принимал людей искусства. Прекрасная коллекция европейской, русской и украинской живописи пополнялась иногда просто на месте: Анри Матисс, например, рисовал вид на Кремль прямо из этого особняка…
– Образованием Павел Иванович отца куда как превзошел, но семейную традицию благотворительности продолжал достойно. В нашем городе много чего на его деньги построено, народный дом, например…
– Это, дорогой, я и сама знаю. Разве только в Харькове? А памятник Богдану в Киеве, а музей изящных искусств в Москве! Профессору Цветаеву больше всего Павел Иванович помогал! Неужели все забудется? А Ванечка Христоненко, он ведь весь в отца! Образованный, интеллигентный, добросердечный!
– И, боюсь, болезнь от отца он тоже унаследовал… Но, знаешь, Люся, возможно, в этом сейчас его спасение. Пока что я велел перевести его в тюремную больницу, а завтра попрошу профессора Шатилова сходить и осмотреть больного. Если диагноз, увы, подтвердится, возможно, мне удастся освободить Ивана.
– Это ты хорошо придумал! – Людмила подлила мужу чай. – Петр Иванович не ошибется, он ведь специалист в этой области. И, конечно же, не откажет, не такой он человек!
– Не волнуйся, дорогая, – вдруг сказал Викентий Павлович. – Думаю, они уже подъезжают.
Людмила Илларионовна улыбнулась и легонько поцеловала мужа в щеку:
– По классическому сценарию я сейчас должна спросить: «Как ты догадался?» Но я и сама знаю.
– Да, ты третий раз взглянула на часы… Так вот, слышишь, карета остановилась. Это точно они.
В прихожей уже распахнулась дверь, раздавались смех, шаги.
– Пойду, – Людмила Илларионовна оживленно встала, – встречу детей. Эту молодую голодную компанию нужно сразу кормить.
Петрусенко с нежностью смотрел вслед жене. Для нее даже взрослые сыновья продолжали оставаться детьми, не говоря уже о дочери. Мите двадцать три года… Скажи кто-нибудь Людмиле, что он ей не сын, а племянник, да еще не родной, а со стороны мужа! Она только засмеется. В восемь лет Митенька остался сиротой, вырос в их доме. Они сами не хотели, чтобы он забывал родителей, потому Митя всегда звал их «дядя» и «тетя», но был в семье старшим сыном. Года полтора назад ему, уже студенту-юристу, захотелось пожить самостоятельно, и Викентий Павлович поддержал его. Митя стал жить отдельно, снял квартиру в доме Фраермана на центральной улице города. Но в начале этого года, когда по городу волнами покатились стачки, беспорядки, потом сменилось правительство и в воздухе просто ощущалось приближение дальнейших тяжелых перемен, Петрусенко попросил Дмитрия вернуться в их особняк на Епархиальной улице. Он считал, что в такое время вся семья должна держаться вместе. Да и Людмила сильно переживала. Митя снова стал жить с ними, но тревога, поселившаяся в сердце у Людмилы Илларионовны, не проходила. Теперь, когда произошло много событий, Викентий Павлович видел, как волнуется жена, когда детей нет дома. Ребята это тоже понимали, потому завели обычай как можно больше держаться вместе. Вот и сейчас Саша из гимназии забежал в университет к Мите, и уже вместе они заехали в Мариинку, встретили после занятий Катюшу.
Викентий Павлович вышел в гостиную. Ребята уже умылись, садились к столу. Дочь подбежала, обхватила руками шею, прижалась. Он погладил ее густые волнистые волосы, каштановые с медным отливом. В детстве Катюша была светленькая, белокурая, но теперь ее волосы стали почти такими же, как у Людмилы. Он подумал уже в который раз, как сильно Катюша похожа на мать, и с каждым годом это сходство сильнее. Люсенька Бородина – так звали девушку, в которую Викентий когда-то влюбился с первого взгляда. Вот и Катя такая же: стройненькая, голубоглазая, веселая и независимая – обо всем свое мнение имеет, братьями командует только так!
Невольно Викентий Павлович перевел взгляд на Сашу. Что ж, так и положено быть: дочь похожа на мать, а сын на отца. Семнадцатилетний сын был невысок, по-спортивному крепок, крутолоб и сероглаз. Его русые волосы можно было не причесывать – они сами по себе красиво обрамляли лоб и щеки юноши. Когда Саша улыбался, на его щеках, так же, как и у отца, появлялись ямочки.
– Что нового на нивах науки? – спросил Викентий Павлович, подсаживаясь к столу.
– Юридическая нива уже скошена! – ответил Митя, расстегнул студенческую тужурку, достал небольшую книжечку и протянул дяде. – Все, я уже дипломированный юрист!
– Как же так? – Людмила Илларионовна даже остановилась, перестав разливать в тарелки суп. – А экзамены?
– Сегодня наше руководство нам заявило, что курс нами, выпускниками, успешно окончен, а экзамены отменены. Время такое, неопределенное, кто знает, что будет завтра… И выдали нам дипломы, они их, оказывается, приготовили заранее.
– Что ж, – Викентий Павлович пожал плечами. – В этом есть резон. Какое время, такие и песни.
– Я тоже выпускник, можно было бы и у нас отменить экзамены! – с сожалением протянул Саша. – Так нет же!
– И у нас будут испытания, – вставила Катюша. – Но я не боюсь. И даже не волнуюсь!
– Итак, Дмитрий, поздравляю тебя! – Дядя и племянник поднялись и через стол пожали друг другу руки – полушутя, полусерьезно. – Чем намерен заняться?
– Хочу работать с тобой. Это возможно?
– Дело-то я тебе найду, дел как раз много. Только надолго ли?.. Чувствую, наши революционные приключения лишь начинаются, впереди – непредсказуемое…
3
В прежние времена Петрусенко пришел бы со своей просьбой к профессору Шатилову на медицинский факультет императорского университета. Этим он и уважение к известному человеку проявил, и подчеркнул бы официальность своей просьбы. К тому же они хоть и были хорошо знакомы, но все-таки не приятели… Обстоятельства жизни, однако, настолько изменились, что Викентий Павлович рискнул отправиться к профессору прямо домой и без предварительной договоренности – телефонные аппараты уже месяца два как не работали. А жил Шатилов совсем недалеко, на соседней Мироносицкой улице.
Он оказался дома, нисколько не удивился, увидев бывшего начальника полицейского управления. А кто сейчас чему-нибудь удивлялся?
– Пойдемте, Викентий Павлович, ко мне в лабораторию, – ни о чем не спрашивая, сразу предложил Шатилов. – Я хоть и один в этом большом доме, да оттуда почти не выхожу, и работаю, и сплю там.
Он повел гостя на второй этаж. Высокий, немного сутулый, с лицом, породистость которого подчеркивала борода в русском стиле, с густыми волосами над высоким лбом, профессор выглядел уставшим и очень немолодым. «А ведь ему нет пятидесяти, – вспомнил Петрусенко. – Всего на четыре года старше меня».
«Лабораторией» Шатилов называл свой рабочий кабинет. Огромная комната, с одной стороны – шкафы, полки и столы с самыми различными приборами, с другой – широкий диван, стеллажи с книгами, буфет, кресла. Шатилов указал гостю на одно, сам опустился в другое, отодвинул на край стола кипу журналов: Викентий Павлович обратил внимание – медицинские, на русском, немецком и английском языках, но не новые, за минувшие годы.
– Помнится, вы курите трубку? Не стесняйтесь. – Профессор подвинул гостю малахитовую пепельницу. – Я составлю вам компанию. И по рюмочке коньяку, еще из старых запасов. Не откажетесь?
– Вовсе нет.
Они выпили одну рюмку хорошего коньяка, потом вторую. Петрусенко раскурил свою трубку, Шатилов задымил папиросой, глубоко затягиваясь.
«Заядлый курильщик», – подумал Викентий Павлович. Еще только зайдя в кабинет, он отметил, что комната пропитана табачным дымом настолько, что не проветривается даже при открытом балконе. Теперь же, в эту небольшую паузу перед разговором, он разглядывал колбы, реторты, какие-то стеклянные и металлические аппараты на дальнем столе и думал о профессоре Шатилове.
Еще студентом Харьковского императорского университета Петр Шатилов добровольно пошел волонтером-медиком в районы, где свирепствовала эпидемия холеры. И совсем еще молодым человеком определил свою судьбу – борьба с заразными болезнями. А поскольку эта напасть была в основном уделом бедняков, он бесплатно лечил этих людей, нередко сам посещал трущобы. Его, светило медицины, профессора, называли «доктором бедняков». А Петр Иванович Шатилов и в самом деле имел мировую известность. Он первым в России применил вакцинацию брюшного тифа, и его доклад на эту тему произвел сенсацию в Париже, на международном медицинском конгрессе. И все новые препараты этот человек сначала всегда испытывал на себе. Он преподавал в том университете, который сам окончил, и студенты никогда не пропускали его блестящих лекций.
– Преподаете? – спросил Петрусенко. – Не распустили вашу кафедру терапии?
Шатилов покачал головой:
– Нет, знаете ли, даже наоборот. Приходила к нам комиссия от новой власти. У нас сейчас идут исследования в области туберкулеза, палочки Коха очень их заинтересовали. Обещали даже помочь с субсидированием. И просили обратить внимание на сыпной тиф, свирепствует он нынче во фронтовых окопах.
– Значит, туберкулезом занимаетесь особо?
– Большая это проблема, Викентий Павлович. Да ведь связь давно известна: если в стране потрясения, значит, и чахотка свирепствует. Уже и сейчас наблюдается всплеск, а дальше, предвижу, больше будет.
– O saeculum insipiens et infacetum! – не удержался, процитировал Петрусенко своих любимых римлян.
Профессор печально улыбнулся, соглашаясь. Ему, медику, не нужно было переводить латынь, и он тоже был согласен с тем, что век наступил грубый и неразумный.
– Так вот, Петр Иванович, я тоже хочу просить вас… Увы, это связано и со знакомой вам болезнью, и со знакомым человеком. Павла Ивановича Христоненко сын Иван нынче в тюрьме.
– Да что вы? Постойте, – догадался, – он болен? Неужто чахотка? Ну конечно, отец его от нее пропал.
– Я видел его буквально позавчера, – объяснил Петрусенко. – Был там с инспекцией, тоже, знаете, власти просили… Иван Павлович болен сильно. Я не медик, но предполагаю – да, болезнь легких. В общей камере содержался, но я перевел его в больничный корпус. И договорился, что вы придете посмотреть его. Не ошибся ведь?
– Ну что вы, Викентий Павлович! – Шатилов взволнованно прошелся по комнате. – Завтра же осмотрю его! Но как же можно помочь молодому Христоненко там, в тюрьме?
– Если вы, Петр Иванович, диагноз подтвердите, я постараюсь добиться для него помилования. Может быть, не сразу, но, думаю, сумею.
Петрусенко развернул перед профессором бумагу с печатью и подписью Кина. Сказал:
– Это пропуск, я уже получал его для вас. Вас встретит прапорщик Павлов, будет сопровождать.
Епархиальная, где семье Викентия Павловича принадлежал небольшой уютный особняк, располагалась всего через улицу от Мироносицкой. Петрусенко шел не торопясь, думая о том, что Петр Иванович Шатилов живет сейчас один. Он это понял по многим приметам. Он знал жену профессора, как знали ее многие в городе: светская дама, красавица, дочь богатого фабриканта, обожаемая мужем. А вот уехала за границу и, похоже, возвращаться не собирается. Петр Иванович же наоборот: при любой власти готов делать свое дело – лечить людей. Не так ли и он сам? Ведь именно в такие смутные времена и в докторах, и в служителях закона особая нужда простым и беззащитным горожанам… Вот только с ним рядом его жена – первый и верный друг. Да, тяжело профессору…
Раньше Шатилову бывать в тюремных стенах не доводилось. Те улицы окраинных бедняцких районов, которые назывались попросту – трущобы, тоже не отличались приветливостью. И пьяные поножовщины, и воровские притоны – все там было. Но когда Петр Иванович ходил туда, чтоб оказать помощь больным, все знали – это доктор! Иногда, когда он возвращался от больного в позднее время, его просто охраняли. Вот как и сейчас: он пересекал тюремный двор рядом с прапорщиком, а чуть сзади шли два охранника с оружием. Петр Иванович испытывал неловкость, ему очень хотелось сказать: «Ну зачем же…» Ведь это же тюрьма, люди и так угнетены, круглосуточно под охраной. Достаточно и одного прапорщика-проводника. Обстановка ведь совсем мирная – люди убирают двор, с лопатами, метлами, тачками. Ну да, они одеты в черную арестантскую форму, но и только. Обычные мужчины…
Так профессор думал до того момента, пока случайно не встретился взглядом с одним из уборщиков. Тот, мимо которого он проходил, разравнивал груду битого кирпича, на секунду задержал движение руки с лопатой, глянул и мгновенно отвел глаза. Но Шатилов вздрогнул, словно его кипятком прожгло. И оглянулся непроизвольно: где там охранники? Они были рядом. Думая об этом мимолетном взгляде – тяжелом и злобном – совершенно незнакомого человека, Петр Иванович не замечал, что чуть дальше, впереди, стоит другой заключенный, смотрит на него с узнаванием и удивлением. Когда Шатилов почти дошел до здания тюремной больницы, этот заключенный окликнул:
– Господин Шатилов, профессор!
Сделал было шаг навстречу, но остановился, подчиняясь предостерегающему жесту прапорщика. Шатилов пригляделся.
– Это мой бывший студент, – сказал. – Если можно, пусть подойдет.
Прапорщик Павлов кивнул охранникам, те стали рядом с приблизившимся заключенным.
– Я узнал вас, господин…
– Смирнов! Степан Смирнов, – быстро подсказал молодой человек.
– Да, – после паузы согласился Шатилов. – Господин Смирнов. – Он хорошо помнил настоящую фамилию этого студента, но нетрудно было догадаться, что тот ее скрывает. – Не ожидал встретить вас здесь.
– Обстоятельства, увы, подвели меня, – ответил тот даже как будто весело. Но продолжил уже серьезно: – Я понимаю, вы здесь по своему профессиональному долгу… Может, замолвите слово обо мне? Я ведь все-таки медик, здесь буду более полезен, – кивнул на больницу, – чем землекопом.
– Ничего не обещаю, – сухо ответил профессор. – А там посмотрим…
Ему неожиданно пришла в голову одна мысль.
– Заранее благодарен! – крикнул ему во след Смирнов.
Тюремная лечебница не вызвала у Шатилова гнетущего впечатления. Ему приходилось видеть больных в более тяжелых условиях – переполненные холерные бараки, забитые большими семьями темные и душные комнаты в бедняцких кварталах города… Здесь все-таки у каждого была койка, персонал следил за чистотой и белья, и помещения. Правда, не было доктора, только фельдшер и вместо братьев милосердия одетые в белые халаты надзиратели. Но все же…
Иван Христоненко обрадовался профессору, которого он знал немного и лично, а больше – по рассказам. Взял присевшего на койку Шатилова за руку, попросил:
– Петр Иванович, вы только правду мне скажите. Долго мне еще мучиться? – Старался казаться мужественным, но не выдержал, крепко сжал пальцы доктора, выдохнул: – Жить так хочется!
У него было совсем еще мальчишеское лицо, бледное, с прилипшими ко лбу прядями русых волос. Шатилов видел, что лихорадка не оставляет его: глаза блестели, губы потрескались. И профессор ответил откровенно:
– Иван Павлович… Мальчик мой! Если бы я мог отправить тебя в хороший санаторий, в Швейцарские Альпы, или даже в Ялту, в санаторий в память императора Александра Третьего! Ты бы поправился. Во всяком случае, прожил бы еще годы, а может, и совсем выздоровел. Но здесь… Пропадешь. Но мы, вместе с господином Петрусенко, будем хлопотать о снисхождении к тебе. Ты сильно болен.
– Неужели есть надежда? – Глаза молодого человека смотрели умоляюще. – Мне кажется, я отсюда не выйду.
– Будем стараться. А пока я переведу тебя в изолятор и попробую сделать так, чтоб за тобой хорошо смотрели.
Шатилов покинул больницу после того, как лично проследил за переводом Ивана Христоненко в изолятор. Сказал фельдшеру и прапорщику:
– Больному нужно хорошее питание. Я понимаю, что кетовой икры, кумыса или хорошей свинины он здесь не получит. Но хотя бы яйца, молоко, гречка, овощи – это возможно?
– Возможно, господин профессор, – уверил фельдшер. – Для больницы все-таки отпускают продукты получше.
– И еще… Господин Павлов, вы видели, ко мне подходил мой бывший студент, Смирнов. Если бы вы сочли возможным перевести его работать в больницу, был бы вам благодарен. Понимаете, он на моем факультете занимался как раз проблемами легочной болезни! И знания, и способности у него отменные, надо использовать это.
– Думаю, это возможно, – согласился прапорщик. – Особенно если у него есть знания.
– Курса он не окончил, – пояснил Шатилов, – был из университета исключен. Да, резкого и скандального характера молодой человек, видите, даже закон преступил. Но в медицинской науке просто талантлив. Пусть особое внимание уделяет больному Христоненко. А я кое-какие лекарства для больницы пришлю. Увы, к сожалению, от чахотки порошков нет.
4
Сегодня больному было заметно легче. Приступы кашля не стали слабее, но сотрясали худое тело Ивана Христоненко гораздо реже, температура не поднималась слишком высоко. Час назад он со своим «личным санитаром» выходил погулять. Это он так называл, шутя, Степана Смирнова. Конечно, тот был много занят и у других больных, да и просто по хозяйственным делам, но все же ему, Ивану, уделял больше времени. Вот уже не первый раз выводил его на прогулку в тюремный двор. Понятно, что это не сад в Настасьевке и не набережная в Крыму, но погода стояла в эти дни хорошая, солнечная. А какой-никакой свежий воздух для больных легких был живительным.
Отличный парень этот Степан! Немного постарше, но этой разницы Иван и не ощущал. Образованный, остроумный, начитанный. Иван не спрашивал, за что тот оказался в тюрьме, – это было бы бестактно. Да и что спрашивать? Не бандит, не вор. Значит, как и он сам, вступил в конфликт с новыми властями…
После прогулки Степан ушел надолго по делам, Иван, немного утомленный, то дремал, то пробуждался, лежал, думал. Под вечер «личный санитар» вновь зашел в изолятор, сказал весело:
– Разрешили быть с тобой до отбоя.
Но тут же нахмурился, заметив капли пота на лбу больного, горячий блеск в глазах.
– У тебя снова жар! Ну ничего, под вечер это обычное дело.
Он растворил в воде порошок пирамидона, дал Ивану выпить. Сел рядом на табурет, взял за запястье, считая пульс. А минут через десять Иван и сам почувствовал себя лучше, тоже сел в кровати, опираясь на подушку. Голова слегка кружилась, но это было привычно и даже приятно. Он закашлялся, однако приступ оказался не сильный, и платок, приложенный к губам, не окрасился. Но все-таки Иван спросил:
– Не боишься заразиться?
Смирнов пожал плечами:
– Я знаю, что туберкулез не так просто передается, как, например, инфлюэнца. Надо, чтоб организм был истощен или ослаблен другими болезнями. А я, как видишь, здоров.
Засмеялся, разворачивая плечи и похлопывая себя по груди.
Иван тоже улыбнулся: Степан и правда был крепко сбитым, ловким молодым человеком, а в несуетливых его движениях ощущалась сдержанная, даже скрытая мощь и энергия. Он достал из прикроватной тумбочки шахматную доску:
– Сыграем, Ваня?
Еще три дня назад он обнаружил шахматы, убирая шкафы в больничной кладовой. Теперь два молодых человека расставили фигуры – Ивану белые, Степану черные. Но, сделав первый ход, Иван вдруг уронил голову и совсем по-детски разрыдался. Смирнов не стал утешать, расспрашивать – молчал и ждал.
– Прости, – Иван уже отирал слезы. – Вот взял в руки ферзя и вдруг вспомнил башни на нашем особняке. В Настасьевке. Там есть такие, похожие. И лошади, наш конный выезд… У нас, Степан, есть прекрасный дом в Москве, и в Сумах, и за границей. Но я всегда любил Настасьевку, больше всего! И отец мой тоже. Он и умирать туда приехал… Как бы я хотел, Степан, тебя туда пригласить! Ты бы тоже полюбил!
– Кто ж не слышал об имении в Настасьевке, – согласился Смирнов. – Знаменитое место. Говорят, у вас там был чуть ли не музей древнерусского искусства?
– Да, отец собирал старинные иконы, духовную живопись знаменитых мастеров.
– Вы хоть успели их вывезти за границу?
Христоненко вздохнул, покачал головой.
– Эх! – прищелкнул пальцами Смирнов. – Что же вы!.. Теперь все новой власти достанется, этим хамам, которые и оценить-то не смогут.
Иван быстро глянул на него и отвел глаза. «Так-так…» – подумал удивленно Смирнов. Помолчал, затягивая паузу: а вдруг Иван решится, скажет… Ведь есть ему что сказать, есть… Но Христоненко молчал, а потом перевел разговор на другое:
– Эта новая власть кричит всюду о справедливости. Все, мол, должно принадлежать тем, кто трудится. А мы, моя семья, кто? И дед, и отец всю жизнь в трудах. У нас и девиз на гербе знаешь какой? «Благородство через труд»!
– Значит, вы дворяне? – приподнял бровь Смирнов. – Коль герб имеете?
– Всего лишь пять лет назад государь пожаловал отцу дворянское звание. После того как он пожертвовал большую сумму денег на больницы для детей из бедных семей. Вот мы и стали дворянами.
– А у меня наоборот, – усмехнулся Смирнов. – У моей семьи дворянские корни древние, да только мы об этом почти забыли. Состояние никакого, отец, уже покойный, всю жизнь чиновником служил, мать – учительница.
– У меня тоже только матушка осталась, – тихо сказал Иван. – Она в Швейцарии, зовет меня, не знает, что я здесь… Я ведь один у нее, сестренка была, да умерла еще девочкой, от дифтерита.
– И у меня брат младший был… Погиб на фронте.
У Ивана вновь заблестели глаза: то ли от сочувствия, то ли от набежавших слез. А, может, вернулся жар, подумал Смирнов. Потрогал лоб собеседника, покачал головой:
– Ладно, Иван, я шахматы уберу, что-то не пошла у нас сегодня игра. Ты ложись, засыпай, поздно уже…
На следующий день Иван Христоненко вместе со Смирновым вышел на улицу после ливня. Бурный и обильный, он бушевал буквально минут десять, сразу же жаркое солнце стало высушивать землю, но в воздухе ощущалась живительная влажность.
– Самое время погулять, подышать, – сказал Степан, и они пошли по дороге от больничного корпуса к мастерским.
Во дворе, как и все последние дни, работали заключенные: расчищали, убирали, копали. Тюремное начальство, похоже, всерьез наводило порядок. Однако охрана не казалась слишком бдительной и требовательной: солдаты-конвоиры стояли по двое, трое, курили, разговаривали, часто просто не глядя в сторону своих подопечных. Те тоже не усердствовали. Смирнов вдруг сказал:
– Иван, ты посиди здесь, на скамье, мне нужно одному человеку пару слов шепнуть.
– Иди, конечно. Я отдохну, здесь хорошо.
Иван присел на простую, без спинки, скамейку у стены каменного барака. Как ни скудна в тюремном дворе была растительность, но все же неподалеку рос куст сирени – давно отцветший, но густой и зеленый. Молодой человек вдыхал запах омытых дождем листьев, улыбался, глядя, как Степан подошел к трем заключенным, и они заговорили, живо жестикулируя. И вздрогнул от неожиданности, услышав:
– Я же говорил, мое от меня не уйдет. Давай снимай крест!
Этот человек подошел совершенно бесшумно и уже сидел рядом, ухмыляясь. У него было странное лицо: маленькое и безбородое, как у ребенка, и сморщенное, как у старика. А глаза водянистые и косые – взгляда поймать было невозможно. Еще когда Иван находился в общей камере, он ощущал внимание к себе Чура – такая у этого человека была кличка. Каждый раз, слыша его голос, Иван невольно съеживался. А когда Чур попробовал снять с него нательный крест, просто стал бояться того…
Крест этот отец сам надел Ивану, когда мальчику исполнилось пятнадцать лет. Он привез его из кронштадтского Андреевского собора зимой, незадолго до Рождества Христова, когда вся православная Россия оплакивала только что скончавшегося отца Иоанна Кронштадтского. Павел Иванович рассказал жене и сыну, как хоронили любимого всеми праведника. Это были невиданные доселе похороны! От Кронштадта до Ораниенбаума, от Балтийского вокзала в Петербурге до монастыря на Карповке, который построил отец Иоанн, стояли толпы плачущих людей. Никогда такого ранее не было в России! Похоронное шествие сопровождали войска со знаменами, военные исполняли «Коль славен».
– Знаешь, Ваня, – сказал тогда сыну Павел Иванович, – за десять дней до кончины отец Иоанн совершил свою последнюю божественную литургию. Я счастлив, что был на этой службе. Там приобрел для тебя крестик, всегда помни, что его освятил тебе сам Иоанн Кронштадтский! А с ним – его святое благословение лично для тебя. Может, последнее земное благословение праведного старца…
Иван помнил и никогда не снимал крест. Носил сначала на серебряной цепочке, когда она порвалась – на прочной суровой нити. Крест был серебряный, не массивный, но побольше обычных нательных. На первый взгляд казался простым, но если рассмотреть, то становилось ясно, что серебро высокой пробы, а работа – изображение Спасителя, надпись, узор – очень искусна… У Чура, видимо, глаз был острый и наметанный – он разглядел. И однажды, когда обессиленный после приступа кашля Иван лежал на нарах, тяжело дыша, подошел и молча стал стягивать крест через голову юноши. Иван слабой рукой уцепился за нить, заговорил умоляюще:
– Что вы делаете! Это же святой крест! Грех большой! Нельзя же…
Но сил у него не было, еще немного, и Чур сорвал бы крест. Но тут какой-то шустрый заключенный закричал громко:
– Старшой, старшой! Чур у чахоточного крест забирает, втихую гребет себе!
В камере был один человек, которому никто не осмеливался возражать. Иван еще раньше догадался, что тот – очень авторитетный в этой арестантской среде. Немолодой, крупный, малословный, он одним взглядом заставлял любого умолкнуть. Сам ничего не делал, все ему приносили, за ним убирали, к нему подходили на зов. Вот и тогда он произнес что-то тихо, и тут же двое парней подхватили Чура под руки, потащили, поставили перед «старшим». Тот спросил:
– Ты басурманин?
– Чего такого? – забормотал Чур. – Православный я!
– Что ж ты тогда, погань, творишь? Нательный крест даже с мертвеца не снимают. Не трогай доходягу…
Чур больше не осмеливался покушаться, но раза два, проходя мимо Ивана, говорил тихо:
– Мое от меня не уйдет…
И вот теперь он сел рядом на скамью, когда Иван был один и беззащитен, ухмыляясь, сказал:
– Давай снимай сам.
– Нет!
Иван замотал головой и ухватился двумя руками за крест. Тогда Чур молча и зло рванул за нить – раз, второй. Та не порвалась, а больно врезалась в шею, так, что молодой человек вскрикнул. И вдруг Чур отпустил нить, сам взвизгнув от боли. Это подоспевший Степан резко рванул его за плечи, почти отбросил в сторону. У Ивана сильно кружилась голова, он почти не слышал слов, только истеричный крик бандита о том, что какая-то кодла порежет Степана на куски. Смирнов сильно толкнул того в грудь, сказал спокойно:
– Отойдем в сторону, нечего больного человека нервировать.
И почти оттащил Чура на несколько шагов. Иван со страхом смотрел на них, ожидая, что сейчас начнется драка, прибегут конвоиры и Степана запрут в карцер, заберут от него… Но нет, Смирнов что-то тихо сказал, Чур отступил, Ивану даже показалось – шарахнулся. И побрел прочь, несколько раз растерянно оглянувшись.
По дороге к больничному корпусу Иван восторженно говорил:
– Вот что значит сила слова образованного человека! Никакая ругань на этого негодяя не подействовала бы, а ты сказал ему жестко, решительно! И, конечно, твой характер – твердый и благородный…
«Да, – думал Смирнов, идя рядом и поддерживая возбужденного товарища под руку, – очень сильно на этого валета подействовало имя Хлыста». И усмехнулся про себя, вспомнив, как тихо выговорил в перекошенную злостью физиономию Чура: «Ты, шелупонь, хочешь, чтоб на воле лично Хлыст объяснил тебе, кто я? Сам он до тебя не снизойдет, поручит Коту и Крысаку поставить тебя в стойло. Представляешь?» Судя по тому, как Чур отшатнулся и сник, он хорошо представил двух личных палачей главаря самой суровой в городе шайки…
Позже, когда Смирнов пришел в изолятор перед сном, присел, по обыкновению, на кровать, Иван рассказал ему, что Чур пытался отобрать крест еще раньше, в камере.
– Я вижу, – сказал Смирнов, – вещь ценная. Из вашей семейной коллекции?
Иван покачал головой:
– Нет, не оттуда.
И вдруг, схватив Смирнова за руку, быстро зашептал:
– Я, Степан, спрятал нашу коллекцию! Не всю, картины остались. А иконы спрятал. Они – самые ценные! Не только по стоимости своей, это, конечно, тоже, что и говорить. Но ведь какие есть прекрасные и древние работы, каких мастеров! Андрей Рублев – ты ведь слышал о нем? И даже одна икона самого Алипия, одного из первых иконописцев, монаха Киево-Печерского монастыря! Это одиннадцатый век. А какие работы Гурия Никитина, семнадцатого века, а старообрядческие иконы-миниатюры, а работы Кирилла Уланова! Есть не только письмо на досках, нагрудные иконы-панагии, даже работа Амвросия пятнадцатого века! Серебряные и золотые, литые и чеканные, с эмалью, сканью, драгоценными камнями. Красоты великой, а в руки возьмешь – такое благоговение охватывает… Батюшка мой десятилетия собирал. Видишь, и ты слышал, что музей древнерусского искусства он создавал. Для всех, для сохранения памяти…
Иван обессиленно откинулся на подушку. Отдышался, продолжил уже спокойно:
– Когда я понял, что в Настасьевку войдут эти революционные роты, успел спрятать. Теперь не разграбят, не сожгут, не испоганят.
Смирнов сделал удивленную гримасу:
– Как же ты умудрился вывезти все? Не попал под проверку, обыск?
– Так я там же, в Настасьевке, и спрятал. – Иван радостно заулыбался. – Вместе с моим другом Васей Шарошевым перенесли в тайник, только-только успели и сразу к баррикадам, отстреливаться.
– Рисковый ты парень, – покачал головой Смирнов. – Там ведь сейчас столько народу, солдаты, как ты говоришь, «революционные». Они, полные энтузиазма, обшаривают небось Настасьевку, миллионы ваши ищут. Если наткнутся?
– Нет, – ответил Иван уверенно. – Наткнуться на этот схорон невозможно, уж очень хороший специалист-архитектор его задумал и сделал. Можно только знать. А знают о нем лишь члены моей семьи… которых почти и не осталось…
– А твой друг, Василий? – осторожно спросил Смирнов. – Ему ты доверяешь?
Иван глубоко вздохнул, слезы набежали на глаза:
– Вася погиб там, когда мы пытались отбиваться. А меня вот взяли.
Он замолчал. Нельзя было спрашивать напрямую, как-то в обход… И Смирнов сказал, как бы тревожась:
– А если власти спросят тебя: где коллекция икон? Наверняка о ней знают.
– Скажу, что матушка увезла их за границу. Не проверят теперь.
Иван прикрыл веки, выдохнул еле слышно:
– Устал…
Смирнов понял, что сейчас Христоненко больше ничего не скажет. Ладно, подумал, скажет после, придумаю что-нибудь, чтоб сказал… Он оставил больного, уже засыпающего. И пока помогал другим больным арестантам, пока мыл на кухне посуду и подметал коридоры, все время думал. О том, что время сейчас такое, в котором выживет лишь умеющий приспосабливаться. Кто сможет вцепиться в глотку другому, более слабому, и отхватить себе кусок пожирнее. Люди, которые, упорствуя в наивной глупости, продолжают жить по старым принципам – по чести, совести, сочувствию, – пропадут, сгинут. Он сам отбросил эти сентиментальные пережитки… Ну, если и не отбросил совсем, то уж загнал подальше, в самый дальний уголок души. Те события, которые поначалу показались страшными, разрушительными, ломающими привычную жизнь, теперь виделись ему по-другому. Именно сейчас, в неразберихе, растерянности, суматохе, можно очень быстро разбогатеть умному и предприимчивому человеку. В банде Хлыста он быстро сумел стать правой рукой главаря, и то, что был схвачен и оказался в тюрьме, считал неудачей. И лишь теперь понял – это судьба! Ведь как все сошлось: сын миллионера Христоненко, профессор Шатилов, больница, признание Ивана. Там, в Настасьевке, настоящее богатство, с которым можно уйти за границу и самому стать миллионером. А уж он сумеет распорядиться капиталами, удвоить и утроить их… Нельзя затягивать, нужно сделать так, чтоб этот чахоточный дурачок доверился ему до конца. Найти повод…
Но искать ничего не пришлось. Закончив все дела, Смирнов зашел в изолятор – Иван спал, но стонал во сне, метался. Поднялась температура, понял Смирнов. Ясное дело – пережил сильное волнение, страх, боль. Надо разбудить, дать порошок и теплое питье. Он подошел к постели, тронул было за плечо, но вдруг Иван, не просыпаясь, разборчиво произнес:
– Быстро, Вася, неси в алтарь! Осторожно, не урони, это же Андрей Рублев! – Засмеялся: – В Спасо-Преображенском храме будет спрятан рублевский Спас! Это ведь хорошо, да? Сюда, дальше, в апсиду. Видишь, здесь просто голые стены, никто даже не подумает… А вот на орнаменте все листики дубовые, только один кленовый. Правда, незаметно? Только если знать! Это ключ, сейчас я открою… Вот, как в коде Сэмюэля Морзе – буква Н…
Смирнов быстро оглянулся, хотя и знал – вряд ли в изолятор кто-то войдет в такое время. Сюда и днем почти не заглядывал фельдшер, переложив попечение о чахоточном больном на заключенного, специально приставленного, как было сказано начальством, к Христоненко. Иван замолчал, но за закрытыми веками вращались зрачки, губы шевелились: он продолжал видеть прошлое. И хотя Смирнов уже почти все понял и даже был уверен, что сможет найти тайник, все-таки решился. Взял больного за руку, сказал тихо, мгновенно вспомнив, как называл своего погибшего друга Иван:
– Ваня, это я, Шарошев Вася. Мы все спрятали, все здесь, в тайнике?
И тот ответил, не просыпаясь:
– Да, все, что я хотел, уже здесь. Заходи, дверь сама закроется. Нет, мы здесь не выйдем, это только вход. Выход вон там, видишь?
Он видел в своем горячечном сне-бреду то, о чем говорил. А Смирнов встревожился: как это «только вход»? А вдруг он не найдет выхода или не сумеет открыть? Останется замурованным в тайнике, с драгоценными иконами! Кто знает, вдруг там все прочно и надежно…
– Я не вижу, Ваня? Где выход?
Но больной ответил невпопад, бредя:
– Помолись, Вася, на крест, он наш путь… Руки возложи…Сильнее, вперед!..
Замолчал. Смирнов вновь попытался спросить, наклоняясь почти к лицу Ивана:
– Как же мы выйдем, скажи!
Но тот застонал громко, заворочался. «Сейчас проснется, а если будет помнить, о чем болтал? Нет, это нехорошо». Смирнов отступил к двери, готовый быстро выйти. Прошла минута, другая… Христоненко спал, теперь уже почти спокойно, и Смирнов вновь тихо приблизился, сел на табурет рядом.
«Ну вот, – думал, глядя на лицо спящего, – я и богат. Этот шанс не упущу, дураком не буду. Помешать может только он, Иван. Вот если бы он сейчас умер… А то ведь Шатилов небось хлопочет о его освобождении, вместе с Петрусенко…»
Смирнов знал следователя Петрусенко вовсе не потому, что был из криминальной среды, – нет, в нее он попал совсем недавно. У него со знаменитым сыщиком и недавним начальником полиции имелись общие знакомые. Знал, конечно, и о том, что Петрусенко недавно посетил тюрьму и лично приказал перевести Христоненко в больницу. А следом и профессор сюда явился. Причинно-следственная связь прослеживалась четко – у него был аналитический ум. Так что чахоточный сын миллионера долго в застенке не задержится. А насколько он сам тут застрянет? В этом случае Иван может его опередить, найдет помощников, увезет свое богатство…
Иван уже дышал ровно, спал крепко. Голова его лежала просто на матрасе, и Смирнов взял в руки подушку. Если сейчас он прижмет ее к лицу Христоненко, подержит немного, все будет кончено. Отмучается Иван. И только он, Степан Смирнов, будет знать о тайнике. А смерть тяжелого больного никому не покажется странной: удушье во время приступа сильного кашля – это при чахотке бывает. Да и кто станет в тюрьме расследовать, докапываться? Быстро похоронят, и все…
Рука напряглась, крепко сжала подушку. Но поднять ее он не смог: глаза не могли оторваться от лица спящего. Впавшие щеки, прозрачная кожа, высокий лоб в обрамлении светлых отросших волос, нежные, почти мальчишеские черты… Господи, таким же был его младший брат – юным, трогательно-наивным романтиком! Добровольцем пошел на фронт, надо же! Эх, Алешка… И этот тоже – с кучкой друзей против революционного полка!
Смирнов осторожно, чтоб не разбудить, приподнял голову Ивана, подложил подушку. Спи, дурачок, живи сколько Бог тебе отпустит. Вот только теперь нужно что-то придумать – что-то такое, чтобы поскорее оказаться на воле…
5
В тот день, в конце августа, Петрусенко просматривал все дела, которые касались банды Хлыста. Он сидел в одной из комнат здания, которое теперь занимала народная милиция. С ним были два молодых парня: он уже месяц с ними работал. Оба они – Андрей и Алексей – прошли фронт, были из крестьян, но грамоту знали. Поначалу они все рвались воевать «за свободу и революцию», а «заниматься полицейским делом» считали зазорным. Но после того, как вместе со следователем они раскрыли одно убийство и два грабежа, а на третьем, хорошо постреляв, одного бандита арестовали, стали настоящими энтузиастами сыскного дела. К тому же «господин-товарищ» Петрусенко их восхищал и острым умом, и веселым нравом. Теперь Викентий Павлович считал, что у него есть группа: Дмитрий Кандауров и эти два бойца.
Загадку задал следователю бандит, которого он знал давно. И уже это было странно: примитивный, жестокий и жадный Хлыст был хорошо предсказуем. Он дважды арестовывался, отбывал заключение. Первый раз – за одиночное преступление, второй – в составе шайки. Но тогда он был рядовым бандитом. А в начале этого года, вновь появившись в городе, сам сколотил банду. Подгадал хорошо: за всеми бурными событиями последнего времени даже полиции было не до бандитов. Ясное дело, если даже начальника полиции арестовывали, а рядовых сотрудников просто разогнали. Грабили бандиты нагло, но потом, весной, банда словно исчезла. Налеты, кражи, ограбления продолжались, но это были другие люди. Хлыст и его команда словно растворились. Можно было подумать – отбыли на гастроли. Но чтоб всей бандой?.. Такого не бывало. Да и зачем: Харьков всегда оставался очень привлекательным городом для криминала. Но вот, однако, три месяца ничего не было слышно о Хлысте. А летом словно их всех вместе из заключения выпустили: один налет за другим, с перестрелками, убийством. И именно банда Хлыста! Где были, откуда явились? Петрусенко, вернувшись к привычной службе, пусть только консультантом, не мог не думать об этом. А тут вдруг еще один поворот…
Началось все с появления в милиции владельца известного магазина в Шубном ряду на Сергиевской площади «Шкуряк и сыновья. Меха» – самого господина Шкуряка. Товарища Кина в тот день не было, а его секретарь оказался человеком с юмором. Когда посетитель заявил, что он – к господину начальнику полиции, секретарь с улыбочкой сказал: «Ах, к начальнику полиции? Прямо по коридору, в седьмую комнату». Вот Шкуряк и явился прямо к Викентию Павловичу, которого узнал и не удивился.
– Господин полицмейстер, – начал прямо с порога недовольным голосом, – как же так! Ведь была твердо обещана защита от бандитов! Ну да, я поначалу высказал недовольство, но зачем же меня за это наказывать? Я просто не понял, а потом ведь отдал все, что приказали. А теперь вот пришли и начисто все выгребли!
– Так уж и начисто, господин Шкуряк? – вежливо поинтересовался Викентий Павлович, делая знак ребятам помолчать. Он и сам не понимал, о чем идет речь, но тон Шкуряка утверждал обратное – должен понимать. Вот Петрусенко и не торопился выдавать свою растерянность. Успеется, а может, и не понадобится.
– Все, все забрали: шубы, манто, накидки, шапки, с витрины, из шкафов!
Слишком быстро перечислял владелец магазина свои потери, чтоб не понять – есть еще кое-что в закромах. Впрочем, дело было не в этом. Викентий Павлович уже понял: произошло не просто ограбление, а каким-то образом связанное с милицией. Он усадил расстроенного посетителя к столу, сел рядом… Через десять минут картина прояснилась.
В марте, когда основные меховые изделия уже были распроданы, но спрос на них еще держался, однажды в магазин вошли пятеро человек. В первые минуты продавцы и несколько покупателей испугались, приняли их за налетчиков. Но те вежливо поинтересовались, как пройти в контору к владельцу, причем, есть ли тот на месте, не спросили, видимо, знали. Ему, «господину Шкуряку», представились сотрудниками новой полиции, которая называется «народной милицией», показали бумагу-мандат. Молодой человек очень понятно пояснил, что теперь они станут обеспечивать спокойную торговлю магазину: никаких ограблений, налетов, никакого беспокойства. Но за это нужно платить. Молодой человек назвал сумму.
– Я, конечно, поначалу отказываться стал, много все-таки, да и каждые две недели платить. Но…
– Молодой человек вас убедил? – подсказал Петрусенко. – Что он сказал?
А сказал тот вежливый и явно хорошо образованный «милиционер» так: «Ну что ж… Когда вас навестят бандиты – а это может и завтра случиться, очень даже возможно, – вы прибежите к нам, а мы только руками разведем. За все надо платить».
И Шкуряк платил – пять раз к нему приходили за «охранным откупом». А потом вот явились бандиты, вычистили не только кассу, но и прилавки, шкафы, витрины!..
Викентий Павлович послал Дмитрия, который как раз подоспел к концу разговора, пойти с владельцем магазина, посмотреть на месте. Митя вернулся и с энтузиазмом описал настоящий разгром: поваленные стеллажи, битое стекло, пробитые стены кладовок.
– Похоже, тайники искали, – сказал он и добавил весело: – Ну просто с цепи сорвались!
Викентий Павлович внимательно прищурился:
– Тебе так показалось? А почему?
– Так не просто грабили, а… как бы это сказать? Неистовствовали! Трем манекенам головы поразбивали, руки отбили. Два приказчика со страху на пол повалились, под прилавок. А парнишка посыльный за штору оконную спрятался, но любопытно было, выглядывал. Он как раз и видел: один бандит вырвал фикус из кадки и стал им манекены крушить, к нему подскочил второй с ломиком, стал помогать и приговаривать что-то вроде: «Давай, давай, хватит цацкаться…»
– Значит, раньше «цацкались»? – Петрусенко приподнял бровь удивленно. – Этот любопытный, не очень пугливый парень что-то еще заметил?
– Бандита-крушителя манекенов описал. Здоровый, лохматый, на руке двух пальцев нет.
– Даже это заметил?
– Кадка с фикусом у шторы стояла, когда тот цветок с корнями выдирал, парень руку и разглядел. Правую.
– «Клешня», – кивнул Петрусенко. – Хлыстовский налетчик. Похоже, эти бандиты и правда как с цепи сорвались… Что же это за цепь была?
Риторические вопросы, которые задавал Петрусенко сам себе, обычно скоро получали вполне конкретные ответы. Ограбление ювелира Браверманна произошло через два дня. Петр Кин сам зашел в комнату к Петрусенко, рассказал:
– Мои люди были на квартире ювелира, там, конечно, бандиты полютовали. Но есть странности…
Кин не скрывал, что ждет подсказки или совета. Стали вместе уточнять подробности. Почему громили не магазин, при котором и мастерская, а квартиру? Почему, по показаниям прислуги Браверманна, он легко открыл двери бандитам? Самого ювелира сильно ударили по голове, он в больнице, но уже пришел в себя. Надо было поскорее опросить его и домочадцев.
В разгромленной квартире Петрусенко и Алексея, которого он взял с собой, встретила пожилая женщина, прислуга ювелира. Сам он давно овдовел, жил здесь один, но в этом же доме, этажом выше, большие апартаменты занимала семья его замужней дочери. Аграфена Петровна рассказала, что в вечер ограбления дочь с мужем были в театре – уезжая, они заглянули к отцу пожелать спокойной ночи, поскольку вернуться должны были поздно.
– Евочка всегда так внимательна к папаше, – похвалила женщина. – Да только не получилось спокойной ночи…
Часов в семь вечера в дверь позвонили. Времена нынче тревожные, двери в квартире крепкие, с несколькими замками. И, конечно, она не стала открывать, спросила, кто это там пожаловал. Мужской голос спросил Моисея Карловича.
– Ну, имя хозяина узнать было нетрудно, – бросил Алексей.
– Это да, – согласилась женщина. – Да только когда сам Моисей Карлыч подошел к двери и немного поговорил, отворил, как будто знал посетителей. А потом ужас какой начался!
Она закрыла лицо руками и больше ничего внятного рассказать не смогла. Ее толкнули в угол, она упала, да так и просидела все время, сжавшись в комок и почти не открывая глаз. Слышала, как кричал хозяин, но только когда бандиты ушли, смогла позвонить и вызвать карету «Скорой помощи»…
Раненого банкира увезли в первую городскую больницу. Помимо него, в палате находилось еще пятеро пациентов – больница была переполнена. Викентий Павлович с философской грустью подумал о том, что в смутные времена на людей обрушиваются и болезни, и несчастья, доводящие до сердечных приступов, психических расстройств, попыток самоубийства. И, конечно, самые разные травмы, в том числе и по его части – ножевые и огнестрельные ранения, дробящие кости удары. Такие, как у этого старика – ювелира Моисея Браверманна.
Своего молодого подопечного Петрусенко оставил в коридоре, сам же присел на табурет у кровати Браверманна. Представился. Забинтованная голова приподнялась с подушки. Голос был слабым, но удивленным:
– Господин полицмейстер, это вы личной персоной? Я очень рад. А что, вы снова на службе?
– Что-то в этом роде, – ответил Викентий Павлович. – Вы лежите, не напрягайтесь. Поговорим немного, но, если вам станет трудно отвечать, дайте знать. Итак, почему вы сами открыли двери бандитам?
– Да разве ж я знал, что бандиты! Приходили, я впускал, все было спокойно, как и обещали.
Голос больного дрогнул в конце, словно он хотел еще что-то сказать, да замялся. Петрусенко уловил это в тот самый момент, когда осмысливал сказанное. И эта недоговоренность наложилась на уже мелькнувшую догадку.
– Так… – протянул он. – Значит, платили дань сотрудникам милиции? За спокойную жизнь, без налетов?
– А что? – Браверманн опять приподнялся. – Разве не так договаривались? Я был не против, даже рад. Когда столько разбоя вокруг, надо иметь защиту. Я понимаю это, и я платил.
Да, предположение Петрусенко подтвердилось: в то же время те же люди во главе с «очень приятным и культурным молодым человеком» навестили ювелира и потом дважды в месяц приходили за своей платой. Приходили именно на квартиру, так было условлено.
– Значит, – спросил Викентий Павлович, – вы и на этот раз решили, что это «милиция»?
– Да как же не решить? – даже удивился Браверманн. – Мне же так и сказали! «Моисей Карлович, милиция вас беспокоит, по известному делу». Всегда так говорили. И когда я открыл, лицо знакомое увидел, один из тех, кто был первый раз. А потом меня оттолкнули, ворвались! Я стал взывать к совести, но меня ударили…
– Так-так…
Петрусенко на минуту задумался. То, что под видом сотрудников милиции действовала группа сообразительных грабителей нового толка, он понял еще при разговоре со Шкуряком. Но почему они вдруг отказались от безопасно-интеллигентного выворачивания кошельков? Ломанули к ювелиру, как настоящая банда? Мало показалось, жадность взяла верх? Да нет…
– А что, Моисей Карлович, многих ювелиров в городе обложили эти «милиционеры» данью?
Браверманн вздохнул, поерзал головой по подушке. Но Петрусенко ждал, и он ответил:
– Я знаю двоих… Щемко Петро Семенович, мы с ним давно дружим, обсуждали этот момент. Розенфельд… я с ним в ресторане как-то встретился, он стал расспрашивать намеками, я понял.
– Ясно. Думаю, не они одни.
Но Браверманн уже забыл о других, сокрушался о своих потерях. Вцепившись в руку Петрусенко, говорил, задыхаясь:
– За что же так? Я ведь соглашался, сколько говорили, столько и отдавал. Даже когда Евочкин браслет забрали, ах, какая красивая вещь! Миша, муж ее, заказал к годовщине их свадьбы, я самолично сделал! Ящерка среди цветов извивается, глаза-изумруды, а цветы в бриллиантиках, все из золота. Она, бедная, даже еще не видела, сюрприз хотели сделать. Я тогда попросил оставить, это для дочери, сказал. Но молодой человек, который главный был, засмеялся: «Вы еще сделаете, а мне эта штучка очень понравилась».
– Вы поправляйтесь, Моисей Карлович, – как мог, успокоил больного Петрусенко. – Я пришлю к вам своего сотрудника, когда домой вернетесь. Дмитрия Кандаурова. Вы ему подробно опишите все украденные украшения – и в этот раз, и раньше.
Но пока, не откладывая, Петрусенко отправил Дмитрия Кандаурова к Розенфельду, а сам навестил Щемко. У этого ювелира был дом в районе, который назывался Дачей Рашке, – довольно скромный двухэтажный особняк. «Не любит Петр Семенович афишировать свое состояние, – усмехнулся, подходя к дому, Петрусенко. – А оно у него ой какое! Небось сообразил, перебросил основной капитал из отечественных в зарубежные банки…» Он давно знал этого оборотистого и хваткого дельца. Впрочем, с виду Петро Щемко казался простоватым запорожцем-задунайцем.
Щемко уже знал о происшествии с Браверманном, бросился навстречу Петрусенко, не скрывая озабоченности:
– Господин полицмейстер, вы пришли… Значит, думаете, ко мне бандиты пожалуют?
– Думаю. И хочу устроить у вас в доме засаду. Или это надо сделать в мастерской, в ваших магазинах?
– Нет-нет, – замахал руками Щемко. – Они явятся сюда, домой. Знают, аспиды, что мы, ювелиры, основные драгоценности и наличные деньги в доме храним.
«Да и дом ваш им знаком», – подумал Викентий Павлович, но не стал рассказывать о своей догадке: бандиты-милиционеры и налетчики Хлыста могут оказаться одними и теми же людьми. А пока он обсудил с хозяином, где разместит своих людей, и наказал ждать – завтра с утра прибудут.
В городе о налетах говорили повсюду: во дворах домов, в скверах на лавочках, в очередях. Викентий Павлович сам, проходя через Университетский сад, присоединился к группе таких завсегдатаев-болтунов. Они были не одиноки – дальше по аллее виднелось еще две компании по десять-пятнадцать человек, громко говорящих, размахивающих руками. Традиция эта сложилась давно: собираться здесь, в самом центре города, обсуждать и местные события, и большую политику, и театральные новинки… Даже бунты и перевороты последних лет не разогнали любителей диспутов. Там, куда неприметно затесался Петрусенко, говорили и по-русски, и по-украински, с харьковским, конечно, диалектом, мужчины в основном были одеты в сюртуки, но и вышиванки тоже мелькали. Присутствовали и две дамы, причем говорили горячее всех. Одна как раз и провозглашала убежденно:
– Это все штучки наших революционеров! Уже, казалось, и так могут отбирать, по собственным законам. Так нет – им экспроприацию подавай, чтоб пострелять, бомбы побросать! В своем репертуаре.
– Вы, Вера Петровна, тоже в своем репертуаре, – осадил ее мужчина, тоже явный завсегдатай. – Все вам происки новых властей мерещатся. А бандитов что, уже и нет?
– Одно время взялись за них, вроде поспокойнее стало, – поддержал его старичок. – А теперь снова на улицу вечером не выйдешь. Слышали, из тюрьмы целая банда сбежала! Вот они и грабят.
– Погромы идуть! – категорично заявил еще один собеседник, пожилой усатый мужчина в рубашке с вышитым украинским орнаментом. – Самых жидив курочать, хиба не чули?
– Да уж конечно, господин Шкуряк, меховщик, чистокровный хохол!
– Мы украинци, – сердито поправил его усатый.
– Так вы тоже говорите «евреи»!
– Та нехай явреи, все одно – погромы идуть…
Викентий Павлович незаметно вышел из толпы, направился в управу, так он мысленно, по привычке, называл место, где теперь работал. Шел и думал: «Утро, а они уже собрались, обсуждают… Столько дел кругом… И о побеге из тюрьмы всем уже известно…» В самом начале августа из тюрьмы был совершен массовый побег – сразу 18 человек, причем семеро – особо опасные, сидевшие за разбой и убийства. Что ж, известие это не слишком удивило Петрусенко. Хотя после его личного визита в тюрьму и доклада Кину там попытались как-то положение исправить, но… Впрочем, если в стране беспорядок и двоевластие, то и в городе то же самое. А криминалу в такой мутной воде вольготно. Все связано…
Слухи о бандитских набегах множились и становились все страшнее. Наверное, потому председатель милицейской комиссии Кин сразу согласился с планом Петрусенко, выделил сотрудников для засад – их запланировали в четырех местах, у тех ювелиров, которые признались в выплате дани «милиции».
– Вы слышали, как это называют? Уже не «налет» или «бандитское нападение», а «погромы», – сказал Кин Викентию Павловичу. – И отовсюду только и слышно: «При прежнем полицмейстере такого не допускали».
Викентий Павлович усмехнулся, пожимая плечами:
– Знаете ли, в те времена меня тоже не раз упрекали. Но, как известно, multum sibi adicit virtus lacessita. – И, не надеясь на то, что Кин понял, да и не желая ставить того в неловкое положение, сразу перевел: – Добродетель возрастает, если ее подвергают испытаниям… Это не только о личных, но и профессиональных доблестях.
Своих ребят, Дмитрия, Андрея и Алексея, Петрусенко отправил в разные группы. Проинструктировал:
– Придут днем, это уже понятно. Может быть, и не сегодня, и не завтра – придется потерпеть, вечером засаду будем снимать. Но ждать недолго, уверен. Приходят по три-четыре человека, а в самой банде, по моим сведениям, где-то около десяти. Было больше, но мы последнее время хорошо постарались… В общем, стрелять, конечно, будут. И вы стреляйте, не подставляйтесь. Но все же надо взять и живых бандитов. У меня к ним имеются интересные вопросы.
Не подвела интуиция Викентия Павловича, недаром он лично навестил именно Щемко. Сам оценил обстановку, именно сюда направил племянника Дмитрия. На следующий же день явились и бандиты – не стали долго тянуть, вошли, видно, в азарт. Перестрелка, конечно, произошла, но застигнутые врасплох налетчики палили как попало. Никто из своих не был даже задет пулей, а вот одного бандита подстрелили насмерть. Еще одному, раненному в ногу, уйти, как двум его подельщикам, не удалось. Вот его-то буквально через час допрашивал Петрусенко.
Худой, верткий, с бегающими глазками и оскалом загнанной крысы, он поначалу показался совсем парнишкой. Но нет, было этому налетчику уже за тридцать, не меньше. Викентий Павлович сразу подумал, что эта мелкая сошка может многого не знать. Но что-то все-таки расскажет, обязательно. О главном. Он и начал сразу с главного:
– Что же это Хлыст отказался от такого спокойного и прибыльного дела? Сами ведь клиенты деньги отдавали. А вы опять под пули?
– Я про то ниче не знаю, – огрызнулся арестованный.
– А имя свое знаешь? Вижу, сидел ведь, так что не тяни, называйся.
– Куркин, Семен, – буркнул налетчик.
– Верю. Верю и в то, что известно тебе мало. Вот эту малость и расскажешь… Почему возобновились налеты? Что изменилось?
– Так Хлыст сам сказал: «Все, хорош в дурку играть. Берем все сразу. Тем более они нас не боятся еще». Клиенты то есть…
– Значит, что-то таки изменилось?
– Советчик его сгинул, – хмыкнул Куркин.
– Ага… – Петрусенко пристально посмотрел на арестованного, усмехнулся. – Значит, о советчике ты знаешь?
Он и сам предполагал, что с некоторых пор рядом с главарем банды появился неглупый человек, разработавший новую комбинацию ограбления – стабильную и, до поры до времени, безопасную. Тот самый – «культурный молодой человек». Потому и спросил:
– Ну, и каков же он из себя? Молодой, интеллигентный?
Но арестованный Куркин помотал головой:
– Я его ни разу не видел. Слышал, называли его Скула.
– Скула? Ну-ну… Что еще?
– Клешня говорил, что он Хлыста как приворожил. Вроде сейчас время новое и все по-новому надо делать. Тот его слушал. А потом этот Скула куда-то исчез, сгинул.
– Куда?
– Никто не знает. Вот Хлыст без него словно очухался…
– Так…
Викентий Павлович задумался. Арестованный поглядывал на него исподлобья, словно прикидывал: угодил ли своими ответами? Кое-что прояснилось, но так, смутно. Кто же все-таки знал этого «советчика» в лицо? На этот вопрос Куркин ответил сразу:
– Кроме Хлыста, его видели Кот, Крысак и Клешня. Они с ним и ходили по ювелирам да другим всяким. Нам он не показывался.
Увы, Клешня был среди налетчиков, попавших в засаду, да только он сумел уйти. Не повезло…
Викентий Павлович рассказал все Кину, резюмировал:
– С наглыми налетами Хлыст пока погодит, побоится засад. Да и потери в людях банду ослабили. Очень меня интересует этот таинственный Скула… Но подхода пока к нему нет. Ничего, подождем, может, проявится где-нибудь.
Со своими ребятами неизвестного бандитского советчика Петрусенко обсуждал более подробно. Дмитрий, например, предположил, что у того может быть физический дефект лица.
– Шрам или вмятина на щеке… А, может, сильно выдающийся вперед подбородок.
– А, может, лютого нрава и, чуть что, бьет всегда в челюсть. То есть в скулу?
Андрей даже приложил кулак к своей щеке, демонстрируя. Все посмеялись, потом стали еще высказывать догадки: от фамилии, от слова «скулить»… Однако больше всего и Петрусенко, и его ребят занимало, куда и почему исчез «советник».
– Может быть все, что угодно, – сказал Митя, – нашел более прибыльное дело. Он, похоже, большой умник. Смотрите, ведь никто, кроме главаря и его приближенных, даже в лицо Скулу не видал!
– Почуял, что не сегодня завтра банду загребем, вот вовремя и удрал, – подхватил Алексей.
– А, может, в какой перестрелке его убили?
– Вот и я думаю, – покачал головой Викентий Павлович, – что могли убить. Только не в перестрелке… Как арестованный сказал? «Приворожил Хлыста»… Всем ли это понравилось? Они на то и бандиты, что привыкли нахрапом и сразу много брать. А тут какая-то непонятная для них тактика, как бы это сказать… «дойная корова» вроде.
– Здорово! – воскликнул Митя, и вслед за ним засмеялись все. – И правда, доили наших богатеев аккуратно, чтоб не разорить, чтоб надолго хватило.
– Вот-вот. Это новая, умная придумка. Незаурядный молодой человек был.
– Значит, дядя, думаешь, сами бандиты с ним и покончили?
Дмитрий не стеснялся называть Викентия Павловича «дядей» при других сотрудниках – они оба не делали секрета из своего родства.
– Не исключаю и такого варианта. Но мог и сам почуять опасность вовремя. Или найти кое-что поприбыльней… Во всяком случае, хотелось бы знать, кто это. Что ж, возможно, случай как-нибудь и представится.
Петрусенко знал: криминальный мир не хранит долго своих тайн.
Не давали покоя Викентию Павловичу и мысли о судьбе Ивана Христоненко – ну никак не получалось пока вызволить из тюрьмы молодого человека. Впрочем, он с самого начала понимал, как это будет непросто. Кин сразу ему сказал:
– Это настоящий бунт против законной власти, сознательный, вооруженный. Самое тяжкое преступление! Благодарите за то, что этот враг не был расстрелян на месте, по военным законам. Нет, я на его освобождение не соглашусь.
– Давно ли эта власть стала законной? – с горечью спросил Петрусенко. – Парнишка – а Христоненко ведь очень молод – еще этого просто не понял, ведь последнее десятилетие сплошные бунты… И даже не свое добро он защищал, а то, что уже стало достоянием государства. Власти ведь конфисковали коллекцию картин знаменитых художников?
Но председатель милицейской комиссии категорически отказывался идти навстречу. Впрочем, капля точит камень. Викентий Павлович подробно и красочно описал все благотворительные деяния двух поколений семьи Христоненко и сам поразился – настолько они были весомы. Особенное ударение сделал на то, что основатель династии, Иван Григорьевич, происходил из крепостных крестьян. Убеждал, что молодой Иван Христоненко, думая, что солдаты идут грабить Настасьевку, пытался сохранить ценнейшую коллекцию живописи, которую его отец завещал государству. То есть спасал государственное достояние. К этому докладу была приложена подробная справка профессора Шатилова: заключенный Иван Христоненко тяжело болен – наследственная болезнь легких, которая рано свела в могилу его отца и от которой умирает молодой человек… Все это Петрусенко передал недавно назначенному губернскому комиссару Добросельцеву. В этом ходатайстве его поддержал и последний харьковский губернатор Аркадий Игнатьевич Куликовский. Он, смещенный со своей должности революционными событиями, тем не менее пользовался уважением у новых властей города. Губернский комиссар, разбираясь в тонкостях доставшегося ему огромного хозяйства, не стеснялся обращаться за помощью и советом к Куликовскому.
Через два дня после массового побега из тюрьмы Викентий Павлович вновь побывал там, на Холодной горе. Он представлял, как все произошло, и оказался во многом прав. Добавились некоторые детали: со сбежавшими заключенными ушли и трое солдат службы охраны – из новичков, конечно. Толком о том, кто они и что собой представляют, никто не знал. Прибыли с новым пополнением, один побывал на фронте, двое недавно мобилизованы из ближних уездных городов… Могли сами быть из уголовников или купиться на посулы. Теперь уж наверняка пополнили ряды бандитов, да еще с оружием.
Конечно, не преминул Петрусенко заглянуть в лазарет. Молодой Христоненко обрадовался ему как родному, а Викентий Павлович с удовольствием отметил, что выглядит Иван значительно лучше. Вместе они даже вышли во двор.
– Думаю, Иван Павлович, скоро вы покинете эти стены. Очень надеюсь, друзья вашей семьи прилагают к этому усилия.
– Господи, Викентий Павлович, я так вам благодарен, вы не представляете! И профессору Шатилову, и всем-всем… Даже здесь, в тюрьме, вы так облегчили мою участь!
– Вижу, вы окрепли.
– У меня был хороший помощник, можно даже сказать, друг. – Иван улыбался, глаза его блестели. – Из заключенных, конечно, но образованный, в медицине разбирался.
– Почему был? А сейчас где?
– Так бежал на днях, с другими. Я не осуждаю его. Сначала обиделся даже, почему меня не взял, а потом понял – я был бы для них обузой.
– Эх, Иван, что ж жизнь тебя не учит! – Викентий Павлович с досадой пристукнул кулаком о колено. – Ну бежал бы, где прятался б? На какой-нибудь бандитской схованке? Да там или они сами б тебя прикончили, или выдали, или болезнь добила бы. Может, твой приятель и был приличным человеком, да только таких в этой среде единицы, исключения… Кстати, как его зовут?
– Степан Смирнов.
– Ну, это явно не настоящее имя, – усмехнулся Петрусенко. – Да ладно. – Приобнял молодого человека за плечи, возвращаясь к прежнему обращению. – Главное вы, Иван Павлович, лучше выглядите и лучше чувствуете себя. Ожидайте спокойно.
При встрече с Кином сказал жестко:
– Мы здесь бандитов ловим, в тюрьму сажаем, а они там отдохнут слегка и вновь на волю, когда сами захотят. Это называется власть? Кто уважать ее будет? Прежде вся тюремная охрана – надзиратели, стража – была не только вышколена и обучена, но и трижды перепроверена. А сейчас кто в охране? Такие же уголовники?
– Что вы себе позволяете!
Кин вскочил, побледнев, пробежался по кабинету, но на этом гнев его иссяк.
– Что же делать, товарищ Петрусенко? – спросил он.
Викентий Павлович пожал плечами:
– Я напишу подробную докладную записку со своими предложениями. Сумеете их принять и выполнить – поправим дело. Но учтите, нужно будет вернуть хотя бы часть прежних надзирателей – офицеров и стражников, тех, кого сможем найти… И прошу, Петр Григорьевич, вернуться к вопросу о Христоненко. Смешно, право: матерые бандиты уходят из тюрьмы когда хотят, а больной, умирающий молодой человек сидит…
Выходя из кабинета, Викентий Павлович улыбался саркастически и чуть удивленно: «Надо же – «товарищ»…Слово, конечно, привычное: товарищ министра, товарищ прокурора. А теперь, значит, мы все товарищи. Как во Французскую революцию все стали «ситуаен» – граждане».
В середине сентября наконец губернский комиссар, согласовав это с председателем губернской милиции, подписал разрешение освободить Ивана Христоненко. Викентий Павлович с женой и сыном Сашей подъехали в назначенное время к тюремным воротам. Здесь уже стояла коляска Куликовского – Аркадий Игнатьевич тоже захотел встретить молодого Христоненко. Когда Иван показался в воротах, Людмила Илларионовна первая подошла и порывисто обняла его.
– Ванечка, мальчик мой! – прикоснулась губами к его щеке. – Теперь все будет хорошо!
Мужчины тоже обняли его, Саша пожал руку, спросил:
– Помните меня?
– Помню, хотя вы были тогда совсем мальчиком. Приезжали к нам с родителями…
Иван счастливо улыбался, воскликнул:
– Какой прекрасный день!
Да, день был еще совершенно по-летнему теплый, солнечный, но наполненный уже тем особым золотистым светом – предвестником близкой «золотой» осени. Глубоко дыша, глядя на лица встречающих, молодой человек не мог сдержать радостных слез:
– Как я благодарен вам всем, слов нет!..
– И не надо! – Куликовский подхватил Ивана под руку, подтолкнул к своей коляске. – Поехали, поживете у меня. Я ведь тоже оформляю документы, уезжаю за границу. Вот и поедем вместе.
– Да, Иван Павлович, – кивнул Петрусенко, – уезжайте. Где ваша матушка сейчас? В Швейцарии? Вот к ней и езжайте, а там – на какой-нибудь хороший климатический курорт. И поскорее. Здесь у нас, поверьте мне, скоро грядут тяжелые времена, не для вашего здоровья.
– Я навещу вас, – сказал Саша, когда Иван уже садился в коляску. – Можно?
– Буду очень рад. Жду.
Коляска Викентия Павловича какое-то время ехала следом за экипажем Куликовского, потом, с Екатеринославской улицы, они повернули в разные стороны.
– Аркадий Игнатьевич живет все еще у себя, на Губернаторской? – спросила Людмила Илларионовна.
Вот уже лет десять, как для харьковских губернаторов был построен специальный дворец в центре города на улице, которая и была переименована в Губернаторскую. Куликовский, хотя губернатором уже не был, продолжал жить там. Потому Викентий Павлович кивнул, отвечая жене, а потом добавил:
– Но, думаю, недолго… И не только потому, что уезжает. Скоро все очень переменится, родные мои. Надо быть готовым ко всему…
6
Бабье лето припало на конец октября, потому этот вечер был такой славный. Влажный теплый ветерок ласкал лицо, приятно трепал непокрытые волосы, дышалось легко. И все-таки Митя зябко передергивал плечами, словно ощущал уже пробивающееся сквозь последнее тепло дуновение холодов. Да и настроение тоже, надо сказать, было «зябкое».
Заканчивался октябрь восемнадцатого года… Какой все-таки стремительный калейдоскоп событий промелькнул с того летнего дня, когда он получил диплом юриста и пошел работать с дядей в новую «народную милицию». А ведь и полутора лет не прошло. Сначала Временное правительство сменили большевики, «народную милицию» распустили. Но уже через месяц новый комендант Харькова распорядился создать рабоче-крестьянскую милицию. И попросил совета у Викентия Павловича Петрусенко. Набирали молодых людей, но не моложе двадцати одного года и обязательно грамотных. Петрусенко остался при новой власти в том же качестве – советником по криминальной ситуации в городе. Оставил за собой свою команду, уже хорошо сработавшуюся, – Дмитрия, Андрея, Алексея. Эти Советы рабочих и солдатских депутатов, надо сказать, крепко взялись наводить порядок, даже Викентий Павлович как-то сказал одобрительно:
– Нет, это не временщики…
Потом вдруг образовалась Донецко-Криворожская республика, а Харьков объявили ее столицей. Однако это были все те же большевики, власть и милиция оставались такими же, Викентий Павлович и Дмитрий продолжали заниматься своим делом.
Но в марте бои шли уже совсем близко, а в апреле большевики, а с ними и милиция оставили город. Андрей и Алексей ушли бойцами-красноармейцами, Петрусенко и Дмитрий остались, иначе и быть не могло. А в Харьков вошли австро-германские войска. Дальше все быстрее колесо событий. Немцы распускают Центральную раду… Правда, для Харькова она и властью-то не была… Принимают в Киеве какие-то универсалы, законы, спорят, ругаются, крадут зачем-то банкира… Вместо Грушевского гетманом Украины оккупационные власти назначают Скоропадского, а что меняется? Вот-вот произойдет новая смена власти…
Немецкие правители города к бывшему полицмейстеру не обратились, они сами наводили свой порядок. Викентий Павлович был этому рад. А Дмитрий устроился работать в одну из адвокатских контор, и, как ни странно, дел ему хватало. Этим вечером он как раз возвращался со службы, шел Пушкинской улицей. Она была многолюдна, даже более чем днем. Проносились экипажи, работали кафетерии и рестораны, прогуливались хорошо одетые господа, было много офицеров – аксельбанты и эполеты так и мелькали в толпе. Не так давно к Петрусенко завернул его давний приятель, приехавший из Москвы, восхищался: «У вас тут жизнь бурлит! А там сплошная серость и уныние. И сколько здесь военных, офицеров, просто глаз радуется…» Митя тогда сдержался, а когда гость ушел, сказал с горечью:
– Да уж, офицеры наши только и могут формой щеголять, здесь ведь не фронт. И немец нам нынче лучший друг. Нет, не друг – господин! Дядя, до чего дошло: сам видел, как в ресторане русские офицеры – пьяные, конечно! – развлекают немецких лейтенантов! Поют перед ними и подают вино. Позор!
… Мимо прогромыхал трамвай: вот уже восьмой год здесь ходят трамваи, все привыкли. Впереди послышались громкие голоса, смех, музыка – кто-то играл на рояле. А, ну конечно: вон светятся окна первых двух этажей красивого особняка. Это был один из самых заметных домов на Пушкинской, четырехэтажный, окна-люкарны на мансарде обвиты лепным орнаментом с чудесными женскими головками. Двери на высокое крыльцо-веранду распахнуты, группа молодых людей, все весело разговаривают. Дмитрий почти прошел мимо по противоположной стороне, как вдруг его окликнули:
– Митя, Митенька!
От крыльца через дорогу к нему бежал брат Саша. Схватил за руку:
– Вот удача, что я тебя увидел! Пошли к нам, Таня Ресслер вечеринку устроила для друзей, ты ведь тоже ее знаешь!
Ах да, Митя вспомнил: это дом семьи Ресслер. Таня – внучка знаменитого харьковского купца Юма, много сделавшего для города. Это он построил этот дом на Немецкой улице, так с самого начала называлась Пушкинская. Еще в самом начале минувшего, девятнадцатого века городская дума пригласила лучших иностранных мастеров разных профессий и выделила им эту улицу для застройки. Приезжали иностранцы семьями, большинство были как раз немцами, вот улица и получила свое название. И только недавно, к столетию со дня рождения любимого всеми поэта, уже красиво застроенная, она переименовалась в Пушкинскую… Отец Тани тоже был известный специалист, ведущий инженер паровозостроительного завода.
– Пойдем, Митя, – не отставал Саша, – там весело! И Катя тоже с нами!
Отказать Саше совершенно невозможно, так он радуется встрече, смотрит на старшего брата с обожанием. По-настоящему он кузен, но Дмитрий об этом и не вспоминает. Когда он стал жить в доме дяди как сын, Саше и двух лет не было, росли вместе, братишка всегда стремился быть рядом, все повторял за ним, подражал…
Саша первый взбежал на крыльцо с радостным восклицанием:
– Друзья, кто еще не знает, знакомьтесь, мой старший брат Дмитрий Кандауров!
Но многих Митя знал, знали и его.
– Нам как раз недоставало третьего кавалера! – воскликнула полненькая черноглазая барышня, курившая длинную папироску.
И в самом деле: на веранде стояли три девушки и двое парней. Таня Ресслер в наброшенной на плече шали протянула Дмитрию ладошку, подхватила:
– Да, пожалуйста, развлеките Ларису, ей так скучно, что она вот-вот уведет моего кавалера.
Она демонстративно положила руку на локоть Саши, который он, надо сказать, ловко и с радостью подставил ей. Все засмеялись, а Таня и Саша обменялись взглядами, которые Митя сразу же расшифровал и, немного удивляясь, воскликнул мысленно: «Ого, а братишка-то вырос уже. И правда кавалер…»
– Я открою вам секрет. – Таня сделала паузу, оглядывая компанию, но вдруг, сбивая таинственность, махнула рукой. – Хотя уже завтра или послезавтра это секретом не будет. Сегодня днем мой папа был в штабе военного коменданта полковника Шаповалова. Там говорят, что в Германии вот-вот начнется настоящая революция!
– Это не секрет, – развел руками еще один парень из компании. – Там давно уже бунтуют, как у нас год назад.
– Тем не менее немецкие войска собираются уходить, оставляют Харьков!
– Правда? И на кого же? – спросил Саша.
– На Запорожский корпус Болбочана, – ответил ему Дмитрий.
– Значит, нас будут охранять казаки, – протянула Лариса, выпуская меланхолично струйку дыма.
– Недолго, – Митя пожал плечами. – Думаю, скоро им на смену придут другие «защитники»… Петлюра уже под Киевом, сюда тоже пожалует.
– Все-то вы знаете, господин Кандауров! Конечно, ведь вы с отцом Александра вместе работали, даже несколько таинственных преступлений раскрыли… У вас наследственный дар!
Таня лукаво глянула на Сашу, а тот, нимало не смущаясь, улыбнулся ей и кивнул брату: да, я рассказал. Митя пожал плечами:
– Что ж, надо кому-то в семье и наследственным даром обладать, и наследственное дело продолжить. Александр ведь у нас будущий механик или химик…
Саша и вправду стал студентом Технологического института императора Александра III. И если первый курс он окончил, то занятия на втором почти и не начинались – городу было не до того.
– А ваша семья, Таня, не собирается уходить с немецкими войсками на историческую родину? – спросил Дмитрий девушку.
– Вовсе нет, – тряхнула она завитыми локонами. – Мы ведь давно уже русские немцы. Все, пойдемте в комнаты, здесь становится прохладно. Танцевать, танцевать!..
«Русские немцы, – покидая следом веранду, тихо покачал головой Митя. – А придут оголтелые украинские державники…»
Он вдруг вспомнил – даже не заметил, как машинально приложил руку к сердцу, сильно забившемуся, – другую девушку, тоже немку, Женни Штоль. Она не захотела стать предательницей, предпочла смерть… Да, два года назад… И ее брат, совсем юноша, очень больной, как он тогда сказал? «Легко вам, русскому, живущему в России, быть русским патриотом». То есть им, не русским, этот выбор давался трудно. Но ведь теперь и они, русские, не в России оказались. Не в Российской империи…
В большой, ярко освещенной комнате играли вальс, несколько пар танцевали. К Дмитрию тут же подбежала Катя.
– Митенька, и ты здесь!
Вообще-то по возрасту Кате рановато бывать на таких вечеринках, но это был дом ее лучшей подружки Эмилии Ресслер: девочки учились в одном классе в Мариинке. Сама Эммочка, такая же, как и Катюша, веселая двенадцатилетняя девочка, уже крутилась рядом, и как только заиграла музыка, игриво присела в книксене перед Митей:
– Давайте потанцуем! Пока Таня с одним твоим братом танцует, я – с другим.
Митя с удовольствием покрутил юную барышню в вальсе, потом присоединился к молодежной компании, собравшейся вокруг Саши и Тани. У младшего брата было много друзей, приятелей, и хотя сам Саша никогда не стремился в лидеры, всегда оказывался центром и душой компаний. Сейчас тоже он что-то живо обсуждал с ребятами. Дмитрий подошел и понял, что разговор идет о государе и царской семье.
– Они все живы, – горячо говорила Таня, оглядывая всех блестящими от возбуждения глазами. – Их тайно переправили в Германию, в замок Фридберг! Это ведь родовой замок императрицы.
– Это просто слухи, – возразил ей, нахмурив брови, молодой человек, которого Дмитрий не знал. – Как это было возможно?
– Господин лейтенант! – Таня повернулась к одному из офицеров. – Ну вы-то слыхали? Об этом говорил капитан Винклер из штаба!
– Слышал, – кивнул лейтенант. – Как будто бы Вильгельм сговорился с большевиками. Вроде это было тайным условием Брестского мира.
– Ой, как было бы славно! – захлопала в ладоши Лариса. – Я верю, верю! Немцы и большевики, они ведь заодно.
– А чтобы солдаты и рабочие не бунтовали, всем объявили о расстреле, – теперь уже совершенно уверенно разъяснила Таня.
– И чтобы вывести из игры нас, офицеров, – подхватил лейтенант. – Нет царя, не за кого, значит, и воевать…
Саша быстро глянул на Митю, чуть пожал плечами, как будто хотел сказать: «Хотелось бы верить, но…»
Что ж, в их семье был человек, кто информацию умел отделять от слухов и анализировать ее. Викентий Павлович Петрусенко еще летом сказал:
– Я так надеялся, что этого не произойдет. Увы…
И пошел в воскресный июльский день на панихиду, которую служил по убиенному царю Николаю Второму харьковский митрополит Антоний Храповицкий. Они были там, на переполненной скорбящим народом Соборной площади, всей семьей. Викентий Павлович стоял рядом со своим давним другом, графом Федором Артуровичем Келлером. Митя немного сердился на дядю: ну что стоило тому взять его с собой, представить графу. Ведь знал прекрасно, что племянник просто влюблен в этого человека, которого называли «первой шашкой России». Сколько знаменитых побед одержал он со своими кавалеристами на фронте! А когда после отречения царя ему пришел текст новой присяги, Келлер заявил, что не станет приводить к ней свои войска, так как не знает такой власти – Временного правительства. Он был готов со своими драгунами, казаками и гусарами идти на помощь царю, ждал от него распоряжения. Не дождался, был вынужден сдать корпус, остался жить в Харькове. После ноябрьского переворота, когда власть в городе стала совсем большевистской, Келлера попытались арестовать. Это были не слухи: Викентий Павлович и Дмитрий, работавшие тогда, хоть и неофициально, в милиции, слышали эту историю сначала от своего милицейского начальства, а потом Петрусенко лично рассказал и Федор Артурович. Как зашел во двор его дома отряд солдат, как граф надел свой любимый чекмень Оренбургского казачьего войска и волчью папаху, вышел на крыльцо. А командир отряда, как потом выяснилось, бывший вахмистр, увидел своего корпусного командира, скомандовал «смирно» и воскликнул: «Ваше сиятельство, разрешите поздравить с праздником, со светлой Пасхой!» Но том «арест» и окончился.
На панихиде граф Келлер стоял в этой же форме, Митя издали смотрел на высокую стройную его фигуру, на благородное лицо с высоким лбом, выразительными глазами…
Хотелось и Мите поверить в легенду о спасении государя. Но, как сказал Викентий Павлович, увы…
Дмитрий потихоньку направился к выходу, ища глазами младшую сестру. Катюша поймала его взгляд, подбежала.
– Ты уже уходишь? Ну и я с тобой.
– А Саша? – спросил он.
– Нет, он не пойдет.
Она помахала брату рукой, он ответил тоже жестом: мол, идите, я еще побуду.
Они жили на Епархиальной, в особняке, купленном семьей лет пятнадцать назад. Это было почти рядом – на параллельной улице. Вскоре Митя с Катей свернули на улицу Бассейную, которая соединяла несколько параллельных улиц центра города.
– А знаешь ли ты, что эту улицу проложил и даже застроил дедушка Тани и Эммы? – спросил Дмитрий.
– Знаю, знаю! И Бассейную, и другую, которая так и называется его именем – Юмовская. Да ты уже меня не раз спрашивал, Митя… Что ты такой рассеянный сегодня? Невеселый?
Сестренка смотрела на него проницательным взглядом, сочувственно склонив головку. Митя улыбнулся, погладив ее ладошку:
– Да, верно, расстроили воспоминания… Я сегодня встретил Виктора, старшего брата Алеши Уржумова. Помнишь Алешу?
– Ой, помню! Это твой друг, погиб на фронте. Он к нам часто приходил…
Да, Алеша и Митя учились вместе на юридическом, дружили. С самого начала войны, с четырнадцатого года, Алексей рвался на фронт. Митя и сам был патриотом, но Алешу эти чувства просто переполняли. Но тогда они еще были первокурсниками, мать и старший брат удержали его. Но когда зимой в начале пятнадцатого года шли тяжелые бои в Карпатах, Алексея удержать уже не могли. Как раз формировалась армия генерала Лечицкого, он записался в нее добровольцем. Весной писал восторженные письма и домой, и Мите из освобожденного Перемышля. А летом немецкие войска вновь взяли и Перемышль, и Львов, русская армия отступала с тяжелыми боями. В августе в боях за Брест-Литовск Алеша Уржумов был убит…
Митя не очень хорошо знал старшего брата Алеши, просто видел несколько раз. Он сам бы прошел мимо, но Виктор окликнул его, остановил. Они поговорили немного. Митя поинтересовался здоровьем Натальи Захаровны: она, мама Алеши, так тяжело перенесла потерю сына. Оставшись рано вдовой, сама воспитывала сыновей… Виктор скупо ответил, что мать здорова, сам поинтересовался:
– А что твой родственник, господин Петрусенко? Расследует какие-нибудь страшные и увлекательные преступления?
Спрашивал вроде бы с иронией, но Митя почувствовал настоящую заинтересованность. Пожал плечами:
– Викентий Павлович не сотрудничает с нынешними властями.
– А в приватном порядке? Неужели никто не обращается за помощью к знаменитому сыщику?
– Наверное, людям не до того. Да и есть ли сейчас интересные, запутанные дела? Кражи, разбои… Нет, дядя нынче простой обыватель.
Мелькнула было мысль об Иване Христоненко, но, во-первых, там все было совершенно неясно, во-вторых, Иван давно в Германии. Викентий Павлович тогда даже не начинал это расследование – ограбление тайника в Настасьевке. А сейчас вряд ли и вспоминает. Хотя кто знает. Обычно Петрусенко ничего не забывает… Но в любом случае Дмитрий и не собирался об этом говорить Виктору. Зачем? Того это совершенно не касается. Они заговорили о другом. Виктор сказал, что подумывает уехать в Добровольческую армию Деникина, которая сейчас на Кубани. Митя признался, что подобные мысли и ему в голову приходили. Но тут Виктор быстро попрощался и ушел. Наверно, воспоминания о брате опечалили и его. А, может, пожалел о своих откровениях?
– Вот и я, Катенька, вспомнил Алешку, грустно стало… Ладно, нагнал на тебя тоску, а ведь как ты веселилась!
– Да, там и правда весело, и ребята такие хорошие.
– И девушки… А что, наш Саша в Таню Ресслер влюблен?
Катя засмеялась:
– Что? Саша? Нет, это Таня от него без ума! Мне Эммочка сама рассказывала, да и я не без глаз.
– Да? – Митю развеселило и то, что он услышал, и то, как малышка по-взрослому о таких вещах рассуждает. – Но разве Таня ему не нравится? Такая милая девушка…
– Нравится, конечно, – тут же глубокомысленно протянула Катя. – Нашему Саше все девушки нравятся. А по-настоящему – никто. А вот он – очень даже многим.
Теперь уже Митя откровенно засмеялся. И согласился с сестрой:
– Это точно, Саша у нас славный парень.
– Он просто душка!
– Это значит, ты хочешь сказать, что твой старший брат обаятельный молодой человек, веселый, остроумный, доброжелательный, интересный собеседник…
– Ну я же и говорю – душка! – Катя захлопала в ладоши, забежала вперед, заглядывая Мите в лицо. – Это ведь одно и то же!
Они, смеясь, уже свернули на свою улицу, впереди светились окна родного дома.
– А еще, – добавила Катя, – он у нас очень смелый! Не побоялся с Ваней Христоненко пробраться в Настасьевку! Жалко, что там ничего уже не было!
«Это точно, – подумал Дмитрий. – Отчаянный мальчишка. Искатель приключений».
Сегодня он уже второй раз вспомнил историю с Иваном Христоненко, в которой и братишка его поучаствовал.
7
Год назад, даже чуть больше, приключилась эта история. В сентябре, через три дня после того, как Иван Христоненко был выпущен из тюрьмы, Саша Петрусенко навестил его. Он ведь обещал, вот и не стал откладывать надолго. И не удивился тому, как откровенно обрадовался ему Иван. Саша понимал, как тот одинок и угнетен. Словно торопясь это подтвердить, Иван сам сказал ему:
– Еще недавно столько друзей вокруг было, родственников! И война уже шла, и отца в живых не было, но мы все равно жили широко… Не потому, что богато, а просто никогда не оставались одни – ни в Харькове, ни в Москве, ни в Настасьевке. А потом эти последние полгода… Даже не верится, что такой короткий отрезок времени! Мне кажется, я постарел на десять лет. Да, и рядом никого… Нет, нет, Александр, вы не подумайте, что я неблагодарный человек, Боже упаси! Сколько для меня сделал и ваш отец, и господин Шатилов, я никогда не забуду!
– Но мы ведь давние друзья вашей семьи, как же иначе.
Саша мягко улыбнулся.
– Сейчас время такое, что, бывает, и старые друзья отворачиваются от тех, кого постигло несчастье! Да, да… Но я не осуждаю, просто отвечаю вам. И потому особенно ценю участие. Вот и Аркадий Игнатьевич с Варварой Евгеньевной – они меня как родного опекают. Документы оформляют на выезд за границу.
Куликовский с женой сидели с ними в гостиной за обеденным столом.
– Много проволочек, – покачал головой бывший губернатор. – Хорошо, если через месяц разрешат выехать. Бюрократия никакой властью неистребима, даже революционной.
После чая Куликовские оставили молодых людей одних. И сразу же Иван сказал, понизив голос:
– Саша, я ждал тебя… У меня и правда нет сейчас друзей, которым я мог бы доверить одно дело… Опасное, сразу скажу. И одному мне не справиться. Очень надеюсь, что ты согласишься помочь!
– Помогу, не сомневайся!
– Ты же еще не знаешь…
– Ну, ты расскажешь. Да только я заранее согласен, потому что вижу – тебе очень нужно.
Они даже не заметили, что перешли на «ты». Саша с увлечением слушал рассказ Христоненко. А Иван говорил и словно все переживал заново… Когда отрекся государь, когда произошла смена власти в империи, мать Ивана была за границей, в Лозанне, Иван же из Москвы вернулся в родные места, которые всегда любил, в свою Настасьевку. С одной стороны, ему казалось, что здесь будет спокойно. Но с другой… тревожило сердце оставленное без хозяина имение. Он решил быть там. А потом…
Иван пристально посмотрел Саше в глаза:
– Ты знаешь, за что я попал в заключение?
– Да, отец рассказывал. Ты оказал вооруженное сопротивление отряду… как это нынче говорится?.. революционных бойцов, которых направили квартировать в Настасьевку. Попросту говоря, устроил на подступах баррикаду, стал стрелять.
– Тогда об этом не стану говорить. О другом… А ты знаешь, что сейчас с нашей коллекцией картин?
Саша вновь кивнул:
– С ней все в порядке. Очень может быть, что твое отчаянное сопротивление заставило кого-то из власти обратить на нее внимание. Во всяком случае, разграбить и попортить не дали, вывезли сюда, в город. Все картины сейчас в художественном музее, в Новосергиевском. Знаешь, где это?
Иван, конечно, знал красивое здание с башенкой в Новосергиевском ряду, рядом с часовней Святого Александра Невского: там располагался городской художественно-промышленный музей – гордость Харькова, поскольку он был вторым в Российской империи провинциальным музеем. Были в нем и полотна знаменитых художников, переданные отцом Ивана… Что ж, теперь все картины из собрания Павла Ивановича Христоненко перейдут музею. В конце концов, он сам об этом думал. Да и коллекцию старинных русских икон также собирался пожертвовать государству. Вот только не этому – этому, похоже, иконы не нужны, как не нужен и сам Бог. Иван не сомневался, что сделал верно, спрятав иконы. Только нужно довести дело до конца…
– Иконы, которые отец собирал много лет, он тоже хотел сделать общим достоянием. А какие это иконы! Есть там пятнадцатого-шестнадцатого веков, новгородского письма – большая редкость! Они выставлялись в Москве, на трехсотлетие Дома Романовых… Музеем для них отец видел наш Спасо-Преображенский храм. А повернулось все вот как… И тогда я подумал: иконы ведь и сжечь могут. Успел их спрятать чуть ли не в самую последнюю минуту…
Саша слушал с блестящими от возбуждения глазами. Иван Христоненко сейчас был для него настоящим героем. Но когда тот сказал: «Мы с тобой проберемся и вынесем их…» – положил ладонь на плечо товарищу, сказал спокойно и рассудительно:
– Не горячись, все надо хорошо продумать. А то ведь загубим такое дело! Да и себя тоже. Начнем вот с чего… Подумай, есть ли в самом имении или поблизости люди, на помощь которых можно рассчитывать?
Они так увлеклись своим планом, что не заметили, как стемнело. Но зато когда Варвара Евгеньевна заглянула в комнату и позвала их ужинать, все было продумано и решено.
В суздальских рядах Саша отыскал пару лавочек, где купил кое-что из поношенной одежды. Косоворотки имелись у Ивана в гардеробе, одна как раз хорошо подошла Саше.
– Мне всегда нравились эти простые рубашки, – говорил, застегивая пуговичку у круглого ворота, Иван. – Специально ведь придумано, чтоб при работе крестик не вываливался. О, да ты просто настоящий сельский парубок!
На вид сукно казалось серым и грубоватым, но было легким и приятным телу. По вороту и косой планке шла широкая красная тесьма, такая же, но у́же, по нижнему краю и рукавам. Саша посмотрел в зеркало – и в самом деле парнишка из деревни. Еще бы косу в руки – и в поле. Правда, сенокос уже давно закончился…
Ребята примеряли одежду. Саша заправил брюки в сапоги, подпоясал кушаком серый зипун.
– Я, значит, деревенский парень. А ты, Иван, что-то вроде мастерового из города.
Высокий худой Христоненко стоял перед ним, одетый в пиджак, длинное черное пальто, фуражку с потертым лаковым козырьком.
– Тебя не узнать, – сказал он Саше.
– Тебя и подавно, – ответил тот. – Это очень хорошо, ведь мы отправляемся в твои родные места.
– В Настасьевке сейчас некому меня узнавать, – Иван вздохнул. – Но мало ли кого встретим… Вот я, видишь, бороду оставил. В тюрьме отросла, так в первый день я хотел сбрить, но вовремя хватился. Пригодится.
Мягкая светлая бородка и усы шли Ивану. Ну и, конечно, меняли его облик, а простая одежда довершала маскировку. Саша остался доволен.
– Ну, теперь все дело за тем, как твой Петр Савельевич нас примет, согласится ли помочь?
– Не сомневайся, согласится, – уверил Иван. – Главное, чтоб он был в Рябиновом, чтоб все у него оставалось по-прежнему.
И дед, и отец Петра Савельевича работали при господской кухне, ведь их деревня – Рябиновое – располагалась совсем рядом с имением Христоненко. Фамилия у них была очень подходящая – Кухарь, а славились они как отменные кондитеры. Лет двадцать назад отец Ивана, Павел Иванович, помог Савелию обзавестись собственной хлебопекарней. С тех пор хлеб, булки, кренделя, пирожные, торты в Настасьевку поставлял только он. Мужик оказался оборотистый, со временем приобрел мельницу, плату за обмолоченное зерно брал мукой, завел хлебную лавку в городе и в деревне. Окрестные помещики, которые раз попробовали выпечку Кухаря в Настасьевке, тоже стали давать ему заказы. Через годы отца сменил сын Петр – крестник Павла Ивановича Христоненко. Он почитал хозяина Настасьевки и за благодетеля, и за отца. На похоронах Павла Ивановича стоял вместе с членами семьи, не скрывал слез…
Дом Кухаря не показался Саше богатым. Добротным, да, но довольно обычным. Правда, двор был обширным, со множеством хозяйственных построек: амбаром, клетью, хлевом, какими-то сараями. И крепким кирпичным строением с широкой трубой, из которой валил дым.
– Это как раз пекарня, – пояснил Иван. – Работает, это хорошо.
Петр Савельевич отворил им калитку сам, спросил, не узнавая:
– Вам чего, хлопцы?
Иван смотрел на него, молча улыбаясь, и тут Петр Савельевич всплеснул руками:
– Иван Павлович, господи мой боже! Та заходите же скорее!
И, проводя гостей через двор к крыльцу, повторял радостно:
– Чего тут только не гуторили: и что расстреляли вас, и что в тюрьме сидите… господи мой боже!
– В тюрьме был… Петр Савельевич, как там у нас, в Настасьевке?
– Так что ж, – протянул хозяин, – солдаты там постоем. В господском доме первый этаж, почитай, весь в казарму превратили. Кони в конюшнях, кухня в правой пристройке…
– А церковь, с церковью что?
Взгляд у Ивана был такой, словно он ожидал самого худшего. Петр Савельевич понял, поторопился успокоить.
– Храм целехонький, ничего там не разместили, не порушили.
– Да? – Иван перевел дыхание, потом спросил все же с сомнением: – Но ведь эти революционеры, они же безбожники?..
– Да говорят, – протянул хозяин, снимая с молодых людей верхнюю одежду, усаживая их на красивые стулья с высокими спинками. – Только все они, ребята те, крещеные православные. А многие и крестики под гимнастерками носят, сам видел – и когда моются на дворе, и переодеваются.
– Так вы там бываете? – быстро спросил Саша.
– А кто ж им хлеб поставляет? Почитай, через день вожу туда на подводе свежую выпечку.
– Ой, как хорошо, как кстати! – Иван порывисто обнял Кухаря. – Помогите нам! Нам с другом нужно попасть в имение… – Он слегка запнулся, но тут же продолжил с полным доверием: – Я спрятал там наши иконы старинные. Вы знаете – отцовскую коллекцию…
– Господи спаси! – Кухарь радостно перекрестился. – А я все гадал, куда ж они подевались? Картины вывозили, это я видел, а вот иконы – нет… Значит, спрятали, Иван Павлович?
– Успел. Теперь хочу вывезти их. Тайно. Поможете?
– Как не помочь! И дело святое, и вы мне родные…
– Сможем мы с вами поехать в имение? – Саша пристально посмотрел хозяину в глаза. – Как ваши помощники? Не будет это подозрительным?
– Поедем, – кивнул Петр Савельевич. – Я там был вчера, сегодня готовится новая партия буханок, а завтра и повезем их. Со мной разика два ездил сын Шурка…
– Так я тоже Шурка! – весело подхватил Саша.
Петр Савельевич оглядел его, посмотрел в улыбчивое, простодушное лицо, кивнул:
– Сойдешь. Кто там его особенно разглядывал… А по росту и масти похож, да я тебе еще его одежку дам. Ну а вы, Иван Павлович, станете навроде моим племянником из города. Буду звать вас Ванькой, не обессудьте…
Они какое-то время еще обсуждали свои будущие действия, потом пришла хозяйка Фекла Егоровна, принесла из пекарни свежую выпечку. Ласково обняла Ивана, поклонилась Саше и позвала всех к столу…
Утром гости поднялись рано, пошли с хозяином к пекарне. Там уже двое рабочих загружали телегу. Буханки хлеба и калачи укладывали в деревянные ящики. Указывая на них, Иван сказал:
– Они ведь будут пустые на обратном пути? Мы в них можем иконы положить.
– Верно, – согласился хозяин. – Я и сам так прикинул. Накроем мешками, набросаем сверху валежника.
– Никогда не видел, как хлеб пекут, – сказал Саша.
– Так поди посмотри, пока мы тут управимся. – Петр Савельевич махнул рукой своему шестнадцатилетнему сыну. – Шурка, покажи.
В большой, очень теплой комнате стояло две печи.
– Конвейерные, – пояснил парнишка. – Вон там рабочие на тестоделителе заготовки рубят, сюда в загрузочное отверстие кладут, а из выгрузочного уже хлеб принимают. Видите?
У печей, за столами и у полок, куда складывали готовые хлеба, работало не меньше десяти человек в передниках и нарукавниках, поворачивались быстро, слаженно.
– Серьезное производство, – похвалил Саша.
– Да сейчас-то простую выпечку делаем. Все больше ситный, редко когда крупчатый, трудно с хорошей мукой. А прежде так часто под заказ пекли ржаной «Боярский» – для господина Христоненко Павла Ивановича да других помещиков. Эх, какой был хлеб! Мы, может, и не «Государев хлебный дворец», но такие караваи, ковриги и «Боярские» выпекали, что все дивились.
Сын хозяина оказался настоящим знатоком, Саша готов был и дальше его слушать. Но со двора заглянул Иван, позвал: пора ехать. Саша взял у своего тезки Шурки только шарф и поярковую шапку. Шарф был заметный, вязанный из бордовых и черных ниток, и шапка бордовая. В них парнишка был, когда ездил в имение с отцом, вот и решили, что если кто и запомнил его, то именно по этой одежде.
Саша примостился среди ящиков, Иван сел рядом с Петром Савельевичем. Он сильно волновался, это было заметно. Но все же недалеко от последнего поворота к имению попросил придержать коней. Кивнул на просеку, уходящую в сосновый бор:
– Когда поедете обратно, свернете сюда. Но сильно далеко не заезжайте, ждите нас. Мы принесем иконы. Раза за три, а может, и за два справимся…
Когда подъехали к арочному своду каменных ворот, Иван соскочил с облучка и пошел рядом. Он смотрел вперед – на дом, на высокую водонапорную башню. Телега свернула на площадку к центральному входу, где солдаты занимались разными делами: пилили дрова, носили воду, сбивали какие-то длинные скамьи…
– Хлеб привезли! Свежий хлеб! – радостно закричали несколько человек.
От группы военных к ним быстро подошел высокий человек в шинели, Саша шепнул Ивану:
– Командир, похоже. Спокойнее, спокойнее…
Командир приветливо кивнул:
– Как всегда вовремя, Петр Савельевич. У вас сегодня помощники?
– Так вот сын опять приехал. А это мой племяш, из города. Интересно им поглядеть, как баре-то жили.
– Пусть поглядят, это полезно, – кивнул командир. – А то ведь некоторые, даже из простых, до сих пор твердят: зачем революцию делали, зачем все рушили!
– А вы чего? – простодушно спросил Саша. – Чего им отвечаете?
– Говорю: вспомните, как сами жили, и сравните… Да, я вот сам из рабочих, на Таганрогском металлургическом еще мальчишкой начал, когда отца там покалечило. Таганрог, если вы слышали, город промышленный, заводов там много, еще и котельный, и кожевенный, и другие. Да все иностранцам принадлежали – бельгийцам, немцам. Они для чиновников да инженеров немного раскошелились, домики приличные построили. А наша рабочая окраина, Касперовка, – сплошные лачуги, бараки, а то и просто землянки! Улицы не мощеные, грязные, не то что водопровода, даже сточных канав нет. Воду, чтоб помыться или постирать, мы привозили в бочках с моря, а чтобы попить, еду приготовить – из пробитых в земле скважин брали. Да только тухлая это вода, застоявшаяся, люди от нее болеют…
Он замолчал, пристально оглядел молодых людей, спросил строго:
– А вы, парни, что не мобилизованы?
– Так сын годками еще не вышел, – поспешил разъяснить Кухарь. – А племянник… – он понизил голос, наклонился к командиру, – больной совсем, чахотка одолела. Приехал ко мне, как раз чтоб подлечиться на деревенском хлебе да природе. Авось полегчает.
Военный глянул на бледное, худое, с запавшими скулами лицо Ивана, вздохнул. Перевел взгляд на Сашу: тот смотрел на него наивными веселыми глазами, на безусом лице ямочки… Подумал: «Да, еще совсем юнец». А юнец улыбнулся ему, сказал с энтузиазмом:
– Я бы к вам в отряд хоть и сейчас пошел бы. Так не берут!
И такое детское разочарование было в его возгласе, что командир засмеялся, похлопал юношу по плечу, сказал:
– Что ж, еще успеешь, впереди боев у нас много… Ладно, ребята, идите посмотрите, что вам интересно. А вам, Петр Савельевич, солдаты помогут разгрузиться. Давайте к столовой.
– Смотрите, да недолго! – строго прикрикнул Кухарь. – Потом в лесочке валежника соберите, нагрузим подводу на обратном пути, чтоб порожняком не гонять.
Иван и Саша пошли вокруг дома.
– Окна не выбиты, – шептал Иван, – барельефы и фризы не отбиты. Слава богу, я так боялся…О, и львы наши целы!
Они шли вокруг водонапорной башни, мимо здания, которое было раньше домом управляющего, где у входа все так же спокойно лежали каменные львы.
– Давно я не был тут у вас, – Саша оглядывался, любуясь стройной, красного кирпича, с резными украшениями и водостоками в виде драконов башней. – Ну просто сказочный терем для принцессы-затворницы. Гляди-ка, в этой стороне народу нет. О, слышишь, трубят сбор? Значит, все идут туда, к дому на площадь. Это для нас хорошо.
Иван быстро спросил Сашу:
– Ты видел, есть тут где-то охрана?
– Похоже, только у одной пристройки к конюшням.
– А, это там, где у нас мастерские работали. Как думаешь, что там у них?
– Наверное, склад оружия. Арсенал, так сказать. Больше ничего здесь не охраняется.
– Тогда сворачиваем в эту аллею… К храму.
Вокруг церкви стояли прекрасные огромные дубы, еще в густой листве, по-осеннему позолоченной. Молодые люди остановились, любуясь широкой маковкой купола, колокольней, фресками на фасаде, медальонами с ликами святых. Одновременно перекрестились, переглянулись и быстро взбежали на высокое крыльцо. Входные двери были прикрыты, но, когда Саша потянул их, оказались не заперты.
– Замок сбит, – прошептал Иван, проскальзывая следом за другом в середину.
Из высоких стрельчатых окон лился яркий свет. Храм казался необычно пустым: не было ни икон, ни утвари. Но удивительные яркие фрески, которыми были расписаны стены и колонны, делали его прекрасным. Саша залюбовался росписью, где традиционные церковные мотивы так органично соединялись с орнаментами из цветов, плодов, листьев, со стремительными силуэтами оленей и птиц…Вздрогнул, очнувшись: Иван тронул его за плечо.
– Пойдем скорее! Не дай бог, кто-то войдет!
Они быстро прошли к стене с портальной аркой. Это был алтарь, он тоже был пуст, все вынесено. Потому маленькая полукруглая апсида просматривалась насквозь.
– Сюда. Смотри, видишь орнамент?
По стене, повторяя ее полукруглый контур, шел резной орнамент: дубовые листья с желудями. Иван обошел мраморный столик – подставку для икон или церковных книг, – сразу за ним положил ладонь на стену, прикрывая часть орнамента.
– Посмотри, Саша, найдешь ли разницу?
Саша внимательно разглядывал место, которого коснулся Иван. Листья, желуди… Нет, ничего необычного… Но ведь Иван сказал, значит, что-то должно быть, какое-то различие… Вот оно!
– Листок не такой! Постой-ка… Кленовый, кажется?
– Согласись, – Иван радостно засмеялся, – совсем незаметно. Если бы ты не искал специально, не заметил бы!
– Да я и так с трудом заметил. Да, искусно спрятано. И как это работает?
– Код Морзе, знаешь, что это такое?
– Слышал, конечно, – ответил Саша. – Между прочим, читал недавно, что теперь это называют «азбукой Морзе». Но как отбивать буквы – не знаю, просто не интересовался.
– Да и не надо знать. Только букву Н. Смотри…
Иван положил пальцы на выпуклый листик, отличающийся от всех других в орнаменте. Резко сделал два коротких нажатия, а после паузы нажал еще один раз. Одновременно тихо проговорил:
– Тире, точка… Буква Н, Настасьевка…
Отступил и, когда часть стены неслышно ушла сначала вглубь, а потом в сторону, вдруг встревоженно спросил:
– Саша, а свечи, свечи ты взял?
– Да, вот они. – Саша из внутреннего кармана зипуна достал связку свечей и коробок спичек. Не удержался, воскликнул: – Здорово! Как в какой-нибудь сказке о пещере Сим-Сим!
Иван оглянулся, поторопил:
– Пойдем скорее! Зажигай свечу, сейчас станет совсем темно.
За открывшимся узким проемом были видны ступеньки, уходившие вниз. Только парни сошли несколько шагов, как отошедшая плита почти бесшумно поползла, уводя с собою свет, и с тихим щелчком стала на место. Но свеча уже горела у Саши в руке, а Иван зажигал вторую.
– У нас здесь под церковью и колокольней есть большой подвал, о нем все знают. Никому в голову не придет, что существует еще один, маленький и потайной.
Они спускались по удобным каменным ступеням и как-то вдруг очутились в небольшой комнате с низким сводом, кирпичными стенами и гладким бетонным полом. Комната была пуста. У Саши мелькнула мысль: «Наверное, есть еще одно помещение, дальше». Он повернулся к Ивану, чтобы спросить… Тот стоял окаменевший, только рука со свечой дрожала, отчего по стенам метались тени. Выдохнул почти шепотом:
– Этого не может быть!
Резко, с ожесточением мотнул головой, крикнул:
– Нет!
И быстро пошел вдоль стен, по периметру подвала, высоко подняв свечу.
Саша понял. Стало тяжело на сердце, больно за обманутого друга. Да, кто-то обманом проник в его тайну, сумел войти сюда, вынести иконы. Древнюю, ценнейшую фамильную коллекцию…
– Ничего… Как это может быть, я не понимаю?
– Поди сюда, Иван, успокойся. Сядем.
Саша размотал обвязанный вокруг пояса холщовый мешок – в нем молодые люди собирались носить иконы. Постелил на широкий каменный карниз у одной из стен, сел сам и посадил Христоненко. Сказал с напором:
– Подумай, Иван. Кто знал об этом схроне?
Конечно, Иван перед поездкой все подробно рассказал ему: о тайнике знали только члены семьи, теперь их осталось двое, причем мать далеко, за границей. Друг, помогавший прятать ценности, погиб… Но все же, все же кто-то побывал здесь! Случайно обнаружил?
– Нет, – ответил на это Иван. – Ты же сам видел: как можно случайно обнаружить ключ, случайно нажать нужную комбинацию? Исключено.
– Значит, знал. Кто?
– Не представляю… Господи, Александр, что же делать? Как узнать? Кто поможет?
– Ну, – пожал плечами Саша, – если кто-то и сможет разгадать сию тайну, то только небезызвестный тебе Викентий Павлович…
– Да! – Иван так резко повернулся к другу, что чуть не сбил свечи, поставленные на пол, у них в ногах. – Конечно же, твой отец! Господин Петрусенко, самый лучший сыщик в Российской империи!
– Это, конечно, преувеличение, – улыбнулся Саша, – но приятное.
Хотел добавить еще о том, что империи уже нет, но промолчал: Ивану и без того горько.
Растерянность и апатия, охватившие Христоненко, уже сменились лихорадочным возбуждением.
– Пойдем скорее, вернемся в город! К Викентию Павловичу!
– Хорошо.
Саша поднял свечу, шагнул в сторону ступенек.
– Нет, – остановил его Иван. – Там мы не выйдем, там только вход, и с этой стороны открыть невозможно. Так специально сделано. Видишь, даже если бы каким-то чудом случайный человек сумел сюда войти, то не вышел бы. Выход тоже скрыт, надо знать.
– Но он все-таки вышел и все вынес, – жестко добавил Саша. – А ты говоришь, никто не знал.
– Наваждение… Наваждение… – прошептал Иван, последний раз высоко поднимая свечу и оглядывая пустую комнату. – Что ж, пойдем, Саша, покажу.
Он подошел к нише в стене. Саша видел ее, когда вместе с Иваном, подняв свечи, обходил комнату в надежде: «а вдруг…» Невысокая – в рост человека, и неглубокая – в один шаг, она служила как бы альковом. Во всяком случае, Саша так сразу подумал, ведь единственное, что в ней было, – это высеченный в овальном медальоне каменный крест. Иван подошел прямо к нише, остановился, трижды перекрестился. Губы его шептали молитву. Потом он сделал шаг внутрь, положил обе руки на выступающий овал и рывком толкнул вперед. Медальон вместе с крестом поддался, словно вошел в стену. И стена, которая казалась каменной и цельной, тоже ушла вглубь. Открылся узкий коридор, насколько длинный, Саша еще не понял – света свечи не хватало.
– Проходи.
Иван посторонился, пропуская товарища, сам же медлил, все смотрел в пустую комнату. Потом, обернувшись, сказал тихо:
– Все, закрываю.
Он толкнул дверь-стену, и она стала на место с таким же тихим щелчком, как и входная. Перед ними была цельная кирпичная стена без единого выступа. Саша понял: с этой стороны ее не открыть, здесь входа нет. «Да, – подумал он, – умно. С одной стороны можно только войти, с другой – только выйти. И все же кто-то эту тайну разгадал… Нет, скорее выведал».
Коридор оказался длинным и вывел их на поросший соснами склон, в том месте, где дубовая роща имения переходила в бор. Телега Кухаря ждала их немного дальше. Увидев ребят с пустыми руками, Петр Савельевич сразу все понял. Усаживая расстроенного Ивана рядом с собой, печально утешил его:
– Что говорить, Иван Павлович, беда… Но беда сейчас кругом. Вот имение у вас забрали, а ведь какими трудами ваших предков оно строилось! Да… Царь-батюшка от престола отрекся, что же это… Державу на клочки растащили. Что ж теперь? А жить-то надо…
Он отвез Ивана и Александра в уездный центр Богодухов, на железнодорожную станцию. Они ехали в Харьков в полупустом вагоне, Саша сидел у окна – он любил смотреть на проплывающие мимо пейзажи – сердцу становилось легко, думалось только о хорошем. Иван лежал напротив, на полке, заложив руки за голову, молчал. Но в какой-то момент вдруг сказал, словно бы споря с кем-то:
– Рабочие наших заводов так не жили! И дед, и отец заботились о них. Обеды в столовых бесплатные, школы для детей бесплатные, подарки к праздникам, гуляния устраивали, цирк нанимали, артистов… Все знали – у Христоненков заводские хорошо живут…
Саша понял: это Иван отвечал тому революционному командиру, из Настасьевки. Задели его жесткие слова. И его тоже они задели. Они, Петрусенко, не были богачами, но жили обеспеченно, не задумываясь о завтрашнем дне. Разве не правы те, кто всю жизнь в трудах и в бедности, – не правы в том, что захотели лучшей, человеческой судьбы? И неужели этого можно достичь только через бунт?
8
– Ох, Катюша, жаль мне моих друзей, которых я пригласил к нам сегодня! Ты же их всех с ума сведешь и заставишь страдать!
Саша смотрел на сестренку с веселым изумлением. Три минуты назад она выбежала из соседней комнаты и покружилась перед ним, одной рукой чуть приподнимая подол платья, вторую грациозно подняв над головой. Присела в реверансе и вопросительно приподняла бровки: мол, ну как? Сегодня, 24 июня, Кате исполнялось тринадцать лет, и она готовилась через полчаса принимать гостей, поздравления, подарки. На ней было платье, сшитое именно к этому торжеству: шифон бирюзового цвета с серебристыми разводами. Верх сделан пелериной, спадающей с плеч до локтей, ниже руки оставались открытыми, широкий пояс перехватывал тонкую девичью талию, из-под него мягкими складками, в два слоя опускалась расклешенная юбка, ножки в лаковых и тоже голубых туфельках на каблучке были открыты повыше лодыжки. У платья был небольшой треугольный вырез, и на шее девочки красовалась бархатка с большим сапфиром в серебряной оправе. Девочки… Нет, подумал Саша, уже все-таки девушки! Особенно с этой прической: пышные волосы у висков подняты красивыми серебряными заколками, ложатся на плечи естественными локонами.
– Как весело, Саша! – У Кати радостно сияли глаза. – Каждый день праздник! Позавчера такой чудный парад на Соборной площади, вчера гулянья на Ивана Купалу с кострами! Сегодня рождество Иоанна Крестителя и мой день рождения!
Утром всей семьей они были на праздничной службе в храме Иоанна Предтечи. Храм стоял совсем недалеко от их особняка, именно сюда ходили они на воскресные службы, встречали Рождество и Пасху… Ну а нынче, в рождество Иоанна Крестителя, сюда съезжались люди со всего города. К тому же праздничную службу вел отец Тимофей – священник, которого любили и которым гордились харьковчане. Этот выдающийся богослов, писатель, историк так много сделал и для города, и для всех православных. Здесь, в храме Иоанна Предтечи, он когда-то служил – всего три года, но эта церковь оставалась для него самой родной. Здесь он крестил Катю: как раз в год ее рождения отец Тимофей Буткевич был избран членом Святейшего Синода, перед отъездом в Санкт-Петербург крестил новорожденную девочку. Он вернулся в родной Харьков недавно, в минувшем году, стал настоятелем Николаевской церкви. Но эту праздничную службу служил сегодня в своем любимом храме. Катя с отцом, матерью и братьями подошла к отцу Тимофею, он узнал их. А когда девочка сказала, что сегодня и ее день рождения, благословил и поцеловал в лоб…
– Как мне повезло в такой великий праздник родиться, правда?
– Да, моя милая сестренка, я тоже очень рад, что ты родилась! Поздравляю тебя с такой взрослой датой – тринадцать лет! И с праздником тоже поздравляю. Вот, прими мой подарок.
И он надел на руку Кати серебряный браслетик с таким же сапфиром, как и на бархатке. Этот красивый комплект с камнями цвета Катюшиных глаз они покупали вместе: отец, мама и он. И разделили. Первой свой подарок преподнесла мама, вторым – брат. А сейчас придет отец, и именинница получит от него диадему – ажурное серебро с россыпью чудесных сапфиров. Катюшин день рождения, и верно, словно продолжение долгого праздника. Вчера, как стало вечереть, Митя, Саша и Катя вместе с большой компанией друзей поехали на Журавлевку, на берег реки Харьков. Там, в большом парке, у частных купален, уже шло большое гулянье молодежи, с музыкой, фейерверками. Мелькали военные мундиры: молодые офицеры дроздовцы-марковцы весело праздновали Купалу вместе со всеми. Готовились кострища, с лотков продавались караваи, пироги, сладости, а еще стояли большие корзины цветов, из которых девушки плели венки. А потом пошли хороводы вокруг соломенного чучела Ярилы, прыжки через костры, опускание венков на воду. Это было особенно красиво, ведь венок укладывали на соломенный плотик, ставили зажженную свечу и пускали плыть. Казалось, вся река светится огоньками, словно звезды отражаются в воде…
Так весело и шумно праздновали, потому что в город, вместе с приходом Добровольческой армии, словно вернулась прежняя привычная жизнь. С этим был связан и парад, о котором вспомнила Катя. В город приехал главнокомандующий, генерал Деникин Антон Иванович, и позавчера в его честь состоялся военный парад. Это был и смотр частей Добровольческой армии, и праздник, устроенный специально для харьковчан. Сам Викентий Павлович был, конечно, на Соборной площади, рядом с генералом Май-Маевским, полковниками Штейфоном и Туркулом, но он позаботился о том, чтоб члены его семьи тоже все смогли как следует разглядеть. Военные оркестры, дроздовцы в красивой черной форме с красными погонами, красно-белыми фуражками белозерцы, напоминающие своими стальными касками римских легионеров, конный строй Кубанской казачьей дивизии, артиллерийские орудия, броневики…
Добровольческая армия взяла город 12 июня 1919 года. Казалось бы, всего восемь месяцев прошло с тех пор, как в ноябре ушли из Харькова германские войска, а какой калейдоскоп событий! Словно время перестало повиноваться законам природы, раскрутило бег не только минут, но и часов до темпа секунд. В стремительности этой не было удали или азарта – только нагнетание тревоги… Викентий Павлович думал об этом, сидя на кушетке у зашторенного окна, с нежностью смотрел на веселящуюся молодежь. Барышни все были в основном подруги и ровесницы Катюши, а ребята – постарше: Сашины друзья или старшие братья девочек. Эта разница в пять-шесть лет никого не смущала. Да, легонько улыбался Петрусенко, девочки в тринадцать почти такие же взрослые, как мальчики в восемнадцать…
Сюда, в большую залу, все перешли из столовой, чтобы разыгрывать маленькие спектакли-шарады. Викентий Павлович сразу догадался, что зашифровали в первой картинке. Саша и его давний, еще с детства, дружок Артемий Зарубин сначала стояли минуту друг против друга, бросая забавно-гневные взгляды, причем Саша держал пистолет – настоящий, отцовский, но не заряженный: полчаса назад Викентий Павлович сам выдал его сыну, разрядив. Саша, грозно хмуря брови, стал целиться, Тема изображал растерянность. Но вот Саша помотал головой, снял фуражку, бросил в нее две свернутые трубочкой бумажки и якобы заставил противника тянуть жребий. Пожал плечами и отдал пистолет «противнику». Тема сделал вид, что стреляет, – кто-то из ребят громко хлопнул в ладоши. Саша оглянулся, ткнул в стену: мол, ты промахнулся, вон куда попал. Снова взял пистолет, стал целиться в Тему, но тут с криком к ним подбежала Эммочка Ресслер, упала на колени, обхватив Сашины ноги. Ребята захлопали: девочка очень натурально изобразила мольбу, страх. Тогда Саша махнул рукой, пошел «на выход», остановился, оглянулся, подняв руку с пистолетом, и «выстрелил», но не в Тему, а в стену. Эммочка вскочила, подбежала к стене, стала пальчиком трогать ее и ахать – все должны были догадаться, что вторая пуля попала туда же, куда и первая…
Катя подбежала к отцу, вскочила коленями на кушетку, обняла его за шею и зашептала взбудораженно:
– Я знаю, знаю! Это же «Выстрел»! Сильвио не стреляет в графа! Ты тоже понял, папочка?
– Ш-ш-ш… – Викентий Павлович приложил палец к ее губам, тоже прошептал: – Конечно. У нас с тобой преимущество перед другими, мы же знаем, как Саша любит повести Белкина, и особенно «Выстрел»… Пусть ребята сами догадаются.
Сын с детства зачитывался прозой Пушкина, любил ее больше, чем стихи. Это, конечно, он выбрал для шарады финальную сцену – окончание дуэли Сильвио и графа. «Легкая задачка», – подумал Викентий Павлович. Однако ребята, к его удивлению, разгадали не сразу, сначала строили разные предположения. Кто-то даже сказал шутя или серьезно:
– Петлюровцы расстреливают комиссаров.
– Или комиссары петлюровцев, – подхватил другой.
Петрусенко невесело усмехнулся: да, в эти месяцы было и то, и другое. В ноябре восемнадцатого Харьков покидали германские войска, оставляя город на милость сечевиков Петлюры. Еще отгружались последние составы на вокзале, а полковник Петр Болбочан, командир Запорожского корпуса, признал власть Директории. Улицы запестрели от самой разнообразной формы – синежупанники, черношлычники, гайдамаки… Первые два-три дня было интересно и даже весело. Катя, увидев шапки со свисающими длинными хвостами-шлыками – красными, черными, синими, – со смехом воскликнула: «Ну совсем как клоуны!» Но еще дня через два она перестала выходить на улицу: отец и мать не выпускали, так же как и Сашу. Тем более что занятий ни в женской гимназии, ни в институте не было. Какие там занятия! В городе грабили магазины, на улице могли избить человека шомполами и даже застрелить просто потому, что не понравился вид, взгляд, ответ. Особенно если отвечали по-русски. Да, в первые же дни появился приказ заменить все русские вывески на украинские. Викентий Павлович сам видел и слышал, как какой-то «пан сотник», стоя на деревянной лестнице и сбивая прикладом вывеску «Свечная лавка», кричал:
– Це нэ Московия, а незалежна Вкраина! Яким, втлумачь господарю, як трэба. «Свичкова крамниця» трэба! Щоб вжэ сегодня выправыв!
Петрусенко не стал смотреть, как дюжий гайдамак в коротком жупане и мохнатой шапке будет «втлумачивать» белому как мел хозяину лавки, ушел…
Всего-то полтора месяца и была в Харькове эта Директория, а сколько бед натворили! Погромы еврейские и русские, грабежи, расправы. А потом на глазах вся их армия начала разваливаться: крестьяне, мастеровые, рабочие, хлынувшие поначалу потоком к Петлюре, стали просто уходить – в деревни, к махновцам, к красным партизанам и в красные отряды, которые уже подступали к городу. Да и что могло удержать их? Идея буржуазной самостийности? Буржуазного единства? Смешно…
Как раз в эти кризисные судорожные дни Директории к Петрусенко пожаловал неожиданный гость, господин Роман Яхновский. Этот человек вообще-то вызывал у него уважение: со студенческих лет он был одержим идеей независимости украинской нации, созданием самостоятельного Украинского государства. Убежденный украинофил, он проповедовал свои идеи на лекциях, собраниях, в печати, устраивал террористические акты, правда, не против людей, а против символов Российской империи. Викентий Павлович хорошо помнил, как в 1904 году в городе взорвали памятник Пушкину. Это был год 250-летия воссоединения Малороссии и Великороссии, вот националистическая боевая организация Яхновского и провела этот протестный акт. Планировалось еще взорвать памятники российским императорам в Одессе и Киеве, но не удалось. Да и в Харькове памятник Пушкину остался цел, пострадал лишь пьедестал. Полиция тогда занималась делом Яхновского, правда, это был не следователь Петрусенко. Однако друг друга они знали, позже тоже доводилось пересекаться.
Викентию Павловичу было известно, что Яхновского мало кто поддерживает в кругах украинской интеллигенции и помещиков. Это были «умеренные украинцы», единомышленников же у него оказалось немного. Но вот наступили иные времена, и Яхновский вновь надеялся и строил планы. Еще бы, с 1917 года уже существует Украинская народная республика! Правда, не такая, как он представлял, все еще зависимая от ненавистной ему России, связанная со всем, что там происходит. И он бросил всю свою энергию на создание национальной армии. Это, казалось, нетрудно: шла мировая война, революция, под ружьем было множество украинских селян и рабочих, офицеров. Но вот провозглашена Украинская держава, и гетману совершенно не нравится, что существует военная часть Яхновского. Она разоружена, он в опале. Однако Скоропадский бежит, приходит Петлюра и его Директория, а Яхновский появляется в Харькове…
Проводя в свой кабинет нежданного гостя, Петрусенко недоумевал: зачем он понадобился Яхновскому? Но тот сразу же взял быка за рога:
– Господин Петрусенко, прошу вас пойти вместе со мной к полковнику Болбочану! Вы близко с ним знакомы, человек для него авторитетный. На него единственная надежда! Надо что-то делать, иначе погибнет наша Украина!
Оставаясь внешне серьезным, Викентий Павлович про себя усмехнулся: «Надо же, по-русски со мной говорит». Был, был в прошлом у них эпизод, когда Яхновский демонстративно заявил: «Нэ розумию цю гадючу мову». Теперь, стало быть, когда Петрусенко мог помочь, не только стал понимать, но и прекрасно владел. И объяснил, что Запорожский корпус полковника Болбочана остается самым боеспособным из всех войск Директории. Викентий Павлович это тоже знал: среди «революционных социалистов» Директории Петр Болбочан демонстративно стоял на крайних правых позициях. Если первые заигрывали с Советами и профсоюзами, то Болбочан приказал разогнать эти организации, жестко подавлял любое сопротивление. В его войсках соблюдалась строгая дисциплина, чиноподчинение, продолжали служить гетманские офицеры, которым он разрешал носить свои знаки отличия. Самого его не раз упрекали в том, что он больше похож на офицера царской армии – по мундиру, выправке, поведению, – чем на казацкого старшину…
– Мы пойдем к Петру Федоровичу, предложим ему… Я продумал: его Запорожский корпус сумеет отстранить от власти правителей Директории, установит военную диктатуру. Это для начала, но нужно начать уже сейчас!
– Нет, – сказал Викентий Павлович спокойно, – я не стану этого делать.
– Но почему? – Яхновский даже руки вскинул отчаянно. – Ведь вы же истинный украинец, старинного рода!
– Это верно… – После минутной паузы Петрусенко предложил: – Присядьте, Роман Александрович, я расскажу вам коротко о своих предках, может, поймете… Вы курите? Нет? А я закурю…
Он раскурил трубку, глянул на собеседника, который сел в предложенное кресло, но был в напряженном нетерпении.
– Так вот… Мой род идет от реестровых казаков. Вы-то, конечно, знаете: в шестнадцатых-семнадцатых веках польские короли принимали казаков на службу, никто лучше их не охранял украинские земли от набегов татар. Предводителей этих казачьих отрядов вносили в реестровые списки, вот они и назывались «реестровыми казаками». Пользовались привилегиями – не платили налоги, могли иметь выборных глав, свой суд, обзаводиться домом, хозяйством, нанимать работников… Это были наши украинские первые помещики. Официально они и получили права слободского дворянства от Екатерины Второй. В 1801 году Александр Первый подтвердил своей Грамотой эти права. Мой предок присутствовал на празднике здесь, в Харькове, в августе 1802 года, в честь пожалования харьковскому дворянству подтвердительной Грамоты о привилегиях. Этот предок, Игнатий Петрусенко, во время шествия в Успенскую соборную церковь нес на подушке из малинового бархата высочайшую Грамоту… Да, палили пушки, звенели колокола – в моей семье это предание живет… А на следующий день мой предок вместе с другими дворянами сделал пожертвование на создание нашего университета – четыреста тысяч рублей. Заметьте: далеко не все помещики поступили так.
– Я же об этом и говорю, Викентий Павлович! Вы происходите из старинного казацкого рода, потомственный украинский дворянин! Вы обязаны быть патриотом!
– Я и есть патриот. Я патриот единой Украины и России. Еще тогда, в первом году минувшего века, празднуя дарование Грамоты, дворянство Украины тем самым присягало на верность императору Александру. И я присягал государю и Российской империи.
– Их уже не существует!
– Да, – Петрусенко посмотрел в глаза собеседнику долгим взглядом. – Государя нет. А Российская империя будет всегда. Под другими названиями, но будет. И потом… Знаете, Роман Александрович, мужчины рода Петрусенко всегда любили русских женщин. Тот самый мой предок, Игнатий, женился на русской барышне. И в дальнейшем… Отец мой, например. То есть матушка моя была русской. И жена у меня москвичка. Кто сможет вычислить, сколько во мне, и тем более в моих детях, крови казацкой, а сколько русской? Вот так и вся наша держава – как ее разделить?
В день этого разговора Викентий Павлович еще не знал о трагедии его давнего друга графа Келлера. Ему было известно, что еще здесь, в Харькове, летом 1918-го, Федор Артурович начал формировать Северную армию, чтобы сражаться с большевиками за веру, царя и Отечество, за единую и неделимую Россию. После, переехав в Киев, он продолжал собирать вокруг себя офицеров, но поход свой так и не успел начать. Гетман Скоропадский бежал с германцами, в Киев вошли петлюровцы. Теперь, летом 1919 года, Викентий Павлович знал и то, что случилось потом. Михайловский монастырь дал приют генералу Келлеру и двум его друзьям-офицерам. 8 декабря в монастырь вошла петлюровская стража и арестовала Федора Артуровича, а с ним полковника Пантелеева и ротмистра Иванова. По темному Киеву, в четыре часа утра, их привели на Софийскую площадь, приказали идти к памятнику Богдана Хмельницкого. Стреляли в спину… Да и не мог представить Петрусенко, что Келлера можно было убить, глядя в его прекрасное смелое лицо, выдержав его пронзительный взгляд! У памятника Хмельницкому – как символично: защитника единой и неделимой России расстреляли у монумента, символизирующего это единство… А саблю его преподнесли Петлюре – какая мерзость!
Впрочем, полковник Болбочан тоже недолго пережил тот разговор с Яхновским, надежды, возлагаемые на него. И его убили по приказу Петлюры, который испугался и воли этого человека, и его авторитета в войсках. Похоже, увидел в Болбочане будущего «Бонопарта», а вернее – будущего «гетмана»…
Праздник заканчивался, гости расходились. Викентий Павлович, Людмила Илларионовна и дети, провожая, вышли на крыльцо. За двумя девочками приехали коляски, остальные жили рядом, решили идти все вместе, большой компанией. Прощаясь, одна из подружек Кати сказала:
– Какой хороший сегодня день, седьмое июля!
– Вот уж нет, Тося! – Катя сердито топнула ногой, упрямо тряхнула головкой. – Мой день рождения – двадцать четвертого июня! Всегда был и будет. Я не признаю этого нового календаря!
У людей и так от всего голова кругом идет, подумал Викентий Павлович, а тут еще путаница со сменой календаря. Большевистское правительство в Москве в начале 1918 года утвердило новый григорианский календарь, передвинув время вперед на две недели. Католическая Европа давно уж жила по нему, но православная Россия не меняла времяисчисление. И вот кинулись догонять Европу! Но здесь, на украинской территории, при иной власти, дни и месяцы считали по-старому. Второе пришествие большевиков в Харьков случилось через год от введения нового календаря, но и тогда многие его не приняли. Тем более что церковные календари остались прежние. Да и пять месяцев до прихода Добровольческой армии пролетели быстро. С улыбкой глядя на дочь, Викентий Павлович думал: «Да, девочка моя, и мне хочется, чтобы все осталось привычным, таким, как мы любим. Но увы…»
9
В доме наводили порядок после праздника. Викентий Павлович вышел в сад. Собственно, это был огороженный уголок заднего двора их особняка, где росли несколько деревьев и кусты. С веранды к нему вели пять ступеней, шла кольцевая, засыпанная гравием дорожка, две скамьи стояли под двумя фонарями. Жасмин уже отцвел, но цвела липа, и аромат накатывал волнами. Викентий Павлович не стал даже доставать трубку, просто сел под светящим фонарем. Это был уже не газовый, а электрический фонарь, не так давно такие появились на улицах центра города. Вечер стоял очень теплый, тихий. Хотя было еще не поздно и рядом, на параллельных улицах Сумской и Пушкинской, прогуливались большие компании горожан, офицеров, сюда, на Епархиальную, шум не доносился.
На веранде появилась фигура Мити – в одной легкой рубашке, с перевязанным плечом. Хорошо, подумал Викентий Павлович, что пуля прошла по касательной, лишь слегка задела руку чуть ниже правого плеча. Рана уже почти зажила. Сегодня Митя даже принял участие в одной из сценок-шарад, как раз нужно было изображать раненого…
Племянник махнул ему рукой и сбежал по ступенькам.
– Слышал, ты назавтра приглашен к генералу Май-Маевскому? – спросил, усаживаясь рядом.
– Да, приходил от него порученец. Так что завтра пойду в Дворянское собрание.
Митя кивнул, он знал, что штаб-квартира командующего Добровольческой армией, который стал теперь и главноначальствующим в Харьковской области, располагается в доме Дворянского собрания.
– Думаешь, будут восстанавливать управление полиции?
– Управлять городом без этого не получится, – пожал плечами Викентий Павлович. – Я уже слышал, что началось восстановление губернских и земских управ. А значит, и городская дума должна заработать. При ней – управление полиции.
– Неужели все вернется? Все будет как прежде?
Викентий Павлович приобнял племянника, осторожно, чтоб не задеть больного плеча.
– Ты сам веришь в это? Я, Митенька, хотел бы верить, но увы… Однако работать буду изо всех сил.
Митя помолчал, потом сказал жестко:
– Как бы я хотел, чтоб все вернулось! Но после смерти государя… Нет, это невозможно.
Он не мог простить большевикам расстрела царя и царской семьи. Викентий Павлович знал, что с этим гнетущим чувством связаны все поступки Дмитрия последнего года. Когда в декабре, в самом конце восемнадцатого года, большевики так легко выбили петлюровцев из города, Дмитрий сразу заявил:
– Я работать в их милицию теперь не пойду!
– Скорее всего, и не придется… – протянул Викентий Павлович. – Пришли другие люди, обстановка другая.
В самом деле Советы устанавливали свою власть жестко, сами, не скрывая, называли это «красным террором». Можно ли было по-другому? Петлюровцы лютовали, в белой армии, еще при покойном генерале Корнилове, военно-полевые суды выносили сотни смертных приговоров, взятых в плен большевиков расстреливали, причем часто сами офицеры вызывались это делать добровольно. Весной девятнадцатого генерал Деникин повел Добровольческую армию в поход на Москву, Красная армия отчаянно сопротивлялась, но фронт неуклонно приближался к Харькову. Всеобщая ненависть, Гражданская война…
Вновь установленная Советская власть старалась стать для горожан привлекательной, своей. И красочный праздник Красной армии с парадом провели, и юбилей Тараса Шевченко – поэта-борца за освобождение угнетенных украинских крестьян – отпраздновали, и флаги красные на домах развесили, часто просто в приказном порядке, под угрозой расстрела саботажников. Но террор есть террор, даже если он «красный». В бывшей тюрьме был создан лагерь, куда свозили заключенных. По городу ходили слухи о том, как чекисты страшно там пытают людей, как расстреливают десятками, как прочесывают город в поисках шпионов Добровольческой армии.
Людмила Илларионовна очень переживала за всех – за мужа, детей. Однажды даже попросила:
– Викентий, может, все-таки повесим на доме этот их красный флаг? Как оберег?..
– Оберег спасает, если в него искренне веришь, – усмехнулся Викентий Павлович. Подумал немного и отказался: – Не стоит. У нас, слава богу, улица тихая, не проезжая. Хоть и в центре, но не на виду.
Однако, когда рано утром, в конце февраля, в дверь особняка громко постучали и потребовали «гражданина Петрусенко», в сердце остро кольнуло сожаление: «Надо было послушать Люсю…» Да, несколько часов его отсутствия явились для семьи тяжким ожиданием. Но все обошлось хорошо и даже интересно. Два красноармейца сопроводили Петрусенко не куда-нибудь – в гостиницу «Метрополь» на Николаевской площади! Правда, теперь она называлась гостиница «Красная», и в ней разместилось Временное рабоче-крестьянское правительство Украины. В номере на втором этаже, переделанном под обширный кабинет, ему навстречу поднялся коренас-тый человек, кивком отпустил красноармейцев. Минуту, оставшись наедине, хозяин и гость откровенно рассматривали друг друга. Викентий Павлович сразу понял, кто перед ним: тот, кого называют «товарищ Артем», очень известный революционер, из главной когорты, а нынче – руководитель нового Советского Украинского правительства большевиков. Еще молодой человек, лет тридцати пяти, с щеточкой усов, темноволосый, со светлыми глазами. Приятный, даже симпатичный, взгляд умный и проницательный.
– Здравствуйте, господин Петрусенко. – Он чуть усмехнулся, спросил: – Или «товарищ»? Я знаю, до германской оккупации вы работали с нашими органами, слышал лестные отзывы о вас. Да и сам, признаться, помню с прежних времен несколько раскрытых вами дел, получивших большую известность.
– Позволю себе ответный комплимент… Я тоже наслышан о вас, Федор Андреевич.
Артем засмеялся, это был искренний, открытый смех.
– Вот не ожидал! Давно меня так никто не называет. А вот полиция, оказывается, помнит! Так как же, Викентий Павлович?..
– Знаете, «господин» привычнее.
– Это пока, – уверенно кивнул Артем. – Ну что ж, присаживайтесь, господин Петрусенко. К вам есть дело. Скорее просьба – помочь разобраться… О том, что в городе прошел Всеукраинский съезд Советов, вы, конечно, слышали?
Петрусенко кивнул. Весь Харьков знал, что буквально на днях большевики провели свой съезд, сразу же объявили о том, что теперь все живут в Украинской советской социалистической республике. Именно к этому съезду развешивались красные флаги.
– Съезд проходил здесь, в «Красной», – продолжал Артем и, увидев, как приподнял бровь собеседник, кивнул: – В «Метрополе», если вам так привычнее. Гостями съезда были наши товарищи из Москвы, из руководства страны… Так вот, у одного из них, из наших гостей, из номера произошла кража…
Он замолчал, делая паузу, Викентий Павлович понял, что уточнять имя пострадавшего гостя Артем не станет. Но сам мгновенно прокрутил в уме: «Неужели Свердлова обокрали? Что же у него могли утащить? Ценные бумаги, документы тайные какие-то? А, может, настоящие ценности?»
Он знал о том, что среди гостей съезда был Яков Свердлов – один из главных большевистских руководителей, второй после Ленина человек в советской Москве. Интересный человек, может быть, самый необычный и загадочный из всех, кто готовил переворот в стране. Во всяком случае, Петрусенко был такого мнения. Еще в 1905 году Викентию Павловичу довелось видеть отчет начальника Пермского охранного отделения: в нем шла речь о боевиках, руководимых Свердловым там, на Урале. Они были беспощадными и жестокими, совершая ограбления и расправы, убивали не задумываясь даже случайных людей. Но особенно ненавидели полицейских: вылавливая, стреляли в лицо и даже отрубали головы. А самым безжалостным и хладнокровным был их руководитель, очень молодой еще человек – Свердлову тогда исполнилось двадцать лет. По сути, в те годы там, на Урале, политической революционной организации и не было, Свердлов просто собрал вокруг себя уголовников. Почему они его слушали и даже боялись? Почему в некоторых действиях его угадываются элементы масонских обрядов? Почему государя и его семью отправили именно в Екатеринбург, где годами ранее заправлял бандитами тот, кто теперь отдает распоряжения целым армиям? Не охраняли ли царя – а потом и убили его – те боевики Свердлова, которые превратились теперь в красных бойцов?..
О том, что было похищено у «гостя съезда», Викентий Павлович тоже выяснять не стал. Во-первых, потому, что, скорее всего, не получит ответа. А во-вторых, он уже знал похитителя – был почти уверен, что знает. Усмехнулся про себя: сейчас удивит товарища Артема. Удивит потому, что не станет, конечно же, объяснять ход своих мыслей, просто выдаст конечный результат. А всю цепочку из своих знаний и логических заключений оставит при себе… Спросил только:
– Когда произошло похищение?
– На второй день съезда. Видимо, как раз тогда, когда шло заседание, все делегаты и гости находились в зале.
– Обнаружилось сразу?
– Нет. Наш товарищ уезжал спешно, еще до окончания съезда, были неотложные дела. Да и приболел слегка, наверное, простудился. – Артем внимательно глянул на Петрусенко. – Вы же знаете, городское хозяйство разлажено, гостиница не отапливается, даже в дни съезда здесь несколько раз надолго отключали свет – были неполадки на электростанции… Да, так вот пропажа обнаружилась уже в поезде, с ближайшей станции нам телеграфировали. Мы попытались сами разобраться, но… – Он пожал плечами, усмехнулся уголком губ. – У нас большой опыт подпольной работы, а вот сыскное дело хромает. Вот и вспомнилось: здесь же, в Харькове, проживает знаменитый сыщик…
Он сделал паузу, вопросительно глядя на Петрусенко. Викентий Павлович кивнул:
– Скажите… товарищ Сергеев, ресторан при отеле работает?
Он не назвал Артема «господином» не потому, что не уважал того. Просто этот человек и в самом деле «господином» не был – именно «товарищ».
– Ресторан работал в дни съезда, – ответил Артем. – Нужно было кормить многих людей. Но сейчас, когда здесь остались только мы, руководители, достаточно и буфета.
– Значит, работники ресторана распущены? Официанты, повара, уборщики?
– В основном да. При кухне два человека и буфетчик. А почему вы спросили?
– Надеялся выяснить, кто в эти дни спешно уволился или просто исчез из обслуги ресторана. Тогда было бы проще его задержать.
– Вы что же, предполагаете, что вор – из этих людей? Почему?
Петрусенко широко улыбнулся:
– Объяснять долго. Я просто назову вам этого человека, опишу его, дам пару-тройку адресов…
Викентий Павлович видел, что его собеседник удивился, но после недолгого молчания произнес задумчиво:
– Понимаю… Не все так просто. Слушаю вас…
В самом деле все было совсем не просто. Ловкий гостиничный вор по фамилии Хламидников был известен полицейским управлениям крупных городов давно. Дважды он сидел, но, освободившись, вновь принимался за свое. Другого он не умел да и не хотел. Был хорош собой: строен, изящен в движениях, с томным взглядом и хорошей литературной речью. Его лицо сразу внушало доверие: одновременно добродушное и интеллигентное. В общем, Хламидников легко устраивался работать в обслугу гостиниц, обычно – официантом ресторана. Его охотно нанимали, такие официанты нравятся посетителям. Понаблюдав за новичком первый день, метрдотель убеждался: да, это то, что надо. К тому же Хламидников всегда имел целый ворох «рекомендаций» с якобы прежних мест работы. Какое-то время он усердно трудился, не менее усердно разнюхивая: где, что, кто, куда?.. Изучал и посетителей, и все закоулки гостиницы, заводил дружбу, а то и роман с дежурными. Это было нетрудно, потому что почти всегда он через недолгое время становился официантом по вызову – то есть развозил заказы из ресторана в номера.
Так получилось, что в шестнадцатом году, как раз перед началом всех переворотов и смен властей, Петрусенко этого ловкого вора задержал на горячем как раз в гостинице «Метрополь». Тот, проработав там две недели, уже наметил цель: богатого купца из Астрахани. Но ему не повезло, потому что на том же этаже снимал апартаменты директор велосипедного завода Лейтнера. Год назад это предприятие было эвакуировано в Харьков из Риги, куда слишком близко подошел фронт, и здесь завод выполнял важные заказы для армии. Военное ведомство – организация серьезная, за номером директора в «Метрополе» приглядывали. Потому и обратили внимание на некоторые странные действия официанта, сообщили в полицейское управление. Петрусенко, хоть и был тогда уже полицмейстером, лично навестил ресторан гостиницы, отобедал и убедился, что указанный официант – личность знакомая. Приставил к нему ловкого агента и поймал прямо в номере купца. Но долго на этот раз Хламидникову сидеть не пришлось: в августе семнадцатого года, когда из тюрьмы был совершен массовый побег, он был среди бежавших. Честно говоря, Викентий Павлович совсем о нем забыл, не до того было. Только две недели назад он встретил Хламидникова в городе. Совершенно случайно столкнулся с ним на центральной улице Сумской. Он-то своего подопечного узнал, а тот его даже не заметил – Петрусенко умел мгновенно преображаться и лицом, и фигурой. Сделал это интуитивно, словно предчувствовал: не надо вору знать, что его увидели.
Как только «товарищ Артем» произнес название «Метрополь» и слово «кража», Викентий Павлович тут же ясно представил всю картину. В городе новая власть, а значит, неразбериха. Жестко, порой жестоко наводят порядок, но в основном отлавливают офицеров, петлюровцев, ищут шпионов и саботажников. И во всей этой суете еще и съезд многолюдный проводят. Где? В «Метрополе», который Хламидников изучил до последнего уголка. Да еще срочно нужна дополнительная обслуга в ресторан – приезжих много, рабочих рук не хватает. Как же не воспользоваться такой возможностью! И кто станет его искать? Новая милиция? Смешно! Он для всех останется невидимкой, легко исчезнет, сделав дело… И вот в администрации гостиницы появляется респектабельный человек, опытный официант с хорошими рекомендациями…
– В моем прежнем архиве была и фотографическая карточка этого вора – фамилия его Хламидников. Но, увы, петлюровские вояки архив уничтожили… Наверняка кое-кто из них там тоже был. Да… запишите: тридцать восемь лет, русые волосы, серые глаза, средний рост, строен. Производит очень приятное впечатление, говорит грамотно. Когда волнуется, непроизвольно дергается правая щека.
– Вы уверены, что кражу совершил именно этот человек? – прервал Артем. – Вы говорите так, словно знаете наверняка?
Викентий Павлович улыбнулся, кивнул:
– Понимаю ваше недоверие. Не скажу, что уверен совершенно, и все-таки поверьте, вряд ли я ошибаюсь.
– А ведь у нас повсюду стоял караул, на этажах, в коридорах.
– Вы говорите: в тот день, как и в другие, несколько раз отключалось электричество? Хламидников этим наверняка воспользовался. И вообще в его арсенале есть много разных уловок… Дайте мне лист бумаги, напишу три адреса – не в одном из этих мест, так в другом его найдете. Возможно, при нем еще окажется то, что он украл, сейчас ведь перекупщики притаились, боятся…
Никто не удосужился сообщить Викентию Павловичу, как закончилось это дело. Но он был уверен: Хламидникова поймали, украденное нашлось. Потому что через три дня после разговора с Артемом в его дом пришел красноармейский офицер и вручил лично «товарищу Петрусенко» пять одинаковых документов – на каждого члена семьи. Это были охранительные мандаты, с которыми обязаны были считаться все представители советской власти. Викентий Павлович понял: это и благодарность, и признание правильности его расследования, и предложение будущего сотрудничества…
Сам же Федор Андреевич Сергеев, товарищ Артем, руководитель украинского правительства, уже спешно уехал в Москву – там внезапно и необъяснимо скончался Яков Свердлов. Не раз впоследствии вспоминая разговор в «Метрополе», эту странную кражу, Викентий Павлович думал: а не связана ли она со смертью Свердлова? Слишком эти события близко друг к другу, слишком все таинственно… Впрочем, он ведь так и не узнал, кого ограбили. Только предполагал.
10
Подробности встречи с товарищем Артемом Викентий Павлович, конечно же, рассказал своим родным. Они ведь тогда все очень волновались, ожидая его возвращения из «Метрополя». Он развеселил их, пересказав историю кражи и своего моментального расследования легко, с юмором. Саша воскликнул с апломбом:
– Ты, отец, как всегда велик!
Людмила спросила, заглядывая ему в глаза:
– Тебе понравился этот главный большевик? Похоже, он умный и неплохой человек. Помнишь, еще до петлюровцев, ведь он у нас в городе был главным? Они тогда стали бесплатно детей учить, и взрослых грамоте тоже, и садики детские открывали… Может, эта советская власть, если останется, сумеет навести порядок?
Викентий Павлович поглядывал на Дмитрия: тот казался ему замкнутым, ушедшим в себя. Это было не похоже на племянника. К тому же они ведь коллеги, Митя уже не раз помогал ему в разыскной работе, ему-то история кражи должна быть особенно интересна. А он вдруг задал какой-то странный вопрос:
– А что, в «Метрополь» можно свободно пройти? Или там охрана на всех углах?
Викентий Павлович не знал, что Митя Кандауров уже стал членом белогвардейского подполья, действовавшего в городе. Еще в феврале Дмитрий вдруг вспомнил свою встречу с Виктором Уржумовым, слова того: «Вот, думаю, на Кубань, к Деникину уехать…» Тоскливо было ему при этой власти красных, сердце ее не принимало. «А вдруг Виктор тогда не уехал и мы бы могли теперь вместе…» Он хорошо помнил адрес Уржумовых, сколько раз бывал там, у друга Алеши. Три дня раздумывал, и все больше казалось – это выход! И как же обрадовался, когда во дворе дома, еще не успев войти в парадное, столкнулся с Виктором. Они зашли в ближайшее заведение, в «Шинок». Вывеска осталась еще от петлюровцев, большевики на это не обращали особого внимания. Посетителей было немного, они сидели за столиком в углу, в одиночестве, и Митя, понизив голос, спросил:
– Ты хотел уйти к Деникину. Не передумал? Мне кажется, сейчас самое время. Не могу я здесь!
Уржумов пристально смотрел на него, словно раздумывал. Митя не знал, что сидящий напротив него человек радостно прокручивает в уме: «На ловца и зверь бежит! Грех не воспользоваться, а то ведь и доложить нечего. Глядишь, о моих боевиках догадаются…»
– Слышу слова не мальчика, но мужа, – наконец одобрительно произнес Виктор. Коротко оглянувшись, наклонился через стол к Дмитрию, тихо сказал: – Но можно принести пользу нашему делу и здесь. Даже большую… Я член белогвардейского подполья, оно есть в нашем городе и действует.
У Мити широко раскрылись глаза, Уржумов утвердительно кивнул, добавил:
– Дальше будем говорить на улице.
Они быстро выпили по рюмке водки, вышли под мокрый снег и резкий февральский ветер в городской сад и, прохаживаясь по пустым аллеям, еще долго говорили. Конечно, Митя был согласен и готов на многое. Виктор, оказывается, руководил одним из подпольных звеньев.
– Ты войдешь в мою группу, но будешь знать только меня. А тебя – только я. Так нужно для конспирации. Нужны любые сведения: о боевых подразделениях красных, о военных машинах, об оборонительных укреплениях, которые строятся, о расположении казарм, о командирах… Да мало ли что, сам сообразишь.
– Да, да, я понимаю! Я готов. Но с чего начать? Ты дашь мне конкретное задание?
Митя готов был действовать сразу. Такой неожиданный поворот событий взволновал его. Он предполагал, что пройдет время, пока он окажется на Северном Кавказе, где сейчас вела бои Добровольческая армия, что будет добираться туда… Оказывается, можно прямо сейчас, сразу начать действовать. Вот только как именно?
Уржумов задумался ненадолго.
– На твоей улице, – сказал он, – расположен их штаб обороны. Проходи мимо него почаще. Даже если это и привлечет внимание, у тебя хороший резон: ты здесь живешь. Вот ходи и приглядывайся. Ко всему. Запоминай, анализируй. Это для начала.
Но Мите этого было мало. Его переполняла радость, которую он, как истинный конспиратор, изо всех сил пытался скрыть. Но не раз ловил вопросительный взгляд Людмилы Илларионовны, ироничный прищур дяди, а братец Саша так даже воскликнул однажды:
– Митя, признайся, ты в кого-то влюбился?
Митя продолжал работать в адвокатской конторе. Впрочем, это только считалось работой – почти полное затишье и отсутствие дел. Однако каждый день он ходил туда, только слегка поменял маршрут. Раньше, выходя из особняка, он поворачивал по Епархиальной улице направо. Теперь же шел в другую сторону – так было короче. К тому же как раз мимо красного штаба обороны. Там всегда было многолюдно, заходили и выходили люди в военной форме, подъезжали машины, а однажды в распахнутые ворота заехал броневик. Ну да, все это он видел, но никак не мог представить, как это использовать. Дважды его останавливали стоящие у ворот часовые – видимо, примелькался. Но он показывал документы, говорил: «Вот там я живу, иду домой». Запомнили, перестали обращать внимание. Ну и что?
Так, впустую, он ходил мимо ворот штаба недели две, когда однажды его окликнули:
– Дмитрий Владимирович!
С крыльца, махая ему рукой, сбежал высокий человек, и, когда уже подошел вплотную, Митя его узнал. Инженер Гулевский, один из его клиентов. Год назад он помог этому человеку доказать свою правоту. В то время когда Дмитрий вел дело Гулевского, они подружились, но потом совсем не виделись. Вот и Гулевский, радостно пожимая ему руку, сказал об этом:
– Я очень рад! Ведь мы совсем не встречались после нашего дела.
То «дело» и в самом деле стало их общим… Год назад большевики оставили город на гетмана и немецкие войска. Когда же первые немецкие части входили в город по Екатеринославской улице, в самом ее конце, перед выходом на Павловскую площадь, им пришлось разбить строй. Нет, их не обстреливали, но часть самого старинного в городе Лопанского моста и улицы оказались повреждены и разрушены взрывами. Возможно, намеренными. Сразу же военное немецкое управление стало наводить порядок. Разрушенная дорога была важным объектом, ее приказали быстро восстановить. Работу эту поручили специалисту по дорожному строительству инженеру Михаилу Степановичу Гулевскому. Он, получив необходимые материалы и рабочих, ремонт начал. Разрушенную часть моста предложил полностью освободить от слоев старого покрытия и поменять опору. Вот тут начались у него разногласия с властями, приехала из Берлина комиссия немецких специалистов и обвинила Гулевского чуть ли не в намеренном вредительстве. Не зная, как себя защитить, инженер пришел в известную адвокатскую контору. Но директор только развел руками: «Это же сложные технические вопросы, мы в них не разбираемся, ничем помочь не можем». Когда растерянный Гулевский уже уходил, его нагнал Дмитрий. Он слышал разговор: защемило сердце, показалось, что Гулевский похож на погибшего отца… Предложил:
– Михаил Степанович, что, если я попробую вам помочь? Я юрист, но… как бы это сказать? – немного и строитель. Мой отец был вашим коллегой, специалистом по строительству дорог. Погиб, когда прокладывал путь через Байдарский перевал, – сошла лавина. А потом и я сам, уже студентом, немного работал там же, на Байдарском, строил дорогу… Давайте попробуем вместе разобраться в вашем конфликте.
Дороги и особенно мосты – это объекты стратегического значения. Вся документация хранилась в архивах военного ведомства. Вот здесь помог Викентий Павлович: вместе с Дмитрием пришел к полковнику Болбочану, и тот дал разрешение поработать в архиве. Так Дмитрий Кандауров и инженер Гулевский выяснили особенности проектирования и первоначального возведения моста, соединяющего Екатеринославскую улицу и центральную часть города. Гулевский оказался совершенно прав в своих расчетах. Подтверждение этой правоты Дмитрий оформил официально и предоставил, как адвокат инженера, в германский штаб. В конце концов, перед Гулевским извинились, выплатили ему положенное вознаграждение и даже премию. Но к строительным работам он не вернулся – там уже руководил немецкий специалист.
Да, не так давно все это и было – в апреле восемнадцатого. А теперь, когда они встретились вновь, шел март девятнадцатого года. Митя обрадовался, но в этом искреннем чувстве была и тайная надежда: инженер явно связан со Штабом обороны красных… Сам Гулевский тут же это подтвердил: махнул рукой в сторону дома, сказал:
– Я, знаете, здесь теперь работаю. Нынче у власти серьезные люди и мнение специалиста ценят. Не то что немцы…
– А я живу на этой улице, – поторопился объяснить Митя и спросил с самым равнодушным видом: – Что-то строите? Или ремонтируете?
– Нет, у меня работа поинтереснее. – Гулевский улыбнулся радушно, пригласил: – А пойдемте ко мне, я вам расскажу.
Митя засомневался:
– Но разве меня пропустят?
– Со мной обязательно. Пойдемте.
Они миновали часового, которому инженер уверенно кивнул, поднялись на второй этаж. Гулевский отпер ключом небольшой, но с широкими окнами светлый кабинет. На столе лежали чертежи, и он сразу сказал Дмитрию:
– Это мой объект. Оборонные укрепления в районе станции Основа. Там очень серьезный железнодорожный и транспортный узел. Сами понимаете – война… Если противник будет рваться к городу, то именно отсюда с большей вероятностью. А Советы Харьков сдавать не хотят, я же говорю – серьезные люди. Очень интересная работа! Хотелось бы вам показать, но это закрытый объект, без специального пропуска не попадешь.
– У меня есть вот такой документ, – протянул нерешительно Митя, доставая мандат, который как раз на днях дал ему Викентий Павлович.
– О, – воскликнул Гулевский, взяв бумагу в руки, – это же подпись самого товарища Артема! Ну, с таким пропуском проблем у нас не будет. Приглашаю вас, Дмитрий Владимирович, завтра поехать со мной на объект, много интересного увидите, уверяю. Если, конечно, вы не против?
Митя был не против. И что увидит много интересного для передачи подполью, тоже не сомневался. Так оно и оказалось. Дома, вечером, он описал все виденное, нарисовал планы и схемы. Он сумел даже, задавая невинные вопросы Гулевскому, узнать, что подобные укрепления готовятся и со стороны станции Лосево, и в районе Паровозостроительного завода. Митя написал записку и отправил мальчишку бросить ее в почтовый ящик Уржумова. «Я тебя покидаю, не ищи со мной встречи. Анна». Это означало, что завтра Митя должен встретиться с Виктором в том самом кафе, где они впервые говорили о подпольной организации. Уржумов бегло просмотрел записи, одобрительно кивнул:
– Отличная работа, ценная добыча! Передам эти бумаги кому следует, их переправят прямо в штаб генерала Деникина. А ты поосторожней, с инженером этим больше не встречайся, а то вдруг задумается… У большевиков в ЧК не дураки сидят.
Уржумов не стал заканчивать фразу, но про себя подумал: «Там умеют выбивать признания. Не хватало еще, чтоб обо мне проговорился». Но вообще-то он был очень доволен, сразу понял, насколько ценны сведения, принесенные Кандауровым. Они были нужны лично ему! Не потому, что так уж хотелось помочь белому движению, – нужна была видимость активной подпольной деятельности. А то ведь заподозрят, чем на самом деле занимается его «боевая дружина», и окажется он между двух огней – руководством подполья и красной ЧК…
Летом минувшего, восемнадцатого, года Виктор Уржумов подумывал уехать из Харькова подальше, на юг, на территории белой армии. Не для того, чтоб воевать: ему представлялось, что оттуда легче попасть за границу. Он не видел никакой перспективы для себя в этой стране, где чуть ли не через месяц меняется власть, где можно легко попасть под шальной выстрел, где становится опасно быть богатым… А Виктор очень хотел быть богатым и имел для этого реальную возможность. Надо, надо было убираться поскорее, в стабильную европейскую страну или даже за океан.
В центральнорадовской Украине, в Харькове, который контролировался немецкими войсками, царских офицеров было много. Они открыто носили форму, кое-кто был при оружии. Существовала даже организация – Союз георгиевских кавалеров. Уржумов как-то случайно услышал о том, что там, в этом союзе, происходит тайная вербовка добровольцев в белую армию, переправка их на Дон. Он пошел туда, в комнате, служившей приемной, сказал офицеру-адъютанту, что хотел бы быть полезен борьбе с большевиками. Внимательно оглядев посетителя, адъютант вежливо предложил пройти в соседнюю комнату: «Там с вами поговорят».
Человека, который поднялся ему навстречу, Виктор сразу узнал и испугался: не узнает ли тот его. Зимой, еще при большевиках, он с только что сколоченной новой бандой отправился потрошить очередной «денежный мешок». На этот раз он наметил владельца банка, которого решили навестить на дому. Однако, едва зайдя во двор большого дома, они наткнулись на вооруженный отряд – небольшой, но очень по-боевому настроенный. Виктор сразу понял, что перед ним офицеры, хоть и в штатском. Особенно их руководитель – темноволосый, черноусый, с горящим решительным взглядом, характерной выправкой и командным голосом. «Пошли вон, – сказал он коротко и веско. – Сюда дорогу забудьте!» Его пистолет смотрел Виктору прямо в лицо, остальные бойцы также имели оружие.
Теперь этот офицер, в погонах полковника, пристально смотрел на него. Потом шагнул в сторону, вежливо предложил садиться. Не узнал, с облегчением понял Виктор. Впрочем, та «встреча» была мимолетной, а в интеллигентном, хорошо одетом и воспитанном молодом человеке вряд ли можно было угадать главаря бандитской группы…
Борис Александрович Штейфон – так звали руководителя Союза георгиевских кавалеров. «Значит, он был в городе еще при красных, – быстро прикинул Виктор. – Наверняка профессиональный разведчик». Его догадка оказалась верной, поскольку через некоторое время он сам стал членом подпольной организации Добровольческой армии. Поначалу-то речь шла о том, чтоб ему уехать на Юг. Но там, на Кубани, шли тяжелейшие бои за Екатеринодар. А вдруг не удастся увильнуть, попадешь в действующую армию! Нет, воевать Виктор не хотел. И он сам предложил полковнику: «Я могу быть полезным здесь…» Когда немцы покинули Харьков, Уржумов остался в городе как руководитель подпольной группы боевиков, получив и оружие, и деньги. Месяц Директории пролетел мгновенно, вновь власть взяли Советы. Весной девятнадцатого в город пробрался разведчик штаба белой армии. Молодой корниловский офицер назвался Александром Долгополовым, привез деньги, задания, потребовал отчет о работе. Как кстати пришлись те документы, которые добыл Уржумову Дмитрий Кандауров! Просмотрев их, разведчик просто расцвел.
– Это большой успех! – сказал и с чувством обнял Виктора. – Как раз то, что надо! Готовится наступление на Москву, оно пройдет через Курск и Харьков. Нам очень помогут эти сведения. Лично вы непременно будете отмечены руководством.
Уржумов тут же доложил о том, что его «боевая дружина» провела несколько удачных нападений: на пункт подготовки резервных частей, на отделение телеграфа, на красноармейские ночные патрули. Долгополов одобрительно сказал:
– Значит, ваши бойцы имеют опыт быстрых локальных рейдов. Это скоро пригодится. Когда наша армия подойдет к городу, мы попытаемся помочь ей, организуем очаги сопротивления отсюда, изнутри. Ваш отряд станет одной такой боевой единицей. Я останусь здесь до самого прихода наших, буду координировать все действия.
«А вот это мне ни к чему», – с досадой думал Уржумов, крепко пожимая руку разведчику и прощаясь с ним. Он представил своих «бойцов» с винтовками и пулеметами на баррикадах и с трудом сдержал улыбку. Им больше подходили и значительно привычнее были ножи да ломики для взлома дверей. Его отряд и в самом деле состоял из отчаянных людей – отчаянных и отпетых бандитов.
Первый свой криминальный «эксперимент», как он сам это называл, Виктор организовал еще весной 1917 года. Господи, как же было не воспользоваться бунтами, неразберихой, безвластью, просто разгоном всех тех организаций, которые прежде блюли порядок! И у него получилось, просто-таки здорово получилось! Однако после того, как он сумел воспользоваться невероятным стечением обстоятельств и добыть настоящий клад, пришедший ему в руки, Виктор решил исчезнуть для криминального мира. Он это сделал легко, но… не устоял. Не стал на этот раз затруднять себя хитроумными комбинациями – надо было просто и быстро пользоваться ситуацией: сначала октябрьский переворот, потом какая-то Донецко-Криворожская республика. Жуткая неразбериха, в которой легко лавировать небольшой сплоченной команде – решительной, вооруженной и, да, жесткой. Он очень быстро сколотил такую группу. С прежней бандой, с которой проворачивал красивые, им придуманные комбинации, связываться не хотел. Да и не было уже этой банды, разгромили ее: кого-то поубивали в налетах, кого-то арестовали, кто сам разбежался. Главарь подался куда-то подальше…
Но Уржумов знал, где искать рисковых парней, и вот уже с конца семнадцатого года его «бойцы» легко находили «буржуев» и вытрясали из них все, что те припрятали в надежде на возврат старых времен. Когда подбирал себе людей, в поле зрения появился уголовник по кличке Чур – Виктору издалека показал его один из тех, кого он в банду уже отобрал. Сказал:
– Так себе человечишка, промышляет и с домушниками, и с карманниками. Может сгодиться.
– Он мне не нравится, – сразу отказал тогда Уржумов. – Ненадежный, да и трусоват.
Не стал говорить, что пересекался с этим Чуром. Немного жалел, что разоткровенничался с ним тогда…
С января девятнадцатого банда Уржумова уже называлась «боевой дружиной», числилась действующей единицей белого подполья в большевистском Харькове, получала деньги и оружие. Но занималась все тем же – налетами и грабежами.
После ужина Митя и Саша разложили на столе шахматную доску, расставили фигуры. Викентий Павлович пристроился рядом, как болельщик, Катя с таинственным видом увела мать в свою комнату – обсуждать что-то секретное. Нечасто в последнее время удавалось им проводить вот такой тихий уютный вечер, когда все оказывались дома, не торопились уйти по своим делам. Да и близящиеся перемены несли хоть и тревожное, но радостное ожидание: генерал Деникин успешно вел свой поход на красную Москву. Добровольческая армия генерала Май-Маевского уже освободила Крым, Донбасс, следующим должен быть Харьков!
Митя, еще недавно отстраненный, немногословный, часто проводящий время где-то вне дома, теперь стал прежним – веселым и откровенным. Он просто светился радостью.
– Не зевай, Саша! – воскликнул он, снимая своим белым конем черного ферзя брата.
– Ты слишком азартен, – осадил его Викентий Павлович и пошутил: – Словно в самом деле ведешь бой белой армией против черных сил.
– Так ведь и правда это темная сила! – запальчиво повернулся к нему племянник. – Красными называются, потому что реки крови льют! Слышал, в городе говорят, в подвалах ЧК, в доме Иозефовича на Сумской, лежат около двухсот трупов!
– Не те ли это двести тел, которые обнаружили большевики в Анатомическом музее, когда вошли в город после петлюровцев? – Викентий Павлович покачал головой, с сожалением глядя на Митю. – Мне об этом еще в марте рассказывал Федор Сергеев… Артем. Когда у нас была с ним беседа в «Метрополе».
– Ты им веришь, я знаю, – кивнул Митя головой. – Ну и ладно. А я жду Добровольческую армию и…
Он хотел закончить: «…и сам возьму оружие, чтоб ей помогать». Но увидел, как Саша восторженно смотрит на него, ловя каждое слово. Так было с самого детства – Саша всегда все делал «как Митенька». Подумал: «Еще за мной ввяжется в бои, если узнает…» Нет, братишка был слишком юн, его надо было уберечь, и Митя закончил:
– И дождусь. Добровольцы непременно освободят Харьков!
– Я тоже их жду, – тут же сказал Саша и добавил весело: – А тебе, Митенька, шах!
…В первых числах июня жизнь в городе, казалось, шла как обычно, вот только по улицам ездило много военных машин, ходили отряды красноармейцев. На Епархиальной улице, в распахнутые ворота Штаба обороны, постоянно входили красные офицеры, въезжали и выезжали автомобили – ощущалась нервная суета. Дмитрий, махнув рукой на конспирацию, просто подстерег Виктора Уржумова.
– Терская дивизия Купянск взяла, я точно знаю, Виктор! – Его глаза радостно и лихорадочно блестели. – У одного дядиного приятеля там имение, под Купянском, и вчера оттуда приехал к нему человек. Говорит, терцы генерала Топоркова уничтожили эшелоны с красными солдатами, взяли в плен комиссаров и пошли на Харьков с севера! Со дня на день здесь будут! Что же мы бездействуем?
– Спокойно, – осадил его Уржумов. – Бездействовать не станем. У нас тут есть боевые дружины, поддержим наступающих отсюда. Я дам тебе знать, когда придет время.
Время пришло через несколько дней. Добровольческая армия брала Харьков с нескольких сторон. Митя ждал обещанного сигнала, но, когда выстрелы и разрывы звучали уже не только на окраинах, но и в самом городе, не выдержал. Он помчался к Уржумову и по пути буквально столкнулся с ним. Задыхаясь, хотел спросить, но Виктор первым схватил его за руку, потащил за собой. На ходу быстро стал говорить:
– Ты, Кандауров, в самый раз! Мы с тобой сейчас на Сумскую, там от красных откололся Стрелковый полк. Будем с ним держать оборону!
С полчаса назад посыльный передал Уржумову приказ разведчика Александра Долгополова: с отрядом боевой дружины присоединиться к Южному Стрелковому полку, который перешел на сторону белых и ведет бой на центральной улице города. Свою банду Уржумов распустил, как только войска добровольцев оказались на подступах к Харькову – теперь эти головорезы могли только помешать его плану. Сейчас нужно было показать себя смелым и бескорыстным патриотом, и Митя Кандауров оказался рядом очень кстати. Скоро они, назвав, как пароль, фамилию Долгополова, присоединились к восставшим красным стрелкам.
Поначалу все шло отлично. Отряд сначала захватил Школу красных командиров, а потом выбили красных из здания ЧК и освободили всех заключенных. Это здание на улице Сумской они какое-то время удерживали, отстреливаясь. Но большевики сопротивлялись отчаянно. Отбивая атаку за атакой, Дмитрий невольно думал: «А ведь их Добровольческая армия бьет во всех концах города!» Но не хотела красная власть отдавать Харьков, ох как не хотела, и повстанческий отряд стали теснить. Вместе со стрелками Дмитрий и Виктор отступили сначала к собору, отстреливались прямо среди могил Иоанновского кладбища, потом отошли к ипподрому и дальше, к Сокольникам. Здесь держались долго, но все же отступили еще, к поселку Даниловка, у самой реки. Но отсюда уже не ушли. Сюда стрелки притащили захваченные где-то несколько французских пулеметов Шоша – длинноствольные, на высоких треногах, они очень помогли держать оборону. Но главным, конечно, было то, что войска большевиков стали отовсюду отступать.
Дмитрий стрелять умел. Еще в шестнадцатом году, когда записался в армию вольноопределяющимся, проходил подготовку по стрельбе из разного оружия. На фронт тогда не попал, но стрелять научился. Да и потом, работая с дядей, не раз бывал в перестрелках с бандитами. Их отряд закрепился среди холмов, поросших кустарником, и Митя стрелял из винтовки, положив ее на камень и сцепив зубы, чтобы не стонать. Около часа назад он был ранен, как раз во время самой интенсивной пальбы. Пуля отбросила его наземь, куртка у плеча тут же набухла кровью. Он попытался сесть, вскрикнул от боли, Виктор, стрелявший чуть в стороне, оглянулся.
– Ранен? Подожди, я сейчас.
Метнулся в сторону и вернулся с санитарной сумкой. Ножом разрезая на Мите рукав, сказал:
– Я еще раньше заметил у одного солдата эту штуку… Ага, вот рана. Повезло тебе, пулька-то шальная, слегка задела. Кровь, правда, хлещет, но это мы сейчас быстро остановим.
Он перетянул жгутом руку выше раны, а потом ловко и умело смазал спиртом, наложил повязку. Было больно, но все-таки Митя с удивлением вспомнил: «Ах да, он же медик! Учился в медицинском институте…» Алеша когда-то рассказывал ему о старшем брате с гордостью. А Уржумов пристроил руку на перевязь, предложил:
– Отойди туда, подальше.
Но Дмитрий не захотел:
– Ты же сам сказал, рана легкая. А кровь уже не идет. Я и левой смогу стрелять.
Но стрелять пришлось недолго, вскоре стало совсем темно. Выставили посты, нескольких раненых постарались уложить удобно. Митя спал плохо, его лихорадило. Но Виктор, который все время был рядом, успокаивал:
– Это нормальное состояние для такого ранения.
Рано утром он еще раз перебинтовал рану, сказал:
– Похоже, нагноения нет. Обойдется.
Митя все ждал начала нового боя, но стреляли где-то далеко. А скоро они услышали со стороны близкой дороги шум, грохот. Посланный на разведку боец прибежал с радостным криком:
– Добровольцы входят! Победа!
В этот же радостный день, 12 июня, Митя узнал, что первыми, еще вчера, в город ворвались дроздовские части. Они прорвали оборону красных у станции Основа и пошли с боем дальше, к электростанции, к центру города. Волна счастливой гордости захлестнула сердце: конечно же, полковнику Туркулу, командиру дроздовцев, был известен план оборонительных укреплений там, на Основе! План, который раздобыл именно он, Дмитрий Кандауров.
11
На улицах города цвели липы. Тонкий медвяный аромат казался настолько густым, что немного кружилась голова. Викентий Павлович очень любил этот запах и это время лета. И всегда восхищался: Харьков такой большой город, столько в нем заводов, фабрик и мастерских, каменные мостовые, каменные дома, трамвай ходит, уже и машин довольно много попадается, а вот поди ж ты – такой зеленый, такой благоухающий! В Университетском саду, на аллеях, можно встретить и крымскую сосну, и рябину, и причудливую японскую софору, и еще много всего. Но самые любимые деревья харьковских улиц все же дубы, березы, каштаны и, конечно, липы.
Викентий Павлович направлялся в здание Дворянского собрания на Николаевскую площадь. Когда несколько дней назад ему офицер штаба передавал приглашение, предложил прислать автомобиль. Но Петрусенко отказался:
– Тут ходьбы-то прогулочным шагом полчаса.
По такой прекрасной погоде, по родным, залитым солнцем улицам отчего же не прогуляться. Тем более что совсем недавно предпочитал, как и вся его семья, не выходить лишний раз на улицу: то режим красного террора, то вообще военные действия… По своей Епархиальной Викентий Павлович вышел на небольшую площадь к Мироносицкой церкви. Усмехнулся: впереди виднелось готическое здание католического костела. Что ж, соседство православных храмов и католического костела отвечало спокойному и доброжелательному характеру города… Петрусенко любил Харьков. Он прекрасно знал его нутро, криминальную глубинку, но, как ни странно, эти знания давали ему ощущения истинной красоты и многогранности родного города.
Короткая улица Гоголя выходила к Театральной площади. Викентий Павлович мысленно по старой привычке называл улицу Кокошкинской. Был такой губернатор в городе в середине минувшего века – Сергей Александрович Кокошкин: красавец лейб-гвардеец, участник Бородинской битвы и, между прочим, коллега, поскольку одно время служил обер-полицмейстером Санкт-Петербурга. В Харькове десять лет губернаторствовал, очень много сделал: осушал вокруг болота, строил дороги и мосты и, да, сажал деревья. Наверняка среди тех, которые сейчас делают улицы такими красивыми и зелеными, есть и его посадки. Сам ежедневно объезжал город, все строительные объекты. Суров был: никому спуску не давал, особенно контролировал полицию. А погиб уже в Петербурге: сенатором был, а все ездил по стройкам, контролировал. Вот на одной, на высоте, и оступился… Жаль, что улицу переименовали: ушло название – постепенно стирается и память о губернаторе. К столетнему юбилею писателя поставили памятник ему на Театральной площади, а улица как раз к памятнику и выходит, вот и переименовали.
Викентий Павлович и вышел к этой площади, пошел по тенистому скверу, протянувшемуся от памятника Пушкину к памятнику Гоголю. В сквере, огороженном красивой кованой решеткой на каменных столбах, было многолюдно. Сидели на лавочках, прогуливались, стояли, разговаривая, группы офицеров, барышень, молодых штатских людей. Столики открытого кафе также были все заняты. Воздух наполнен веселым гомоном, голосами, смехом. И тем же пьянящим липовым ароматом. Прекрасное состояние непрекращающегося праздника! Что ж, это можно понять. Для многих харьковчан добровольцы стали освободителями, это произошло совсем недавно, победа еще будоражила умы. Викентий Павлович и сам радовался, глядя на праздничный город. Но постоянно помнил и о другом: идет война, и фронт ее – совсем недалеко от города.
На выходе из сквера уже открывался вид на Николаевскую площадь и величественное здание Дворянского собрания. Генерал Май-Маевский, командующий Добровольческой армией и главноначальствующий в Харьковской области, радушно поднялся навстречу Петрусенко из-за письменного стола. И пригласил его за другой стол, который адъютант быстро сервировал – коньяк, легкая закуска. Поговорили о том, что скоро прибудет генерал Кутепов, который займется организацией мобилизации в области.
– Нужно существенно пополнить наши ряды, – откровенно рассказывал Май-Маевский. – Призывать будем, конечно, офицеров всех рангов, юнкеров, прапорщиков, вольноопределяющихся. Но придется и штатских обязывать. Уже есть распоряжение насчет учителей, мастеровых, крестьян. Будем брать и пленных красноармейцев, и тех офицеров, которые служили в Красной армии, но не вступали в их партию коммунистов. Пусть искупят свою вину перед Родиной. Надеюсь, многие пойдут к нам по своей воле, станут, так сказать, настоящими добровольцами.
Лицо генерала осветила мягкая улыбка. Он выпил уже третью рюмку коньяка. Викентий Павлович выпил лишь одну, а вторую растягивал, чуть пригубляя. У Май-Маевского раскраснелись полные щеки, он, протирая очки, продолжал говорить с энтузиазмом:
– Мы уже оборудовали пункты записи в армию. Набираем в Дроздовскую дивизию, в Корниловский ударный полк, в Марковские части. И люди идут!
Наконец он заговорил о деле:
– Вас, уважаемый Викентий Павлович, я хочу просить помочь мне в формировании других частей – полицейских. Вряд ли кто-то лучше вас справится! Мы решили, пока не закончатся военные действия, эта служба будет называться «Государственная стража». Два подраздела: военный и гражданский. Военный будет в ведомстве военного и морского управлений. А вот гражданский, в который войдут уголовно-разыскное управление, криминальные и экспертные отделы, – буду очень обязан, если вы, дорогой Викентий Павлович, согласитесь возглавить. Кому, как не вам, ведомы все тонкости разыскного дела! Я могу считать, что получил ваше согласие?
Конечно, Петрусенко согласился. Он шел на эту встречу, представляя, о чем пойдет речь, и не ошибся. Наливая вновь себе коньяку и подливая собеседнику, генерал спросил:
– Я слышал, что ваш близкий родственник, молодой человек, был среди наших подпольщиков? И вел бой в отряде сопротивления, помогая моим бойцам взять город? Это так?
– Да, Владимир Зенонович, верно, – кивнул Петрусенко. – Это мой усыновленный племянник. Был ранен, но не сильно, поправляется.
– Как его имя? – спросил генерал. – Третьего дня у меня будет встреча с этими патриотами. Хотелось бы знать.
– Его зовут Дмитрий Кандауров.
– Я запомню. А вас, Викентий Павлович, приглашаю недели через две на торжественный банкет: прибудет английская миссия наших союзников, будем их чествовать в ресторане «Гранд-отеля». Накануне пришлю вам приглашение.
– Благодарю, – поднялся, прощаясь, Петрусенко. – Непременно и с радостью.
Генерал тоже поднялся, пожимая руку, широко улыбнулся:
– Но это когда еще будет! А сегодня вечером, в девять часов, жду вас с супругой там же, в «Гранд-отеле», на небольшое торжество частного порядка. Пришлю за вами автомобиль.
Вестибюль «Гранд-отеля» был таким же, каким запомнил его Викентий Павлович: кресла в нишах, фикусы, пальмы. А вот лиц знакомых не оказалось: и за стойкой портье, и управляющий, вышедший к ним, и встречавший у входа в ресторан метрдотель – все другие. Казалось бы, не так много, шесть лет прошло, как он вел здесь расследование… Но если в стране нет стабильности, то и людей срывает с привычных мест ветер событий…
Людмила Илларионовна легонько сжала руку мужа, на которую опиралась:
– Это здесь Митя бегал в шапочке посыльного?
– Верно, – улыбнулся он жене, которая знала и помнила все дела, что раскрывал ее муж. И уж конечно, это очень интересное тройное преступление в «Гранд-отеле». – Вот здесь лавировал между медицинскими светилами, которым и в голову не приходило, что служка понимает и по-французски, и по-английски… Только тогда здесь хоть и преступления совершались, но было потише!
В вестибюле было много людей, в основном военные, но и штатские гости тоже. Курили, смеялись, жестикулировали. Атмосфера была совершенно дружеской и неформальной хотя бы потому, что младшие чины не козыряли старшим, просто кивали или пожимали руки. Викентий Павлович увидел кое-кого из давних знакомых, но поговорить не успел – пригласили в банкетный зал.
Через час Людмила Илларионовна спросила мужа:
– Викеша, я так и не поняла, что же мы празднуем?
Он тоже не понял. Когда ехали сюда, думал, что будет отмечаться какое-то событие. Тосты, однако, произносились не конкретные: за белое дело, за Добровольческую армию, за отвагу ее командиров – называли поименно, за поход на Москву, восстановление монархии…
– Видимо, мы все еще пользуемся любым случаем, чтобы отпраздновать харьковское победное лето, – улыбнулся он жене. – Однако расстояние между тостами сокращается слишком быстро, вот уже эмоции перехлестывают.
И в самом деле не так давно прозвучало: «Большевиков и комиссаров в плен не брать!», а вот сейчас подполковник Марковской дивизии громко требовал выпить за то, «…чтоб весь большевистский Совнарком казнить прилюдно на лобном месте на Красной площади!»
К Людмиле подошли две дамы, с которыми она была знакома, увели ее за боковой столик. Вдоль стен было расставлено несколько таких столиков, где можно было уединиться – поговорить приватно или просто передохнуть. Женщинам принесли кофе и печенье, они завели оживленный разговор. А Викентий Павлович вышел в вестибюль, сел на диванчик в нише, раскурил трубку. И тут же поднялся, потому что к нему подходил хорошо знакомый ему человек.
Петрусенко лично знал многих людей, прославивших его родной город. Николай Николаевич Салтыков был одним из них. Выпускник Харьковского университета, теперь он сам преподавал здесь на кафедре теоретической и практической механики. А до этого, еще студентом, опубликовал в Париже свою первую научную работу, которая была замечена и отмечена. Стажировался в Сорбонне, в Лейпцигском университете, получил профессорское звание. Более десяти лет назад вернулся в Харьков, где преподает и проводит изыскания не только по теоретической механике, но и по изучению аэропланов. Сейчас, когда идет подготовка к выборам в городскую думу, не секрет, что именно Николай Николаевич станет ее головой.
– Давно не виделись мы с вами, Викентий Павлович, – сказал Салтыков, присаживаясь рядом. – С четырнадцатого года… да, с похорон незабвенного Павла Ивановича.
Петрусенко кивнул: да, тогда в Настасьевку, на похороны Павла Ивановича Христоненко, съехались многие известные люди, знавшие, дружившие, любившие этого прекрасного человека. Все-таки, наверное, хорошо, что не увидел Павел Иванович свое детище, Настасьевку, отданную под солдатские казармы, не узнал об исчезновении своей любимой коллекции старинных икон…
Сам он узнал об этом в сентябре 1917 года. Был уже вечер, он вернулся домой и сидел у себя в кабинете, когда двое ряженых шумно ввалились к нему. Следом шагнула Людмила, лишь на какое-то мгновение мелькнуло у нее на лице удивление с оттенком испуга, потом она, покачав головой, произнесла:
– Так… Я пошла готовить вам ванну.
Не раз она видела своего мужа в «маскарадных» нарядах, в иных обличиях – было не привыкать. А теперь вот и сын… Викентий Павлович смотрел на Сашу в поддевке и смушковой шапке, на Ивана Христоненко в длинном пальто и кепке. Спросил спокойно и заинтересованно:
– И что, нашли то, чего хотели? – качнул головой: – Нет, вижу, неудачен был ваш поход.
Он сразу понял, что ребята пробирались в Настасьевку, иначе для чего маскироваться. А там, помнится, революционный гарнизон расположился. У Ивана лицо было такое расстроенное… Саша изо всех сил проявлял сочувствие к товарищу, но в его глазах прыгали веселые искорки. Не выдержав, сообщил:
– Я Шурка, сын пекаря! А что, очень интересная профессия, я видел.
– Пока готовится ванна, сбрасывайте одежду и рассказывайте. С самого начала…
Так он узнал и о тайнике, и о спрятанных иконах, и об их исчезновении. Потом Людмила увела ребят мыться, а когда чистые, в банных халатах они вновь предстали перед ним, Викентий Павлович расспросил Ивана Христоненко обо всем подробно. Кто мог знать о тайнике? Никто, горячо утверждал молодой человек. Даже близкие родственники не знали, только члены семьи. Отца нет, мать за границей, значит, один он. Возможно, кто-то из тех строителей, которые тайник оборудовали, высказал предположение Петрусенко.
– Это было давно, – удивился Иван, – да и все они были приезжие.
– Как же давно? Лет пять, дорогой мой, не больше. А время нынче такое: люди на месте не сидят, и в голову им приходят мысли, которые в спокойное время даже б не зародились. Целую страну грабят у всех на глазах, а это, знаешь, развращает. Начинает казаться, что дозволено все.
– Нет, Викентий Павлович, – подумав, все-таки отверг догадку Иван. – Тайник строился с предосторожностями. Те люди, которые ладили тайный замок входа, не знали секрет выхода. Его другие делали, которые, в свою очередь, вход не знали. Но даже и они не знали шифра, которым открывался тайник. Его отец наладил уже самолично.
– Расскажите, – наказал Викентий Павлович.
И Иван подробно рассказал о кленовом листочке среди дубовых, о букве Н кодом Морзе, о входной двери, которая наглухо закрывается за посетителем, и о медальоне с крестом, открывающем выход. Викентий Павлович согласился: нет, при таких хитроумных комбинациях случайность их разгадки исключена.
– Кто-то знал, – задумчиво повторял он вновь и вновь, – кто-то знал!
– Я тоже так сказал! – вставил Саша, нетерпеливо ерзающий в кресле.
Но Викентий Павлович погрозил ему пальцем и пристально посмотрел на Христоненко.
– Давайте, Иван Павлович, вспоминать… Что? Подумайте сами. Где-то, когда-то, кому-то вы все же рассказывали… О Настасьевке? О храме? О тайнике? О коллекции икон? Ну же!
Лицо у Ивана стало растерянным, взгляд заметался, губы дрогнули. «Вспомнил», – понял Петрусенко и внутренне напрягся.
– Ну да, – неуверенно протянул Христоненко, – я говорил одному человеку. Но… – Он отвел со лба влажные после купания волосы, несколько раз моргнул. – Это был хороший человек. – И, заметив ироничное движение бровей Викентия Павловича, быстро добавил: – Но главное, я ничего конкретного не сказал. Только то, что спрятал иконы там, в имении.
– Попрошу подробности! – Викентий Павлович подтянул к себе бумагу и отточенный карандаш. – Самые что ни на есть мелкие и незначительные. Начинай…
– Я говорил вам о нем, господин Петрусенко, еще там, в тюрьме. Степан Смирнов. Он был из заключенных, но работал в больнице. Делал всякую работу, но и за больными ухаживал. И больше всего за мной: и лекарства давал, и гулять водил, и сидел около меня подолгу. Очень меня поддерживал. Один заключенный хотел забрать мой крест, так Степан не дал.
– Пользовался авторитетом у других арестантов?
– Что вы имеете в виду? – Иван покачал головой. – Нет, он не был бандитом, которого все слушают и боятся. Интеллигентный, образованный.
– А за что сидел?
– Я не спрашивал его, неудобно было. Но сам думаю, что он был из политических.
Викентий Павлович с сожалением подумал, что зря он тогда сразу, как только услышал от Христоненко имя некоего Степана Смирнова, убежавшего из тюрьмы в том массовом побеге, не поинтересовался подробно этим типом. Отметил только, что имя, скорее всего, выдуманное. Да ведь и не было у него тогда причин интересоваться Смирновым. А теперь появились? Почему?
– Когда же, Иван Павлович, вы говорили этому человеку об иконах? И почему разговор об этом зашел? Кто его начал?
– Да вот тогда, когда он не дал с меня крест сорвать. Спросил, не из нашей ли знаменитой коллекции этот крест, а я…
– Подождите, – оборвал Петрусенко, – значит, о коллекции он знал?
– Сказал: «Кто же не знает?»
– Так… А дальше?
– Слово за слово, я и сказал…
Саша с увлечением слушал их диалог, и Викентий Павлович видел, что хочет и свое слово вставить. Наконец не выдержал:
– Ваня, ты точно вспомни, почему ты вдруг взял и сказал… «Я спрятал иконы в Настасьевке» – ведь не так же!
– Ну да, Степан спросил: «Как же ты вывез все, не попался?» Я и сказал, что не вывозил, там спрятал, в имении. И все! Честное слово, ничего больше не сказал!
Викентий Павлович прошелся по комнате, стал перед Христоненко.
– Что вы знаете об этом человеке? Точно знаете?
Иван задумался, вспоминая. Пожал плечами:
– Получается, совсем немного. Из дворян. Отец был чиновником, умер. Мать вроде бы учительница.
– Это он сам о себе рассказывал?
– Да, с его слов… Говорил еще, что младший брат погиб на фронте. Вот и все… В шахматы хорошо играл.
…Это происшествие и этот разговор вспомнил Викентий Павлович почти через два года, в гостинице «Гранд-отель», в беседе с профессором Салтыковым. А тогда, в сентябре семнадцатого, он сразу же наведался в тюрьму в надежде разузнать хоть что-то о Смирнове. Но за полтора месяца, прошедших после массового побега, не нашел уже там ни прапорщика Павлова, ни начальника больницы – их обоих в наказание отправили в войска. Другие надзиратели Смирнова помнили слабо, был он спокойным, незаметным заключенным. Так же о нем отозвались и некоторые арестанты, с которыми Петрусенко пообщался: «Да баклан или фраер. Не фартовый, не наш». В документах числилось, что Степан Иванов Смирнов арестован в трактире за участие в драке. Сам он это участие отрицал, случайно, мол, оказался там. Студент Юрьевского ветеринарного института, в Харькове проездом – из Эстляндии в Крым. Документы у него были в порядке, но все же Смирнова задержали – на всякий случай: означенный трактир находился рядом с известным бандитским притоном, а его завсегдатаи подозревались в нескольких налетах с убийствами. И все же Смирнова, наверное, отпустили бы, да только кое-кто из арестованных показал, что и раньше видел этого «ветеринара» в трактире и поблизости. По-настоящему проверить сведения о Смирнове возможности не представлялось – как раз в это время ломалась вся система и власти, и полицейской службы, и почтового ведомства. Его оставили в тюрьме «до выяснения»…
Викентий Павлович тогда подумал: «Потому, видимо, и определили его в больницу, что образование похожее…» Он не был до конца уверен: верно ли обратил внимание на личность Смирнова. Человек этот мог быть совершенно не причастен к исчезновению коллекции. И все же две зацепочки заставляли не забывать о Смирнове. Первая: все-таки именно ему Иван Христоненко сказал, что коллекция осталась в Настасьевке. И вторая… Иван обмолвился, что Смирнов, бывало, и по ночам сидел у его койки, когда поднималась высокая температура, и было так плохо, что впадал в забытье, бредил. Бредил… В бреду больной много чего может сказать и сам помнить не будет… Но Смирнов исчез бесследно, а в октябре семнадцатого вместе с семьей Аркадия Игнатьевича Куликовского Иван Христоненко уехал за рубеж, история с исчезновением икон осталась загадкой. Хотелось бы, чтоб со временем она прояснилась. Но Петрусенко в этом уверен не был.
Из ресторанного зала донеслась музыка: военный оркестр играл вальс. Салтыков легко поднялся, сказал весело:
– А что, Викентий Павлович, не ждут ли нас там? Вы ведь с супругой, как и я? Хотя, конечно, кавалеров там хватает, да еще каких – в портупеях и погонах. А все же пойдемте.
Людмила танцевала с высоким штабс-капитаном, склонила с улыбкой голову, заметив мужа. Ее партнер тоже посмотрел в сторону Петрусенко, просительно покачал головой: мол, не забирайте у меня даму.
Викентий Павлович тоже присел к боковому столику, поднял руку, подзывая официанта:
– Чай на одного, пожалуйста.
– На двоих, – поправил его грубовато-свойский голос.
Викентий Павлович поднял взгляд и не смог удержать удивление:
– Виктор Васильевич, это вы? Вот так явление!
– Действие второе, явление первое, – подхватил крупный мужчина с бакенбардами и усами, усаживаясь напротив.
Это был господин Жаткин, хорошо известный человек не только Петрусенко, но и всему Харькову. Правда, расцвет его славы пришелся на… – Викентий Павлович прикинул – да, лет десять назад. Тогда театральная жизнь Харькова поражала и заезжих иностранцев, и жителей обеих столиц. А расцвела она во многом благодаря этому человеку. Вообще-то Виктор Васильевич Жаткин был купцом первой гильдии, владельцем первой в городе станции электрического освещения и вообще – хватким и удачливым дельцом. Но при этом у него была одна искренняя страсть – он обожал театр. Еще в конце минувшего века построил в Саржином Яру концертный зал «Мавритания» – с рестораном, цыганскими и русскими хорами. Но были там и развлечения не рекламируемые – комнаты для приватных свиданий, азартных игр. Как-то раз именно по поводу происшествия в «Мавритании» Викентию Павловичу пришлось особенно близко познакомиться и пообщаться с Жаткиным. Тогда купец твердо пообещал, что в его заведениях криминальных ситуаций больше не будет. И слово свое держал жестко.
И все-таки «Мавритания» была больше местом развлечения. А вот «Театр-Буфф» в саду Тиволи, открытый Жаткиным через несколько лет после «Мавритании», – это уже только оперетта. Но года через два-три Жаткину и этого стало мало: в 1909 году он купил в саду «Бавария» малый театр – малопосещаемое, убыточное заведение, – вложил в его переоборудование огромные деньги – пятьдесят тысяч рублей. И сделал-таки отличный театр: большой вестибюль с зимним садом, кафешантан с рестораном, большим зрительным залом и прекрасной сценой, для актеров – отдельные уборные-гримерные, каких не было даже в самых известных театрах. В саду построили закрытую летнюю сцену и аттракционы, а чтобы публике удобно было добираться, Жаткин проложил новую улицу, осветил ее электрическими фонарями и пустил по ней одноколейную трамвайную линию! «Вилла Жаткина» – такая надпись появилась на красивой арке в начале улицы, и так стали называть сам театр. В нем уже не ставили, как прежде, гривуазные сценки – теперь это были веселые спектакли с хорошей музыкой, увлекательным сюжетом, сочиняли их известные авторы. Правда, все знали, что, когда в саду «Бавария» закрываются аттракционы, а двери театра выпускают своих последних зрителей, в кафешантане можно было кутить всю ночь, смотреть «фарс» и «кабаре»…
Да, вновь подумал Викентий Павлович, именно в годах десятом-двенадцатом все театрально-ресторанные заведения Жаткина особенно процветали и давали большие доходы. А потом, потом наступают трудные времена, купец разорился, городские власти театр закрыли. Жаткин отстроил рядом с «Баварией» два доходных дома, надеясь пережить кризис, но тут – война… Описан ресторан, продается имущество, опустел сад и аттракционы. Из последних сбережений Жаткин выкупил свой любимый малый театр, начал ставить в нем оперетты. Он ведь сам был хорошим антрепренером, а теперь всего себя посвятил театру. Но нет, ничего его уже не спасло: времена изменились, публика в театр не идет. Жаткин продал свои доходные дома, но изо всех сил пытался сохранить свой театр. И все же где-то в году шестнадцатом имя Виктора Васильевича Жаткина исчезло из списков городских жителей. Бывало, вспоминая его по какому-нибудь поводу, Викентий Павлович думал: какой колоритный человек был, какой мощный и удачливый делец, а вот любил театр как ребенок, все отдал… Пропал театр, и он сгинул. Может, и правда нет в живых?.. А он – вот он: сидит за столиком напротив, веселый, полный энергии. Да, похудел, постарел, но глаза живые, блестящие. Наверняка вновь театр какой-нибудь налаживает, а иначе с чего бы! Спросил, как о чем-то само собой разумеющемся:
– Чем, Виктор Васильевич, развлекать собираетесь наших доблестных освободителей? Опереткой? Кабаре? Варьете?
– Набираю труппу варьете, – кивнул Жаткин и громко засмеялся: – Все-то вы, господин Петрусенко, знаете, обо всем догадываетесь! Приглашаю вас на первое представление, через неделю. В Городском саду арендую закрытый летний павильон, заканчиваю ремонтные работы, труппа уже набрана. Приходите вместе с супругой.
И он встал, кланяясь подошедшей Людмиле Илларионовне. Викентий Павлович представил ей собеседника, и Людмила всплеснула руками:
– Сколько раз слышала о вас, Виктор Васильевич! Я ведь большая поклонница вашего малого театра.
– Может быть, я выкуплю его и сад вновь обустрою… – У Жаткина влажно заблестели глаза, он покачал головой. – Кто знает, как все обернется… Позволите ли, Викентий Павлович, танец с вашей супругой?
Музыка уже играла, и Жаткин, подхватив партнершу, виртуозно повел ее по кругу. «Отлично танцует, – думал Викентий Павлович, глядя на них. – Всю жизнь среди танцующих актеров… Мечтает возродить малый театр. Ну-ну…»
А следующий танец Викентий и Людмила кружились вместе – легко, слаженно. Они оба любили вальс.
12
Подпоручик Кандауров щелкнул каблуками и отдал честь, войдя в кабинет начальника гражданского отдела Государственной стражи. Он верноподданнически таращил глаза, но губы предательски расплывались в улыбке.
– Вольно! – скомандовал полковник Петрусенко, приобнимая племянника за плечи. – Ты по делу или мимо пробегал?
– То и другое, – ответил Дмитрий, усаживаясь в кресло напротив стола дяди. – Кое-что проверял в архивах, но и у тебя хочу узнать… Что-то уже известно по пропажам со складов?
– Не слишком много, – Викентий Павлович пожал плечами. – Следствие было бы несложным, да только военные сами препятствуют, словно не хотят, чтобы все раскрылось.
В городе было много складов с продовольствием и другими товарами. Красноармейцы до последнего надеялись удержать город, а потом оставляли его впопыхах, добровольцы вошли стремительно… Склады оказались не тронутыми. Новые правители города тотчас их реквизировали – для нужд армии и городского населения. И очень хорошо пополнили: когда, вскоре после взятия Харькова, приехал генерал Деникин, его поезд привез несколько вагонов с крупами, сахаром, спиртом, мануфактурой… Это было в июне. Уже в августе выяснилось, что склады невероятным образом пусты более чем наполовину. Доложили коменданту города, тот поручил разобраться ведомству Петрусенко.
– А что, Управление юстиции при штабе главнокомандующего этим тоже интересуется?
– Да вот, заинтересовалось. Мы ведь занимаемся и вопросами военного правопорядка, и восстановлением органов государственного управления. А тут, с одной стороны, злоупотребления в делах городского хозяйства, с другой – якобы военные замешаны. Да и ты сам сказал: военные препятствуют?..
– Что тебе сказать, Митя… Начальники складов предъявляют документы на получение товаров для самых различных военных подразделений. При этом уверяют, что офицеры забирали раза в три больше указанного – по личному распоряжению командующего либо его заместителей. Как будто даже под угрозой оружия. При этом некоторые отпускные документы – явно подделка. Казалось бы, чего проще проверить, провести расследование – есть методы… Но нет, военное руководство ни о каких расследованиях слышать не хочет, предлагает верить офицерам на слово. Те же утверждают: товары получали строго по документам. Значит, виновны держатели складов, по закону нужно отдавать их под трибунал – время военное. Ясно, среди них тоже разные люди попадаются. Но не все же! А мои агенты докладывают: в городе на каждом шагу идет спекуляция. Чем? Сахаром, крупами, спиртом, мануфактурой…
– Правда, совершенная правда! – Митя возмущенно стукнул кулаком о ладонь. – Это же нелепость, люди так ждали прихода белой армии, как встречали! И что же? При большевиках и то спекулянты боялись бесчинствовать, а нынче просто вакханалия какая-то, весь город ими заполнен! Дядя, ты ведь вхож в штаб генерала Май-Маевского. Может, генерал не знает о том, что в городе творится?
Викентий Павлович печально улыбался, слушая племянника. Он прекрасно знал, что город отдан на откуп мародерам. Не специально, конечно, такой цели никто не ставил. Вот только жизнь в тылу затянула офицерство, как болото. Фронт, бои, смерть, лишения, отчаянная храбрость, сжигающая душу ненависть к противнику… И вдруг – прекрасный город, толпы ликующих, встречающих освободителей людей. Да, Митя недаром вспомнил, как входили парадным маршем по Екатеринославской Добровольческие дивизии, как осыпали их цветами с балконов, как распахнуты были для офицеров-храбрецов двери домов, кафе и ресторанов. У всех кружились головы… Продолжают кружиться и нынче. Теперь уже не только от радости и возбуждения, но, увы, все больше от винных паров. Поначалу казалось: разве не достойны боевые офицеры отдыха, праздника хотя бы ненадолго? Но праздник затягивался, превращаясь в кутежи и чуть ли не оргии. Для этого нужны деньги, где они добываются? Уж не на реквизированных ли складах, через сбыт товаров спекулянтам? Дельцы всех мастей, от мелких рыбешек до зубастых акул, всегда появляются в подобном болоте, всегда знают и чуют, где можно вынырнуть. Но полиция – или, как сейчас говорят, «стража» – может с этим бороться, если власть заинтересована в порядке. После того как генерал Май-Маевский назначил его, по сути, главным стражем порядка, Викентий Павлович несколько раз обращался к нему лично и письменно, всегда получал вежливые обещания помощи и непременные приглашения на очередной банкет. Этим все ограничивалось. И очень скоро он понял: эту власть по-настоящему интересуют только военные сводки. Тем самым, был убежден Петрусенко, добровольцы признают, пусть даже сами того не сознавая, что они – власть временная.
– Все дело в том, Митя, – ответил он племяннику, – что генерал и не хочет ни о чем подобном знать. С одной стороны, фронт ведь рядом, сам знаешь: бои под Гайвороном, километров сорок отсюда. И это – постоянная его тревога. При том, что совершенно необъяснимое ощущение Харькова как глубокого тыла разъедает умы и души офицерства. Да ты и сам видишь, что делается… Хорошо, дорогой, что мы с тобой люди трезвые и выдержанные.
– Знал бы ты, как трудно отказываться от приглашений на «дружеские пирушки». Не всегда получается.
– У меня тоже, – кивнул Викентий Павлович. – Особенно когда зовут на банкет к высокому начальству.
– А что, дядя, – Митя бросил взгляд на дверь кабинета, словно собирался сказать что-то крамольное, – правда ли, что Владимир Зенонович сильно подвержен спиртному? Я не раз слышал, говорят об этом.
Викентий Павлович долго молча смотрел на племянника.
– Владимир Зенонович по-настоящему хороший человек, – сказал наконец. – Личную храбрость еще в Японскую войну проявил. В Немецкую командовал полком, бригадой, дивизией, орденами награжден, золотым оружием!.. Не постеснялся в Добровольческую армию рядовым пойти, правда, ненадолго – генерал Деникин его всегда отмечал за преданность монархии, смелость и скромность, за то, что интригами не занимался. А вот поддался алкогольному недугу, и видишь сам, что происходит. Увы, деградирует генерал Май-Маевский, боюсь, не сможет остановиться. Я сейчас, если не могу отказаться, иду на банкет без Людмилы Илларионовны. Последний раз вместе с ней был на банкете в «Метрополе», где отмечали присвоение звания генерал-лейтенанта Шкуро, да и то исключительно из-за того, что тогда пела Надежда Плевицкая. Великолепное исполнение романсов, ее еще государь очень любил… Да, невоздержанность в питье начальника провоцирует и подчиненных. И потом – эти восторженные дамы, хлопающие водку рюмками, хохочущие, лезущие обниматься… Увы, Митя, это не слухи, все так и есть.
И, стараясь свернуть неприятный разговор, иронично закончил:
– Моя служба все больше по грабителям да налетчикам работает. Здесь нам препятствий нет, да и веселей это. Хотя, признаюсь, не так и много у нас работы. Побаиваются бандиты шустрить: они с ножами да ломиками, а кругом в домах на постое офицеры, все при оружии. И по улицам наши доблестные защитники все ночи гуляют, а иногда и постреливают с веселого настроения.
– А об этом помнишь? – советнике Хлыста, Скуле, ничего не слыхать? – спросил Дмитрий. – Не объявлялся?
– Нет… Хотя сейчас самое время для такого затейника. Может, как раз среди тех, кто почти легально скупает антиквариат, золото, драгоценности? А, может, давно убрался из города. Или вообще из жизни, как мы предполагали. Кто знает…
– Я, дядя, на фронт просился, – сказал после паузы Дмитрий. – У полковника Штейфона. Его штаб не в Харькове, в Золочеве расположен, а там уже и бои рядом идут, белозерцы держат фронт. Он приезжал на днях в главный штаб, вот я и поговорил с ним.
– И что Борис Александрович? – осторожно спросил Викентий Павлович, чувствуя, как замерло, а потом быстро заколотилось сердце. Он понимал, что Митю не удержишь, и готов был поддержать его, но все же, все же…
– Полковник сказал: «Вы, господин Кандауров, не строевой офицер. Конечно, им можно быстро стать, но оставайтесь лучше на своем месте. Армии нужны не только боевые офицеры, но и честные, толковые офицеры-юристы. Армия ведь тоже государство». Вот тебе почти дословно его слова.
Петрусенко незаметно для племянника перевел дыхание, спросил:
– Значит, запомнил тебя полковник Штейфон?
– Да, он ведь представлял нас с Виктором генералу, тогда, в первые дни.
Викентий Павлович проводил Дмитрия до двери. Надев фуражку, тот вновь козырнул, белозубо улыбаясь. В отличие от своих родственников Митя был высок, кареглаз, темноволос, на матово-смуглом лице легко вспыхивал румянец. Он был очень похож на своего рано погибшего отца – Владимира Кандаурова… Петрусенко смотрел, как племянник шел по длинному коридору – стройный, подтянутый, в хорошо подогнанной форме. «Отличный офицер получился из мальчика, – подумал с нежностью. – Не боевой… Прав Штейфон, этому быстро можно научиться. А уж Митя, если за что-то берется, всегда результат лучшего качества. И все-таки у него другой талант. И адвокатом умелым был, и сейчас как о юристе только хвалебные отзывы. И как специалист разыскного дела сумел несколько раз прекрасно себя проявить, уж я-то знаю… Спасибо генералу Май-Маевскому, что направил Дмитрия в Управление юстиции. Верно, это как раз Штейфон представлял его и других подпольщиков. Надо же, «подпольщик»! Я, конечно, догадывался…»
В последних числах июня, через две недели после вступления Добровольческой армии в Харьков, генерал Май-Маевский знакомился с теми, кто, невзирая на режим красного террора, всеми силами помогал освободителям. Митя сам впервые увидел этих людей – десятка два мужчин и женщин самого разного возраста, от юношей до старух, хотя, конечно, большинство – молодые мужчины. Были не все подпольщики: боевые группы представляли командиры, как, например, Виктор Уржумов или два командира стрелкового полка. Полковника Штейфона Дмитрий, конечно, знал как одного из руководителей белой армии и освободительных войск. Только сейчас с восхищением он открыл для себя, что именно Борис Александрович Штейфон налаживал в городе подпольную работу и руководил ею уже из штаба армии! Как радостно было сознавать, что этот геройский офицер – земляк-харьковчанин и что дядя Викентий Павлович лично с ним знаком.
Полковник Штейфон представил сначала корниловца Александра Долгополова – разведчика, засланного со специальным заданием курировать подпольную сеть. Через него шли в город распоряжения и задания, от него в штабе получали сведения.
– Это руководитель нашей с тобой группы, – шепнул Мите Виктор Уржумов, стоящий рядом. – Я постоянно с ним держал связь.
Высокий, с тонкими чертами лица и пылающими от волнения скулами, разведчик очень понравился Мите. «Молодой, немного старше меня, – думал он. – Смельчак. Какие все чудесные люди!»
Полковник называл всех поименно, добавляя несколько слов характеристики, генерал Май-Маевский каждому жал руку, благодарил. Так Митя узнал, что интеллигентная старушка, бывшая актриса городского драматического театра, талантливо изображала крестьянку из пригородного села и работала уборщицей в столовой для красных бойцов. Эти самые бойцы относились к ней по-доброму, называли «мамаша», давали гостинцы «для внучков». Улучив момент, она подсыпала в большую кастрюлю отравы, отправив на тот свет больше десятка красноармейцев. Она их не жалела: все, чем она жила, что любила, весь ее мир был растоптан этими людьми. Никто не заподозрил жалкую полуграмотную бабку, в ЧК до смерти запытали повара и официантку, их, честно служивших большевикам, ей тоже не было жаль… Мальчик-подросток и девушка оказались братом и сестрой, детьми арестованного за саботаж работника телеграфа. Они сумели узнать, что над отцом чекисты сильно издевались, а потом убили. В позднее время они вдвоем ходили по городу, часто под видом слепой и поводыря. Когда на пустынной улице встречали патруль или просто военных – расстреливали в упор. Их не интересовало, подходят к ним, чтобы помочь или чтобы обидеть, сразу начинали стрелять…
О нем полковник Штейфон сказал:
– Патриот вместе с перешедшими на нашу сторону стрелками освобождал заключенных из подвалов ЧК, до последнего, раненный, держал с друзьями оборону в тылу. Юрист, в прежние годы помогал своему родственнику, нашему новому начальнику гражданской Городской стражи и всеизвестнейшему следователю господину Петрусенко.
Генерал задержал руку Дмитрия, улыбнулся, склонив голову:
– Не уходите сразу, господин Кандауров, поговорим.
Виктор стоял рядом вытянувшись, не сводя с генерала глаз. Полковник положил ему руку на плечо:
– Господин Уржумов отлично действовал в подполье. Его боевая группа совершала успешные нападения на учреждения противников, на ночные патрули. Именно через него был получен план главного оборонного укрепления на подступах к городу и сведения о других подобных точках. Достоин всяческих похвал.
У Дмитрия горячо полыхнули щеки: сейчас Виктор скажет генералу, что план сумел раздобыть именно он, Кандауров! Пока Май-Маевский пожимал Уржумову руку, благодарил, обещал заслуженную награду, Митя все ожидал: вот, сейчас… Но генерал уже прошел дальше, а Виктор стоял, продолжая улыбаться, не глядя в его сторону. Не то чтобы Дмитрий хотел славы, но ведь это была правда! Сам бы он непременно назвал имя друга, как же иначе. Но, может быть, сейчас это не к месту? Виктор просто не стал задерживать внимание генерала, его ведь ожидали другие подпольщики…
Как и просил генерал, Дмитрий остался в комнате после того, как все покинули ее. Но и Уржумов не вышел, стал рядом с Кандауровым, и Митя поспешил сказать:
– Господин Май-Маевский, Виктор Уржумов мой давний друг. Если б не он, я бы не оказался в подполье. Мы все делали вместе…
– Прекрасно видеть и такую дружбу, и таких прекрасных, преданных нашему делу отважных молодых людей. И образованных, не так ли? Вы, господин Кандауров, как я понял, юрист? А вы…
– Виктор Уржумов, – щелкнул тот каблуками. – Я медик.
– Отлично, – обрадовался командующий, – нам в армии очень нужны образованные офицеры. Вы, надеюсь, вольноопределяющиеся?
– Так точно! – ответили оба одновременно.
– Ну что ж, считайте, что выдержали экзамен на офицерское звание – своей отважной подпольной работой и участием в боевых действиях. Каждому из вас присваивается звание подпоручика. Вы, господин Кандауров, направляетесь мною на службу в Управление юстиции при Особом совещании: здесь, в моем штабе, есть его отделение. Вы же, господин… Уржумов, будете полезны в военно-санитарном ведомстве. Да, именно. Там как раз не хватает офицеров с медицинским образованием…
– Как удачно все сложилось! – радовался Виктор, когда они спускались на улицу по широкой мраморной лестнице Дворянского собрания. – Мы – офицеры при службах штаба! Думаю, можно уже форму заказывать! Есть у меня на примете отличный портной…
Митя растерянно молчал. Честно говоря, он думал о фронте, но, возможно, генерал прав: в Управлении юстиции от него будет больше пользы. Но еще его занимала мысль: отчего Виктор промолчал? И даже сейчас не пытается объяснить это молчание? Смеется, радуется, болтает… Искоса поглядывая на веселого приятеля, он нашел единственное объяснение: Уржумов так всем возбужден, что просто забыл…
Викентий Павлович и Митя присели на свою любимую скамейку немного отдохнуть. Они уже обрезали большими садовыми ножницами сухие ветки липы, двух небольших яблонек, кустов жасмина и сирени, замазали надрезы варом, оставалось только побелить стволы. Кисть и ведро с раствором извести стояли рядом. Дядя и племянник сидели, наслаждаясь прогретым солнцем днем – может быть, последним таким теплым и светлым. Людмила Илларионовна и Саша граблями убирали сухие листья, Катюша присыпала опилками перекопанную землю под розовыми кустами. В середине октября деревья уже сбросили листву, сквозь ажурное переплетение ветвей солнце светило прямо в глаза. Они все очень любили время работы в своем маленьком саду – весной и осенью, делали это вместе, всей семьей. Вот и теперь выбрали именно воскресный день, когда у Саши и Кати не было занятий, а Викентий Павлович и Митя не пошли на службу.
Саша с матерью и сестрой перебрасывались веселыми репликами, смеялись, но Людмила Илларионовна потихоньку бросала взгляды в сторону скамейки. У мужа и Митеньки лица невеселые… Ну, у Викентия скорее философски-задумчивое, а вот Митя явно расстроен, брови хмурит. Она, конечно, понимает, в чем дело, еще бы. Начало лета многим показалось началом возрождения: кончился кошмар переворотов, страха, ломки привычной жизни, кровавых расправ. Все наладится, все вернется. Даже люди, прожившие жизнь, и те поверили, а уж молодежь… Лился колокольный звон, играла музыка, свадебные кортежи проносились по центральным улицам: девушки Харькова всегда считались первыми красавицами, а тут столько молодых бравых офицеров! Заработали, слава богу, учебные заведения, у детей начались занятия – в институте у Саши и у Катюши в гимназии. И на фронте армия наступала, были взяты Курск, Орел, вышли на земли Тулы. Казалось – еще последнее усилие, и генерал Деникин въедет в Москву впереди своих доблестных добровольцев… Так было совсем недавно, в первых числах октября. Две недели всего прошло, но как все изменилось!
Викентий Павлович и Дмитрий говорили об этом же.
– Отступают! И корниловцы, и дроздовцы, и марковцы, все отдают, что взяли! Уже и Курск сдали, что же теперь, Харьков?
– Боюсь, дорогой мой, не только Харьков.
– Что ты хочешь сказать!
Митя задохнулся, не находя слов, но под прямым взглядом дяди сник, закусил губу. Помолчав, спросил упрямо:
– Но почему же? Объясни, у тебя ведь такой аналитический ум. И дело наше правое, и армия мощная, и наступление разворачивалось так удачно?..
– Здесь, Митя, все очень сложно, – ответил Петрусенко. – И, поверь, еще долго до конца разобраться будет трудно. А сейчас тем более – слишком все близко, на глазах… У меня нет всех фактов, всей картины, чтобы делать выводы.
Он замолчал, Митя тоже молчал, чувствуя, что дядя не все сказал.
– Но я могу тебе назвать первопричину, – продолжил Викентий Павлович. – Тебя мои слова ранят, я знаю. И все же… Начало всем несчастным событиям, а значит, и нынешним, было положено отречением царя.
– Ты несправедлив! – Дмитрий вскочил, но, поймав взгляд повернувшейся на возглас сестренки, снова сел. – Государь хотел спасти страну, примирить всех. А его… и детей… ненавижу, никогда не прощу!
– Как ни горько, но и эти смерти тоже результат отречения. Я любил Николая Второго, знал его, встречался лично…
– Я тоже встречался с ним, – тихо, почти шепотом, произнес Митя.
Он вдруг так ясно увидел далекое лето, когда ему было семнадцать, Ливадию, императорское имение… Он работал на Байдарском перевале. Здесь, на этом перевале, много лет назад погибли его родители – отец, инженер по строительству дорог, и мама… Прокладывалась дорога через перевал, но однажды сошел страшный оползень, погребая домики строителей. Мите тогда было восемь лет, его взяла к себе семья дяди. А в семнадцать лет узнал, что строительство дороги через Байдарский перевал продолжилось, и решил закончить дело, начатое отцом. Рядом, в Ливадии, тоже заканчивалось строительство Большого дворца, ожидался приезд государя, все об этом говорили, и Митя поехал туда. Государь подошел к рабочим поблагодарить их. И положил руку на плечо ему, Мите, и поговорил с ним…
– Я помню, дядя, у него были такие добрые глаза, такой голос! Не мог государь решиться пролить кровь своего народа, думал, что отречение остановит распри.
– И все же, – Викентий Павлович вздохнул, – император должен был вспомнить исторические примеры и сделать выводы.
– Какие примеры?
– Забыл? Я напомню. Людовик Шестнадцатый тоже был человеком доброго сердца, не мот и не гуляка, любил только жену, столярничал, карты чертил, кузнечным делом занимался. И поддавался постепенно, уступал позицию за позицией тем, кто потом его казнил. Сначала соглашается на созыв Генеральных Штатов, потом, когда взяли Бастилию, утвердил декрет об отмене феодальных привилегий, согласился с конституцией, придуманной бунтовщиками. Но вот, казалось бы, решился воспротивиться, стал стягивать к Версалю войска – тридцать полков, большая сила. Но… команды не давал, боялся, как ты говоришь, пролить кровь народа. И что в итоге? Кровавый Конвент, залитая кровью гражданской войны Франция. А не соглашался бы, да проявил стойкость, да дал отмашку войскам – окончил бы свой век на троне в спокойной стране. Не согласен?
Митя молчал, упрямо сжав губы. Они уже были не одни: на скамью присела Людмила Илларионовна, Катя и Саша стояли рядом, все слушали. Викентий Павлович смотрел на них, слегка улыбаясь.
– Вот другой пример. Может быть, для кого-то декабристы герои, но для истории они – мятежники. Дорвались бы до власти, залили бы кровью Россию со своим Манифестом, свержением монархии. Заметьте: они начали первыми убивать – героя Отечественной войны, любимца солдат генерала Милорадовича! И до царя добрались бы, уж очень неистовые были господа… Но император Николай Первый приказал расстрелять их на Сенатской площади из орудий, картечью, сам командовал. И спас державу.
– Ты не можешь по-другому думать, дядя, ты всю жизнь посвятил охране интересов империи.
– Митя, ты насмехаешься над этим? – всплеснула руками Людмила Илларионовна.
– Нет, Люсенька, он совершенно прав. – Викентий Павлович обнял одной рукой жену, второй – племянника. – Я ведь и в самом деле «царский сатрап», а слово это на древнеперсидском означает «хранитель царства». Разве можно этим оскорбить? Но я не об этом… Поверь мне, дорогой, – многое изменится в нашей жизни, и очень скоро.
– Что ж, я понял тебя. – Митя, казалось, успокоился, голос у него был ровный, безжизненный, словно он уже все для себя решил. – Но я не останусь здесь, я уйду с добровольцами.
Рано утром эшелон, увозивший штаб генерала Май-Маевского, должен был уйти с Южного вокзала. Управление, в котором служил Дмитрий, эвакуировалось тоже с этим составом. Командующий, как и положено капитану тонущего корабля, тянул до последнего, до самого конца ноября. А эти последние дни город был охвачен паникой, хаосом: не работал городской транспорт, не функционировал телефонный узел, и от этого связи с частями, которые еще как-то держали оборону, не было. Красные войска кое-где уже вошли на окраины. Только марковцы в северной части и корниловцы в центре города еще отчаянно сопротивлялись, хотя и несли большие потери.
Вещи офицеров загрузили в вагоны еще с вечера. Саша долго искал пролетку – это оказалось не просто, все были нарасхват, – нашел, и всей семьей поехали провожать Митю. В тупике, где стоял уже подготовленный эшелон, было много военных, офицеров и рядовых, в вагоны заносились и личные вещи, и ящики со штабными документами, и оружие, и продукты… Митя соскочил с пролетки, пошел вдоль поезда, отыскивая нужный вагон, но его сразу окликнули:
– Кандауров, давай сюда, подъезжай ближе!
Это был Виктор Уржумов. Он стоял рядом со своими вещами – несколькими чемоданами и баулами.
– Мы с тобой в одном купе. Выгружайся, сейчас подойдут солдаты, помогут нам все занести.
Из вещей у Мити был походный заплечный мешок и средних размеров чемодан – Людмила Илларионовна уговорила его взять некоторые теплые вещи, кроме тех, что были на нем.
– Мы же отправляемся на юг, там тепло, – покривил губы в улыбке Митя.
Он хотел пошутить, но ирония оказалась горькой. Но тетю обижать не стал: взял теплый свитер, вязаные носки, шарф и шапку.
Викентий Павлович мельком глянул на чемоданы Уржумова – три больших, даже на вид тяжелых, да еще два баула, да кожаный саквояж в руках у самого Виктора. Тот уловил мимолетный взгляд, широко улыбнулся:
– Не могу расстаться с любимой библиотекой, эти книги еще отец собирал. Боюсь, господин полковник, пожгут их здесь завоеватели.
Викентий Павлович много раз слышал рассказы племянника о его друге, но встретился с Уржумовым впервые. Пожал молодому человеку руку, сказал:
– Хорошо помню вашего брата Алексея.
– Да, – Людмила Илларионовна тоже ласково взяла Виктора за руку. – Чудесный юноша был Алешенька, Митя так переживал его смерть, и мы вместе с ним. Я рада, что вы подружились, стали соратниками. И особенно рада тому, что рядом с Митей будет такой друг. Мальчики, будьте вместе!
Многие офицеры располагались на ночь уже в купе поезда, Виктор тоже сказал:
– Я уже попрощался с матерью, зачем возвращаться? Лишние слезы… Так что ночую здесь.
Митя растерянно посмотрел на родных: они предполагали отвезти вещи и вернуться. Викентий Павлович кивнул:
– Сделаем как решили. Эта же коляска отвезет тебя утром сюда, я договорился с хозяином. А ночь проведем вместе, дома.
– Поезжай, – махнул рукой Уржумов, который слышал разговор. – За вещи не беспокойся, я остаюсь при них.
Ночью в доме Петрусенко никто, конечно, не спал. Все собрались в гостиной. Электричество, как ни странно, отключено не было, но Людмила Илларионовна зажгла только ночной светильник и плотно завесила окна.
– Не надо привлекать внимание, – сказала она, и все согласились.
Говорили обо всем, но и главной темы не избегали. Викентий Павлович не собирался отговаривать Митю, понимал – это бесполезно. Жена, не сумев удержаться, сказала дрогнувшим голосом:
– Ты делаешь ошибку, Митенька! Разве война для тебя? Это сейчас кажется: все безвозвратно плохо, все рушится, а время пройдет – совсем немного, – жизнь наладится, каждому найдется дело…
У Викентия Павловича защемило сердце. Показалось: вдруг Митя поймет такие простые слова. Но Митя покачал головой, посмотрел упрекающе:
– Что же, тетя, ты думаешь, большевики придут надолго? И ты, дядя, так думаешь?
– Да, – ответил Викентий Павлович, – теперь я в этом уверен.
– Может, скажешь – навечно!
Митя пытался сдержаться, но злость и обида звенели в голосе. «Совсем мальчишка», – подумал с нежностью, но ответил твердо:
– Вечного, мой милый, ничего не бывает. Nil permanent sub sole…
– Ничто не вечно под солнцем, – быстро перевела сидящая на диване Катя и, закусив губу, ткнулась лицом в плечо матери. Глаза ее были полны слез.
– Верно, детка. – Викентий Павлович улыбнулся и вновь посмотрел на племянника. – Но эта власть придет надолго. А значит, станет войну заканчивать…
– С нами, между прочим, с белой армией!
– Да, с вами. А потом станет страну отстраивать, жизнь налаживать…
– Какую жизнь?
Митя даже вскочил, но Викентий Павлович положил ему руку на плечо, и он подчинился, сел.
– Другую жизнь, ты прав, во многом другую. Но теперь она будет и нашей.
– И ты будешь с ними работать?
– Уже работал, если ты помнишь. Вместе с тобой. И неплохо получалось… Видишь ли, милый мой, в дни великих потрясений простой, обыкновенный человек – обыватель, так сказать, – становится особенно уязвим и беззащитен. А разные подонки, бандиты, мошенники лезут из всех щелей. Наша с тобой задача – защитить от них людей. Все равно при какой власти.
– Твоя, дядя, задача, твоя. Моя теперь другая.
Они говорили, а Викентий Павлович незаметно поглядывал на Сашу. Он видел, что и Людмила тоже бросает на сына тревожные взгляды. Саша с детства старался делать все, «как Митенька». Старший брат был для него образцом для подражания. В одно лето напросился с Митей на археологические раскопки под Херсоном, а когда через год Дмитрий уехал без него строить дорогу через Байдарский перевал, страшно был обижен на всех. Сейчас молчит, но не задумал ли чего? Авантюрная жилка у мальчишки есть, вон с Иваном Христоненко целую операцию разработал… Но в какой-то момент Саша потихоньку встал из-за стола, где он сидел с отцом и братом, пересел на диван к матери и сестренке. Обнял Людмилу за плечи, улыбнулся так… Да, словно проговорил: «Не бойся, мама, я вас не оставлю». И подмигнул ему, отцу. Что ж, взрослый парень уже, умный. Как-то незаметно вырос…
Пролетка подъехала еще затемно, часа в четыре. Все вышли на крыльцо, последний раз обняли Дмитрия. Когда экипаж свернул с Епархиальной на Бассейную, Катя тихонько спросила:
– Он вернется?
«Не уверен», – хотел ответить Викентий Павлович, но его опередила Людмила:
– Вернется, вот увидите.
13
– Викентий Павлович, ушла банда! На Москалевку!
Андрей ввалился в кабинет, только сдернув шапку с головы, – в распахнутом полушубке, с кобурой, с повязкой на рукаве. Такие красные повязки с надписью «Харьковская советская милиция» появились год назад, с февраля 1919 года, когда после петлюровцев в городе на полгода установилась власть большевиков. Теперь, в феврале 1920-го, официально учрежденной милиции еще не было – Советы только начинали возрождать городские учреждения и службы. И тот отряд красноармейцев, который, как мог, пресекал грабежи, налеты, нападения, вновь надел такие повязки.
Петрусенко поднял голову.
– Отдышись, – сказал он молодому парню, – разденься и садись. Сейчас прикинем, что к чему.
Сняв полушубок, Андрей опустился на стул перед столом, заваленным папками с бумагами, длинными узкими ящичками-картотекой.
– Досада какая! – Он все еще не мог успокоиться. – Уже морды их видели! Стрелять можно было в упор, да живыми хотели взять, а они свернули в какую-то кривую улицу – и как сквозь землю провалились!
– Да, – Викентий Павлович ностальгически улыбнулся, покачав головой, – на Москалевке таких кривых улочек хватает. Вы их еще не знаете, а этим, значит, они знакомы… Кто там у нас из прежних налетчиков-москалевщиков?
Он подтянул к себе один ящичек, стал перебирать плотные картонки с надписями.
– Та-ак, вот трое есть, из тех, кто жив и может быть в городе… Попов, Свирько, Кожарь. Скажи, где вы беглецов потеряли? На какой улице?
– Так там нет никаких табличек с названиями! Я могу показать, там еще мыловарня была, дым из трубы шел, значит, работала. Вот за нее они свернули, потом еще раз – и пропали.
– Это мыловарня Ларкина, – кивнул Петрусенко. – В самом конце Рыбасовской. Получается, что свернули бандиты на Моечную улицу. И там, говоришь, исчезли? А следы?
Андрей махнул рукой:
– Да телеги там из снега болото сделали, мы вон сами еле выбрались. – Показал на грязные сапоги. – Не разобрать никаких следов.
– Ничего, – успокоил парня Викентий Павлович и поднял одну из карточек, – вот этот субчик, Кожарь Михайло, живет как раз на Моечной улице. Может, конечно, и совпадение, но думаю, что нет. К нему в дом банда и свернула. Вы покрутились там и ушли, это даже хорошо. Бандиты знают, что милиция нынче вся из новых да неопытных. Ты не обижайся, так ведь и есть. Они вас не слишком боятся.
– Знали бы они про вас!
Андрей широко улыбнулся, Викентий Павлович кивнул, соглашаясь:
– Да, я сижу тихонько в кабинете, карточки перебираю…
– Так мы их сейчас загребем!..
– Подожди. – Петрусенко жестом остановил подскочившего сотрудника. – Если мы не ошибаемся и они у Кожаря, то уйдут рано утром. Отдыхать будут да приглядываться. К полуночи совсем успокоятся, тогда и будем брать. Хорошо продумать надо операцию, банда эта, сам знаешь, отчаянная.
Андрей был из тех двоих ребят, с которыми Викентий Павлович начинал работать в «народной милиции» еще в семнадцатом году. Оба ушли на фронт, когда Харьков сдавали немцам, Алексей и сейчас воевал. А вот Андрею вновь довелось брать Харьков, и он сам попросился в милицейский отряд – очень ему запомнилась наука «господина-товарища» Петрусенко. Викентий Павлович смотрел на парня – крепкого, смуглого, с шапкой темных кудрявых волос, упрямыми глазами, – думал о том, что тот смел, очень неглуп… Учиться ему надо. Да Андрей и сам это понимал, сказал недавно: «Я хочу, как Дмитрий, ученым быть. Вот увидите, в институт пойду! Подучусь, конечно, для этого. Я слыхал, в Москве уже есть для нас такие специальные курсы, называются «рабочие факультеты». Значит, будут и в Харькове…» Викентия Павловича тронуло упоминание о племяннике, он помнил, что еще тогда, в семнадцатом, для Андрея Митя стал и другом, и образцом. Вот и сейчас Андрей словно прочел его мысли, сказал вдруг:
– Эх, не хватает нам в группе Митрия. Не понимаю, зачем он так!..
Викентий Павлович не скрывал того, что Митя ушел с Добровольческой армией. Не стал скрывать этого и от товарища Сергеева – Артема.
В городе заново устанавливалась советская власть. В первый ее месяц, в январе, стояли лютые морозы, наступил продовольственный кризис, отключалась электростанция, не хватало дров и угля. Дровяные рынки стихийно возникали прямо в центре города, очереди выстраивались с ночи, цены заволакивали тоской глаза людей, и все равно дров не хватало. Убивали, грабили, взламывали квартиры и дома чуть ли не среди дня. Банды были небольшие, по два-три человека, но жестокие, да и не боялись ничего – отпора им не было. Большевики собрали свой пленум, на него приехал из Донбасса и Артем – он руководил этим очень важным краем, где нужно было срочно восстанавливать добычу угля. Прислал приглашение Петрусенко на встречу. Да, это снова была гостиница «Метрополь», но только встретились они на этот раз в номере, который занимал Артем. Пожали друг другу руки, как старые знакомые.
– Я вечером уезжаю, – сказал Артем, – в Донецке много неотложных дел. Но и вам помощь окажем – углем, продовольствием. Трудно, но месяца через два-три, увидите, станет легче. Будем восстанавливать, а потом и поднимать хозяйство. Народное хозяйство.
– Значит, я вам нужен?
Артем кивнул, улыбнувшись.
– Бандиты в городе хозяйничают, сами видите. Наших патрулей они не очень боятся, те ведь не знают, как с ними воевать. А вы знаете, товарищ Петрусенко.
«На этот раз он не стал спрашивать, как ко мне обращаться, – подумал Викентий Павлович. – И он прав. Теперь и, похоже, навсегда я буду «товарищем». Хорошее, в общем-то, слово…»
– Очень скоро у нас появится регулярная служба милиции. Скажу вам, что уже готовится постановление Народного комиссариата внутренних дел об учреждении Главного управления советской рабоче-крестьянской милиции. Скоро оно будет принято, начнем формировать структуру аппарата: губернское управление, отделение уголовного розыска, отделение промышленной милиции, наверное, что-то еще… Не совсем так, как было раньше?
Артем улыбнулся, и Петрусенко невольно подумал: «Обаятельная улыбка. Он ведь еще молод, на десять лет моложе меня. Очень умный человек. Кажется, состоит в центральном комитете их партии, а значит – в руководстве страны. Это хорошо, если там все такие люди…»
– Не совсем, – согласился. – Но и время другое, и условия жизни, так сказать, иные.
– А бандиты все те же, – подхватил Артем. – И не ждут, когда мы примем постановления. Возьмитесь за дело прямо сейчас, Викентий Павлович!
– Я согласен, – ответил сразу Петрусенко. – Хочу начать с восстановления картотеки. Поверьте, систематизированные знания очень важны. Картотека у нас была отменная, да только пострадала сильно… от социальных потрясений. Я уже начал над ней работать при Гражданской страже…
Он замолчал, глядя на собеседника. Тот кивнул:
– Вам решать, чем заняться в первую очередь. А то, что при белых вы делали свою работу – защищали людей от бандитов, я, конечно, знаю.
– А о том, что мой племянник, а, по сути, старший сын, ушел с добровольцами, тоже знаете? Я не хочу никаких недоговоренностей.
– Нет, – ответил Артем после паузы. – Об этом я не знал. Теперь знаю.
– Это что-то меняет?
Петрусенко поднялся – они сидели с Артемом рядом на диване. Тот тоже встал, покачал головой:
– Ничего не меняет. Разве ваша семья одна такая? Вся страна расколота: кто-то с белыми, кто-то с красными, кто-то в банде Махно, а здесь, на Украине, еще и своего всякого хватает. Нужно время, чтобы люди убедились: пришла настоящая власть. Вот увидите – не сразу, но к нам потянутся многие из тех, кто считает сегодня себя нашими врагами. И мы не оттолкнем их. Да уже и сейчас с нами и ученые, и писатели, и военные царские… А ваш племянник, он чем занимался? Учился?
– Нет, – Викентию Павловичу вдруг захотелось рассказать о Мите, о том, какой он славный, умный. – Он уже дипломированный юрист. Работал, между прочим, со мной еще при… царской власти. Помог раскрыть несколько сложных преступлений, есть у него к этому талант. И в семнадцатом, в «народной милиции», тоже был со мной…
– Хорошо бы он вернулся, – сказал Артем, покачав головой. – Стал сознательно работать, никто б ему прошлое не вспомнил, не он один такой. А что его ждет там? Наша армия теснит остатки белогвардейцев в Крым, а дальше что?
О том, что будет с Митей дальше, болела душа у каждого в их семье. Вечерами, уложив дочь спать, Людмила Илларионовна приходила к нему в кабинет поговорить. Улыбалась грустно:
– Я еще из комнаты не вышла, а Катюша уже шепчет молитву, о Мите просит Господа.
Если Саша уже к этому времени был дома, он присоединялся к отцу и матери. Они говорили обо всем, но главное – о Мите: о том, где сейчас добровольцы – а они и в самом деле отходили к Крыму, – о единственном письме, которое они получили, о том, что Митя уже не при штабе, а в действующих войсках…
Москалевскую банду взяли ловко, без стрельбы. Петрусенко сам руководил захватом: очень уж захотелось живого дела, да и подучить ребят не мешало. Припасли заранее кота – их нынче много бродило по улицам и свалкам, вот одного и отловили.
– Растерзают собаки! – сказал с сожалением один молодой милиционер.
– Вот этого? – Викентий Павлович протянул руку к худому, серо-клочкастому существу, и у кота тут же сузились в щелку желтые зрачки, выгнулась спина и вырвалось шипение, переходящее в протяжный вой. – Ну уж нет, этого бойца собакам не взять. Подкормите его и готовьтесь. Телега на месте?
– Да, – ответил Андрей. – Стоит у крыльца.
– Лошадь тоже покормите.
Ближе к полуночи к мыловарне Ларкина подкатила телега, один из двоих седоков вошел во двор. Это был Петрусенко, он еще днем послал хозяину заведения человека с запиской, просил выделить для милиции два ящика мыла, предупреждал, что сотрудники приедут за покупкой поздно. Теперь сам хозяин встретил Петрусенко, уважительно раскланялся, показал приготовленные ящики, взял, не пересчитывая, деньги, сказал подобострастно:
– Всегда готов помочь… в экстренных случаях.
Догадался, конечно, что неспроста обратились к нему, да еще так поздно. Ящики с громкими возгласами и смехом погрузили на телегу, покатили по Моечной улице. Собаки – а они были в каждом дворе – пару раз тявкнули и замолкли, были привычны к такому шуму. Когда проезжали, не торопясь, двор Кожаря, Андрей быстро соскочил и перебросил через забор кота. Тот мяукнул, раздалось рычание, и псина рванул за ним в дальний конец, к сараям. В тот же миг четверо милиционеров перепрыгнули забор – Андрей и те трое, что прятались в телеге за мешковинами.
Бандитов оказалось трое. Их, со связанными руками, в кое-как наброшенной одежде, вывели к телеге, где ожидал Викентий Павлович. Парнишка, который беспокоился о коте, нашел-таки того, снял с дерева. Принес за пазухой, сказал, оправдываясь:
– Он ведь помогал нам, что ж бросать-то.
– Зачислим его в отряд, – кивнул Викентий Павлович. – Если не сбежит.
Он сразу оглядел бандитов, кивнул удовлетворенно: Кожарь и Попов – давние знакомые, и убийства за ними, и ограбления… Третий, щуплый, средних лет, со злыми, сильно косящими глазами, был ему незнаком.
Михайло Кожарь, увидев Викентия Павловича на облучке, махнул рукой:
– Эх, господин Петрусенко, была у меня мечта, что большевички вас в расход пустили. Думал – разгуляемся под большой хипеж… А вы, вона, снова нас ловите!
– Чем же это я тебя так обидел, Кожарь? – иронически поднял брови Петрусенко. – Не дал еще с десяток людей поубивать?
Тот сцепил зубы, промолчал, набычившись. Викентий Павлович кивнул:
– Как видишь, не такие дураки большевички, знают, как не дать таким, как ты, разгуляться. Я, вона, снова вас ловлю.
Уже в управлении, утром, вызванный первым на допрос, Кожарь сказал обреченно:
– О чем сами знаете, отпираться не буду. Другого не скажу.
Подтвердил два случая нападения на продовольственные склады. Один раз сторожа убили сразу, второй раз недосмотрели, сторож выжил, дал описание бандитов. Викентий Павлович назвал еще одно ограбление магазина: тогда, хоть и с опозданием, подоспел военный патруль, была стрельба, убили одного бандита. Петрусенко его опознал – когда-то убитый работал в паре именно с Кожарем. Бандит признал и этот случай, сказал с досадой:
– Без Пахома шайка стала не та. Пришлось взять этого Чура, а толку с него… Злой да трусливый больно.
Викентий Павлович понял, что речь идет о третьем, незнакомом ему подельщике. А вот кличка показалась знакомой. Чур… Верно, где-то слыхал ее. Надо вспомнить.
Попробовал Петрусенко так же уверенно, словно точно знает, расколоть Кожаря еще на одно дело – нападение за городом на обоз с продовольствием. Но нет – бандит мотал головой, крестился, божился, все отрицал. Когда его увели, Андрей, тоже присутствующий на допросе, удивленно покачал головой.
– Викентий Павлович, вот вы человек верующий?
– Да, я крещеный, православный.
– Вот и этот бандюга – все крестится да Бога поминает. Ладно бы нехристем был, а то вроде верующий. Как же он Божьей кары не боится?
– О, молодой человек, я вижу, вас посещают философские раздумья… Не смущайтесь, это хорошо. И вопросы-то непростые, о вере, о Божьей каре…
Петрусенко улыбнулся Андрею и сказал, раскуривая трубку, пуская первые кольца дыма:
– Для человека, который живет согласно законам совести, в общем, даже все равно, верит он в Бога или нет. Совесть не позволит ему поступать плохо. А если и не устоит, поддастся искушению какому-нибудь, то потом совесть замучает его, заставит искать искупления.
– Может, для тех, кто по совести живет, это и так, – не согласился Андрей. – А у кого ее нет, этой совести? Вот как у бандитов? Они спокойно живут себе на награбленное. И никакой им кары, если, конечно, мы не поймаем.
Викентий Павлович серьезно посмотрел на горячившегося парня, протянул раздумчиво:
– Не-ет, дорогой коллега. Не все так просто. Человек без совести и тянется к таким же, для которых ни совесть, ни мораль не существуют. И в конце концов сам становится их жертвой. Вот тебе и кара. Я давно уже понял, что «высший суд» – это не слова, а реальность. Он не минует никого – от Бога ли или от самого себя… Впрочем, кто поручится, что и это наказание – не Божья кара? Вот стал с тобой об этом говорить и вспомнил свое давнее дело, как раз пример того, как Бог наказывает человека через него самого.
– Расскажите, Викентий Павлович! Я помню, раньше вы и Дмитрий нам с Алешкой много интересного рассказывали.
– Хорошо, давай сделаем небольшой перерыв перед тем, как с очередным мерзавцем разбираться будем. Чаем согреешь?
– Да я же поставил чайник! – спохватился парень. – Погодите, я мигом!
Выскочил из комнаты, почти сразу вернулся с дымящимся чайником. Петрусенко достал тем временем чашки из шкафа, кусковой сахар и бутерброды, которые утром Людмила дала ему с собой. Сказал:
– Разливай чай, перекусим, и я расскажу тебе… Когда же это было? Да, как раз десять лет назад. Есть в нашей губернии заштатный город Белополье, в Сумском уезде. Там человек совершил два убийства и готовил третье…
Прихлебывая горячий чай, Викентий Павлович вспоминал подробно то дело, которое его командировали расследовать, поскольку одно из убийств касалось напрямую начальника Белопольской полиции, и тот от ведения был отстранен. Андрей слушал очень эмоционально: вскрикивал, стучал по столу кулаком, забывая о чае и еде.
– Как все ловко у него получалось, – похвалил преступника. – А вы еще ловчее оказались!
– Дело было интересное, – согласился Петрусенко. – Да только тема у нас другая, помнишь? О Божьем наказании. Так вот, когда преступник был разоблачен, он застрелился. Сначала стрелял в меня, но промахнулся, только ранил. Следующий выстрел был за мной, и я бы его убил. Но что-то, или кто-то, удержал мою руку – секунду, другую… И тогда этот человек сам в себя выстрелил. Мне кажется, что в тот момент он думал лишь о том, что он разоблачен, что будет опозорен, если его арестуют. Страдало его уязвленное самолюбие, и только. И, конечно, в тот миг он считал, что стреляет сам в себя от злости на всех вокруг. Тогда и я так думал. Но прошло время, я стал догадываться о другом. И сейчас думаю, что это Господь направил его руку с пистолетом в самого себя. А почему? Ведь если б я в него стрелял и убил, то у него еще был бы шанс, пройдя все круги ада, все-таки получить прощение от Господа. Но если он сам себя убил, то как самоубийца обречен на вечные муки и страдания. И Господь сделал это: он так его наказал, заставив совершить самоубийство…
Андрей молчал. «Вот и хорошо, – подумал Викентий Павлович. – Не будем сейчас обсуждать, тема сложная, пусть подумает…» Отставляя пустую чашку и сворачивая салфетку, попросил:
– Давай-ка приведи мне того бандита, которого зовут Чур. Я вспомнил, откуда знаю эту кличку. Может интересный для меня разговор получиться.
14
Прозвище Чур попадалось Викентию Павловичу в списках тех, кто совершил массовый побег из тюрьмы в августе семнадцатого. Тогда он интересовался бежавшими по долгу службы. А два месяца спустя, когда двое ряженых – Саша и Иван Христоненко – явились к нему и рассказали об ограблении тайника с иконами, тогда он вновь просмотрел эти списки более внимательно. Его интересовал конкретный человек – Степан Смирнов. Но и к другим бежавшим Петрусенко в тот раз проявил больший интерес: среди них могли оказаться подельщики, друзья… Но след Смирнова затерялся, казалось, безвозвратно, а за прошедшие почти три года ни разу ни один из тюремных беглецов в сети ни милиции, ни стражи не попал. Впрочем, поправил себя Викентий Павлович, это ведь были совсем небольшие, отрывочные моменты его службы – в круговороте смены властей. Однако сам он никогда о загадочном исчезновении коллекции Христоненко не забывал. Мысленно возвращался к происшедшему, анализировал и все больше убеждался: исчезнувший неизвестный Смирнов – только он мог это сделать…
И вот появился некий Чур – тот, кто был среди бежавших вместе со Смирновым. А вдруг он что-то знает о нем?
Нет, внешность Чура была Петрусенко незнакома. Наверное, из мелкой шушеры, он обычно такими не занимался. Но сразу видно, что не новичок в уголовном мире. У Чура было порочное сморщенное личико, губы подергивались, зрачки и без того косых глаз метались из угла в угол. Говорил он медленно, отрывисто, и это тоже выдавало уголовника: приходилось говорить без похабных слов-связок, а это было ему непривычно и трудно. Явно готовился к вопросам о своем участии в банде и явно собирался сдать Кожаря и Попова со всеми потрохами, лишь бы себя выгородить. «Это ты еще успеешь сделать, – подумал, усмехнувшись про себя, Петрусенко. – Сначала поговорим о другом, о том, чего не ждешь. А вдруг знаешь?»
Спокойно и холодно глядя на бандита, следователь проговорил обличительно:
– Тебя, Чур, два с половиной года разыскивают власти, а ты, значит, у Кожаря пригрелся. Ловко ты побег из тюрьмы организовал, я просто в восхищении. Под мошкару рядишься, а сам, значит, из главарей? В этой банде тоже ты заправлял, а Кожарь подставной? Умно!
Чур открыл рот, как рыба, выброшенная из воды, уставился на Петрусенко выпученными глазами – куда косоглазие делось. Он минуту со всхлипом хватал воздух, молча шлепал губами и вдруг заговорил быстро – с перепугу красноречие прорезалось:
– Так разве ж то я? Он меня даже и не взял бы, если б видел! Да я пристроился втихую, нас там много было, вот он и не увидел. Я бы не сумел, а тот со всеми сговорился, всех подбил. Ну а чего ж, все побежали, и я тоже.
– Кем это ты прикрыться хочешь, Чур? Я ведь легко проверю.
– Вот и проверьте, – обрадовался бандит. – Я вам дам адресок, там будут еще двое, кто бежал, Карп и Хомка. Они тоже вам скажут, что все устроил Смирнов, да так фартово замастырил, кто б другой не сумел. А этот, конечно…
Викентий Павлович только подумывал, как повернуть разговор на Смирнова, а Чур сам его назвал. Это была удача, к тому же Петрусенко явно услышал – в голосе, в интонации бандита ощущалось истинное злорадство. Да, да: злая радость от того, что он может за что-то отомстить этому Смирнову. Что-то между ними произошло, какой-то конфликт: Чур ведь даже прямо сказал, что Смирнов не взял бы его в побег… Но Петрусенко оставил этот момент на потом, его больше заинтересовало последнее утверждение о том, что только Смирнов мог так «фартово» устроить побег. Почему?
– Что это за Смирнов такой? – спросил, словно все еще сомневаясь в словах собеседника. – Я не слыхал этого имени среди вашего брата. Кличка имеется?
– Мне он не назывался. Да только я знаю: он у Хлыста заправлял, самим Хлыстом вертел как хотел.
Теперь рот открывать было впору самому Петрусенко. Чего-чего, а этого он не ожидал. Смирнов – тот самый Скула? Да, он был сильно удивлен, но, как обычно, на лице ничего не отразилось. Чуть прищурил глаза, чтоб скрыть блеск нетерпения, проговорил лениво:
– Тебе откуда известно? Помнится, у Хлыста ты не подвизался.
– А сам он мне сказал, – оскалил мелкие зубы Чур. – Напугать хотел, вот и прихвастнул.
– Напугал? – спросил Петрусенко, но ответа ждать не стал. – Может, и правда только похвастался?
– Не-е… – Чура аж передернуло от воспоминания о том разговоре. – Правду сказал. Всех там знал.
«Браво! – мысленно воскликнул Викентий Павлович. – Два разных человека, которые меня занимали, неожиданно сошлись в одного. Что ж, Quidquid latet apparebit – «Тайное становится явным»…Впрочем, не все еще явно. Но теперь я почти совершенно убежден: такой человек, как Скула, мог и выведать у Ивана секрет тайника, и совершить ограбление».
Он был по-настоящему благодарен Чуру, но показывать этого не собирался. Самое время было перевести разговор на дела сегодняшние – вызнать то, о чем умолчал Кожарь. Но в это время бандит вдруг сказал:
– Я и потом видел его, Смирнова. Он свою банду сколачивал.
– Когда? – быстро спросил Петрусенко.
– Так бежали мы из тюрьмы летом, а то уже зимой было.
«Значит, остался в городе… С Хлыстом мы к тому времени покончили, вот он свою банду сколачивал… Все ли?»
– И что? – приподнял бровь Викентий Павлович. – Снова не захотел Смирнов тебя к себе взять? Как раньше, в побег?
Злобно засопев, Чур явно хотел сплюнуть, но вовремя удержался.
– Ну да, не захотел. – И вдруг хохотнул. – Да только к нему попал мой дружок, Зубодер кличка, я с ним как-то пересекся, так он шутковал: вроде они называются «подпольной боевой дружиной».
– Как ты сказал? – Викентию Павловичу вдруг стало не по себе, слово «подпольный» больно кольнуло в сердце. – Когда это было, когда ты Зубодера встретил?
– А уже когда немчура из города ушла да Петлюра умотал, а красные, то есть ваши, пришли. Вот тогда Зубодер мне и сказал, что они вроде от белых оружие получают и считаются подпольными боевиками. Мол, придумал все это их главарь, очень он хитрый и оборотистый.
В банду Кожаря Чур попал не так давно, но все же выдал еще два эпизода ограбления, о которых главарь умолчал. После, оставшись один, Викентий Павлович еще долго сидел у себя в кабинете, перебирал карточки, но не вчитывался. Мысли его были о другом. Странный рассказ бандита встревожил, заставил невольно вернуться мыслями к Мите. Он ведь тоже был в белом подполье. А там, оказывается, и такие бойцы попадались. Да, Митя упоминал, что его друг Виктор руководил группой, в которую входила и «боевая дружина». Однако во время подхода Добровольческой армии к городу они и в самом деле сражались, Митя даже ранен был, а Виктор оказывал ему помощь… Что ж, немудрено, что бандиты воспользовались моментом, возможно, даже обманывали руководителей подполья. Особенно если у них был такой главарь, как Скула, – изобретательный, верткий! Теперь Петрусенко казалось, что он почти представляет этого человека, даже внешне. И что разгадка где-то близка – еще два-три штриха, два-три момента, и Скула проявится перед ним в своем истинном обличье… Викентий Павлович ошибся: оказалось достаточно одного штриха, одного разговора. И, как часто бывает в подобных случаях, коль приподнялся занавес над тайной, то уж будет открываться до конца.
Через два дня, вернувшись вечером домой, Викентий Павлович застал неожиданного гостя. Людмила Илларионовна сервировала стол, а на диване, оживленно разговаривая, сидели Катюша и профессор Шатилов. Девочка была еще в своей учебной форме – в платье с высоким закрытым воротничком в синюю и зеленую клетку, только черный передник сняла.
Мужчины пожали друг другу руки, а Людмила радостно объяснила:
– Представляешь, Викеша, мы с Катей после собрания решили пройтись пешком, погода хорошая, снежок падает. И уже недалеко отсюда встретили Петра Ивановича. Вот, заманили его к нам, знали, что ты скоро вернешься.
Викентий вспомнил: сегодня жена собиралась в Мариинскую гимназию на собрание родителей – там предстояли какие-то организационные перемены.
Угощение было незамысловатым, в духе времени, хотя кухарка, все еще работающая у них, постаралась. Но зато Викентий Павлович достал и поставил на стол бутылочку хорошего коньяка, улыбнулся Шатилову:
– Помнится, в нашу последнюю встречу вы меня угощали коньячком. Теперь отведайте нашего.
Разговор шел о дне сегодняшнем.
– Гимназия теперь станет называться школой, – рассказывала Людмила. – Причем учиться там будут и мальчики, и девочки. Может быть, это и неплохо, но как-то непривычно…
– Нет, – категорично заявила Катя, – с мальчишками лучше дружить на расстоянии. Они когда приходят к нам на балы, поначалу ведут себя прилично, а потом начинают всякие глупости вытворять – толкаться, за косы дергать, кривляться!
Она произнесла это с таким знанием дела, что взрослые рассмеялись. Потом Людмила сказала:
– Возможно, Катю это не коснется. Согласились с тем, что этот выпуск девочки доучатся без изменений.
– Да, – подхватила Катя, – и я как раз получу аттестат.
– Чем вы сейчас занимаетесь, Петр Иванович? – спросила Людмила. – Кажется, вы последнее время не преподаете, а практикуете?
– Верно, – ответил профессор, – я на факультете создал терапевтическую клинику… Но это разговор не для застолья.
– Ах, – махнула Людмила рукой, – разве сейчас есть легкие, развлекательные темы? Расскажите, пожалуйста. Это туберкулез?
Шатилин покачал головой:
– Сыпной тиф. Настоящая трагедия. С одной эпидемией справились, но, чувствую, надвигается следующая. Вот моя клиника этим и занимается. Да еще я возглавляю комиссию по изучению сыпного тифа…
Через некоторое время, набросив пальто и шапки, мужчины вышли в сквер покурить. Шатилов достал папиросы, Викентий Павлович раскурил трубку, сели на скамью. И, конечно, вспомнили Ивана Христоненко, ведь именно его судьба заставила их объ-единить свои усилия. У Шатилова, оказалось, есть последние сведения о молодом человеке.
– Ну, не совсем последние, – поправился он. – Полгода назад мне писал коллега из Австрии. Он видел молодого Христоненко в частной альпийской клинике профессора Шмидта.
– Это хорошо, – обрадовался Петрусенко. – Не знаю, насколько перспективно…
– Да, – профессор вздохнул, – болезнь у него была запущена, заключение в тюрьме на это тоже повлияло. Спасибо, Викентий Павлович, вы заступились за парня. Да, собственно, вызволили его оттуда.
– Ваш медицинский вердикт этому тоже очень способствовал. И то, что вы перевели Ивана в изолятор, а то ведь в камере просто не дожил бы до освобождения.
– Да еще со студентом повезло, – подхватил Шатилов. – Хоть и недоучка, но специализировался как раз на легочных болезнях.
Викентий Павлович удивился:
– А что за студент, я не знаю?
– В тюремном дворе встретил своего бывшего студента, – пояснил профессор. – И, знаете, не удивился: вечно этот молодой человек попадал в неприятные истории. Рискованные, я бы сказал. За это и отчислен был с третьего курса. Справедливо, конечно, но я жалел: очень способный к медицине человек. Ему, знаете, однокурсники даже прозвище дали – Эскулап. Вот я и подумал: пусть лучше присмотрит за больным Христоненко, чем ямы копать или кирпичи переносить. Попросил тюремное начальство перевести его в лазарет, и чтоб к больному в изолятор допускали.
– Эскулап… – протянул Петрусенко.
В уме слово само собой разложилось на части: «э» – «скула» – «п»! Так вот откуда кличка! Сам себя так назвал, но бандитам слово, конечно, и незнакомым оказалось, и трудным, они вычленили то, что было понятно… Значит, не ветеринар Смирнов и не из Юрьева – свой, харьковчанин. Викентий Павлович вспомнил, как заключенные говорили о нем «не фартовый». Что ж, хорошо умел этот Скула маскироваться, менять обличья. Талантливый, мерзавец. Да вот и профессор говорит о нем то же – очень способный. И уж конечно, не Смирнов…
Викентий Павлович спросил Шатилова так, словно между прочим:
– Смирнов его фамилия?
Профессор весело прихлопнул в ладоши:
– Все-то вы знаете, господин сыщик! Верно, так он назвался и дал понять, что настоящего его имени упоминать не нужно.
– А вы знаете это имя?
– А вы нет? – Шатилов засмеялся. – Я думал, вам известно все… Я хорошо помню Виктора Уржумова. Повторяю – один из самых способных моих учеников.
Викентий Павлович не вскочил, не вскрикнул. Только молнией – ослепительно-ярко и больно – ударила в виски мысль: «Мог бы догадаться! Почти догадался!»
Петрусенко пошел провожать профессора. Они мало разговаривали, шли медленно, наслаждаясь тихим заснеженным вечером. Им попался красноармейский патруль, но двоих пожилых мужчин не стали останавливать, хотя на этот случай у Петрусенко имелся специальный пропуск. Если говорили, то просто вспоминали какие-то события, связанные с местами, мимо которых шли. Например, о первом в городе футбольном матче, который состоялся здесь, на улице Чернышевского, десять лет назад. Футбольное поле существовало и нынче, только теперь его закрывало красивое шестиэтажное здание – выстроенная немного позже частная гимназия сестер Покровских… На перекрестке они распрощались: Петрусенко вернулся на Епархиальную, Шатилов повернул на Мироносицкую – его дом уже был виден.
Возвращался Викентий Павлович тоже не торопясь, даже сделал небольшой круг по Бассейной. На крыльце стряхнул подбитое мехом пальто, спросил Людмилу, вышедшую к нему в прихожую:
– Саша вернулся?
– Да, обедает.
– Хорошо. Минут через пятнадцать жду вас всех у себя в кабинете. Есть разговор.
– А Катя? – спросила Людмила неуверенно, почувствовав серьезный тон мужа.
Он на минуту задумался, кивнул:
– Зови и ее, пусть послушает.
И сразу, без подготовки, сказал главное:
– Виктор Уржумов – это тот человек, который украл коллекцию икон Христоненко. Ограбил тайник в Настасьевке…
А потом разложил по полочкам все доказательства – то, что было ему доподлинно известно и со слов Ивана Христоненко, и бандита Чура, и профессора Шатилова. Об Эскулапе-Скуле, ставшем доверенным советником в банде Хлыста. Он придумал в духе смутного времени способ изъятия ценностей у богатых людей – безопасный и периодический. Потом, похоже, и в самом деле случайно попал в облаву и очутился в тюрьме – с фальшивыми документами, наверняка заготовленными заранее. Вот тогда, очнувшись от гипнотического влияния своего «советника», Хлыст вернулся к привычным разгромным налетам. А «Смирнов» – так теперь назывался Уржумов – встретил в тюрьме профессора Шатилова, у которого учился на медицинском факультете. Петр Иванович, беспокоясь о здоровье Ивана Христоненко, которого как раз сумел перевести в тюремную больницу, договорился о переводе туда и заключенного Смирнова – чтоб хоть какая-то квалифицированная помощь оказывалась чахоточному больному… Уржумов и правда старался быть при Иване постоянно. Вот тогда и выведал секрет тайника в Настасьевке. А после, под прикрытием белогвардейского подполья, вновь с бандитами грабил людей, да еще и лавры героя снискал.
– Но ведь он и в самом деле сражался во время боев вместе с Митей?
Викентий Павлович кивнул жене:
– Судя по всему, он не трус и даже очень отважный человек… когда это ему выгодно. А ему, конечно же, нужно было проявить себя – почему бы это не сделать, когда добровольцы оказались уже под самым городом? Наш Митя рядом? Что ж, это хороший свидетель… А вот к добровольцам Уржумов примкнул, как я думаю, тоже из корыстных расчетов. Красная армия наступала, значит, станет теснить противника к границам. Туда, куда и он со своим награбленным уйти стремится…
Викентий Павлович помолчал, он хотел признаться, что уверен во всем сказанном, кроме одного момента – а вдруг все-таки не Уржумов добрался до тайника в Настасьевке. Многое, многое указывало на него, но лишь косвенно. Прямые доказательства отсутствовали. Так что… Но тут Саша воскликнул:
– Отец, мама, вы помните там, на вокзале, когда мы Митю провожали? У Виктора так много чемоданов было, все большие и тяжелые! Я видел, как солдат стал поднимать чемодан и попросил другого солдата помочь! Это у него там иконы были, точно! Он увозил их.
– Значит, – тихо сказала Людмила, – Митю он использовал. Его искреннюю привязанность, память о погибшем Алеше, Митино неприятие большевиков… Зачем ему Митя?
– У меня есть предположение, и не одно. – Викентий Павлович обвел всех взглядом. – Но сейчас главное не это. А то, что Митя с ним рядом, он доверяет Виктору, считает того другом и, может, даже благодетелем. Такой человек, как Уржумов, не преминет такими чувствами воспользоваться. А нужно будет – подставит Дмитрия!
– Нужно предупредить Митю!
Саша вскочил, наклонился к отцу через стол, опираясь на сжатые кулаки.
– Тише, тише, – поднял ладонь Викентий Павлович. – Не такой уж твой брат наивный мальчик. Не забывай, он работал со мной, видел всяких подлецов. Думаю, в критический момент он сумеет оценить ситуацию.
– Но он ведь не знает того, что теперь знаем мы!
– Тут ты прав. Эти сведения важны, Дмитрий должен их знать.
Людмила тихонько обошла стол, взяла сына за руку. Обернувшись к ней, Саша увидел тревожное лицо матери, не удержался, ткнулся лбом в ее плечо. Прижимая голову сына к себе, она сказала:
– В своем письме Митя даже не упоминает Уржумова. Может, их пути разошлись?
– И об этом я думал, – кивнул ей Викентий. – Митя ведь участвует в сражениях, а у Уржумова нет резона рисковать под пулями да взрывами. И все же, думаю, они рядом. Я интересовался, где бои, как проходит фронт… Алексеевцы стягиваются к Новороссийску, а туда, между прочим, и с Кубани, и с Дона идут самые разные части белой армии. А дальше? Эмиграция? Уржумову она нужна, а Мите? А ведь уйдет за ним, за другом, как ему кажется. Этот Скула не такой человек, чтоб всю жизнь хранить тайну. Захочет похвастаться своей удалью и хитростью да еще посмеется: мол, и ты мне помог… Как Митя подобное перенесет? Может закончиться трагедией.
Все молчали. Людмила присела рядом с сыном, продолжая обнимать его за плечи. Она понимала, к чему поворачивается дело. Катин голосок, звенящий от волнения, прервал тишину:
– Саша, ты поедешь и все Мите расскажешь! И привезешь его к нам, домой!
– Устами младенца… – пробормотал Викентий Павлович.
– Мама, – Саша погладил руку матери на своем плече, – не бойся за меня. Сейчас столько людей едут по всей стране, я среди них буду незаметен. Я проберусь к Мите.
Катя прижалась к брату с другой стороны, сказала горячо:
– Сашенька, ты такой умный, такой изобретательный! Ты все сделаешь, я знаю. Только не оставайся там и Митю не оставляй.
– Да, сынок, пожалуйста, не уходи с ними… дальше.
Саша понял, что вопрос уже решен, что все согласились.
– Вот увидите, все будет хорошо, – уверил радостно. – Митя вернется… Мы вместе вернемся.
Викентий Павлович поднялся, сказал жене и дочери:
– Дорогие девочки, идите к себе, отдыхайте. Завтра с утра – сборы. Раз уж все решили, то медлить не будем. Идите, мы с Сашей еще кое-что обговорим.
Понимая, что отец тоже волнуется, Саша сказал:
– Папа, я же твой сын. И анализировать ситуацию умею, и перевоплощаться в разные обличья. По нашей территории поеду поездами, они ведь ходят?
Саша сам не заметил, как сказал «по нашей», но Петрусенко улыбнулся про себя: что ж, молодежь быстро адаптируется. Ответил сыну:
– Да, до Таганрога ходят, а, может быть, уже и до Ростова.
Он вспомнил, что месяц назад в Ростов-на-Дону вошла армия Буденного.
– Ну вот, – подхватил Саша, – туда доеду под своим именем, ну а дальше – посмотрю по обстоятельствам. Если надо, снова стану Шуркой, сыном пекаря. А если надо – юнкером, пробирающимся в корпус генерала Кутепова.
Он засмеялся, и Викентий Павлович невольно залюбовался юным, открытым лицом сына, его обаятельной улыбкой. Подумал с нежностью: «Мальчик мой…» Голос у него дрогнул, когда он сказал:
– Вот, Саша, ты идешь следом за своим любимым Митенькой. Я верю, ты все сделаешь как надо.
15
Митя Кандауров прошел через длинную арку Тоннеля и вышел на Вокзальную улицу. Отсюда уже был виден огороженный двор и двухэтажный каменный дом. Двор был пуст, и Митя невольно замедлил шаг – а вдруг девушка по имени Елена выйдет. И когда он уже открывал калитку, она в самом деле появилась в дверях соседнего деревянного строения, стоящего почти вплотную к дому. У Мити перехватило дыхание и радостно забилось сердце. Потому, наверное, он не смог вымолвить и слова, только неловко кивнул. Девушка так же молча склонила голову в ответ, у него полыхнули щеки, и, проклиная себя, он быстро прошел к своему входу.
В этом доме жилье для Мити устроил Виктор Уржумов. Тогда же сразу он и сказал Мите:
– Тут рядом барышня одна живет… Держится скромно, но меня не проведешь, не простая штучка. Очень она мне нравится! Я ей тут по благородному знаки внимания оказываю и продуктами помогал, то да се. Она улыбается, вежливо благодарит, но… В гости набивался – не зовет. Зовут Елена. С ней брат живет, мальчишка еще, лет пятнадцать. Тоже вежливый, но дружить не желает. Ну, ничего, я все равно ее уломаю. Времени, правда, мало…
Уржумова Митя вновь встретил всего четыре дня назад, когда со своим Алексеевским полком добрался наконец до Новороссийска. Не виделись они с самого декабря девятнадцатого года. Тогда, почти сразу после ухода из Харькова, их пути разошлись. Под Ростовом-на-Дону шли тяжелые бои, и Дмитрий ушел-таки в действующую армию, к алексеевцам. Виктор уговаривал его не делать этого. Он продолжал служить в военно-санитарном ведомстве и от ведомства устроился в санитарный поезд «Единая, неделимая Россия». Привел Митю в поезд, показал отлично оборудованный вагон-операционную, вагоны-палаты для раненых, купе для врачей и санитаров, свое отдельное купе. Завел пообедать в столовую, где висели портреты Деникина и Корнилова.
– Я устрою тебя здесь, не сомневайся, должность подходящую организую. Купе будет твое собственное. Зачем тебе эта кровавая бойня? Ты что, не видишь, что все катится в тартарары!
Митя отказался. Поблагодарил, конечно, но отказался. Он еще раньше понял, что у Виктора не было таких патриотических чувств, как у него, не было боли за убитого государя, обиды за растерзанное Отечество. Когда Уржумов произносил название своего поезда, его губы иронично кривились. В купе у Виктора Митя видел чемоданы – их, кажется, стало даже больше… Что ж, это его дело, а у него самого – другой путь.
От Ростова им пришлось отступить, но, перейдя Дон, полк занял позиции под Батайском. На какое-то время даже показалось – начинается возрождение! Атаки отбивались, и алексеевцы переходили в наступление. Теперь никто не сказал бы о подпоручике Кандаурове, что он «не боевой офицер»: он умело располагал позиции, первый поднимался в атаку, и солдаты шли за ним беспрекословно. А пули не трогали его. Митя даже думал, что в своем первом бою, в Харькове, он получил ранение потому, что был неопытен. А храбрых и умелых пули обходят…
Да, алексеевцы держали оборону так стойко, что красные оставили их в покое. Поняли, что у Батайска фронт не прорвать, обошли и всеми силами навалились на позиции Кубанской армии у станицы Великокняжеской. Большевистская разведка, видно, неплохо работала: у кубанцев и настроение было иное, и дезертирство процветало, целыми группами они сдавались в плен, переходили к красным. Конница этого их знаменитого Буденного прорвала фронт и стала окружать Добровольческий корпус. Алексеевцы получили приказ отходить, чтоб не оказаться в кольце. И они влились в поток отступающих, который неудержимо потащил, понес, покатил их к Новороссийску. Началась февральская оттепель, и кубанский чернозем стал грязным месивом, которое неисчислимые обозы, конские копыта, солдатские сапоги превращали в болото. Донцы и кубанцы должны были повернуть на Таманский полуостров, а добровольцы следовать к Новороссийску. Но армия большевиков неожиданно форсировала Кубань и отрезала отход к Тамани. И тогда все потоки хлынули к Новороссийску.
Дмитрий шел вместе с солдатами за обозом, где, беспорядочно сваленные, лежали ружья, пулеметы, патроны. Впереди и сзади тянулись такие же обозы, пехота, верховые, грохотали телеги, люди ругались, мимо проносились конные отряды… Митя заторможенно думал: не похоже ли их отступление на бегство наполеоновских войск по Смоленской дороге? У Толстого в «Войне и мире» хорошо описано… У него не было даже горечи, только усталость, да пробивалась неясная мысль, которую он изо всех сил не хотел прояснять: «Зачем мне это?.. Оставил своих, ушел… Куда? Ведь даже не увижу их больше…»
Новороссийск был переполнен людьми. В основном, конечно, военными, но было много и штатских, явно не местных господ. В военном губернаторстве, где разместилось руководство армиями, штабс-капитан посоветовал Дмитрию:
– Устраивайтесь сами. С жильем очень трудно, к гостиницам и не подходите. Ищите частные квартиры, но уж подальше от бухты и не в центре. Здесь все забито. Рекомендую попытать счастья в Станичке или в поселке Мефодиевском. Правда, это ненадолго, пока не решится вопрос с эвакуацией в Крым. Неделя – дней десять…
На улице Мартыновской у отеля «Европа» Митя остановился. По лестнице вверх и вниз сновали офицеры. Кто-то не пускал солдат, тащивших сундук, дородный полковник, шедший сзади, стал ругаться, ему кричали: «Нету номеров, даже подселить некуда!» Вокруг гостиницы был разбит настоящий походный лагерь: сдвинутые обозы, сваленные вещи, даже натянуты палатки. В двух местах горели костры, солдаты грелись. Преодолевая охватившую его апатию, Митя стал оглядываться: у кого бы спросить дорогу на эту самую Станичку? И тут его хлопнули по плечу.
– Кандауров! А вот и ты. Куда ж нам друг от друга деваться!
Это был Виктор Уржумов – бодрый, веселый, в теплом новеньком полушубке и смушковой шапке. Митя обрадовался: в этом людском водовороте появился не просто знакомый – земляк, соратник, брат погибшего друга и сам друг. А Виктор критически оглядел его потертую шинель, белую с синим околышем алексеевскую фуражку, прищелкнул языком:
– Да, сквозь огонь и медные трубы…Только что явился? – кивнул на заплечный мешок. – Где-то уже остановился?
– Да вот ищу Станичку. Знаешь, где это?
– Еще чего! – тут же заявил Уржумов. – На Станичке хорошо будет летом, там море рядом, пляжи. А сейчас это окраина, захолустье. Пойдем со мной, я ведь тут уже две недели. Поезд наш приехал, когда сюда еще войска не хлынули, так я легко жилье нашел, здесь рядом, на Вокзальной улице. Три комнаты отхватил, две жилые и столовая. Одну тебе уступлю. Пойдем, пойдем!
Он подхватил Митю под руку, повел, продолжая говорить:
– Сейчас здесь столько народу, что все равно заберут, а если ты поселишься, глядишь, уже и не тронут, все-таки два офицера. Повезло нам – и мне, и тебе. А то навязали бы бог знает кого… Митя, мы снова вместе, я рад!
Виктор оставил себе большую комнату, смежную со столовой, товарищу отдал ту, что была поменьше. Митю это устраивало, и особенно то, что располагалась комната в тупиковом ответвлении коридора, как бы сама по себе. Уржумов унес кое-какие свои вещи, вновь зашел, стал рассказывать:
– Ну здесь и мясорубка будет, когда начнется эвакуация! Наш генерал Кутепов мужик крутой, он своих отстоит, но донцы и кубанцы тоже будут зубами грызть, лезть на корабли.
– А кораблей много? – спросил Митя.
– Мало. На рейде стоят и английские, и итальянские, но те нас везти никуда не хотят. Впрочем, я слышал, что с ними ведутся переговоры. Но ты не переживай, о нас наши начальники позаботились! Каждой Добровольческой дивизии зарезервирован отдельный корабль. – Виктор засмеялся, покрутив головой. – Ох, сколько ругани было и угроз, когда Деникин об этом объявил. Так и сказал генералу Сидорину: «Для Донской армии судов нет».
– Ты откуда знаешь?
– Да тут все знают. – Уржумов махнул рукой. – Казаки взбеленились, до стрельбы доходит. Но мы свои суда охраняем, баррикады возвели на подступах, караулы стоят, пулеметы заряжены. Да ты сам увидишь, все серьезно. Многие наши уже погрузились, я тоже свои вещи пристроил на эсминец «Беспокойный» – надежный корабль, с хорошим вооружением.
– Ты с ранеными поедешь?
– Нет, для раненых приготовлен отдельный госпитальный транспорт «Херсон». Это, знаешь, старое корыто, а больных много, всех даже взять не смогут. Загружаться будут медленно, подозреваю, что в последний момент. А это – паника, крики, слезы. Нет, мне это не годится.
Виктор говорил так откровенно и даже весело, что Дмитрий от неловкости отвел глаза. Спросил:
– Но ты же с санитарным поездом? Он тоже эвакуируется?
– Не знаю, – равнодушно пожал плечами Уржумов. – Поезд приехал, сдал в госпиталь раненых и уехал туда, где еще бои идут. Я тут остался, понимал, что сделать уже ничего нельзя, убираться нужно, да поскорей. А поезд не вернулся, может, его разбомбили.
Он встал, подошел к окну, протянул совсем другим тоном:
– Эх, не надо было тебе эту комнату отдавать!
– Почему? – Митя тоже подошел к нему. – Я не настаиваю, оставь за собой.
– А вот почему, гляди…
Он слегка приоткрыл створки окна, потянуло холодным, но уже с весенними запахами ветерком. Окно – а это был первый этаж – выходило во двор, обнесенный простенькой оградой, засаженный деревьями. «Летом, наверное, здесь хорошо, – подумал Митя, – зелено, тенисто…» И невольно вспомнил садик у их особняка, скамейку, фонарь… А еще из окна было видно крыльцо соседнего дома, указывая на него, Виктор и рассказал тогда Мите о Елене и ее брате. А через полчаса, когда они вдвоем вышли из дома, Митя первый раз увидел девушку. Она шла им навстречу – возвращалась откуда-то. Виктор встрепенулся, глаза его загорелись, голос заиграл.
– Здравствуйте, Леночка! – Он протянул к ней руки. – Позвольте, я помогу!
Митю передернуло от ласковых вибраций в голосе Уржумова, от фамильярного обращения. Потому что с первого взгляда на девушку он ощутил необъяснимое родство с ней. Как будто эти четко-нежные черты лица, выбившиеся из-под платка светло-русые локоны, серые глаза, выражение которых полускрыто темными ресницами, – все ему смутно знакомо и дорого. Может быть, у Уржумова было право так обращаться к ней? Но нет: она ответила спокойно, не акцентируя, но Митя сразу понял – ставит Виктора на место!
– Благодарю, господин подпоручик. Мне не тяжело.
И рука Виктора сама отдернулась от сумки, которую он хотел у нее взять. Мгновенная радость охватила Митю, тем более что Елена, мельком глянув на Уржумова, перевела взгляд на него. Не рассматривала, просто посмотрела прямо, брови чуть дрогнули.
– Мой товарищ Дмитрий, – быстро сказал Уржумов, – вместе ушли в Добровольческую армию, вместе воевали.
«Как бы не так», – подумал Митя, но поправлять не стал.
– Как чувствует себя ваш братишка? – спросил между тем Виктор. – Как его нога?
Девушка склонила голову:
– Благодарю вас, уже лучше. Но… наверное, будет нужен еще перевязочный материал. Если это возможно…
Она явно обращалась с просьбой, но так, словно говорила: «Не утруждайте себя». Уржумов обрадовался:
– Конечно, конечно! Мне нетрудно, вот вернусь и принесу. И знаете… давайте все-таки я сам перевяжу ему рану. Я же медик, и неплохой. У меня даже студенческое прозвище было Эскулап! Мы-то все на факультете были, можно сказать, эскулапами, но звали так именно меня. Так я зайду к вам, Леночка?
Она улыбнулась, одновременно качая головой.
– Зачем вам утруждать себя? Перевязывать я умею хорошо. И брат… он застенчив. Возраст такой.
Мельком Митя подумал о том, что никогда раньше он не слышал студенческого прозвища товарища, Виктор об этом не говорил. Да это и несущественно… Он смотрел вслед Елене, которая, попрощавшись, шла к своему дому. Легкая походка, стройная фигура, которую подчеркивало элегантное пальто цвета кофе с молоком, невысокие сапожки. Такая одежда предполагала шляпку, но на девушке был пуховый платок, и этот платок делал ее более простой, незащищенной.
Дальше всю дорогу Виктор, взбудораженный встречей, рассказывал о сестре и брате. О том, что приехали они из Пятигорска еще месяца три назад, собирались дальше, в Крым, но почему-то застряли здесь.
– Не на что им ехать, видно. Да и жить тоже. Видел, в какой халупе комнату снимают? А ведь три месяца тому еще такого наплыва людей не было, можно было найти приличную квартиру. Она подрабатывает, уроки музыки дает. – Искренне изумился: – Надо же, кто-то сейчас ребенка музыке учит. Повезло ей. Мальчишка тоже в порту работает, на погрузке. Вот ногу рассек железом, я уже приносил им бинты, йод, аспирин. Аптеки нынче пусты, ничего не достать, даже если деньги есть.
Они почти прошли ряды и строения Торговой площади, пробираясь сквозь толпы расположившихся здесь лагерем беженцев, как что-то тормознуло внимание. Митя увидел явно наспех сколоченные подмостки, с обеих сторон от них стояли повозки без лошадей. Это были походные балаганы, крытые брезентом, и на одном висела яркая, крупными буквами писанная афиша: «Феерическое представление каждый вечер! Театр-варьете «Сад Тиволи» Виктора Жаткина».
– Виктор! – Митя придержал за рукав торопящегося вперед товарища. – Смотри, это же наш театр, из Харькова! А господина Жаткина я лично знаю!
– Да? – Уржумов взглянул мельком, не останавливаясь. – Кого здесь только нет. Ладно, пошли, некогда. Может, вечером и заскочим…
Они вышли к Цемесской бухте. И сразу наткнулись на заграждения и баррикады.
– Смотри, – Виктор показал на военный корабль, стоящий совсем недалеко, – вот он, эсминец «Беспокойный». Хорош! Ваши на каком уплывут, еще не знаешь? А то давай со мной, я организую, и вещи заранее туда забросим. – Тут Виктор засмеялся: – Да у тебя и вещей-то нет. А мои чемоданы уже там пристроены. А то ведь я предчувствую: такая давка будет при посадке…
Митя увидел за баррикадами сине-белые цвета Алексеевского полка, попрощался с Уржумовым и поспешил к своим.
Вечером Виктор вернулся домой с большим пакетом бинтов, ваты, пузырьками йода, какими-то еще лекарствами.
– Нет, – сказал со злым напором, – на этот раз я сам отнесу все ей! И скажу, что помогу ей и брату уехать в Крым, а потом и дальше. Пусть поймет, что за мной – как за каменной стеной. И будет благодарна.
Дмитрий молчал, хотя грудь сдавливала тягучая боль. Но что он мог сказать? Он был в городе всего один день и Елену видел первый раз. Да, ему показалось, что Виктор девушке не нравится и даже неприятен. Но так ли это? Тяжело думать, но, может, он ошибается?
Виктор вышел, а Митя поспешил в свою комнату, к окну. И увидел, что от деревянного дома через двор, к скамейке, идет парнишка. Идет, заметно хромая. Догадался: «Это брат Елены». Наброшенный на плечи тулуп не скрывал его юношескую хрупкость, непокрытые волосы были густыми и длинными. Скамья стояла как раз на полпути между входами двух соседних домов, там и встретились мальчик и Уржумов. Разговор у них был недолгий. Виктор явно рвался пройти в дом, но Всеволод – Митя помнил, что так зовут паренька, – говорил что-то, и Уржумов останавливался. Вновь делал шага два вперед и вновь возвращался. Брат Елены не пытался удержать его или преградить дорогу – просто что-то спокойно говорил. В конце концов Уржумов сунул ему в руки пакет, повернулся и пошел к себе. Митя поторопился вернуться в столовую, где они расстались. Боль в груди незаметно исчезла, он с трудом сдерживал улыбку.
– Проклятый мальчишка! – бросил яростно Виктор, падая в кресло. – Невзлюбил меня!
– Отчего? – осторожно спросил Митя, стараясь не выдать своего настроения.
– Ясное дело, ревнует к сестре. С младшими братьями это случается часто, особенно когда они входят в такой возраст, а сестра молода и не замужем. Бывают и взаимные чувства, и даже общая постель. Инцест…
– Я знаю, что такое инцест, – жестко оборвал его Дмитрий. – Не читай мне медицинских лекций. Ты говоришь о конкретных людях, о Елене… – голос его предательски дрогнул. – Зачем же так гадко!
Уржумов поднял на него взгляд, криво усмехнулся, явно хотел что-то сказать. Но после паузы черты его лица смягчились, и он махнул рукой:
– Ты прав, конечно, здесь и близко ничего подобного нет. Но мне обидно: стараюсь, стараюсь для нее…
Тут он вдруг засмеялся и хлопнул в ладоши.
– Я со злости пугнул мальчишку, взял и сказал: «Рану ты мне перевязать не даешь, я ее даже не видел. Может, эта рана вовсе не у тебя? Может, вы подпольщика раненого прячете?»
– Какого подпольщика? – не понял Митя.
– Да ищут в городе одного – руководителя большевистского подполья. Они тут были, все время чего-то устраивали. Саботаж на железнодорожной станции, вагоны с оружием не туда отправляли, а то и просто расхищали. А месяц назад взорвали прямо на рейде английский корабль с боеприпасами для армии. Вот этот самый руководитель подполья самолично взорвал, да сам был при этом ранен. Это наша контрразведка выяснила, но взять его не смогли. Вообще-то хорошо сработали: повязали большевичков-героев, все подполье. А главного взять не смогли, хотя даже награду назначили за голову. Кто-то прячет его, раненного… Вот я и постращал мальчишку, уж очень он рассердил меня. «Сестра, – говорит, – занята, вы мне медикаменты отдайте». Я ему: «Сам ей отдам». Он: «Вас что, хорошим манерам не учили». И смотрит так… не мигая.
– И что, испугался он?
– А знаешь, и правда испугался. – Уржумов словно только сейчас это понял и удивился. – Заморгал, даже растерялся вроде… Или нет? Снова сказал своим ледяным голосом: «Спасибо, наверное, мы обойдемся своими силами». На него мне плевать, но Елену я сердить не хочу. Потому я постарался все в шутку обратить и всучил ему пакет. Он, гаденыш, вежливо так сказал: «Благодарю вас, господин подпоручик».
Это все произошло в первый день пребывания Дмитрия в Новороссийске. За минувшие четыре дня он несколько раз встречал Елену, здоровался, каждый раз хотел спросить, не нужна ли помощь, но каждый раз терялся, ругал себя. Вот так же, как и теперь, когда она вышла на крыльцо, а он, не найдя слов, снова шел мимо. Но вдруг девушка негромко окликнула:
– Простите… Дмитрий… Ваша фамилия Кандауров?
Признаться, он ожидал, что она сама его окликнет. Каждый раз, проходя мимо Елены, ждал… Теперь, обернувшись, быстро подошел к ней.
– Да, – произнес. – Кандауров. Вам Виктор сказал?
– Нет. – Она смотрела ему прямо в глаза. – Не он. Другой человек.
Митя не успел удивиться, как она тут же продолжила:
– Давайте зайдем в дом. Но сначала скажите, ваш товарищ, он где?
– Его еще нет, – растерянно протянул он.
Тогда девушка распахнула дверь, кивнула:
– Пойдемте.
И отступила, пропуская его.
16
Маленькую темную прихожую Митя пересек в два шага. В комнате его встретил брат Елены.
– Я Всеволод, вы, наверное, знаете.
Митя кивнул, улыбнувшись. Теперь, близко видя юношу, он поразился его сходству с сестрой. Такие же серые глаза под темными ресницами, светло-русые густые волосы, черты лица четкие и нежные.
– Вас ожидают, пойдемте со мной.
Парнишка указал на дверь в соседнюю комнату. Не понимая, Митя оглянулся на девушку: она смотрела приветливо, одобряюще. Он пошел за Всеволодом.
В небольшой комнате на кровати у окна лежал мужчина, накрытый клетчатым пледом. Пока Митя, растерянно остановившись, всматривался в него, тот с трудом приподнялся на локте. Плед соскользнул, обнажив перевязанные грудь и плечо, наброшенная рубаха не закрывала бинтов. Он помотал лохматой головой, сказал весело:
– Что, друг Митяй, я так сильно изменился, что не узнаешь? А я тебя сразу узнал.
«Раненый подпольщик! – в первое мгновение подумал Митя. – Тот, о ком Уржумов говорил…» И только потом до него дошли слова и голос… Небритый, заросший, изможденный, но перед ним лежал Коля Кожевников – все такой же синеглазый богатырь-сибиряк. Тот, с которым он подружился в Харькове, в госпитале, долгих четыре года назад! Митя рванулся к нему, наклонился, обнял…
– Тише, тише, – услышал голос Елены, – у него раны еще не зажили.
– Коля, – Дмитрий присел на край кровати, держа друга за руку, – тебя контрразведка разыскивает. Ведь ты руководитель большевистского подполья?
– Что значит сыщик! – Николай с наигранным изумлением посмотрел на брата и сестру, стоящих рядом. – Только глянул и уже все знает!
– Мне Уржумов рассказал об этом и предположил, что раненый подпольщик может прятаться здесь.
– Серьезный человек этот Уржумов, – покачал головой Николай.
Но его оборвала Елена. Положив руку Мите на плечо, она тревожно воскликнула:
– Да, он говорил брату! И с того дня мы живем в таком напряжении… Откуда он может знать?
– Но подождите! – Митя встал, оглядел всех, попытался успокоить: – Он сказал это шутя, не понравился ему тон Всеволода. Вроде как отплатить ему хотел. Не конкретно, уверяю вас, а так… к слову.
Елена помолчала, потом, вздохнув прерывисто, задумчиво произнесла:
– И все же… Это не такой человек, чтоб говорить просто так. Это очень опасный человек.
Митя улыбнулся. Его сильно обрадовала неприязнь в голосе девушки, но все-таки надо было защитить товарища:
– Я знаю Виктора давно, а вы – совсем немного. Он человек рациональный, у него есть некоторые качества не очень хорошие. Но Виктор не подлец.
Елена подняла на него взгляд, и Митя замер, задохнулся. Она смотрела на него ласково и упрекающе, как на неразумного ребенка. Сказала мягко:
– Можно знать человека долго и не понимать его. А можно сразу увидеть, всю его натуру… Но, может, вы правы: откуда ему знать? Сказал ради красного словца.
И воскликнула совсем другим тоном:
– Давайте пить чай! Лодя, принеси, пожалуйста, поднос, там все готово.
Митя мимоходом отметил, как Елена назвала брата. Лодя. Что-то мелькнуло в памяти, что-то он слыхал… Но тут же забыл. Николай Кожевников, надо же! Заглядывая в глаза друга, спросил:
– Значит, ты большевик? Как же это, помню, ты говорил, что твой отец промышленник, богатый человек. Ты что же, против него?
– А ты, значит, по другую сторону? – тоже спросил Николай, кивнув на форменную фуражку, которую Митя, войдя в комнату, держал в руках и которую уронил на пол, обнимая друга. – И что, ты думаешь, можно вернуть старую жизнь, такую, как была?
– Теперь я так не думаю, – тихо сказал Митя.
– Значит, друг мой, надо строить новую жизнь… А отец умер. Но перед этим успел разориться. Помнишь, я рассказывал, как брат мой Паша наложил на себя руки? А я из дому ушел. Вот отец понял, что кругом он виноват. Охладел ко всему, болеть стал… Так что я, можно сказать, чистый пролетарий. На фронте в окопах всего нагляделся. Меня в подпрапорщики произвели, да я все равно чувствовал себя солдатом. Вошел в солдатский совет – так и пошло…
– Молодые люди, – оборвала их Елена, о которой они почти забыли, – давайте продолжим беседу за чаем. Дмитрий, помогите подвинуть столик к постели.
Так она это просто сказала, словно давно они были знакомы и давно дружили. Митя вскочил и сам передвинул небольшой квадратный стол так, чтоб было удобно Николаю. Всеволод расставил чашки, чайник и тарелку с оладьями. Похвалился:
– Алена испекла.
За долгие последние месяцы Митя впервые был счастлив. Николай стал рассказывать о том, как в городе Харькове лежал после ранения в госпитале, как познакомился с Дмитрием.
– Я его сыщиком не зря назвал, он и есть сыщик, да-да! – сказал, обращаясь к Елене и Всеволоду. – Такое тогда, в шестнадцатом году, интересное дело расследовал. А зацепка-то была почти незаметная, но он за нее ухватился, потянул…
– И что, вытащил?
Елена улыбнулась Мите, но теперь он не смутился. То чувство непонятного родства, которое он испытал при первой встрече, теперь стало реальным, ощутимым. Хотя все равно непонятным до конца…
– А вытащил наш Дмитрий самого немецкого резидента! Вот как!
– Николай скромничает, – пояснил Митя. – Ту зацепочку увидеть помог мне именно он. И ухватил ее я тоже с его помощью. Кто знает, может, без этого и не раскрылось бы дело.
– Согласен, – не стал отпираться Кожевников, – есть и моя доля. Но и без меня ты, Митя, справился бы. Уж дядя твой, господин полицмейстер, помог бы. Как он там поживает?
– Работает на вашу власть.
– Вот как! Умнейший человек Викентий Павлович…
Николай многозначительно посмотрел на Дмитрия, но продолжать не стал. Они оба за разговором не заметили, что Елена, как только заговорили о расследовании, с задумчивым интересом посмотрела на Митю. Когда же прозвучало имя «Викентий Павлович», она и Всеволод быстро, радостно переглянулись.
Митя продолжал сидеть на кровати, рядом с другом. Николай лишь ненадолго полуприсел, опираясь на подушку, опустил на пол ноги. Но через некоторое время Елена, зорко следившая за ним, заметила, что он побледнел, на лбу выступил пот, быстро приказала:
– Все, все, ложитесь, вы еще очень слабы! – и добавила для Мити: – Две раны: пуля навылет прошла, а осколок там, в плече. Вот и не заживает.
– Как же ты был ранен, Коля?
Тот утомленно улыбнулся:
– Еще осенью я здесь оказался, задание было – организовать подпольную работу. А Новороссийск-то был главным городом Черноморского военного губернаторства, сам понимаешь – наводнен войсками. И центр контрразведки вашей тоже здесь базировался. Трудно пришлось. Но… делали дело. – Николай погрозил Мите пальцем. – В подробности вдаваться не буду… А тут месяц назад английский транспорт прибывает, оружие для белых привез. А у нас – потери большие, погибли ребята, кто в перестрелках, кто арестован и расстрелян. Вот я сам и решил взорвать. Слыхал небось – получилось!
Кожевников улыбнулся широко, открыто, словно приглашал друга порадоваться вместе с ним. «Как мальчишка», – подумал Митя и не удержался, улыбнулся в ответ.
– Только заметили меня, когда я еще на борту был. Пришлось отстреливаться и прыгать за борт перед самым взрывом. Плыл к берегу уже с пулей и осколком. Хорошо, что я пловец отменный, у себя дома на речке Чуне плавать учился, а она ой какая порожистая и быстрая… До берега я дотянул, а там, может, и взяли бы меня, силы уже потерял, сознание уходило. Да вот Сева меня нашел.
Всеволод слушал, вытянув шею, широко раскрыв глаза. И тут же подхватил:
– Порт там совсем рядом, а мне в тот день повезло, взяли на разгрузку корабля из Турции, с продуктами.
«Такой хрупкий парнишка, – с жалостью подумал Митя, – интеллигентный…»
А мальчик, поймав его взгляд, словно прочел мысли, кивнул:
– Я с этой бригадой уже несколько раз работал, они меня взяли. Перед самым взрывом грузчики перекусить сели, а я отошел в сторону, ближе к бухте. Смотрел на море и все видел. Взрыв, огонь, и как человек в воду прыгнул, а по нему стреляют… Я понял, что он к следующей бухте плывет, там каменистое пустынное место. Вот и побежал туда, незаметно, пока все на горящий корабль смотрели, да кричали, да руками размахивали.
– Как же вы, Всеволод, дотащили Николая? – удивился Митя. – Он такой большой!
– А я в себя пришел, помогал ему. Сева молодец, провел меня незаметно, подворотнями. Вот только и себя травмировал, ногу о железку разодрал.
– Царапнул, – махнул рукой Всеволод. – Это даже удачно получилось.
– Появился повод просить Уржумова помочь с медикаментами, – вставила Елена. – Он все хочет сам перевязать Лодю, да мы избегаем. Рана небольшая, ему покажется странным, что нужно так много бинтов…
– А я специально сильно хромаю.
– Боюсь только, не слишком он обманывается. – Елена перевела тревожный взгляд с брата на Кожевникова. – И Николаю нужна настоящая помощь врача, хирурга, условия госпитальные.
– А, может, попробовать… – Митя оживился. – В городе несколько госпиталей, там много раненых, Коля среди них затеряется.
– Нет, Митяй, это рискованно, – сказал Николай. – Ваша контрразведка… там такие зубры есть! Знакома им и внешность моя, и то, что я ранен. Небось все медицинские точки под контролем держат. А церемониться не станут, ясное дело – время военное, да и злость у них сильная на нас, на победителей. Расстреляют, как пить дать. А я пожить еще хочу. Галину вот отыскать… Помнишь Галю Акимчук? Искал я ее, да пока не встретил.
Медсестру Акимчук из Харьковского военного госпиталя Митя помнил хорошо. Помогла она тогда Николаю, а значит, и ему… А ведь и правда Николай в большой опасности! Раны не заживают, по городу его ищут, а тут еще Уржумов со своими намеками…
– Надо тебе, Коля, к своим поскорее выбираться, – сказал озабоченно. – Только как? Линия фронта вроде близко, а попробуй доберись! И ты прав: офицеры звереют, я сам видел вчера, прямо на улице расстреливали вроде бы красных. А там – кто знает…
– Ладно, Митяй, не переживай! – Кожевников старался говорить бодро. – Наши – то есть мои – скоро сами здесь будут. Тогда я тебя спасать стану. Если, конечно, не уплывешь в Крым и дальше, в чужие страны.
Дмитрий пристально смотрел на Кожевникова, тот тоже не отводил взгляда.
– Значит, не боишься меня? – спросил Митя наконец.
– Нет, – покачал головой Николай. – Суть в человеке, а не в форме, которую он носит. А тебя я еще тогда узнал, с первой встречи. Если б твоей формы боялся, никто тебя сюда не позвал бы.
– А как ты обо мне узнал? – запоздало спохватился Митя.
– В это окошко увидал, – засмеялся Кожевников, кивая на окно, около которого стояла его кровать.
Митя выглянул: виден был торец дома, куда выходило окно столовой.
– Ты вчера из того окошка выпрыгнул, а я как раз смотрел от скуки во двор.
Митя покраснел и бросил быстрый взгляд на Елену. Она улыбалась, и улыбка была такая… Он не понял: вроде бы насмешливая, но не обидная, а еще… словно девушка все о нем знала.
– Наверное, я почувствовал, что кто-то должен меня увидеть, – пояснил шутливо.
Не стал говорить о том, что избегал встречи с Уржумовым, а тот должен был вот-вот вернуться. Не хотел слушать его бахвальство и намеки…
Елена вернулась к разговору о судьбе раненого.
– Красная армия, конечно, возьмет Новороссийск, сомнений нет, – сказала. – Может, это случится через неделю, а, может, через месяц. Но вам, Николай, и то, и другое – слишком долго. Как я ни стараюсь, рана ваша начинает гноиться, температура не спадает. Осколок сидит глубоко, его может изъять только хирург. Вы правы, Дмитрий, ему бы туда, за линию фронта. Но я не знаю, как это сделать.
– Буду думать, – сказал Митя и стал прощаться.
Вернулся ушедший на улицу Всеволод.
– Уржумова еще нет, – доложил.
И Митя поторопился. Не надо было Виктору знать, что он был в гостях у соседей.
17
На следующее утро в военном губернаторстве Дмитрий получил распоряжение проследить за вывозом на корабли штабных документов. Через час несколько подвод, груженных металлическими ящиками-сейфами, картонными и деревянными упаковками, направились к Цемесской бухте. Были здесь не только ящики, но и сундуки с вещами, баулы. Все это следовало переправить на два корабля – «Цесаревич Георгий» и «Аю-Даг»: Митя слышал разговоры, что именно на них уйдут в эвакуацию генералы Деникин и Кутепов со своими штабами. Народу в порту было еще больше, чем накануне. «Столпотворение!» – думал Дмитрий, помогая вооруженной охране пробивать дорогу транспорту.
За баррикадами стало легче, но у Мити осталось ощущение, что выстроенные ограждения и охраняющие их отряды с трудом сдерживают толпу. А ведь сама эвакуация еще даже не начиналась, руководство армии еще только решало, какие корабли кем будут загружаться, неясно было, возьмут ли на борт эвакуируемых английские, итальянские и французские суда, стоящие дальше на рейде. Но атмосфера в городе и особенно на Торговой площади вблизи бухты накалялась, наполнялась истерией, слухами, вспышками агрессии. Нервным, напряженным ожиданием…
На сами корабли ни Дмитрия, ни штабную охрану не пустили. Оттуда пришла особая вооруженная команда охраны, именно эти люди разгрузили подводы, увезли большими лодками все на корабли, стоящие поодаль от берега.
Выполняя порученную работу, помогая снимать ящики, отдавая распоряжения, Митя постоянно думал: а Елена с братом – они тоже хотят уехать? Накануне вечером они об этом совсем не говорили. О том, что Николая Кожевникова нужно срочно переправить за линию фронта, – да. О том, как сильно наводнен город беженцами, – тоже. Но о своих планах не обмолвились и словом. И теперь, думая об этом, Митя вдруг точно решил: «Без них никуда не поеду!»
Когда вчера вечером Елена провожала его к выходу, у самой двери они остались одни, остановились на минуту, и она вдруг сказала ласково:
– Митя…
Засмеялась, провела ладошкой по его щеке и снова так странно протянула:
– Митя…
Как будто что-то хотела сказать – так, как там, еще в комнате, за общим столом. Но не сказала… Ночью Митя то засыпал, то просыпался и шептал:
– Елена… Леночка…
А теперь вот твердо решил: без нее не уеду! Без них… Понимал – брата она не оставит.
Пустые подводы он отправил обратно, к штабу. Сказал фельдфебелю:
– Поезжайте, я скоро подойду.
Ему вдруг захотелось заглянуть в театр Жаткина, тем более что это было рядом. Сцена была задернута занавесом. Как только Митя отодвинул его, он сразу увидел антрепренера. Тот сидел за столом прямо на сцене, вместе с еще двумя мужчинами и женщиной, все играли в карты.
– Вы на представление, господин офицер? – вопросил Жаткин хорошо поставленным баритоном. Вскинул руки: – Лизетта, обслужи!
– Представление я тоже посмотрю, – засмеялся Митя. – Но сейчас я заглянул к вам. Виктор Васильевич, вы меня вряд ли узнаете, но мы с вами знакомы. Приходилось встречаться в Харькове.
Жаткин подошел, ловко повернул Дмитрия за плечи к свету, стал рассматривать.
– Напомните обстоятельства!
– Некий инцидент с дракой и поножовщиной в «Мавритании», редкий случай, когда в ваши дела вмешалась полиция.
– Господин Кандауров! – тут же обрадованно узнал Жаткин. – Помнится, вы тогда навестили меня вместе с господином полицмейстером! Умнейший человек Викентий Павлович и такой приятный. Кажется, ваш родственник?
– Близкий родственник, – кивнул Митя.
– Лизетта, – загремел Жаткин, – неси вино по такому случаю, выпью с земляком.
Они сели тут же, на сцене, за столом, подтянулись еще несколько артистов. Жаткин стал рассказывать о том, каким успехом пользовался собранный им театр-варьете в Харькове летом минувшего года, как валом валили туда офицеры с дамами. И когда Добровольческая армия уходила из Харькова, он решил уйти в ее тылы.
– Театр на колесах, балаган! Это казалось так романтично!
Поначалу и правда его передвижной театр-варьете пользовался успехом. Он дал ему название в честь своего любимого «Театра-Буфф», расположенного в харьковском саду Тиволи…
– Я больше любил ваш малый театр в саду «Бавария», – не удержался Митя. – Часто ходил туда на спектакли.
– Днем или по ночам? – игриво прищурился Жаткин.
– Днем и вечерами.
– Еще бы, вы серьезный молодой человек. Но многие ваши ровесники предпочитали ночные «фарсы» и «кабаре»…
В общем, варьете на колесах осело сначала в Новочеркасске, потом в Екатеринодаре, потом, когда фронт приблизился, переехало сюда, в Новороссийск. Здесь тоже поначалу была и популярность, и публика. Но недолго. Город стал наводняться беженцами. Еще до того, как сюда стали отходить боевые части, появились горлопаны-офицеры, устраивающие митинги, господа с семьями, слугами, вещами, быстро теряющие спесь, более простые люди, заполняющие железнодорожный вокзал, парки, скверы, любое жилье. С беженцами пришли болезни, и самая страшная – тиф. Для больных отвели бараки, но они были переполнены. Людям было не до театра, а тем более такого развеселого, как варьете. Но Жаткин не сдавался, представления игрались раз в два-три дня даже перед десятком зрителей. Часто даже не за деньги, а за продукты. Артисты и сами добывали себе пропитание.
– Даже ваш прославленный родственник господин Петрусенко ничего бы тут не смог сделать, – развел руками Виктор Васильевич. – В этом городе спекулируют все! И мальчишки, и барышни, и офицеры. И мы тоже понемногу, жить-то надо.
Но жить так больше антрепренер не хотел и признался в этом земляку:
– Не вижу перспектив, вот что я вам скажу. Не обижайтесь, господин офицер, но армия, в которой вы состоите и которая была такой мощной, развалилась. Куда с ней идти? В Крым? Его тоже не удержат. Да многие и не поедут в Крым, а сразу в Константинополь, а то и в Африку. Даже если б мы захотели – кто возьмет на борт каких-то артистов! Но я, признаюсь вам, и сам не хочу. А хочу я вернуться в родной Харьков. Просто мечтаю!
Жаткин пристально посмотрел на собеседника, лукаво склонил голову:
– А вы, господин Кандауров? Не хотите вернуться? Господин Петрусенко ведь там остался? Он мудрый человек.
Митя задумчиво молчал, и Жаткин пожал плечами:
– Говорят, у красных не в чести легкий жанр. Ну, так будем ставить другие пьесы, там тоже могут быть и танцы, и песни. Поскромнее, конечно…
В штабе до Дмитрия никому не было дела. Начальник канцелярии указал ему на занимающие угол комнаты коробки и ящики, сказал:
– Завтра это погрузим на «Капитан Сакен», здесь еще не все готово. На сегодня все.
И Митя пошел домой, все убыстряя шаг, чувствуя, как радость наполняет сердце. Было только слегка за полдень. «Заскочу умыться, привести себя в порядок, и… к ним». В последний момент поправил сам себя, хотя, конечно, подумал «к ней». Но только он хлопнул дверью, из своей комнаты выглянул Уржумов, позвал:
– Заходи.
Этого Митя не ожидал. Подумал с досадой: «Что-то он сегодня рано…» Но отказываться не было причины, и он зашел в комнату Виктора. Не был здесь со дня вселения – по утрам и вечерам они встречались в столовой. Потому сразу увидел два новых чемодана.
– Ты говорил, весь багаж уже на пароходе, – кивнул на них.
– А-а, это… – Виктор быстро глянул на товарища, усмехнулся. – Добавлю к тем. Я что хотел тебя спросить… Я вчера вернулся уже ночью, а ты вечером был дома. Как там наши соседи, видел их?
«Почему спрашивает? Что-то подозревает?» – насторожился Митя, но Уржумов быстро продолжил:
– Барышня эта, Елена, как она тебе? Что в ней такое особенное, что зацепило меня и не отпускает? Я ведь девиц всяких видал, но она… В другое время ухаживал бы за ней по-благородному, да нет времени. Совсем не осталось! Я же ей сказал, что готов вывезти ее и братца в Константинополь, а оттуда – в Европу.
– И что она? – вставил наконец слово Митя, потому что Уржумов говорил быстро, лихорадочно, словно сам с собой.
– Она, – искривил губы, – благодарит за участие. «Мы с братом еще не решили, хотим ли уезжать». Какого черта! Ведь давали же деру от красных, это ясно! А я думаю, она высматривает себе покровителя получше. Я что, какой-то подпоручик… Ничего, приручу, вот увидишь!
Митя хотел ответить ему резко, но, пока подыскивал слова, Уржумов нырнул под кровать, вытащил оттуда свой саквояж. Был он вместительный, кожаный, обшитый медными скобами, с двумя замками. Виктор всегда держал его при себе, но здесь, в Новороссийске, Митя не видел, чтоб он носил саквояж по улицам. Да и то – вырвут из рук, убегут, по голове стукнут – это нынче сплошь и рядом. Он даже думал, что Уржумов свой любимый сундучок пристроил с чемоданами на корабле. Ан нет, здесь саквояж. И Виктор, вытащив из внутреннего кармана ключ, отпирает замки, роется в нем, заслонив всем телом от Мити…
– Смотри!
Раскрыл ладонь, и изящно изогнутая вещица поразила золотым блеском. Это был женский браслет прекрасной ювелирной работы: в окружении стебельков трав и цветов изгибалась ящерица – сверкнули изумрудные глазки и лепестки-бриллианты.
– Чистое золото! А бриллианты? Ни одна женщина не откажется от такой красоты. – Голос у Виктора дрогнул, зазвучал вдруг мягко, ласково. – Подарю ей, не пожалею, хотя это целое состояние! И ведь как совпало, даже гравировка словно для нее. «Елена Лукашова»!
Он перевернул браслет, на брюшке ящерицы тонкой вязью сплетались буквы Е и Л. «Ева Либерсон, – мысленно констатировал Дмитрий. – Никаких сомнений». У него не изменилось выражение лица, не дрогнули зрачки. Все-таки сколько раз видел он следователя Петрусенко в деле, кое-чему научился. Спросил доверчиво:
– Семейная реликвия?
– Точно, – не раздумывая, ответил Уржумов, – что-то вроде этого. Со стороны матери.
Наклонившись и снова копаясь в саквояже, Виктор, насмешливо ухмыляясь, думал: «Тоже мне, потомок знаменитого сыщика! Говорил, что помогал ему сложные дела распутывать! Наивный дурачок…»
Особенно не скрывая, он вытряхнул колье из длинного сафьянового футляра, положил туда браслет, спрятал под пальто во внутренний карман.
– Вернусь часа через два, приду к ней и подарю, – проговорил уже снова быстро, торопливо. – Сейчас некогда, дела, нельзя упускать время. А вечером мы с ней все решим, обязательно!
Вновь закрыл саквояж на оба замка, спрятал под кровать, а чемоданы прихватил. Выпустив впереди себя Дмитрия, тщательно запер дверь комнаты. И умчался по своим делам.
Митя вернулся в свою комнату, сел у окна, глядя на крыльцо соседнего дома. Надо было кое-что обдумать. «Но быстро, – приказал сам себе. – Времени и в самом деле мало». Он почти физически ощущал, как ускоряется бег времени, как часовая стрелка мчит по циферблату, нагоняя секундную, как временная воронка втягивает со свистом песчинки песочных часов!.. Надо принимать решение, особенно сейчас, когда странное обстоятельство вдруг раскрылось перед ним. Браслет – он сразу узнал его. Он ведь сам брал показания у ювелира Моисея Карловича Браверманна, подробно описывал с его слов кольца, колье, браслеты, серьги, диадемы – все, что банда Хлыста сначала «изымала», а потом просто грабила. Вот эту самую вещицу – браслет – старик-ювелир описал с особенной тщательностью, потому что сам лично изготавливал его в подарок дочери. И гравировку сделал – первые буквы имени и фамилии своей замужней дочери: Е и Л. Потому что ту звали Ева Либерсон. По словам Моисея Карловича, браслет очень понравился тому молодому человеку, который выдавал себя за сотрудника милиции, и тот нагло забрал его себе. Как браслет оказался у Виктора Уржумова? Если бы он сказал, что купил его по случаю, – это звучало бы правдоподобно. Но он подтвердил: семейная реликвия. Прихвастнул? Да, Уржумов любит набивать себе цену. А ведь Викентий Павлович и он, Дмитрий, позже узнали, что «молодой человек», забравший браслет, – это некий советник Хлыста по кличке Скула. Таинственно исчезнувший Скула…
Митя вскочил, прошелся по комнате от стены до стены…Что-то мелькнуло в уме, сверкнуло, как бриллианты на браслете… Вот, сейчас, он вспомнит, поймет, поймает за кончик эту мысль, ассоциацию!.. Как сказал Виктор Елене? «У меня студенческое прозвище Эскулап»… Но это же Скула! Вот так так! Кто там у бандитов знает о древнеримском боге врачевания Эскулапе? Вот они и переделали в знакомое «Скула». А мы головы ломали, что за Скула…
И все встало на свои места. План оборонительных сооружений в районе Основы… Эту заслугу Уржумов присвоил себе. Дмитрий думал – из тщеславия, но, может, других конкретных дел у подпольной группы просто не было? Боевая группа Уржумова… Сколько раз Дмитрий просил Виктора взять и его на боевое задание, но получал отказ. А теперь вот Митя подумал: Скула ловко выдавал бандитов за милиционеров и мог так же запросто выдавать их за подпольщиков.
Надо идти к соседям, к Елене, Всеволоду, Николаю. Рассказать им, предостеречь, посоветоваться. Коля Кожевников хороший советчик, он это помнит.
Наверное, его, идущего через двор, увидели в окно – Всеволод уже стоял на крыльце. А Елена в первой комнате встретила радостной улыбкой, взяла его шинель.
– В городе начинается паника, – стал рассказывать мальчик, как только Митя вошел в комнату Кожевникова и пожал другу руку. – Я был у гостиницы, на площади у бухты, а дальше не пройти. Но все толпятся, несут и везут вещи, ругаются, плачут. Разговоров только о том, что кораблей мало, что прибыл английский генерал и распорядился дать свои корабли под эвакуацию.
– Адмирал Сеймур прибыл еще три дня назад, – сказал Митя.
– Нет, это кто-то другой, прилетел на самолете.
– Что ж, похоже, долгожданная эвакуация вот-вот начнется, – сказала Елена. – Счет уже на часы… А вы, Дмитрий? Вы уезжаете со своей частью?
Она спросила об этом как о чем-то само собой разумеющемся, но Мите показалось – нет, он точно услышал, – как голос девушки дрогнул.
– А вы? – Он посмотрел ей прямо в глаза. – Вы поедете со мной?
– У нас Николай, – ответила она просто.
– И у меня Николай, – так же просто сказал он и улыбнулся. – И проблема с его эвакуацией в обратную сторону.
– Э, ребята! – Кожевников протестующе вскинул руки и застонал от боли. – Позвольте и мне о себе подумать. А то говорите обо мне, как об оковах.
– Здесь не только в тебе дело, Коля. Есть еще кое-что, хочу вам всем рассказать и посоветоваться…
Закончить Митя не успел. В двери постучали. «Неужели Уржумов?» – подумал Митя и вскочил. Елена, видимо, решила то же самое, удержала его за руку, кивнула Всеволоду:
– Посмотри. Сюда не пускай, зови меня.
Громкие вскрики и смех в прихожей заставили всех переглянуться. Непонятно было, что происходит, но от сердца отлегло – не Уржумов! Оставив Николая, они вышли в соседнюю комнату, и сейчас же, обнимая друг друга за плечи, сюда ввалились два парня – Всеволод и… Саша! Дмитрий глазам своим не поверил, но это в самом деле был его братец Саша. Перестав обнимать Всеволода, он закричал восторженно:
– Аленка!
И бросился прямо в распахнутые объятия Елены, которая тоже смеялась и повторяла радостно:
– Сашенька, мальчик мой! Да ты уже выше меня!
Обнимая Сашу, из-за его плеча она лукаво смотрела на Митю. А он, глупо улыбаясь, сам не мог понять: как же было не догадаться! Ведь Елена и Всеволод – княжна и князь Берестовы!
18
Конечно, Митя знал эту историю. Просто прошло почти десять лет, он о ней подзабыл. А тогда одиннадцатилетний братишка Саша взахлеб рассказывал ему об «Аленке» и «Лоде». Родители не пустили Сашу в то лето с Митей в Крым, где он работал на прокладке дороги через Байдарский перевал. Мальчик поехал с ними к родственнику под Серпухов и, очень обиженный, поначалу там скучал. Но все изменило знакомство и дружба с маленьким сиротой – князем Берестовым. А потом Саша вместе с отцом принял участие не то чтобы в расследовании, но в выяснении некоторых таинственных обстоятельств жизни Лоди…
– Вижу, вижу, – Саша уже обнимал за плечи Дмитрия, – до сих пор ты не знал, но уже понял, кто твои друзья. Ведь вы друзья?
Елена кивнула, радостно улыбаясь.
– Значит, подпоручик Кандауров вам знаком… Но все равно представлю: это мой брат Митя!
– Об этом, Сашенька, я тоже догадалась.
Митя чуть не воскликнул: «Как же?», но сразу понял – в разговоре с Николаем они вспоминали Викентия Павловича. Значит, Елена знала. Не поэтому ли она так странно иногда поглядывала на него?
– А помнишь, Аленка, что я тебе сказал тогда, в вашем имении «Замок», когда мы прощались?
Саша задал свой вопрос таким таинственным тоном и бросил такой многозначительный взгляд на Митю, что тот вдруг подумал: «Что-то связанное со мной?»
– Еще бы, – ответила княжна Берестова и тоже скользнула по Дмитрию быстрым веселым взглядом.
– Ну, и как?
– Он мне нравится.
– Сбываются пророчества! – воскликнул Саша.
Митя, кажется, догадался: давно, почти десять лет назад, его младший братишка что-то рассказывал о нем Елене. Что-то хорошее, ведь он всегда восхищался «Митенькой», все повторял за ним…
– Постой, Саша! – Митя взял брата за плечи, встряхнул. – Ты как здесь оказался?
– Да уж не просто так.
– Неужели за мной поехал?
– Э, братец, ты заметил – я уже вырос? И далеко не все твои глупости готов копировать. Впрочем, я встретил здесь своих давних друзей, потому прощаю тебя…
– Стой! – Митя придержал за руку развеселившегося брата. – Я тебе сейчас еще кое-кого покажу… из давних друзей.
В соседней комнате, узнав и обняв Колю Кожевникова, Саша припомнил, как в шестнадцатом году они с братом навещали молодого бойца в харьковском госпитале.
– Ну просто возвращение в детство! У вас что здесь, машина времени? Как у Уэллса? Тогда, Митя, тебе предстоит еще одно возвращение в прошлое – на три года назад… А твой приятель Виктор Уржумов он здесь, в Новороссийске? Вы вместе?
Последний вопрос заставил всех невольно переглянуться. Саша заметил это, догадался:
– Значит, здесь, и вы все его знаете! Тогда я всем сразу и расскажу…
Но Дмитрий оборвал его:
– Я тоже пришел сюда, чтоб рассказать об Уржумове. Саша, я догадываюсь: Викентий Павлович узнал о прошлом Виктора? О том, что он – Скула!
– Так ты знаешь! Откуда? – изумился Саша, но тут же сам себе ответил: – Конечно, ты ведь тоже сыщик!
– Значит, ты, братишка, пробирался сюда, чтоб предупредить меня? – Голос у Дмитрия дрогнул.
– Пробирался – это ты точно сказал. Я потом расскажу подробно все свои приключения, а сейчас… – Саша обвел всех друзей серьезным взглядом. – Ты знаешь только половину, Митя. Есть самое главное, надо чтоб все вы знали.
И тут Митя вспомнил:
– Уржумов сказал, что вернется часа через два. Уже почти час пробежал, учтите это. А придет он сразу сюда, я подозреваю.
Они сели рядом с кроватью Кожевникова, и Саша стал рассказывать о том, как Викентий Павлович узнал сначала от самих уголовников, что бандит по кличке Скула сумел стать чуть ли не другом Ивану Христоненко в тюрьме. А потом – от профессора Шатилова, – что под прозвищем Скулы скрывается Виктор Уржумов. Для Елены, Всеволода и Николая он коротко рассказал о семье Христоненко и коллекции древних икон.
– Вот и получается, что он ограбил Настасьевку! Втерся к Ивану в доверие, бред его больной слушал… Они, эти иконы, у него в тех огромных чемоданах! – с уверенностью рубанул воздух ладонью Саша.
Митя кивнул:
– Да, я уже это понял. Вот только негодяй подстраховался, переправил чемоданы заранее на корабль. На «Беспокойный». А эвакуация уже началась.
– Началась, я сам видел. – Всеволод обвел всех взглядом, качая головой. – К кораблям не пробраться!
– Это совершенно точно, – поддержал друга Саша. – Я, как пришел сегодня в город, тоже ужаснулся: вавилонское столпотворение! Еле добился, чтоб хоть кто-то указал мне военное ведомство или, как там, губернаторство. Там мне твой адрес назвали, Митя, а уже хозяйка подсказала, что ты в доме у соседей… Но я не об этом: в штабе, пока с трудом нашел того, кто мне дал адрес, всего наслушался. На корабли пускают только военных определенных частей, гражданских – по особому списку. Выставлены вооруженные ограждения, приказано стрелять по рвущейся к трапам толпе… Нет, Лодя прав, к судам не пройти. А Уржумов небось уже там.
– Нет, – Митя уверенно покачал головой. – Он сюда еще вернется. Елену хочет с собой увезти. И не только. У него в комнате есть чудо-сундучок, подозреваю – там много ценностей. Вряд ли без них отбудет.
– Нельзя, чтобы он уплыл вместе с иконами, – негромко произнесла Елена. – Что же сделать? Может, сказать об этом генералу Деникину? Или Кутепову?
– Невозможно, – тут же сказал Саша. – Об этом тоже говорили в штабе. Генералы уже на кораблях. Город собираются покинуть последними, но руководить эвакуацией будут оттуда.
Негромко хлопнула входная дверь, прозвучали по соседней комнате быстрые шаги. Никто не успел ничего сделать, как распахнулась дверь и к ним в комнату шагнул Виктор Уржумов. Высокий, крепкий, кажущийся еще мощнее в дубленом полушубке. В руках он держал свой саквояж. «Успел заглянуть к себе», – мелькнуло у Мити в голове.
…Виктор затянул со своим уходом на эсминец. А все из-за нее, Елены. Теперь придется пробиваться через ожесточенную толпу. Но он пробьется – Уржумов в этом не сомневался. Пробьется и ее проведет, ну и мальчишку придется тоже. Впрочем, если в давке его оттеснят, будет даже лучше… Он вернулся за саквояжем и Еленой. Все остальное переправил раньше на «Беспокойный», под надежную охрану, даже новые чемоданы – свою уже здешнюю добычу. Грех было не попользоваться ситуацией в охваченном паникой и страхом перед эпидемией, наводненном растерянными людьми городе. За бесценок, а особенно за медикаменты можно было приобрести по-настоящему ценные вещи. И они тоже легли в его «копилку». Что ж, где-нибудь на благополучном французском юге или на Адриатике он купит плантации виноградника и прекрасную виллу для прекрасной Елены и для себя.
Он хотел постучать в дверь соседнего дома, но она оказалась открытой. Прошел пустую первую комнату, потому что из соседней доносились голоса. Первое, что увидел, – кровать у окна и явно раненного, перевязанного бинтами человека. Мысленно усмехнулся: «Надо же, в точку попал, пугая мальчишку. Воспользуюсь». Это был отличный козырь для него: можно сыграть в благородного покровителя или, наоборот, пригрозить выдать – как карта ляжет. То есть как поведет себя Елена… Только потом Уржумов увидел Дмитрия и, к своему удивлению, младшего Петрусенко – кажется, Александра. Зло заколотилось сердце: для него, значит, двери в этот дом закрывались, а Кандауров тут явно желанный гость! Но Виктор сдержал себя. Нет, он не станет выяснять отношения – не до того, совершенно нет времени! Да и права сейчас у него на это нет. Потом, когда Елена уже будет с ним, тогда посмотрим. А то, что младший брат явился и, видимо, тоже хочет уплыть подальше от большевиков, это для него даже хорошо. Кто знает, как там, в Константинополе, все сложится? А генералы Деникин и Кутепов хорошо знают Петрусенко, дружны с ним. Ясно, станут помогать его сыну и племяннику. «А я – рядом, их лучший друг! – Уржумов с усмешкой посмотрел на Александра Петрусенко. – Да, прибыл еще один потомок знаменитого сыщика, чтобы помочь мне вывезти… мою добычу!»
Уржумова развеселила эта мысль. Появилось предчувствие, что все будет хорошо. Самое время вручить Елене подарок, браслет – «семейную реликвию». Людей, правда, для такого очень личного разговора многовато… Но Дмитрий и так уже знает, видел браслет. Раненый – на него не стоит пока обращать внимание, словно его нет. А этот Александр – мальчишка…
И тут «мальчишка» вдруг сказал громко, весело:
– Аленка, похоже, у тебя сегодня большой прием. Столько гостей!
Казалось, ничем невозможно удивить Уржумова. Но такое родственное обращение к неприступной Елене парнишки, который только появился, изумило. Непроизвольно поставив саквояж на стол, Виктор шагнул вперед.
– Что здесь происходит, не понимаю? Елена, я за вами. Нам нужно скорее на корабль, еще немного, и будет поздно.
Девушка молча смотрела на него, странно так смотрела. Рядом, чуть заслонив ее плечом, стоял брат – худенький, длинноволосый, глазастый. Эти глаза холодным огнем прожигали Уржумова.
– Сейчас, сейчас, – пробормотал он, оборачиваясь, чтобы взять саквояж, раскрыть его… «Сейчас все изменится, она увидит…» – успел еще подумать.
Но в этот момент Саша Петрусенко ловко подскочил к столу, чуть ли не из-под руки Уржумова подхватил саквояж, покрутил им на вытянутой вверх руке, словно дразнил.
– Что здесь, а, Скула? Золото, бриллианты? Понимаю, икон из тайника Христоненко здесь нет, но, может, старинные нательные кресты и панагии?
Все поплыло перед глазами Уржумова. Если, услышав «Аленка», он был изумлен, то теперь просто оглушен. Но сейчас же кровь от бешено колотившегося сердца бросилась в голову, затопила кровавой пеленой взор, он рванулся к ерничавшему мальчишке с хриплым ревом:
– Отдай!
Саша отпрыгнул и, словно мяч в баскетболе – да, да, когда-то именно Лодя и Алена учили его этой игре, – метнул саквояж Мите. Дмитрий ловко поймал подачу, сказал, спокойно глядя Уржумову в глаза:
– Мы отдадим, обязательно. Тем, кому это принадлежит, кого ты ограбил. Именно у меня есть список всех драгоценностей из хлыстовской добычи. И, между прочим, не забудь, достань из кармана футляр – браслет я тоже передам по назначению, дочери ювелира Браверманна Еве Либерсон. Помнишь, там есть гравировка?
Уржумов взвизгнул. Он хотел засмеяться, но получился визг загнанной в угол крысы. Он полез за пистолетом, но тот был под полушубком, быстро не получилось. А тут раздался хриплый, негромкий, но очень внушительный приказ:
– Опусти руку! Все равно не успеешь.
Раненый большевик полусидел на кровати, опираясь на локоть, в другой руке он держал револьвер, длинное дуло которого смотрело прямо в лицо Уржумову.
– Я у себя в тайге бью белку в глаз, – пояснил Кожевников. – А уж сколько на фронте немчуры положил, и не сосчитать. Не промахнусь. Куда хочешь? Могу прямо в сердце, чтоб не мучился.
Еще раз со всхлипом взвизгнув, Уржумов выбежал из комнаты, из дома… Выскочив за ним на крыльцо, Саша пронзительно свистнул в четыре пальца и крикнул:
– Выстрел за вами, Сильвио!
– Ну, и зачем ты это сказал? – укоризненно спросил Дмитрий, который вместе с Еленой и Лодей вышел следом.
– Ситуация похожая, – весело развел руками Саша.
– Да, брат, ты хоть и вырос, но не слишком повзрослел.
Обнимая Сашу за плечи, Митя вместе со всеми вернулся в комнату к Николаю. Обвел всех взглядом, сказал серьезно:
– Вот что, друзья, нам надо уходить отсюда, не мешкая. И не только Коле – всем.
– Согласна, – первая поддержала Елена. – От такого человека, как этот… можно ожидать любой подлости. Особенно после такого неожиданного для него разоблачения.
– Есть куда уйти? – спросил Кожевников: он уловил в голосе Мити определенные интонации.
– Да. Здесь гастролирует театр, его владельца я знаю по Харькову. Это Жаткин, – сказал Митя, повернувшись к брату.
– Он здесь? – удивился Саша. – Наш знаменитый театральный магнат!
– И я с ним уже говорил…Уверен, он не откажет нас приютить, спрятать. Он мечтает вернуться в Харьков, попробую уговорить его выехать прямо сегодня. В ближайшем же селении, где будут уже красные, отдадим Николая в их лазарет…
Митя старался говорить уверенно, но избегал смотреть на Елену. Боялся. Но его выручил Саша.
– Аленка, Лодя, – запросто спросил он их, – вы с нами? Неужели останетесь? Или станете эвакуироваться?
– Мы с вами, – так же просто ответила Елена.
И подняла глаза на Митю. У него мгновенно вспыхнули щеки, и, чтобы скрыть радостное смущение, он деловито распорядился:
– Тогда собирайте вещи, самое необходимое. Помогите Николаю одеться. Мы с Сашей заглянем за вещами ко мне и постараемся скорее найти транспорт, коляску или подводу.
Через минуту Дмитрий и Александр вышли во двор, направились к соседнему дому. Но вдруг остановились: мелодично прогудел клаксон, и у их калитки притормозил автомобиль. Из него вышел человек в необычной одежде: комбинезон, кожаная куртка на меху, меховая шапка, которую он снял и держал в руке. Светлые его волосы трепал ветер, а сам человек, заглядывая через забор, махал им рукой:
– Ребята, можно вас!
19
– Послушайте, – сказал незнакомец, – я ищу господина Кандаурова. Дмитрия Кандаурова, племянника Викентия Павловича Петрусенко. Это вы?
Он, улыбаясь, смотрел на Сашу. Тот тоже широко улыбнулся в ответ:
– Я его сын. А племянник и мой двоюродный брат Дмитрий – рядом.
– Вот удача, – обрадовался их собеседник. – Даже сын Викентия Павловича здесь! Катюшу, вашу сестренку, я видел маленькой. С вами же не встречался, но помню, вас зовут Александр.
– Совершенно точно, Сергей Евстафьевич. Я вас тоже воочию не видел, но узнал. Во-первых, у нас в доме висит фотография, где вы с отцом у аэроплана. А во-вторых, ваше баден-баденское приключение – легенда нашей семьи. Ну, и в-третьих, – кто ж не знает летчика Сергея Ермошина!
В самом деле: когда-то имя этого человека не сходило с газетных полос в России, да и пресса других стран уделяла ему внимание. Прославленный спортсмен-велогонщик, ставящий мировые рекорды, – он одним из первых в России увлекся воздухоплаванием, летал на воздушном шаре, а с появлением аэропланов тут же пересел на крылатую машину. И снова ставил рекорды, собирал толпы поклонников на своих показательных полетах. А еще – сам конструировал летательные аппараты… Правда, последние лет пять о Ермошине ничего не писали, ничего не было известно. Но Саша и Митя знали: он покинул Россию.
Братья и их гость прошли во двор, сели на лавку.
– Если не ошибаюсь, – спросил Саша, – вы живете где-то в Южной Африке?
– Точно, – кивнул Ермошин. – Увез туда семью в пятнадцатом году. У меня жена немка, и хотя немка всего наполовину и родилась в России, но газеты подняли вопль: Ермошин немецкий шпион! Это сразу, когда война с Германией началась. Вроде бы я на своем аэроплане сведения секретные для немцев собираю. Абсурд, но попробуй докажи!
– Я это хорошо помню, – сказал Митя. – Викентий Павлович тогда написал острую статью-опровержение в ежедневную газету «Русские ведомости», она была напечатана.
– Поклон ему за это большой, – приложил руку к груди Ермошин. – Травля прекратилась, но мы с женой все равно решили уехать. Ждали второго ребенка, я боялся за нее. А тут как раз брат жены, Эрих, позвал к себе. Он и его жена за два года до этого обосновались в Южно-Африканском Союзе, на землях у Оранжевой реки. Было им нелегко, но интересно, писал, что мне там дело найдется. Мы и уехали.
– Как же вы оказались здесь?
Сергей улыбнулся Саше:
– Я все-таки авиатор. Столько лет не участвовал в летных состязаниях, а тут узнал, что в Англии устраивается международный летный турнир. Подал заявку, прилетел на своей машине.
– На «Ерше»?
– Да, только этот «Ерш» самой последней моей модификации. Он меня не подвел, второе место мы заняли. Я не огорчен, все закономерно, у меня ведь и перерыв был большой, да и молодые авиаторы растут отличные, и самолеты новейших конструкций… Потом нас принимал король Георг, и после приема, на банкете, я познакомился с генералом Бриджем. Он сказал, что как британский военный представитель на днях отправится в Россию, помочь в эвакуации Добровольческой армии. Спросил, как я, русский, оцениваю положение… Знаете, ребята, – Ермошин посмотрел на них блестящими глазами, – так вдруг захотелось сюда! И я предложил: полетим на самолете!
– Согласился англичанин? – воскликнул Саша.
– Представь себе – сразу! Британцы, они по смелости и лихости нам близки, русским.
– Значит, это вы Бриджа сюда привезли?
– Я… Но не сразу сюда. Сначала мы полетели в Польшу помочь разрешить вопрос с армией генерала Бредова.
Дмитрий, о чем-то сосредоточенно думающий, встрепенулся:
– Мы здесь слышали, что у Тирасполя румыны отказываются пропустить наши части через Днестр. Какая подлость! Была же предварительная договоренность, что оттуда армия эвакуируется в Крым.
– В какой-то момент войска хотели просто силой перейти мост, войти в Румынию, – сказал Ермошин. – И румыны их не удержали бы. Но генерал не пустил: сами понимаете – чужое государство, нарушение международных законов… Они вдоль Днестра пошли к Польше.
– Это же какой путь! – удивился Митя. – Здесь, на юге, вон уже листочки начинают распускаться, а там?
– А там, ребята, еще зима. Скажу вам – героические люди наши воины. Ведь не сами шли – вывозили множество раненых, больных, беженцев, целые обозы! Оборону держали! А поляки тоже уперлись: не пустим, у вас тиф.
Митя скрипнул зубами: он знал, что такое отступление под огнем противника. Спросил:
– И что?
– Договорился Бридж. Сейчас бредовцев размещают под Перемышлем, под Краковом, в бывших немецких лагерях для военнопленных. Очень много больных – тиф. Все проходят карантин, офицерам оружие позволено оставить, солдат разоружают.
– Слава богу, – Митя перекрестился. – Хоть как-то…
– Вот там, на пропускном пункте в Ярмолинцах, я познакомился с полковником Штейфоном, – продолжил Ермошин.
– С Борисом Александровичем?
– Да, он тоже вас знает… В разговоре он сказал, что сам харьковчанин и полгода назад был в Харькове несколько месяцев. Ну, я, конечно, спросил и о Викентии Павловиче: как, мол, он поживает. А Штейфон мне подсказал: «Вы полетите в Новороссийск, там должен быть племянник господина Петрусенко, подпоручик Кандауров Дмитрий…» Вот я вас и нашел. Расскажите хоть немного, как там мой давний друг? Соскучился по нему.
«Везде, где Викентий Павлович вел расследования, у него оставались друзья, – подумал Митя. – В Саратове – сам слышал, когда ездил. Вот в Баден-Бадене интересную историю разгадал, а Сергей Ермошин ему помогал. Или под Серпуховом, там, где Елене и Лоде помог…»
– Сергей Евстафьевич! – Митя встал перед Ермошиным, и тот невольно тоже поднялся. – Я так понял, вы не на службе у англичанина?
– Нет, – пожал Ермошин плечами. – Этот полет – моя добрая воля.
– Тогда прошу вас, выручайте! Речь идет о жизни и смерти. И счет на минуты!
После небольшой паузы Ермошин серьезно ответил:
– Рассказывайте. Подумаем.
– Пойдемте в дом. Там нас заждались наши друзья.
Летчик со всеми быстро познакомился и быстро все понял. Главное, надо было срочно отправить раненого на территорию, занятую красными. Он и Николай понравились друг другу сразу.
– Надо же, – словно не веря себе, проговорил Кожевников, – я еще совсем парнишкой, перед войной, землю пешком хотел обойти. До Австралии добрался, по пути газеты читал и как раз о ваших полетах на аэроплане. Мечтал когда-нибудь сам полететь со знаменитым летчиком Ермошиным.
– Вот сейчас и полетим, – засмеялся Сергей. – Надо вас одеть потеплее, наверху холодновато.
– Зато кровь свернется и течь не будет, – пошутил Николай.
Митя тронул летчика за плечо:
– Сергей Евстафьевич, вы долетите до ближайшего населенного пункта, где уже есть большевики, но нет фронта. Лазарет, думаю, там найдется.
– А я вот думаю, – протянул Ермошин, – если уж летим в ту сторону, то почему бы не до Харькова? А? Там не просто лазарет – больницы, госпитали…
– Отличные госпитали, – подхватил Кожевников, – приходилось лежать. Вот только… не далековато ли для полета на аэроплане?
Сергей развел руками:
– Ребята, вы отстали от времени! Я такие расстояния летаю – ого! Еще засветло будем. И садиться мне на вашем беговом ипподроме не раз приходилось, я его хорошо знаю. И лично с Викентием Павловичем встречусь. Решено?
– Конечно! – закричал Саша. – Ура! Знаменитый летчик Ермошин летит к знаменитому сыщику Петрусенко и везет знаменитого революционера Колю Кожевникова!
– Баламут… – Николай покачал головой, откинулся на подушку.
Елена подошла к нему, тронула лоб.
– Как вы себя чувствуете, Коля? Выдержите полет?
– Непременно, – ответил он, улыбаясь через силу.
Митя смотрел на них и вдруг спросил Ермошина:
– Сергей Евстафьевич, если вы решили лететь в Харьков, может, возьмете еще одного пассажира? Пассажирку…
Елена подняла на него глаза, но ничего не сказала. Она ждала ответа Ермошина. Тот подумал немного, потом покачал головой:
– Нет, на троих взрослых «Ерш» не рассчитан. Не потянет.
– Взрослых? – тут же спросила Елена.
Летчик кивнул, он ее понял.
– А вот юноша, – заметил, – как раз подходящей комплекции. Я бы сказал – акробатического сложения. Полетим?
Он повернулся к Всеволоду. И хотя глаза у того восторженно горели, все же, судорожно сглотнув, он укоризненно воскликнул:
– Алена! Без тебя? Нет!
– Лодя… – Она быстро шагнула к мальчику, обняла, погладила густые волосы. – Мы тоже приедем в Харьков, другим путем, но очень скоро. Разве Дмитрий и Саша дадут меня в обиду? И путь для меня станет гораздо легче, если я буду знать: ты в безопасности. Душевное спокойствие – это тоже защита. И потом, ты прихрамываешь.
– Совсем немного!
– И все-таки…
– И потом, – быстро сказал Митя, – кто присмотрит за Николаем?
– Верно, – подхватил Сергей. – Я за штурвалом, мне даже оглянуться возможности не будет, а ваш друг ранен, мало ли что.
Лодя переводил взгляд с одного говорившего на другого и когда остановился на летчике, у него алели щеки, на губах блуждала счастливая улыбка.
– Полетим, – прошептал он.
– Тогда и его одевайте потеплее, – приказал Ермошин. – Быстро, и все в машину. Это мне генерал Бридж выдал, с шофером-англичанином. Самолет у меня совершенно на ходу, даже заправлен – британцы очень организованный народ.
Когда машина примчала их на поле, где стоял «Ерш», они в первую очередь очень аккуратно вывели, почти вынесли Николая, одетого в пальто, шапку и платок поверх шапки, устроили на втором сиденье и еще укутали пледом, хорошо подоткнув его. Митя обнял друга, сказал:
– Потерпи немного, потом все будет хорошо. И – до встречи.
– Спасибо вам, ребята, – проговорил Кожевников растроганно. – До встречи. Это правильно, что вы возвращаетесь.
Всеволода устроили рядом, тоже пристегнули, укрыли одеялом. Только платок он не дал себе повязать, посильнее натянул шапку. Тут Дмитрий протянул ему саквояж Уржумова – взял его с собой. Они не открывали эту сокровищницу – не было ключей, да и времени. Но Митя знал точно: там много чего ценного находится.
– Возьми, – сказал он юноше, – отдашь лично Викентию Павловичу.
Лодя кивнул и прочно установил саквояж у себя в ногах. Он был весь как сжатая пружина, весь в ожидании – сейчас, сейчас полетим!..
Ермошин махнул механику – заводи мотор. Пожал всем, и Елене, руки.
– Все, ребята! Мы полетели. И вы торопитесь.
Сказал шоферу по-английски:
– Отвезите моих друзей обратно и передайте генералу мою благодарность. Скажите, я улетел по срочным семейным делам.
Уже из разворачивающейся на поле машины они увидели Ермошина в кабине, в шлеме и очках. Помахали ему в ответ на его прощальный взмах.
– Теперь домой, – приказал Дмитрий. – Быстро берем вещи, самые необходимые, и – в театр, к Виктору Васильевичу Жаткину.
Автомобиль споро катил по просохшей грунтовке, Митя и Елена сидели сзади, а Саша – рядом с невозмутимым шофером, и все оборачивался к ним, и говорил без остановки:
– Полетели! Надо же, сам Ермошин, это просто чудо! Сегодня же папа и мама будут знать, что ты, Митя, возвращаешься! Честно говоря, отец немного сомневался. А мама и Катя нисколько. Какая всем радость! А тут еще и Алена, и Лодя, и Коля Кожевников… Как отец говорит – ну-ка, Митя, поправь, если ошибусь: Accidit in puncto, quod non speratur in anno. Ах, эти римляне, все на свете они знали. В самом деле, Аленка: «В один миг случается то, на что не надеешься и годами!»
Он смеялся, с любовью глядя на брата и девушку, глаза блестели.
– Какая удачная у меня все-таки поездка! Подождите, я вот вам еще расскажу, как сюда добирался, с приключениями. В какой-то момент снова пришлось стать Шуркой, сыном пекаря. Рассказывал там одним, какие мы хлеба выпекаем: ситный, крупчатый, боярский, караваи, ковриги. Представляете, обещал поставки наладить!
20
Виктор Уржумов не сразу понял, где он очутился. Он шел или бежал – тоже не помнил. Дышать было тяжело, из груди вырывался то ли хрип, то ли стон. Остановился, стал успокаиваться, огляделся… Понял, что он в районе французской колонии «Стандарт»: ровная мощеная улица, красивые одноэтажные дома с черепичными крышами, некоторые с ротондами, башенками. Невдалеке виден храм, кажется – Троицкий. А прямо перед ним вход в сквер, который называется «Сад на Стандарте».
Он вошел, сел на ближайшую скамью. Когда-то здесь по аллеям прогуливались отдыхающие, рассыпал брызги фонтан, вон в том здании работал синематограф «Мон плезир»… А совсем недавно, вплоть до вчерашнего дня, на скамейках, на земле, повсюду здесь сидели и лежали беженцы. Но теперь пусто – все хлынули к порту, к бухте, только груды мусора, бумаги, тряпья остались… Эвакуация, началась эвакуация. Да, ему тоже надо идти на корабль…
Виктор резко выпрямился. Успеет, он успеет, корабль отойдет часа через два, не раньше. А ему надо сделать еще одно дело – вернуться за своим имуществом. Тем, которое в саквояже! Сжимая кулаки до боли в суставах, он ругал, обзывал себя последними словами. Как он мог уйти, убежать, бросить столько золота, бриллиантов, изумрудов? Они достались ему нелегко, он добыл их хитроумными комбинациями, смелостью, ловкостью, отчаянной наглостью. Разве не рисковал он каждую минуту среди бандитов-головорезов, разве не подставлялся под пули? Свою кровную добычу он не отдаст!
Тихо засмеялся: «кровная добыча» – какое подходящее выражение. Хотя крови он старался не проливать, часто так и получалось. В банду к Хлысту попал потому, что искал таких. Вправил Хлысту вывихнутое плечо – ходил этот дикарь, мучился, думал, что навсегда калекой стал. После этого главарь был как воск в его руках. А то, что он придумал, – гениально! Мирно, спокойно экспроприирует «новая власть» излишки ценностей. Причем не однократно, а постоянно. И отдавали, еще и кланялись, еще и благодарили. Эх… Не повезло, казалось: попал в облаву, в тюрьму. Но и тут удача – чахоточный потомок миллионера. А ведь мог он Ивана убить, может, и надо было это сделать – небось он и навел Петрусенко на его след. Но пожалел, не пролил крови…
В памяти Виктора вдруг так ясно проступила картина: когда он, простучав букву кодом Морзе, спустился по каменным ступеням с фонарем в руке, перед ним открылась комната и множество ликов, глядевших на него с деревянных досок. Он тогда задохнулся от радости: нет, не ошибся! Но прежде чем собрать все богатство, стал искать выход. Ведь входная дверь-плита захлопнулась, чего он, впрочем, ожидал. Стал вспоминать слова Ивана, сказанные в бреду, – сумел ведь из этого бреда вычислить вход. А что говорил больной дальше? Что-то вроде: «Помолись на крест, он наш путь, возложи руки, вперед…» И догадался! Никто б другой не догадался! Только потом стал складывать иконы в два чемодана и мешок. Тащил через лес, к тракту, потому что заранее просчитал: в это утреннее время крестьяне из ближайших сел возят продукты на рынок в город. Напросился в одну такую телегу, сказал хозяину, что везет в город книги, еще отцовскую библиотеку. Времена, мол, трудные, хочет продать. Мужик с сомнением покачал головой, но пустил наивного интеллигента, довез до города…
А в тайнике Настасьевском оказались не только иконы, но и кресты, медальоны, панагии. Какие же там были ценные вещи: золотые, серебряные, с тончайшими узорами, украшенные драгоценными каменьями, покрытые эмалью… Этот мальчишка, Петрусенко-младший, верно угадал: кое-что он хранил именно в саквояже. И другие драгоценности…
Уржумов расстегнул верх полушубка, достал сафьяновый футляр. Вот он, браслет-змейка, до чего хороша вещичка! А сколько золота – тяжелая, а сколько бриллиантов, хоть и маленьких, но не сосчитать, да еще два изумруда-глаза. Один этот браслет – состояние! Но там, в саквояже, столько еще подобного…
Виктор вскочил, грязно, громко выругался. Разве не заслужил он своим умом, ловкостью, сообразительностью, предприимчивостью – всем, чего нет у других «благородных» дураков, – этой добычи! Столько усилий, и что – зря? Нет, ничего он не отдаст! Тогда он просто растерялся от неожиданности – в самом деле не ожидал от Кандаурова и его брата этакой прыти! Но сейчас он будет готов, «браунинг» при нем… Решено, он возвращается за саквояжем!
И все-таки он сначала сделал небольшой круг, заглянул на пристань. То, что творилось на подступах к ней, он уже видел, это его не трогало. А вот вид стоящих кораблей, в том числе и «Беспокойного», успокоил.
– Без меня не уйдет, – сказал сам себе. – А я через полчаса вернусь.
И Уржумов пошел, почти побежал к Вокзальной улице. Он не допускал и мысли о том, что его обидчики могли тоже уйти на корабль. У них на руках раненый большевик, эти сердобольные так просто его не бросят. Что ж, он поможет им, развяжет руки – застрелит комиссара. Если надо будет – всех постреляет! Елена… Нет, конечно, ее он не тронет, да она и ее брат помешать не смогут. Не захочет ехать с ним? Ну и черт с ней, на свои деньги там, за границей, он и кокоток себе купит, и аристократок…
Над городом кружил самолет. При повороте на Вокзальную Уржумов отошел на обочину, пропуская встречный автомобиль. «Разлетались англичане, разъездились, – мелькнула мысль. – Помогают, союзники, командуют…»
Он уже видел забор и знакомый двор. И трех человек – Дмитрия, Александра и Елену, которые шли к дому, всходили на крыльцо…
– Стойте!
Митя, Саша и Алена обернулись. Распахнув калитку, Уржумов шагнул к ним:
– Давайте сюда мой саквояж, быстро!
– Подожди…
Митя пошел к нему, но Виктор поднял «браунинг» выше, рука его не дрожала:
– Остановись! Подойдет ко мне тот, кто принесет саквояж!
Дмитрий близко видел бледное лицо своего бывшего друга, дергающиеся губы, взгляд даже не злой, а осатаневший. Но Саша не видел этого, потому что безрассудно пошел к ним.
– И ты остановись, – перевел пистолет на него Уржумов. – Где мой саквояж?
– А вон, летит, – Саша вскинул голову в небо, махнул рукой. – Адье, драгоценный саквояж! Знаменитый летчик Ермошин везет его знаменитому сыщику Петрусенко!
Самолет Ермошина, сделав второй круг над городом, удалялся, но был еще виден. Уржумов сразу понял – это не шутка. С воплем бессильного отчаяния он два раза выстрелил в небо.
– Не по уткам палишь! – со смехом закричал неугомонный мальчишка.
А старший брат его Дмитрий вновь шагнул вперед:
– Виктор, опомнись!
Развернувшись к нему всем телом, Уржумов выстрелил сразу как попало. Мимо! Нажимая второй раз на курок, он уже прицелился. Но за эти секунды между первым и вторым выстрелами ловкая фигура рванулась между ними:
– Митя-я…
Это был Петрусенко-младший. Уржумов так ясно увидел, как разорвала пуля его легкое пальто ниже левого плеча, как хлестнула красная-красная струя крови, как мальчишка стал падать на руки брату… Дальше смотреть не стал – побежал прочь, лихорадочно пряча оружие.
Дмитрий сразу понял, что Саша умирает. Увы, на фронте он навидался всяких ран. Эта была смертельная, почти в сердце. Елена стояла на коленях, держала Сашину голову, не давая ей опуститься на землю, по ее щекам текли слезы. Митя зажимал рукой рану, хотя знал – кровь не остановить. Нужно было бежать, кого-то звать, везти Сашу в лазарет, но… Это было бесполезно! Жизнь покидала его братишку, надо было быть с ним рядом в последние минуты.
Саша переводил взгляд с брата на девушку. Этот взгляд еще был живой, изумленный.
– Митя, Аленка, – спросил, – он что, убил меня? Но мне совсем не больно, правда.
Сделал движение приподняться, застонал, взгляд стал потухать, остывать.
– Нет, это не Сильвио… – прошептал, и губы дрогнули в попытке улыбнуться…
Уржумов бежал к пристани. Его гнал страх. Это был панический страх, которого он в жизни никогда не испытывал. Он боялся, что эсминец ушел без него. Еще недавно с уверенностью думал, что с ним ничего подобного не случится, а теперь… Теперь он знал: судьба играет человеком. Он так хорошо все рассчитал, все продумал. Последние три года, когда все вокруг рушилось – Отечество, монархия, вера, семьи, жизни, состояния… – он обнаружил в себе особенные силы и способности. Он стал богатым! Он был богатым еще сегодня утром! Что же случилось, в чем он ошибся? Неужели в том, что связался с Кандауровым? А ведь, казалось, такой удачный ход! Когда в октябре восемнадцатого года он встретил Дмитрия на харьковской улице и спросил, не расследует ли господин Петрусенко какое-нибудь преступление в приватном порядке, клад из христоненковского тайника уже хранился у него. Однако Виктор понимал: освободившись из тюрьмы, Иван, конечно же, поедет в Настасьевку. И ничего не найдет. Что он сделает? Ясно – пойдет к своему покровителю Петрусенко. Это его тревожило, вот и спросил Дмитрия как бы ненароком. А потом подумал: взять бы Кандаурова в друзья-сообщники, обезопасить себя… Не в этом ли промах? Слишком уж близко подошел Дмитрий к нему, сумел разглядеть, разгадать…
На Торговой площади пришлось по-настоящему пробиваться сквозь толпу. Но отсюда он увидел стоящие на рейде корабли, среди них и свой «Беспокойный». От сердца отлегло, и Уржумов с удвоенной силой стал работать кулаками, локтями, плечами. Ближе к причалу толпа подхватила его, потащила. Он кричал, срывая голос, бил не глядя, стрелял в воздух… Пробился к трапу, размахивая пропуском. Трап качался, трещал, кренился, потому что по нему на борт поднимались не поодиночке, а той же толпой, только уже просеянной вооруженными солдатами.
На палубе были и штатские господа, но большинство – военные. С удивлением Уржумов увидел, что многие – в казачьей форме. «Донцы, – отметил с неприязнью. – Откуда?» Миноносец зарезервирован был лишь для добровольцев. Впрочем, такая неразбериха…
Перешагивая через вещи, а то и просто через людей, Виктор спустился к каютам, распахнул дверь в свою. Когда недели две назад он расквартировывался здесь, делил ее только с хозяином – морским офицером. Понимал – нынче все по-другому. В каюте расположились и о чем-то громко говорили четверо донцов: урядник, вахмистр и двое рядовых. Они заняли оба стула, койку, но Виктору это было все равно. Он сразу увидел свои чемоданы – все, и наконец-то успокоился.
– Твои? – кивнул на них вахмистр. – Ну ты, видать, выжига, подпоручик. Спекулировал?
В его голосе не было ни зависти, ни осуждения. Виктор не ответил, а донцы сдвинулись, предлагая ему сесть. Он помотал головой, опустился на какой-то ящик между чемоданами, откинулся спиной на переборку, закрыл глаза… «Теперь все будет хорошо, – думал он. – Надо забыть о том, чего не вернуть. Со мной целый клад – старинные иконы. Иван рассказывал: когда-то его отец устраивал в Санкт-Петербурге выставку, и желающих их купить было много. Иностранцы, кстати, тоже. За большие деньги… А кресты, а панагии с драгоценными камнями! Слава богу, не все в саквояж запихнул, да все бы и не поместилось! Так что есть с чего начать богатую жизнь в Европе, в Турции мне нечего делать, поеду в Италию или во Францию. А то и в Америку. Потом удвою и утрою капиталы, я смогу…»
Корабль вздрогнул, потом еще раз, началась легкая качка.
– Отчаливаем, – сказал кто-то из донцов. – Ну, с Богом! Пошли выйдем наверх.
Виктор перекрестился, встал. Ему тоже захотелось подняться на палубу, посмотреть. И вновь его поразило: сколько людей! Он протиснулся ближе к борту, увидел, как медленно отступает берег: пристань, бухта, город, страна… Ему не было жаль. Не щемило сердце, не застилали глаза слезы – так, кажется, описываются минуты прощания с Родиной в сентиментальных книжках для барышень. Ему-то как раз хотелось поскорее увидеть другие берега.
Корабль стал разворачиваться и вдруг накренился сильно – так, что некоторые люди не удержались на ногах. Раздался всеобщий вопль. На минуту показалось, что крен выправляется, но правая сторона опять пошла вниз. Виктор вцепился в подвернувшиеся тросы, боясь, что его просто собьют с ног. Но вот судно медленно выровнялось, застыло на месте. Из боевой рубки, усиленный рупором, раздался резкий командный голос:
– Господа офицеры, корабль переполнен и не может плыть. Если не хотите пойти ко дну, если хотите продолжить путь, все вещи – за борт! Это приказ!
На минуту утихшие крики разразились снова. Плач, ругань, просьбы, вопли. Но вот через перила за борт полетели тюки, сундуки, сумки, чемоданы… Уржумов, расталкивая и сбивая встречных, бросился к трапу, ведущему к каютам. И у самого его верха увидел донцов, тащивших его чемоданы. Его чемоданы!
– Стой! – закричал он, загораживая путь. – Куда? Нельзя!
– Такая тяжесть! – закричал урядник. – За борт их!
Один, а за ним и второй чемодан полетели в воду. Те самые, с иконами! Подбежав к перилам, Уржумов увидел, как ушли они на дно. С бешеным ревом обернувшись, он поднял «браунинг», выстрелил раз… Второго выстрела не прозвучало, кончились патроны. К ним бежали другие военные, а вахмистр, выхватив оружие, крикнул со злостью:
– Ах ты, собака! В своих стрелять! Мы на берегу коней родимых кинули, а ты из-за барахла…
И выстрелил. Виктор пошатнулся, сделал шаг назад и повис на перилах, уже не живой. Вахмистр подскочил, с натугой столкнул тело в воду, следом полетели другие чемоданы…
21
Как только Ермошин сделал круг над харьковским ипподромом и начал снижаться, к воротам, ведущим на беговое поле, стали сбегаться люди. Это было понятно: ипподром находился в черте города, недалеко от центра. Все кричали, размахивали руками, а после того, как Сергей, уже близко от земли, «помахал» крыльями, приветствия зазвучали еще громче. Кто-то узнал:
– Это же Ермошин! Сам Ермошин на своем самолете! На «Ерше»!
Машина уже коснулась колесами поля, замедляла ход. Публика толпилась у ограждения, не рискуя броситься к самолету, потому что, пересекая поле, к нему бежали трое красноармейцев. Они, видимо, слышали знаменитое имя летчика, потому что козырнули, остановившись. Сергей к этому времени уже спрыгнул с крыла, тоже козырнул и сказал громко, внушительно:
– Здесь, в самолете, раненый командир Красной армии, я вывез его из расположения деникинских частей. Помогите занести его в помещение, – кивнул на каменное здание администрации ипподрома. – Оттуда вызывайте карету «Скорой помощи». И организуйте охрану машины.
Пока Николая Кожевникова аккуратно снимали с самолета, несли через поле, Всеволод, быстро сбросив с себя теплое одеяние, кинулся к воротам… Когда еще в Новороссийске они ехали английским автомобилем к самолету, Саша рассказал ему, как в Харькове добраться к дому Петрусенко.
– Это совсем недалеко, – объяснял он Лоде. – Минут за пятнадцать добежишь. От ворот ипподрома возьмешь слегка влево, а там почти сразу начинается наша Епархиальная улица. Особняк почти посередине, по прямой и домчишься.
Теперь Всеволод так и бежал, уже по Епархиальной. И особняк по описанию Саши сразу узнал. Еще тяжело дыша, он резко позвонил в дверной колокольчик. Дверь быстро распахнулась, на пороге стояла девочка…
Когда-то давно он эту девочку видел. Ему было лет семь, и он вместе с Еленой приехал к соседям в имение «Бородинские пруды» проводить своего друга Сашу Петрусенко. Викентий Павлович, отец Саши, уехал раньше и срочно, потому что в Киеве был убит господин Столыпин. А теперь и Саша со своей мамой и маленькой сестрой уезжали в Харьков. Тогда на эту девочку, совсем маленькую, пятилетнюю, он не обратил внимания. Не помнил даже, как ее зовут, но сейчас, в Новороссийске, Саша несколько раз говорил о ней и называл – Катя… Теперь она стояла перед ним. Минуту назад мысли Всеволода занимали очень важные вещи, и вдруг он забыл обо всем. «Настоящая фея!» – подумал он, глядя на тоненькую фигурку в серебристом платье, на огромные голубые глаза и рассыпанные по плечам густые локоны. Она тоже смотрела на него, не отрываясь, склонив головку, вдруг улыбнулась, взяла его за руку, заставив перешагнуть порог, и захлопнула дверь.
– Князь Всеволод! – воскликнула. – Это вы? Откуда? Уж не с неба ли спустились?
– Да, – ответил он, не отводя от нее глаз и мечтая, чтобы она не отнимала руку. – Я прилетел на самолете, с летчиком Ермошиным.
– Правда! – Катя радостно захлопала в ладоши. – Сережа прилетел! Папа, мама, Сергей Ермошин прилетел на самолете! И Лодя Берестов с ним!
– Да, да, – тут же пришел в себя Всеволод. – Мне срочно нужен Викентий Павлович! Он дома?
Когда на быстрой пролетке Петрусенко с юным Берестовым подкатил к воротам ипподрома, туда как раз въезжала карета «Скорой помощи». Петрусенко и Ермошин радостно обнялись, но разговаривать времени не было. Все вместе проводили Николая Кожевникова в городскую больницу, где был оборудован и военный лазарет. Тот самый, кстати, где Николай залечивал раны в шестнадцатом году.
– А говорят, нельзя войти в одну и ту же реку, – пошутил Кожевников, когда его несли на носилках по больничному коридору. – Тут почти ничего не изменилось. Почти…
Через полчаса на машине приехал начальник штаба Юго-Западного фронта Александр Егоров, быстро прошел в отдельную палату, куда поместили Кожевникова. Их разговор явно был не для посторонних ушей, вот тогда Викентий Павлович и увез всех домой.
Викентий Павлович и Людмила Илларионовна уже знали, что Митя с Сашей, а с ними Елена возвращаются в Харьков – Всеволод успел рассказать. Их встреча в Новороссийске поразила Людмилу, но Петрусенко сказал философски:
– Судьба – это магнит, который притягивает к себе родственные души. – Засмеялся: – Как афоризм? Сам придумал!
Они сидели за столом в гостиной, ужинали, и Всеволод теперь подробно рассказывал, как Николай Кожевников узнал в Дмитрии своего харьковского друга, как Елена и он сам догадались, что Митя – из семьи Петрусенко, как появился Саша. Викентия Павловича особенно порадовало то, что Дмитрий сам вычислил Уржумова-Скулу.
– У него отменный разыскной талант! Я совсем недавно говорил об этом. Помнишь, Люся, – Артему. Мы еще поработаем с Митей, поработаем!
Саквояж Уржумова стоял здесь же, в комнате, на бюро. Викентий Павлович уже открыл его, сбив замки. И все увидели, что он набит ювелирными украшениями – в футлярах, мешочках и просто россыпью. Блеск золота и камней при электрическом свете поражал. Но Викентий Павлович сразу же увидел иное. Радостно вскрикнув, он достал из саквояжа маленькую икону в киоте, отделанном серебром и жемчугами, оглянулся на жену:
– Люся, посмотри! Это же миниатюрная копия «Богоматери Иерусалимской» Кирилла Уланова! Та, которую он сделал, когда уже стал монахом и принял имя Корнелий. Я ведь не ошибаюсь?
Людмила Илларионовна взяла в руки икону, вздохнула, прикрыв глаза:
– Да, Викеша, это она. Я хорошо помню, как Павел Иванович показывал ее нам в Настасьевке, говорил, что это – жемчужина его коллекции. Начало восемнадцатого века.
– А вот еще… Ребята! – теперь Викентий Павлович обращался ко всем. – Какая уникальная вещь: старообрядческая панагия-складень! Видите, деревянные створки не овальные, а четырехгранные, в них – меднолитые иконы. Это – святые Зосима и Савватий Соловецкие. Техника поморских старообрядцев, тоже восемнадцатый век. А вот восьмигранный меднолитой старообрядческий крест с цветными эмалями. А вот чудесная панагия в золотой оправе, с изображением Богоматери на агатовой камее. Знаете, Павел Иванович Христоненко подозревал, что это та самая панагия, которую священник не захотел отдать Дмитрию Самозванцу – очень ему хотелось в это верить. Да… Это реликвии из его коллекции. Какие вы молодцы, Сергей, Лодя! И, конечно же, Митя, Саша, Алена. Помещик Христоненко, собирая эти произведения древнерусского искусства, хотел сделать их всеобщим достоянием. Что ж, так теперь и будет. Я напишу Артему, то есть – Федору Андреевичу Сергееву, и лично передам все ему. Пусть решит, в каком музее эта ценность будет храниться.
Отделенные от ювелирных изделий, теперь эти древние вещи лежали на бюро. Ужин закончился. Людмила Илларионовна разливала чай, на столе по-явились мед и крендели.
– Помнишь, Сережа, – обратилась она к Ермошину, – как в Баден-Бадене, в «Целебных водах», мы сидели на веранде и господин фон Кассель рассказывал о жизни в Южной Африке, на берегах Оранжевой реки.
– Да, дорогой, – подхватил Викентий Павлович, – а теперь ты расскажи нам о своей жизни на тех же берегах.
– Готов! – Сергей со смехом поднял руки. – Вы знаете, что мы с Эльзой там уже почти пять лет. Эрих и Труди уехали туда еще в тринадцатом, сразу, как окончили учебу и поженились. А через два года и мы присоединились к ним.
Катя, сидевшая рядом с Всеволодом, тихонько поясняла ему, кто есть кто.
– Эльза – жена Сережи, он называет ее Лизой. Эрих – ее брат, а Труди – его жена. Разобрался? Я их всех хорошо помню, хотя мама и говорит: «Нет, ты не можешь помнить, тебе было только четыре года». А вот помню! Эрих и Труди тогда были еще совсем молодые, ей – шестнадцать, а ему – восемнадцать лет… Ну, это мне, конечно, уже мама говорила… Они любили друг друга, а потом поженились и уехали в Южную Африку. Труди, она ведь там родилась…
Ермошин рассказывал о городке Грааф-Лейке.
– Прекрасный городок, кусочек старой Европы среди африканских просторов! Представляете: мощеные улицы, белые особняки – в основном одноэтажные, но такие просторные и красивые. Деревья ровными рядами, клумбы, подстриженные цветущие кустарники. Поначалу мне все казалось ненастоящим, а теперь… Я полюбил и городок, и его жителей. Теперь это называется провинция Оранжевое Свободное государство, входит в Южно-Африканский Союз. Уже легко говорю на африкаанс…
– Это что, язык такой? – удивилась Катя.
– Да, Катюша, это местный язык. Ему уже лет двести, наверное.
– Он трудный?
– Нет, если знаешь немецкий, совсем не трудный. Потому вся наша семья им свободно владеет, и мои сыновья Ваня и Вася болтают, как на родном.
– А русский они знают? – спросил Викентий Павлович, прищурив глаз.
– Конечно! – Сергей, казалось, удивился. – Как иначе. Мы с Лизой дома говорим только по-русски.
Оказалось, что Ермошины купили дом в городе, живут там, а молодые Лютцы – Эрих и Труди – обзавелись фермой в долине Оранжевой реки.
– Это, в общем, недалеко, – объяснил Сергей. – Лиза часто с мальчиками гостит у них и малышки Николетты. Ребята разводят коней и коров, поголовье пока небольшое. Но у них есть мечта: открыть свой заповедник, пусть и маленький. Частный заповедник, в котором больных животных будут лечить, в котором нельзя будет охотиться. Сейчас знаете сколько охотников едет в Африку? Никогда раньше такого не было!
– А ты, Сережа, чем занимаешься?
– Я, Людмила Илларионовна, как всегда – летаю. При нашем городе у меня аэродром – уже три самолета. Обучил себе смену, двух молодых летчиков, и мы развозим почту по фермам и другим городкам, людей, грузы. Ну и время от времени летаю на соревнования. Вот как этот раз в Англию.
Взрослые заговорили о беженцах, о тифе, об эвакуации. Катя увела Всеволода в сторону, села рядом с ним на кушетку.
– Ты хочешь мне что-то сказать? Или мне кажется?
Он помолчал, пристально глядя на девочку, кивнул:
– Да… Как ты смогла меня сразу узнать? Ты же была совсем маленькой.
– Ты совсем как моя мама: «Тебе было пять лет, ты не могла помнить». А я помню! Ты подарил мне цветочки.
Всеволод улыбнулся:
– Мне тоже было только семь лет, я сам бы не додумался, потому что ехал прощаться с другом. А сестра сказала: «Там будет девочка, давай соберем ей букет». Вот и собрали. Но, честно говоря, я тебя и не запомнил. А ты… запомнила?
Катя состроила забавную гримасу, заговорила наивным детским голоском:
– Я была маленькая, глупая девочка и потому считала тебя очень красивым!
Всеволод смутился, его щеки залил густой румянец. Но он не отвел взгляда от развеселившейся девочки, спросил тихо:
– А сейчас?
– Сейчас я большая и умная! – торжественно провозгласила Катя. И добавила, тоже понизив голос: – Поэтому считаю тебя очень красивым. И храбрым! Ты спас раненого друга моих братьев, ты летел на самолете, ты привез украденные драгоценности! Я так и считаю, Лодя, – закончила уже совершенно серьезно, – ты красивый и смелый.
… Сергею постелили в комнате Мити, Всеволода уложили в спальне Саши. В доме наступила тишина, Викентий Павлович и Людмила остались в гостиной одни. Людмила села на кушетку, по давней привычке положив голову на плечо мужа и поджав ноги.
– Славный мальчик вырос князь Берестов, – сказал Викентий.
– Не такой уж и мальчик, – Людмила улыбнулась. – С Кати глаз не спускает.
– Разве?
– Не хитри, Викеша, ты тоже заметил.
– Верно, верно… А Катенька такая оживленная была, вроде бы и не смотрела на него, но так красноречиво. Это что, женское кокетство?
– Викеша, – Людмила отстранилась, заглянула ему в глаза. – Мы все время говорим не о том, о чем думаем! Когда Сергей и Лодя улетали из Новороссийска, они не знали, что сталось с Уржумовым? Что он предпримет? Чует мое сердце, он так ребят наших не оставит!
– Они взрослые, Люсенька, и не беспомощные. Они уже с ним справились, если придется – справятся снова.
Посмотрел в тревожные глаза жены, засмеялся:
– Представляешь, собрались возвращаться вместе с артистами Виктора Васильевича Жаткина! В походном театральном балагане, чем не приключение?
– Да, Сашенька у нас артист. – Она тоже улыбнулась ему. – Он может даже по пути и сыграть в каком-нибудь спектакле, есть у него к этому талант…
Викентий прижал жену сильнее к себе, коснулся губами ее волос… Он, так же, как и она, за этим легким диалогом изо всех сил пытался скрыть свою тревогу.
22
Две крытые брезентом повозки – кочующий театр-варьете «Сад Тиволи» – ехали в сторону станицы Крымской. Места были пустынные – белая армия отсюда ушла, но и части Красной армии тоже не встречались. Может, прошли к Новороссийску стороной? Повсюду остались приметы поспешного отступления, но здесь их было уже значительно меньше, все не так удручало. Когда Дмитрий и Елена вместе с артистами покидали Новороссийск, на много километров от вокзала дорога была забита брошенными обозами, артиллерией, бесчисленными телегами, на железнодорожных путях стояли оставленные целые составы с грузами…
Жаткин, обозревая все это, изрек:
– Шекспировская трагедия. Грандиозно… Нет, даже посильнее будет. А вот лошадок мы хороших взяли.
В городе осталось множество кавалерийских коней, вот Жаткин и выбрал по паре на каждую свою повозку.
Предполагали в станице Нижнебаканской пересесть на поезд – там была железнодорожная станция. Но, оказалось, поезда туда уже давно не доходят. Было решено добираться до станицы Крымской, возможно, оттуда получится уехать.
– Ничего, – констатировал с неизменным оптимизмом Виктор Васильевич. – Не будет и там поездов, отправимся дальше. Уж в Батайске железнодорожное сообщение наверняка есть, не сомневаюсь.
Жаткин время от времени переходил из первой повозки, где ехал с основной труппой, во вторую – здесь он устроил Дмитрия и Елену. Рассказывал им обстановку, старался подбодрить. Потом, вздыхая, возвращался к себе. Он сам и еще два артиста помогали похоронить Сашу. На Новороссийском кладбище никто даже спрашивать не стал, что за покойник, откуда, отчего умер. Каждый день там хоронили десятки людей, умерших в госпиталях от ран, в больницах или даже просто на улицах от сыпняка. Многие могилы были безымянными, на них ставили таблички с номерами. Усталый, в пыльной рясе священник из прикладбищенской церкви отпел Сашу прямо у вырытой могилы, артисты принесли крест, на котором краской из реквизита написали фамилию, имя, годы жизни…
Это было всего лишь вчера вечером, а казалось, пролетела вечность. Выехали из Новороссийска так рано, что еще и не светало, а теперь уже вновь вечер. Дорога оказалась пустынной – ни белых, ни красных. Только один раз им путь перегородили пятеро вооруженных мужчин, одетых кто во что.
– Это зеленые, – предупредил Дмитрий.
На что Жаткин воскликнул:
– Ну просто все цвета радуги!
О зеленых тут все знали. Кто называл их партизанами, кто – дезертирами, кто – бандитами. Их отряды спускались с гор, нападая и на красных, и на белых, а больше всего – на беженцев. Себя называли борцами за свободу. Какую? А просто за свободу! Узнав, что перед ними артисты, зеленые повеселели, попросили сыграть чего-нибудь. Один, правда, заглянул во вторую повозку, спросил:
– А это что за молодец? Тоже артист? Больно на господина офицера смахивает!
Виктор Васильевич развел руками:
– Это наш ведущий герой-любовник! Видите, он уже в костюме.
Еще в Новороссийске он заставил Дмитрия снять офицерскую форму и надеть то, что оказалось среди реквизита, – фрак. Пока партизан недоверчиво оглядывал Дмитрия, три танцовщицы под скрипку стали отплясывать канкан… В общем, разошлись благополучно.
Темнело, но Крымская казалась уже близко, решили доехать. Повозка монотонно покачивалась, кучер управлял лошадьми, а больше никого не было – Митя и Алена остались здесь одни. Из идущей впереди головной повозки раздавались громкие голоса, смех: артисты собрались там на общий ужин. Их тоже звали, но они отказались, и соседи, двое артистов, сказали: «Ладно, мы потом вам принесем».
Митя и Алена полусидели на разложенных на полу диванных подушках, он обнимал девушку за плечи, она положила голову ему на грудь.
– Мы с Лодей два года жили во Франции, – тихонько рассказывала она ему. – А потом решили вернуться в Россию. Мне очень хотелось… Во Франции, в Италии было хорошо, но я ведь родилась и всю свою жизнь жила здесь. Все родное… А брат, наоборот, – родился и первые свои годы рос во Франции. Значит, его родина там. И хотя после он полюбил Россию, но такого родства с ней, как я, не ощущал. Он особенно не стремился сюда, но, конечно, поехал со мной. Он, Митя, в детстве пережил большое потрясение, ты ведь знаешь?
– Да, – Дмитрий легонько погладил ее плечо, – я знаю, как погибли ваши родители.
– Время, конечно, лечит, но его психика была сильно травмирована. Вот я и решила, что мы поселимся в Пятигорске. Слышала об этом чудесном городе, где бьют источники теплых нарзанов, где есть серная вода, целебные грязи и горный воздух. И все это лечит от многих болезней, в том числе и нервных. Решила: поживем несколько лет, Лодя окрепнет, возмужает, а там видно будет…
– А там началась война, – тихо сказал Митя.
– Да. Но сначала все было прекрасно. Я продала один из наших особняков в Москве и купила виллу в Пятигорске. Рядом было много других дач, особняков. Мы с Лодей полюбили Пятигорск, там столько красивых мест! Галереи с целебными водами на склонах гор Горячей, Михайловской, озера Больта и Тамбукан, вершины Бештау и Машука, парки, скверы, Провал с его серным озером… Мы все время гуляли, Лодя и правда окреп. Когда началась война, стали привозить на поправку раненых, но особенно жизнь не изменилась. Я тогда помогала в госпитале, была медицинской сестрой. Плохо стало, когда сменилась власть. Мы бы уехали, но теперь выехать за границу оказалось невозможно. Потом пришла Донская армия, появилась надежда, что вернется прежняя жизнь. А осенью прошлого года мы решили уехать в Крым – было уже ясно, город отдадут большевикам. Все наши соседи, кто, конечно, не уехал раньше, двинулись к Новороссийску. И мы тоже…
– А что там? Почему вы остались?
– Сначала подул норд-ост… Митя, ты видел норд-ост?
Митя сам не видел, но в Новороссийске слышал. Это случается чуть ли не ежегодно, начиная с ноября. Внезапно налетает шквалистый ветер, который еще с давних времен прозвали «бореем» – холодным северным ветром. Сейчас новороссийцы все чаще называют его норд-остом. Резко падает температура воздуха, буквально за час-два, ураган срывает крыши, опрокидывает экипажи, выворачивает фонарные столбы, разбивает суда в порту. Но самое страшное – оледенение. Все вокруг покрывается толстой коркой льда. Корабли зарастают льдом так сильно, что могут просто затонуть от тяжести. Продолжается все это долго, иногда больше месяца…
– Это сказочно красиво, Митя, – рассказывала Елена. – Сначала над горами повисают белые громадные облака, они медленно опускаются на город. Потом все леденеет: дома – ледяные дворцы, деревья – в ледяных кружевах, корабли – ледяные призраки. Глазам от сверкания льда больно. Но очень холодно и очень сильный ветер! Мы тогда еще жили в гостинице, поначалу у нас были деньги. Там неплохо топили, это нас спасало. Потом деньги кончились, я продала драгоценности, какие были, но их было немного. Я ведь равнодушна к украшениям… А потом я нашла работу – в трех семьях стала учить детей музыке и французскому. Никто не знал, что я княжна Берестова, я назвалась Еленой Лукашовой. Я ведь эту фамилию много лет носила. А из гостиницы мы переехали в тот дом, где мы с тобой встретились.
– Норд-ост закончился?
– Да, через три недели. А вот Лодя заболел. У него был такой сильный кашель, что я боялась за его легкие. Лечила, вылечила, а тут как раз в город хлынули потоки беженцев, вслед за военными. И – тиф! Все рвались на корабли, они тогда еще ходили. А мне стало страшно: как же такого ослабленного, исхудавшего, полуголодного брата я затолкаю в толпу, где непременно найдется сыпнотифозный? Да к нему болезнь тут же прицепится! В общем, остались. А вскоре корабли перестали вывозить гражданских, только военных. Куда-то уходить? Мы не знали куда… Как хорошо, что ты появился, Митя. И что мы возвращаемся… Как ты думаешь, что будет?
– Будем жить… – он помолчал, потом добавил медленно: – Это будет другая жизнь. И – без Саши…
В его глухом голосе прозвучала такая отчаянная печаль, что Елена сильнее прижалась к нему. По ее щекам беззвучно текли слезы. Она словно видела веселого, крутолобого, как бычок, одиннадцатилетнего мальчика, который играл с ней и Лодей в баскетбол, залезал на рыцарскую башню, ел фрукты на веранде. И, между прочим, очень ловко помогал своему отцу в некоем тайном расследовании…
– Знаешь, Митя, что сказал мне Саша девять лет назад, в нашем имении «Замок»?
– Обо мне?
– О тебе. Он звал нас приехать в гости, в Харьков. И сказал: «У меня есть брат Митенька, ему тоже семнадцать лет. Он красивый, умный, хороший. Он тебе понравится, и вы поженитесь».
– Саша у нас всегда легко находил потерянные вещи. И все угадывал. И предсказывал просто поразительно точно!
Голос у Мити был уже не глухим, а звенящим от светлых воспоминаний. Повозка подпрыгнула на ухабе, он притянул к себе Алену, и она крепко обвила руками его шею…
Эпилог
Иван Христоненко прожил совсем недолго. Не сумели помочь ему знаменитые врачи, лучшие австрийские и швейцарские туберкулезные клиники и санатории. Он умер от чахотки в одной из таких альпийских клиник в 1924 году.
Профессор Шатилов с 1919 года все свои знания и силы отдавал борьбе с эпидемией сыпного тифа. Весной 1921 года он занимался тифозными больными в харьковской тюрьме и там сам заразился сыпным тифом. Он умер, выполняя свой врачебный долг.
Генерал Владимир Зенонович Май-Маевский в конце 1919 года был отстранен от руководства Добровольческой армией, уволен в запас. На его место был назначен барон Врангель. В 1920 году Врангель вернул Май-Маевского в армию, в Крыму Май-Маевский руководил тыловыми частями Русской армии. 30 октября 1920 года, когда части Русской армии генерала Врангеля в Севастополе грузились на корабли, покидая Отечество, генералу Май-Маевскому был выделен автомобиль для перевозки вещей на корабль. По пути на пристань в этом автомобиле он умер от разрыва сердца. По другой версии – прямо в пути, приподнявшись с сиденья автомобиля, Владимир Зенонович выстрелил себе в висок. Тело его отвезли в одну из севастопольских больниц, дальнейшие следы теряются. Место захоронения генерала Май-Маевского неизвестно.
Федор Андреевич Сергеев – товарищ Артем – в 1920–1921 годах стал секретарем Московского комитета РКП (б), членом ВЦИК. Ему было 38 лет, он был полон сил и энергии, ему поручили создать Международный союз горнорабочих. Шахтеры – наиболее сплоченный и передовой отряд промышленного пролетариата, Ленин и Дзержинский планировали опираться на него, предвидя в будущем противостояние с Троцким. 24 июля 1921 года Артем вместе с иностранными коммунистами выехал из Москвы в Тулу на встречу с шахтерами. Добираться решили в аэровагоне, который уже прошел испытания. Аэровагон – в то время последнее словно техники, он развивал скорость до 140 километров в час, с такой скоростью летали самолеты. Вечером на обратном пути аэровагон сошел с рельсов. Погибло семь человек, в том числе и Артем. Официальной причиной крушения названо плохое состояние железной дороги. Но многие в руководстве страны были убеждены, что катастрофа оказалась не случайной. Похоронен Артем в братской могиле на Красной площади в Москве.
Борис Александрович Штейфон уже в эмиграции был произведен в генерал-лейтенанты. С 1922 года жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, которое с 1929 года стало называться Югославией. Писал книги по военному искусству, мемуары – в том числе о Гражданской войне в России: «Кризис добровольчества», «Бредовский поход». Всегда оставался убежденным монархистом. Неутихающая ненависть к разрушителям Российской империи стала причиной того, что в 1941 году Штейфон возглавил Русский охранный корпус, который боролся с югославскими партизанами, а потом, в 1944 году, и с частями Красной армии, пришедшими на Балканы. В самом конце войны, 29 апреля 1945 года, понимая, что он вновь побежден большевиками, генерал Штейфон в Загребе провел смотр частям Русского корпуса, отстоял всенощное бдение. 30 апреля у него случился сердечный приступ, и он скончался в своем гостиничном номере. Похоронен в городе Крань в Словении.
Через три года после возвращения в Харьков князь Всеволод Берестов, которому исполнилось восемнадцать лет, и его юная шестнадцатилетняя жена Екатерина, в девичестве Петрусенко, уехали в эмиграцию – навсегда.
Дмитрий и Елена Кандауровы остались в России. Судьба отпустила им быть вместе 18 лет. Трудных лет для страны. Трудных лет для их семьи. Но необыкновенно счастливых лет, потому что они были вместе…