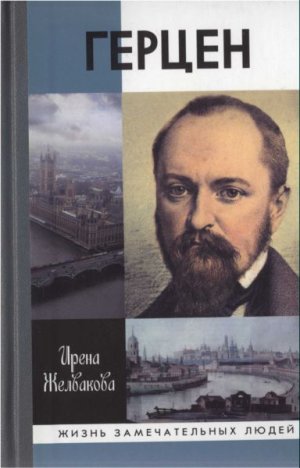
Желвакова И. А. Герцен
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
На «Былом и думах» видны следы жизни и больше никаких следов не видать.
А. И. Герцен
Жизнь — это быт, судьба — это вектор бытия.
В. С. Гроссман
Мальчику, родившемуся в грозовом 1812 году, непременно хотелось узнать, как это французы приходили в Москву и с чего все началось. Уж столько раз нянюшка Вера Артамоновна, укладывая своего питомца Сашу Герцена (семейно-ласково — Шушку) «в кроватку, обшитую холстиной», чтоб малец не вывалился, все повторяла и повторяла полюбившийся им двоим рассказ. Как не вспомнить: ведь была она свидетельницей, больше того — защитницей. Можно и так сказать. Страсть-то какая, на дворе — неприятель, мыкались и впрямь как бездомные. Кругом пожарище: идет огонь по пятам и до них добрался, и укрыться негде. Спасла младенца старушка «от ночного ветра», укутала его в «кусок ревендюка с бильярда», зашедши в уцелевший дом. Но передохнуть не случилось. Вновь оказались в уличном пекле. А дальше… еще жутчее, еще страшнее. Славные, хоть страшные воспоминания…
Особенно вдохновлял Александра прямо-таки героический эпизод из его младенческой биографии. Слушал с замиранием сердца, как побывал пятимесячным «на руках» у «препьяного» французского солдата. Вырвал тот Шушку у кормилицы да и давай копаться в пеленках: не припрятано ли чего драгоценного, ассигнаций каких с бриллиантами.
Прошло немало десятилетий (до 1853 года!), прежде чем Александр Иванович, прервав, перехватив рассказ старушки, взялся за свои мемуары: книгу жизни и о жизни, книгу судьбы и о судьбе.
Рассказов о Москве в ту роковую годину нашествия Наполеона ходило великое множество. Главное, писали очевидцы, спешившие закрепить свои сиюминутные наблюдения в письмах, устных свидетельствах, дневниках. В более поздние времена славные страницы московского противостояния вписывались в летопись о пережитом мемуаристами, историками, беллетристами, просто гражданами страны, черпавшими свою информацию из всевозможных источников. Рассказы участников и очевидцев, пережившие несколько поколений, сведения из официальных документов, слухи, легенды и анекдоты, которыми постепенно обросли реальные происшествия, хранились русским обществом как зеница ока. Однако неточностей, несуразности, недосказанности, просто неправды (возможно, даже из желания утаить истину) появилось предостаточно. Время вносило свою лепту в путаницу и недостоверность изложения, и оно же развеивало сложившиеся мифы, очищая их от плевел вольных или невольных заблуждений.
Даже рассказы Герцена, услышанные им от нянюшки и дворовых в свои восемь-десять лет, отнюдь не безупречно точны. Много воды утекло с тех пор, как гениальный создатель «Былого и дум» перенес на свое масштабное, красочное полотно сказочно-героическую эпопею народного сопротивления, неслучайно назвав свидетельства о войне своими «детскими сказками», своей Илиадой и Одиссеей. Выверить описание семейных мытарств Яковлевых в пылающей Москве и дополнить развитие последующих событий, сохранившихся в ранней памяти Герцена, позволяют и другие, приближенные по времени источники[1].
Итак, одна задача нашей книги, хоть и не главная, — сверить, дополнить, уточнить, прокомментировать вполне устоявшиеся факты. Очень многое в сочинениях писателя требует расшифровки. Недаром почти в каждой из тридцати пяти книг академического «Собрания сочинений А. И. Герцена в тридцати томах»[2] (в издании имеются сдвоенные тома) примечания, переводы, варианты, указатели занимают чуть ли не четверть каждого тома. В текст вторгаются «искандеризмы», как когда-то критики-недоброжелатели определили изумительно неправильный язык Герцена-Искандера, впрочем, сохраняющий в своей непревзойденной красоте редкую современность.
А какой охват событий, характеристик и портретов исторических лиц, очерченных пером художника. Как широк круг чтения, каковы юмор и неумеренность ассоциаций Герцена-полиглота, подчас не подвластных нашему «забывчивому» времени.
Живя сегодняшним днем и даже обучаясь в школах и университетах, мы плохо знаем да и не понимаем до конца прошлую, такую далекую и разнополярную жизнь. За далью даль не различишь — и, в крайнем случае, мы пользуемся сиюминутным инструментом текущей конъюнктуры, вместо того чтобы прибегнуть к свидетельствам и опыту предшественников. У Герцена и людей, подобных ему по феноменальности дарования, жизнь, творчество — всегда с оглядкой в прошлое, былое — «общее» и «частное», концентрация интеллектуальных сокровищ предшествующих цивилизаций, свободное размещение в закромах мировой литературы…
Сколько наблюдений, прозрений, психологических выкладок, предсказания в сочинениях и письмах писателя и философа. Из этого кладезя можно черпать и черпать. Без конца.
В общем, беремся за тяжелую ношу, принимая во внимание сложность основной задачи — жизнеописания замечательного человека. Ведь Герценом уже написана автобиография, и какая! «Не существует биографии, достойной этого человека, возможно потому, что его автобиография представляет литературный шедевр». Во всем согласимся с известным ученым[3], не раз в своих интересах приближавшимся к этой грандиозной личности, как, впрочем, и с другими энтузиастами и смельчаками, писавшими о Герцене, — историками-герценоведами, литераторами, публикаторами, исследователями, заинтересованными в сохранении его не умирающего и не устаревающего наследия.
Герцен работал над своими мемуарами и печатал их почти до самой смерти. С первых шагов на литературном поприще он поставил перед собой нелегкую цель: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя, которую толпа не поймет, но поймут люди» (курсив мой. — И. Ж.).
Он часто раздумывал над «отделами» будущего своего автобиографического труда, словно пунктиром намечал его план: «От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыши человека… Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее — встреча с Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели! Эта эпоха юности своим девизом будет иметь дружбу. Июль месяц 1834 окончил учебные годы жизни и начал годы странствования. Здесь начало мрачное, как бы взамен безотчетных наслаждений юности, но вскоре мрак превращается в небесный свет… и это эпоха любви… эпоха моей Наташи».
Когда через много лет Герцен взялся за отдельное издание «Былого и дум» (1860–1861), приобретя уже художественный навык и жизненный опыт, то на содержании и форме сочинения это не могло не сказаться. В обращении к читателю в предуведомлении Герцен писал, определяя композицию и жанр своего труда: «…между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений, — мне бы не хотелось стереть его.
Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из Былого, там-сям остановленные мысли из Дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть, по крайней мере, мне так кажется».
Когда Герцен готовил к отдельной публикации пятую часть своих мемуаров, в предисловии к четвертому тому (1866) он вновь «останавливался перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений», решив нанизать их, словно «мозаику в итальянских браслетах», удерживаемую «только оправой и колечками». Объяснение нового своего композиционного приема вызывалось неоправданным сомнением Герцена в возможности спаять воедино «отрывочные главы», не нарушая хронологии и духа времени[4].
«Рапсодичность» сочинения, по определению автора, то есть свобода, раскованность повествования, соединения разных тем и сюжетов, «забегающих вперед или отстающих», без стремления заключить их в строгие хронологические рамки и составила тот удивительный сплав воспоминаний и размышлений, где, по мысли Герцена, есть «и факты, и слезы, и хохот, и теория». Здесь, добавим мы, и смена палитры в описаниях разновременных явлений.
Бесспорно, «Былое и думы» — классический образец мемуаров — авторской исповедальной биографии. Они потрясают широтой охвата действительности, накалом интеллекта и страстей. В них — не только сиюминутный ход событий, причины и следствия различных ситуаций, но и отчетливая разница воззрений и оценок автора «во время» и «сейчас» от того, что он напишет «после». Сам и свидетельствует в предуведомлении к «Былому и думам»: «„Утреннее“ освещение его ранних автобиографических сочинений, относящихся к молодому времени, никак нейдет к его мемуарному, „вечернему“ труду».
«Воскресить в памяти время и обстоятельства», «изобразить человека в его соотношении с временем» — это ли не назначение мемуаров, сформулированное еще Гёте. Герцен словно вторит ему своим определением замысла «Былого и дум» — «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Притом очевидно, что душевное состояние и человеческие эмоции претерпевают во времени неминуемые изменения, а в представлении о былом расставляются новые, подчас нужные акценты, кажущиеся любому автору объективными.
Автор мемуаров — хозяин воспроизведенной им книги своей жизни. Он вправе выделить нужное, сознательно обойти запретное, проведя читателя по дорогам собственной судьбы. Не забудем, что сам Герцен открыл в мемуарах интимнейшую, сакральную страницу личной драмы, обнажил свою душевную смуту, бесстрашно предложив на общественный суд трагическую историю «кружения сердец». Естественно, что многие факты, оценки купировались и затемнялись, а некоторые исторические личности были сознательно обойдены или не были освещены в привычном для нас идеологическом ракурсе.
С тех самых времен, когда архивы Герцена стали не только семейной собственностью, но и общественным достоянием, сколько писем, записок, дневников, ранее недоступных читателю и не включенных в главы «Былого и дум», обнаружилось. Стоит воспользоваться прежде всего этими сиюминутными свидетельствами. Сколько томов литературного наследия писателя внесено в летопись его творческой и бойцовской жизни, претерпевшей почти за два столетия множество крайне противоречивых научных и политических толкований[5]. Сколько исторических эпох сменилось, сколько пристальных взглядов современников и потомков было обращено к этому гуманисту, писателю, издателю, философу.
Значит, задача книги — заполнить часть белых пятен, очерченных многими десятилетиями, представить концепции, факты, документы; рассмотреть Герцена, его жизнь и судьбу непредвзятым, незамутненным идеологическим туманом прошлого, взглядом. Постараться вновь прочесть тексты Герцена, выверяя их камертоном современности. Последовательно и просто, в соотношении со временем, рассказать об этом удивительном, не похожем ни на кого Человеке на все времена (не постесняемся этой довольно избитой, но точной формулы), поставившем идеал свободы личности во главу угла своей жизни.
Только при произнесении имени Александр Герцен бывает трудно отбиться от пустого повторения фраз, где-то слышанных, когда-то читанных, некогда усвоенных из ленинской статьи, сотворившей «нетленный» миф о «публицисте-революционере»: «Ах, это тот, кто „разбудил…“, тот, кто „остановился…“! Да, да, тот, который…»
Очень хочется вновь вызвать интерес к жизни и судьбе человека, гениально представившего всему миру русскую литературу наряду с Пушкиным, Гоголем, Достоевским и Толстым. Кстати, последний высоко определил место Герцена в нашей словесности и общественной жизни: «…это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям…»; «Читал и Герцена „С того берега“ и тоже восхищался. Следовало бы написать о нем — чтобы люди нашего времени понимали его. Наша интеллигенция так опустилась, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передает свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их».
О Герцене недостаточно сказать: писатель и выдающийся мыслитель. Он мыслитель-художник. Сила мысли, не консервативной, застойной, а постоянно развивающейся, эволюционирующей; диалектичность воззрений, питаемых новыми идеями — философскими, художественными и политическими, проходящими через горнило страстной полемики, остаются главными достижениями творческой деятельности Герцена, никак не умаляемой противоречиями и парадоксальностью его крайне динамичного теоретико-художественного мышления. Об органичном сочетании литературно-художественного и философско-теоретического начал в его творчестве написано множество работ, к которым, несомненно, прибегнет вдумчивый читатель, поставивший целью «глубоко проникнуть в ход его умственного развития» (Г. В. Плеханов) и полнее разобраться в теоретических обоснованиях его творческо-философского метода.
Как полагается, начнем ab ovo, то есть с самого начала…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЕРЦЕН В РОССИИ
Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие не успели еще принести плода; первые листы, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и настоящих. Другие механически спутали долю того и другого и погрузились в печальные сумерки. Люди внешние предаются в таком случае ежедневной суете; люди созерцательные — страдают: во что б ни стало ищут примирения, потому что с внутренним раздором, без краеугольного камня нравственному бытию человек не может жить.
А. И. Герцен. Дилетантизм в науке
Глава 1
«Я РЕБЕНКОМ В ЭТОМ СТРАННОМ МИРЕ…»
…«Ребячество» с двумя-тремя годами юности — самая полная, самая изящная, самая наша часть жизни, да и чуть ли не самая важная: она незаметно определяет все будущее.
А. И. Герцен. Былое и думы
День Благовещения 25 марта (по старому стилю) 1812 года принес добрую весть. Война еще не завтра. Не ожидаема, не предсказуема московским обывателем. А мир уже бурлит. В семье знатного аристократа, человека «комильфо», с нужными связями и достойным богатством, родился светлый мальчик. За Александром закрепят «сердечную фамилию». А что поделать — незаконный, Яковлевым не назовешь, а вот немецкое слово Herz (сердце, по-нашему) будет очень кстати. И «воспитанник господина Яковлева» не вызовет досужих перетолков. Так и запишут в канцелярском свидетельстве: воспитанник.
Только вернулся из «неметчины» Иван Алексеевич вместе с шестнадцатилетней девицей из города Штутгарта Генриеттой Луизой Гааг, а она вскоре и родила. Вот вам и Александр Герцен. Прекрасное имя для гения.
Может быть, действительно, если между родителями не брак, а сердечный союз по любви, тогда ребенок — дитя любви. И должен быть счастливым…
Отсутствовал Яковлев в России лет одиннадцать. Брат его, Лев Алексеевич, по прозванию Сенатор, бывший на русской дипломатической службе, и того дольше. Накануне роковых событий 1812 года Иван Яковлев вернулся. Через границу пробирался тайно, да не один, ибо спутником его была… юная женщина, переодетая в мужское платье. Так Генриетта Луиза Гааг оказалась в чуждой ей России за три месяца до появления на свет сына.
История знакомства родителей из рассказа Герцена предстает вполне романтической, но вырисовывается неясно. Подробностей об их встрече: «как она решилась оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе у Сенатора, как… переехала границу», любопытствующему читателю явно недостаточно. Двери родительского дома Генриетты Луизы плотно закрыты. О статусе немецкого семейства, отпустившего благовоспитанную девицу вместе со знатным чужестранцем, вероятно, без всяких на то брачных гарантий, можно только догадываться. Согласитесь, все это представляется не столько романтичным, сколько сознательным бегством Генриетты Луизы из отчего дома. Да и поступок Яковлева, казалось бы, не имеет достаточной мотивации в его непростом, отнюдь не романтическом характере.
«Корчевская кузина» Герцена Татьяна Петровна Кучина (в замужестве Пассек) в своих поздних мемуарах[6] пытается дополнить и «расшифровать» весьма щекотливую ситуацию «давно минувших дней»: «Жизнь ее (Генриетты Луизы. — И. Ж.) в родительском доме была несчастлива, поэтому часто она проводила по нескольку дней в одном богатом семействе, где видала русского посланника Льва Алексеевича Яковлева и его брата Ивана Алексеевича. Оба они, слыша о печальной жизни хорошенькой пятнадцатилетней Генриетты, относились к ней с участием и, шутя, предлагали перейти к ним в посольство. Однажды, обиженная и огорченная, она ушла из родительского дома, явилась в русское посольство и просила скрыть ее. Ее там оставили и дали должность по утрам наливать кофе посланнику и его брату. Иван Алексеевич в скором времени уехал, кажется, в Италию. Возвратясь, он нашел Генриетту беременной». Отчаянию несовершеннолетней Луизы не было конца. Передать ее родителям накануне отъезда в Россию — оказалось делом невозможным (как она плакала и умоляла). К тому же — неминуемый скандал! Вот и решился Иван Алексеевич взять ее с собой в столь небезопасное путешествие.
После смутных, неясных образов раннего детства, когда до пяти лет едва ли всплывало в памяти Шушки нечто связное и определенное (свидетельство, им уточненное), мало-помалу резкость и ясность картин прирастала подробностями, как на проявляемой фотографии.
Лет десяти Герцен стал ощущать свое странное «ложное положение». Детская проницательность, постоянное возвращение «ко всему таинственному и страшному», что невзначай зацепляет ребенка, позволили ему «с удивительной настойчивостью и ловкостью», не задав окружающим ни единого вопроса, допытаться до истины.
Герцен еще займется своей генеалогией, широкой мастерской кистью восстановит портреты близких и дальних прародителей, но пока, до поры, все предки его благородной фамилии как бы отошли в сторонку, отвернувшись от своего новоявленного родственника.
Отец более других займет его внимание. Вот уж, поистине, оригинальный российский типаж. Да еще таких в роду — пруд пруди. О матери, к которой искренне привязан, скажет меньше, на удивление мало.
Воспитанная в лютеранской вере, без языка, не в силах понять обычаи русских «варваров», бедная женщина с трудом пережила неумолимость настигших ее несчастий, попав из огня да в полымя военного лихолетья: бездомье, уличные скитания посреди пылающей Москвы, вынужденное пребывание в захолустной ярославской деревеньке, в крестьянской «закоптелой избе», а затем унылое, прозаическое, а порой и униженное существование рядом с Яковлевым.
«Моя мать действительно имела много неприятностей, — продолжал вспоминать Герцен, когда взялся за „Былое и думы“. — Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах…»
Но как объяснить, что в течение тридцати пяти лет этот «брак» (не оформленный из-за неравенства состояний или по другим, неведомым нам причинам), худо ли бедно, поддерживался и Луиза никогда не пыталась ничего изменить. Спору нет, видно, вначале молодость и красота Луизы взяли свое. Но и Яковлев брал на себя определенные обязательства. Речь ведь не шла о крепостной, с которой можно было расправиться по всем законам российской крепостной серали — отлучить от ребенка, отправить с глаз долой, как проделывалось не раз в яковлевской семье. Ведь у трех братьев Яковлевых были незаконные дети, да и старшего внебрачного сына Ивана Алексеевича, Егора, «заметили» в семье только после рождения Шушки.
Разгадку этих отношений пытаемся найти и в сломе яковлевского характера после войны 1812 года (по-видимому, опала сделала его другим человеком), и в принадлежности к Мальтийскому ордену, предписывавшему своим кавалерам верность уставу, обетам и некоторые ограничения, часто препятствовавшие браку. Наконец, истина могла открыться в знании обстоятельств домашней жизни Генриетты Луизы в родном Штутгарте. Давно кочевали по мемуарной литературе сведения о несчастной доле юной Луизы (названной по-русски Луизой Ивановной), что и подтвердилось недавно красноречивыми документами, извлеченными по нашей просьбе из метрической книги Штутгарта.
Проживало в уютном немецком городке с кирхой на торговой площади, с мелодичным перезвоном соборных часов, предварявшим службы, многочисленное и не слишком зажиточное семейство секретаря казенной палаты Готлоба Фридриха и Вильгельмины Регины Эрпф или, в написании Герцена, — Эрпфин (13 октября 1772 года — 22 мая 1818 года). В 1805 году, когда старшей, Луизе, не исполнилось и одиннадцати (родилась 27 июня 1795 года), семья лишилась пятидесятилетнего кормильца.
Новый источник уточнял детали, устранял разночтения в датах, а главное, позволял восстановить родословное древо герценовских предков по материнской линии. Дед Луизы со стороны матери — Георг Фридрих Эрпф — посыльный в медицинском заведении, бабка — Маргарита Розина, «дочь Михаэля Вакера, господина конюха», дед Луизы по линии отца Иозеф Гааг — портной из Людвигсбурга. Из документа открывается, что Генриетта Луиза была старшей не из трех, как считалось ранее, а из девяти детей (восьмой была Вильгельмина Регина Луиза, которую, очевидно, часто путают с ее старшей сестрой, ошибочно добавляя к двум ее именам и третье — Вильгельмина). Причем их многодетная мамаша, будучи уже пять лет вдовой, на сороковом году жизни родила девятого ребенка (девочку Иоганну Доротею Фредерику), что случилось 12 июня 1811 года, накануне стремительного «бегства» Луизы в Россию, где буквально через девять месяцев она и сама стала матерью. Впрочем, об атмосфере, сложившейся в добропорядочном немецком семействе, можно только догадываться…
Родословие Ивана Яковлева, уходящее в глубь веков, к потомкам прусского и аландского короля Вейдевута, не идет ни в какое сравнение с материнской линией. Здесь всплывают фигуры исторические. Сам Александр Невский издревле осеняет сей достопочтенный род, давший отечеству воевод, бояр и окольничих, верой и правдой послуживших престолу и не избегших монарших милостей.
Фамилия Яковлевых «начало свое восприяла», как выписано в древнем прусском гербовнике, от Андрея Ивановича по прозванию Кобыла. Король Вейдевут разделил свое царство двенадцати сыновьям. Потомок его четвертого сына, утомленный в бранях и противостоянии врагам и варварам «и быв ими побежден, выехал с сыном своим и со множеством подданных в Россию к великому князю Александру Ярославичу, и по восприятии святого крещения дано ему имя Иоанн, а сыну Андрей Иванович, прозванный по просторечию Кобыла, от коего пошли Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и другие многие роды. <…> У сего Андрея Ивановича был правнук Яков Захарьич, находящийся при царе Иоанне Васильевиче боярином, наместником в Нове-городе и главным полковым воеводою». Все это яковлевская ветвь. Присутствие в родословии имени Захарий (так в старинном родословии упомянуты и отец Якова — Захарий, бывший при дворе Василия III Темного в знатных чинах, и Захарий Петрович, живший в эпоху Ивана Васильевича Грозного) дало начало и ветви Захарьиных, к слову сказать, в дальнейшем этой фамилией Яковлевы не скупились награждать своих незаконнорожденных детей. Обращение к корневой системе этого знатного, хоть и не титулованного рода, не оставляет сомнений в избранности фамилии. Торжественный герб на пергаменте, скрепленный сургучной печатью, с красноречивым девизом «Deus Honor et Gloria»[7] — тому подтверждение.
Но выберемся в более приближенные исторические времена, заинтересовавшие Герцена-мемуариста, чтобы представить читателю имена, личности и родство его персонажей.
Алексей Александрович Яковлев (1726–1781), действительный статский советник, занимавший немало важных постов, приходился Герцену дедом. В браке с Натальей Борисовной Мещерской было у них три дочери и четверо сыновей (которые по малолетству, лишившись рано родителей, воспитывались их теткой, княжной Анной Борисовной Мещерской): Петр (1760–1813), дядя Герцена и отец Татьяны Петровны Пассек, член военной коллегии; Александр (1762–1825), «старший братец», дядя Герцена и отец его будущей жены Натальи Захарьиной, камергер и обер-прокурор Синода; Лев (1764–1839), «Сенатор», действительно сенатор и дипломат, дядя Герцена; Иван (1767–1846), отец Герцена, лейб-гвардии капитан, вышедший в отставку в том же чине. Из трех теток Герцена — средняя, Екатерина, рано умерла; старшая — Марья (1755–1847), вышла замуж за Федора Сергеевича Хованского, а младшая — Елизавета (1763–1822), стала женой Павла Ивановича Голохвастова.
Генеалогическое древо, где сухо обозначены ветви родства, буквально расцветает в описаниях Герцена. Многие из его персонажей появляются на первых же страницах «Былого и дум» в отсвете московского пожара. И, прежде всего, это его отец.
Яростного «поклонника приличий и строжайшего этикета» 7 сентября неожиданно встречаем в тронной зале Кремлевского дворца, представшим перед императором французов: «В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенными для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой». Сей нонсенс — следствие многодневных скитаний яковлевского семейства, оставшегося на улице без пищи и крова.
Покинуть Первопрестольную вместе с семьей младшей сестры, как было ранее договорено, Яковлеву не удалось ни 1-го, ни 2 сентября. Москва опустела. Иван Алексеевич, предупрежденный об опасности, твердо решил ехать, как большинство патриотически настроенных москвичей. Хлопоты и уговоры мужа Елизаветы ни к чему не привели. Павел Иванович сильно противился отъезду: лучше претерпеть от французов «в теплой своей горнице», чем от разбойных людей на большой дороге. Вскоре лишились и каменной «горницы» Голохвастовых на Тверском бульваре, и флигеля тетки Анны Борисовны Мещерской на Малой Бронной. Несчастья следовали одно за другим.
Появление Яковлева в Кремле и его свободный диалог с императором, кажущийся чем-то из ряда вон выходящим, вполне соответствовали классовому статусу Ивана Алексеевича. «Светский человек accompli[8]» и по образу жизни, и по происхождению, и высокому понятию чести, Яковлев во время своих многолетних странствий обзавелся множеством знакомств и нужных связей. «Человек большого ума, большой наблюдательности, он бездну видел, слышал, помнил». Воспитанный французским гувернером, безмерно любивший Париж, этот красавец-мужчина и завидный кавалер, в молодости еще танцевавший англезы на балах у самой императрицы Екатерины II, был принят в самых блестящих салонах и знатных домах французской наполеоновской столицы.
Непредвиденная встреча с маршалом Мортье, поставленным Наполеоном губернатором в оккупированной Москве, решила дело. Герцог Тревизский, знавший Яковлева еще в Париже, доложил своему императору о бедствиях благородного семейства. Выбор Наполеона — довести до Александра I свои предложения о мире в специальном письме — невольно пал на Яковлева, стремившегося любой ценой вырваться из разоренной Москвы в расположение русского арьергарда. Ведь он был в ответе за целую армию родственников, домочадцев и крестьян, не говоря о доброй сотне примкнувших к ним погорельцев (всего — не менее пятисот душ). Так, под честное слово, он вынужденно взялся за миссию, имевшую для него роковые последствия. Навязанные неприятелем мирные инициативы, когда Россия меньше всего в них нуждалась (в войне уже чувствовался перелом), привели к аресту, месячному заключению и высылке из Петербурга нежелательного посланца[9]. По замечанию историка Богдановича, Александр I «даже не хотел видеть Яковлева, чтобы не подать повода к слухам о каких бы то ни было сношениях с Наполеоном». Об успешном продолжении карьеры гвардии капитана в отставке (хоть и высочайше прощенном) и дальнейшем публичном статусе пленника двух императоров нечего было и думать. Печать императорской неприязни прочно легла на его имя[10].
Несомненно, первым слушателем и знатоком увлекательной истории противостояния отца и французского императора был юный Александр: «Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто».
Через четверть века, в 1836-м, когда ворошить сомнительные для его репутации события вовсе не хотелось, Яковлев все же составил «Записку»[11] о свидании с Наполеоном, ибо усмотрел неточности и ошибки в сочинении секретаря французского императора барона Фена «Manuscrit de mil huit cent douze» (Брюссель, 1827. T. 2). Но то был лишь формальный повод. Главное, что свидетельства очевидца представляли огромный интерес для официальной историографии в лице его давнего знакомого, адъютанта М. И. Кутузова в 1812 году, А. И. Михайловского-Данилевского, взявшегося за написание высочайше порученного ему труда о войне.
Рассказ Герцена о знаменательной встрече, не единожды обновлявшийся в его памяти, а потом возникший на страницах «Былого и дум», понятно, не совпадал вполне с текстом более детальной «Записки» Яковлева. В последней — больше монологов императора, его прямой речи, развернутых диалогов. Иван Алексеевич невольно оправдывался — он противился некорректному поручению Наполеона до последнего и, конечно, решительно осуждал супостата, «умевшего пустить пыль в глаза».
«После обыкновенного приступа к разговору, — свидетельствовал Яковлев, — он начал жаловаться на московские пожары, говоря: „Это, конечно, не мы поджигали город; ибо я занимал почти все европейские столицы, но не сжег ни одной из них. <…> Как! И вы сами хотите уничтожить Москву, святую Москву, в которой покоится прах всех предков ваших государей. <…> Я имел достаточное понятие об этой стране, но, [судя по тому], что я видел от границы до Москвы, эта страна великолепная… а между тем вы сами губите эту прекрасную страну, и зачем это сделано? <…> Коль скоро император Александр желает мира, пусть только даст мне знать о том… но если он хочет продолжать войну — что ж, мы будем ее продолжать; мои солдаты настоятельно просят меня, чтоб я шел на Петербург, ну что ж, мы туда пойдем, и Петерб[ург] испытает участь Москвы“».
«В течение этого долгого разговора, — продолжал Яковлев, — он явно хотел передо мною поважничать, часть этого разговора изгладилась из моей памяти, а другая… не стоит упоминания, так как в ней одновременно было и бахвальство, и по временам даже фанфаронство…»
В «Былом и думах» Герцену (сославшемуся на известные ему труды Фена и Михайловского-Данилевского) особенно важно идеологическое осмысление поведения Наполеона, человека внешних эффектов и исторических словоизвержений, которому долго «приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл».
Герцен будто родился и жил в недрах истории, текущего исторического момента, затем обратившегося в его былое. Да и сам он делал российскую историю опытом всей своей жизни. 1812 год ставил первую важную веху в его биографии.
Наезжали в Москву бывшие сослуживцы Яковлева по Измайловскому полку, осененные славой победы офицеры и генералы. Вспоминали, «отдыхали от своих трудов и дел». Наслушавшись увлекательных историй, юный Шушка не раз засыпал на диване под рокот громового смеха и живых рассказов героя войны графа Милорадовича, устроившись за его спиной. А в декабре 1825-го до тринадцатилетнего юноши дойдут слухи о бунте на Сенатской и выстрел Каховского сразит насмерть старого его знакомца, санкт-петербургского генерал-губернатора.
Неудивительно, что в обстановке национального ликования от беспримерных побед и «славной прогулки по всей Европе» мальчик мнил себя «отчаянным патриотом и собирался в полк». О службе незаконного барчука действительно надо было подумать заранее. Его дорога к успеху была поизвилистее, чем у законных наследников. «Одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его, — советовали Яковлеву однополчане. — Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу идут одни дураки?»
Яковлев не соглашался, все военное он давно разлюбил и уповал на дипломатическую карьеру сына в каком-нибудь «теплом краю, куда и он бы поехал оканчивать жизнь». В конце концов, прибегнул к содействию старого приятеля, сиятельного вельможи Н. Б. Юсупова, владельца Архангельского, а главное, главноуправляющего Московской экспедицией кремлевского строения, куда и был зачислен канцеляристом восьмилетний Александр. Как полагалось в ту пору, формально, но чины и звания шли сами собой.
Жизнь нанизывала впечатления Герцена с такими потрясающими подробностями, что впоследствии, когда взялся за труд, нельзя было не перенести их на страницы мемуаров. Обступали, теснились образы прошлого, и всё становилось вдруг таким выпуклым, ясным. Словно этот странный, патриархальный и вольтеровский мир, произведший на свет «удивительный кряж людей» XVIII столетия, плеяду оригиналов, подвергнувшихся влиянию «мощного западного веяния» и оставшихся в России без дела, «умной ненужностью», оживал на глазах. В нем непременно присутствовали и отец, и дядя Сенатор, и отвергнутый семьей «старший братец» Александр… «Воскреснувшие» образы тревожили, волновали, что «другой раз их не поймать», таили в себе множество тайн.
Как уловить многоликость отца, его разные характеры и поведенческие повадки? Как постичь все странные превратности его судьбы, феномен его замкнутости, холодного презрения к миру внешнему, упрямого противостояния обществу светскому, к которому принадлежал и службой, и своим высоким рождением (ведь Романовым родня!). Об этом стоило поразмышлять. В мастерских и противоречивых портретах, им нарисованных, Герцен не жалел слов и красок, чтобы штрих за штрихом приблизиться к трудной разгадке этого нелегкого характера, перетекающего к противоположным крайностям.
В молодом, вежливо улыбающемся красавце-бонвиване, любезном занимательном острослове, облаченном «в светло-голубой шитый кафтан, с пудреной головой», вряд ли можно признать деспота и домашнего властелина, «дергерра» (по прозвищу домочадцев), «вечно капризного и недовольного», наводящего ужас на всех и вся.
В неприступном, язвительном, высокомерном, вечно раздраженном барине-мизантропе, откровенно презирающем людей («…я не помню, чтоб он к кому-нибудь обращался с значительной просьбой», — замечает Герцен), сразу не разглядеть растерянного отца, едва выдерживающего «свою бесстрастную роль» в сцене ареста сына: «Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправили в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал».
«Трудно сказать, что, собственно, внесло столько горечи и желчи в его кровь, — задавался вопросом Герцен. — Эпохи страстей, больших несчастий, ошибок, потерь вовсе не было в его жизни. Я никогда не мог вполне понять, откуда происходила злая насмешка и раздражение, наполнявшие его душу, его недоверчивое удаление от людей и досада, снедавшая его. Разве он унес с собой в могилу какое-нибудь воспоминание, которого никому не доверил, или это было просто следствие двух вещей до того противоположных, как восемнадцатый век и русская жизнь, при посредстве третьей, ужасно способствующей капризному развитию, — помещичьей праздности».
Очевидно, Герцен оставлял возможность и для других толкований этого исторического персонажа, принадлежащего к особенному поколению людей XVIII столетия. Впрочем, Герцен чего-то недоговаривал, а возможно, и просто не знал. Так, не знал он, ценой какого унижения платил Яковлев Михайловскому-Данилевскому, стремящемуся правдами и неправдами заполучить у свидетеля исторического свидания необходимый мемуарный материал. И всё — для спасения сосланного сына. И только бы заручиться необходимой поддержкой историографа в его ходатайствах наверху. Позже, когда в рассказе наступит время тюрем и ссылок нашего героя, конечно, перелистаем просительные письма историку, начертанные в несвойственной гордому Яковлеву подобострастной манере.
И все же герценовский рассказ невольно приоткрывал причину слома этого стойкого характера, сохранившего в неприкосновенности свою внешнюю оболочку. Именно злоключения 1812 года, свидание с Наполеоном и, как следствие, недоверие власти к ослушнику (чтобы не сказать — предателю) прошли трагической полосой по яковлевской судьбе, оставив неизгладимый след в его характере и образе жизни.
Рассказы о войне и победоносных заграничных походах определили герценовский настрой на всю оставшуюся жизнь. Торжество России дало мощную подпитку национальному самосознанию, явилось переломным этапом в рабовладельческой истории России, вручило своеобразное послание многим передовым российским гражданам в понимании неотступности решительных перемен. «Мы — дети двенадцатого года», — скажут люди, вышедшие на Сенатскую площадь.
Но до 1825 года еще далеко, а бессознательное младенчество Шушки продолжается.
Из тверского имения дяди Петра Яковлева Луиза Ивановна с домочадцами вскоре перебралась в ярославское владение Ивана Алексеевича, сельцо Глебовское Романовского уезда, куда из Петербурга 12 октября явился сам хозяин. В освобожденную Москву возвращались по весне 1813 года. После московских пожарищ старая столица покоилась в развалинах. Герцен еще мальчиком помнил обуглившиеся остовы некогда роскошных строений, но уже видел, как возрождался этот «огромный пестрый гигант». Дома ближайших родственников в пожаре не устояли, но вот дом, где он родился, чудом уцелел.
Это был тот самый дом, где по возвращении из чужих краев Иван Алексеевич с Луизой временно поселились. Здесь, на Тверском бульваре, у Александра Алексеевича, старшего из Яковлевых (пока еще не вышло смертельной ссоры между братьями, конечно же из-за наследства), в бельэтаже его обширного ампирного особняка с портиками и полуколоннами, с рельефами грифонов над окнами, и начал свой жизненный путь нежный белокурый мальчик, названный Александром по крестному отцу, хозяину дома и, несомненно, в честь высочайшего покровителя. (Отныне благословляли Герцена на резких жизненных поворотах иконой Александра Невского.) Через пять лет в той же комнате того же особняка родилась кузина Герцена, будущая его жена, незаконная дочь дяди Александра Алексеевича — Наташа Захарьина.
Герцен потом не единожды входил в этот торжественный особняк. Пересекал вестибюль, поднимался по белокаменной лестнице. Вот здесь была огромная зала с высоким подиумом для представлений крепостного сераля распутного дядюшки; в комнатах — нагромождение редкой мебели, внушительная вереница фамильных портретов, всякие заморские диковины, до которых был так охоч хозяин. Его большой парадный портрет, где он в пудреном парике и со всеми аксессуарами костюма павловского времени (нетрудно спутать и с самим императором), Герцен, несомненно, видел. Воспроизведенный им в «Былом и думах» словесный портрет «страшного человека» был намного красочнее, ярче.
«Это было одно из тех оригинально-уродливых существ, которые только возможны в оригинально-уродливой русской жизни. Он был человек даровитый от природы и всю жизнь делал нелепости, доходившие часто до преступлений. Он получил порядочное образование на французский манер, был очень начитан, — и проводил время в разврате и праздной пустоте до самой смерти». Ни дипломатическая служба, ни присутствие в Синоде в должности обер-прокурора «не могли укротить необузданный характер его». За ссоры с архиереями и дерзкие выходки в официальных собраниях он был отставлен отдел и сослан из Петербурга в свое имение. «…Там, — свидетельствовал Герцен, — мужики чуть не убили его за волокитство и свирепости… После этого он поселился в Москве. Покинутый всеми родными и всеми посторонними, он жил один-одинехонек в своем большом доме на Тверском бульваре, притеснял свою дворню и разорял мужиков. <…> Лишенный всяких занятий и скрывая страшное самолюбие, доходившее до наивности, он для рассеяния скупал ненужные вещи и заводил еще более ненужные тяжбы… <…> Будучи в отставке, он, по газетам приравнивая к себе повышение своих сослуживцев, покупал ордена, им данные, и клал их на столе как скорбное напоминанье: чем и чем он мог бы быть изукрашен!»
Обитатели дома на Тверском менялись. «Старший братец», гроза всей семьи, давно отправился в мир иной; простудился в 1824-м, во время петербургского наводнения. Теперь, в крошечной, отведенной себе комнате и еще одной, для лаборатории, царил со своими ретортами и микроскопом двоюродный брат Александра Ивановича — Химик. (Да, тот самый, известный по классической цитате из комедии «Горе от ума»: «Он химик, он ботаник…»)
Алексей Александрович, единственный из сонма незаконнорожденных детей Александра Алексеевича, был признан непредсказуемым отцом, желавшим только одного — лишить своих братьев части наследства, в чем и преуспел «привенчиванием» своего бастарда. Кроме большого состояния Химик унаследовал и дом с флигелями.
«Жил он чрезвычайно своеобычно», всё в хозяйстве было до предела запущено, вещи покрыты пылью, картины вынуты из рам и повернуты к стене; большие залы не освещались и не отапливались, исключая «страшно натопленного» кабинета-лаборатории. Об этой небольшой комнатке Герцен неизменно вспоминал: там, по случайному совпадению, они с Наташей родились. С тех пор случай стал неизменным спутником его жизни.
Сразу же по возвращении в Белокаменную кочевали Яковлевы по всей Москве. Изысканиями историков-москвоведов[12] удалось установить все основные адреса, по которым жил Герцен. Долго толковали, с легкой руки Т. П. Пассек, что, переехав в старую столицу, поселились братья Иван и Лев Яковлевы в приходе церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках, но архивных подтверждений тому не нашлось. В 1814–1815 и 1816–1817 годах дважды нанимали дом «в Пресненской части 1-го квартала под № 81-м» у полковника и кавалера Н. А. Небольсина. Пожар владение пощадил. Дом сохранился на нынешней Садовой-Кудринской улице (№ 15). С 30 июля 1817 года братья Яковлевы с семейством перебрались в каменный трехэтажный дом с флигелем, каретным сараем и «конюшней на 13 стойлов», амбаром, погребом и прочими принадлежностями, нанятыми у генерал-майорши Е. М. Ермоловой на Волхонке (ныне главный дом 18). В октябре 1819 года обосновались в каменном двухэтажном особняке тайной советницы Е. Н. Левашевой на Покровке (ныне № 1), но и здесь не задержались. В последний раз братья совместно наняли 1 октября 1821 года деревянный дом на каменном фундаменте возле Арбата и приходской церкви Троицы (что когда-то стояла по красной линии Денежного переулка) и так прожили до 1823 года, когда Лев и Иван Алексеевичи поселились отдельно.
«В сущности, — свидетельствует Герцен, — скорее надобно дивиться, как Сенатор мог так долго жить под одной крышей с моим отцом, чем тому, что они разъехались. Я редко видал двух человек более противуположных, как они.
Сенатор был по характеру человек добрый и любивший рассеяния; он провел всю жизнь в мире, освещенном лампами, в мире официально-дипломатическом и придворно-служебном, не догадываясь, что есть другой мир, посерьезнее, — несмотря даже на то, что все события с 1789 до 1815 не только прошли возле, но зацеплялись за него. <…>
Пока дипломатические вопросы разрешались штыками и картечью, он был посланником и заключил свою дипломатическую карьеру во время Венского конгресса, этого светлого праздника всех дипломатий. Возвратившись в Россию, он был произведен в действительные камергеры в Москве, где нет двора. Не зная законов и русского судопроизводства, он попал в сенат, сделался членом опекунского совета, начальником Марьинской больницы… и все исполнял с рвением, которое вряд было ли нужно, с строптивостью, которая вредила, с честностью, которую никто не замечал.
Он никогда не бывал дома. <…> Скучать ему было некогда, он всегда был занят, рассеян, он все ехал куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на рессорах по миру оберток и переплетов.
Зато он до семидесяти пяти лет был здоров, как молодой человек, являлся на всех больших балах и обедах, на всех торжественных собраниях и годовых актах — все равно каких… <…> зато же, может, сохранил до старости долю человеческого сердца и некоторую теплоту».
Раздел имущества братьев в 1822-м побудил их устраиваться самостоятельно, в собственных домах и усадьбах.
Так повелось, что в уютно-извилистых, патриархально-тихих переулках бывшей царской Конюшенной слободы (опустевшей с переездом двора в новую столицу) стало селиться русское барство, удалявшиеся на покой сановники и неслужащие дворяне — «аристократы настоящие» по «древней знаменитости своего рода, отличной образованности и огромному состоянию», которых, однако, нельзя было путать с аристократами мнимыми, самозванцами, лишь пускающими пыль в глаза, — предостерегал читателей старинный автор «Очерков московской жизни», вышедших в 1842 году.
Братья Яковлевы вполне отвечали вышеозначенным требованиям знатности и богатства, да к тому же не любили изменять традициям, привычкам и насиженным местам. Даже разделившись, разъехавшись, предпочитали жить именно здесь, вблизи Арбата, в чертогах старой барской Москвы.
Первым, еще в самом начале 1820-х годов, когда Арбатская и Пречистенская части, совершенно «испепеленные пожаром 1812 года», только обстраивались веселыми одноэтажными особнячками с мезонинами, колоннами и ярко-зелеными крышами, согласно предписанному властями «фасадическому плану» Первопрестольной, обосновался на Арбате в собственном доме Сенатор (1823). Вслед за ним в Приарбатье потянулся Иван.
В приходе церкви Святого Власия, что в Старой Конюшенной, у отставного поручика А. П. Румянцева по купчей, заключенной 7 августа 1823 года за десять тысяч рублей ассигнациями, Иваном Алексеевичем был куплен дом. Дом, похожий на тюрьму, фабрику или больницу, темный и печальный…
После переезда Льва Алексеевича жизнь во владении Яковлева как-то погрустнела и замерла. Не было волшебных праздников и уморительных забав, которые без устали устраивал любимец Шушки, камердинер Сенатора — добрейший Карл Иванович Кало. Обе нянюшки — мадам Прово, учившая его немецкому, и завзятая рассказчица Вера Артамоновна теперь не привлекали внимания живого, любознательного подростка. С ними ему стало скучно. Другое дело — девичья и передняя, где вечно толпилось множество всякого люда — горничные, прачки, мальчишки с девчонками, которых, как вскоре ему открылось, «приучали к службе, то есть к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи». Эти оазисы человеческих индивидуальностей виделись ему сущим раем. В доме, где всё трепетало перед дергерром, предоставленный себе Шушка чувствовал себя весело, свободно, раскованно: знал все тайны дворовых, «судил и рядил», держал сторону одной партии против другой и никогда никого не выдал, не проболтался.
Крепостные его любили. «Прислуга чрезвычайно привязывается к детям, — подметит позже Герцен, — и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь слабых и простых».
Многочисленную дворню в доме Яковлева физически особенно не притесняли, но бесконечные мелочные придирки, капризы и нравственные поучения хозяина били подчас больнее, чем розги на конюшне. Русский человек вообще не любит, чтобы его учили. Телесные наказания были редкостью. Но вот страшных сцен, когда дворовых забривали в солдаты, когда ломались их жизни, юному барчуку не избежать: «Я довольно нагляделся, как страшное сознание крепостного состояния убивает, отравляет существование дворовых, как оно гнетет, одуряет их душу». Долгие годы не умолкал в его памяти отчаянный вопль крепостного Толочанова, принявшего яд в безысходный момент своей рабской судьбы: «Жжет! Жжет! Огонь!»
Историю эту, каких немало было в России, о несвободном человеке, возмечтавшем о свободе, и «плантаторах», хозяевах, не желавших снять со своих рабов «веревку крепостного состояния», хорошо запомнил будущий мемуарист. С годами у него накапливались «факты для изучения человеческого сердца», возникали образы — жертв и страдальцев, дилетантов и «фанатиков рабства», особой домашней породы слуг, «бессознательно втянувшихся в поэзию передней» (подобно их домашнему лакею Бакаю) и до глубокой старости воображавших, «что положение лакея одно из самых значительных». Передняя тем не менее «не сделала никакого действительно дурного влияния» на Шушку, но вот «непреодолимая ненависть ко всякому рабству и всякому произволу» осталась навсегда.
«Бывало, когда я еще был ребенком, — вспоминал он в „Былом и думах“, — Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: „Дайте срок, — вырастете, такой же барин будете, как другие“. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна: таким, как другие, по крайней мере, я не сделался».
Панорама разнополярной жизни, какой она виделась Шушке в ребячестве, была бы не полна, если бы не раскинувшееся перед ним бескрайнее раздолье русской природы. Почти ритуальные выезды в имения отца Покровское и Васильевское: бесконечные сборы пожитков и несметных съестных припасов, жесткие приказы старосты — прислать крестьянских лошадей для барского кортежа (и это в самую горячую рабочую пору!) — еще не воспринимались мальчиком как тягостная повинность для крестьян. Для него «деревня была временем воскресения», он не раз признавался, как страстно любил эту жизнь на просторе природы. Она приносила ему, затворнику в каменных стенах городского дома, откуда за ворота ни ногой, свободу вырваться «на волю вольную», в поля и леса. К глубокой горести Шушки, отец не каждый год поспевал собраться раньше июля, а то и вовсе отменял поездку, хотя «всякий раз говорил, что… уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист». Весьма поэтические и прочие экстравагантные чудачества Ивана Алексеевича запомнились будущему писателю и не могли не всплыть в памяти. Да и сам одиннадцатилетний юнец овладевал пером, сочиняя свои первые письма, приправленные фантазией, заимствованной из сказок. В описаниях деревенского лета 1823 года, проведенного в имении, уже проглядывают его несомненные литературные наклонности: «Покровское стоит среди дремучего леса; деревья в нем так часты и высоки, что, пройдя несколько шагов, не знаешь, куда выйдешь. В лесу этом живет много волков; лес так близко подходит к дому, что я хожу туда с книгой, ложусь под дерево и читаю; волки бегают мимо меня».
«Мы поместились в старом, полуразвалившемся доме. Подле него дикий, запущенный сад; дорожки в нем заросли лопушником и крапивой; вершины берез покрыты вороньими гнездами; вечерами они с криком прилетают в сад и садятся на деревья».
Дети обычно не следуют рекомендациям взрослых, но вот, обзаведясь собственными детьми, активно дают советы. Герцен не был исключением. Он станет дидактиком, умелым воспитателем своих детей, четко представляя круг необходимого, полезного чтения для них, на редкость выверенный и точный.
Учиться Шушке не хотелось. Пока интереса не было. Гувернеры, учителя в доме не задерживались. Учили всему понемногу: французскому, немецкому, словесности, даже танцам. Другое дело — чтение. Когда книги свалены в кучу в волшебной нежилой комнате, а ключ от нее припрятан, страстно хочется проникнуть в эти «литературные закрома». Что читал? Да все, без разбору.
Вскоре из случайной россыпи сентиментальных романов, а попросту говоря, обычного чтива тех времен, вроде «Лолотты и Фанфана» и захватывающих двусмысленных пьес, вроде комедий Коцебу, выделятся истинные жемчужины. «Свадьба Фигаро» Бомарше, зачитанная до дыр, порождала дотоле неведомые ощущения у взрослеющего мальчика (особенно волновала сцена, где Керубино переодевают в женское платье). «Страдания юного Вертера» усугубляли захватывающие, пока еще невнятные эмоции, да и смысл прочитанного, над которым он безнадежно рыдал, вовсе не был ему ясен. Неумеренное, беспорядочное чтение было важной угрозой на пути систематических занятий, к примеру, французской грамматикой. Хотя… освоение подлинников как раз и способствовало продвижению к знанию иноземных языков, что прекрасно понимал Иван Алексеевич, не препятствующий сыну в его «умственном обжорстве» (так, повзрослев, определит Герцен свою необузданную тягу к чтению).
Но сколько же неподъемных гигантских томов всяческих «Образцовых сочинений», «Репертуара французского театра» (68 волюмов!), а заодно и «Полного собрания всех российских театральных сочинений» (43 тома!) пришлось перечитать, пересмотреть, перелистать юному Шушке, с головой нырнувшему в эту пучину сомнительных знаний и косноязычных переводов, прежде чем понять, «что десять строк „Кавказского пленника“ лучше всех образцовых сочинений Муравьева, Капниста и компании»: «Великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения…» И заслуга в этом резком повороте к нашей новой литературе не столь прилежного ученика принадлежала русскому учителю словесности Ивану Евдокимовичу Протопопову. «… У него была теплая человеческая душа, и с ним с первым я стал заниматься, хотя и не с самого начала», — вспоминал Герцен в одном из первых опытов своей автобиографии — «Записках одного молодого человека» (1840–1841). В двенадцать лет он помнил себя еще ребенком, через год благодаря какому-то ненавязчивому, «отрицательному преподаванию» либеральнейшего Протопопова у него появился «широкий современный взгляд на литературу». И тут уж в его всепоглощающем интересе к чтению, где книга заменила верного друга, сошлись Байрон и Гёте, Жуковский и Грибоедов.
Пушкину было обеспечено особое, безграничное поклонение, его стихи вытверживались наизусть. Когда не удовлетворяли печатные экземпляры, в доме благодаря учителю появлялись запретные, рукописные тетрадки с пушкинской «Деревней» и «Одой на свободу».
Тогда же героический романтик, свободолюбец Шиллер всецело завладел его душой. Уроки гувернера Бушо, бывшего в Париже в бурные времена Великой французской революции, не прошли даром. Предвестники этих роковых событий — энциклопедисты (Вольтер, Д’Аламбер) «сильно будили мысль и крестили огнем и духом». Древние классики — греки, римляне учили гражданским добродетелям. В общем, Шушка оказался в плену сочинений, в которых, говоря его же словами, билась «социальная артерия».
Иван Алексеевич не особенно притеснял живого мальчика. Был привязан к нему по-своему. И впрямь, обворожительный ребенок. Близкие это разделяли: «ранний цветок». Изящный, небольшого росточка. Голубые, то и дело вспыхивающие искорками глаза. Разумен в разговоре, да еще мило прилепетывает (произносит французский слог ла между французским la и русским ла), и «недостаток» этот в произношении только подчеркивает его особое детское очарование.
Четкие ограничения Яковлева в воспитании выливались лишь в чрезмерную заботливость о физическом здоровье. Шушку кутали, при малейшей хвори неделями держали дома, где от раскаленных печей не было спасу. К счастью, хилым он не вырос, помогла здоровая наследственность юной матери. (Это потом безжалостная жизнь наносила свои роковые, смертельные удары…) Что касается здоровья нравственного, сыну единственно приказывалось исполнять все церковные установления: посещать службы, говеть, исповедоваться. Сам же Яковлев, считавший религию в числе «необходимых вещей благовоспитанного человека» и беспрекословно принимавший все ее догматы, не был слишком аккуратен в исполнении священных обрядов. Скажем, что и Герцен не стал примерным прихожанином, но Евангелие читал постоянно и с огромной любовью: «Я… чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу». Детство заканчивалось. «Вскоре религия другого рода овладела» его душой.
На дворе стоял 1825 год.
Глава 2
«…МНЕ ОТКРЫВАЛСЯ НОВЫЙ МИР»
…Я вошел в пропилеи юности.
А. И. Герцен. Записки одного молодого человека
Жизнь снова вписывала биографию юного Александра в решающую фазу истории страны. Покоренная Европа преподала уроки свободолюбия, мало усваиваемые Россией. Царствование Александра I, славное победой над Наполеоном, подходило к концу. И тут уж брожение умов, «общественная разладица» достигли своего апогея.
Древняя столица еще жила в неведении, а слухи — первые вестники перемен, уже разносили трагическую весть: в ноябре в Таганроге в Бозе почил русский император, процарствовавший без малого четверть века. После всеобщего замешательства, вечного российского причитания: «как жить дальше», с затянувшимся междуцарствием, с негодной попыткой (27 ноября) провозгласить наследником цесаревича Константина (давно отрекшегося от престола) и с «переприсягой» царю настоящему — Николаю, наступило холодное утро 14 декабря.
На Сенатской площади в Петербурге выстроилось каре, прозвучали первые выстрелы, и общий любимец, «отец солдатам», генерал-губернатор граф Милорадович, убеждающий их с привычным своим красноречием незамедлительно разойтись, сражен пулей Каховского.
Эти тяжелые вести приходят в дом Ивана Алексеевича. В неурочное время появляется в кабинете брата взволнованный Сенатор, и в обстановке страшнейшей тайны сообщает о политических новостях. Пребывающему в дружбе и в ладу со всеми слугами Шушке нетрудно выведать у вездесущего лакея Льва Алексеевича о «бунте» и пушках в столице. 18 декабря бывший сослуживец отца по Измайловскому полку, участник событий на Сенатской, командир отдельного корпуса внутренней стражи генерал-лейтенант граф Комаровский передаст Яковлеву все подробности того рокового дня. Именно Комаровскому, особо приближенному к императору, в виде особой царской милости и поручено объявить в Москве о восшествии на престол Николая I.
Юный монарх приступал к решительным действиям, поменявшим нравственную температуру в обществе. И это было заметно всем — и ярым сторонникам власти, и ее внутренним противникам.
«Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) несмел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, явились дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно.
Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких… <…>
Жены сосланных в каторжную работу лишались всех гражданских прав, бросали богатство, общественное положение и ехали на целую жизнь неволи в страшный климат Восточной Сибири, под еще страшнейший гнет тамошней полиции. <…>…почти все хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердце, никто не смел заикнуться о несчастных».
«Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал. Теперь всё бросилось расспрашивать о нем; одни гвардейские офицеры могли дать ответ; они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность. Один из первых анекдотов, разнесшихся по городу, больше нежели подтверждал мнение гвардейцев. Рассказывали, что как-то на ученье великий князь до того забылся, что хотел схватить за воротник офицера. Офицер ответил ему: „В. в., у меня шпага в руке“. Николай отступил назад, промолчал, но не забыл ответа. После 14 декабря он два раза осведомился, замешан этот офицер или нет. По счастию, он не был замешан».
Разумеется, обо всем этом Искандер напишет, когда примется за свои мемуары. А пока мысли тринадцатилетнего подростка путаны и смутны, понятия и политические мечты не отличаются особой проницательностью. Он действительно поклоняется цесаревичу Константину, находя в нем всевозможные преимущества перед Николаем. И вначале действительно воображает, что цель возмущения только и состоит в возведении на трон этого «„чудака“. Откуда-то явится мысль, что Константин „народнее“ Николая»: то ли больше любим солдатами, то ли более склонен к ограничению императорской власти. И по мере взросления у него возникают вопросы, вопросы… А «злоумышленники», «бунтовщики», жалкая шайка отчаянных оборванцев, так представленных в официальных извещениях и рептильных газетах, кто они?
Разве нужно им, родовитым, счастливым, богатым, преуспевшим в военных подвигах и бескорыстном гражданском служении, чего-либо, кроме благоденствия и свободы Отечества, введения конституции и освобождения рабов?
И опять парадокс. Недаром непредсказуемости русского пути, непременно особого, дивились даже сами русские патриции, вроде небезызвестного желчного остроумца, бывшего московского генерал-губернатора, главнокомандующего Ф. В. Ростопчина, говорившего на смертном одре о 14 декабря: «У нас все наизнанку — во Франции la roture[13] хотела подняться до дворянства — ну, оно и понятно; у нас дворяне хотят сделаться чернью — ну, чепуха!»
Да, еще… Не сам ли покойный император был зачинателем долгожданных реформ? Впрочем, «дней Александровых прекрасное начало» продолжения не имело. Самые востребованные законы и злободневные проекты, предложенные лучшими профессионалами во главе со Сперанским, были встречены в штыки высшим российским истеблишментом (читай: реакционным дворянством и приближенными царя) и окончательно похоронены вместе с надеждами на обновление России. Как водится, их главный радетель был безжалостно сослан.
Доходившие слухи о событиях в Петербурге — бунт, суд или немедленная расправа и, как следствие, поселившийся в людях неистребимый страх требовали от каждого истинного гражданина поступка или, по меньшей мере, отношения. Взрослеющий на глазах Шушка, находившийся на распутье своих, вполне романтических, представлений о мире, вскоре должен был выбрать собственный путь.
Известие о казни пятерых мучеников, приговоренных к средневековому четвертованию, «милостиво» (из-за неудобства перед Европой) замененному виселицей, перевернуло его юную жизнь: «…мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; <…>…мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души». Ребячество, названное им «периодом прозябения» (что, в общем-то, не совсем справедливо, ввиду накопленного им значительного жизненного опыта), кончилось навсегда. В 14 лет произошел перелом в его безоблачном существовании. Открывались пропилеи, врата юности. Жизнь выбирала свой сценарий, который он должен был либо принять, либо отвергнуть.
Девятнадцатого июля 1826 года вся Москва торжественным молебствием в Кремле благодарила нового царя за победу над пятью повешенными. В этой единодушной толпе он чувствовал себя изгоем. Тогда и определился его выбор, его нежелание двигаться в общем потоке. Первая прививка свободой была сделана. Он дал свою первую «аннибалову клятву», сознательно обрекая «себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками». Романтическая патетика юношеского порыва имела реальное продолжение.
Из горестного опыта крушения первого дворянского выступления-протеста против власти Герцен со временем сделает свои решительные выводы.
«Торжество виселиц», казнь пятерых мучеников — Рылеева, Пестеля, Бестужева, Каховского, С. Муравьева-Апостола не простит, их образы возведет в лики святых. История «первенцев русской свободы» никогда не останется без внимания лондонского изгнанника.
Для Николая Павловича и его царствования во всю свою отлученную от родины жизнь Герцен подберет особые, разящие наповал слова: и тут уж он не пожалеет ни метафор, ни сравнений, ни документальных разоблачений этой «взлызистой медузы с усами» и «зимними», немилосердными глазами.
Герцен станет первым публикатором сочинений декабристов. Вступит в яростную схватку с официозным толкователем событий 14 декабря — бароном Корфом, автором книги «Восшествие на престол императора Николая».
Вся история декабризма осветится силой слова Герцена-Искандера в публикациях Вольного лондонского станка: аресты, допросы восставших при неутомимом участии императора; неудавшееся выступление Черниговского полка, заключение в мрачных казематах Петропавловской крепости закованных в железы узников; бесчеловечные приговоры «по разрядам» (в «Росписи государственным преступникам») Верховного тайного уголовного суда и наказания, гибельные ссылки в сибирские рудники, на Кавказ… 600 привлеченных по декабристскому делу, из которых 121 человек должен сгинуть на каторге… Но вся эта история противостояния Герцена власти разовьется позже, и на нее нам удастся посмотреть со всех сторон, когда речь зайдет о Герцене — историографе декабризма.
Глава 3
«МНЕ СЛИШКОМ ДОРОГИ НАШИ ДВЕ ЮНОСТИ…»
Уважай мечты своей юности!
Ф. Шиллер
Через призму романтической юности, «когда дитя сознает себя юношей и требует в первый раз доли во всем человеческом», когда «деятельность кипит, сердце бьется, кровь горяча, сил много, а мир так хорош, нов, светел, исполнен торжества, ликования, жизни», еще трудно разглядеть всё, что следует за ее прологом.
Этот гимн юности предполагал живую, а вовсе не книжную симпатию. Взрослеющему мальчику претило одиночество, заполненное фантазиями и мечтами. Хотелось общения, обмена мыслями. Уж слишком богат был накопленный багаж, чтобы не поделиться им с единоверцем. Женская дружба, балансирующая на грани любовной симпатии, конечно, могла на время увлечь. Двоюродная сестра Александра Татьяна Кучина, знакомая Шушке еще с раннего детства, поселилась в их доме в Старой Конюшенной в мае-июне 1826 года[14]. Влияние корчевской кузины, дочери старшего из братьев Яковлевых — Петра, было вполне своевременным и благотворным. В «келейное отрочество» Шушки вошел дружеский, хоть и сентиментальный, но «теплый элемент». Вместе читали, «писали взапуски» литературные обзоры и статьи, вместе присутствовали на молебствии в Кремле. Главное, что Татьяна поддержала его политические стремления и, как истинная женщина, сумела поощрить разгорающееся самолюбие взрослеющего подростка, даже напророчив ему большое будущее.
Однако первый пылкий юношеский порыв искал дружбы мужской, основательной. Потребность разделить ее с ровесником, единомышленником была слишком сильна. И Герцен вскоре эту дружбу обрел. В 1825 или 1826 году завязывается история двух встретившихся жизней. Александр Герцен и Николай, Ник Огарев — редкий пример дружеского единения, преодолевшего на трудном пути, казалось бы, непреодолимое. Как познакомились? Как встретились? Когда? Не столь важно, что и хронология, и последовательность встреч размыты в памяти мемуаристов.
Они не могли не встретиться. Потому что путь их был один. Всё было подготовлено к этой встрече. Слишком много у них было общего. Сходство вкусов, устремлений. Общее нравственное воспитание. Почти ровесники: всего полтора года разницы. Огарев родился 24 ноября (по старому стилю) 1813 года. Их отцы, знатные дворяне и богачи, — дальние родственники и такие же деспоты в собственных семействах. Стиль их жизни, отношение к детям вполне укладываются в принятые рамки бытия подобных барских усадеб: многочисленная дворня, мамушки, няньки, гувернеры, ненавистные учителя-иностранцы, отвергаемые их воспитанниками за вопиющую безграмотность или по другим, весьма самонадеянным воззрениям молодости.
Карл Иванович Зонненберг, гувернер и немецкий учитель Огарева, не был исключением. Ник его не жаловал, каждый раз раздражаясь его нелепым, жалким видом, «рябым, как тёрка», землистым лицом и рыжим париком, но, главное, бесцеремонным вмешательством только в его, Ника, частную жизнь. При всем навязчивом менторстве воспитателя и едва скрываемой ненависти Ника этот тщедушный ревелец круто изменил «гигиену жизни» разболтанного мечтательного подростка, то и дело отвращая его от романтических влюбленностей в разных кузин и прочих ненужных шалостей. Будучи блюстителем строгих немецких правил, он тщательно следил за его гардеробом, не допускал, чтобы барчука кутали («галстуха и ватошного сюртука мне не надевал»), и особенно много времени уделял прогулкам, чтобы чаще быть на чистом воздухе. С детства слабое здоровье его золотушного подопечного требовало решительного вмешательства.
Как познакомились будущие друзья? Забавная игра случая? И «виной» тому Карл Иванович? Герцен так считал: «…А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником, или позже, иначе…»
Герцен вспоминал в «Былом и думах» сцену спасения Карла Ивановича. И, конечно, рассказывал о происшедшем своей заинтересованной подруге, кузине Татьяне Кучиной: «Мы его выудили из Москвы-реки, где он купался и тонул. Событие это совершилось в известных тебе Лужниках». Тщедушного утопленника вытащил казак, подоспевший вовремя со стороны Воробьевых гор. Его бескорыстие и скромность побудили Ивана Алексеевича, при том присутствовавшего, добиться ему должности урядника, за что через некоторое время он и явился с благодарностью в дом своего благодетеля вместе с приободрившимся, везучим Зонненбергом. Гувернером Ника Карл Иванович был определен именно по рекомендации Яковлева и, понятно, стал бывать в его доме со своим новым воспитанником значительно чаще. Впрочем, более ранние посещения юного Ника в доме своего дальнего родственника как-то не остались в памяти.
Как сближались будущие друзья?
Приближение к дружбе совершалось мало-помалу, осторожно и с редкой деликатностью.
Перечитывая «Былое и думы», переживая все события «от знакомства с тобою», Николай Платонович в своей поздней исповеди («Моя исповедь») признается, что день, проведенный им вместе с Александром в феврале 1826 года, после внезапной кончины любимой бабушки, он помнит очень смутно. Герцен, напротив, воспроизводит его (в своих мемуарах) отчетливо. К ним, в Старую Конюшенную, Ника привез Зонненберг, чтобы как-то отвлечь мальчика от случившегося впечатления. (Несомненно, первая увиденная смерть особенно сильно врезается в юную память.) Герцен свидетельствует, что Ник даже откликнулся на его предложение «читать Шиллера» и многое цитировал наизусть. То был не единственный эпизод в их случайных, ни к чему не обязывающих, почти родственных встречах того времени. Они друг к другу только приглядывались, приноровлялись, «выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию». Сближались, по слову Герцена, «туго». Уж слишком разные у них темпераменты: один — молчаливый, задумчивый, другой — шаловливый, резвый. Зато сколько восторгов, надежд и вместе с тем сомнений: это и есть действительно мой настоящий друг?.. Не знают, боятся себе признаться («Ваш друг ли, не знаю еще»), но слова дружбы и симпатии уже произнесены.
Герцен: «Я предчувствовал в нем брата, „близкого родственника душе“»…
Огарев: «…я был подготовлен к встрече с тобою. Как ни розны наши организации, но путь наш был один; у тебя на этом пути было больше прямолинейной деятельности и мужества… <…> Я шел беспечно зигзагами, около прямой линии, но все же в сторону не сворачивал».
В 1830-е годы Герцен писал Огареву: «Ты занимаешь огромное место в моей психологии. Ты и Татьяна Петр[овна] были два первые существа, которые дали себе труд понять меня еще ребенком, первые заметившие тогда, что я не сольюсь с толпою. А буду нечто самобытное».
Спасаясь от внимания и вмешательства Ивана Алексеевича, умевшего испортить жизнь всему, «что находилось возле него», что «соприкасалось с ним», отбиваясь, как от «осенней мухи», от навязчивого Зонненберга, портившего всякий разговор своим присутствием, мальчики уединялись в комнатах старого дома, того самого, так оромантизированного впоследствии Огаревым («Старый дом, старый друг…») и освященного в воспоминаниях Герцена конечно же дружбой с Ником («Тут родилась первая мысль, тут душа распустилась из почки…»).
«У тебя было две комнатки, окнами в противоположные стороны, — вспоминал Огарев. — В одной мы сидели по вечерам. Прямо в окно светила звезда, которую мы называли нашею… всю эту эпоху мы с тобой переживали вместе, постоянно подталкивая друг друга в развитии и стремлении к одной и той же, великой, для нас еще неясной цели».
В дружеском единомыслии — такое раздолье, свобода говорить обо всем на свете: о сочувствии к людям 14 декабря и бесчеловечных ссылках, о страшных казнях и коронации «ненавистного человека»… И читать, проглатывать книги вместе — страсть к чтению только удваивается. Прекрасная пища для ума. Нескончаемый обмен мнениями и идеями. Проштудирован «Социальный контракт» Руссо, давным-давно затвержены «Войнаровский» и «Думы» Рылеева. В общем, читается все, что вызывает общечеловеческий интерес, «возбуждая дух гражданственности».
«Дружба, прозябнувшая под благословением Шиллера, расцветала… — говорит герой „Записок одного молодого человека“. — Жизнь раскрывалась перед нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству; чертили себе будущность несбыточную, без малейшей примеси самолюбия, личных видов».
«Мы уважали в себе наше будущее, — повторит Герцен в „Былом и думах“, — мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные».
Прогулки за город, введенные домашними реформами Зонненберга, особенно сближали друзей. Поля за Дорогомиловской (Драгомиловской) Заставой и Воробьевы горы влекли более всего. Они стали восприниматься как своеобразный символ и даже «алтарь дружбы», а вскоре сделались «святыми холмами». Путь к их подножию во всех смыслах был не близок.
«Раз после обеда, — вспоминал Герцен, — отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были не шуточными делами». В старомодной неповоротливой карете «работы Иохима», запряженной четверкой обленившихся лошадей, шагом доезжали до Лужников, где на историческом месте счастливого спасения Карла Ивановича переезжали реку.
Именно здесь, в один прекрасный день, случившийся в лето 1827 года[15], на месте закладки грандиозного храма Христа Спасителя в память Отечественной войны с Наполеоном, и развертывалась давно известная каждому школьнику сцена клятвы-присяги на Воробьевых горах двух таких же юных отроков-школяров, уважавших в себе свое будущее и будущее своей страны:
«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».
Эта «борьба» за свободу и справедливость в представлении двух юных романтиков вовсе не подразумевала потрясения или даже ниспровержения режима, но занозой вошло в сознание нескольких поколений подобным одномерным восприятием этой клятвы (со знаком плюс или минус).
В ранней автобиографической повести «О себе», над которой Герцен работал в 1830-е годы, своеобразного зерна, проросшего в будущие мемуары, развернута та же картина клятвы на Воробьевых горах, но с вариациями, в более размытом, многословном исполнении. Тем не менее здесь сохранена вся детская восторженность того времени: «Бесконечная Москва стлалась и исчезала в неопределенной дали, пышно освещенная заходящим солнцем, лучи которого опирались на маковки церквей… дивный вид, кто его не знает в Москве? Император Павел привел сюда [художницу] Madame Lebrun, чтобы она его сняла. Lebrun простояла час, с благоговением сказала: „не смею“ и бросила свою палитру. Император Александр хотел тут молиться за спасение отечества. Раз вечером были мы с Ником на самом месте закладки храма. Солнце садилось, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горою. Долго мы стояли молча… потом взглянули друг на друга, со слезами бросились друг другу на шею и перед природой и солнцем поклялись всю жизнь посвятить на борьбу с неправдой и пороками…
Ребячество, ребячество! Скажу и я, и прибавлю слова Христа: „О, будьте детьми!“
Прошло несколько лет, мы ушли вперед и иначе поняли жизнь…»
Глава 4
ГОДЫ УЧЕНИЯ И ПИРЫ МОЛОДОСТИ
Жизнь эта оставила у нас память одного продолжительного пира дружбы, пира идеи, пира науки и мечтаний, непрерывного, торжественного, иногда мрачного, разгульного, но никогда порочного.
Из разговора Александра Герцена и Вадима Пассека (в пересказе Татьяны Пассек)
Жизнь друзей протекала в усиленной умственной, внутренней работе. Военное настроение, безмерное тяготение к мундирам и эполетам, грезы о воинской службе, так воодушевлявшие Ника, скоро были развеяны, хотя и значительно позже, чем у юного Шушки. На первый план выступали политические интересы, уже не подверженные влиянию домашних учителей и навязанных наставников. Идеи вызревали, вырастали из освоения философских, естественно-научных и политических сочинений. Хотелось самим сочинять. Ник занялся стихотворством, математикой и музыкой. У Александра обнаружились недюжинные способности к естественным наукам. И тут не обошлось без влияния Химика. С первой встречи 1827 года Алексей Александрович Яковлев понял серьезность увлечений своего двоюродного брата и стал уговаривать его бросить «пустые» занятия литературой и «опасные, без всякой пользы» — политикой. Александр принялся за чтение рекомендуемых Химиком книг, штудировал зоолога Ж. Кювье, одного из реформаторов сравнительной анатомии и систематики животных (реформатора классификатора видов); освоил сочинение автора одной из первых естественных систем растений О. П. Декандоля «Растительная органография». Сам начинал публиковаться в «Вестнике естественных наук и медицины» («О чуме и причинах, производящих оную, барона Паризета» — реферат работы Э. Паризе «Lettre sur l’expédition médicale d’Egypte»), пролагая себе путь на физико-математическое отделение Московского университета.
В конце августа 1829 года прошение о дозволении слушать лекции на факультете, не без возникших сложностей в связи с формальной службой в Кремлевской экспедиции (и даже, как ни парадоксально, получением первого чина) наконец было подано, и с 14 октября того же года Александр Иванович Герцен зачислен в студенты. Огарев потянулся вслед за другом, определившись вольнослушателем на словесное отделение.
Шумная студенческая семья «в семьсот голов» захватила Александра и вынесла его в свободное плавание. Притом отеческая опека, хотя бы в лице сопровождавшего его на курс камердинера, — дань «старинному помещичьему воспитанию», которого упрямо придерживался Яковлев (ничуть не сомневаясь в тщетности своих попыток), — отнюдь не ослабевала. Определялось и время возвращения домой подросшего барчука: не позже половины одиннадцатого. И так до двадцати одного года. «…Если б меня не сослали, — усмехнется Герцен, — вероятно, тот же режим продолжался бы до двадцати пяти лет… до тридцати пяти».
После домашнего заточения, проведенного до поры в интеллектуальном одиночестве, а затем в скрываемых от отца свиданиях с Огаревым, вольная университетская жизнь собирала друзей или, вернее, будущие друзья собирались вокруг Герцена. Несомненно, он станет лидером. И даже облик его — оживленный, раскованный, производит впечатление. Он невысок, худ, а в темно-серых, живых, блестящих глазах столько благорасположения и любви к людям, столько скрытой энергии и пытливого ума, что трудно ошибиться насчет его дарований. Он пылок, остроумен, его жажда знаний и деятельности не знает предела. Однако чрезмерная искренность семнадцатилетнего юноши, неосмотрительность молодости и молодая дружеская солидарность никак не предостерегают его от «безумной неосторожности» в общении с разными людьми. Пропаганда политических идей ведется с щедростью, открыто и с полным приятием ее новыми товарищами:
«Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что здесь совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим основу союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней».
Панегирик своей alma mater навсегда остался на страницах «Былого и дум» классическим подтверждением роли и влияния университета «в истории русского образования» и в формировании новых просвещенных поколений для будущего России: «Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. <…> С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.
Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.
Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипела, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с Полежаевской истории. <…>…и не занимался больше „этим рассадником разврата“, благочестиво советуя молодым людям… не вступать в него. <…>
Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».
«…Больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений… Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».
Волнения и бури в истории университета сопряжены с внутриполитическими событиями и международными потрясениями, бесконечно пугавшими русское правительство («…какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой», — напишет Герцен в «Былом и думах»).
Европа дышит революцией. Во Франции — Июльский переворот. Поляки готовы восстать и вновь заявить о своих правах и притязаниях. В ноябре — декабре 1830-го доходят новости о Варшавском восстании и Герцен бесконечно сочувствует полякам. Отныне их предводитель Тадеуш (Фаддей) Костюшко — один из главных героев его поклонения. На молодежь сильно действуют аресты и жестокие расправы, учиненные правительством в ее среде в ответ на малейшие протесты. Еще жив трагический пример Полежаева, отданного в солдаты всего лишь за стихи. (Он проживет 33 года и будет включен Герценом в составленный им мартиролог жертв николаевского деспотизма.) На памяти студентов — разгром тайного общества братьев Критских, арестованных в 1827 году. Какова участь этих троих мучеников? В деталях Герцен не знает. Но судьба любого протеста предопределена: ссылка, тюрьма, гибель либо в крепости, либо в солдатах.
Несмотря на подстерегавшие опасности, молодое поколение готово было вырваться из-под правительственной опеки. Уровень «гражданской нравственности» студентов рос на глазах, читалось и обсуждалось всё запретное — книги, потаенные стихи. Герцен свидетельствовал: молодежь собиралась прекрасная. Ни доносов, ни предательства не было. Робкие юноши отходили в сторонку, чтобы не быть вовлеченными в «истории». Но истории эти неминуемо случались.
Только пережили эпидемию холеры, заставившую Герцена прервать занятия на три с половиной месяца (сентябрь 1830-го — январь 1831-го), как разразилась история почти политическая.
Погружение в политику, и, как следствие, протест против режима до добра не доводят и обычно заканчиваются знакомством с оборотной стороной свободной жизни. И Герцену этого не избежать. Уже первая демонстрация несогласия с устоявшимися в университете консервативными правилами была чревата последствиями, выдвинувшими его в ряд неблагонадежных. Он впервые узнал прелести карцера.
«Маловская история» марта 1831 года развертывалась стремительно и со всей полусерьезной, полувеселой легкомысленностью юной беспечности. Могла бы она кончиться гораздо трагичнее, если бы…
На вопрос о количестве профессоров на политическом факультете следовал банально простой ответ молодых острословов: «Без Малова (читай: без малого) девять». За постоянные дерзости студентам глупого, грубого, раболепного лектора (без устали превозносившего достоинства крепостничества) следовало «вычесть» из десяти профессоров названного отделения, что они и сделали, совершив его физическое изгнание. Продуманный в деталях спектакль под одобрительный гул аудитории завершился эффектной концовкой: вслед покинувшему поле боя неудачнику выбросили его калоши.
«Вспомогательное войско» Герцена, пришедшее по зову друзей на соседний факультет для поддержки, должно было просчитать жесткие последствия своего протеста. Суд и расправа не заставили себя ждать. Ректор Двигубский рвал и метал… Называл Александра и подобных ему «карбонариями», грозил отдать в солдаты.
Участники происшествия: Я. Костенецкий, Н. Огарев, П. Каменский, П. Антонович, А. Оболенский, М. Розенгейм, Ю. Кольрейф и другие — ежедневно собирались у студента Почеки. Решали: виноватыми следует объявить себя только четырем состоятельным студентам с большими связями и знатными родственниками. Полагали: ничего страшного с ними не произойдет. В крайнем случае, поскучают, отсидят в карцере. Избранниками оказались князь Оболенский, Розенгейм, Каменский, Орлов, И. Арапетов и, конечно, Герцен, сразу уведомивший отца об отказе от предложенного ему досрочного освобождения (конечно, из солидарности), что вызвало особенный гнев старика, ненавидевшего крамольный университет. Впрочем, хватило и недели вполне безобидного заточения, протекшего в веселой студенческой компании, — легкой прелюдии к будущим тюремным испытаниям Александра.
Не успели слегка замять «маловское дело», чтобы не ставить под удар властей и без того провинившийся университет, как разразилась настоящая трагедия. В июне 1831 года арестовали товарищей Герцена и Огарева, привлеченных по «делу кружка Н. П. Сунгурова». В их числе на факультете называли недавних участников маловской истории — Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича, прекрасных, даровитых юношей. Военно-судная комиссия примерно через год вышла с приговором: в военные части, рядовыми. Их обвинили «в преступных разговорах» и «в намерении составить тайное общество» (знакомые формулировки и в последующих процессах, например, в «деле Петрашевского»), Отправленный на каторжные работы Сунгуров так и сгинул в Сибири.
Герцен предчувствовал: «Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу».
Опасности сплачивают единомышленников. Расширялся круг друзей Александра, захваченных событиями вспыхнувшей, всколыхнувшейся Европы, и трагически отозвавшимися в России. Сначала в ближнем окружении Герцена друзей было всего пятеро: Николай Огарев, Николай Сазонов, Николай Сатин и Алексей Савич. Затем с ними сошлись Вадим Пассек и Николай Кетчер. Пока они только молодые люди с немалыми запросами и амбициозными мечтами, а впоследствии поэты, переводчики, публицисты, ученые.
Одним из первых осенью 1831 года с Герценом познакомился Сатин, увлеченный поэзией и переводами. К ним присоединился Сазонов, человек недюжинного ума, но «фразер и эффектёр», что будет замечено значительно позже. В университете он — идейный соратник и ближайший товарищ Герцена.
Вадим Пассек неразрывно соединил всех с медиком и переводчиком Шекспира Кетчером («…с этой минуты гнев и милость, смех и крик К. раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни», — отзовется Герцен в «Былом и думах»). Вскоре, через Сатина, произошло знакомство с молодым математиком Николаем Астраковым. Образовался настоящий кружок Герцена, занятый всеобщими вопросами с неумеренной «гражданской экзальтацией».
Что же они «пропагандировали»? В «Былом и думах» Герцен признается, что «идеи были смутны»: «…мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу». Разумеется, в последекабристский период новой общественной «разладицы» научные и художественные интересы в кружке не были отставлены.
Особо выделялся среди университетских товарищей Вадим Пассек, литератор с талантливыми задатками организатора, к сожалению, рано умерший от чахотки. Его отец был арестован еще в царствование Павла I по какому-то абсурдному доносу, и Вадим родился в Сибири, давшей ему особенный «закал». Александр отмечал его способность беззаветно любить родных и друзей, его удаль, его особенную отвагу, неосторожность «до излишества» — понятно, человек из сосланной, многодетной, разоренной семьи имел то преимущество перед москвичами, что не страшился сибирской ссылки.
Старший из «кружковцев», Алексей Савич, недолго пробыл среди единомышленников. Его идущая вверх ученая карьера (в будущем известного астронома) требовала постоянных командировок и перемещений в связи с новыми должностями.
Особой знаменитостью в университете почитался философ Николай Станкевич, неутомимый последователь Гегеля среди московской молодежи, вдохновитель философского кружка. «Он изучал немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие». В годы их учения чувствовалось идейное противостояние двух конкурирующих сообществ Герцена и Станкевича, и большой симпатии между ними не наблюдалось. Герцен подтверждал идейные различия: «Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами». Позже увидим, как это непонимание постепенно стиралось.
С ранней юности Герцен мог декларировать: «Мы жили во все стороны». Политические споры молодежи ночи напролет чередовались с веселыми пирушками и неумеренными возлияниями, попросту попойками. В памяти друзей осталась «светлая, веселая комната, обитая красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки…». Приют молодежь находила в доме отца Огарева у Никитских Ворот, что в двух шагах от университета. Конечно, в отсутствие Платона Богдановича, пребывавшего по болезни в своем имении.
В большой особняк на Сивцевом Вражке, приобретенный Иваном Алексеевичем в 1830 году у вдовы небезызвестного Ф. В. Ростопчина (оставившего след в истории с московскими пожарами 1812 года), молодой бесшабашной компании путь был заказан. Там был свой, жесткий порядок. Дневной и ночной дозор старика, содрогавшегося при одном виде сына в окружении университетских вольнодумцев, опасных бездельников, вызывал неприязнь или, по меньшей мере, злую иронию Яковлева.
А между тем учебный курс заканчивался и Александр подводил итоги, сколь многим обязан своей alma mater науками, которыми в состоянии был овладеть («науками, сколько в состоянии был принять»), приобретением метода изучения, ибо «метода важнее всякой суммы познаний». В дружеском послании члену студенческого кружка Михаилу Носкову, написанном незадолго до выхода из университета, Герцен оценивал и главное в их студенческой жизни — дружбу, которая будет для него всегда высшим обретением и священным обязательством в отношениях с людьми. Словом, благословлял университет и старания его выдающихся профессоров — М. Г. Павлова, Д. М. Перевощикова, М. Т. Каченовского, патетически восклицая, «что все сладкое… произошло от друзей и от наук».
Вот уже четыре месяца трудится он над своей диссертацией по астрономии — «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника», ничуть не сомневаясь в получении золотой медали. Однако честолюбивого диссертанта ждет разочарование. 22 июня 1833 года, наконец, проходит выпускной экзамен. Для присвоения степени кандидата необходимо набрать как минимум 28 баллов по восьми дисциплинам (при высшей оценке — 4 и низшей — 0). Герцен получает 29 баллов, а диссертация приносит лишь серебряную медаль.
В записке Наташе Захарьиной, давно проявлявшей сочувствие к своему двоюродному брату и не мечтавшей до того об его ответном внимании, 26 июня Александр извещал «милую сестрицу», что он кандидат: «Вы не можете себе представить сладкое чувство воли после четырехлетних беспрерывных насильственных занятий… Вспоминали ли вы… обо мне в четверг? День был душный, и пытка продолжалась от 9 утра до 9 вечера». Но при всем удовольствии свободы его самолюбие было задето тем, что золотая медаль досталась другому… Вторым он быть не желал и на акт награждения не явился, в чем без утайки, искренне признавался Наташе в другом своем письме от 6 июля, верно чувствуя уже в ней заинтересованного друга.
Эти тексты, несколько измененные и сокращенные, Герцен ввел в ткань «Былого и дум», когда получил из России оставленные там бумаги. В первоначальном варианте письма, отправленном 26 июня в подмосковное имение княгини М. А. Хованской, где в то время жила Наталья Александровна, сохранились примечательные слова любви и признательности старому и такому родному городу, который вскоре ему предстоит покинуть:
«Как проводите время, теперь деревня — рай, и я с радостию бы поехал… на короткое время, ибо для меня и Москва не хуже рая. Я привык, я люблю Москву, в ней я вырос, в ней те несколько человек, которые искренно, долго будут жалеть обо мне; другие города представляют мне только множество людей, и я посреди их один-одинехонек — а это грустно! Впрочем, ежели будет нужда, будет польза, я готов ехать хоть в Камчатку, хоть в Грузию, лишь бы в виду было принести какую-нибудь пользу родине».
В то жаркое лето, когда в жизни намечается новый поворот, ему важно вновь припасть к «алтарю» их с Огаревым дружбы, вновь вглядеться с Воробьевых гор в опоясанный узкой рекою такой разноликий город и, поняв не лучшие перемены в себе за каких-нибудь семь-восемь лет, очиститься «высшей поэзией» от всего наносного, земного. «День был душный…» — начнет Герцен лирический отрывок уже сложившейся в его голове фразой, очевидно сочиненной тогда же, в июне, сразу после экзамена. Здесь он и поэт, и философ, и эколог (по современным понятиям).
В этом раннем сочинении присутствует и социально-политический замес: романтическому восприятию возвышенной мечты противостоит «низкая действительность» с вторжением в божественный мир социального зла, насилия и несправедливости: «…там судья продает совесть и законы; там солдат продает свою кровь за палочные удары; там будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика; <…> там бледные толпы полуодетых выходят на минуты из сырых подвалов, куда их бросила бедность». Пороки людей, порожденные этой «низкой действительностью», позволяют ему, уже много понявшему в естестве человека, риторически заключить: «Люди, люди, где вы побываете, все испорчено: и сердце ваше, и воздух, вас окружающий, и вода текущая, и земля, по которой ходите»… Герцен варьирует цитату из «Эмиля» Руссо: «Как природа хороша, выходя из рук творца; как она гнусна, выходя из рук человека».
Герцен, последователь «великих поэтов», не боится назвать и крамольного представителя этой когорты: Рылеев. «Певец Войнаровского смотрел на меня и мне говорил: Ты все поймешь, ты все оценишь».
Год, проведенный после университета, еще более сплотил старых друзей. «Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула». Ни одной безнравственной истории в их кругу, «ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть», Герцен не может припомнить.
Что же это были за пиры и вакханалии? Раз уж такое обилие Николаев: Огарев, Сатин, Кетчер, Сазонов, почему бы в Николин день, 6 декабря, не устроить «пир четырех именин»? По злачным местам и лучшим торговым лавкам Белокаменной рассылаются за покупками все участники будущего торжества, чтобы обеспечить достойный праздник, и всё весело, остроумно, с проектами и сметами, в складчину: к «Яру» за ужином и к Депре — за вином. Не забыть «сыру и садами» у Матерна. Самый «капитальный вопрос» вечера: «Как варить жженку?»
В колеблющемся огне неясно просматриваются потемневшие лица. Грудой на столе — фрукты, ананасы… Класть — не класть в жженку? Как зажигать и как тушить шампанским? Ананасы плавают в суповой чашке: как бы не подожглись… Аромат невероятный… Картина, развернутая в памяти Александра Ивановича, сродни полотну голландцев, и ею стоит насладиться, открыв «Былое и думы».
Естественно, на следующий день от дьявольской смеси тошно, раскалывается голова. Иван Алексеевич каждый раз безошибочно угадывает этот особый «аром», задавая сыну сакраментальный вопрос: «Опять суп с мадерой?»
Изобретение подобного блюда требует пояснения Александра Ивановича, который однажды, загуляв с Огаревым, вместо столовой почтенного родственника Платона Богдановича (как было заявлено дома) оказался у «Яра». Будучи совершенными неофитами и отнюдь не ресторанными гурманами, друзья заказали «уху на шампанском» и какую-то мелкую дичь, отчего вышли из-за стола совершенно голодными и явно не в себе. Подозрение Яковлева, будто бы от Александра «пахнет вином», вызвало памятный диалог сына с отцом:
«Это, верно, оттого, — сказал я, — что суп был с мадерой».
«Au madère; это зять Платона Богдановича, верно, так завел; cela sent les caserne de la garde»[16].
Яковлева бесконечно пугали даже самые безобидные поступки развязных (скорее, отвязных, на нынешнем языке) приятелей его Шушки. Его неприятие и даже нелюбовь к ним, как всегда, выражались самым оригинальным образом. Их фамилии он методично переиначивал: Сатина называл Сакеном, а Сазонова — Сназиным. «Огарева он еще меньше любил и за то, что у него волосы были длинны, и за то, что он курил без его спроса. Но с другой стороны, он его считал внучатным племянником и, следственно, родственной фамилии искажать не мог».
Многие молодые люди вели себя крайне вызывающе и попадали на заметку полиции. Кстати, Огарев, вместе с приятелем, поэтом Владимиром Соколовским, бесшабашно распевали «Марсельезу» у стен Малого театра.
И все-таки — молодежь, могла ли она только теоретизировать, спокойно глядя на всё, что происходит вокруг?.. Время воспитывало. Поляки гремели кандалами по Владимирской ссыльной дороге, студенты пропадали в темных казематах. Герцен знал: черед за ними. Их имена уже занесены в списки тайной полиции.
Глава 5
«ПЕРВАЯ ИГРА ГОЛУБОЙ КОШКИ С МЫШЬЮ…»
М. Ю. Лермонтов. Прощай, немытая Россия…
- …И вы, мундиры голубые,
- И ты, послушный им народ…
«Рифмовать» голубые мундиры цвета «жандарм» в России давно научились. Шеф Третьего отделения — «голубой Бенкендорф», «голубая кошка» (у Герцена), ясно — метафоры тайной полиции. Здесь и нависшая опасность, и несвобода, и неминуемое преследование, в общем, вся сила карательной системы государства, готовая обрушиться на голову даже законопослушного гражданина.
Не успев покинуть университетские стены, Герцен уже намечал себе дальнейшую программу жизни. Деятельность: наука, журнал, углубленное самообразование. Отоспавшись, отъевшись, в общем, отдохнув после экзамена, сам ставит себе задачи. Слишком значительные пробелы в знаниях: следует создать собственную систему. Конечно, история и политические науки в ней на первом плане, естественные науки — на время отодвинуть. Глубже изучить Гёте: «Шиллер — бурный поток, Гёте — глубок, как море». Недурно еще усовершенствоваться в переводах. Теперь с полным основанием можно открыть Сперанского, его только что вышедшее «Обозрение исторических сведений о Своде законов»: «Велик вельможа публицист…» Сколько имен в перечне книг Александра Ивановича… Ум у него всеобъемлющий. Современному человеку столько не поднять, да и недосуг…
С Огаревым Герцен постоянно делится планами, в письмах одобряет его стремление стать поэтом, верит в его истинное призвание. Много размышляет о новых, теоретических основаниях их идей и поступков. Старые политические теории, лозунги и слова, негодные после разгрома восставших поляков, вызывают у друзей смятение. «Детский либерализм» 1826 года давно отлетел. Необходимо освоить и взять на вооружение «новую религию», социалистическое учение сенсимонистов.
Совсем скоро вся эта их потаенная, сокровенная переписка попадет в руки жандармов. Власть заинтересует пристальное и весьма подозрительное внимание Герцена к теории сенсимонизма. Он тогда ответит своим судьям: «Главное положение Сен-Симона — что за разрушением следует созидание; мне приходили эти мысли и прежде, ибо я не мог представить, чтоб человек жил токмо разрушая, что видим с реформации до революции 89 года, которая разрушала остатки общества феодального».
Мир новых отношений между людьми, идеал истинно человеческого общества, декларации об освобождении женщины со всеми необходимыми правовыми последствиями (ее равные с мужчинами права, при полном «оправдании, искуплении, реабилитации плоти» и пр.) и, главное, идея социального переустройства общества при жесточайшем сопротивлении старого западного мира действительно захватывают друзей, кажутся Герцену спасательным кругом в море захлестывающих друг друга теорий. Сколько их проработано, подхвачено, усвоено, отвергнуто… В конце концов, им вынесены заключения, которые он сформулирует в «Былом и думах»: «Сенсимонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. <…> Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки».
Принятые как руководство к действию новые идеи друзей наталкивались на полемику прежде благожелательных оппонентов, вроде издателя «Телеграфа» Николая Полевого, видевшего в сочинениях Сен-Симона лишь «безумие, пустую утопию, мешающую гражданскому развитию». Власть рассматривала это учение жестко, «как пагубное», сбивающее молодежь с пути истинного. За «вольный образ мыслей» можно было и поплатиться.
Девятого июля 1834 года Огарева взяли. Слово это, прочно укоренившись в карательном лексиконе, со временем не утратило значения.
— Как взяли? — возбужденно спрашивал Александр у камердинера Огарева, поднявшего его среди ночи.
Следовало объяснение слуги, которое сразу не доходило до Александра: часа два назад, едва Герцен покинул дом Огаревых, явился полицмейстер с квартальным и казаками, «забрал бумаги и увез Н. П.».
«…И отчего же его взяли, а меня нет?», «в последнее время все было тихо, Огарев только задень приехал…» — Герцен «не мог понять, какой повод выдумала полиция». Тем не менее в арестованных письмах и других бумагах Ника заключалась главная опасность…
Хлопоты и ходатайства Герцена за друга не дали никаких результатов. Казалось бы, не слишком осмотрительным было обращение к Михаилу Федоровичу Орлову, отвергнутому, почти изолированному от общества после 14 декабря. Славный ветеран «Союза спасения», этот могучий «лев в клетке» (по образному слову Герцена), уже почти ничем не мог помочь. Его высокое родство с приближенным к императору братом Алексеем, яростно защищавшим в тот роковой день Зимний дворец, возымело бы обратное действие. «Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку». Но все же написанное им письмо своему давнему знакомцу, князю Д. В. Голицыну, и визит Герцена за ответом в генерал-губернаторскую канцелярию кое-что прояснили. Московский генерал-губернатор наотрез отказался от содействия: дело слишком важно, сам император вмешался. По высочайшему повелению уже образована следственная комиссия. Повод для ареста — какой-то праздник, пир молодежи 24 июня, где пелись антиправительственные «стихи». Герцен о нем слыхом не слыхивал. Ни Огарева, ни Герцена там не было. В тот день праздновались именины Ивана Алексеевича Яковлева, на которых они оба присутствовали. Алиби было надежным.
В главе «Былого и дум», рассказавшей об аресте Огарева, сталкивались мнения различных представителей московского общества о проявлениях протеста молодого поколения 1830-х годов и ответной реакции правительства. Герцен не раз раздумывал о нормах поведения личности в период русского «надлома» после 14 декабря. Говоря современным языком: сидеть ли тихо и не рыпаться или же действовать, помогать, противостоять беззаконию и несправедливости.
Герцен прослеживает отношение общества к ответной, репрессивной реакции правительства. Рядом с такими опальными, благородными личностями, с которыми сводит его судьба — Михаилом Федоровичем Орловым, Николаем Николаевичем Раевским, Петром Яковлевичем Чаадаевым, Герцен выводит людей иного покроя, «либералов» и вольнодумцев на словах, вроде князя В. (В. П. Зубкова), некогда оказавшегося среди выпущенных из Петропавловской крепости по декабристскому делу. Теперь он ближайший, незаменимый сотрудник генерал-губернатора, имеющий немалый вес и обширные полномочия. Дружеский визит к нему, думал Герцен, должен обнадежить и помочь.
Диалог между ними, случившийся в день жесточайшего московского пожара, в котором людская молва обвиняла поджигателей, характерен и важен Герцену идеологически:
«Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол…» — говорил Зубков.
«Прежде, нежели посадят нас на кол, — отвечал Герцен, — боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?»
Помочь, замолвить слово об арестованном? Ни в коем случае, «держите себя в стороне», а то «сами попадетесь». Его советы Герцену и предостережения жить «как можно тише, а то хуже будет», завершаются смелой филиппикой князя: «Вот оно самовластье, — какие права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?» Предусмотрительность трусливой посредственности (кабы чего не вышло) противостоит благородному поведению людей, для которых дело, служение, помощь ближнему не пустые слова, не подвластные особым обстоятельствам.
Вытащить сына из тюрьмы был не в состоянии даже влиятельнейший отец Огарева, располагавший немалыми финансовыми возможностями. Взятый им на поруки Ник вновь оказался в заключении в конце июля 1834 года.
Известие об аресте сына Платона Богдановича произвело в семействе Яковлева отчаянный переполох. Предусмотрительный Сенатор незамедлительно явился к брату, чтобы просмотреть подозрительные книги племянника. Не оставить ни малейших улик, не дать ни малейшего повода… Иван Алексеевич сердился, сетовал на распущенность Огарева, ворчал: вот к чему приводит знакомство Шушки с подобными типами. Но он еще не предвидел главного несчастья. «Игра голубой кошки с мышью» только начиналась.
Глава 6
АРЕСТАНТ
Всякий арестованный имеет право через три дня после ареста узнать причину оного или быть выпущен.
Из статьи полицейского устава
Вопрос: «1. Объясните звание ваше, имя, отчество и фамилию, сколько имеете лет от рождения, какого вероисповедания… ежели состоите на службе, то где, в какой должности и с какого времени?»
Ответ: «1. Титулярный советник Александр Иванов сын Герцен, 22 лет, греко-российского исповедания… теперь же нахожусь на службе в Московской дворцовой конторе».
Вопрос: «2. На верность подданства и службы его императорскому величеству присягали ли?»
Ответ: «2. Присягал после получения каждого чина».
Власти понадобилось совсем немного времени после ареста Огарева, чтобы вовлечь в «игру» с полицейским следствием его ближайшего товарища и, возможно, не менее опасного злоумышленника.
На квартире московского обер-полицмейстера Цынского разобрали арестованные бумаги Огарева. Вынесли твердое определение: «переписка в конституционном духе», из коей следовало свободомыслие и полное единомыслие дружеского тандема.
Среди ночи 21 июля 1834 года в дом Яковлева, что в Приарбатье, на углу Сивцева Вражка и другого переулка — Малого Власьевского, громко постучали. Испуганный камердинер «дергерра» бросился в комнату Александра: «Вас требует какой-то офицер». Вопросы задавать не имело смысла. Он знал: пришли за ним. Неясная фигура на пороге, «задернутая в военную шинель», представилась полицмейстером Миллером. Другие лица скрывала ночь. Начался обыск. Пришельцы рылись в книгах, в белье. Бумагами занялся сам полицмейстер. Все ему казалось подозрительным. Герцена увели. На улице из сопровождающих Миллера составилась целая команда — четыре казака, двое квартальных и двое полицейских, считая главного. На особо важное задание, санкционированное самим генерал-губернатором, было мобилизовано восемь человек. Препровождали мирного пленника в Пречистенскую полицейскую часть двое вооруженных конных конвоиров. Это здание под каланчой в Штатном переулке, служившее одновременно и пенитенциарным, и пожарным заведением, сыздавна знакомо было москвичам. Ходили даже анекдоты, якобы городскими властями предписывалось выезжать на пожар со всем тяжелым инструментарием пожаротушения за десять минуть до пожара.
Долгие годы Герцен не мог забыть душераздирающую сцену его ареста: отца, бледного и растерянного, едва выдерживающего свое привычное высокомерие, но уже не в силах справиться с волнением и дрожью в голосе; плачущую мать, сраженную нагрянувшим как гром среди ясного неба несчастьем. Герцена тронул неожиданный жест старика, обнявшего сына и благословившего маленьким семейным образком из финифти. Аллегорический смысл образа Крестителя, представлявшего отсеченную голову Иоанна Предтечи на блюде, поразил тогда Александра: «Что это было — пример, совет или пророчество? — не знаю…»
Из родительского дома на Сивцевом Вражке до Пречистенского «частного дома» езды едва ли больше нескольких минут, но за эти мгновения его жизнь круто повернулась. И он, Герцен, должен был свыкаться с этой своей новой ролью опасного «колодника».
До утра его заперли в канцелярии Пречистенской части. Отдельной комнаты не нашлось. Ночь кончалась, начинался новый день. Перед Герценом возникали новые картины, о которых он и понятия не имел.
«К утру канцелярия начала наполняться; явился писарь, который продолжал быть пьяным с вчерашнего дня, — фигура чахоточная, рыжая, в прыщах, с животноразвратным выражением в лице. Он был во фраке кирпичного цвета, прескверно сшитом, нечистом, лоснящемся. Вслед за ним пришел другой, в унтер-офицерской шинели, чрезвычайно развязный».
Вереницей прошли перед ним «разные квартальные, заспанные и не проспавшиеся, наконец, просители и тяжущиеся». Содержательница публичного дома и сиделец из винной лавки, несдержанный на язык, до хрипоты спорили о нанесенных оскорблениях (что и вслух не произнести!), за что многоречивая скандалистка (попросту названная стражем порядка «фрёй») обращала на всех свой благородный гнев. Одна запоминающаяся сцена сменяла другую. Точно Герцену привиделась вполне реальная канцелярская фантасмагория. Сколько их будет в ссылках… Для будущего писателя — бесценный, незабываемый опыт.
Были и будут картины менее забавные — пострашнее и трагичнее, когда через месяц наступит время «наибольшего страха от зажигательства» и новоявленный арестант станет свидетелем расправы со всеми подозреваемыми в поджогах, без всякого следствия и суда.
Однако для 22-летнего Александра, еще не распрощавшегося с университетской юностью, все казалось «игрой», в которую он случаем втянут: «Надобно быть в тюрьме, чтоб знать, сколько ребячества остается в человеке и как могут тешить мелочи от бутылки вина до шалости над сторожем». Вспоминая первые месяцы, проведенные в заключении, Александр Иванович хоть и заявит оптимистически, что «к тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания», но, увы, привилегия эта, такое осознание жизненных испытаний, отнюдь не для всех.
Позже, пережив тюрьмы и ссылки, уже в эмиграции, он обобщит и представит полную картину тюремного беспредела, то есть, переходя на старый язык, тюремно-полицейских бесчинств, произвола.
«Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином. Политических арестантов, которые большею частию принадлежат к дворянству, содержат строго, наказывают свирепо, но их судьба не идет ни в какое сравнение с судьбою бедных бородачей. С этими полиция не церемонится. К кому мужик или мастеровой пойдет потом жаловаться, где найдет суд?
Таков беспорядок, зверство, своеволие и разврат русского суда и русской полиции, что простой человек, попавшийся под суд, боится не наказания по суду, а судопроизводства. Он ждет с нетерпением, когда его пошлют в Сибирь, — его мученичество оканчивается с началом наказания. Теперь вспомним, что три четверти людей, хватаемых полициею по подозрению, судом освобождаются и что они прошли через те же наказания, как и виновные».
По предписанию московского генерал-губернатора, уже помянутого князя Д. В. Голицына, 23 июля 1834 года была учреждена Следственная комиссия в составе председателя — обер-полицмейстера Л. М. Цынского, жандармского полковника Н. П. Шубинского, старшего полицмейстера Микулина, полковника И. Ф. Голицына и обер-аудитора Н. Д. Оранского. Делом заинтересовался даже сам всесильный граф А. X. Бенкендорф, которому донесли, что и в бумагах Герцена, «подобно письмам его к Огареву, также довольно много обнаруживается дух свободомыслия».
Раздутое полицией «Дело о лицах, певших в Москве пасквильные стихи», вот в чем состояло. Весело праздновалось выпускниками окончание университета. Завтраков, обедов, вечеринок — не избежать. На такой вот утренний пир 24 июня вышедший из университета кандидатом словесного отделения Егор Петрович Машковцев созвал своих гостей. Собралось человек десять — родственников, приятелей, знакомых, и среди них затесался некто по фамилии то ли Скаретка, то ли Скарятка, оказавшийся тайным агентом. Услышав на пирушке песни, «наполненные гнусными и злоумышленными выражениями против верноподданнической присяги», он немедля связался с жандармами. И ему посоветовали опыт повторить, но теперь пирушку спровоцировать. Несколько чиновников — друзей поэта В. Соколовского, уже отметившегося пением «Марсельезы», а теперь бесшабашно распевавшего песню: «Русский император / В вечность отошел, / Ему оператор / Брюхо распорол»[17], попали в эту компанию вместе с университетскими студентами. И неизбежно поплатились арестом. Одна ниточка потянула другую.
Двадцать четвертого июля арестанта Герцена везли для снятия показаний из Пречистенской части в обер-полицмейстерский дом на Тверском бульваре.
«Вы, верно… по делу Огарева и других молодых людей, недавно взятых?» — вопрошал Герцена неизвестный неказистый чин, первым встретившийся ему.
Их диалог был престранным. Герцен приводит его, отдавая позднюю дань признательности своему анонимному советчику (оказавшемуся, по архивным разысканиям ученых, секретарем Московской управы благочиния Д. И. Студеникиным).
«Слышал я, — продолжал он, — мельком. Странное дело, ничего не понимаю.
— Я сижу две недели в тюрьме по этому делу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего.
— <…> Вы меня простите, а я вам дам совет: вы молоды, у вас еще кровь горяча, хочется поговорить — это беда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасения».
В зале, где проводилось дознание и непременное увещевание священником арестанта «о грехе утаивать истину», Герцена поразил портрет Павла I, свирепого и нахмуренного, в непременной «третьей позиции» (с вывернутой по балетному правой ногой)[18]. «Напоминовением ли того, до чего может унизить человека необузданность и злоупотребление власти, или для того, чтоб поощрять полицейских на всякую свирепость…» — этот вопрос не нуждался в ответе.
Двадцать четвертого июля Герцену предлагалось 15 вопросов, на которые он должен был ответить. В «Былом и думах» он посчитал некоторые из них поразительно наивными, потому что «было чрезвычайно легко отвечать одним нет»: «Не знаете ли вы о существовании какого-либо тайного общества? Не принадлежите ли вы к какому-нибудь обществу — литературному или иному? кто его члены? где они собираются?»
Письменные ответы Герцена на ряд вопросных пунктов, схороненные в недрах полицейских архивов, в частности, в открытых в советское время бумагах обер-полицмейстерской канцелярии, были менее сдержанными и, увы, отличались некоей ненужной открытостью и неоправданной полнотой, хотя многое отрицали.
Увещевания всеведущего чиновника не пошли полностью впрок. Слишком мало опыта у начинающего конспиратора. Слишком упорно и извращенно завлекали его в полицейскую ловушку. Сбивали и запугивали. Раскаяние облегчит его участь.
Непризнание, запирательство убьет старика-отца, живущего лишь единственной надеждой спасти блудного сына.
Четырнадцатый пункт протокола допроса ставил вопрос ребром: «Не случалось ли вам в Москве или вне оной быть у кого-либо в таких беседах или сообществах, где бы происходили вольные и даже дерзкие против правительства разговоры; в чем они заключались, кто в них участвовал, не было ли кем вслух читано подобных сочинений или пето таких же песен?»
Герцен отвечал, переписав набело более детальный черновик: «Имея весьма ограниченный круг знакомых, я редко бывал в многочисленных беседах и никогда в таких, где бы делались бесчинные и дерзкие против правительства разговоры. С знакомыми же моими имел разговоры о правительстве, осуждал некоторые учреждения и всего чаще стесненное состояние крестьян помещичьих, доказывая сие произволом налогов со стороны господ, обремененьем трудами и находил, что сие состояние вредит развитию промышленности. Что же касается до самодержавия, я отдаю оному решительное преимущество над смешанными правлениями, ссылаюсь на мои статьи, где упоминается о конституционности. Разговоры о крестьянах имел я со многими знакомыми и родными, в том числе мой батюшка, Лев Алексеевич Яковлев, Николай Николаевич Бахметев (так!), Николаем Платоновичем, коего мнения о сем предмете не помню, и др. Они по большей части опровергали меня. Вообще сии разговоры были редки, ибо по большей части мои беседы касались до ученых предметов. <…> Лет пять тому назад слышал я и получил стихи Пушкина „Ода на свободу“, „Кинжал“, Полежаева — не помню, под каким заглавием — от г. Паца, кандидата Московского Императорского университета, но, находя неприличным иметь таковые стихи, я их сжег…»
Хотя в разговорах о крепостничестве фигурировали родственники и верноподданные знакомые И. А. Яковлева (генерал Н. Н. Бахметев), которых нельзя было даже заподозрить в антиправительственных мыслях, Герцен, без особой надобности, «брал огонь на себя», открывая крестьянскую тему. Очевидно, не осталось без внимания жандармов и его признание о потаенных стихах Пушкина, полученных им лет пять-шесть назад от бывшего студента университета Григория Минаевича Пацева (ок. 1800 —?), которого (как показывал он в черновом тексте ответов) «совершенно потерял из вида».
Огарев умелее, профессиональнее обходил «Сциллы и Харибды» жандармского дознания, избрав тактику запирательства, отрицая все скопом, отговариваясь незнанием или ограничиваясь минимумом подробностей, исправляя вынужденные оплошности, что и показали его допросные листы.
Первая Следственная комиссия, заседавшая с 24 июля по 7 августа 1834 года, по распоряжению князя Дмитрия Васильевича Голицына, показалась Николаю I слишком либеральной, вследствие чего была заменена второй — под председательством попечителя Московского учебного округа, не менее сиятельного однофамильца предшественника, — князя Сергия Михайловича («senior»). В комиссию вошли: еще один Голицын — «junior», младший, наивлиятельнейший, «отборнейший из инквизиторов» камергер Александр Федорович, состоящий при императоре по Третьему отделению. К ним присоединились знакомые по первой комиссии Л. М. Цынский, Н. П. Шубинский, аудитор Н. Д. Оранский и другие лица.
В захваченных при обыске бумагах «превредного и совершенно неисправимого молодого человека», как выразился инквизитор Голицын (тем самым предвосхищая неминуемый приговор), вторая комиссия усмотрела в письмах Герцена и вовсе крамольные тексты. В герценовских мемуарах закрепилась четко сформулированная фраза, воспроизведенная им по памяти «из одного письма»: «Все конституционные хартии ни к чему не ведут, это контракты между господином и рабами; задача не в том, чтоб рабам было лучше, но чтоб не было рабов». Действительно, это письмо Огареву от 31 августа 1833 года фигурировало в дознании, но текст его был иной. Рассуждая о «новом, огромном здании обновления», Герцен исторически соотносит его с разными странами и подводит к выводу о «нынешнем направлении», которое не что иное, как «компромисс между феодализмом и свободой», «контраст между господином и слугою; но не нужно ни господина, ни слуги».
В двадцати ответах на вопросные пункты второй Следственной комиссии (от 23 августа 1834 года), уже за месяц неволи привыкший быть заключенным, Герцен держался уверенно и ответы строил умело, как и подобает опытному арестанту. Во всех, даже весьма безобидных сочинениях вроде «28 генваря» о роли и необходимости явления в России Петра I, судьи пытались усмотреть «какую-то привязанность к оппозиции и желание, чтобы оппозиция существовала в России». Герцен объяснял: в отличие от Западной Европы, пережившей «борьбу разных народов», которую ее новейшие историки Тьерри и Гизо «называли началом военным или оппозициею», России повезло: «Сей-то борьбы в России не было», и ее главным оппозиционером был великий император, «который разом, своею силою перенес в Россию плоды, доставшиеся Европе горьким и кровавым опытом».
Судей, как всегда, пугали всяческие сравнения с Западной Европой, например, слова «права человека», поставленные там однажды на историческую повестку дня. Герцен терпеливо разъяснял, отвечал, просвещая своих мучителей ссылками на Декарта, Бэкона, французских философов и прочую доступную литературу, объявленную ими «революционной». Надо отдать должное некоторым членам комиссии: они основательно проштудировали все сочинения и переписку Герцена этой поры, так что биографы писателя смогли извлечь множество фактов и полезных сведений о его раннем творчестве, не дошедшем до нас в полной мере. В «историческом смысле» объяснялись им и смущавшие власти теории и воззрения, вроде сенсимонизма, фурьеризма и взглядов на французскую революцию 1789 года.
Несмотря на злобное упорство в допросах Голицына-младшего, не упускавшего возможности усугубить вину арестованных, народ в комиссии собрался разный. Понятия чести были еще в чести. Московский комендант К. Г. Стааль, «храбрый генерал», позволивший себе усомниться в правомерности вины арестантов «в каких-то полувысказанных мнениях, за которые судить и трудно и смешно», вступил в схватку с самим А. Ф. Голицыным «junior’oм».
«Вместо того, чтобы губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов, это предупредит других несчастных — а впрочем, вы можете делать что хотите, но делать без меня; нога моя не будет в комиссии». Не отступил «прямодушный воин» и перед самим императором, взявшимся помирить его со своим фаворитом, прямо заявил: «…моя совесть восстает против того, что делается в комиссии».
Тем не менее, хотя все подробности «дела» так или иначе были доведены до высочайшей власти и, казалось бы, что обвинения не стоят выеденного яйца, строгости содержания Герцена усилились. Допрос следовал за допросом, судьи и каратели заинтересованно перебрасывались бумагами относительно «смелого вольнодумца, весьма опасного для общества». Жандармский полковник Шубинский доносил графу Бенкендорфу, «что более всех содержащихся под арестом лиц обращают на себя внимание Огарев, Герцен и последователь их Оболенский, ибо в отобранных у первых двух бумагах оказываются некоторые сочинения и письма, кои подают повод заключать о каком-то намерении их».
Московские чины торопились. К очередной годовщине коронации старая столица ожидала монарха. Городское начальство сбилось с ног. Но как нарочно, незадолго до 22 августа, «какие-то шалуны подкинули в разных местах письма, в которых сообщали жителям, чтоб они не заботились об иллюминации, что освещение будет».
Солдаты, патрули — конные и пешие, казаки и жандармы — всё скакало и сновало взад и вперед. Целый уланский эскадрон и артиллерия были наготове. Сам князь Д. В. Голицын, отвлекшись от насущных генерал-губернаторских дел, разъезжал с адъютантами по городу. Герцен наблюдал все эти нервические вздрагивания «скромной Москвы», лежа на окне под каланчой Пречистенской части.
Через несколько дней после приезда государя, крайне недовольного следствием и всем на свете, полицейский офицер уже предъявлял арестанту Александру Иванову Герцену приказ следовать за ним с вещами. Учтивый страж не объяснял места назначения, но часа через полтора подконвойной прогулки по Москве становилось ясно, что везут его в настоящую политическую тюрьму. Пленник оказался за тяжелыми каменными воротами жандармских казарм, преобразованных из Крутицкого монастыря еще в XVIII веке.
Герцена привели в канцелярию. «Писаря, адъютанты, офицеры — все было голубое. Дежурный офицер, в каске и полной форме, просил меня подождать и даже предложил закурить трубку, которую я держал в руках. После этого он принялся писать расписку в получении арестанта; отдав ее квартальному, он ушел и воротился с другим офицером.
— Комната ваша готова, — сказал мне последний, — пойдемте».
Герцен вспоминает свою камеру (образца 1834 года), в которой он разместился, счастливо сохранив при обыске, уже как бывалый конспиратор, так необходимые заключенному ножик и карандаш.
«В моей комнате стояла кровать без тюфяка, маленький столик, на нем кружка с водой, возле стул, в большом медном шандале горела тонкая сальная свеча. Сырость и холод проникали до костей; офицер велел затопить печь, потом все ушли. Солдат обещал принесть сена; пока, подложив шинель под голову, я лег на голую кровать и закурил трубку.
Через минуту я заметил, что потолок был покрыт прусскими тараканами. Они давно не видали свечи и бежали со всех сторон к освещенному месту, толкались, суетились, падали на стол и бегали потом опрометью взад и вперед по краю стола.
Я не любил тараканов, как вообще всяких незваных гостей; соседи мои показались мне страшно гадки, но делать было нечего — не начать же было жаловаться на тараканов, — и нервы покорились».
Затопили печку, но «угарная комната» с двойной оконной рамой и без форточки едва не стоила ему жизни.
Тюремный распорядок был жёсток. В девять часов вечера тушили свечу, и до восьми утра приходилось сидеть в темноте. Именно сидеть, ибо для сна Герцену и четырех часов хватало. (Он всегда спал мало.) Но громоподобная перекличка часовых каждые 15 минут вряд ли способствовала мирным сновидениям осужденных. Во двор на прогулку выводили под конвоем один раз в сутки. Посетители к арестанту не допускались. Все просьбы Яковлева о свидании с сыном категорически отклонялись. В тюремном существовании, сопряженном со строгостью режима, все же выкраивалось время для чтения и спряжения итальянских глаголов, раз уж по случаю появилась итальянская грамматика. Так был усвоен новый язык, к немецкому и французскому в придачу (которые с детства знал), и проштудирована книжка знаменитого заключенного, бесстрашного борца за свободу Италии, Сильвио Пеллико — «Мои темницы». «С восторгом» читал Четьи минеи Димитрия Ростовского: «…вот где божественные примеры самоотвержения, вот были люди!»
Дни в заключении нанизывались однообразной чередой. «Я привык быть колодником, выброшенным из жизни», — писал Герцен 10 декабря 1834 года своей милой сестре Наташе.
Наконец комиссия посчитала, что образ мыслей, «не свойственных духу правительства», был раскрыт и пришла пора неисправимому злоумышленнику поплатиться за свои революционные мнения, «проникнутые пагубным учением Сен-Симона». Так заключил инквизитор Голицын. Свою ироничную, умелую пикировку с членами комиссии (кстати, основанную на глубоком знании российской истории) Герцен не забыл и через двадцать лет, когда писались главы «Былого и дум» о тюрьме и ссылке.
Судьи грозили, требовали раскаяния. Он был непреклонен. К счастью, никаких следов какого-то заговора или тайного общества, которые тщетно пытались выискать судьи, не могло быть обнаружено. Следственная комиссия разрешила свидания Герцена с родными. Яковлев волновался, хлопотал, стремясь выручить своего любимого сына. Однополчанин Ивана Алексеевича, генерал Н. Н. Бахметев, всегда принимавший живое участие в жизни дружеской семьи, наставительно просил написать поподробнее «об Шушке, которому пора уж быть Александром и Ивановичем».
После девятого месяца пребывания в заключении был вынесен приговор, утвержденный в середине марта 1835 года. Все — и родственники, и заключенные терялись в догадках: что грозит арестантам, каково наказание, а может, выпустят на волю? Ходили слухи: их с Огаревым и Сатиным — на Кавказ. Герцен бодрился: «Мне эта новость и не горька, и не сладка, лучше на Кавказе 5 лет, нежели год в Бобруйске. <…> Я не разлюбил Русь, мне все равно, где б ни было, лишь бы дали поприще…»
Приговор был оглашен 31 марта в большой зале генерал-губернаторского дома, что на Тверской. Друзья — Герцен, Огарев, Соколовский, Сатин, Оболенский увиделись впервые после долгой разлуки. Настоящий праздник — «торжественный, дивный день». Так и писал он из Крутиц своей сестре Наташе через два дня после слушания сентенции: «Там соединили двадцать человек, которые должны прямо оттуда быть разбросаны одни по казематам крепостей, другие — по дальним городам… <…> Со слезами и улыбкой обнялись мы. Всё воскресло в моей душе, я жил, я был юноша…» Но развязка была неотвратима, приговор неминуем. Приходило понимание, что юношескому существованию в дружеском кругу положен конец: Александр Иванович Герцен должен отправиться в пермскую ссылку под надзор полиции. Николай Платонович Огарев — в пензенское имение умирающего, разбитого параличом отца под надзор местного губернатора. Подобное послабление, по личной просьбе председателя комиссии государю, сознательно представлялось как акт особой, монаршей милости. Власть искала благодарности осужденных — и не дождалась. Герцен был далек от раскаяния.
Последние строки из тюрьмы, написанные при жандармах 10 апреля 1835-го, Александр обращает «своей прелестной сестре»: «За несколько часов до отъезда я еще пишу и пишу к тебе — к тебе будет последний звук отъезжающего. Тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался; она влечет меня, и я ей покоряюсь. Когда ж мы увидимся? Где? Все это темно, но ярко воспоминание твоей дружбы…»
Пока еще рубеж сестринской, родственной дружбы им не перейден.
Ведь именно она, «юная утешительница», поддержала его в «самую черную эпоху» только начавшейся взрослой жизни, от 9 до 21 июля, от ареста Огарева до собственного заключения. Они встретились с Наташей на Ваганьковском кладбище 20 июля, и ее участие, позже освещенное в герценовских мемуарах и в набросках ранней неоконченной повести «О себе», обратилось в первые годы ссылки Герцена в значительный эпизод невольного сближения героев по дружеской, а затем любовной переписке. В «Былом и думах» Герцен начинал прочерчивать, как ему казалось, прямую линию своей личной судьбы (выбрасывая из памяти все кажущееся ему несоответствующим этому дорогому, единственному образу). То был рассказ о счастье начала, несмотря на несчастье конца.
Он увидел ее впервые у княгини Марьи Алексеевны Хованской, своевольной, «полной причуд и капризов», как все из яковлевской родни. Маленькой девочке едва исполнилось восемь, и жила она на положении сироты, хотя княгиня была ее родной теткой. С детства отвергнутая всеми, печальная, не имеющая подруг, она казалась себе никому не нужной и уже в отрочестве лелеяла мысли о смерти.
Религиозная экзальтация юной кузины не позволяла Герцену разделить все ее мысли о Боге и том свете: она «молилась, мечтала о монастыре и жизни за гробом». Расстояние их воззрений на жизнь и смерть не было таким уж близким, почему в дальнейшем, даже не желая этого, они во многом разошлись и семейная жизнь неожиданно дала крен.
Герцен вспоминал: «До 1834 года я все еще не умел оценить это богатое существование, развертывавшееся возле меня, несмотря на то, что девять лет прошло с тех пор, как княгиня представила ее моему отцу… <…> Она была дика — я рассеян… я тогда был совершенно увлечен политическими мечтами, науками, жил университетом и товариществом».
«…Княгиня не особенно изубытчивалась на воспитание ребенка, взятого ею». Сначала дьякон, учитель-мечтатель, дал ей в руки Евангелие, с которым она больше не расставалась. Потом сердобольная Татьяна, корчевская кузина, взялась, правда с некоторым опозданием, за ее образование. Она «передала своей ставленнице все бродившее в ее собственной душе», все, позаимствованное у Герцена: шиллеровские идеи и идеи Руссо, революционные мысли и «мечты влюбленной девушки, взятые у самой себя». Без всякого разбора надавала ей романов. «Маленькая кузина», — говорила она Герцену, — «гениальное существо, нам следует ее вести вперед!»
«Печать жизни, выступившей на полудетском лице ее» после столь долгого периода грустного постижения собственной несчастной судьбы, Герцен «первый увидел накануне долгой разлуки». Это состояние новизны, нового, еще не до конца осознанного ощущения передано им впоследствии с известной долей экзальтации и живой непосредственностью: «Памятен мне этот взгляд, иначе освещенный, и все черты, вдруг изменившие значенье, будто проникнутые иной мыслью, иным огнем…» Встреча с Александром «спасла ее». Свидание в Крутицкой тюрьме и долгое прощание 30 апреля 1835 года повернули ее жизнь. «Александр, не забывай же сестры», — говорила она, сжимая его руку, и не в силах сдерживать слезы. «Нет, брат твой не забудет тебя», — думал Герцен, не вполне осознавая реальность нахлынувших чувств и будущего поворота его судьбы.
Глава 7
«КОГДА ЖЕ ЛАНДЫШИ ЗИМУЮТ?»
Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли…
А. И. Герцен. Былое и думы
Герцена везли в Пермь. Новые отношения с Наташей Захарьиной были еще неясны, смутны.
Что-то мешало ему до ссылки понять ее, сблизиться с нею. Тревожило одно воспоминание, совсем о другой женщине. Как он был влюблен! Через 20 лет, создавая «Былое и думы», Герцен по-юношески лиричен: память об этой давней «чистой любви ему мила, как память весенней прогулки на берегу моря, середь цветов и песен». Он хочет упрятать подальше эту любовь, представив ее как прекрасный и исчезнувший сон, но не сдерживает своих эмоций: «Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего девятнадцатилетнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют?»
Он даже не называет ее по имени. Для него — она Гаетана, героиня романа, жертвующая всем для своего несчастного возлюбленного — «изувеченного» страдальца[19]. При написании мемуаров Герцену важно закрепить единственность своей любовной привязанности, возвысить на пьедестале только одну женщину — Натали («один женский образ является во всей моей жизни», не раз повторит он). Но первая любовь навсегда не уходит, хотя в пожившем, страдающем человеке не узнать того восторженного юношу с искрящимся взором и страстной речью, каким он был в годы захватывающего романа. Круг его общения — университетский, в основном мужской. Женщин, с которыми мог бы он сблизиться, рядом почти нет. Но приходит сознание в потребности иного чувства, нежели мужская дружба, «чувства больше теплого, больше нежного». «Все было готово, недоставало только „ее“».
Пламенная дружба с корчевской кузиной, готовая перерасти со стороны Татьяны в нечто большее, «приняла мало-помалу ровный характер», а с ее замужеством и вовсе приутихла.
Татьяна вошла в любимую им семью Пассеков женой Вадима. Его младшая сестра — мечтательница-поэтесса Людмила, так и осталась в воспоминаниях Герцена Гаетаной.
Она была «сговоренной», но брошенной невестой. Из-за какой-то ссоры жених покинул ее. Грусть, разочарование, даже нанесенное ей оскорбление не могли помешать их сближению с Александром. Несчастный случай свел и соединил их: «Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи, я писал ей в прозе целые диссертации[20], а потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах, она была на все готова». Хрупкая, нежная, она в воображении Герцена провожала его в сибирские рудники.
Любопытно, что даже в письме Наталье Александровне, еще вполне формальном (в августе 1833 года), с сообщением о посылке ей книг, Герцен не упускает возможности привести текст стихотворения Л. [Людмилы] «Отрадный мир». Не удерживается, пишет его на обороте листа.
«Когда же ландыши зимуют?» Поэтический образ «ландыша» в «Былом и думах» дан намеком в виде лирического вопроса, впрочем, не совсем понятного без контекста какого-то другого, более раннего сочинения. Предположительно, это главка, названная «Ландыш», из упомянутой уже повести «О себе», осталась фрагментами в разрозненных листках, найденных Т. П. Пассек и включенных в ее мемуары. Тексты Герцена, как известно, во многих случаях ею препарировались, сокращались, дописывались. Однако тщательные текстологические исследования литературоведов, преданных теме герценоведов, позволили ликвидировать некоторые лакуны, остающиеся в раннем творчестве Герцена, и тем самым уточнить правомерность его авторства.
Татьяна Петровна вводила в изложение образ ландыша, хотя и не должна была быть посвященной в тайну тщательно скрываемых отношений Людмилы и Александра. Характерные приметы стиля Герцена у Пассек полностью не распознаются, особенно во втором предложении («…тут была девушка белокурая, прелестная, как весенний ландыш…»; «Теперь уже ничего не мешало Саше упиваться любовью к своему ландышу…»), но слово «Ландыш», оставшееся в заглавии фрагмента, кажется вполне оправданным.
Сохранилась записка Герцена конца сентября 1833 года, где он предупреждал Людмилу: «Ангел мой, вчера приехали Вадим и Таня, будем осторожны». Конечно, найдя случайно это письмо на полу в гостиной, как утверждала Татьяна, и невольно заглянув в него, она была оскорблена «отчуждением Саши»: «Почему это? За что?» Простая мотивация неравнодушной женщины, даже через много лет, когда писались мемуары, крылась в банальном, чисто женском объяснении: дескать, Александр, начавший осознавать «непрочность своих чувств» к Людмиле, стеснялся выставлять их перед семьей.
Единственное из сохранившихся писем Людмилы, полное любовного трепета, показывало, как на самом деле отнеслась она к приезду брата и его жены, расстроивших и стеснивших их неуемное желание «наслаждаться счастьем». (Известно, что оказавшись в Вятке, Герцен письма сжег, «не имея духа перечитать».)
Тюремный свод, освещенный «последним пламенем потухавшей любви», как заключал Герцен свою историю о первой влюбленности, уже озарялся новым светом. Жизнь окончательно развела их с Людмилой. Она еще посетит его в тюрьме незадолго до отправки в ссылку. Их романические фантазии и мечты о казематах и прочих суровых испытаниях и впрямь воплотятся в реальную жизнь. Судьба, рок, fatum предоставят Герцену такую возможность: стать каторжником, ссыльным, обреченным «на бой с чудовищною силою».
Глава 8
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ССЫЛЬНЫЙ
Практическое соприкосновение с жизнью начиналось… возле Уральского хребта.
А. И. Герцен. Былое и думы
Коляска катилась по Владимирке, сибирскому тракту. Ссыльный путь заключенных, политических и уголовных. Звеня кандалами, пешком, скованные на телегах, отправлялись они в свои дальние странствия, откуда многие не возвращались. Почти дорога в ад. Невольно вспоминались строки Данте, которые тут же, на одной почтовой станции, Герцен по памяти записал:
Ямщик гнал лошадей (конечно, добрый барин не пожалел двугривенного) по обычной российской дороге, грязной, скользкой, местами покрытой ледком. Начало апреля — не лучшее время для дальних путешествий.
Первые путевые истории не улучшали настроения: не удалось, как было договорено, встретиться в назначенном месте с другом Кетчером; уличили сопровождавшего его жандарма в попустительстве политическому арестанту: и не кто-нибудь, а первое лицо города Покрова. Сам городничий рад был продемонстрировать свое высокое начальственное положение (известное дело, в России каждый, вознесшийся над бугорком, хочет показать свою власть).
Поднадзорному Герцену придется теперь постоянно сталкиваться с новым миром, чиновничьей провинциальной средой, о которой, не покидая Москвы, он и понятия не имел. Уроки жизни пойдут ему на пользу. Однако «вида беспрекословной подчиненности» и желаемого подобострастия от него не дождутся. Он независим, ироничен, корректен, иногда даже дерзок с начальством.
Помаявшись в чиновничьих коридорах, Александр Иванович готов определить «символ веры» сильных мира сего, не терпящих любого неповиновения.
«Помещик говорит слуге: „Молчать! Я не потерплю, чтоб ты мне отвечал!“
Начальник департамента замечает, бледнея, чиновнику, делающему возражение: „вы забываетесь, знаете ли вы, с кем вы говорите?!“
Государь „за мнения“ посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах, и все трое скорее готовы простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи».
Но пора продолжить путь вынужденного странника. Лошади несутся, а дорога ведет. Повторим вслед за Герценом: «Вы хотите, друзья, чтоб я вам сообщал мои наблюдения, замечания о дальнем крае, куда меня забросила судьба: извольте». «Je suis en Azie!» — как писала Екатерина II Вольтеру из Казани. «Я в Азии!» — повторил политический ссыльный.
Проехали Владимир (он еще сверкнет «светлой точкой» в жизни изгнанника). Миновали Нижний Новгород. Насмотрелись на «царь-реку». Наконец оказались проездом в Чебоксарах. Здесь в первый раз Герцен ощутил «даль от Москвы», словно вымерил ее, увидев новые народы с их «пестрым нарядом, странным наречием и певучим произношением». Всё говорило «о въезде в другую полосу России, запечатленную особым характером».
Разлив Волги помешал сразу добраться до Казани. Перевоз остановился. Погода не благоприятствовала. Стихия разбушевалась. На чахлом дощанике, что вроде утлого суденышка или, вернее, дрянного парома с парусом, путники боролись с волнами, ветром, дождем. В образовавшуюся пробоину хлестала вода, вымокли до нитки… Он, подобно Одиссею, попал в шторм. Выберется ли? Впервые в полном смятении Герцена пронзила мысль, «что это нелепо, чтоб он мог погибнуть, „ничего не сделав“». «Чего ты боишься? Ведь ты везешь Цезаря!» Слова мудрого императора, увещевавшего своих отчаявшихся гребцов в похожей ситуации, вспомнились кстати. Вскоре пришли убеждение и уверенность, свойственные юности, что не погибнет.
«Жизнь впоследствии отучает от гордой веры, наказывает за нее, — скажет он, вспоминая трагический эпизод, — оттого-то юность и отважна и полна героизма, а в летах человек осторожен и редко увлекается».
По разлившейся Волге подплывали к стенам Казанского кремля. Издали, в тумане, вырисовывался памятник Ивану Васильевичу, грозному завоевателю Казани.
Трехдневное пребывание в городе в сопровождении жандарма только усиливало его одиночество, его непомерную тоску по Москве; «ярче» разлуки он не чувствовал. Осмотрели городские достопамятности, побывали даже в университете. Новый город давал пищу для размышлений. Следы их остались в письмах, очерках, мемуарах изгнанника.
«Казань, некоторым образом, главное место, средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока: они получают чрез нее просвещение, обычаи и моды. Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
Двадцать восьмого апреля 1835 года, не успев прибыть в Пермь и устроиться на новом месте, где видно «решительное отсутствие всякой жизни», Герцена уже настигает «высочайшее повеление» направиться на службу в Вятку «под строгий надзор местного начальства». Недели через две пермский губернатор приказывает ссыльному покинуть вверенный ему город в 24 часа.
Иван Алексеевич Яковлев, никогда не перестававший хлопотать о смягчении участи своего «воспитанника», предусмотрительно приставил к Александру двух сопровождающих — незаменимого камердинера Петра Федоровича, охранявшего Шушку в продолжение всего университетского курса, и небезызвестного Зонненберга, безуспешно перебивающегося коммерческими аферами, а теперь выступавшего в роли компаньона и устроителя жизни молодого человека. Ему, как «чиновнику особых поручений» при хозяине (дергерре), надлежало прибыть к месту заранее, чтобы комфортабельно оборудовать герценовскую квартиру. Это было нетрудно, ибо сумма, отпущенная Яковлевым на «монтирование» дома Саши (так он и выразился), была весьма значительной. Устройство в Перми даже грозило Герцену сделаться поселянином, завести огород и корову, но судьба отступила.
«Ха-ха-ха, да это чудо. Огород и корову, — повторял он в письме к „другу Natalie“, в участии которой с самого начала своего вынужденного странничества находил понимание и поддержку. — Я скорее заживо в гроб лягу. Вот как мелочная частность начинает виться около меня. А что, в самом деле, бросить все эти высокие мечты, которые не стоят гроша, завести здесь дом, купить корову, продавать лишнее молоко, жениться по расчету и умереть с плюмажем на шляпе, право, недурно, — „исчезнуть, как дым в воздухе, как пена на воде“ (Дант)». Он словно перефразировал слова Ж. Ж. Руссо (перевертывал наизнанку идею Ж. Ж. Руссо «о воображаемом счастье», наивности которой сам же философ и удивлялся) из его «Исповеди», которой в юности увлекался: «Я рожден для счастливой и безмятежной жизни, но она вечно ускользала от меня, и когда мечты о ней воспламеняют мое воображение, оно всегда стремится… на берег озера, в очаровательную местность. Мне необходим фруктовый сад… мне нужен верный друг, милая женщина, домик, корова и маленькая лодка. Я буду наслаждаться счастьем на земле, только когда буду обладать всем этим. Мне самому смешна наивность, с которой я несколько раз направлялся туда единственно для того, чтобы найти это воображаемое счастье».
От краткого пребывания в Перми, «городе ужасном, просцениуме Сибири, холодном, как минералы его рудников», в памяти осталась лишь теплая встреча с Петром Цехановичем и другими ссыльными поляками, сошедшимися на губернаторском смотре поднадзорных. Вскоре, с глазу на глаз, Герцен встретился с этим «мучеником польского дела», которого наряду с «величайшим из поляков» Тадеушем Костюшко запишет в летопись польской борьбы. Ему же посвятит свой первый литературный опыт, созданный в вятской ссылке, «Человек в венгерке», переименованный в рассказ «Вторая встреча», где романтическая тема противостояния «храмовых рыцарей», служителей высоких идеалов, и пошлой, безыдеальной толпы надолго займет внимание начинающего писателя.
Воспоминание о Цехановиче (во «Второй встрече»), герое и страдальце, словно соединит обе судьбы символически — кольцом из железной цепи, подаренным ссыльным поляком такому же сосланному русскому в день их разлуки, внезапного прощания в Перми.
Шестнадцатого мая Герцен срочно выехал из города, конечно, при непременном конвое рядового жандармской команды. До Вятки — месить грязь по дорогам немало — 350 верст, да еще с пьяным сопровождающим. На пути перед вынужденным странником открывались картины одна страшнее другой, возникали сцены, которые не передать «ни одной черной кистью». Ужас вызвала встреча с группой еврейских детей-кантонистов — еле живых, тщедушных, голодных сирот-малюток, которых гнали то ли в Пермь, то ли в Казань, но дорога у них была одна — в могилу.
Грустное приближение к Вятке таило множество тяжких предчувствий. Как жизнь повернется? И долго ли томиться в провинциальной глуши?
Теперь он увидел часть России и многое приметил.
Вечером 19 мая наконец добрались до места. Все же ближе к Москве. Вятка и станет подневольным поселением Александра Ивановича Герцена на три тягостных года.
Глава 9
«ДЛИННАЯ НОЧЬ ССЫЛКИ»
Что и чего не производит русская жизнь!
А. И. Герцен. Былое и думы
В десять часов утра 20 мая 1835 года по приказу его превосходительства, грозного Тюфяева, 23-летний «колодник» явился в губернаторский дом и предстал пред синклитом высших чинов города Вятки. С ними ему предстояло теперь сосуществовать и трудиться в одной связке.
Герцен написал их портреты, поместив новоявленных «сослуживцев» не только в «Былое и думы», но выгородив для чиновников и служилых, обывателей всех мастей и местностей, им увиденных, особую территорию в «Записках одного молодого человека», именуемую «Богом хранимым градом Малиновым».
Пока не появился в приемной зале главный персонаж, «его превосходительство», Герцен разглядывал хромого полицмейстера Катани, по кличке «колчевский», то бишь колченогий, произведенного в должность из майоров за полученную где-то рану (не говорится где). Привлекший его внимание исправник, имевший фамилию Орлов, не удостоился ни имени, ни характеристики, но о том, что было поведано в дальнейшем новому человеку о знаменитых предшественниках означенных чинов — ворах и взяточниках, любой может догадаться. Все, включая двух присутствующих безличных чиновников, «говорили шепотом и с беспокойством посматривали на дверь».
«…Взошел небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога; большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались… небольшие, быстрые серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление». Оно подкрепилось целым послужным списком этого «страшного человека», далее развернутым в «Былом и думах».
Родился в Тобольске. Из беднейших мещан. Лет тринадцати «пристал к ватаге бродячих комедиантов», с которыми исколесил почти всю Россию. Был арестован, как бродяга, и препровожден под конвоем в Тобольск, где его овдовевшая мать решилась приобщить непутевого сына к какому-нибудь ремеслу. Нанялся писцом в магистрате. Грамота ему хорошо давалась. «Развязный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях… сделался лихим дельцом». Движимый железной волей и безграничным самолюбием, «решился сделать карьеру» и добился своего еще в Александровскую эпоху. Замеченный Аракчеевым, «заведует одной экспедицией» в его канцелярии, «заведовавшей всей Россией». Во время занятия Парижа союзными войсками сопровождает могущественного графа, «безвыходно» «составляя и переписывая бумаги». Любимец Аракчеева и товарищ молодого Клейнмихеля (который еще развернется в дальнейшем на министерском поприще), получает награду от своего высокого покровителя в виде вице-губернаторского поста. Вскоре Тюфяеву подбирают и губернию.
«Власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в геометрической профессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири. Такой-то край и нужен был Тюфяеву.
Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все мешавшийся, вечно занятый. <…>
Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг к подчиненным; без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел донельзя; например, отправляя чиновника на следствие, разумеется, если он был интересован в деле, говорил ему, что, вероятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если б открылось что-нибудь другое».
«И вот этот-то почтенный ученик Аракчеева», уже покувыркавшийся в цирке «акробат, бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там… брался теперь приучать меня к службе», — заключал Герцен свои тяжкие размышления о российской вертикали и своем особом положении в иерархии служилых людей.
Началось с того, что, подобно герою Гоголя, ему, Герцену, зачисленному в губернскую канцелярию на вакансию переводчика, предстояло держать свой первый экзамен «на почерк». Под диктовку канцелярского секретаря Аленицына, золотушного малого, ни доброго, ни злого, новоявленный Башмачкин выводил: «А по справке оказалось…» (Сколько потом этих справок — диких, бессмысленных, трагических и смешных пройдет через его руки.)
Губернатор не упустил случая и не лишил себя удовольствия подчеркнуто издевательски иронизировать над «хорошей службой» в Кремлевской экспедиции своего поднадзорного, где, видно, «был досуг пировать и песни петь». После чего язвительно добавлял: «Ну, к государю переписывать вы не будете». С тех пор, перепоручив своим подчиненным «кандидата Московского университета», что всегда произносилось с особым ударением, придирчивым вниманием не оставлял.
«Сверх Аленицына, общего начальника канцелярии», у Герцена «был начальник стола… — существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное». За одним столом с Герценом располагались четыре писца, а всего в канцелярии их было двадцать. Все беззастенчиво крали, врали, продавали фальшивые справки, в общем, обогащались, как могли. Вот с этими-то людьми он проводил все время ежедневно, с девяти до двух и вечером с пяти до восьми.
Отправленный на «барщину переписки» всевозможных бумаг, изнуренный и униженный, он был готов пожалеть о своей «крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и замком на дверях», где, как ни парадоксально, чувствовал себя свободнее. Там тоже была неволя, но удавалось иногда видеть друзей. «…А вы мне — всё», — признавался Герцен в письме Сазонову из Вятки. «…Вера только и осталась у меня, нет, я не сомневаюсь; это испытание, не более; но тяжело оно, и очень, главное — нет друга; где вы все?…я будто вас видел когда-то во сне, а существенность — канцелярия, отсутствие деятельности умственной и, хуже всего, отсутствие поэзии».
Порой им «овладевало бешенство и отчаяние» от сознания, что опять и опять следует идти на эту «галеру», встречаться с ненавистными сослуживцами, и он предавался обычному российскому утешению: «пил вино и водку».
Спасение пришло от задуманных наверху реформ. По всей России основывались Статистические комитеты, занимавшиеся материалами по истории и культуре разных ее областей. «Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики», — сказано в «Былом и думах». Оно придумывало какие-то статистические отчеты с разнообразными таблицами, рассылало фантастические программы, которые трудно было исполнить даже «где-нибудь в Бельгии или Швейцарии». Но умелому, образованному человеку оказалось под силу всю эту хитрую науку освоить. В письме друзьям от 18 июля 1835 года, посланном, несомненно, с оказией, что исключало эзопов язык, Герцен весьма положительно оценивает и успехи по части образования, и «необъятные труды министерства внутренних дел для материального благосостояния, и более — прогрессивное начало, сообщаемое министерством»: «Сколько журналов присылают оттуда, сколько подтверждений о составлении библиотек для чтения». (В чем Герцен вскоре убедится, выступив с речью на открытии Вятской публичной библиотеки.) Единственное «но» в полном успехе статистических комитетов, имеющих «цель высокую», — это их ошибочная организация: «…нет возможности без всяких средств собрать эти сведения». К тому же малочисленность способных людей в особом, ссыльном, крае. В письме Сазонову и Кетчеру он продолжает свой отчет. Его собственный случай уж слишком характерен, «кто же виноват, если журналы лежат неразрезанные до тех пор, пока какой-нибудь Герцен вздумает их разрезать?».
И так всегда, за осуществление всяких перемен и любых реформ в России «некем взяться» (по незабвенным словам ее правителя, Александра I).
Герцена отметили, он в центре событий. С тех пор в затхлую канцелярию его больше не гоняли. Теперь часть времени он проводил дома в свободных занятиях, составлениях часто бессмысленных отчетов и заходил на службу, чтобы отметиться.
Позже в мемуарах Герцен сознательно заострял проблемы. В силу своего сатирического таланта он нередко придавал им гротескный оттенок.
Статистический труд по учету всяческих нелепостей, чрезвычайных происшествий и прочих непредсказуемых событий предоставлял начинающему литератору массу анекдотических, смешных и трагических наблюдений. Так, на вопрос таблицы об убывшем населении в неком заштатном городке было зафиксировано: «Утопших — 2, причины утопления неизвестны — 2», и в графе сумм выставлено «четыре».
«Поэзия жизни» предоставляла Герцену и множество незабываемых встреч. Здесь и несчастные сосланные, по большей части поляки, и «оригинальное произведение русского надлома» — «поврежденный» доктор (который еще не раз появится в поле зрения писателя), и особый персонаж, удаленный за проказы из столиц, «аристократический повеса в дурном роде», скормивший (ради шутки) ненавистным пермским друзьям-чиновникам своего любимого датского кобеля в виде начинки для пирога.
Каких только чудес не открывала ссыльному практическая жизнь, далекая от шиллеровских мечтаний и сенсимонистских утопий, о каких только «буйных преступлениях» не был он наслышан. А сколько поразительных историй удавалось ему прочесть в разбираемых делах, то и дело возникавших при бессмысленных ревизиях всевозможных комиссий из центра. Удивляли даже заголовки:
«Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами».
«Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол».
Мудреный случай записи девочки не Василисой, а Василием, пребывавшим под хмельком священником выяснился, когда пришла пора думать семье о «рекрутской очереди».
Глава XV второй части герценовских мемуаров (с подзаголовками: «Сибирские генерал-губернаторы», «Хищный полицмейстер», «Ручной судья», «Жареный исправник» и др.), где героями стали алчущие денег властители всех мастей, заканчивалась парадоксальным, но вполне проверенным временем замечанием: «„Экой беспорядок“, — скажут многие; но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможною жизнь в России».
Всеми этими диковинными российскими историями о чиновничьем, судебном, правительственном произволе, на который с лихвой насмотрелся ссыльный, всеми этими анекдотами о злоупотреблениях и плутовстве чиновников, наблюдениями над отечественной юриспруденцией, где в суде «ни одного дела без взяток не кончишь», Герцен, как он выразился, «томы мог бы наполнить». И он написал «Былое и думы», где, подобно Гоголю, вывел «русское чиновничество во всем безобразии его».
Глава 10
ЖИЗНЬ СОЧИНИТЕЛЯ
Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям.
А. И. Герцен. Гофман
После пиршества молодой московской жизни, запойной дружбы, взаимных симпатий, глубоких, разносторонних интересов, даже не прибитых девятимесячной тюрьмой, провинциальное существование казалось ему пошлым и ничтожным.
Скромный Хлынов, переименованный Екатериной II в Вятку, являл в ту пору рядовой провинциальный городок с редким населением едва ли более десяти тысяч душ, с непременным зданием присутственных мест, с кафедральным собором, возвышающимся над скоплением деревянных построек, и с рыночной площадью, особо оживленной по праздникам. Тамошнее благочестивое общество проходило обычный, ежедневный круг жизни: утром на службе, после полудня, часа в два, обильный, скоромный обед, что и обусловливало, по мнению сочинителя истории «Патриархальных нравов города Малинова», «необходимость двух больших рюмок водки, чтоб сделать снисходительным желудок». После трапезы город погружался в сон, а вечером играл в карты, сплетничал, танцевал; званые вечера и балы были обожаемым времяпрепровождением.
«Встречались люди, у которых сначала был какой-то зародыш души человеческой, какая-то возможность, — но они крепко заснули в жалкой, узенькой жизни», — свидетельствовал тот же малиновский летописец.
Единственная отрада в «мертвящей скуке» отчаянного одиночества — письма, и Александр не преминет продолжить переписку с «дорогим другом Natalie», своей отзывчивой сестрой Наташей (пока еще только сестрой). Это и отчеты, и исповеди, и случаи, позволяющие шире представить его повседневную жизнь и понять нравственное состояние.
Мы слышим его сетования, даже стенания, что он «затянут в болото» провинциального бытия, что канцелярия «хуже тюрьмы», что «ссылка томит», а «пустота в сердце» и «сладкое безделье» после канцелярской «галеры» не оставляют ни малейших сил обратиться к литературным занятиям. Жалуется московским друзьям: «не занимался», «душа устала». Однако принуждение ненавистной вынужденной службы побеждено желанием писать. Да и тут «одной литературной деятельности мало»: «в ней недостает плоти, реальности, практического действия», — позже будет сомневаться в письмах дорогому другу Наташе. Ведь он, собственно, «назначен для трибуны, для форума…». Однако, в условиях России понятно, «слово — тоже есть дело», что и подтверждает вся русская литература, включая автора афоризма.
Поддерживают духовные книги. Он много размышляет о христианстве, «сочиняя статью о религии и философии»[22]. Листает книгу известного писателя-мистика К. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам природы», останавливается на цитатах из Святого Писания, приводящих его к мысли, что «вера без дел мертва; не мышление, не изучение надобно — действование, любовь — вот главнейшее… любовь есть прямая связь Бога с человеком».
Может быть, пристрастие к чтению великих Maestri, особенно немцев — Гете и Шиллера, оживляет в нем возникшее намерение привести в порядок свои замыслы и наброски. Боится дурно писать, как недавно еще безуспешно сочинял свои аллегории (помнил дружескую критику Огарева).
Еще в Крутицах, когда ум и сердце в тоске заключения требуют творческого выхода, рождается рассказ «Германский путешественник», размышления о Гёте. Затем он берется за «Легенду» — вольное переложение из Четьих миней, которыми сильно увлечен. Теперь, в Вятке, Герцену хочется обратиться к этим ранним своим опытам, и он переписывает их заново. «1836 год, июня 20»; «1836 год, март, 12» стоит в конце каждой из двух сохранившихся рукописей.
Стремление к совершенству, взросление писателя заставляют Герцена переделывать сочинения, менять их композицию, заглавия, вставлять написанное в ткань новых работ. И это особенно заметно на примере «Второй встречи» («Человек в венгерке»), переименованной из «Первой встречи», название которой теперь носил «Германский путешественник». Решив не соединять обе «Встречи» в единый рассказ (хотя принимался за предисловие к нему), Герцен позже включил их отдельными фрагментами в «Записки одного молодого человека». «Вторую встречу» процитировал с вариациями в «Былом и думах» и позаимствовал колоритные детали из нее для романа «Кто виноват?».
Во вступлении к «Легенде» рассказ ведется от первого лица. На фоне живописнейшей панорамы Москвы, тонкого психологического «портрета» старой столицы, вырисовывается образ самого рассказчика, в то время узника Крутиц. «Легенда» — один из первых примеров обращения Герцена к автобиографическому жанру. Со временем, развиваясь и усложняясь, это писательское пристрастие сделает его королем жанра, а пока подтверждает особый, присущий ему талант, вскоре замеченный Белинским.
Воспоминания и тяжелые раздумья, «чувствования» колодника в «Легенде», открывавшего для себя из тюремного уединения новый угол зрения на окружающую жизнь, приводили его к мысли о главной составляющей бытия — «власти идеи». Он рассматривал «эту жизнь для идеи, жизнь для водружения креста», казавшуюся ему «высшим выражением общественности», на примере монастырей, некогда славных и знаменитых. Звук колокола, донесшийся из близлежащего Симонова монастыря, напоминал узнику о лучших временах, когда неприступная крепость, мощный форпост, доблестно отражала вражеские нашествия. Живо представлялись ему люди — служители евангельской истины, «с пламенной фантазиею и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном Богу». «Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме и умевшие воздвигать храмы». Какие «божественные примеры самоотвержения, вот были люди!» — не раз повторял увлеченный читатель Четьих миней.
Отчетливее, чем когда-либо, автор «Легенды» понимал, что проблема соотношения «личного и общего» выведет его к окончательному пониманию приоритета «общего», то есть всеобщих интересов и «общечеловеческих, современных вопросов». Для него это станет символом веры.
«Легенда», в основе которой евангельское сказание о житии святой Феодоры, — сочинение, несомненно, вторичное, важное автору лишь идеей, смыслом. Оно и не оценивалось им самим слишком высоко («выполнение дурно»). Хотя авторское самолюбие не удерживало его от признания в другом письме к Н. Захарьиной (бывшей пока его главным судьей), что друзья «пустили „Легенду“ по Москве». «Беспристрастного мнения» сестры, которой и посвящалась «Легенда», он просил постоянно, и она, порой сверх меры, восхищалась его ранними опытами.
Рассказ «Германский путешественник» — более зрелое сочинение Герцена, с сюжетом и проблемой отношения великой личности к действительности, в частности, к революции 1789–1793 годов.
В центре повествования герой, «путешественник», который в русском аристократическом салоне рассказывает о своих встречах с Гёте. Его общественного поведения рассказчик не одобряет. Творец «Фауста» — вне политики. Он пишет свои комедии «в день Лейпцигской битвы», он не судит о французской революции — хороши ли, плохи ее деяния, а задумывается благодаря ей только о паре лишних зимних чулок, когда речь идет о «колоссальных» сдвигах в судьбах человечества. Такого права гения «путешественник» не может принять.
Между рассказчиком, «неприятелем» Гёте, и его восторженным почитателем, «спекулятивным философом», происходит диалог, раскрывающий вечную проблему взаимоотношения искусства и действительности.
«Но рассказ ваш, — продолжал обиженный философ, заявленный обожатель Гёте, — рассказ ваш набросил на этого мощного гения какую-то тень. Я не понимаю, какое право можно иметь, требуя от человека, сделавшего так много, чтоб он был политиком. Он сам сказал вам, что все это казалось ему слишком временным. И зачем ему было выступать деятелем в мире политическом, когда он был царем в другом мире — мире поэзии и искусства? Неужели вы не можете себе представить художника, поэта, без того, чтоб он не был политиком, — вы, германец?»
«Я вам рассказал факт; случай показал мне Гёте так, — парировал „путешественник“. — Не политики — симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнию человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не принимать событий современных, они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было».
Герцен не выражает здесь своего отношения к немецкому гению как к индивидууму, так сказать, «политическому животному», но не перестает восхищаться творениями этого «Зевса искусства», «Наполеона литературы». Убежденность Герцена, что великий человек не должен жить вне времени и стоять в стороне от жгучих «судеб мира», уже является его твердым убеждением.
Герцена давно привлекал немецкий романтик Эрнст Теодор Гофман, прибавивший третье имя Амадей к двум своим, в честь несравненного Моцарта. Оригинальность и фантастичность блестящего слога сказочника и романтика, которым он бесконечно увлечен еще до ареста, возбуждают в нем охоту писать очерк «Гофман», связав его с рядом этюдов о современных немецких писателях.
Еще с университетских времен он читал гофмановского «Кота Мурра», «Фантастические пьесы в манере Калло», страстно штудировал жизнеописание мастера, написанное другом фантазера-сказочника, криминалистом и писателем Эдуардом Гитцигом. Эта книга, вышедшая в Берлине в 1824 году, и побудила Герцена воспользоваться ею как источником для биографической канвы своей статьи.
Почему вдруг Гофман? Что хотел найти Герцен в его фантастических творениях и чем заинтересовал его причудливый мир гофмановских героев?
Желаний и побуждений — через край, потому что творчество романтика-мистика захватывает романтика Герцена.
Он хочет представить русскому читателю (еще не переведенного с немецкого) писателя феноменального дарования, «музыкальное» творчество которого не укладывается в обычные рамки серой будничности. Оно звучит как виртуознейший Страдивари.
Конечно, вниманием «продвинутых» читателей Гофман завладел раньше, еще с 1820-х годов, а в 1830-х в числе поклонников его творчества уже числились многие русские интеллектуалы, в том числе Николай Станкевич.
Хотите постигнуть душу художника, ее «божественное начало», ее отличие от души обычного человека, «читайте Гофмановы повести: они вам представят самое полное развитие жизни художника во всех фазах ее», — обращается к читателю Герцен. Толпа не понимает людей, глубоко чувствующих, у них своя жизнь, свои законы. Они только гости на этой земле. В предисловии к «Встречам», при описании противостояния личности и толпы, возникает характерный образ. Герцен припоминает историю с Дидеротовой кухаркой, немало удивившейся, услышав, что ее хозяин — великий человек. (Известно, для лакея нет гения.)
Восхищаясь Гофманом, его остроумными выходками и стилевой, звучащей живописностью, апологетически возвышая его независимую личность, Герцен постоянно его цитирует: «Послушайте… Послушайте…» Как бы говорит читателю: так написать о музыке мог только романтик, кудесник, чародей. Передать потрясающую музыкальность текста мог только такой виртуоз слова, как Гофман, проникший в мелодичную ткань великих творцов — Бетховена, Моцарта. У него, слышит Герцен, как звуки «облекаются в формы, оставаясь бестелесными». И вместе с тем, какая смелость вымысла; какова сила «мрачной фантазии» Гофмана, сошедшей «в те заповедные изгибы страстей, которые ведут к преступлениям».
Герцен давно отложил свой рассказ. Теперь, в Вятке, «Гофмана» стоило доработать, «вознестись вымыслом» над вялой повседневностью.
Еще в 1833 году Герцен предполагал его закончить для задуманного Вадимом Пассеком альманаха. Но не случилось. Издание запретили. Перед самым арестом Герцен работу закончил и увез рукопись в ссылку. В конце 1835-го он уже хлопотал о публикации, просил у Н. А. Полевого содействия в появлении ее в свет. Издатель «Телеграфа» соглашался, охотно брал на себя «политическо-литературную корректуру», что попросту означало цензуру. Но тут вмешался друг Кетчер, пославший в «Телескоп» первую редакцию статьи без всякого распоряжения автора, и через год в десятом номере журнала она была напечатана под заглавием «Гоффманн».
Конечно, ощущалась некая неловкость, неэтичность ситуации, поссорившей автора с ментором Полевым: зачем отдавать рукопись сразу двум издателям? Конечно, множество опечаток и стилевых погрешностей незаконченной работы радость омрачали. Но все же первая публикация беллетристического сочинения. Да еще с точно найденным псевдонимом — «Искандер». Журнал «Телескоп», издаваемый Надеждиным, — солидный, а вскоре (в № 15 за 1836 год), с публикацией «Философического письма» Чаадаева, и вовсе станет «культовым» для многих поколений.
Представляя публике своего героя как «художника истинного, совершенного», Герцен выводит формулу, верную и для Гофмана, и для других художников слова: «Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям». Эту фразу можно повернуть иначе: сочинения автора — есть комментарий к его жизни, и формула тоже будет точна (в особенности для будущего создателя «Былого и дум»). Пока же Герцен в творческом поиске, ранние сочинения начинающего литератора не могут дать адекватного комментария к его бурной жизни. Разве что разрозненные отрывки «О себе», которые станут в дальнейшем основой повести «Записки одного молодого человека». Она и подведет итоги автобиографическим опытам молодого Герцена, где будет устроен весь его жизненный багаж: от времени детства, юности, студенчества до вынужденных странствований по ссылкам.
Глава 11
«ПОДСНЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ»
В этом захолустье вятской ссылки… я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук.
А. И. Герцен. Былое и думы
Поселился Герцен в самом центре Вятки, на Казанской улице, в одном из трех домов владений Д. Я. Чарушина. Провинциальная жизнь, «патриархальные нравы города Малинова» исподволь затягивали в омут повседневного бытия заброшенного в глухомань блестящего столичного человека, к тому же романтического красавца, что вызывало особое волнение местных дам. Он уже не так подневолен как чиновник, обязанный корпеть в канцелярии от и до. Он — местная знаменитость, светский лев, принятый в лучших домах города и, увы, по тяжелой, изнурительной необходимости — в столовой зале на обедах у самого губернатора.
Если вглядеться в герценовский портрет 1835 года с мастерски нанесенным итальянским карандашом точеным профилем, бакенбардами и прической, с изящной обводкой вокруг лица аккуратно уложенных прядей (на манер «байроновской» моды), то не останется сомнений: «оригинал» в полном расцвете сил и мужской красоты и отнюдь не последний на этой «великосветской» сцене провинциального тщеславия.
Уж Зонненберг позаботился. У них прекрасный выезд — тройка лошадей приобретена Карлом Ивановичем с затаенной надеждой «произвести впечатление». И действительно, «лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах светского общества», — усмехнется Герцен. Двери местных гостиных, а здесь их немало, распахнулись, как по волшебству, и ему пришлось принять правила игры.
Он не сторонится местных развлечений, «…играю в карты — очень неудачно, — и куртизирую кой-кому — гораздо удачнее. Здесь мне большой шаг над всеми кавалерами, кто же не воспользуется таким случаем?» Ясно — не везет в картах, везет в другом… Флирт — дело обычное. Но вот роман…
До столиц доходят слухи, будто вынужденный пленник «веселится». Герцен возмущен: его двоюродный братец Сергей Львов-Львицкий (незаконный сын Сенатора, который не раз появится на жизненном пути блестящего родственника) просто «врет».
Поглощенность светской жизнью влечет неизменные сплетни: они «меня выгнали», — жалуется он далекой сестре. «Что же оставалось? Прихоти и нега в полном объеме». Вскоре выскажется прямо, без обиняков: «Мне нравилось играть первую ролю в обществе». И тут же поправится, снизив тон: ведь речь идет «о вздорной жизни» вятских гостиных.
Но тут случается… вполне предвиденная история.
Летом 1835 года в Вятку приезжает красивая молодая женщина, «премиленькая дама» в сопровождении мужа — «больного старика». «…Она сама здесь чужая, и в ней что-то томное, милое, словом, довольно имеет качеств, чтоб быть героиней маленького романа в Вятке, — романа, коего автор честь имеет пребыть, заочно целуя тебя». Так вот, ни секунды не сомневаясь, уже 1 октября он преподносит всё это (как выяснится позже, шутя) тайно страдающей по нему «другу Наташе».
Начатая тема продолжена 12 ноября: «Шумные удовольствия, коими я иногда хочу убить время, оставляют пустоту, туман. И нет души созвучной… правда, есть здесь одно существо, которое понимает меня, — существо, исполненное поэзии, — это та дама, о которой я как-то раз тебе писал шутя, и это существо глубоко избито судьбою и, может, несчастнее меня. 15 лет отдана она замуж за развратного и скверного человека, и он доселе жив и тиран ее. Неужели, в самом деле, на то только природа дает душу высокую, благородную, чтоб мучить ее? Нет. Эти мученья выдумал сам человек, некого винить».
Если читатель помнит «Былое и думы», то знаком с реальным персонажем — Прасковьей Петровной Медведевой (фамилия зашифрована там буквой Р.). История ее драматических отношений с Герценом выписана в деталях. Но она уже рассмотрена в мемуарах с позиции конца, неминуемого и тягостного разрыва с жертвой его необдуманных увлечений. Послания сестре, идущие по следам событий, с самого начала прорисовывают развитие вятского романа в сиюминутных, ускользающих ощущениях нашего героя.
Двадцать второго января 1836 года Герцен пишет Наташе: «…я узнал, что умер Медведев, о жене которого я тебе уже писал. <…> Он ничего не оставил, кроме своего трупа. Бедность со всем ужасом своим. Она лежала в обмороке… и вообрази себе, что ее обморок продолжался два дня с половиною. <…> Она не знала всю жизнь слова „счастие“; прекрасная собою, образованная, была брошена отцом в объятия игрока — он все проиграл. Этот цветок, который сорван был не для того, чтоб украшать юную грудь, а для того, чтоб завянуть на могиле. И трое детей — не ужасно ли? Я писал Егору Ивановичу о займе для меня 1000 руб[лей]. Я хочу их доставить ей. Только не говори об этом, ибо я не писал, на что мне деньги, пусть думают, что на вздор… И никому не говори — это тайна. И не ужасно ли принимать благотворения, ей, одаренной душою высокой и благородной? Нет, в тиши, в тумане домашней жизни есть несчастия ужаснее Крутиц и цепей. Те только громки, а эти тихо, незаметно, червем точат сердце и отравляют навеки жизнь.
И были люди, которые хохотали над ее несчастием и над моим состраданием. — Это не люди.
Были другие, которые сказали, что она притворяется… Эти сами притворяются людьми — они дикие звери».
Наталья Александровна проявила участие к бедственному положению молодой вдовы, возмущенная таким злобным отношением толпы. В ответ она писала Герцену: «Утешай Мед[ведеву], пусть их смеются над тобой».
Когда для своей работы над мемуарами в 1856 году Герцен получил из России оставленную там переписку, а Натальи Александровны уже не было на свете, он перечитывал, иногда корректировал старые письма (ведь многое уже приведено им по памяти в «Былом и думах»), оставлял на листах свои выстраданные пометы. Так, к цитированному выше письму от 12 ноября 1835 года (после слов «некого винить») появилось позднейшее примечание о Медведевой: «Зачем я пожалел ее».
Да и как «было признаться, как сказать Р. в январе, что он ошибся в августе, говоря ей о своей любви?».
Пройдет немало времени с лета 1835-го до августа следующего года, прежде чем Герцен (немного очнувшись от любовного угара) раскроет сестре то, о чем прежде писал только намеками — о своем невольном, страстном увлечении:
«Знаешь ли, с чего началась вся эта история с Медведевой], которая все-таки, как клеймо каторжного, пятнает меня? Она прекрасно рисует, и я просил ее для тебя нарисовать мой портрет, она обещалась… я благодарил ее запиской, она отвечала на нее — благородный человек остановил бы ее; мой пылкий, сумасбродный характер унес меня за все пределы. А теперь — она очень видит, что я не люблю ее, и должна довольствоваться дружбой, состраданием…»
Казалось бы, зачем Герцену набрасывать тень на столь искренний, дружеский союз с Натальей Александровной, бурно идущий к своему любовному апогею, зачем чернить себя и предавать огласке события «второго плана»…
Но Герцен честен перед собой. «Лицемерие и двоедушие» — два преступления, наиболее чуждые ему. Да и справедливости ради стоит заметить, что этот «запой любви», стоивший ему «много печали и внутренней тревоги», ожидал его прежде, нежели он понял свое отношение к сестре, «и может быть, оттого, что не понимал его вполне». «Искус» не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаетаной, и оставил в его душе резкие рубцы.
Герцен умел излишне строго относиться к самому себе и был безусловно правдив в своих чувствах и признаниях, которые выплескивал на бумагу в письмах.
Пока «нет ни одного человека, — жалуется он в письме Наташе вскоре после приезда в Вятку, — который хотел бы понять меня или мог бы. Без симпатии я не могу жить…».
Герцену везет. После унылого одиночества в толпе чужих ненавистных людей он обретает своих «подснежных друзей».
В эмиграции, на берегах Темзы, даже внезапно налетевшее воспоминание о них согревает душу: «В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, разлученный со всем дорогим, без защиты отданный во власть губернатора, я провел много чудных, святых минут, встретил много горячих сердец и дружеских рук».
Среди них учитель вятской гимназии А. Е. Скворцов и юная наивная девушка с твердым характером, немка Паулина (Полина) Тромпетер (ставшая женой Скворцова), заброшенная судьбой в русскую глухомань, без языка, без средств. Своим участием, пониманием они оставили память на многие годы, скрасили его подневольное существование. И Герцен не остался в долгу: поддержал их в жизни, дал ей «ход», направил, помог.
Летом 1835 года Герцен сближается с семейством Эрн — с Гавриилом Каспаровичем (чиновником особых поручений при губернаторе), его матерью Прасковьей Андреевной, а главное, сестрой Гавриила, двенадцатилетней Машей — Марией Каспаровной, другом на всю жизнь. В дальнейшем она выйдет за немецкого музыканта Адольфа Рейхеля, станет деловым помощником лондонского изгнанника (лишенного прав российского состояния) и отважно выполнит свою конспиративную миссию связной между Россией и Западом. (На ее адрес пойдет вся тайная герценовская корреспонденция.) Свои детские впечатления от знакомства с этим необыкновенным человеком Мария перенесет на страницы своих поздних мемуаров: «Как теперь помню его оживленную физиономию, его серые живые глаза; худой, среднего роста, с огромным бантом (на галстуке). <…> Герцен дал совет везти меня в Москву и отдать в пансион». Эта новая жизнь в доме И. А. Яковлева повернет ее судьбу.
Герцен не мог не привлечь внимания вятских обитателей. Сильный аккорд внесла в его жизнь встреча с Витбергом. В нем он нашел истинно «созвучную душу».
Знакомство с архитектором происходит в начале ноября 1835 года, вскоре по прибытии Александра Лаврентьевича в ссылку. Создатель проекта грандиозного храма Христа Спасителя на Воробьевых горах, «великий человек, великий художник, испытавший верх славы и верх несчастия», оказывается оклеветанным, выброшенным из жизни, «задавленным правительством с холодной и бесчувственной жестокостью».
Герцен посвятил в «Былом и думах» целую главу судьбе художника в России и представил один из типичнейших примеров этой «повести» «длинного мученичества», назвав Витберга одной из «колоссальных фигур». Он размышлял об этом еще со времен Вятки, пытаясь «пером симпатии» передать потомству историю этого человека. Во многом благодаря Герцену талант Витберга и впрямь стоит теперь в ряду с большими российскими зодчими — Баженовым, Росси — достаточно рассмотреть чертежи и планы его грандиозных проектов. Однако из-за превратностей жизни ссыльного значительных монументальных сооружений ему так и не удалось возвести. Украшал как мог Вятку — павильонами и садовыми сооружениями, построил храм в честь Александра Невского, а главное, фанатично продолжал совершенствовать свое творение.
За два с половиной года, вместе проведенных в ссылке, Герцен «видел, как под бременем гонений и несчастий» угасал этот сильный человек, вступивший в неравную борьбу с «приказно-казарменным самовластием».
А история этого противоборства такова.
Император Александр видел в победе над Наполеоном Божий промысел и, когда война была на исходе, поклялся возвести храм во славу Спасителя. 25 декабря 1812 года обнародован его указ «О построении в Москве церкви Христа Спасителя…» (в ознаменование благодарности к промыслу Божию за спасение России от врагов) и открылся конкурс проектов.
Молодой художник, швед по происхождению, окончивший курс с золотой медалью, бросает свои занятия в Петербурге и целые месяцы отдает новой работе. «Исполненный религиозной поэзии» проект Витберга поражает императора Александра I, все более склонявшегося к мистицизму. Встреча его с «восторженным, эксцентрическим и преданным мистицизму» творцом, который умеет «говорить камнями», заканчивается назначением Витберга главою строительства.
Проект Витберга, выигравший конкурс, «был гениален, страшен, безумен — оттого-то Александр его выбрал», считал Герцен. Поражающее описание великого замысла и историю созидания памятника находим в герценовских мемуарах.
Местом возведения храма была выбрано лучшее из лучших мест: «От подошвы Воробьевых гор началось отступление» Наполеона, здесь «преломилась его сила». По замыслу архитектора надо было эту символическую гору «превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природой, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство».
«Храм Витберга, как главный догмат христианства, тройственен и неразделен» и, по мнению Герцена, не идет ни в какое сравнение с новыми церквями «на индо-византийский манер», которые в царствование Николая строит Тон[23].
«Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделябрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть высечены имена всех их, от полководцев до рядовых».
Герцен по памяти передавал главные мысли архитектора великого замысла, разработанные с глубочайшей верой, «до мелких подробностей и везде совершенно последовательно христианской теодицее и архитектурному изяществу».
Образ Воробьевых гор, где художником-страдальцем был заложен храм Спасителя в память войны, «сильно потрясшей умы в России», каждый раз чудесным образом возникал в судьбе Герцена, никогда не изменившего своей юношеской клятве. Этот символ поведения свободного человека, посвятившего жизнь всеобщим интересам, так и остался их с Огаревым путеводной звездой.
Витберг отправился в ссылку еще с надеждой одолеть своих врагов, оклеветавших его, святейшего из смертных, не способного постигнуть все «судебные проделки» и не попасться в сети мафии (как бы выразились теперь). Как повелось, торжествовала толпа плутов, «принимающих Россию — за аферу, службу — за выгодную сделку, место — за счастливый случай нажиться».
Годы борьбы и противостояния художника только усугубили его положение: обвинения в «злоупотреблении доверенностью императора Александра и за ущербы, нанесенные казне», клеветы о нажитых миллионах, якобы переведенных в Америку, в новое николаевское царствование подступали со всех сторон, следовали за ним по пятам и лишили его всего — поприща, состояния, доброго имени.
Он был готов бороться, доказывать свою полную невиновность. Герцен пришел на помощь. Жили в одном доме на той же Казанской улице, что значительно умеряло траты художника, стоически принимавшего страшную бедность. Для Герцена эта встреча была подлинным спасением. Конечно, не обошлось без влияния Александра Лаврентьевича, его «пластичного» мистицизма и туманной фантазии, которым он чуть было не поддался. Сверхъестественное и повседневное и прежде могло соединиться в герценовском творчестве, как в «Гофмане», например. Да и то привлек характер мистика-сказочника — остроумца и весельчака, бывший Герцену по нутру в эти молодые, бесшабашные годы. Но родился Александр Иванович «абсолютно земным человеком», живая действительность была его стихией, что и подтверждал, взявшись за мемуары: «Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии».
Непредвиденное решение Николая «вернуть» архитектора из ссылки по причине удачного проекта храма Александра Невского, понравившегося государю (парадоксально, но в разрез с казенной доктриной возведения типовых церковных фасадов, им же утвержденной), открыло строительству в Вятке зеленую улицу[24].
Неожиданное возвращение в Петербург Александра Лаврентьевича (в октябре 1839 года) мало что изменило в его судьбе, а последние усилия гибнущего художника защитить свою честь к успеху не привели. Силы были на исходе, и через десять лет все надежды оправдаться были похоронены.
Судьба «переплела» жизнь Витберга с жизнью Герцена. И Витберг всегда вспоминал об этом знакомстве как о «действительно кровном, родственном по духу».
Последний раз «подснежные друзья» встретились в Петербурге в начале зимы 1846-го.
Глава 12
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И ДУШЕВНЫХ БОРЕНИЙ
Это много больше, чем земля и небо, это — любовь.
В. Гюго
Герцен поставил этот эпиграф из стихотворения В. Гюго «На морском берегу» к письму «другу Наташе» 5 декабря 1835 года, когда его чувства были в смятении, когда он всячески хотел переубедить ее, душу свежую, высокую, в излишне поэтическом восприятии его «раздвоенного» характера: там «есть свет земного огня — много яркости, но дым, но копоть, но мрак с ним неразрывен».
Три недели назад, в письме от 12–15 октября 1835 года, он уже поставил мучивший его вопрос: «Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба?» — но потом заколебался, отступил.
В период бурного романа с Медведевой он искренне клялся сестре «в вечной дружбе и симпатии» и в том же письме (от 12–15 октября) сомневался и не верил: только ли дружба их отношения? На страшный вопрос отвечал: «Я не верю». И в то же время невольно отдалялся от Натали. Полагал, что она «придает ему много своего», иными словами, идеализирует его, напрасно создает, культивирует образ своего героя.
Он страшился любви. Она исковеркает его. Чувство либо потухнет, либо сожжет его. Сама «мысль соединить свою жизнь с жизнию женщины обливает его холодом». Он долго не писал ей, потому что не освободился еще от своего дурмана бешеной влюбленности. 12 ноября Рубикон еще не перейден, «теперичная жизнь дурна», но она продолжается.
«Опостылели мне эти объятия, которые сегодня обнимают одного, а завтра другого», — невольно признается он Наташе 5 декабря, хотя выражается достаточно отвлеченно. Читая их переписку в огромном томе, вышедшем в свет более столетия назад[25], можно предположить: любовный опыт с Медведевой им исчерпан и дело идет к развязке.
«Мне понадобилась душа, а не тело. Мысль любви высочайшая, отстраняющая все нечистое, мысль святая, любовь — это всё, ибо сама идея есть любовь, самое христианство — любовь. Чувство потрясающее», — продолжает он в смятении свои признания сестре 5–12 декабря. Очевидно, на этом убеждении строятся его дальнейшие отношения с далеким идеалом.
Для Герцена она — дева чистоты. Он — романтик, поклонник Шиллера, его верный оруженосец с юности придает Наташе небесные черты «девы из чужбины, о которой мечтает» поэт, или вдруг представляет Дантовой Беатриче. Возвышая до небес, восхищаясь юной Натали, одновременно обороняется от чрезмерности земного увлечения.
Герцен открывает себя для близкого человека, равного другу Огареву, и одновременно всячески отдаляет Наташу, набрасывая черные краски на свой, вовсе не идеальный, психологический портрет: «Чрезвычайно пламенный характер и деятельность были у меня соединены с чувствительностию. Первый удар, нанесенный мне людьми, был смертный удар чувствительности; на могиле ее родилась эта жгучая ирония, которая более бесит, нежели смешит. Я думал затушить все чувства этим смехом — но чувства взяли свое и выразились любовью к идее, к высокой мысли, к славе. Но еще душа моя не совсем была искушена. Разврат, не совсем порочный, — порочным я бывал редко, — но разврат, какой бы ни был, истощает душу, оставляет крупинки яда, которые все будут действовать.
<…> Яд был принят — но судьба готовила уже противуядие. И это противуядие — тюрьма. Прелестное время для души. Там я был высок и благороден, там я был поэт, великий человек. Как презирал я угнетение, как твердо переносил всё и как твердо выдержал искушения инквизиторов. Это лучшая эпоха моей жизни. Она была горька для моих родителей, для моих друзей — но я был счастлив. За тюрьмою следовала ссылка…»
Самооценка молодости. Исповедь для юной девы. Пройдя с ним вместе значительную часть пути до самой Вятки, читатель, возможно, убедился в сиюминутных, столь разнообразных и даже диаметрально противоположных оценках и ощущениях Герцена. Незаконный сын, бастард, с детской обидчивой душой: «…люди меня встретили обидой, оскорблением» (вот, расшифруем, и первый «удар чувствительности»), преодолевший одиночество в дружбе, осознавший свое лидерство в университетском сплочении идейных сподвижников. И даже тюремная эпопея для 21-летнего юноши обернулась возвышенной «игрой» в счастливое предназначение.
Герцен открывал себя, словно вытягивал глубоко запрятанные комплексы, которые в дальнейшем определят некоторые его поступки и формы общественного поведения.
В Вятке, как он выразился в этой своей исповеди Наташе, «душа его упала с высоты», и теперь настала пора воспрянуть, освободиться от поддельных страстей. Романтически-восторженный стиль послания включал все подобающие образы: молнию, блеснувшую сквозь рассеивающийся туман, и «огненное слово», воплощающее любовь…
Современному читателю, быть может, не по душе чрезмерно экзальтированный тон последующих посланий Герцена и Натальи Александровны, которыми они будут обмениваться в течение трех лет. Но время есть время, они юны, живут в 30-е годы позапрошлого века и, как подобает их возрасту и эпохе, романтически восторженны и наивно патетичны. В дальнейшем Герцен будет бороться с этой навязчивой тональностью своих писем, со всевозможными своими эпистолярными излишествами, постепенно отрезвляя и упрощая свой слог.
А пока Вятка, 1835 год…
В письмах Наташе этой поры чувство дружбы по мере переменчивости ощущений и настроений Герцена «затемняется» другим чувством, но угадываются и терзания от двусмысленности ситуации. Вопрос об отношениях с женщинами мучителен и коварен. «Понимаешь ли ты глупость любви, которая не ищет полного обладания предметом своим, это черт знает что! Вот тут сейчас и откроется нелепость, до которой я дошел; есть среднее чувство между земной любовью и дружбой». Кстати, все эти рассуждения — всё в том же письме о «страшном вопросе», заданном в октябре 1835 года: одна ли дружба?
Как видим, проблема — что такое любовь (и вообще психология любви) — особенно занимает Герцена. Противоречивые мысли и теоретические рассуждения об этом необъяснимом, едва уловимом феномене постоянно вторгаются в его письма сестре. Они еще понадобятся читателю в дальнейшем, при воспоминании о семейной драме, поразившей наших героев так трагически и так безнадежно.
Наташа кротка, но усматривает противоречия в его посланиях и боится за него. 18 ноября на его уверения, что будущность его ему не принадлежит и любовь — погибель для его предназначения, она может только «склониться» перед ним: «Ты еще выше стал — что за душа! До какой степени самоотвержение! С твоим огненным характером, с твоею пламенной душою — отдать себя вовсе человечеству, победить страсти, заглушить голос любви…» И тут же признание из другого его письма («Любить, — можно ли жить с моей душой, с моим бешенством без любви») вызывает у нее подлинный страх: «Александр! Когда ты забыл, что уже не свой, я напомню тебе, что ты не должен поколебать твердейшего столпа, Христа человечества. <…> Нет, погоди любить, мой Александр, докончи начатое тобою».
И если есть в этой исповедальной переписке с сестрой значительный перерыв, то все равно понятно — сумасшествие страстей не улеглось.
С конца 1835 года отношения Александра с далеким идеалом и реальной возлюбленной (двумя женщинами — «идеальной» и «реальной») вошли в критическую стадию. Наташа горестно писала в Вятку о своих опасениях относительно старшего брата Александра, Егора. Она стала замечать, что их детская дружба и бесконечная доверительность перерастают с его стороны в нечто большее, и наконец последовало предложение. Отказать человеку, другу, брату, «убитому судьбою» (пережившему трагедию измены нареченной невесты, вышедшей за другого), было не легко, но ее твердое «нет» возобладало.
Переписка Наташи с Александром всячески пресекалась семьей и по этой причине велась тайно. Яковлев и тетка Хованская только и мечтали сбыть с рук и, наконец, устроить судьбу «сироты». Появлялись и получали отказ вполне достойные женихи.
Медведева, в январе 1836 года лишившись мужа, вскоре «тверже смотрела на свое положение». «Ее взор останавливался с какой-то взволнованной пытливостью на мне, будто она ждала чего-то — вопроса… ответа… — вспоминал он резкую перемену в их отношениях. — Я молчал — и она, испуганная, встревоженная, стала сомневаться. Тут я понял, что муж, в сущности, был для меня извинением в своих глазах, — любовь откипела во мне. Я не был равнодушен к ней, далеко нет, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занимал теперь иной порядок мыслей, и этот страстный порыв, словно для того обнял меня, чтоб уяснить мне самому иное чувство. Одно могу сказать я в свое оправдание — я был искренен в моем увлечении».
Судя по письмам этой поры, Герцен по-прежнему уверен, что не может быть «счастлив в тесноте семейного круга», что ему «нужен простор» для творчества, для жизни. Иное чувство, укреплявшееся в нем, не исключало новых признаний, клятв и угрызений совести. Он даже осознавал эти сроки перелома, которые отнюдь не были так точны. Отношения с Медведевой еще продолжались[26].
Он писал Наташе 10–11 ноября 1836 года: «Ровно год назад я, истощив все глупости и буйства, но не истощив души своей, вздохнул по высокому назначению, по тебе. Ровно год тому назад я торжественно окончил эту оргию нескольких месяцев преступлением и, перегорая в тысяче страстях, погубил несчастную женщину для того, чтоб найти и тут пустоту, чтоб оставить угрызения совести и, наконец, созвать с неба ангела-хранителя и воскреснуть в свете звезды восточной, в объятиях Наташи. — Ровно год — и все переменилось».
Теперь, в вятском одиночестве, ему кажется, что он любил Наташу давным-давно, еще до Крутиц. Просто не отдавал себе в этом отчета, просто хотел выкорчевать в своем сердце всякую любовь.
Глава 13
В ПОИСКАХ ЖАНРА
…Вместо того, чтоб жить в самом деле, записывать прожитое…
А. И. Герцен
«Ты имеешь право спросить: что же я делаю? — писал Герцен Кетчеру 22 ноября 1835 года. — Единственная польза, которую я приобрел, — что ближе узнал некоторые части законоведения и самую Русь. Опыт — дело важное, ежели писанного не вырубишь топором, то полученного опытом не выжжешь огнем». И конечно, важнейшее — «это влечение, немое и болезненное, не к мечте, а к чему-то существующему, эта потребность любви, громко кричащая из глубины души…».
Опыт жизни открывал новое поле для творчества. О ком же писать, как не о самом себе. И как повернуть сюжет, не воспользовавшись собственным опытом… Помним, что он уже в «Гофмане» подтверждал эту истину: жизнь сочинителя — есть лучший комментарий к его творениям. Теперь он стоял перед выбором жанра. На очереди была повесть. Письма Наташе, как всегда, эти поиски сопровождали и отражали.
О замысле повести «Елена» он ей писал 21 сентября 1836 года, когда уже были завершены четыре главы: «Там являются две женщины на сцену. Елена, которой я придал характер Медведевой], это — женщина земная, это — любовь материальная, доведенная до поэзии, но до поэзии земной, и княгиня, которой я несколькими чертами дал твой божественный характер, где уже и следа нет земли, где одно небо…»
Задача, стоявшая перед автором повести, первоначально названной «Там» (1836–1838), очевидно, заключалась в том, чтобы автобиографическую реальность факта, один эпизод своей биографии преобразить художественным вымыслом в сюжет, все же удаленный от реальности. И автор старался. Повесть продвигалась туго, то шла вперед, а потом останавливалась: может быть, слишком свежо, «чтобы можно было писать». Герцен сомневался: «смело, но бедно», да есть ли у него талант к повестям. И не стоит ли ее бросить совсем. В письме Наташе летом 1837 года заключал: «Дело решенное: повести не мой род».
«Герценовское отталкивание в 1830-е годы от жанра повести происходило как раз в период становления, расцвета и полного утверждения в русской литературе, как и во всей западноевропейской художественной прозе, повести и романа, объективно-повествовательной формы», — подтверждает скрупулезный исследователь раннего творчества писателя. По тогдашнему свидетельству Белинского, «они заняли авансцену литературы, как ее господствующие жанры, где всему есть место — и жизни, и философской идее, и нравственности, и науке»[27]. Белинский рассматривал это как явление, характерное для всех национальных литератур. Дух времени и господствующие тенденции, потребности развития русской литературы вызывали к жизни появление повестей Марлинского, Павлова, Полевого и, конечно, Гоголя. Герцен, начиная свой художественный путь, тоже приобщался к этому жанру. Однако неудача повести побудила его обратиться к другим формам и жанрам литературы, к поиску их синтеза.
«Записки одного молодого человека» (1840–1841), уже неоднократно нами цитируемые, несомненно, стали поворотным пунктом этого поиска. Здесь соединились две жанровые линии — биографическая, в первых двух частях («Ребячество», «Юность»), и повествовательная, якобы от вымышленного героя, в третьей части («Годы странствования»).
В конечном же счете этот особый жанр, как увидим в дальнейшем, Герцен нашел и сделал своим. Но и повести он не бросил. Они еще прославят его и через десятилетие принесут громадный успех, оставят навечно заданный им обществу вопрос: «Кто виноват?»
Уже в ранних сочинениях формируется несравненный герценовский стиль. Образный, метафорический язык, полный захватывающих каламбуров и игры слов (jeu de mots), внезапных переходов от иронии, сарказма к лирике и философским обобщениям.
Герцен прибегнет даже к стихам в исторических сценах, написанным в социально-религиозном духе, которые тогда же, в 1838-м, сам «принимал за драмы». В одной из них представлялась жизнь квакерской колонии в Америке XVII века с непременной идеей «борьбы официальной церкви с квакерами». История о Вильяме Пене, основателе Пенсильвании, явно завуалированная, должна была быть приемлемой для цензуры, а квакерство, как «религия социальная, прогрессивная», — не более чем псевдоним утопического социализма.
Отрывок «Из римских сцен» о «борьбе древнего мира с христианством», задуманный как «фантазия» в стихах, Герцен попытался написать едва заметной рифмованной прозой. И хотя ее герой — Лициний, рефлектирующий интеллигент 1830-х годов, возможный прообраз «лишнего человека» (Бельтов из «Кто виноват?»), — особых, заметных следов в творческой биографии Герцена эти драматические опыты не оставили. Более того, в 1839 или 1840 году иронично высказался В. Белинский. Герцен, передавший критику обе тетрадки своих сочинений, с затаенной надеждой ожидал похвалы, но дождался убийственного отзыва: «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов. Я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи». Герцен «послушался» критика через много лет, когда в 1861 году для отдельного издания своих мемуаров написал «в строку» прозаическое сочинение «Scenario двух драматических опытов ЛИЦИНИЙ и ВИЛЬЯМ ПЕН».
«Жанровые переживания» начинающего писателя сплавлялись с жизненной ситуацией, одиночество ссылки — с неумеренной жаждой найти себя, раскрыться, писать, рассказывать о себе, «перебирать былое и, вместо того, чтоб жить в самом деле, записывать прожитое». Эти творческие поиски словно вели его к автобиографическим запискам, воспоминаниям, записям, письмам, дневникам.
Глава 14
МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ
У нас с тобой нет прошедшего, нами должно начаться новое существование — на нас не падают пятна прошлых поколений, мы чисты и сами дадим значение себе.
А. И. Герцен — Н. А. Захарьиной
Замечено верно: о грустном, тяжелом легче пишется. «Страшные события, — считает Герцен, — все же легче кладутся на бумагу, чем воспоминания совершенно светлые…»
Но пора вернуться к светлым впечатлениям вятского ссыльного. Все больше слухов о его скором возвращении в столицы. Хлопочет не покладая рук отец, рассылая нижайшие просьбы своим сиятельным, приближенным к престолу знакомым[28]. Хлопочет, как ни парадоксально, сам губернатор Тюфяев, в конце концов люто возненавидевший своего блестящего подчиненного. Герцену трудно представить, что на высочайшее имя пошло представление о переводе его из Вятки, и это объяснялось отчасти личным побуждением «сатрапа» привлечь в свой гарем Медведеву, одержать победу над упрямившейся жертвой устранением своего соперника. Пока всё тщетно.
Разлука с Наташей укрепляет не только симпатию к отсутствующей кузине. Можно сколько угодно колебаться, предаваться любовному кружению, но ясно одно: в начале 1836-го отчетливые признания уже произнесены. Они следуют в письмах — одно восторженнее другого. Наконец он «идеологически» определяется в направлении своей дальнейшей жизни: «…всякое стремление, всякое земное чувство, всякий порыв получили значение и цель — Любовь к тебе».
«Сейчас мне что пришло в голову: Natalie значит Родина[29]. Родина! Не высок ли смысл этого слова, соединенный с словом Александр — Мужественная защита? И все это, уверяю тебя, не случай, случая нет, везде перст Его. Это иероглиф с высоким смыслом», — рассуждает он в следующем послании своему недоступному идеалу.
Отныне целых два года их тайный роман будет на расстоянии, в письмах, и дважды в неделю, справляясь с волнением, он будет ждать возле почтовой конторы, пока не разберут московскую почту и в его руках не окажутся невесомые листки, заполненные изящной вязью знакомого почерка. Высшее наслаждение — мысль, «что письмо есть», — и оно, конечно, будет прочитано не в уличной сутолоке.
Жизнь в Вятке продолжается. Приходится улыбаться, «веселя публику пасквилями и эпиграммами». Не Гейне ли вывел простую формулу: улыбка скрывает печаль. Конечно, «улыбка губ, а не сердца». И он улыбается без явного понимания, когда же покинет, наконец, опостылевшую Вятку. Печаль другая, светлая, возникает в душе всякий раз от сознания, что есть в мире единственная — одна, и главное, общее их слово, уже сказано.
Разлука… Герцен в подробностях описал эти часы, дни, месяцы и годы ожидания в своих письмах, мемуарах, дневниках. И Наташа ждала, отмеряя своими посланиями каждое мгновение, каждую вибрацию своего чувства. «А ведь ты права, Наташа, — соглашался Герцен, — что нам нечего будет рассказывать о разлуке, потому что мы были все время вместе». Ее письма — «как чистая струя воздуха середь пыльного жара». Его письма, что особенно важно, в деталях восстанавливают всю его жизнь без нее. Сколько их — страстных, возвышенных, уводящих часто за пределы человеческого разумения (сотни писем с 1842 года), и чужими словами их не перескажешь. (Так что вновь отсылаем читателя к переписке А. Герцена и Н. Захарьиной, обнародованной издателем Ф. Павленковым в 1905 году.)
Тяготит разлука с друзьями, но есть и новые знакомцы, ставшие друзьями, — Витберг с его удивительной семьей. Одиночество — не для Герцена. Александр Лаврентьевич явился «посланником неба», он понимает его и разделяет все его сомнения и восторги. Художник готов нарисовать его портрет, да не один, и рисунок будет, несомненно, предназначен не только отцу. Наташа получит прекрасный оригинал 1836 года ко дню своего рождения 22 октября[30].
Доходят слухи об Огареве. Хотя он не слишком здоров, собирается «странно» жениться на племяннице пензенского губернатора А. А. Панчулидзева. Герцен немного ревнует, сомневается: будет ли прок… Если простое увлечение — только беда. Делится сомнениями с Наташей: «Женился ли? Никакой вести от него, а и он мне необходим, как ты: мы врозь — разрозненные тома одной поэмы». Огарев сообщает лучшему другу о своем решении только спустя одиннадцать месяцев после женитьбы, состоявшейся 26 апреля 1836 года. Верит, что, связав свою жизнь с М. Л. Рославлевой, не услышит от Герцена ни слова «неправедного укора», ибо он тот человек, который никогда не усомнится в нем. Их дружба — главное «сокровище», что вскоре подтвердит и Мария Львовна, понимающая, что ее супруг «принадлежит великому делу и своим друзьям» не менее, а может, более, чем своей возлюбленной.
В письме другу Кетчеру Герцен вновь возвращается к скептической мысли, пронзившей его тогда, на Волге, при единоборстве со стихией, на утлом дощанике, что «ничего не сделано для бессмертия»: «умрешь с своим стремлением», как своего рода Дон Кихот. Герой Сервантеса в раздумьях Герцена о назначении человека и его Деле еще займет в его жизни важную нишу. Ясно одно: при таких задатках характера «просто одним из рядовых людей» он стать не может. Ощущение избранности, мысль о благе человечества постоянно занимает его. «Сверх частной жизни, на мне лежит обязанность жизни всеобщей, универсальной, деятельности общей, деятельности в благо человечества», — размышляет он в письме Наташе.
Пока литературное поприще еще не кажется ему таким уж определенным. Особых успехов нет. Что сказать о службе?
«…Сколько лет до тех пор, пока моя служба может быть полезна?»
«…Но ведь и одной литературной деятельности мало, в ней недостает плоти, реальности, практического действия, ибо, право же, человек не создан быть писателем; письмо есть уже отчаянное средство сообщить свою мысль. Как же быть?..»
Размышления о будущем не покидают его, и постоянно встает вопрос: писать или служить?
В тягучей череде дней ссыльного есть немало дат, против которых он мог бы отметить действительно счастливые мгновения в собственной судьбе и, конечно, творческие радости, пусть и омраченные… Когда держишь в руках свежий еще журнал «Телескоп» и обнаруживаешь на его страницах, в десятой книжке за 1836 год, свое сочинение о Гофмане — считай, первую публикацию своего художественного создания, — то в этот миг ни о каких сомнениях и неудовольствиях (кто послал издателю Надеждину? как посмели напечатать так небрежно и т. д. и т. п.) речи еще нет. Тем более что к Николаю Ивановичу Надеждину у молодых московских друзей особая приязнь. Профессор, светило Московского университета, специалист по теории изящных искусств, археологии и логике, взрастивший блестящую плеяду учеников. И Огарев, и Станкевич — в их числе. Да и Герцен не в стороне со своей «гофманиадой».
Имя Надеждина, как издателя «Телескопа», связывается с его новым потрясением. Надо жить в те времена, да еще в провинциальной глуши, чтобы представить, как простая книжка в бумажной обертке может взорвать ход обыденной жизни.
Как-то, в конце осени — начале зимы 1836 года[31], Герцен «спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес… последнюю книжку „Телескопа“», и в пятнадцатом номере журнала, в разделе «Науки», он обнаружил статью «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-е». Написано даме[32]. Подписи нет. В конце обозначено: «Некрополис 1829 г., декабря 17». В редакционном примечании сообщено, что письмо того же русского автора, которое будет иметь продолжение в следующих книжках «Телескопа», переведено с французского.
В мемуарах Герцен вспомнил непосредственное впечатление от прочтения письма тогда: «Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее — „Письмо“ растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.
Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума». Имени автора он до поры не знал.
Это мировоззренческое письмо содержало завязку всех споров о прошлом, настоящем и будущем России, которые бурно развернутся в 1840-е годы. Полемика, неутихающая и поныне, обозначила позицию Герцена о «мрачной статье Чаадаева», но почти через 20 лет, в «Былом и думах»: «Долго оторванная от народа часть России прострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было что-то на сердце, и все-таки все молчали; наконец, пришел человек, который по-своему сказал что. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. „Письмо“ Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?
Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это „пробел разумения, грозный урок, данный народам, — до чего отчуждение и рабство могут довести“. Это было покаяние и обвинение…»
«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться…»
Эмоциональный отклик Герцена на статью сохранился, когда через многие годы он взялся за мемуары. Он был разбужен, поражен открывшимися в тексте безднами. Перечитывал, восхищался, обдумывал, не соглашался. Готов был спорить с автором. Уж так ли односторонне надо трактовать прошедшее России? Ведь оппозиция в лице святых мучеников — декабристов сложилась на их веку. Неубедительно и утверждение автора о роли католичества на Западе: якобы его укоренение увело Европу вперед и дало ей возможность вырваться в развитии, оставив позади христианскую Россию. Правильно сказано: автор выплеснул в статье свою боль. А рецептов врачевания мы еще не нашли. Мы не врачи — мы боль. (Эта мысль придет к Герцену позже[33].)
В начале нового, 1837 года (30 января) Герцен, ни разу не упоминавший о «Философическом письме» в своей переписке, иносказательно писал Наташе, что 1837 год «явился с холодным лицом тюремщика»: «Ты, я думаю, слышала об одном происшествии в Москве от маменьки или от Ег[ора] Ивановича]… Оно дает определение всему 37 году, как кажется». И Герцен не ошибся. Автор «Письма» был объявлен сумасшедшим, журнал закрыт, Надеждин сослан в Усть-Сысольск, а ректор Московского университета, цензор Болдырев — отстранен от должности.
В 1837 году Россию ждала и вовсе непереносимая трагедия. Погиб на дуэли Пушкин. Буквально через несколько дней до Вятки должна дойти страшная весть. Но в сохранившейся переписке отклик на нее отсутствует.
Их пути с Поэтом пересеклись лишь однажды. Наверняка Герцен вспомнил, как в 1826 году, сразу же после возвращения Пушкина из михайловской ссылки, они с корчевской кузиной были на томболе[34] в зале Благородного собрания и как заволновался зал, когда среди многочисленного общества выделились две необыкновенные фигуры. Т. П. Пассек записала впечатление: «Один — высокий блондин, другой — среднего роста брюнет, с черными курчавыми волосами и резко-выразительным лицом. Смотрите, сказали нам, блондин — Баратынский, брюнет — Пушкин. Они шли рядом, им уступали дорогу. <…> Пушкин прошел к мраморной колонне, на которой стоял бюст государя, стал подле нее и облокотился о колонну. Мы не спускали с него глаз…»
«Царь-властитель литературного движения», любимейший из поэтов, неизменно сопровождал Герцена по жизни. В тесной каморке их «старого» дома перед сальной свечой висел портрет кудрявого мальчика[35]. Давно ли он, юноша, только что вышедший из детства, вытверживал наизусть напечатанную главу «Онегина», давно ли зачитывался романтическим «Кавказским пленником»… А затрепанные тетрадки запрещенных стихов о вольности и рабстве, которые тайно приносил учитель Протопопов, и он по легкомыслию или детской беспечности эту тайну нарушал, во всеуслышание, театрально декламируя строки о свободе из пушкинского «Кинжала».
Пройдет три десятилетия, и потаенные стихи «Ода на свободу», «Вольность», «Кинжал» обратятся в печатные листы, чтобы на берегах Темзы сойти с вольного герценовского станка.
В бесцензурной печати Герцен будет много размышлять о влиянии литературы в последекабристском обществе николаевской деспотии, «которая приобретает размеры, давно утраченные другими странами Европы». У нас литература — общественная трибуна, великое служение и оппозиция. А Пушкин, по Герцену, свято противостоит официальной России, этой «фасадной империи», «жестокой реакции бесчеловечных преследований».
Грозят ли России перемены? О том нет даже намеков. Остается ждать и надеяться на поворот собственной судьбы.
Нежданная новость поразила как гром среди ясного неба. Великий князь путешествует по России. В Вятку едет наследник, а с ним Жуковский. Василий Андреевич Жуковский, Поэт, которого он почитал с юности, зачитываясь его стихами и переводами «Одиссеи» и Шиллеровой «Орлеанской девы». Василий Андреевич Жуковский, ближайший друг Пушкина, еще несколько месяцев тому назад проведший трагические часы у постели умирающего Поэта. Жуковский — Учитель, наставник, ментор, пестующий своего воспитанника, наследника престола Александра Николаевича. Он, несомненно, внушит будущему царю многие гуманные идеи. Герцен судит не только «по добродушной и вялой внешности» великого князя, которая все-таки выгодно отличалась от вида его венценосного отца, всем своим обликом выражавшего «узкую строгость» и «холодную, беспощадную жестокость», но и по тем последствиям, ожидавшим Вятку при его посещении.
В 1837 году в крае затеяли Выставку естественных и искусственных произведений Вятской губернии. Конечно, не без повеления сверху: устроить подобные экспозиции во всех городах и весях, оказавшихся на пути наследника в Сибирь. Был учрежден Особый комитет из общественных лиц под председательством купца 1-й гильдии М. Рязанцева. В двухэтажный дом наследников купца Гусева — место проведения выставки — стали завозить всяческие «земные произрастания», разные мануфактурные и промышленные изделия из металлов, дерева и прочее, в общем, всё произведенное руками.
Потрудился и Герцен, проявивший себя талантливо и как экспозиционер, как бы мы выразились теперь. Хоть и ворчал, что «проклятая выставка» на его шее, но работал усердно, организовывал, классифицировал, располагал все означенные произведения по разделам.
На открытии выставки 18 мая, как ожидалось, присутствовала высокая делегация, в которой помимо цесаревича и В. А. Жуковского был историк и статистик, преподаватель наследника, Константин Иванович Арсеньев. И вот теперь ссыльный предстал перед ними в качестве проводника. Едва ли нашелся в этой толпе невежественных и заискивающих чиновников тот, кто мог бы сносно сделать пояснения и провести по выставке сиятельную свиту. А Герцен это сделал блестяще.
Вечером был бал, устроенный в честь наследника. Как все провинциальные балы при таких неординарных случаях, он был беден и глуп, чрезвычайно пестр и неловок, как полагал Герцен. Музыкантов, мертвецки пьяных, пришлось до поры держать взаперти, а потом «прямо из полиции конвоировать на хоры». Но высочайшее посещение вызвало бурю восторгов.
В одном из городков губернии «презентация» выставки отмечалась особым угощением, «гуте» (прозаически скажем — «халявой»), о чем не без веселой иронии вспоминал Герцен. Пресловутая косточка от персика, которую наследник бросил на подоконник (испробовав единственный фрукт), была подобрана местным чиновником-забулдыгой. Сей раритет, «высочайше обглоданная косточка», присвоенная им, тотчас пятикратно обернулась подобными, вырезанными из персиков ушлым земским заседателем для осчастливливания и ублажения дам.
После вятского бала того же 18 мая, вернувшись ночью домой, усталый, но вдохновленный встречей с высокой делегацией, Герцен находит несколько минут, чтобы черкнуть два слова Наташе о своих последних ощущениях: «Поздравь меня, князь был очень доволен выставкой, и вся свита его наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я час целый говорил; завтра в 7 часов утра я еду к нему».
Тогда и решилась его судьба.
В «Былом и думах» Герцен восстановил события. После отъезда наследника Жуковский и Арсеньев заинтересовались: почему он в Вятке. Образованный и порядочный человек и вдруг — в несвойственной ему среде захолустного чиновничества. За объяснением последовало действие. После рассказа Жуковского великому князю наследником было сделано представление государю о разрешении ссыльному ехать в столицу, но Николай отказал: «Это было бы несправедливо относительно других сосланных». Однако, в виде исключения, распорядился перевести Герцена во Владимир.
Последствия высокого посещения не замедлили себя ждать. Свирепые меры Тюфяева по притеснению обывателей и нарушению привычного хода жизни обернулись против грозного губернатора. Купцы и мещане, все, кому открылся доступ к высочайшей комиссии, наперебой рассказывали о проделках беззастенчивого сатрапа — кого объявил сумасшедшим, кого разорил… Для поправки безнадежных вятских дорог, по которым с ветерком должен пролететь экипаж наследника, сгонялись крестьяне. Поражала «навуходоносорская» фантазия хозяина края.
Вот уж учудил: для восстановления прогнивших тротуаров, возложенного на домовладельцев, распорядился выломать пол в доме у бедной вдовы, не имевшей ни малейших средств, и устлать этими досками надлежащий участок на пути сиятельной особы. А в общем-то всё было, как всегда: наспех красилось, судорожно подправлялось. Опыта «потемкинских деревень» — не занимать.
Особое возмущение вызвал перенос привычной даты народного праздника в честь Хлыновской чудотворной иконы святителя Николая, который в крае проводился веками. И всё в угоду его высочеству, что вовсе не было оценено. Напротив, великий князь разобрался во всех злоключениях местного населения и распорядился по справедливости.
Вечный властелин Тюфяев пал. После отстранения с губернаторского поста он, единолично правивший губернией «как турецкий паша», еще самонадеянно думал о продолжении карьеры. Но не случилось. Чиновничье сословие, так умиленно до того пресмыкавшееся перед ним, ликовало. И эту подлость человеческую нельзя было не заметить даже открытому его противнику Герцену, точным словом всегда умевшему обобщить частные наблюдения о человечестве: «Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря».
Новый губернатор А. А. Корнилов, проявивший все повадки образованного и цивилизованного человека, приблизил Герцена к себе. Работы высокому чиновнику, окунувшемуся в новую должность, предстояло через край, а умный, постигший все местные премудрости подчиненный был настоящей находкой. Обязанностей у Герцена сильно прибавилось.
С Корниловым, как отменный «службист» (Герцен пишет это слово по-немецки), он ревизует «государственные имущества» Вятской губернии, разъезжает в доверенные губернатору города, что при Тюфяеве ссыльному категорически воспрещалось. В таком многостороннем знакомстве с глубинкой страны он видит свое преимущество перед московскими друзьями, пишет Кетчеру: «Вы, messieurs, не знаете России, живши в ее центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке».
Можно подумать, что он все время занят делом. Нисколько. Вопреки всем его признаниям, что в его душе словно сосуществуют «два элемента»: один — занят поэзией любви, другой — «требует власти, силы, обширного круга действия», «путного», как ему кажется, он ничего не совершает (слово «путное» акцентируется).
Вновь и вновь он размышляет о любви и вере. Идет постоянная борьба с самим собой: периодически возникающим тщеславием, с мечтами о славе, сходными «с звуком труб и литавр». Он ведь уже процитировал в своей «Легенде» святого Августина: «Две любви создали две веси: любовь к себе до презрения Бога — весь земную; любовь Бога до презрения себя — весь небесную».
Несмотря на внешние послабления, ссыльная жизнь в Вятке, вдали от Наташи, кажется ему все непереносимее. Терзают надежды на скорое возвращение. Он мается в ожидании, убивает время, «таскаясь по улицам и домам». Сомневается, огорчается и ищет решений.
Вот Наташа писала, что страстно желает покинуть дом тетки Хованской, отправиться в Петербург к сестре Анне или к брату Химику. Можно и в монастырь. Герцен встает на дыбы. Родственники для него, видно, не так уж привлекательны, как прежде. Химик — «холодная душа, эгоист». Лучше в монастырь.
Их тайна с Наташей давно для всех открылась, и Яковлев грозил сыну лишением содержания в случае нарушения отцовской воли. Добрая Луиза Ивановна, посвященная в ближайшие намерения молодых людей, как всегда, хлопотала, примиряла, усмиряла негодование Ивана Алексеевича.
Репрессивные меры обрушились и на Наташу; ей запрещалось всё: читать, писать, даже играть на фортепиано. Появились новые претенденты на ее руку: близкие не отступали от намерения выдать ее замуж насильно. Герцен потрясен. Он решается в письме отцу «требовать, приказывать, а не просить разрешения на брак». Но туча прошла, предполагаемый жених, полковник А. И. Снаксарёв, на сговор не явился, и письмо разорвано в клочья.
Тонкие, постоянно колеблющиеся нити человеческих связей, самых дружеских, самых любовных, позволяют находить недостатки и подмечать особенности характера даже очень близких людей. В разговоре с Герценом Витберг вдруг уверяет, что, несмотря на «пламенный нрав» Александра, он никогда не будет «сильно любить», ибо «мечты самолюбия всегда возьмут верх над мечтами любви». Герцен, переживший долгие сомнения, не соглашается, считает, что Витберг понял его «таланты, но не понял души».
С приходом нового губернатора у Герцена образуется тьма чиновничьих обязанностей, так что Корнилов считает целесообразным освободить его от должности переводчика и перевести «в штат канцелярии начальника губернии». Вскоре выходит соответствующее постановление губернского правления. Бродят слухи о новом месте его пребывания — Владимире-на-Клязьме.
Наше время предоставляет архивные документы: доклад главного начальника Третьего отделения и шефа жандармов графа А. X. Бенкендорфа о переводе Герцена «для сближения его с родственниками, живущими в Москве», 16 ноября 1836 года подписан Николаем I. От Бенкендорфа следует указание министру внутренних дел Д. Н. Блудову. Соответствующее предписание о ссыльном из Вятки получает будущий его начальник, владимирский гражданский губернатор И. Э. Курута. О решении Герцен осведомлен 28 ноября. Теперь главное его стремление — узнать, сможет ли он из Владимира вырваться на несколько дней в Москву. Но на Вятской земле у него еще множество дел.
И правду сказать, дела эти оставят в истории края след значительный. Герцен будет способствовать собиранию книг для публичной библиотеки и фактически станет одним из ее основателей. 6 декабря 1837 года произнесет блестящую просветительскую, но весьма одиозную официальную речь при ее открытии, приуроченную ко дню именин Николая I и переправленную, как выясняется, самим губернатором Корниловым в монархическом духе.
Конечно, Герцен не будет доволен, не видя «в ней большого толка», а в дальнейшем, через двадцать пять лет в «Колоколе», отвечая не слишком благожелательным оппонентам, назовет речь «плохой», «исполненной уступок». Однако этот своеобразный гимн во славу книги станет со временем хрестоматийным: «Книга — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге…»
Двадцать третьего декабря Герцен представит «первую тетрадь опыта статистической монографии Вятской губернии». Его участие в подготовке издания «Вятских губернских ведомостей», принесших немало пользы в знакомстве с краем и населяющими его народами, отзовется сразу же после его отъезда из Вятки. В «Прибавлении» к «Губернским ведомостям» № 1 за 1838 год появится начало его статьи «Вотяки и черемисы». Позже Герцен напишет о несомненной пользе введения в 42 губерниях России (с 1838 года) аналогичных органов печати: «Оригинальная мысль приучать к гласности в стране молчания и немоты пришла в голову министру внутренних дел Блудову».
Грядущие рождественские праздники приносят и радость, и горесть расставания. Нелегко покидать друзей, «трудно отрываться от любимых».
До станции Бахта его провожают A. Л. Витберг, А. Е. Скворцов, Г. К. Эрн, П. Тромпетер. Вот Скворцов на днях сказал ему «со слезами на глазах»: «Герцен, будь весел в день твоего отъезда, а то, ежели и ты будешь грустен, я не знаю, что со мною будет». Что будет с Герценом? Хотя и невольником возвращается, но все же на 600 верст ближе к Москве и, значит, к Наташе.
Глава 15
1838-Й — «ВАЖНЕЙШИЙ ГОД НАШЕЙ ЖИЗНИ»
…Для меня начался новый отдел жизни… отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью.
А. И. Герцен. Былое и думы
Под Рождество 1837 года пришла весть о переводе Герцена во Владимир. Несомненно, «географическое улучшение». В сердцах он часто произносил: «О, Господи, когда ты изведешь из этого города?» И вот наконец… До Москвы рукой подать.
Дорога мчала к новому пункту его ссыльного назначения. Пошевни, юркие сани, неслись по снежному насту через частокол гигантских сосен, где бесконечный строевой лес, вытянувшийся, словно по стойке «смирно», пропускал спешащего путника. Луна, мороз. Позванивают бубенчики. И сосны, сосны… Такого он прежде не видывал. Миновали Яранск. Проехали, проскочили Козьмодемьянск. Лошади летят уже в русской упряжке («тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, коренная в дуге»), совсем отличной от вятской, где местные вотяки «закладывают лошадей гуськом» («одну перед другой или две в ряд, а третью впереди»), Герцен прекрасно освоил все эти этнографические особенности. Несись, русская тройка! Всё ближе к дому.
Время от времени останавливались у неприглядных, невзрачных домушек и построек, обнаруживавших себя на небольших расчищенных площадках среди леса. Меняли лошадей. Где люди, там и встречи. Где встречи, там и судьбы. Читателю своих мемуаров Герцен-путник (может, и пилигрим, как себя называет) представит некоторых дорожных знакомцев. Лазарева, к примеру. Встретился он Герцену на пути полупьяным исправником, не погнушавшимся приложиться к ручке проезжего барина, ну, хоть и ссыльного (чтоб пощадил за грехи, не рассказал начальству), а через недолгое время, гляди уж, в Петербурге, «в большой силе» и восседает в канцелярии министра внутренних дел чиновником особых поручений при самом министре.
Нетерпение подгоняло. Кони неслись. Скатились по крутому съезду к Волге. Кто ж не любит быстрой езды?.. Грешен и Герцен — «русская натура». Спешили, да не успели. Новый год застал в дороге «в 46 верстах от Нижнего», в Полянах, в доме станционного смотрителя. Встретили праздник с шампанским, не выдержавшим местных холодов (замерзло по дороге «вгустую»); да и принесенная из повозки ветчина напоминала сверкающую ледышку. Смотрителю «мороженое шампанское» не слишком понравилось, и Герцен не пожалел добавить в его стакан изрядную долю рома. Эта адская смесь (тож на тож, половина на половину), за которой Герцен закрепил в «Былом и думах» свой собственный «бренд» — «half-and-half», имела успех. Ямщик, приглашенный к столу, обошелся совсем «радикальным» средством: «…он насыпал перцу в стакан пенного вина, размешал ложкой, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: „Славно огорчило!“». Непереводимое с русского, это непредсказуемое выражение стоило бы запомнить…
Так и прошло «почтовое празднество», сочно описанное в «Былом и думах».
Что он напишет своим «подснежным друзьям» на подступах к новому месту своего поселения? И если точно по времени: за 32 часа до въезда во Владимир. Заглянем в письма. Они написаны тогда же, еще не кончился первый январский день (сравним с мемуарами). «Я сижу в пресквернейшей избе, исполненной тараканами, до которой M-me Medwedew не большая любительница, и пью шампанское, до которого M-r Witberg не охотник, — оно не замерзло, и я имел терпение везти из Бахты, — а дурак станционный смотритель спрашивает: „Виноградное, что ли-с?“ — „Нет, из клюквы“, — сказал я ему, и он будет уверять. — Прощайте. Из Нижнего буду писать comme il faut — а здесь ни пера, ничего, зато дружбы к вам много, много». Милые, потерянные детали жизни всегда питают воображение, когда принимаешься их вспоминать.
Из Нижнего Новгорода всем друзьям — новые приветы, поздравления, благодарности. Витбергу особенные: «Наша встреча была важна, вы были Вергилий, взявшийся вести Данта, сбившегося с дороги. Жаль, что вы не совсем поступили, как Вергилий, — он довел Данта до Беатриче, до рая. А вы должны были покинуть меня на Бахте, — извините, что кончил глупостью».
Пятого января Герцен берется за письмо Наташе и уже огорчен. Ждал с трепетом ответа на единственный вопрос компетентному лицу — позволят ли в отпуск в Москву, но жандармский полковник не обнадежил. Москва, Москва… Пока не удается коснуться камней «святого града». Но и надежды не оставляют: из Владимира будто видится Белокаменная…
Город Владимир — древний, упомянут в летописях под 1108 годом. (Что, Москва… По старшинству не уступит ей.) Раскинулся он по холмам и долинам, на берегах речки Клязьмы. Милый, спокойный, провинциальный. Только несчетные церкви с редкими, старинными образами, богатые монастыри, стройные белокаменные соборы с небывалой каменной резьбой и непередаваемым многоцветьем воодушевляющих фресок — Дмитровский и Успенский — подтверждают его дремучую, драгоценную древность, придают ему значимость большого историко-культурного и религиозного оазиса.
Здесь, в Рождественском монастыре, похоронен его святой покровитель — Александр Невский, что дает ему повод то и дело наведываться в священное место. О порядке своей жизни Герцен сообщает Наташе множество бытовых подробностей. И не только. «Многие пишут журнал своих действий, мыслей и чувств», будто сохраняя их вне души. Он не таков. В его душе накопилось так много воодушевляющей любви, что этот «богатый журнал» его жизни — и есть его письма к ней.
Он постепенно приближался к этой любви. Теперь послания «милому ангелу» еще более подробны, пишутся едва ли не каждый день и в каждом — надежды на скорое воссоединение. Теперь его «жизнь — одна апотеоза Наташе».
Читатель, помнящий рассуждения Герцена о любви и славе, о невозможности достигнуть счастья в семейном кругу, может заметить, как страстная влюбленность тасует карты судьбы. «Было время, — пишет он того же 5-го дня января 1838 года, — когда, судорожно проницая в жизнь болезненным взором, я говорил: „Любовь погубит меня“ — потому что под жизнию я разумел славу. И в самом деле, она погубила меня. Мало-помалу во мне вымерло все, и вся душа образовалась в алтарь тебе. Наташа, перед этим подвигом должны склониться все. Весь род человеческий никогда не сделал бы со мной этой перемены — ее сделала дева — ангел!» (курсив мой. — И. Ж.).
(Пройдет немало времени, и подобную образную стилистику молодой поры его романтических предрассудков и чрезмерной экзальтации мы отметим в письмах Натальи Александровны, в ее любовных посланиях к другому человеку.)
Положение Герцена во Владимире вовсе не стоит сравнивать с вятской трехлетней «барщиной» под началом редкого мерзавца Тюфяева. Владимирский гражданский губернатор Иван Эммануилович Курута, «умный грек», не склонен его притеснять. Он добр, просвещен, понимает людей, и запихивать в душную канцелярию молодого, подающего надежды ссыльного для него не имеет ни малейшего смысла. Служба определена — заведовать «Прибавлениями» к «Владимирским губернским ведомостям» вместе с учителем гимназии по фамилии Небаба. И дело это Герцену вполне знакомо и даже не расходится с его намерениями — писать. Он — официальный редактор издания.
Чтобы прибегнуть к некой истории печатных органов, «приучавших к гласности» безгласную страну, вновь откроем удивительные мемуары:
«…Блудов выдумал „Губернские ведомости“. У нас правительство, презирая всякую грамотность, имеет большие притязания на литературу; и в то время, как в Англии, например, совсем нет казенных журналов, у нас каждое министерство издает свой, академия и университеты — свои. У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный счет, подряды статей делаются в министерствах так, как подряды на дрова и свечи… недостатка в общих отчетах, выдуманных цифрах и фантастических выводах не бывает. Взявши все монополи, правительство взяло и монополь болтовни, оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов велел, чтоб каждое губернское правление издавало свои „Ведомости“ и чтоб каждая „Ведомость“ имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и пр.
Сказано — сделано, и вот пятьдесят губернских правлений рвут себе волосы над официальной частью. Священники из семинаристов, доктора медицины, учители гимназии, все люди, состоящие в подозрении образования и уместного употребления… пишут статейки.
Видеть себя в печати — одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком».
Герцен как раз попал в число людей «уместного употребления». И Курута это понял. О литературных опытах вновь прибывшего подчиненного он, несомненно, осведомлен. И месяца через два его уже здесь «начинают носить на руках», — «хвастается» он (его словцо!) в письме Наташе.
Девятнадцатого января 1838 года гражданский губернатор направляет во Владимирское губернское правление официальную бумагу о своем намерении причислить Герцена к губернаторской канцелярии. Послужной чиновничий список ссыльного пополняется. Он определен к делам канцелярии губернатора Куруты.
Фамилия нового сотоварища Герцена по редактированию «Прибавлений», Дмитрия Васильевича Небабы, кандидата того же Московского университета, вполне доброго и вовсе не глупого человека, естественно, вызывала множество досадных недоразумений. Его неуклюжая фигура, некрасивая, даже уродливая внешность (что Квазимодо!) вполне соответствовали его дурацкой фамилии, которая не раз подвергала его опасности; и, в конце концов, жизнь этого ничем не проштрафившегося страдальца преждевременно оборвалась.
Что писалось в «Прибавлениях» к «Ведомостям»? Сначала редактором была заявлена программа издания, а ко всем членам-корреспондентам статистического комитета и всем, занимающимся статистикой и историей Владимирской губернии, была обращена просьба: предоставлять сведения для составления общих заключений о губернии, в частности, почерпнутые из официальных источников. Особо подчеркивалась важность топографических и статистических сведений о губернском и уездных городах и приводилось краткое «исчисление самонужнейших предметов для составления полной и отчетливой топографии» губернии: 1) о быте народном; 2) об исторических памятниках, предоставляющих обширное поле для их исследований: «вся Владимирская губерния есть огромный памятник Суздальского великокняжества и веков последующих»; 3) о торговле. Четвертый раздел включал «сведения физические»: о климате, почвах, «горнокаменных породах, особенно имеющих технологическую пользу», о растениях, «употребляемых на прямую пользу, врачебную или иную», о животных, обитающих в крае, и пр.
Подводя итог весьма успешному годичному изданию «Прибавлений», Герцен в редакционной заметке давал направление дальнейшего развития неофициальной части «Ведомостей»: «Раскрыть внутреннюю жизнь каждой части нашей родины, привесть в известность быт и средства, дать гласность всем особенностям своего края, даже чрезвычайным происшествиям».
Еще не успев утвердиться в должности, Герцен уже подает формальную просьбу об отпуске в Москву на 29 дней. В ожидании скорой встречи чувства влюбленных все более разгораются. За надеждами следуют страхи и разочарования.
Печальная жизнь Наташи в доме своевольной княгини Хованской готовит ей новые испытания. Если б не ее возмужавший характер, который не мог не проявиться при угрозе ее насильственного замужества, если б не всепоглощающая страсть к своему единственному избраннику, ей бы не выстоять. Окруженная с пятилетнего возраста надменными родственниками, видевшими в ней только сироту, пребывая в зависимости от многочисленных приживалок, компаньонок и прочих нахлебников, стремящихся всячески досадить бесправному существу, молодая девушка не сломилась и готова была вырваться из плена.
Все эти долгие годы, как Пенелопа, ждала она своего странника. От претендентов, сватавшихся к ней, не было отбоя. И вот… Слухи о переводе Александра во Владимир наконец достигли Москвы, и тетка Хованская делает последнее усилие, чтобы пристроить племянницу. Нашелся молодой и вполне образованный, порядочный человек, офицер, возвратившийся с Кавказа. Угроза была слишком очевидна, и Наташа решает «прямо, открыто и просто» сказать ему в письме, что любит другого. Смелое устранение будущего жениха (происходящего из самой добропорядочной семьи) вызвало такой гнев тетки Хованской, что она заперла ее на замок и выставила караул в лице двух горничных. Созванный семейный совет не привел решительно ни к чему. Иван Алексеевич, как всегда, устранился. Сенатор по врожденному мягкосердечию почти встал на ее сторону. В решительной девушке, представшей перед смешавшимся «ареопагом» родственников, трудно было узнать «молчаливую, застенчивую сироту»: «Непоколебимая твердость и безвозвратное решение были видны в спокойном и гордом выражении лица; это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь — мою любовь».
Все драматические события, страстно изложенные в «Былом и думах», часто спрессованные, с понятной хронологической непоследовательностью, приобретают сиюминутность в письмах и протягивают каждодневную нить теперь уже владимирской жизни Герцена. Письма полны восклицаний и преувеличений, как и полагается молодым людям, находящимся в эйфории возвышенной переписки, да еще наделенными литературным даром. Постороннему читать их письма вовсе не зазорно. Ведь сам корреспондент и адресат включал фрагменты переписки в свои мемуары, цитировал ее, писал, что «случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим».
В части третьей «Былого и дум» — «Владимир-на-Клязьме», рассказе о самом счастливом периоде его личной судьбы, действительно не столь много «длинных повествований о внутренней жизни того времени». («Будто можно рассказывать счастье?») После воссоединения влюбленных повествование и вовсе поворачивается «наружной стороной», Герцен говорит больше о быте, обстановке и готов даже просить читателя его мемуаров «дополнить самим, чего недостает, догадаться сердцем».
Через три недели после приезда, 21 января, Герцен пишет Наташе: «Сегодня ночью я очень много думал о будущем. Мы должны соединиться, и очень скоро, я даю сроку год. Нечего на них (Яковлева и Хованскую. — И. Ж.) смотреть».
У него уже готов план, а от нее требуется одно — «слепое повиновение». Первый раз в Москве необходимо увидеться тайно. Это главное. Во-вторых, предложить им согласиться. В случае отказа — оставить дом. Все равно отец перед необходимостью уступит. Узнает о венчании и согласится. Через неделю следует более решительное «приказание»: Герцен хочет, чтобы Наташа «при первом удобном случае» покинула дом княгини и прервала все отношения с фамилией господ Яковлевых. Александра «оскорбляют унижения», Наташа «им не обязана ничем». «Препятствий нам нет — родства ничем доказать нельзя». «Твердо, смело и с молитвой на устах поступай», — наставляет он ее. «Я не ты (не сердись опять на эту фразу, ибо здесь речь не о душе, о характере), я не могу вынести униженья, все перенесу (и доказал уже), но униженья нет, — рассуждает он в следующем письме. — Первая обида, которую сделают при мне тебе, может повлечь за собою ужаснейшие следствия».
Январь 1838-го на исходе, а ответа на рапорт об отпуске в Москву нет как нет.
Целую неделю во Владимире гостит Кетчер. Ему первому Герцен расскажет свою «Одиссею» последних лет. Сколько любовных эпитетов и определений прибавит к имени друга — «один из близких родственников души моей», «г. шафер». Выбор сделан. Медлить больше нельзя.
Удивительно, как из благих побуждений этот рыцарь без страха и упрека может испортить всякую ситуацию (опыт с публикацией «Гофмана» уже на слуху). Вот и теперь. Кетчер хочет взяться за переговоры с Яковлевым о женитьбе его сына. Герцен, не подумав, соглашается.
Худшей кандидатуры для подобной дипломатической миссии трудно подобрать. Невозможно представить, чтобы перед древним представителем аристократической породы, да еще вооруженным острым оружием ядовитого словца, появился некто расхристанный и «без всякого единства прически», «с резким лицом, напоминающим ряд членов Конвента, а всего более Мара[36]», даже видом своим отвращающий старика. Результат незваного вторжения не замедлил последовать. Кетчер писал: «От старика ничего не жди».
Герцен и сам прежде писал отцу о своих намерениях и чувствах, но тот, как всегда, отвечал «иронией и уловкой», готов был, не медля, снарядить сына за границу, о чем прежде не помышлял.
Слово, данное милому другу, «барону Упсальскому», поступать решительнее, вело Герцена вперед. В первый раз в письме он вспомнил о деловой бумаге: стоило бы разыскать свидетельство о крещении. Отбросив надежды на помощь отца, озаботился добыванием средств собственной работой. Хотел доказать Наташе и всем, что может «жить без благотворений». Начинал, как он выразился, промышлять. Продаст что-нибудь или за собственные статьи в журналах будет «требовать чистые денежки». Уверен: у них материальных бед не будет. Попутно высказал невесте свои мысли о роскоши и богатстве. Он не склонен отрицать, что любит «пышность дома и комнат», любит комфорт, а «богатство — это свобода»: свобода делать, что хочешь, жить, как хочешь, да к тому же — «не заниматься хозяйством». Более чем скромной обитательницей чужого дома Хованской эти мысли пока отвергнуты.
Одиннадцатого февраля Наташа писала о том офицере, А. О. Миницком, что сватался к ней: «…завтра хочет привезть показать мне свою черкесскую шапку…» Поздно вечером 13-го Герцен отвечал: «Поздравляю тебя с женихом, а жениха — с черкесской шапкой. Эта новость даже и не взволновала меня». Колкое замечание Герцена никак не отменяло уверенности в скором разрешении их общей судьбы. Но на следующий день он все же исправил невольный промах: «Ежели жених в самом деле юноша добрый, — так поступи с ним откровенно, скажи ему». (В воспоминаниях инициативу разрыва приписывал Наташе.)
«Преколкие» письма отца, его холодные ответы на очередные письма любимого сына, которого совсем не хочется отпускать от себя (старик часто повторял: закрой мне глаза, а потом иди на все четыре стороны), не отменяли новых попыток Герцена уговорить родственников.
Наконец, 17 февраля он приводит Наташе текст письма Яковлева, составленный, как всегда, дипломатически безупречно: их дело, исполнять ли приказания отца или нет, но он «избавляется ответственности». Руки у Герцена развязаны, и он впервые крупными буквами выводит в письме слова: «…теперь я тебя торжественно назову МОЕЙ НЕВЕСТОЙ и в первый приезд подарю кольцо». Обращение в посланиях Наташе теперь: «Невеста, милая невеста». Правда, слово «жених», просто как слово, ему не по душе (кажется «безобразным»). Герцену хочется поступить совсем решительно, но все же окончить дело семейным миром. Он пишет «сильное, огненное письмо», и старик отступает, только просит не торопиться. Настаивать больше не стоило: «С папенькою лад…»
Ясно, что скорый конец венчает дело, но время тянется и тянется. Из Петербурга нет ответа. Март на дворе.
Надо решиться на действие.
Где и как встретиться?
Хватит рассуждений и отсрочек. Хватит покоряться обстоятельствам. «Довольно страданий, довольно испытаний». История закрутилась, как в детективном романе, с переодеваниями и подменой персонажей.
Из Владимира в Москву едет брат Александра, Егор Иванович, первый из навестивших его родственников. У него письмо для Наташи от 26 февраля — 1 марта, где обо всем понемногу и, конечно, о встрече. Но внезапно у Герцена рождается сумасшедший план. Егор вынужден подчиниться.
От Владимира до Москвы езды 15 часов. Надзора за ссыльным почти нет. Он берет паспорт слуги Матвея, теперь незаменимого помощника и, больше того, ближайшего товарища. (Камердинер Петр Федорович с Зонненбергом давно отозваны Яковлевым.) Без всякой опасности паспорт предъявляется на заставе, а если остановят в Москве, то это — вина стражей порядка.
При воспоминании в «Былом и думах» обстоятельства «побега» обрастают новыми подробностями. До заставы Александр едет с Егором, который выдает его за слугу. Одежда соответствующая. Дом оставляется на полтора дня, почему по вечерам Матвеем должны зажигаться свечи. Ненароком зашедшим объясняется, что хозяин заболел или спит.
На другой день, 2 марта, в час пополудни, благополучно проскочив заставу, братья Герцены уже подъезжали к дому Кетчера. Николай Христофорович был обескуражен. Волновался и ворчал. Такой поворот событий ему и не снился. Но всё исполнил как надо: у своего приятеля, гусарского офицера, нашел подходящую комнату. Безопасность друга была обеспечена. Чуть стемнело, они с Герценом двинулись в путь. И этот пробег «изгнанника» по родной Москве стал его незабываемым впечатлением: «Сильно билось сердце, когда я снова увидел знакомые, родные улицы, места, домы, которых я не видал около четырех лет… Кузнецкий Мост, Тверской бульвар… Вот и дом Огарева… Вот Поварская, — дух занимается, в мезонине, в угловом окне, горит свечка, это ее комната, она пишет ко мне, она думает обо мне, свеча так весело горит, так мне горит»[37].
Второго марта Наташа получила записку от Александра (и она сохранилась): «Я не знаю, билось ли сердце у тебя в половине второго; я здесь, т. е. К., секретно, и, след., устрой свиданье. Завтра в 9 я еду. Нынче же отдай приказ Аркадью (официант Хованской. — И. Ж.), я пришлю за ним из какого-нибудь трахтира. Завтра в 6 часов утра чтоб были отперты вороты. Рассуждать некогда, действовать».
Ожидание Герцена «у фонарного столба» на Поварской, ответ Натали, их тайное свидание поутру от семи до восьми часов в княгинином доме, — всё передано его взволнованной памятью («внутренний трепет», «крупные слезы», «несвязная речь»). Всё, задуманное ими, 3 марта 1838 года свершилось и осталось яркой, памятной точкой, вехой его биографии. Следующая решительная дата «их действительного бракосочетания», 9 мая, не заставила себя долго ждать. Однако и два месяца для влюбленных — большое испытание.
Тем временем владимирская ссыльная жизнь с мечтами о воле, о любви шла своим чередом: государственная служба, редактирование порученных ему «Приложений» к «Ведомостям», встречи с благоволящим к нему губернатором. Однако тайный полицейский надзор вовсе не снят.
К совершенному домашнему отшельничеству он постепенно привыкает и доволен собой. Читает, перебирает старые письма, находясь в плену воспоминаний. Ждет новых посланий от «ангела Наташи». Посылает вести вятским друзьям. Пишет им обо всем понемногу. Быт его вполне устроен. Квартира у Золотых ворот «довольно велика и удобна; но нечиста до бесконечности». Еда нейдет в горло, хоть отменную провизию доставляют из дома. Тут уж всякой всячины не перечислить. Головная боль продолжается. («Сильные приливы» и в дальнейшем будут мучить Герцена.) Это мартовское письмо к «подснежным друзьям» полно воспоминаний: «Пожалуйста, подробней пишите — и дым Вятки Герцену сладок и приятен, извините, что не сказал отечества, отечество мое — Москва».
Начиная с приезда во Владимир, в свободное время он пересматривает и вновь оценивает свои прошлые сочинения. Как всегда, обсуждает их с Наташей. Сколько рукописей, книг ей послано, сколько советов дано. «Заочное» образование, bella scolara, прекрасной ученицы с таким учителем, несомненно, продвинулось, кругозор ее расширился, перо окрепло. Круг ее чтения определен, готовится полный план ее занятий: здесь первое место отведено «поэзии (религия с ней неразрывна)» и, понятно, преобладает Шиллер. Потом «история — это поэма, сочиняемая Богом», и напоследок романы.
Она получит труды Александра «К „Симпатии“» (статья о Полине Тромпетер) и «I Maestri», предназначенные для задуманного им автобиографического цикла[38]. Само слово «симпатия» приобретает в герценовском кругу 1830-х годов особый, философский смысл: оттеняет духовное родство, взаимное притяжение. И Герцен, со своей стороны, тоже ощущает на себе это особое к нему внимание.
Статью «I Maestri», отражающую значительный опыт, им высоко ценимый, где годы 1833, 1835, 1837-й отмечены важными встречами с поэтом И. И. Дмитриевым, A. Л. Витбергом и В. А. Жуковским, читают Жуковскому при большом стечении гостей на вечере в московском салоне Е. Г. Левашовой. Экземпляр речи при открытии Публичной библиотеки в Вятке «вымаливают» люди и вовсе посторонние, с симпатией вспоминающие о пребывании ссыльного в их родном городе. Так, во всяком случае, рассказывает сыну Луиза Ивановна.
Конечно, Герцен понимает, что Натали чересчур пристрастна даже к его творчеству: «Каким же образом ты воображаешь, что мои статьи могут сделать влияние… — по этим статьям, как по предисловию, могут заключить, что из писавшего что-нибудь выйдет, не более». Весь мир не может на него смотреть ее глазами: «Мир и люди смотрят не на душу», а на талант.
Прошлые литературные опыты подвергаются им обструкции. О «Германском путешественнике» замечает, что «статья имеет большую важность как начальный признак перелома». Ну а «Легенда», которой прежде был так воодушевлен, вовсе не может «взойти в биографию». Аллегория «Неаполь и Везувий» — просто «вздор»: «Вообще я писал аллегории тогда, когда дурно писал». Как истинный талант, он не перестает сомневаться: может следует всё сжечь…
Есть и достижения. По просьбе Наташи он пополняет свою биографию все новыми эпизодами. Продолжает писать «О себе». Призывает и милую невесту взяться за свою историю, восхищаясь ее талантом.
Герцен доволен, что закончил свою «архитектурную мечту» — «Кристаллизацию человечества»: «…эта статья, сверх нового взгляда на зодчество, важна потому, что я основными мыслями ее потряс кого же? — Витберга… я глубже проник в историческую структуру его искусства. Статья эта ему и посвящена». Считает, что «Кристаллизация» — «бесспорно, лучшее», что выходило из-под его пера.
Значительный труд, сохранившийся лишь в трех небольших фрагментах («У египтян более гордости…»; «…есть высшая историческая необходимость…»; «…говорить о домах под лаком в Голландии…»), — результат серьезных занятий архитектурой под влиянием долгих бесед с Витбергом. Да и как понять архитектора, его грандиозный замысел (храм Христа Спасителя) и так блистательно изложить его в «Былом и думах» без профессионального, последовательного знакомства с началами архитектурной науки.
Размышления о создании связной автобиографии постоянно занимают его, добавляя в копилку мемуариста все новые опыты собственной судьбы.
Глава 16
«БУДТО МОЖНО РАССКАЗЫВАТЬ СЧАСТЬЕ?»
Дополните сами, чего недостает, догадайтесь сердцем…
А. И. Герцен. Былое и думы
Развязка истории приближалась. Середина апреля на дворе. Герцен, воспользовавшись чужим паспортом, снова наведывался в Первопрестольную. Строил планы встреч. В Загорье? В Царицыне? На пути из Владимира, в девяти верстах от Москвы, у Перова трактира? Одной Наташе во Владимир ни в коем случае не следует ехать. А может быть, стоит? Необходимо все тщательно подготовить. Собрать для венчания бумаги, что оказывается вовсе не просто. Метрическое свидетельство Наташи — у княгини. Нельзя достать в Консистории новое, — пробовать в церкви Иоанна Богослова, где ее крестили. Все средства хороши. Занять побольше денег. Купить на Кузнецком Мосту подвенечное платье, простое, но изящное и воздушное. Накупить всякого «дамского снадобья». Самому подготовить подарки. Готовить два: «…это цветы, и другой — не скажу». Если за деньги не удастся обвенчать, «последнее средство — ехать в Шую» (?!). «Нет, не совсем решено». Фантазия разгулялась. Последние наставления Кетчеру. При первой возможности, как только свидетельство в руках, — послать за шафером и скакать им вместе с Наташей во Владимир, вызволив ее из дома княгини. В скверную погоду — поберечься (это приказ!) — известное дело, не приучишься к нашим дорогам.
План похищения невесты?.. Романтическое приключение?.. Да, это у Яковлевых в крови. Как тут не вспомнить Ивана Алексеевича, бежавшего через границу с юной Луизой, будущей матерью Александра, да еще переодетой в мужское платье… Обстоятельства и характеры, конечно, разные. Но каковы одержимость, бесстрашие…
У Герцена зреет очередной план: всего лучше прислать свидетельство во Владимир (неужели целым «синклитом» друзей невозможно его достать?) и ждать его самого в Москве. Если друг Сазонов не достанет коляски, то он непременно наймет карету.
Может быть, славная жена его университетского приятеля Николая Астракова, Татьяна Алексеевна (с которой только познакомился), удостоверит рукописной запиской («почти равносильной свящ[енниковой]»), что на попечении ее живет девица Захарьина? Друзья с Плющихи, уж верно, не оставят. Не подведут. Предоставят свой дом для переезда Наташи. Татьяна Алексеевна тихо скажет княгине: «Я приехала за Натальей Александровной». Княгиня Хованская ей откажет, а старик Яковлев попросит сына не делать «неосторожностей».
В конце апреля, кажется, все готово для венчания. Но дело не слаживается, и Герцен подгоняет себя: «Вперед!» Искать средства обойтись без свидетельства. Парфений, архиепископ Владимирский и Суздальский, разрешить не может, но «сквозь пальцы будет смотреть». Необходимо свидетельство от крестившего. Деньги обещаны, но Сазонов что-то не торопится.
Герцен взывает к друзьям: «Клянусь, я гибну и задыхаюсь; ежели сколько-нибудь вам дорог друг Герцен — теперь пособите».
В ночь на 1 мая Матвей скачет в Москву. Герцен уверен, что «через сутки всё начнет действовать». Он в нетерпении, страдает и волнуется. Его «опьянение продолжается». Он «не может ясно и чисто связать две мысли». «Полтора месяца неусыпных трудов». И опять осечка. Священник отказался.
Шестого мая, в пятницу, Герцен, заканчивая письмо Наташе, наконец подводит черту: «Конец переписке». Наступает пора не писать, а говорить. И в тот же день Наталья Александровна чувствует то же: «Может быть, этот листок заключенье нашей жизни в письмах».
Начинается жизнь реальная, жизнь вдвоем. И читатель, «догадавшийся сердцем», вновь открывает «Былое и думы».
Седьмого мая Герцен тайно едет в Москву, за Натальей Александровной. На следующий день он с «лихорадочным беспокойством» уже ждет Кетчера у друзей Астраковых. Недолгая дорога с Плющихи на Поварскую: Кетчер с Наташей отправляются за Рогожскую Заставу, где с коляской должен ждать Матвей. Николай Астраков возвращается домой, чтобы подтвердить нетерпеливому жениху — похищение удалось. Ожидать «полицейской погони со стороны княгини»?.. Вряд ли. Она просто «из спеси не замешает квартального в семейное дело», — уверен Герцен.
Восьмое мая — день особенный в герценовской судьбе. Он спешит к Перову трактиру на условленное место и находит Наташу с Николаем Христофоровичем.
Так случилось. Они вновь встретились на кладбище. Опять все приметы романтической истории… Прошло ни много ни мало — почти четыре года с того дня на Ваганькове, когда «юная утешительница» поддержала Александра в «самую черную эпоху» его жизни, после ареста Ника. Есть линия их общей судьбы. Она вновь делала свою отметку. Провидение вело.
Девятого мая поздно вечером они повенчаны протоиереем Иоанном Остроумовым[39] в маленькой церкви Ямской слободы, что в трех верстах от «Богом хранимого» города Владимира.
Глава 17
БЕЗМЯТЕЖНЫЙ ПРИЮТ «ВЕНЧАЛЬНОГО ГОРОДКА»
…Жизни май цветет один раз и не больше.
Ф. Шиллер
Поселились молодые в маленькой квартире из трех комнат у Золотых ворот в самом сердце Владимира. «Весть о таинственном браке разнеслась по городу». Многие проявляли участие и интерес к столь необычной красивой столичной паре. Друзья поздравляли. Жена губернатора Куруты, Юлия Федоровна, давно привечавшая ссыльного, прислала новобрачным цветы. Они и сами нанесли ей визит. Посетили святейшего архиерея Парфения, столь участливо отнесшегося к молодым.
В тот же день, 10 мая, Герцен решился писать к отцу, чтобы просить его благословения. Раз уж святое дело свершилось, старик смягчился и объявил сыну «полное прошение». В доказательство «амнистии» приложил даже некое денежное вспомоществование в государственных ассигнациях.
Всем друзьям, московским и вятским, разосланы письма-отчеты, благодарности за счастливый исход судьбы. «…Поневоле рвется слово спасибное», — пишет он Николаю Астракову. Далее продолжает: «Что о себе сказать — я счастлив, это дело решенное и известное. Но вот что для меня ново. Гармоническое, стройное бытие мое теперь разливает во мне какую-то новую силу, аминь минутам убийственного desperatio[40], аминь ломанью тела душою. Имея залог от провидения, совершив все земное — является мысль крепкая о деятельности, скажу откровенно — я ее не ждал».
Правда, пока это только совместное семейное чтение (просьб о присылке новых книг и журналов — множество) да некоторые намерения и планы Александра, которые он не устает обсуждать с друзьями. Хочет изучить арабский язык, потому что думает отправиться на Восток: «Велик Восток, но мы его не знаем». «Мы европейцы слишком надеемся на свое, а Восток может дать много. Страна мысли почившей, фанатизма, поэзии, неужели не даст еще раз своей лепты в дело европейское, которому она дала много…» — рассуждает он в письме математику-интеллектуалу Астракову.
Круг его интересов по-прежнему широк. Вот прочитана недавно вышедшая книга французского историка А. Токвиля «О демократии в Америке» (1835), утверждающая, что «две страны несут в себе будущее: Америка и Россия». Он усомнился в приоритетах: «Но где же в Америке начало будущего развития? Страна холодная, расчетливая. А будущее России необъятно — о, я верую в ее прогрессивность». (В дальнейшем, когда будет решаться вопрос о его натурализации, он назовет далекую Америку «страной забвения», даже будучи точно уверен, что не может когда-либо там обосноваться.)
У Герцена — новая роль женатого человека, и он в бесконечной эйфории: хлопоты, «кейф». Как полагается молодым и счастливым, он дурачится, веселится и просто наслаждается одиночеством вдвоем. «Наташа — поэт безумный, неземной, в ней все необыкновенно», — восторгается Герцен женой. Но внешне она не столь оживлена, еще «дика», не произносит имя Бога всуе и «не любит смех». К тому же, увы, здоровье ее слабое: «Моя жена из papier mâché, раза три была больна, чуть ветер дунет — простудилась». И это обеспокоенный муж пишет друзьям (Астраковым) через два с небольшим месяца после женитьбы. «Порядок» в доме, по наблюдению Александра Ивановича, вовсе «не торжествует»[41]. Особой хозяйственности у молодых супругов не замечается, хотя архиерею Парфению на заданный им вопрос о важности умения солить огурцы Наташа отвечала положительно.
Новая жизнь с ощущением бесконечного счастья представлялась беззаботной и одновременно серьезной. И казалось, так будет всегда.
Время словно замерло. Гармония, спокойствие, блаженство… Тут и слово «рай» вполне уместно. Тишина семейной жизни поглотила их целиком. Не надо было стремиться вперед и вперед, чтобы достигнуть друг друга. Счастье, известно, не наблюдает часов. Счастье, как не нами сказано, плохо поддается описанию. Неслучайно, что владимирская глава герценовских мемуаров, распадающаяся на два самостоятельных фрагмента, не столь длинна и наполнена ассоциативными воспоминаниями совсем о другой жизни, без неё.
Сильно огорчало и даже удивляло молчание Огарева, безвыездно пребывающего в имениях отца с молодой женой. Ни слова, ни строчки, ни отклика, даже на их с Наташей женитьбу. Наконец, доходят известия: едут. Мария Львовна скоро будет в Москве, и дорога приведет их во Владимир. В герценовском дневнике появится запись: «Одного недоставало для полного блаженства — Николая, и с ним свиданье было в марте. Он пробыл у нас с Марией 15, 16, 17, 18. 19-го я проводил его».
Александр в восхищении от приезжих, сообщает тут же Николаю и Татьяне Астраковым: «Друзья, мы бесконечно счастливы! Нас четверо — и что это за женщина Мария Львовна — она выше всякой похвалы. Ник счастлив, что нашел такую подругу. У меня сохранилось распятие, которое дал мне Ник при разлуке. И вот мы вчетвером бросились на колени перед божественным страдальцем, молились, благодарили его за то счастие, которое он ниспослал нам после стольких лет страданий и разлуки. Мы целовали его пригвожденные ноги, целовались сами, говоря: „Христос Воскрес!“». Вся эта выспренняя сцена, о которой Герцен вспомнит потом в «Былом и думах» как о примете восторженной юности, «мистического настроения» и времени его всепоглощающей любви ко всем на свете, после иного развития событий в супружеском тандеме — Ник — Мария, уже не будет выглядеть столь торжественно-сентиментально, как в том письме.
Через 15 лет, постфактум, Герцен-мемуарист гораздо более сдержан в описании «святого свиданья», подмечает даже то, что прежде не хотелось заметить в тщеславной супруге Ника: ее удивление происходящим, ее трезвость в «этом упоении» дружбой и — ни единой слезинки, как у остальных троих. Он думал тогда, «что это — retenue[42]», но Мария ему как-то потом призналась: сцена ей показалась слишком «натянутой и детской».
Взглянув с симпатией и преувеличенным восхищением на жену друга, он вынужден будет в дальнейшем жестоко разочароваться. Противоположность вкусов, характеров, интересов, ее пристрастие к мишуре и богатству не могли не принести Нику множество бед. Он любил и страдал. Общие друзья сразу ее раскусили: чужая всем. Герцена она не только боялась, но и ненавидела. «Завистливая ревность» вела ее к странному желанию. «Во мне, — писал Герцен, — она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх — дружба или любовь, как будто им нужно было брать верх». Четыре дня вместе с другом, которого не видел четыре года… Чего же еще было желать? Оставалось только одно — ждать разрешения главного: Наташа была беременна.
Еще зимой 1838 года эта счастливая тайна открылась. И новость о скором появлении на свет нового члена их семьи прибавила ощущение нового счастья. Герцен сохранил в памяти это свое, еще неизведанное дотоле, чувство будущего отцовства. А между тем нечаянная радость раскрыла совсем иные глубины души, породила упования и надежды, неизбежные опасения и тревоги за будущего младенца: «Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей».
День рождения первенца приближался, и всё свершилось в назначенный срок. 13 июня 1839 года, 12 часов утра. На свет появился мальчик, новый Шушка — Александр Герцен II. Место рождения — город Владимир, светлая точка в их судьбе.
Очень помогла роженице добрая Прасковья Андреевна Эрн, предусмотрительно присланная Иваном Алексеевичем для решения проблем своих непрактичных детей. Роды прошли удачно. Счастливый отец, удивленный чудом такого божественного явления на свет, хотел было взять младенца с подушки, но не смог. Руки его дрожали.
Всё — вынесенная борьба, счастье родительницы, благорастворение матери в своем создании — в дальнейшем переносило его воспоминанием к знаменитым художественным шедеврам. Представлялась мадонна Ван Дейка, образы Сикстинской капеллы.
Как же отметился Герцен в этой своей новой роли отца семейства? О его непрактичности в молодые годы потом с улыбкой расскажет мемуаристка: встретит его на Невском проспекте вынимающим из кармана вместо носового платка раскроенные детские распашонки, по рассеянности захваченные из дома.
Герцен-отец останется на прекрасном портрете. Редком, неожиданном, мемориальном. Часто ли встретите в истории живописи образ молодого мужчины с ребенком на руках? Хотелось бы, чтобы портрет написал Витберг, когда судьба вновь свела старых друзей в Петербурге. Уж слишком в манере художника он сделан. Но, увы. Пока не случилось авторство доказать[43].
Герцен на портрете — очень домашний. Еще очень красивый. Высокий лоб, слегка волнистые темно-русые волосы, ясные серые глаза. Отороченный мехом бешмет (дань восточной моде) накинут поверх белой рубашки с краснеющим пятном галстука. Будто в последнюю минуту перед выходом из дома ему вдруг страстно захотелось взять на руки своего Шушку. И тот, в длинной рубашонке с высоким гофрированным воротничком, наподобие испанского, крошечной ручкой уцепился за руку отца. Художник точно уловил момент единения двух родственных созданий.
Герцен понимал, что судьба младенца зависит теперь от него и что на отца возложено святое дело — вырастить человека. «Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитать одного ребенка». Каким он будет? В волнении «от огромности дела отцовского», стоя на коленях и молясь, он повторял: «Господи, помоги нам исполнить великое дело воспитания, помоги поставить его на путь правдивый (хотя бы с этим и были сопряжены тяжкие несчастия земной жизни)!»
Мысль об ответственности за детей, необходимость «таланта терпеливой любви» заставят Герцена создать для себя свой, очень разносторонний кодекс воспитания, которым будет руководствоваться всегда, но, увы, как увидим в дальнейшем, его грандиозные усилия полностью не оправдаются.
Жизнь за речкой Лыбедью, в прекрасной, удобной квартире, куда молодые после долгих поисков переехали еще в сентябре 1838 года, оставляла надежду, что «май» их счастливого бытия скоро не пройдет. Безмятежный приют «венчального городка» казался им вечным, хотя увезти его с собой из Владимира они не смогли.
Глава 18
ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ С ВЛАДИМИРОМ
Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну…
А. И. Герцен. Былое и думы
Надежды на скорое возвращение в Москву заставляли Герцена действовать. Губернатор Курута, добрый друг герценовской семьи (его супруга — крестная мать первенца), прежде, следуя незыблемым должностным инструкциям, регулярно сообщавший куда следует о наблюдении за поведением поднадзорного («ведет себя хорошо», «весьма хорош»), теперь бомбардировал вышестоящие власти ходатайствами о полном прошении подчиненного. Обратился к министру внутренних дел графу А. Г. Строганову. Тот, в свою очередь, испросил разрешения у А. X. Бенкендорфа. 16 июля 1839 года — свершилось. Царь собственноручно начертал резолюцию: «Согласен». Но «привет» из столицы дошел до ссыльного только 26 июля: «Свободен».
1839 год развивал охоту к перемене мест (Москва — Владимир — Москва — Владимир — Москва — Петербург — Москва — Владимир…) — и всё для того, чтобы наконец обосноваться в Москве безнадзорным, полностью свободным гражданином. Но история обретения воли всегда не проста. Отец настаивал: служить и продвигаться в чинах, хотя сам Герцен уже давно сделал свой выбор. Его нижний чин титулярного советника заставил Яковлева на редкость быстро и умело действовать, чтобы продвинуть сына по чиновничьей лестнице. Богатства и связей в высшем свете и правительственных кругах старому аристократу не занимать. Вот и пленнику семьи не оставалось ничего, как подчиниться воле отца, хотя бы в этом его желании. Тем более что владимирский губернатор уже вышел с представлением Герцена к чину коллежского асессора. Да и финансовые соображения при разросшейся семье были немаловажны. Следовало ехать в Петербург и начинать необходимые хлопоты. Но прежде — в Москву, хоть на несколько дней.
Владимир не отпускал вплоть до последней декады марта 1840 года. И. Э. Курута ходатайствовал об определении способного и достойного подчиненного на должность чиновника особых поручений, и Герцен, возвратившись во Владимир за семьей, в Москве обосновался совсем ненадолго. С 23 августа до 1 октября 1839-го обустроился в своем любимом Приарбатье, в Гагаринском переулке (в доме княгини Гагариной), что в двух шагах от родителей. Пока еще не огляделся, не пришел в себя, «не понимал себя в Москве». Писал супруге губернатора, Юлии Федоровне Курута, бесконечно волновавшейся за трудный переезд Герценов в старую столицу: «…Слишком много и чувств, и воспоминаний, и мыслей, и знакомых улиц, и пыли, и колокольного звона, и новостей — и все это в ужасном беспорядке сыплется на голову… Впрочем, дурное впечатление пройдет, большие города — это большие поэмы, надобно вчитаться, чтоб постигнуть поэзию Данта, так и Москва — поэма немного водянистая… с пробелами, но лишь только приживешься, поймешь поэму в 40 квадратных верст».
Вжиться в Москву недолго. В старой столице есть чем заняться, есть что посмотреть и с кем повидаться. Вот и бросается он во все тяжкие. После тихой владимирской заводи Наташа, часто остававшаяся с Шушкой одна, вынуждена была привыкнуть к «социабельному» существованию мужа и разделить его с друзьями и знакомыми, среди которых — немало новых. Здесь литераторы Иван Галахов и Василий Боткин, здесь и непревзойденный мастер сцены Михаил Семенович Щепкин. С ними Герцен сблизится в начале 1840-х, когда окончательно осядет в Москве.
Главное событие — приезд Огарева. Нежданно-негаданно явился он где-то в середине сентября 1839-го, «и Москва расцвела». Ник, как всегда, своим необъяснимым «симпатическим влиянием», своей кротостью и совестливостью завораживал окружающих. Герцен, даже в ущерб себе, всегда признавал преимущества друга, высокую бескорыстную чистоту его устремлений. Хотя от критики не удерживался: «Слабость характера и лень — вот тифон твоей души, это наказание тебе за твои чудные достоинства».
В московский круг знакомых, помимо старых друзей — Кетчера и Сатина, все еще бывших возле Огарева, теперь вошли новые люди. Кометой ворвался в жизнь Герцена Виссарион Белинский. И тут уж спорам не было конца.
Проштудировав Гегеля, что было непременной модой у всех молодых интеллектуалов 1830-х, переведя на русскую почву его философемы (и тут уж заслуга Московского университета), никто не смел признаться, что не знает немецкого философа-диалектика и хотя бы не перелистал его «Феноменологию духа» или «Логику». Белинский был не из тех. Взявшись за дело со всей основательностью и страстностью критика, готового подорвать все заржавевшие устои литературно-философского мира, он глубже всех среди русских освоил Гегелево учение.
Герцен не раз потом вспоминал эти феноменальные интересы и занятия когорты интеллектуалов в глухие годы николаевского застоя, когда перед ним предстала новая Москва. Казалось бы, ничего не сделав, они совершили неизмеримо много для развития русской общественной мысли.
«Друзья Станкевича были на первом плане, — писал Герцен в „Былом и думах“, — Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.
Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны.
<…> Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.
Станкевич, тоже один из праздных людей, ничего не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский».
В университетские годы из-за разницы направлений — абстрактно-философского и заостренно-политического, кружки Станкевича и Герцена, как помним, не слишком идейно ладили, да и симпатии между ними не наблюдалось. Теперь предстояло эту стену разрушить, что было не просто.
Личное знакомство Герцена с Виссарионом Белинским произошло в конце лета — начале осени 1839 года, незадолго до возвращения герценовского семейства во Владимир (30 сентября). Вериги службы не были с него сняты: он чиновник особых поручений при владимирском гражданском губернаторе. Тогда Герцену не удалось вволю поспорить с Белинским, тоже уехавшим из Москвы. Суть расхождений была слишком значительной и очевидной, чтобы все решать на ходу. К тому же время и новые публикации критика в «Отечественных записках» давали повод для продолжения резкой полемики и вызывали серьезные размышления о поколении.
Герцен писал в середине ноября 1839 года Огареву, настоятельно советовавшему ему познакомиться ближе с философией Гегеля: «Ни я, ни ты, ни Сатин, ни Кетчер, ни Сазонов… не достигли совершеннолетия, мы вечно юные, не достигли того гармонического развития, тех верований и убеждений, в которых бы мы могли основаться на всю жизнь и которые бы осталось развивать, доказывать, проповедовать. <…> Сколько раз, например, я и ты шатались между мистицизмом и философией, между артистическим, ученым, политическим, не знаю каким, призванием. <…> Грех нам схоронить талант, грех не отдать в рост, иначе мы ничего не сделаем, а можем сделать, право, можем. <…> Подумай об этом и пойдем в школьники опять, я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля, я многое еще хочу уяснить во взгляде моем и имею залоги, что это не останется без успеха. <…> Кончились тюрьмою годы ученья, кончились с ссылкой годы искуса, пора наступить времени Науки в высшем смысле и действования практического. Между прочим меня повело на эти мысли письмо Белинского к Сатину (с которым я, однако, не вовсе согласен, Белинский до односторонности многосторонен)…»
Суть вопроса в спорах сторон заключалась в тезисе Гегеля, выхваченном из его трудов: «Все действительное разумно».
Герцен объяснил, что эта философская, «дурно понятая фраза Гегеля», наделавшая всего больше вреда и на которой «немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии… сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла:
„Нет власти, как от Бога“». Все сводилось к непротивлению, «к признанию предержащих властей», а человеку оставалось одно — сидеть пассивно, «сложа руки».
Белинский «проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы».
Герцен парировал: «Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?
— Без всякого сомнения, — отвечал Белинский и прочел мне „Бородинскую годовщину“ Пушкина.
Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. <…> Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал „Бородинской годовщиной“».
Восторженный отзыв Белинского о стихотворении Пушкина и других его «патриотических» стихах в подтверждение своему ложному тезису о необходимости примирения с действительностью (временное заблуждение вскоре будет ясно и самому критику) вызвал резкое неприятие Герцена. Несмотря на безоговорочное преклонение перед памятью поэта, он не мог согласиться с его трактовкой событий вокруг Польского восстания 1831 года, подхваченной тогда большинством общества.
Встреча и спор Герцена с Белинским в Петербурге между 18 и 23 декабря 1839 года лишь усилили и обострили непримиримость противников. «Отчаянный бой» разразился с новой силой. Цикл статей критика в журнале «Отечественные записки» конца 1839-го — начала 1840 года и, в частности, «Бородинская годовщина» (1839, № 10) стали результатом этой резкой полемики.
Тридцатого декабря перемирие еще не достигнуто, хотя взгляд критика несколько «смягчился»: «Умный, добрый, прекрасный человек, но если б Бог привел больше не видеться — хорошо бы».
Некий малообъяснимый «зигзаг» в жизни отважного борца, «неистового Виссариона», пытался объяснить вдумчивый летописец «замечательного десятилетия» 1830–1840-х годов П. В. Анненков: «Есть причины полагать, что годы 1836–1837 были тяжелыми годами в жизни Белинского. Мне довольно часто случалось слышать от него потом намеки о горечи этих годов его молодости, в которые он переживал свои сердечные страдания и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни он никогда не выдавал, как бы стыдясь своих ран и ощущений. <…> Замечательно, что эти оба года, исполненные для него жгучих волнений и потрясений, были употреблены им вместе с тем еще и на занятие философией Гегеля, которая нашла особенно красноречивого проповедника в лице одного молодого отставного артиллерийского офицера, выучившегося скоро и хорошо по-немецки и вообще обладавшего способностью к быстрому усвоению языков и отвлеченных понятий». Это был Михаил Бакунин.
Белинский, находясь в плену гегелевской формулы о разумности действительности, воспринял ненадолго и трактовку ее Бакуниным, слывшим тогда номером первым «молодежи гегельской».
Знакомство Александра Ивановича с Михаилом Александровичем произошло в начале зимы, примерно между 7 и 10 декабря 1839 года, в Москве. Бакунин, страстный, одержимый, зараженный в ту пору гегелевским идеализмом, носился тогда с теорией «духа». Все, что живет, — это только проявление духа. «Дух есть абсолютное знание, абсолютная свобода, абсолютная любовь». А если жизнь — только проявление духа, то в действительной жизни нет действительного зла, а есть необходимость и разумное благо. Отсюда заключение: «Что действительно — то разумно». А разумность действительности (в случае Бакунина — русской) ведет к примирению с нею и полному отрицанию борьбы. И даже страдания в жизни необходимы «как очищение духа». Казалось, его революционный, анархистский позыв должен был увести его «в другую сторону» (что и случилось в дальнейшем), но молодость давала свои идейные сбои.
Хотя Белинский не владел иностранными языками, у него был какой-то особенный «дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них». Этот дар, поражающий в нем, заставил Герцена заметить (как свидетельствовал П. В. Анненков), «что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение». И одним из них был русский — Белинский.
«Середь этой междоусобицы», яростных споров и неуступок, Герцен решил серьезно заняться Гегелем.
«Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая „бранденбургские ворота“. Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может, с намерением, дурно формулирована». Именно в философии Гегеля Герцен усматривал средство обоснования социалистического идеала философско-рационалистическими доводами.
Осваивая Гегеля, Герцен стал лучше разбираться в заблуждениях Белинского, которые прежде него добрейший Ник, взявшись за примирение антагонистов, назовет «переходной болезнью» критика. Новое знание Гегеля сближало Герцена и с кругом Станкевича, который вскоре должен был неминуемо распасться, выпестовав таких незаурядных и непохожих личностей, как Белинский и Бакунин, Константин Аксаков и Михаил Катков, Алексей Кольцов и Тимофей Грановский. Сам 27-летний Станкевич оканчивал свои дни тягостной болезнью, скончавшись в 1840-м возле итальянского озера Комо.
И все же первым, кому удалось преодолеть столь важное для сотрудничества и дружества идеологическое недопонимание двух противоположных станов, был Грановский.
Когда они встретились с Герценом? Кажется, это было где-то в декабре 1839 года. Перед спешным отъездом Герцена во Владимир. Первое свидание было мимолетным, но не оставляло сомнений, что этот человек будет ему бесконечно близок. Герцена поразил его благородный облик: изящество этой личности, его задумчивая наружность — печальные глаза с насупившимися бровями, грустно-добродушная улыбка. «…Он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский пальто (так!) с бархатными отворотами и суконными застежками». В ту пору Грановский только что воротился из Берлина, где почти три года готовился к профессорской деятельности, чтобы занять кафедру в Московском университете.
Москва порадовала Герцена буйством интеллектуальной жизни и свободных дружеских дискуссий, Владимир держал службой, семейным приютом. Но пора Александру Ивановичу отправляться в Петербург. Отец упорен, да и должность по канцелярии Министерства внутренних дел, определенная графом Строгановым, вполне подходящая для настойчивого желания Ивана Алексеевича.
Итак, многократно повторяемый путь из Владимира в древнюю столицу, а оттуда — в невскую «резиденцию» (К. Аксаков употреблял именно это слово как дань предпочтения допетровской Москве) уставлен непременными вехами в далеко не определившейся до конца карьере Герцена. Писать или служить?
Глава 19
СВИДАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ
Н. П. Огарев. Юмор
- …Куда-то кажет вдаль рукою
- С коня могучий великан…
Одиннадцатого декабря 1839 года в девять часов утра Герцен занял абонированное им место в дилижансе, чтобы отправиться в Петербург.
Перед отъездом, когда каждая минута на счету, предстояло уладить все дела, встретиться с друзьями, нанести необходимые визиты. Чтобы не огорчать Ника продолжением ссоры с его женой, Александр решил кончить дело миром, объясниться с Мари. Надо успокоить друга, хотя понятно, что перемирие — временное. (В конце концов, семейный союз Огаревых все же будет разорван.)
Встречи с прошлым тоже не принесли особой радости Герцену: Татьяна и Вадим Пассек не продвинулись с 1833 года «ни на шаг вперед», «лучше б ее не видеть», так она изменилась после замужества. Да и он изменился, «попавши в славянизм». «…А может, не он, а мы двинулись вперед, — записал Герцен после смерти друга, — а он остался на старом месте». Постоянные вторжения в его жизнь Медведевой, которой он не уставал помогать, укоряли напоминанием и никак не давали улечься досужим сплетням.
За два-три часа до отъезда Герцен писал жене: любит, скучает, волнуется, грустит без Сашки. Да ему просто недостает «половины бытия».
Недолгая разлука с «венчальным» Владимиром, а теперь с домашней Москвой… В блистательную столицу Герцен ехал впервые.
Не он первый миновал этот путь, не ему первому удалось собрать мысли, явившиеся в изобилии на дальней дороге: есть, известно, блестящие образцы литературных описаний подобных путешествий из Москвы в Петербург и обратно. У него взгляд, конечно, свой, особенный. И через пару лет он обобщит все эти наблюдения в сатирических очерках-фельетонах «Москва и Петербург», «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме», которые в списках — раз цензурой не допущены — пойдут по рукам.
Каким будет это первое свидание с великим городом?
Каким же будет его незамутненный взгляд при обозрении окрестностей двух главных российских городов?
«Когда едешь из Москвы в Петербург, сначала по дороге деревни напоминают близость к сердцу государства; Тверь — дальний квартал Москвы, и притом хороший квартал, Тверь на Волге и на шоссе, город с будущностью, с карьерой. Но в Новгородской губернии путника обдает тоской и ужасом; это предисловие к Петербургу: другая земля, другая природа, бесплодные пажити, болоты с болезненными испарениями, бедные деревни, бедные города, голодные жители, и что шаг — становится страшнее, сердце сжимается; тут природа с величайшим усилием, как сказал Грибоедов, производит одни веники… Так вы достигаете Новгорода. От Новгорода начинаются стеариновые свечи, гвардейские и всяческие солдаты — видно, что Петербург близко. Остальные 180 верст — тот же пустырь ужасный, отвратительный, посыпанный кое-где солдатами. До Ижор, до Померанья можете присягнуть, что остается верст 1000 до большого города. И в углу этой-то неблагодатной полосы земли на трясине между двух вод — Петербург, Петербург блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире».
Герцен предвкушал щедрость впечатлений, еще толком не увидев новую столицу; писал Наташе 14 декабря 1839 года, едва вступив на петербургскую землю: «Петербург будет для меня великой поэмой, которую я стану читать три недели». Он ее и «читал» как турист, но вооруженный огромным знанием, пропущенным через собственное сердце. Первая ее страница, несомненно, открывалась обозрением Сенатской площади, с которой 14 лет назад раздался «первый крик русского освобождения». (И это для него была не только фраза, которую он повторял всю жизнь.)
На площади было темно, снежно, и «только Петр I на коне мрачно и грозно вырезывался середь ночной темноты…». Герцен вглядывался в незнакомый город. Непосредственное и нередко парадоксальное впечатление от увиденного вновь передавалось в письмах Наташе: «Хороша будет Исаакиевская церковь, чудно хорош и монумент Петра, но в нем все именно нравится, кроме Петра: какое-то натянутое, педантски академическое положение, зато лошадь и огромная масса гранита как пьедесталь великому царю, выкупают все». (Тема Петра и его творения еще встанет в творчестве Герцена во весь рост.)
Через несколько дней в перспективе Невы открылся «дивно-чудный» Зимний дворец, «поразивший своей наружностью»: «лучше я ничего не видывал даже на картинах», — отчитывался он жене, помнившей город с раннего, еще счастливого ее детства, в доме у папеньки на Английской набережной. Герцен наведался и туда, к двоюродному брату Химику, но нашел дом «разваливающимся» и «грустным».
Поход в Эрмитаж занял целый день 19 декабря: «Какой гигант должен быть тот, кто может сразу оценить, почувствовать, восхищаться 40 залами картин. Тут надобно месяц времени. Да и я вовсе не умею смотреть на галереи. Как было бы в душе твоей, если б тебе прочли „Песнь Миньоны“, главу „Онегина“, „Фауста“, куплеты Беранже, оду Шиллера и пр. за один присест. Когда я вошел в V или VI залу, я был неспособен вмешать ничего, душа была полна, и я смотрел так. Несколько картин Рафаэля — узнал ли бы я его без подписи? Из всех я узнал бы одну (заметь, это моя узость, а не художникова) — Мадонна и старик Иосиф. Чем дольше я всматривался в черты Мадонны, тем отраднее становилось в душе, слезы навертывались, какая кротость и бесконечность во взоре, какая любовь струится из него, вот так человеческое лицо есть оттиск божественного духа. И ребенок очень хорош, он как-то задумчиво улыбается Иосифу… Фламандская школа. Страсть люблю эти сцены, вырванные из клокочущей около нас жизни, это другая сторона искусства. У итальянцев идеализация тела, здесь — жизни. Ну здесь было довольно случая посмотреть на Теньера, Остада и пр. В заключение меня поразила Loggia Рафаэля, сделанная совершенно по ватиканской».
Тут уж видны художественные вкусы и предпочтения Герцена, так созвучные с его нынешним положением семьянина, где черты Мадонны, несомненно, соотносятся им с обликом Наташи.
Столица давала возможность стать и отменным театралом, посетить оперу, балет, драму и даже оперетту; насладиться искусством великого Каратыгина в «Гамлете» «необъятного» Шекспира в Александринке и воздушной грацией феи Тальони в балете «Гитана» в Большом театре.
Из гостиницы дилижансов, где Герцен обосновался в первые дни, он перебрался в самый центр, в более комфортабельный «Hôtel de Londres» (40 рублей за неделю) с прекрасным видом на Адмиралтейство. (Вообще пышность и комфортабельность в столице — чрезвычайная.) Нанес ряд визитов, приятных и не очень. Побывал у В. А. Жуковского, у К. И. Арсеньева; их расположение к ссыльному и помощь в освобождении трудно забыть. Потом был у давней приятельницы отца О. А. Жеребцовой[44], сестры графа П. А. Зубова, последнего фаворита Екатерины II, подстрекавшей некогда заговорщиков к покушению на ненавистного Павла. Старик Яковлев, ценивший острую иронию Ольги Александровны, ее несравненный ум и сильный характер, не мог забыть красоту их юношеского расцвета, когда англезы воодушевляюще танцевались на паркетах у самой императрицы. И Герцен остался доволен и добротой постаревшей красавицы, и приветливостью к нему, такому интересному сыну Ивана, да еще «хорошо понимающему вещи»: с таким неплохо и потолковать.
Побывал Александр у всех родственников Наташи, живших в Петербурге. В семье ее сестры Анны Александровны, жены художника Пимена Орлова, приняли его «как брата» и настоятельно советовали переехать к ним.
Особенно занимала Герцена моральная атмосфера города, ведь им с Наташей и Шушкой вскоре предстояло здесь поселиться. Отец предупреждал: не доверяться никому, даже знакомым, кому обращены его письма, — резиденция наполнена наушниками. Двоюродный братец, Сергей Львович Львов-Левицкий (незаконный сын Сенатора), шарахался от политического разговора как черт от ладана, едва Герцен, заявившись к нему прямо с Сенатской, завел речь о «битве 14 декабря». Доносительство, доносительство повсюду. Осторожность, осторожность в разговорах, везде глаза и уши, все в связи с полицией: истопники, цирюльники, кухарки.
«Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармов?» — не унимался Герцен. «Смейтесь, смейтесь, вы скорее другого попадетесь… за вами десять нянь приставят», — парировал напуганный родственник, и слова Сергея Львовича оказались на редкость провидческими.
Вряд ли вырвавшийся на свободу Герцен способен был внять предостережениям посторонних. Не помогал даже собственный опыт ссыльного.
«Петербург блестящий, удивительный, один из самых красивых городов в мире», — не уставал повторять Герцен. Но хватило и трех недель, чтобы захотеть с ним расстаться, да еще «с чувством очень близким к ненависти». Подобное заключение вызывали и необходимые томительные встречи с чиновничьим миром. Неразрешенных дел по разным департаментам, в связи с новым его назначением, у Герцена накопилось множество. В частности, ему необходимо было посетить герольдию. Даже представляя, что подобное заведение, «какое-то паразитное место служебного повышения», не что иное, как «вертеп официально признанных воров, которых никакая ревизия, никакая реформа изменить не может», он, при всей своей опытности, приобретенной в Вятке, не мог даже предположить такого наглого размаха коррупции (если только расхожее ныне слово тогда употреблялось).
Всё было вроде бы как везде: беззастенчиво брали взятки, бесцеремонно просили «задаточку», с получением «легкой прибавочки благодарности» считали «долгом чести» исполнить искомое, а «серенькую бумажку» брали в открытую. Мздоимство почиталось доблестью, добродетелью и перстом указующим, как поступать следует каждому.
«Да что у вас за секреты?»; «Помилуйте, точно любовную записку подаете» — чиновничьи реплики, как вполне естественные и узаконенные жизнью, остались не только в допотопном канцелярском фольклоре. В повествователе давней истории узнавался очевидец.
В «Былом и думах» Герцен оставил и другую ироничную зарисовку «приятного города», где к тому же такой чертовский климат:
«Рыхлый снег валил хлопьями, мокро-холодный ветер проникал до костей, рвал шляпу и шинель. Кучер, едва видя на шаг перед собой, щурясь от снегу и наклоняя голову, кричал: „гись, гись!“ Я вспомнил совет моего отца, вспомнил родственника… и того воробья-путешественника в сказке Ж. Сан-да, который спрашивал полузамерзнувшего волка в Литве, зачем он живет в таком скверном климате. „Свобода, — отвечал волк, — заставляет забыть климат“».
Жизнь и навязанная карьера заставляли Герцена вновь разворачиваться в сторону града Петра. «…Есть фатум, который за нас избирает место жительства», — подчинялся он судьбе. Делать было нечего, «надо было перебираться в неприязненный город», меняя сложившиеся привычки. И Герцен готовился. «Метался по Петербургу», хлопотал по служебным делам о зачислении его на службу, чтобы с семьей здесь обосноваться.
К новому, 1840 году счастливо воссоединился с Шушкой и Наташей, нетерпеливо ожидавшей его во Владимире.
Четыре месяца с небольшим, в спешных сборах и в завершении возложенных на него обязанностей (выбран даже членом Попечительного о тюрьмах комитета) провел он во Владимире, чтобы теперь, уже основательно, поселиться в столице.
Владимирские друзья считали, что Герцену необходимо поприще, где бы он «мог употребить богатые свои дарования». Огарев в письме другу размышлял о сути службы и открывшейся ему карьере: «…тут важная задача вот еще в чем: постигнуть общий дух века и важнейший вопрос, заключающийся в настоящем моменте, и трудиться для него».
Наконец 22 марта 1840 года последовал приказ владимирскому губернатору от министра внутренних дел графа Строганова: г. Герцену явиться в Санкт-Петербург для прохождения новой службы.
В последней декаде марта семейство двинулось из Владимира и через день добралось до Москвы. Оставалось лишь немногим более двух недель погостить в старой столице, навестить друзей и близких, посетить святые места, попрощаться с любимым городом, чтобы 10 мая 1840 года вновь его покинуть.
Глава 20
ЕЩЕ ОДИН ГОД
Я недолго служил, всячески лынял от дела, и потому многого о службе мне рассказывать нечего.
А. И. Герцен. Былое и думы
Доехали до Петербурга благополучно, даже весело. «Сашка всю дорогу делал ладушки», — отчитывалась Наташа подруге Тане Астраковой. Поселились в гостинице, а попросту, в трактире Демута, на Мойке, близ Полицейского моста, вполне обустроенном, бойком, но не дешевом месте для путешествующих. Через неделю перебрались к сестре Натальи Александровны — Анне и прожили в семье Орловых до начала июня.
Петербург — хорош — нехорош, у него всегда две стороны, две изнанки, и Наталья Александровна, и Александр Иванович сразу же подмечают эту его особенность в письмах друзьям.
Все они куда-то «рассеялись»: от Огарева давно нет известий, Кетчер — «неизменный столб Москвы», Сатин пребывает в Тамбове. Бакунин в июне отъезжает, и Герцен прощается с ним на палубе парохода, едва избежавшего балтийской бури. (Бакунин, оказывается, суеверен и не хочет сойти на берег с вернувшегося в порт парохода.)
Не успел Михаил Александрович познакомиться в Москве с новоявленным другом (в декабре 1839 года), как уже требовал у него денег для поездки за границу. Бакунин это делал всегда, без малейших сомнений и чрезвычайно просто, не видя различия между своим и чужим карманом. Его отзывы о встречах с Герценами в письмах сестрам из Берлина на первых порах самые восторженные: «Герцен, а особливо жена его, были моею отрадою в Петербурге; он — прекрасный, умный, благородный человек; а она — святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними». Герцен не столь очарован, позже отзовется: его «можно уважать за ум, но не любить».
(История этого дружеского союза-противоборства будет идти с мучительными перепадами, но продлится всю жизнь.)
В Петербурге — Александр Лаврентьевич Витберг, к счастью, прошен, но вновь вынужден искать справедливости. Дружеский приют и помощь, как всегда, он находит в доме Герценов. Художник, создавший в Вятке два превосходных изображения Александра Ивановича (рисунки 1835, 1836 годов), теперь берется за портрет Наташи (увы, нам неизвестный).
Постоянных адресатов у семейной четы в эту пору совсем немного: владимирская подруга и крестная мать Шушки-младшего Юлия Федоровна Куруга да милые Астраковы, «девичье-польские» друзья с Плющихи. Письма к ним восстанавливают многие приметы и бытовые подробности жизни молодой семьи.
Герцен проявляет все свои хозяйственные таланты, хлопочет «обзавестись домом», «купил графин и шесть тарелок, остается купить все остальное». Неустроенная жизнь вскоре должна измениться. Семья обретает постоянное жилище. Петербургский адрес известен в начале июня: «На углу Гороховой и Морской, дом Лерха. Квартира № 21, в бельэтаже».
Немного оглядевшись, Герцен садится за длинное письмо Ю. Ф. Курута: «Где тихий Владимир с своей скромненькой Клязьмой, с своими помороженными вишнями, — он исчез… Вместо Владимира — Петербург, город шестиэтажных домов, шестимачтовых кораблей, — мельница, в которой толкут страсти, деньги, подчас воду, но, главное, беспрестанно толкут с шумом, треском. Что сказал бы Соломон, который, спокойно сидя в Иерусалиме, находил, что там „суета суетствий и всяческая суета“?
Дом, в котором мы живем, — от души петербургский дом: во-первых, шестиэтажный, во-вторых, в нем нет секунды, когда бы не пилили бы, не звонили бы в колокольчик, не играли бы на гитаре и пр. Жильцов малым чем меньше, нежели в Ноевом ковчеге, да и состав похож, т. е. несколько человек и потом от каждого рода птиц, рыб, животных пара».
«Да что вы такие ужасы пишете», — только и может откликнуться Юлия Федоровна.
Наталья Александровна прилагает к письму мужа свою записку к подруге. Жалуется на дороговизну (квартиру, наконец, нашли за 2,5 тысячи и наняли в доле с двоюродным братом Сергеем Львовым-Львицким, Левицким), тоже сетует на неустанные хлопоты по домашнему обзаведению всяческой мебелью вплоть «до последнего стула».
Уже познакомившись с городом в первый приезд, а теперь, «вытвердив его наизусть» по причине такого рода «суетствий», Александр вполне может выступить в роли чичероне — показать жене все городские достопамятности. Но вот незадача — он изнурен, расстроен; Шушка по большей части держит Наташу дома — часто хворает, режутся зубки. Да и погода, как выражается Александр, такая «сочная», что никак не поспеешь «просушить сюртук».
Тем не менее в путеводитель по столичному граду можно было бы внести множество отметок их присутствия. Видели статуи Барклая и Кутузова у Казанского собора, о которых «наши люди» непременно скажут: «И в Петерб[урге] есть Минин и Пожарский, только стоят врозь». (Все это Герцен непременно подметит.) Посетили, конечно, домик Петра Великого в Летнем саду: дум и ассоциаций на этом месте является множество. (В Петербурге, в отличие от Москвы, где «покоятся мощи всех святых», «одни и есть мощи: это домик Петра».) Были в Эрмитаже. Любовались панорамой столицы. Наталья Александровна и здесь проявит себя незаурядным стилистом (живописен ее рассказ о прогулках с Герценом по ночному городу в письме Астраковой):
«Петербург засыпает, движенье, суета уменьшается, стук колес редеет, тише, тише… — пустеют улицы, бульвар пуст, огни исчезают… Давно закатилось солнце, небо ясно, светло, Нева спокойна, тиха, вот несколько лодок дремлют у пристани, и хозяин их дремлет, и часы бьют… первый час ночи. Мы с Александром вдвоем, давно уж бродим по берегу Невы, останавливаемся, смотрим на нее и не наглядимся. Как хороша она в своей гранитной раме, а вон там лес мачт, там вон сфинксы, маяки… на нашей стороне Зимний дворец, ты не можешь себе представить всю красоту, всю прелесть этого здания, полусвет придает ему какую-то таинственность, кажется, это обиталище духов, движущиеся огоньки телеграфа передают мысль в несколько мгновений за тысячу верст — все это вместе кажется волшебством и наполняет душу каким-то страхом».
Стоит признать: сознание продолжающегося счастья пока не покидает их. Временами жизнь кажется прекрасной, тихой, светлой и такой же уединенной, как в «венчальном» Владимире. Загородные морские прогулки, поездки в Петергоф и Кронштадт, самый вид моря вызывают новые ощущения; чувствуется «близость к Европе, которая всякий день подъезжает на пароходе по Английской набережной…».
Посещения театров стали любимой привычкой. Уж сколько всего переслушано, пересмотрено. И «Роберта-Дьявола» Джакомо Мейербера, и «Норму» Винченцо Беллини с знаменитой итальянкой — певицей Джудитой Паста, и повторно — «Гитану» в Большом театре. Александр непременно хочет показать Наташе несравненную Тальони, которую видел в первый свой приезд. А когда в середине октября приезжает В. Пассек и прежняя дружеская близость после сильного их охлаждения восстанавливается и они всякий вечер видятся, Александр призывает Вадима присоединиться к общему восхищению искусством балерины.
«Служба не слишком на горле сидит, дает-таки и вздохнуть, и почитать», — почтительно пишет Герцен Астраковой (далее следует непременная герценовская игра слов — «мудрено ли, что я вас почитаю…»).
Служба действительно шла до поры самым «обыкновенным, прескучным образом». О ней и вспомнить нечего, если не взглянуть на нее художническим глазом мемуариста, приступившего в 1854 году к этой части «Былого и дум»:
«Канцелярия министра внутренних дел относилась к канцелярии вятского губернатора как сапоги вычищенные относятся к сапогам невычищенным; та же кожа, те же подошвы, но одни в грязи, а другие под лаком. Я не видал здесь пьяных чиновников, не видал, как берут двугривенники за справку, а что-то мне казалось, что под этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живет такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка, что мой столоначальник в Вятке казался мне больше человеком, чем они. Я вспоминал, глядя на новых товарищей, как он раз, на пирушке у губернского землемера, выпивши, играл на гитаре плясовую и наконец не вытерпел, вскочил с гитарой и пустился вприсядку; ну, эти ничем не увлекутся, в них не кипит кровь, вино не вскружит им голову. <…>
Всякий раз делал я над собою усилие, входя в министерство. Начальник канцелярии К. К. фон Поль… добродетельный и лимфатический уроженец с острова Даго, наводил какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отделений озабоченно бегали с портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, действительно были завалены работой и имели перспективу умереть за теми же столами — по крайней мере просидеть без особенно счастливых обстоятельств лет двадцать. В регистратуре был чиновник, тридцать третий год записывавший исходящие бумаги и печатавший пакеты».
Герценовское «упражнение в стиле», которое он проявил на вятской «галере», выдержав свой первый экзамен «на почерк» и показав себя непревзойденным составителем всякого рода бумаг, давало особые льготы в канцелярской столице. Новый начальник поручил умелому подчиненному «составление общего отчета по министерству из частных, губернских». Герцен вспомнил, сколько справок — бессмысленных, трагических и смешных, прошло через его руки. Сколько сводных статистических таблиц озадачили своим диким абсурдом. В слегка набросанном новым начальством плане будущего отчета без труда узнавались непременные выводы: «Из рассматривания числа и характера преступлений (ни число, ни характер еще не были известны) в.в. изволите усмотреть успехи народной нравственности и усиленное действие начальства с целью оную улучшить».
Парадоксально, что «спасением» от участия в подложном отчете Герцен счел мрачные обстоятельства, которые вновь развернули его судьбу.
Так совпало. Едва был принят указ Правительствующего сената управления Министерства внутренних дел от 18 ноября 1840 года о производстве Герцена в коллежские асессоры, то есть продвижении в высший чин, как разразилась гроза.
Герцен исправно сообщал отцу всякие новости. Даже не задумавшись, описал и историю будочника, серийного убийцы-полицейского. Это письмо было перлюстрировано (и до нашего времени не дошло). В постоянной переписке с Ю. В. Курута, среди прочих светских и домашних известий, 26 ноября он рассказал о том же происшествии в центре столицы: «Теперь кричат о бенефисе Тальони, который будет на днях, на прошлой неделе кричали о том, [что] будочник у Синего моста зарезал и ограбил какого-то купца и, пойманный, повинился, что это уже шестое душегубство в этой будке»[45].
События развивались стремительно.
Пятого декабря Л. В. Дубельтом, начальником штаба корпуса жандармов и управляющим Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (читатель помнит, что учреждение «всероссийской шпионницы», сразу же после декабрьского возмущения, имело целью задушить все малейшие проявления свободомыслия), дано предписание петербургскому обер-полицмейстеру об отыскании Герцена и о доставлении его в Третье отделение.
Седьмого декабря утром «скверное дело» началось. У дома на углу Гороховой и Морской остановились сани. Через минуту встревоженный Матвей увидел квартального надзирателя, явившегося за его хозяином. На клочке бумаги значился приказ, мягко названный «приглашением». Следовало тут же отправляться по назначению, в Третье отделение, к Цепному мосту, в сопровождении (читай, под конвоем) полицейского чина.
Второе незваное вторжение в частную жизнь Герцена, спустя всего шесть лет… Дежа вю (так, кажется, нынче любят выражаться). Долгие годы не мог он забыть душераздирающую сцену первого ареста: отца, бледного и растерянного, плачущую мать. Но тогда молодой, пылкий, он не был семейным человеком. И Шушки, едва поправлявшегося после долгой болезни, и Наташи, ждущей ребенка, тогда не было с ним. Ее испуг стоил им слишком дорого: мальчик Иван родился преждевременно, 11 февраля 1841 года[46], и вскоре умер.
Неизвестность, сопровождавшая людей, входящих в адские врата бывшего дома Кочубея, где во флигеле размещалась канцелярия Третьего отделения, вновь породила страшные воспоминания и «черную тоску» (так ведь, ни за что, и погибнуть можно, думал Герцен).
Тем же утром он был допрошен чиновником особых поручений, стариком А. А. Сагтынским, а вернее, «вежливо» пожурен (плохо же он воспользовался милостью государя, возвратившего его в столицы), и не стоит ли «опять ехать в Вятку». Явная угроза, суть которой Герцену не была ясна, вызвала его диалог со стражем «светской инквизиции» (и спустя много лет им не забытый).
«Я совершенно ничего не понимаю, — сказал я, теряясь в догадках.
— Не понимаете? — это-то и плохо! Что за связи, что за занятия? Вместо того чтоб первое время показать усердие, смыть пятна, оставшиеся от юношеских заблуждений, обратить свои способности на пользу, — нет! куда! Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились. Как вас опыт не научил? Почем вы знаете, что в числе тех, кто с вами толкуют, нет всякий раз какого-нибудь мерзавца, который лучше не просит, как через минуту прийти сюда с доносом. („Я честным словом уверяю, что слово „мерзавец“ было употреблено почтенным старцем“, — комментировал Герцен сказанное.)
— Ежели вы можете мне объяснить, что все это значит, вы меня очень обяжете. Я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.
— Куда ведут?.. Хм… Ну, а скажите, слышали ли вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?
— Слышал, — отвечал я пренаивно.
— И, может, повторяли?
— Кажется, что повторял.
— С рассуждениями, я чай?
— Вероятно.
— С какими же рассуждениями? — Вот оно — наклонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, оно делает вам честь, это ваше искреннее сознание…
— Помилуйте, — сказал я, — какое тут сознание! Об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра в. д., в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?
— Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, нетерпимое законами».
В заключение этого длинного, провокационного диалога (мы бы выразились теперь проще — подставы) Сагтынский сообщил о последовавшей высочайшей резолюции о возвращении его в Вятку.
Герцен бросился домой. «Разъедающая злоба», бессилие, бесправие человека, оказавшегося в положении «пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтоб сломить решетку», — все чувства, переполнившие его при воспоминании, выплеснулись им на страницы «Былого и дум», породили слова о неоправданной, бесчеловечной системе преследований.
«И что это у них за страсть — поднять сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно пожар, трон рушится, царская фамилия гибнет, — и все это без всякой нужды! Поэзия жандармов, драматические упражнения сыщиков, роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия… опричники, стременные, гончие!»
Вечером того же 7 декабря Герцен вновь был вырван из дома и доставлен к Л. В. Дубельту, сообщившему, что завтра, в восемь часов утра, он должен быть в приемной графа А. X. Бенкендорфа «для объявления ему высочайшей воли». Взаимное знакомство оставило у Герцена массу новых впечатлений об особой, высшей жандармской касте — «жандармах — цвете учтивости»:
«Дубельт — лицо оригинальное, он наверно умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив».
Диалог Дубельта с Герценом, повторившим только то, что уже утром сообщил Сагтынскому, вывел непримиримую и легко угадываемую разницу их антагонистических воззрений. Власть (в лице Дубельта) настаивала, что подобного случая вовсе не было. «Оппозиция» (в данном случае, в лице Герцена, по мнению той же власти) сделала из распространившегося слуха «повод обвинения всей полиции».
Дубельт витийствовал о «несчастной страсти» «чернить правительство», о «пагубном примере Запада», где, к примеру, во Франции, «правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи», но «у нас управление отеческое, все делается как можно келейнее». И правительство «выбивается из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции… стращают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах».
Суть монолога Дубельта была ясна. В этом и заключалось надуманное обвинение. Да к тому же император Николай вспомнил фамилию «Герцен» и прежние его прегрешения. Отпуская Герцена до утра, бесконечно расшаркиваясь, извиняясь за причинение полицией неудобств, Дубельт не преминул сообщить, что последует высочайшая воля — отправиться обратно в Вятку. Однако, зная о лестном отзыве Жуковского и об особых семейных обстоятельствах провинившегося, впрочем, вполне хорошо зарекомендовавшего себя по службе, он бы посоветовал обратиться к графу Бенкендорфу, «человеку ангельской доброты», чтобы заменить Вятку другим городом.
В восемь утра 8 декабря 1840 года Герцен уже ожидал решения своей участи в приемной зале главного начальника Третьего отделения.
Атмосфера Тайной канцелярии, сжатый страх, поселившийся в ней и готовый вот-вот материализоваться в жуткое решение участи каждого присутствовавшего в зале (будь то вызванный для объяснения своих провинностей или наскоро зашедший проситель), и через много лет не могли изгладиться из памяти Герцена. Звуки, оттенки человеческих ощущений, вольное и невольное поведение присутствовавших при церемониальной встрече главного начальственного лица, выпукло очерченные портреты власти — все сконцентрировалось в этом впечатлении.
Герцен пристально наблюдал это торжественное представление. Сначала появился на мгновение Дубельт, «расстегнутый, по-домашнему», обнадеживший Герцена, что «дело идет превосходно». Потом возник «какой-то генерал, вычищенный, убранный, затянутый, вытянутый», «образцовый генерал» (которого хоть на выставку посылай, «если когда-нибудь в Лондоне будет выставка генералов»), и замер у двери, откуда должен был выйти Бенкендорф. При генерале обнаружился, «вероятно, его адъютант, тончайший корнет в мире, с неслыханно длинными ногами, белокурый, с крошечным, беличьим лицом и с тем добродушным выражением, которое часто остается у матушкиных сынков, никогда ничему не учившихся или по крайней мере не выучившихся. Эта жимолость в мундире (подобное сравнение Герцена грех не привести. — И. Ж.) стояла в почтительном отдалении от образцового генерала». Впрочем, к делу Герцена они не имели никакого касательства.
Снова «влетел» приосанившийся Дубельт. Наконец дверь широко отворилась и появился Бенкендорф. Герцен написал и этот портрет начальника «страшной полиции, стоящей вне закона и над законом».
«Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим».
Его речь состояла в том же предъявленном Герцену обвинении «о распространении вредных слухов для правительства», в объявлении высочайшего решения о новой ссылке в Вятку и милостивом его изменении — определения места нового жительства по назначению министра внутренних дел.
Тем же днем, 8 декабря, явившись в страшном волнении домой и не видя иного выхода, как последовать совету Дубельта (ясно — Москва ему не светила), Герцен принялся за письмо Бенкендорфу, вполне верноподданническое послание к «сиятельнейшему графу», написанное по всем законам тогдашнего государственно-канцелярского политеса. Нижайшая просьба о его посредничестве перед милосердым государем состояла в монаршем дозволении ехать Герцену на службу в Москву, — в частности, по причине, что «перевод во всякий другой город убьет» его отца, старика 73 лет[47].
Отправив «такое письмо», чтобы сразу же не раздумать о его посылке, Герцен почувствовал себя «запятнанным». Позже в дневнике, 8 апреля 1842 года, размышляя о возможности подобных обращений к власти (теперь писал Дубельту об отставке), он вынес себе более жесткий приговор: «Написавши такое письмо, я всякий раз делаюсь болен, — усталь, дрожь, бессилие и волнение. Вероятно, это то самое чувство, которое испытывают публичные женщины, первые раза продавая себя за деньги — хотя защищаясь нуждой etc. Полного отпущения сознательному греху нет».
Директор канцелярии фон Поль был обескуражен известием подчиненного, когда тот к нему явился после посещения Третьего отделения, и для окончательного решения вопроса отправился к министру.
Граф Строганов, уже осведомленный о высочайшем повелении, позвал и расспросил Герцена, а поскольку между двумя карательными ведомствами — вверенным Строганову министерством и тайной полицией существовала явная вражда, министр, и в дальнейшем покровительствующий талантливому подчиненному, сделал для него всевозможные послабления. Не только спросил, куда он желает отправиться, согласившись с предложенным Герценом Новгородом (возможно, исторические воспоминания о традиции новгородской вольницы и гордого вечевого колокола сыграли свою, не последнюю роль при таком странном выборе ссыльного), но через неделю и вовсе вышел с представлением в Сенат о назначении Герцена советником в названный город. Такое повышение, которого чиновники домогались годами, досталось Герцену без желания и труда, просто «в отместку тайной полиции». Это наказание «повышением» в соответствии с чином коллежского асессора позже не могло не вызвать у него подобной реплики: «Вот и отыгрался, только не в мою масть».
На время о новом ссыльном власти просто забыли. В Петербурге у Герцена образовалось уже множество необходимых связей и литературных знакомств, он громко входил в литературу.
Пока они с Белинским обменивались всяческими неудовольствиями, колкостями и обидами в письмах и разговорах каждый со своими сторонниками (Белинский даже присвоил Герцену кличку: «спекулятивная натура», а вскоре заменил на «благородную личность»), в творческих неприязненных отношениях идейных антагонистов наметился видимый перелом.
В письме В. П. Боткину от 11 декабря 1840 года Белинский сообщал, что готов во многом согласиться с Герценом. Вспомнил, как тот ругал его в Москве за «абсолютные статьи», что теперь дает право «на уважение и расположение» к нему. Писал, что Герцен «переводит из книги Тьерри о Меровингах»[48] и будет «обрабатывать другие вещи в этом роде»: «Его живая, деятельная и практическая натура в высшей степени способна на это. Кстати: этот человек мне всё больше и больше нравится… какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура! Об искусстве я с ним говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь с ним. Он видимо изменяется к лучшему в своих понятиях. Мне с ним легко и свободно».
Встречи Герцена с Белинским возобновились. Примирительное свидание, хоть и шло сначала «натянуто» и «холодно», принесло свои плоды. «Ваша взяла, — говорил он Герцену, — три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор». «С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку», — заключал Герцен историю этого временного идейного противостояния. Отныне они «партизаны», приверженцы друг друга.
Их творческое содружество очень важно для Герцена. Белинский, обожаемый молодежью критик. Только что вышедшие номера «Отечественных записок» передавались из рук в руки. Первейший русский журнал издателя А. А. Краевского откликался на самые заметные литературные явления, выделял талантливые публикации, и в том числе уверенно начинающего литератора Искандера[49].
Критик усматривал в творчестве Герцена все более развивающийся талант, особое его пристрастие к автобиографическому жанру. Открыв «Отечественные записки» (1840, № 12), где начиналась публикация «Записок одного молодого человека» (под названием «Из записок одного молодого человека»), Белинский почти что восхищен: «Как всё живо, интересно, хотя и легко». 26 декабря подтверждал свое мнение: «А какова статья Искандера? Ведь живой человек-то!»
Отныне критик будет постоянно следить за успехами молодого писателя, направляя его и выправляя, когда он сворачивает не на свою дорогу: история с поэтическими опытами Герцена, с его «Вильямом Пеном», как известно, уже перечеркнута Белинским лишь одним ироничным замечанием.
В январе 1841 года в Петербурге идет страстный спор, в котором участвуют, в частности, и Белинский, и Сатин, приехавший на время в столицу. Говорят о месте в жизни страны Петербурга и Москвы, о путях развития России и ее национальной культуры — теме, ставшей особенно модной в 1830–1840-е годы. При сопоставлении столиц в первую очередь на памяти у полемистов статья Н. В. Гоголя «Москва и Петербург», появившаяся в 1837-м под заглавием «Петербургские записки 1836 года».
Поживши в имперском Петербурге, вспомнив старушку Москву, можно на досуге посравнить обе столицы. И Герцен берется за перо. Не грех посмеяться над бюрократической напыщенностью резиденции и барственным бездельем Первопрестольной — конечно, не замахиваясь на всестороннюю, развернутую оценку исторической роли обеих столиц, к которой уже прикоснулись многие.
Из-под пера Герцена вскоре выйдет гениальная статья — фельетон «Москва и Петербург», который он завершит в Новгороде, «сердясь» «на мерзкую погоду, глупую ссылку и глупых чиновников». Шутка, не более того, небольшое юмористическое письмо, как сам он его расценит. Но цензура настороже — резких мест в фельетоне не занимать: они-то и самые важные. Во множестве копий статья разойдется по всей России (популярна будет у петрашевцев) и появится через 15 лет в бесцензурном «Колоколе», когда его издатель признает некоторые свои несогласия с прежними взглядами, но оставит все, как есть, «по какому-то чувству добросовестности к прошедшему».
Идеологически фельетон Герцена некоторые не примут. Белинский в статье «Петербург и Москва» (1845), не называя Герцена, отзовется критикой. Будет возражать против тех образов и положений, которые могли быть истолкованы как отрицание великой исторической роли Северной столицы в прошлом и будущем, и видимых прогрессивных тенденций в ее развитии. Но ведь герценовский текст, сатирически заостренный памфлет, парадоксальный, остроумный, написан в манере жанра. К тому же в очерке содержится «укол», запоздалый выпад против критика, «проповедовавшего в Москве народность и самодержавие» и полностью отрезвевшего по приезде в Петербург.
Стоит процитировать некоторые фрагменты фельетона именно здесь, раз уж мы застали Герцена в Петербурге, зная из частых, сиюминутных писем о его переменчивых настроениях в отношении к величественному городу, куда, по его мнению, едут служить, а вовсе не жить. («Жить сюда никто не ездит», — напишет он Огареву.) В некоторых идеях фельетона угадывается, несомненно, и смягченная резкость чаадаевского «Философического письма».
«Говорить о настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной части планеты, называемой Россией.
<…> Ему не о чем вспоминать, кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории, да нет и будущего; он всякую осень может ждать шквала, который его потопит. Петербург — ходячая монета, без которой обойтиться нельзя; Москва — редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая хода. <…>
Петербург — удивительная вещь. Я всматривался, приглядывался к нему и в академиях, и в канцеляриях, и в казармах, и в гостиных, — а мало что понял. <…> Я имел досуг, отступая, так сказать, в сторону, рассматривать Петербург; видел разные слои людей: людей, которые олимпическим движением пера могут дать Станислава или отнять место, людей, беспрерывно пишущих, т. е. чиновников; людей, почти никогда не пишущих, т. е. русских литераторов; людей не только никогда не пишущих, но и никогда не читающих, т. е. лейб-гвардии штаб-и обер-офицеров; <…> наконец, видел поэтов в III отделении собственной канцелярии — и III отделение собственной канцелярии, занимающееся поэтами; но Петербург остался загадкой, как прежде. <…> Наш настоящий быт — загадка… этот разноначальный хаос взаимногложущих сил, противоположных направлений, где иной раз всплывает что-то европейское, прорезывается что-то широкое и человеческое и потом тонет или в болоте косно-страдательного славянского характера, все принимающего с апатией — кнут и книги, права и лишения их, татар и Петра — и потому, в сущности, ничего не принимающего, или в волнах диких понятий о народности исключительной, — понятий, недавно выползших из могил и не поумневших под сырой землей.
<…> Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в каком другом городе России. <…> Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на все похож; <…> Петербург — parvenu[50], у него нет веками освященных воспоминаний. <…> В Петербурге вечный стук суеты суетствий и все до такой степени заняты, что даже не живут.
<…> В Москве до сих пор принимают всякого иностранца за великого человека, в Петербурге — каждого великого человека за иностранца. <…> В добрейшей Москве можно через газеты объявить, чтоб она в такой-то день умилялась, в такой-то обрадовалась: стоит генерал-губернатору распорядиться и выставить полковую музыку или устроить крестный ход. Зато москвичи плачут о том, что в Рязани голод, а петербуржцы не плачут об этом, потому что они и не подозревают о существовании Рязани… <…> Молодой петербуржец формален, как деловая бумага, в шестнадцать лет корчит дипломата и даже немного шпиона и остается тверд в этой роли на всю жизнь. <…>
Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет».
Видно, как Герцен пользуется словами, выражениями и оформившимися впечатлениями (иногда парадоксально переиначенными), приведенными прежде в письмах. Видим, как писатель работает со словом, и воля его, как преподнести читателю накопленный материал.
«„Да что, черт возьми, — скажете вы (обращение Герцена непосредственно к читающему. — И. Ж.), — говорил, говорил, а я даже не понял, кому вы отдаете преимущество“. Будьте уверены, что и я не понял. Во-первых, для житья нельзя избрать в сию минуту ни Петербурга, ни Москвы; но так как есть фатум, который за нас избирает место жительства, то это дело конченое; во-вторых, все живое имеет такое множество сторон, так удивительно спаянных в одну ткань, что всякое резкое суждение — односторонняя нелепость…»
Реальность же положения Герцена такова, что ему необходимо во что бы то ни стало получить разрешение о возвращении в Москву, чтобы «фатум» не увлек его в заштатный городишко. Герцен еще пытается похлопотать, обращается к О. А. Жеребцовой, дочь которой замужем за А. Ф. Орловым, и это не первая просьба, адресованная ближайшему соратнику и любимцу императора через третьих лиц, будь то М. Ф. Орлов, опальный брат могущественного приближенного, или даже его жена. Все усилия тщетны.
Не удалось им с Наташей даже до середины лета 1841 года пожить в Петербурге свободными светскими людьми, ощущающими всю полноту семейного счастья: призрак ссылки не отпускал.
Друзьям разосланы письма о новых напастях. Хотелось Герцену в Одессу, а перевели в Новгород. Ну что делать! «Судьба не перестала тешиться…» «Было бы внутри души и дома неплохо». Герцен пишет Вадиму Пассеку, знатоку древней истории, издающему в эту пору «Очерки России»: «Еду в Новгород. Зачем не тебя Бог шлет в этот город стертых надписей, перестроенных монастырей, ганзеатических воспоминаний и православного либерализма?»
В переписке с Огаревым развертывается целая дискуссия. Ник, узнав от друга о предстоящей новой ссылке, занимает примирительную позицию: «Досада, но не отчаяние. Когда я получил твое письмо, я взбесился, — а потом примирился с ходом вещей. Не ты первый, не ты последний. Частный случай не может навести уныние на общее. Я привязан к этой земле, в другом месте я буду чувствовать свою ненужность». Герцен решительно возражает. О каком примирении, «резигнации» с необходимостью отправляться в ссылку может идти речь: «…резигнации, когда бьют в рожу, я не понимаю и люблю свой гнев, столько же, сколько ты свой покой».
Пожалуй, такого афронта никогда не наблюдалось в отношении к другу. Хотя их «разность» Герцен и прежде осознавал. Писал еще в 1833 году, подчеркивая странность на первый взгляд их дружеского союза: «Твое бытие более созерцательное, мое — более пропаганда. Я деятелен».
Заявление Огарева о частном случае вызывает резкую отповедь Герцена: «„Частный случай“. Конечно, все, что случается не с целым племенем, можно назвать частным случаем, но, я думаю, есть повыше точка зрения, с которой землетрясение Лиссабона — частный случай, на который надобно смотреть сложа руки. А приказ Геслера Теллю стрелять в яблоко, касавшийся только двух индивидов, — самое возмутительное действие для всего человечества[51]. <…> Ежели ты написал, что это частный случай, мне в утешение, то спасибо, ежели же ты не шутя так думаешь — то это одно из проявлений той ложной монашеской теории пассивности, которая, по моему мнению, твой тифон, твой злой дух».
Слова о привязанности Огарева «к этой земле» в том же письме Герцена от 11 февраля 1841 года также не остаются без ответа: «Ты любишь „эту землю“. Понятно, и я любил Москву — а жил в Перми, Вятке, не перестал ее любить — а жил год в Петербурге] да еду в Новгород. Попробуем полюбить земной шар, оно лучше — куда ни поезжай, тогда все будешь в любимом месте». Далее продолжает: «С[атин] говорит, что ты, кажется, сжег мои письма, это скверно, лучше бы сжег дюйм мизинца на левой руке у меня. Наши письма — важнейший документ развития, в них время от времени отражаются все модуляции, отзываются все впечатления надушу…» Герцен не раз скажет, что подневные свидетельства — письма, дневники — хлеб для писателя и его творческой биографии. Он и сам понимает, что следует подчистить свой архив, пересмотреть бумаги перед отъездом, чтобы вновь не попали в руки жандармов. Есть даже собственное его свидетельство, что некоторые главы из ранней редакции «Записок одного молодого человека» — повести «О себе», были им сожжены.
Вообще-то этот ответ Огареву какой-то неспокойный, чрезмерно раздраженный. Оно и понятно: еще недавно Наташа была в опасности, только что умер малютка Иван и надо собираться в Новгород.
В марте Герцен пишет еще несколько писем Огареву и Кетчеру, зовет их в Петербург, чтобы перед ссылкой отвести душу с друзьями. Николаю Христофоровичу следует скорее сообщить о «благодатной перемене» Виссариона Григорьевича и сближении с ним. Достаточно передать, как «он пренаивно вчера рассказывал: „Один человек, прочитавший мою статью о Бор[одинской годовщине], перестал читать ‘Отеч[ественные] зап[иски]’, вот благородный человек“».
Герцен даже готов признать в новом письме Огареву, бесконечно сочувствовавшему ему по поводу семейных несчастий, что ожидание ссылки сделало его опять «действующим и живым до ногтей», да и возникшая злоба на жизнь пошла ему на пользу.
Друзья поговаривают об эмиграции. Герцен настоятельно советует Огареву ехать, конечно, не для того, чтобы жить за границей праздно. И Огарев действительно едет, но просто в длительную поездку, несомненно, подгоняемый светскими претензиями своей жены. В середине апреля он заезжает к Герцену. В конце мая они простятся на берегу Невы, возле Зимнего дворца. Обнимутся и разойдутся в разные стороны (а как иначе, ввиду присутствия в городе «madame» Мари, которую Александр успел возненавидеть).
Герцен, если не пишет (в предотъездном сумбуре трудно сосредоточиться и взяться за что-нибудь дельное, кроме писем), то много читает. Это мощнейшее средство, чтобы продвинуться вперед. В большом списке прочитанного и сочинение М. Лютера «О рабстве воли», и «Лекции о личности Бога и бессмертии души» К. Л. Михелета, только что вышедшие в Берлине. Герцен, понятно, в курсе всего выходящего и происходящего в мире.
Двенадцатого апреля 1841 года (по случаю женитьбы наследника, Александра Николаевича, столь благотворно вмешавшегося в его ссыльную судьбу) Герцен делает новую попытку официально обратиться к графу Бенкендорфу с ходатайством о «прощении» и «продолжении службы там, где наиболее потребуют семейные обстоятельства, не исключая обеих столиц». Лаконичная резолюция Николая I на докладе шефа Тайной канцелярии: «рано», доведенная до него учтивейшим Л. В. Дубельтом, сразу же отрезвляет и хоронит ненужные «мечтания». Нужно ехать, ехать, «опять скитаться».
Указ Правительствующего сената об утверждении Герцена советником Новгородского губернского правления, подписанный 24 мая, не оставляет времени для отступления.
Следует немедленно покинуть столицу, собрать вещи и выправить предусмотренный уставом мундир с «шитым воротником», как советовал, шутя, гуманнейший из министров граф Строганов.
В самом начале июля 1841 года Герцен явился «в Богом и св. Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова…».
Глава 21
НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ. ВТОРАЯ ССЫЛКА. «КОНТУЗИЯ № 2»
…Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования, — а между тем наши страдания — почка, из которой разовьется их счастие.
А. И. Герцен. Дневник
Злоба на жизнь и невольные скитания травмировали бесконечно. Можно сколько угодно уговаривать себя, что препятствия и несчастья только укрепляют дух, обновляют, оживляют и дают новый толчок к практическому действию, но в «пользе контузии» следовало бы усомниться. Конечно, видимых повреждений внешней оболочки жизни пока явно не отмечено, но вот «контузия» души… И в итоге, Герцен признался:
«Жизнь наша в Новгороде шла нехорошо. Я приехал туда не с самоотвержением и твердостью, а с досадой и озлоблением. Вторая ссылка с своим пошлым характером раздражала больше, чем огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять дух, а только дразнила, в ней не было ни интереса новости, ни раздражения опасности. Одного губернского правления с своим Эльпидифором Антиоховичем Зуровым, советником Хлопиным и виц-губернатором Пименом Араповым было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь».
Появился и первый, еле заметный диссонанс в кажущейся незыблемой семейной гармонии. Наташа хворала и постоянно грустила. «Смерть малютки не прошла ей даром». «По милости гонений» она лишилась и второго новорожденного — девочки Натальи, появившейся на свет 22 декабря 1841 года и не прожившей двух дней. Черные мысли одолевали ее. Характер ее, по контрасту с герценовским — радостным, светлым, не выдерживал жизненных напастей. Герцен, разделяя ее мучительные переживания, понимая вызвавшие их причины, и даже те, глубинные, что затаились в ее ранимой душе с самого детства, был ошарашен, потрясен, узнав о ее сомнениях.
Неожиданно для него, она вдруг призналась:
«Друг мой, я скажу тебе правду; может, это самолюбие, эгоизм, сумасшествие, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебе скучно — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мне больно, больно, и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебе меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бедность твоей жизни — и в самом деле, что я могу сделать для тебя?»
Еще никогда не подвергавшееся сомнению счастье их супружеской жизни, «беспредельная уверенность» в незыблемости их любви не были так поколеблены единым словом, ее невольным признанием.
Хорошему расположению духа и впрямь мало способствовала навязанная Герцену служба в «одном из самых плохих городов на земном шаре». На вопросы об устройстве его судьбы часто отшучивался, каламбурил. Писал Белинскому: «…каково я здесь поживаю, — именно в том и дело, что я не живу, а поживаю. Служба не то чтоб была невмочь головоломна, но ужасно времеломна». Как сам признавался, иногда пытался сострить, чтобы не заплакать. Но что делать? Приходилось признать: выбор города не был удачным.
В Новгороде, вдалеке от высшего начальства, военный губернатор Зуров, чувствовавший себя безраздельным властелином, полностью преобразился. От его заискивающего тона, дружеского расположения, проявленного к Герцену ввиду приязни к нему самого министра внутренних дел, не осталось и следа. Герцен, отметив эту перемену, почувствовал неизбежную опасность. Иметь свое мнение, да еще высказывать его не входило в привычную чиновничью норму вверенных Зурову безгласных подчиненных. Противоречие начальнику повлекло бы за собой неминуемую кару.
Зная Герцена, понимаем, что не лучшую репутацию у зарвавшихся сослуживцев приобрел он в Четвертом отделении канцелярии, где рассматривались «откупные дела и всякие денежные». Опасный свидетель их привычной работы, неизменно подхлестываемой взятками, угодив в самый круговорот денежных потоков, поспешил отпроситься у губернатора (при всеобщем удивлении) в менее заманчивое Второе отделение. Здесь занимались в основном паспортами, всякими циркулярами, делами о раскольниках и помещичьих злоупотреблениях. Отделению особо предписывалось наблюдать за людьми, находящимися под полицейским надзором. Так под означенное распоряжение попал и его управляющий. Герцен самолично предоставлял полицмейстеру каждый триместр донесение «о самом себе», анекдотически пребывая сам у себя под стражей.
Граф Строганов не ошибся. Его шутка о шитом воротнике обрела житейскую повседневность. Трудно представить «такого приформленного и этикетного» Герцена (удивлялся современник, встретив его в московском, вполне цивильном обществе во время отпуска в старую столицу) «в синем фраке с позолоченными пуговицами».
Однако каждое утро в одиннадцать часов являлся он в присутствие в положенной форме, с прицепленной «статской шпажонкой» и играл предназначенную ему роль советника Новгородского губернского правления: ждал появления губернатора и, помня историческое наставление Талейрана, ни в чем особо не усердствовал, ограничиваясь обязанностями необходимыми.
Поверхностному разбору, с его точки зрения, не подлежали дела о раскольниках и помещичьих злоупотреблениях. Их «следовало сильно перетряхнуть». И Герцен старался. Дела были до невозможности щекотливы, и надо было стать новым Соломоном, чтобы мудро их разрешить. Иногда помогала обоюдная неприязнь высших начальников, каждый из которых бессмысленно и равнодушно, но упорно отстаивал свою точку зрения. На этом противоречии стоило сыграть. И Герцен не упускал момента.
На поприще справедливости им были одержаны лишь маленькие победы. Пройдет еще полтора десятилетия, прежде чем издатель «Колокола», обретя собственную трибуну, сможет заклеймить и вытащить на свет все эти свидетельства о буйствах и помещичьих злодействах. И результат разоблачений будет более чем значительным.
«Дрянной городишко с огромным историческим именем» возводился Герценом в подобный нелестный разряд еще и воспоминанием об ужасе военных поселений, потрясавших край необузданной жестокостью. Над этими, близкими, но замалчиваемыми событиями в Старой Руссе — восстании военных поселян 1831 года и усмирении бесправных солдат-крестьян, Герцен в «Былом и думах» впервые «отдергивал саван, под которым правительство спрятало ряд злодейств, холодно, систематически совершенных при введении поселений».
Одна емкая строка из пушкинской эпиграммы: «Холоп венчанного солдата», приведенная Герценом в мемуарах[52], усиливала характеристику Аракчеева как «одного из самых гнусных лиц, всплывших после Петра I» при покровительстве слабеющего Александра I, доверившего ему в последние годы царствования бесконтрольно «управлять всей Россией». Рассказы о «образцовом капрале», трусливом и бесчеловечном, безудержно мстящем и за стихийный протест, и за смерть его безжалостной, растерзанной крестьянами фаворитки Минкиной, долго еще оставались в памяти новгородцев. И Герцен не мог не знать эти страшные предания[53], когда, задолго до Крестьянской реформы, размышлял о последствиях и правомерности народных возмущений.
«В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую предупредить легко, а остановить вряд возможно ли будет.
<…> Мало ли ужасов было везде, но тут прибавился особый характер — петербургско-гатчинский, немецко-татарский. Месяцы целые продолжалось забивание палками и засекание розгами непокорных… пол не просыхал от крови в земских избах и канцеляриях… Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!»
В Новгороде Герцен пережил много тяжких потерь. Гибель на дуэли Лермонтова 15 июля 1841 года. Смерть в Москве М. Ф. Орлова. Ранний уход из жизни талантливого друга Николая Астракова. Собственные семейные утраты… Бездна мыслей и чувств теснилась, их необходимо было «схоронить», то есть «прикрепить во всей мимолетности». Прежде о дневнике Герцен даже не думал. «Богатый журнал его жизни» заменяла переписка с сестрой.
Теперь, в день его тридцатилетия, 25 марта 1842-го (считал, что половина жизни прожита), подарок Наташи — тетрадка в зеленом сафьяновом переплете — пришелся как нельзя кстати. Перечитаешь, и «все оживает как было, а воспоминание, одно воспоминание не восстановляет былого… <…> оно стирает все углы, всю резкость и ставит туманную среду». У дневника перед мемуарами — явное преимущество: сиюминутность.
В дневнике впервые наметился тот скорбный список — мартиролог «жертв николаевского деспотизма», оформленный им в дальнейшем в работе «О развитии революционных идей в России». 29 июля 1842 года Герцен запишет: «…в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет — Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ» (курсив мой. — И. Ж.).
Последнее замечание, сделанное сразу же по приезде из ссылки, не случайно. Уже 31 мая 1842 года Герцен держал в руках только вышедшую в свет (21 мая) поэму Гоголя. «Мертвые души» привез Огарев, около недели проведший в Новгороде перед отъездом за границу. Герцен читал и не мог опомниться. 11 июня взялся за дневник, сформулировал мысль, как всегда, точно: «…удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную сил национальность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле, и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее…» Эти характеристики вовлечены Герценом в общие размышления о русской национальности, бодром, дерзком, смелом, реалистичном народе («кровь как-то хорошо обращается у русского в груди»). «Горечь жизни», однако, не уменьшается от этого открытого, светлого взгляда. Герцен, как всегда, не склонен идеализировать особенности двух противостоящих, противоборствующих классов русского общества, между которыми упорно ищущая «дела» интеллигенция (термин, введенный позже) пока остается невостребованной. «Сверх всего повторенного много раз, отдельность, несимпатия со всех сторон тягостна; барству, чиновничеству мы не хотим протянуть руки, да и они на нашего брата смотрят как на безумного, а православный народ, которому, для которого, за который всякий благородный человек готов бог знает что сделать, — если не в открытой войне, в которой он нас опутывает сетью мошенничества, то он молчит и не доверяет, нисколько не доверяет; я это испытываю очень часто; когда он видит простой расчет, дело другое, но когда не из расчета, а просто из доброжелательства что-нибудь сделаешь, он качает головой и боится быть обманутым». Остается любить и верить, ибо Россию он уже основательно узнал во время своих ссыльных перемещений по разным ее городам и весям.
Огарев выбрал для чтения друга самое злободневное: книгу, сыгравшую существенную роль в мучительном, последовательном движении Герцена к атеизму. Привез «Сущность христианства» немецкого философа, материалиста и атеиста Людвига Фейербаха, расставлявшую по местам некоторые их прежние сомнения и недоумения в спорах с Белинским и друзьями по поводу гегелевских идеалистических идей.
Герцен в ту пору переживал острый идейный кризис.
«Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа (хозяина Эзопа. — И. Ж.), не нужно нам облекать истину в мифы!» «Былое и думы», приведшие этот хрестоматийный абзац, в некотором смысле, подводили итог многолетним исканиям и размышлениям Герцена об идеализме и бессмертии души.
Глубокая внутренняя жизнь, осмысление всего нового, продвижение вперед, даже ценой ошибок, не оставляли у Герцена сомнений, что с 1838 года его «взгляд стал шире, основательнее, ближе к истине и отделался от тысячи предрассудков» (иными словами, приблизился к материализму). Горько было расставаться с романтическими упованиями, но многое приносилось «на жертву истине»: рассеивалась мечта о потустороннем мире, возможности иной, обещанной христианской религией загробной жизни; возникала мысль (особенно после смерти близких), «что дух без тела невозможен». Герцен проходил «школу» социально-религиозных исканий, возвращаясь к прежнему, юношескому свободомыслию. В новгородском дневнике записал: «…конечно, высшее благо есть само существование — какие бы внешние обстановки ни были. Когда это поймут — поймут и [то], что в мире нет ничего глупее, как пренебрегать настоящим в пользу грядущего. Настоящее есть реальная сфера бытия. <…> Цель жизни — жизнь. Жизнь в этой форме, в том развитии, в котором поставлено существо, т. е. цель человека — жизнь человеческая».
Новые идеи, философские увлечения, и, как ему казалось, обретение новых истин — диалектики, материализма, не могли утвердиться сразу и окончательно, ибо твердая почва под убеждениями Герцена и его единомышленников еще не была подведена. Отличительной чертой этого времени Герцен считал «grübeln» — размышления: «Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем… Некогда действовать; мы пережевываем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось пытующему взгляду критики. Это болезнь промежуточных эпох».
Герцен, погрузившись в чтение философских работ, не расставался с книгами Гегеля и Фейербаха и в своем продвижении через дебри философских теорий придерживался советов своих новых кумиров о «мужестве познания» и «мужественном стремлении к истине».
В дальнейшем увидим, как даже гуманное начало атеистического мировоззрения, утверждение реальной действительности для реализации стремлений людей будет связано с глубокими нравственными терзаниями и резко разведет ближайших друзей, в частности, Герцена и Грановского, в их споре о бессмертии души.
Почти год тянул Герцен лямку в «пустом городишке», не уставая пенять на свое новгородское существование, но творческая жизнь его, несмотря на стенания и сомнения, была не столь пуста. Он писал, работал. Позже свидетельствовал: «В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о „дилетантизме в науке“». Герцен намерен «написать пропедевтическое (вводное. — И. Ж.) слово желающим приняться за философию, но сбивающимся в цели, праве, средстве науки». А по пути «указать вред добрых людей, любящих пофилософствовать».
Глубже познакомившись с философией Гегеля, именно в ней Герцен теперь усматривает средство обоснования социалистического идеала иными, лишенными мистики, философско-рационалистическими доводами. В целом, статьи из цикла «Дилетантизм в науке» отличает «живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными» — качество, присущее, как он считал, работам Белинского и, несомненно, свойственное его собственным сочинениям 1840-х годов, в пору, когда им осуществлялась попытка создания учения, в котором социализм возводился на базисе гегелевской философии.
Предвидя более широкую арену для своего писательства, он, конечно, мечтал о скорейшей отставке. И такой повод представился.
Неожиданно случилось то, что Герцен не в силах был стерпеть. Точка в его карьере была поставлена. А дело было так. Приведем его рассказ.
«Раз в холодное зимнее утро приезжаю я в правление. В передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собой дитя. Пока она мне рассказывала дело, взошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить; ему было скучно, женщина, рыдая, цеплялась за его ноги, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: „Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь“. После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю.
И я пошел… С меня было довольно… Разве эта женщина не приняла меня за одного из них? Пора кончить комедию».
Можно ли быть соучастником этого жестокого унижения более слабых, бесправных, когда исчерпаны его возможности что-либо изменить?.. Здесь он сделал все, что мог. Грустно жить на свете, но если глубоко в нее всмотреться… Он покидал не только опостылевших Зуровых, Хлопиных и Араповых. Появились друзья, не побоявшиеся связи с колодником: военный инженер и художник К. Я. Рейхель, супруги Филипповичи, купец Гибин, растрогавший Герцена напоследок своим широким жестом (не каждый посторонний человек даст денег в долг без расписки, да еще так щедро, с искренней благодарностью за его бескорыстную службу «поневоле», проводит в дорогу).
Как всегда, оптимизм Герцена побеждал. Несмотря на довольно черную полосу, прожитую в Новгороде, он писал в Москву: «…живы и не потеряли надежду на будущее».
Достигнув немалого чина надворного советника, о котором некоторым служилым людям приходилось только мечтать, 3 апреля 1842 года он подал прошение об отставке «за болезнию». 30 мая уволен от службы указом Правительствующего сената. В столицы сразу же не был допущен. Николаю I «неблагоугодно было изъявить» высочайшую милость к своему давнему противнику. Отказы следовали за отказами. Восемь лет ссылки… «Тут нет слов. Лишь бы не подломились плечи под тяжестию креста», — записал Герцен в дневник. В конце концов, помогло письмо Натальи Александровны императрице с просьбой ходатайствовать перед императором о разрешении жить в Москве в связи с ее болезнью.
Момент был найден. Александра Федоровна готовилась к семейным торжествам: собственному дню рождения и 25-летию ее венчания с Николаем. 3 июля 1842 года последовала высочайшая резолюция: «В Москве жить может, но сюда не приезжать и оставаться под надзором полиции».
Казалось, «неудачному существованию» пришел конец, открывалась новая жизнь. В Москве, конечно, не оберешься неприятностей, но не так «заглохнешь». Возможно, тоска по свободной деятельности обретет, наконец, свой выход… Ведь такое обилие замыслов. Многое сделано, продумано, напечатано.
Ужели и Москва отвернется от этого страстного желания одействотворить, как он выразился, все возможности?
Четырнадцатого июля 1842 года бывший ссыльный и все еще поднадзорный, обремененный «титулом государственного преступника», Александр Иванович Герцен въезжал в древнюю столицу.
Глава 22
«ОТЕЧЕСТВО МОЕ — МОСКВА…» ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я привык, я люблю Москву, в ней я вырос…
А. И. Герцен — Н. А. Захарьиной
Вот и Москва! Миновали городскую заставу, приснопамятный «Яр», вылетели к Триумфальным воротам, а там и Тверской бульвар, и Никитская, и Сивцев Вражек…
«Дорогие места, я опять вас увидел — cari luoghi. io vi ritrovai» — так ведь, бывало, певал друг Огарев. Теперь все не то. Да и он, Герцен, не тот. Восемь лет гонений, тюрем и ссылок взяли свое. Жизнь, казалось, познана во всех ее срезах, во всех человеческих проявлениях — добрых и скверных, страшных и смешных. Хочешь не хочешь, а все окружавшее его «сошло с пьедесталей». Было да прошло: и детство, в меру счастливое, и студенческая юность с бесшабашным разгулом и лирическим опьянением пробудившихся чувств…
Поневоле предашься воспоминаниям. Вот уж это «благо» никто отнять не может, даже власть.
«Обстановка, рамки, полувнешнее, полупостороннее», казалось бы, далекое от начал, составляющих сущность нашей жизни, — а как много все это значит. Знакомый город, улицы, «домы». И ведь у каждого — своя физиономия, свой характер, своя переменчивость. Кто-то верно сказал, что дома, как старые приятели; к ним, как к людям, либо влечет, либо отталкивает. Но все-таки главная их сила — в таинстве воспоминаний. Взглянешь на дом Огарева, что на Никитской, — сразу встанет в памяти заветная комната с красными, в золотую полоску обоями, и явится мысль: бурная юная жизнь — позади. Перелистаешь при случае старую повесть «Легенда» и тут — тот свободный вид на Москву из Крутиц, который не перекроет даже тюремная решетка: «огромный пестрый гигант, распростертый на сорок верст», по-прежнему сверкнет «своею чешуею». И поверх всех впечатлений — раздольная панорама Первопрестольной со святых холмов — Воробьевых гор, утвердившегося во времени символа судьбы.
Что за Москва в это время? Точнее, в 1840-е годы позапрошлого столетия. Статистические сведения легко извлекаются из отчетов и путеводителей по «столичному граду». «В Москве 350 тысяч жителей, 12 тысяч домов, 400 церквей. Москва разделена на 17 частей, подразделяемых в свою очередь на кварталы». Труднее представить норов города, жизнь, повадки каждого из кварталов, ту «народную деятельность» (как выразился очевидец), которая одна только и может оживить могучий организм гиганта.
П. Ф. Вистенгофу, современнику Герцена, автору «Очерков московской жизни» (подоспевших с выходом как раз к 1842 году), человеку весьма наблюдательному, это удалось, и более всего — передать жизненные ритмы Москвы. Город у него, как сцена, постепенно заполняется все новыми декорациями, реквизитом и разнообразными персонажами.
Поутру, когда Москва еще спит глубоким сном, на улицы выползают возы с дровами. Подмосковные мужики везут на рынки обозы с овощами и другим нужным товаром. Пахнет горячим хлебом в калашнях. Через некоторое время замечаются на улицах спешащие за покупками кухарки, а за ними «повара с кульками». Тут уж подоспели «калиберные извозчики, а зимой санные ваньки». Дворники с метлами выходят, потягиваясь. Водовозы на клячах тянутся за водой к фонтанам. Нищие пробираются к заутрени. Пьяницы несутся опрометью в кабак. Кучера обхаживают своих лошадей. Одна за другой открываются лавки. Шныряют мастеровые мальчики, «хожалый навещает будки».
Восемь часов утра — город окончательно просыпается. Открываются магазины. Спешат купцы. Гувернеры ведут в пансионы детей. Студенты тянутся в университет. Доктора отправляются с визитами. Почтальоны разносят письма. И чиновники, и капельдинеры — все расходятся, разъезжаются по местам своего назначения. Всё спешит, и в 12 часов пополудни мостовая стонет, гудит от неповоротливых экипажей, парных фаэтонов, пролетных дрожек, колясок, карет… В общем, всё свидетельствует о московских «пробках» образца допотопных времен, которые немало создают спешащие в Сенат сенаторы, да щеголихи и щеголи из высшего круга, с делом и без дела навещающие Кузнецкий Мост.
Пестрая толпа, как говорится, «смесь одежд и лиц», к четырем часам умолкает понемногу, и постепенно сцена пустеет. Город обедает, отдыхает. Тишина. И разве только недисциплинированная дворняжка нарушит эту нирвану да случайный прохожий, вышедший не по своей воле. К семи часам вечера старая столица расцветает. Праздная жизнь бурлит. «Толпы гуляющих наполняют сады и парки». Дворянство несется на дачи.
«Зимою, едва только начинается разъезд у Большого театра, как со всех концов Москвы тянется в несколько рядов бесконечная цепь карет к подъезду Дворянского собрания или на Поварскую, Арбат и Пречистенку, где московские гранды дают балы на славу». Публика спешит в театры и клубы.
Что же до Старой Конюшенной, где издавна угнездились Яковлевы, то тихие городские усадьбы Приарбатья не терпят шума и суеты. Младший современник Александра Ивановича, Петр Алексеевич Кропоткин (только родился в 1842-м), выходец из этого аристократического урочища, названного им Сен-Жерменским предместьем Москвы, свидетельствует о благородном спокойствии этих улиц: «лавки сюда не допускались». Исключение составляла разве «мелочная или овощная лавочка, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви». Зато на углу непременно стояла полицейская будка, и будочник с алебардой не уставал отдавать честь проходившим мимо офицерам.
Возвратившись из ссылок, Герцен как-то по-новому, реалистичнее взглянул на Москву. Понять «физиологию» города, представить его физиономию, нравы его обитателей — не пустое занятие для писателя. «Что и чего не производит русская жизнь!» Уж это-то он знал, помаявшись вдоволь в Вятке, которая под его сатирическим пером превратилась в вымышленный гиперболический Малинов.
Москва вступала в новое десятилетие, а внешне жизнь ее мало менялась. «Вообще, в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга.
В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава».
Это Герцен напишет в «Былом и думах» в 1850-е годы о Москве 1840-х. В 1842 году, исторически сравнивая обе столицы в фельетоне «Москва и Петербург», он отзовется о ней значительно строже: «Люди систематически ничего не делают, а только живут и отдыхают перед трудом…» (К. Батюшков скажет, например: «В Москве отдыхают, в других городах трудятся менее или более, и потому-то в Москве знают скуку со всеми ее мучениями».) Пожалуй, это наблюдение — общее для очевидцев московской жизни позапрошлого века, когда эта тема — «великий вопрос отличия», была столь злободневна, чтобы не сказать, банальна, и варьировалась на все лады.
Можно до бесконечности дивиться узнаваемости давно покинутых мест и московских типических лиц и подтрунивать над старушкой Москвой, которую одновременно и любишь и не любишь, а, в общем-то, по-разному, заново «переживать» ее всякий раз, не давая ей никаких поблажек. То в полемическом задоре Герцен чрезмерно обидит Москву, посмеется вдоволь над ее старушечьими нравами (хотя и Петербург не упустит), потом вдруг обидится за нее и ласковым словом, всколыхнувшимся от какого-нибудь неясного воспоминания, ободрит: «Я ужасно люблю старинные московские дома, окруженные полями, лесами, озерами, парками, скверами, саваннами и степями…» И это притом что «архитектура домов ее уродлива, с ужасными претензиями; домы, или, лучше, хутора ее малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами, огорожены заборами… И какова же она была прежде, ежели была гораздо хуже?»
Остросюжетный фельетон, уже представленный читателю, «заставшему» Герцена в Петербурге, вовсе не отменяет внешнего, крайне любовного приятия Герценом-москвичом старого города, в котором, как он сознался, только и может жить. Москву он вовсе не разлюбил. И особенно Арбат, Сивцев Вражек и всю Старую Конюшенную. В беспорядочном сплетении тихих патриархальных переулков этой старинной слободы всегда обретали покой и красота.
Пройдут годы, и Конюшенная озарится воспоминанием, и появится неудержимое стремление вернуться туда во что бы то ни стало. «Когда ж это мы с вами на старости лет сядем у печки в Старой Конюшенной?..» — спросит изгнанник Герцен у друга Марии Рейхель.
Нынешняя встреча с Москвой, верно, не была вполне радостна. Что-то залегло на дне его души и не давало покоя: мучило, терзало, искало оправданий. Спустя две недели, как покинули Новгород, Герцен записал в дневник: «Ничего не делаю, а внутри сделалось и делается много. Я увлекался, не мог остановиться — и после ахнул. Но в самом раскаянии есть что-то защищающее меня передо мною. Не те ли единственно удерживаются, которые не имеют сильных увлечений? И почему мое увлечение было полно упоения, безумного bien-être[54], на которое обращаясь, я не могу его проклясть? Подл не факт — подл обман».
Можно сколько угодно каяться, искать оправданий, но хрупкое равновесие семейного мира и безотчетной любви Натальи Александровны, при ее постоянных хворях и скорби (Grübelei), были серьезно поколеблены. Главное было в измене. В оскорблении их любви. Призрак горничной Катерины, которую однажды возжелал ее муж, отныне поселился в их жизни[55]. Менялась тональность супружеских отношений, нарушенных непредвиденным согрешением, и Герцен не мог восстановить прежнюю силу их любовной привязанности: «Исчезло утреннее, алое освещение, и когда миновали бури и рассеялись мрачные тучи, мы были больше умны и меньше счастливы».
Особой горестью Александра было состояние отца, его удручающее «разрушение». Старик одряхлел, стал апатичным, хотя прежних своенравных чудачеств и упрямых привычек не растерял. Жизнь под одной крышей с отцом теперь представлялась ему непереносимой, да и просто невозможной: «Я в последнее время не мог ни разу взойти в старый дом (речь о „большом“ доме в Сивцевом Вражке. — И. Ж.) без судорожного щемления. Вид, жизнь отца приводит меня в ужас».
Вот и обосновались временно с Шушкой и Наташей в той же Конюшенной, по соседству с родителями, в доме княгини Е. С. Гагариной[56].
Рассеянная московская жизнь закружила: визиты, выставки, театры, новые знакомства, толки и разговоры о литературе и, конечно, попытки вновь войти в рабочую колею. Литературных занятий и целенаправленного чтения — бесконечная череда. Потрясающая его способность — прочитать, осмыслить, переработать множество книг, теорий, идей, быть на уровне всемирных достижений.
Первая его статья о дилетантизме многим нравится, и следует цикл продолжать. Пишет «с увлечением и свободой». Другое дело, повесть «Кто виноват?». С ней как-то не ладится: надо до поры отложить. Ведь давно себе признался: «Повесть не мой удел…»
Идут на пользу все театральные впечатления. Театр не только развлечение. «Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов». «Все тяготящее, занимающее известную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событий и действий, развертывающихся и свертывающихся перед глазами зрителей». Есть над чем поразмыслить. Не только повторить чью-то важную мысль о признании сцены как «парламента литературы», как «трибуны, пожалуй, церкви искусства и сознания», где «могут разрешаться живые вопросы современности», но и самому взяться за перо.
Размышления по поводу спектакля «Преступление, или Восемь лет старше» О. Арну и Н. Фурнье, сыгранного в Большом театре 11 сентября 1842 года, в бенефис И. В. Самарина, да еще при участии М. С. Щепкина, дали толчок для статьи «По поводу одной драмы» (первой, из цикла «Капризы и раздумья»). Почему вдруг рядовая пьеса так задела Герцена? Его пронзило соответствие некоторых сюжетных линий драмы нынешнему его душевному раздраю, заставило «думать и думать». И это случилось спустя небольшое время (через месяц-полтора) после бесконечно отмаливаемого им греха измены.
Тема гибели во имя любви, проблема брака и невольных перипетий семейной драмы предоставили простор для широких обобщений. Противоречивый опыт собственной семейной жизни постоянно подталкивал Герцена к подобным раздумьям о вопросах этики и морали, к анализу «психологического быта», хотя сюжет драмы, скрупулезно, на нескольких страницах изложенный Герценом в статье, пока, до времени, которое трудно было предвидеть, не давал никакого повода для прямых аналогий.
В дневнике после просмотра драмы Герцен обошелся более сжатым описанием ее вполне банального содержания: «Юноша влюбился в девицу старее себя. Она его любит, и они женились. Прошло пять лет, молодой человек влюбляется в другую. <…> Муж — человек честный, благородный, он понимает свою обязанность относительно жены, уважает ее высокие достоинства, но не любит ее и скрывает. Жена необыкновенно благородное создание, любит мужа до безумия, и все понимает в страданиях. Она решает умертвиться. Муж в отчаянии. Проходит год, она осталась в живых, но ее считают умершей, и первый он убежден в этом. Он женится на другой и встречает на дороге свою первую жену. <…> Ему кажется, что он сделал что-то чудовищное. Жена (первая) умирает, он хочет убить себя. Но его друг заставляет его жить для второй жены etc. Вот что тут ужасно: все правы».
Последняя фраза многое объясняет. Жизнь так сложна, все правы. И Герцену важно было доказать это самому себе… Но к этой жизни, ограниченной единственным уделом «любиться», у него множество вопросов (и в частности, к театральным персонажам): «…неужели одна любовь дает Grundton[57] всей жизни, — на все есть время. Зачем это человек не раскрыл свою душу общим человеческим интересам, зачем он не дорос до них? Зачем и женщина эта построила весь храм своей жизни на таком песчаном грунте? Как можно иметь единым якорем спасения индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что мы дети, дети и дети». «Брак, когда от него отлетит дух, — не устает размышлять Герцен, — позорнейшая и нелепейшая цепь. Как, на каких условиях дозволяется ее (героиню. — И. Ж.) бросить, — трудный вопрос…» И «фактическое разрешение» этой задачи Герцен, не справившись, отдает на откуп «грядущим поколениям».
Утопические идеи сенсимонизма о социальном положении женщины давно усвоены им. «Общее», по его признаниям и реальному поведению, должно превалировать над «частным». И это — его принципиальное убеждение. Формула жизни.
В октябре работу «По поводу одной драмы» Герцен завершил, поставил дату, подправил статью в надежде увидеть ее в будущем альманахе Грановского. Издание не состоялось. Но подхватил статью А. А. Краевский, напечатавший ее в своих «Отечественных записках» (1843, № 8). Так случилось, что именно эту статью Герцен посчитал этапной в беспрерывных разборах своей семейной жизни: «заключительным словом прожитой болезни».
Всегда существовали угрозы со стороны цензуры. Возможно, даже кажущейся невинной, научной статье «Дилетанты-романтики» из продолженного цикла «Дилетантизм в науке» грозит не только запрет, но и тяжелые последствия (может, и третья ссылка). Что тут скажешь… Герцен — известный мастер формулировок: «В образованных государствах каждый, чувствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой, у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтоб закрыть свою мысль под рабски вымышленными, условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революционную, возмутительную. Нет, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась в Пруссии и в других монархиях. Может, правительство и промолчало бы — патриоты укажут, растолкуют, перетолкуют! Ужасное, безвыходное состояние!»
Москва раскованных 1840-х годов питала энергией дружества и таланта плеяду замечательных людей (эпитет этот благодаря внимательному летописцу времени П. В. Анненкову без всякого преувеличения вошел в сознание целых поколений). И Герцен вписался в эту славную когорту одним из первых.
После отшельничества ссылок московская жизнь предоставляла ему возможность «жить во все стороны». С радостью дружеского общения, веселыми пирушками, неутихающими спорами (конечно, о судьбах отечества), с разгоравшейся войной со славянофилами и началом бескомпромиссных дискуссий с ними сливается постоянное творческое возбуждение. Работа, горение, работа и работа, выводящая Герцена в круг первейших российских литераторов. Постоянное самоусовершенствование вело к пониманию перехода через определенный жизненный рубеж. В дневнике, полном искренних признаний и глубочайших раздумий, он записал: «Испив всю чашу наслажденья индивидуального бытия, надобно продолжать службу роду человеческому, хотя бы она была нелегка».
Кто же остался и царствует в Москве 1842 года? Безумный басманный отшельник, как хотелось бы власти, а на самом деле, фигура № 1, которую стремятся посетить не только друзья и сочувствующие. Целые вереницы экипажей сиятельных господ, этих «патрициев Тверского бульвара», выстраиваются возле флигеля Чаадаева в надежде снискать внимание интеллектуальной достопримечательности, поднять себя в собственных глазах, а заодно «отметиться» в напускном либерализме.
Герцен, большой почитатель философа, еще при чтении в Вятке его «Философического письма» начинает с ним свой внутренний спор по некоторым принципиальным вопросам. Многие страницы своих мемуаров он отдает характеристике этого уникального российского явления, имя которому — Чаадаев. Но лучше Пушкина не скажешь: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарский».
Между двумя посланиями Пушкина Чаадаеву («Товарищ, верь…» и «Чадаев, помнишь ли былое?..»), считает Герцен, пролегла «целая эпоха, жизнь целого поколения», до и после декабрьского возмущения, выразившаяся в печальной смене несбывшихся намерений злыми разочарованиями. И это выразил Поэт в этих двух своих обращениях к Чаадаеву, непременно приведенных будущим лондонским издателем в «Былом и думах».
Чаадаева он очень любил, пользовался взаимностью и не раз публично отражал клеветы и презрительные нападки на пострадавшего от власти философа. Только освоившись в Москве, буквально через две недели после приезда, Герцен отправился к нему. Говорили о страшной утрате — смерти Михаила Федоровича Орлова, о реакции лучшей части московского общества: «оценили, поняли, благословили в путь», но слишком поздно.
Около 10 сентября Герцен опять на Старой Басманной. Спорят с Чаадаевым «о католицизме и современности». Вернувшись домой в некотором смятении, что за пару лет многое изменилось, Герцен запишет в дневник: «При всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал».
Тем не менее мысли и высказывания философа дают толчок размышлениям Герцена по кардинальным историко-религиозным вопросам развития общества, которые он постоянно соразмеряет с собственными воззрениями: «Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского воззрения есть поднятие надежды в добродетель и постановление ее с верою и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой надежды в, по-видимому, безвыходном положении должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего».
Споры, визиты, новые и старые знакомства и продолжающиеся семейные сложности… Смена настроений, достойная самооценка и неустанное самокопание заставляют его за несколько дней до нового, 1843 года вновь открыть свой, полный искренних признаний, дневник: «Я иногда задыхаюсь от какого-то сокрушительного огня в крови. Потребность всяческих потрясений, впечатлений, потребность беспрерывной деятельности и невозможность сосредоточиться на одной книжной заставляет дух беспокойно бросаться на все без разбора, без разума. А после (далее, написанное по-французски, даем в переводе. — И. Ж.) я чувствую себя запятнанным, запятнанным вдвойне самим раскаянием слабого человека, который может завтра пасть еще ниже».
Летнее безвременье 1843 года, когда почти все друзья и знакомые разъехались, а деловая Москва почти пуста, предоставило Герцену спасительный выход из внезапной хандры — Покровское.
Передышка в подмосковной вотчине братьев Яковлевых, не слишком ими обихаживаемой, делала свое дело. В уединенном, «задвинутом лесами» Покровском, где вольно дышалось, понемногу улетучивались скорбные мысли.
С Покровским связывалось детство, вожделенные выезды на волю из тесных, давящих городских стен, где ребенком ему не хватало простора. В будущем, при воспоминании о Покровском у него, эмигранта, отлученного от России, возникали бесконечно влекущие, еле улавливаемые, но не потерянные ощущения: «Дубравный покой и дубравный шум, беспрерывное жужжание мух, пчел, шмелей… и запах… этот травяно-лесной запах, насыщенный растительными испарениями, листом, а не цветами… которого я так жадно искал и в Италии, и в Англии, и весной, и жарким летом и почти никогда не находил. Иногда будто пахнёт им, после скошенного сена, при широкко, перед грозой… и вспомнится небольшое местечко перед домом, на котором, к великому оскорблению старосты и дворовых людей, я не велел косить траву под гребенку; на траве трехлетний мальчик[58], валяющийся в клевере и одуванчиках, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!»
Друзья являлись на радость хозяевам.
«Солнце село, еще очень тепло, домой идти не хочется. Мы сидим на траве. К[етчер] разбирает грибы и бранится со мной без причины. Что это, будто колокольчик? К нам, что ли? Сегодня суббота — может быть. <…>
Тройка катит селом, стучит по мосту, ушла за пригорок, тут одна дорога и есть — к нам. Пока мы бежим навстречу, тройка у подъезда; Михаил Семенович [Щепкин[, как лавина, уже скатился с нее, смеется, целуется и морит со смеха, в то время как Белинский, проклиная даль Покровского, устройство русских телег, русских дорог, еще слезает, расправляя поясницу А К[етчер] уже бранит их:
— Да что вас эта нелегкая принесла в восемь часов вечера, не могли раньше ехать! Все привередник Белинский — не может рано встать. Вы что смотрели!
— Да он еще больше одичал у тебя, — говорит Белинский, — да и волосы какие отрастил! Ты, К[етчер], мог бы в „Макбете“ представлять подвижной лес. Погоди, не истощай всего запаса ругательств, есть злодеи, которые позже нашего приезжают.
— Другая тройка уже загибает на двор: Грановский, Е. К[орш].
Надолго ли вы?»
Потом будет много потерь и разочарований, а пока, в 1843-м, жизнь «в кругу друзей» казалась счастливой и согласной, «какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная!».
Видимую гармонию этой светлой полосы нарушила гибель слуги Матвея. К Герцену он имел «безграничное доверие и слепую преданность, которые шли из пониманья, что он не в самом деле барин». (Конечно, отсюда и своеволие слуги — чрезмерно занесся, лентяйничал, взял власть над хозяевами, считала неуступчивая Т. П. Пассек.) Вместе с Матвеем Герценом многое пережито: и ссылки, и безденежное существование. Он так прирос к жизни любимой семьи, сделался таким близким, своим, что смерть этого цветущего человека стала подлинной трагедией. Герцен вновь возвращался к главному вопросу времени — об «общественном неравенстве», которое «нигде не является с таким унижающим, оскорбительным характером, как в отношении между барином и слугой».
Окружающая жизнь крепостных, даже в мирном, родственном Покровском, давала немало жестоких примеров, наводила на тягостные мысли о беззаконии и рабском принуждении, обреченных на голод, барщину и рекрутство крестьян: «А как взглянешь около себя… Бедный, бедный русский мужик. А что досаднее всего видеть — средство поправить его состояние по большей части под руками, алчность помещиков и неустройство государственных крестьян повергает их в это положение. Глядя на их жизнь, кажется чем-то чудовищно преступным жить в роскоши…»
Лето кончалось, пора возвращаться в Москву, и уж конечно, не под отцовский кров. Следовало всерьез подумать о постоянном жилье. Временное устройство на квартирах дела не решало.
Вот и пришлось ему начать так долго оттягиваемую «квартирную комиссию». В один из июльских дней в письме-наставлении Кетчеру он уже выразил свои жилищные предпочтения:
«1-е. Из записки Петра Александровича] (Захарьина, брата Н. А. Герцен. — И. Ж.) о квартирах я нахожу несколько знакомых и которые недурны; пожалуйста, хорошо осмотри на Арбате… дом Сергеева, за него можно дать до 2750 р. — этот дом я давно знаю. Да еще дом Менщикова в Кривом переулке, также на Арбате. <…> Дом Телегина наводит на скорбные мысли и вреден пищеварению, я его найму только в том случае, если 2000 приплотится».
Герцен еще не подозревает, что после тщетности хлопот, когда «все квартиры лопнули», ему придется обосноваться в маленьком особнячке с мезонином в три окна, купленном отцом в 1839 году рядом с двумя своими домовладениями. Заброшенный дом на Сивцевом Вражке, прозванный в семье «тучковским» (по имени бывшего владельца, генерала С. Тучкова), почти на три года, с сентября 1843-го, станет для него счастливым пристанищем и постоянным адресом: «Пречистенской части, IV квартала, в Старой Конюшенной, в доме Яковлева за № 357».
«Жительство имею…» — сообщает Герцен свой новый адрес друзьям и знакомым, и на Сивцев Вражек летят их легкие листки. Сохранившаяся переписка и развернутые записи в дневнике приоткрывают сиюминутную жизнь Герценов в доме.
1843 год, сентябрь 9-е. Дневник:
«С 26 в Москве. Время сует, внешних занятий, — почти потерянное…»
Едва переступив порог «тучковского» дома, Герцен делает эту запись. Она вполне передает его ощущение неустроенности и тревоги в преддверии новых хлопот московской жизни, где все не как в Покровском, на воле…
Наталья Александровна разделяет настроения мужа, полностью лишенного хозяйственной практичности. В письме Юлии Федоровне Курута рассказывает: «А мы с приезда в Москву в ужасных хлопотах, всё искали квартиру, бедный Александр с Уфа до вечера суетился и ничего не мог сделать, и мы принуждены были поселиться в том маленьком доме, в котором вы у нас были, и теперь также хлопочем его устроить — суета суетствий!..»
Дом не обжит, запущен, устройство его требует немалых средств, и Наталья Александровна бросается в хозяйственные предприятия, лишь бы только облегчить жизнь Александру.
В дом свозятся необходимые вещи. В гостиную водворяется диван (на котором потом так уютно сиживали с друзьями), в спальню — оттоман; вырастает большое трюмо (кстати, как неудачно поставлено! — четырехлетний Саша упадет на «вострый» угол зеркала и сильно поранит лоб)[59]. Домашние, включая шумную компанию пришлых — прислугу, меняющихся кормилиц (вскоре в доме появятся еще два малыша — Коля и Тата), снуют и кочуют из комнаты в комнату, чтобы разместиться наиудобнейшим для Александра образом. Но дом слишком тесен, анфилада мала, комнаты сообщаются: и слова нельзя сказать в гостиной, чтобы не услышалось в спальной.
Поэтому мезонин — единственное спасительное убежище, возвысившееся над суетностью домашнего быта.
«Бэкон и Декарт представляют генезис философии как науки, без методы того и другого она никогда не развилась бы в наукообразной форме». Уже 18 сентября Герцен приступает к своим обычным занятиям, читает и размышляет, вносит в дневник наблюдения и заметки, которые вскоре понадобятся ему для цикла философских статей — «Письма об изучении природы».
Жизнь входит в свою колею, и Герцены постепенно привыкают к дому. Пока их с Шушкой (ласковое имя отца, как помним, подходит и сыну) всего трое, не считая неизменной помощницы, Луизы Ивановны, живущей рядом, на своей половине в яковлевском особняке. В мае 1846-го, после смерти Ивана Алексеевича, когда предстоит перебраться в «большой» дом, их уже пятеро — с двухлетним Колей и годовалой Татой (Натальей).
В иные редкие минуты Герцен как-то особенно тихо счастлив. Его посещает то «кроткое чувство» «спокойного обладания счастием очага своего», которое захватывало его и прежде, за тихой Лыбедью во Владимире, или на первых порах их новгородской жизни, когда семья казалась единственным спасением от провинции, бездействия, скуки. Но «тихий уголок, полный гармонии и счастия семейной жизни не наполняет всего…». Он уже давно определил свои общественные предпочтения: «…обязанность жизни всеобщей, универсальной, деятельности общей, деятельности в благо человечества…»
Глава 23
СЕМЬЯ ДРУЗЕЙ
Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического.
А. И. Герцен. Былое и думы
Временем, проведенным в тихом Покровском, и хлопотами по обустройству семьи в маленьком доме на Сивцевом Вражке Герцен отмерял начало новой — «изящной, возмужалой и деятельной полосы» в своей московской жизни.
Большинства из своих друзей, и прежде всего Огарева, путешествующего в «чужих краях», в Москве он не застал. Но знакомства, встречи, бурные споры в московских гостиных и салонах, которыми обзавелась старая столица, пробуждавшаяся от немоты последекабристской эпохи, постоянно притягивали в его круг новых людей. Первое место в этом дружеском окружении принадлежало Грановскому.
Счастливая встреча с ним в 1839-м, когда на ссыльных перепутьях увиделись только мельком, не оставила у Герцена никаких сомнений в близости ему этого человека, одаренного «удивительным тактом сердца». «У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко, — вспомнит Герцен после ранней смерти Грановского, в 1855-м, когда и надежды побывать на могиле друга не было никакой. — Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного „все равно“».
Дружбу Герцен понимал как «великое поэтическое вознаграждение». На дружбу, как сам признавался, ушли лучшие силы его души. В его дневнике не раз варьировалась мысль о радости дружеских обретений. 28 августа 1844 года он записал: «…не мечтательный, не сосредоточенный в себе, я искал наслаждения на людях, делил мысль и печаль с людьми. Дружба меня привела к любви. Я не от любви перешел к дружбе, а от дружбы к любви. И эта потребность симпатии, обмена, уважения и признания сохранилась во всей силе».
Неудивительно поэтому, что в доме Герценов, только успели там обосноваться, Грановский — уже завсегдатай. Видятся почти каждый день. Иногда засиживаются в мезонине, не замечают, как в разговорах промелькнула ночь. Жена Грановского — Елизавета Богдановна, с которой он два года как «чудно счастлив», — ближайшая подруга Натальи Александровны (хоть и моложе ее на семь лет) и, значит, не менее желанная гостья в дружеском кружке.
Старый преданный друг Кетчер, одинаково востребованный и в счастье и в несчастье, — полномочный представитель в герценовском семействе (всегда и во всем участвующий, будь то Сашина простуда или дружеская пирушка).
Кетчер — человек особый. Друг до такой крайней преданности, что может, не желая того, доставлять близким неприятности. Несмотря на возникающие ссоры, обиды, ворчанья, даже взрывы гнева, которые посещали Кетчера столь же внезапно, как и отпускали, после новой, радостной встречи в Москве в отношениях друзей еще не ощущалось «первых шероховатостей». Отрезвев после «несчастного столкновения», Кетчер «старался всему придать вид шутки». И Герцен до поры терпел его «обличительную любовь» и навязываемую им «цензуру нравов».
«Неизменный столб Москвы», как давно окрестила его Наталья Александровна, в октябре 1843 года пытается расстаться со своими друзьями, которых «любит до притеснения», и отправиться в Петербург, где открылась недурная вакансия медика. Одними переводами Шекспира и Шиллера, на которых он, несомненно, собаку съел, сыт не будешь.
Весь октябрь Кетчера провожают. Рассылаются приглашения на прощальные завтраки и званые вечера, обсуждается меню и состав гостей: 7-го — у Герценов, 9-го — у Грановских, а под занавес — в ресторации Гофмана. Сочиняется шуточное послание к осиротевшим друзьям, которое Герцен собственноручно обводит траурной рамкой.
«Тимофей Николаевич Грановский с душевным прискорбием извещает о кончине московской жизни Николая Кристофоровича Кетчера, врача и переводчика, и просит пожаловать на вынос ужина и отпивание тела его в субботу в седмь часов к Николе в Драчах, в доме Гурьева», — каламбурит Герцен, дописывая адрес Грановских в Драчевском переулке на Сретенке. Наконец, Кетчер уезжает, но жизнь без московского круга ему не под силу. Чтобы как-то облегчить другу вынужденную разлуку, москвичи шлют о себе подробнейшие отчеты. Более всего писем от Герценов. Отосланы из Сивцева Вражка в ноябре 1843-го — апреле 1845 года. Благодаря этим письмам вновь приоткрываются двери «тучковского» дома, давно захлопнутые временем.
Пишет Наталья Александровна: «Вот и письмо — слава Богу! Уж мы ждали, ждали, ждали… Да, нечего делать, пришлось прибегнуть к последнему средству — писать — грустно! Великая и единственная отрада в разлуке — письма, — но что они? Запах цветка в склянке духов… voir c'est avoir[60]. Вот хотелось бы послушать раскаты как будто еще не устроившегося голоса допотопного человека, гул страшного спора, иногда (не в осуждение буди вам сказано) похожего на бред горячечного, хотелось бы увидеть сквозь густой табачный дым прическу, напоминающую сосновую рощу в Покровском, брови, говорящие — где гнев, там и милость. <…>…право, ужасный человек: тут он — там стулья, столы и диваны не на месте; нет его — так сердце и душа не на месте. Присутствие и отсутствие его равный производит беспорядок!»
Когда Герцен берется за очередное письмо Кетчеру, Наталья Александровна не упускает возможности сделать приписку: «Генваря 31-е. Понед[ельник]. 3 часа попол[удни]. [1844] <…> Чтобы тебе живо представилась наша жизнь, опишу настоящую минуту: Саша поехал кататься под Новинск, потом заедет к дедушке, там ему бабушка обещала дать маленький блинок, нарочно для него испеченный, Николашка лежит распеленатый на подушке и делает гримасы, Александр сидит возле меня и выписывает рецепт из Гуфланда (немецкого врача. — И. Ж.) от припадков катара, которыми он одержим почти с рождения Ник[олашки], не правда ли, каждый рисуется ярко с своим характером?»
К Николаю Христофоровичу Наталья Александровна особенно нежна и «пристрастна». «Папенька-рыцарь», как ласково его называет. Ведь он свидетель их счастья. А этого нельзя забыть. Да можно ли вообще представить их с Герценом женитьбу без его пособничества?
Волею судеб в 1844 году Герцен сам оказывается вовлеченным в историю женитьбы Василия Петровича Боткина, вошедшего в круг знакомых Герцена в 1839 году вместе с Белинским и Грановским. Давно зарекомендовавший себя на ниве литературной критики, не без некоторых колебаний принявший Герцена и признавший его талант, он — непременный, восторженный адепт Белинского, теперь оказывается среди ближайших герценовских друзей.
Базиль, в ту пору сорокалетний, уже основательно полысевший («волос начал падать с возвышенного чела» — так, пародируя Василия Петровича, скажет Герцен), своей характерностью и колоритностью давал столь значительный материал к собственному портрету, что Герцен, касаясь воспоминаний, не может сдержать улыбки, воображая этого «резонера в музыке» и «философа в живописи». Один из стойких приверженцев московских ультрагегельянцев, «он всю жизнь носился в эстетическом небе, в философских и критических подробностях… Возводя все в жизни к философскому значению, делая скучным все живое, пережеванным все свежее…». Когда же столкнулся с реалиями практической жизни (неравный брак с легкомысленной француженкой, «приехавшей отыскивать фортуну в России»; или готовность отца, богача-миллионщика, лишить наследства блудного сына), был вынужден сбросить, по замечанию тонкого наблюдателя Анненкова, «всю одежду крайнего идеалиста, какую он носил постоянно вопреки новым модам». Упорство Боткина в отстаивании своих гуманных идеалов с выспренними фразами о правах женщины сменилось его раскаянием. Брак долго не продержался, и несчастная заезжая парижанка была покинута. «Эпизод из 1844 года», рассказавший эту немудреную жизненную историю, вошел в «Былое и думы».
Герцен множество раз перебирал в памяти подробности их удивительного житья в Сивцевом Вражке; вспоминал друзей, их рассказы. Представлял их московские трапезы, где остроты и шутки искрились «как шипучее вино». Но как остановить тот «хороший миг», когда жизнь была так полна и так неумолимо быстротечна?
Вот университетский профессор, издатель «Юридических записок»[61] Петр Григорьевич Редкин, «радыкальный» юрист (Герцен каждый раз подтрунивает над ним, передавая его малороссийский говор), основательный ученый, до того «идентифицировавший» себя с наукой, что «нельзя шутить над ним, не обижая ее». Вот профессор римской словесности и древностей в Московском университете Дмитрий Львович Крюков, «милый, блестящий, умный ученый», острящий «с изящной античной отделкой по классическим образцам» и с неутомимой серьезностью выводящий личного Бога. Ему досталось жить недолго. 7 марта 1845 года его схоронили, и Герцен, вернувшись домой, записал: «Студенты несли до кладбища. В церкви было видно, сколько ценили его; величаво и благородно быть так отпету не попами, а толпою друзей и почитателей». «Еще одним светлым, прекрасным человеком» стало меньше в их круге.
Иван Петрович Галахов тоже рано умрет. Благородный, талантливый, добрый, печальный, с тихой улыбкой, поражающий рассказами и каким-то непередаваемым, грустным юмором. В нем было «высокое понятие долга, чести, прямизны». Сколько же вечеров провел с ним Герцен «в откровенности и взаимном доверии»…
Подобрать какие-либо определения для официальной характеристики этого близкого Герцену человека нелегко: ни профессор, ни ученый, ни даже литератор… Просто тончайший, деликатнейший интеллигент из возросшей на русской почве особой породы — «лишних людей». Мятущийся, ищущий, увлекающийся, он бросался в философские, религиозные, политические крайности, но цель его — поиск «успокоительной истины» — постоянно от него ускользала.
Герцен запомнил тот день, когда Кетчера проводили в Петербург, и только он явился к себе на Сивцев Вражек, как «зазвенел колокольчик и взошел Галахов». «Это так глупо, так досадно, что и слов нет, — рассказывал Герцен в письме Кетчеру, — он два дня искал всех нас и никого не нашел, у Гра[новского] был, да не застал, твоей и моей квартиры не знал и наконец приехал в наш большой дом». О рассеянности Галахова ходили легенды.
С нетерпением ждали Коршей — самого «ледахтора» «Московских ведомостей» Евгения Федоровича и его сестру Марью Федоровну. Иногда их просили приехать «вне срока», просто так, потому что соскучились. «…Я и решился, — пишет Герцен М. Ф. Корш зимой 1844 года, — велеть заложить лошадь, похожую на пряник, и отправить ее к стопам вашим и умолять вас приехать». Своим знакомством с Герценом и тесным общением с его кругом они обязаны Грановскому. Приятный, остроумный, умелый собеседник, Корш и его сердобольная, отзывчивая сестра вскоре станут своими людьми среди особо доверенных друзей Герцена и его семьи.
Молодой преуспевающий писатель Иван Тургенев тоже войдет в жизнь Герцена в конце 1844 года, а память о своих посещениях Старой Конюшенной оставит в повести «Гамлет Щигровского уезда», где скажет о бдениях на Трубе, на Арбате и в Сивцевом Вражке, явно подразумевая герценовские собрания.
Всегда радовались приезду Щепкина. Он был постоянным собеседником (и каким собеседником!) в герценовском кружке. Спорили о театре, о репертуаре, который может подвести даже великого артиста, обсуждали «чтебные», вечера для чтения, заведенные Михаилом Семеновичем в марте 1844-го с участием крупнейших актеров Малого театра и еженедельно посещаемые на Мясницкой, в доме Е. И. Новосильцева, множеством народа. Вносили оживление его малороссийские анекдоты, которыми он «морил» до колик, а от щемящих душу рассказов хотелось плакать. Сын крепостного, он только в 35 лет смог вырваться из рабской неволи.
Щепкина всегда «просили рассказать что-нибудь из его молодости, когда он еще был провинциальным актером и служил у антрепренеров, — вспоминала А. Я. Панаева, бывавшая в доме на Сивцевом Вражке весной 1844 года. — Между прочим, Щепкин рассказал однажды печальную историю одной молоденькой актрисы, и этот рассказ послужил Герцену сюжетом для повести „Сорока-воровка“». Превосходные рассказы Михаила Семеновича о чудовищном взяточничестве и полной судебной безнаказанности часто обращались к мелкому чиновничеству, ненавидимому народом и презираемому вышестоящей властью. Известно, что в годы ссылок чего только Герцен не перевидал, не насмотрелся, но история о протоколисте Котельникове («имя которого не должно изгладиться из истории бюрократии») его особенно поразила. «Котельников говорил, — рассказывал Щепкин, — что „он ездил на 11 исправниках, ведь всякие бывают, к иному подойти страшно, точно бешеный жеребец, и фыркает, и бьет, а смотришь — в езде куда хорош“».
Особое удовольствие доставляли спектакли с участием артиста. Начиная с 1839 года, когда только с ним познакомился, Герцен старался их не пропускать. Уже написал статью под впечатлением сыгранной Щепкиным роли в пьесе «Преступление, или Восемь лет старше» О. Арну и Н. Фурнье (в Большом театре 11 сентября 1842 года). Присутствовал на блестящем бенефисе артиста на той же сцене, где давали «Женитьбу» и «Игроков» Н. В. Гоголя (1843). Менее восторженно принял не слишком удачное его выступление 13 января 1844 года (репертуар, подобранный для бенефиса, «был составлен бог знает из чего», — записал Герцен, подразумевая неудачную инсценировку «Айвенго» В. Скотта вкупе с первым актом оперы «Наталка-Полтавка»). Герцен разделял мнение множества восторженных почитателей таланта Щепкина, заявляющих, что живая жизнь и сцена, как сообщающиеся сосуды, для него неразрывны. В истории русской сцены так и осталось навсегда справедливое утверждение о великой заслуге гениального артиста: он первый стал не театрален на театре.
На Сивцевом с нетерпением ждали Щепкина, когда он отправлялся на гастроли. Раз, увидевши в окошко сани Михаила Семеновича, имевшего обыкновение сразу взбираться к Герцену в мезонин, Наталья Александровна с Шушкой бросились наверх, чтобы встретиться с ним поскорее и, конечно, порасспросить о Кетчере. Щепкин только что вернулся из Петербурга и обнадеживал скорым появлением друга. Этот приезд в «тучковский» дом Михаила Семеновича описала Наталья Александровна в письме Кетчеру 16 ноября 1844 года, как всегда, сопроводив множеством деталей из бытовой повседневности.
Девушка с цепкой памятью — Машенька Эрн, живущая по соседству, у Яковлева, спустя десятилетия в замужестве Мария Каспаровна Рейхель, автор мемуаров, — к немногочисленным описаниям «тучковского» дома добавит свои впечатления. Она напишет об особом его духовном статусе, не идущем в сравнение ни с бытом, ни с жизнью яковлевской среды: «Какая другая атмосфера была вблизи Герценов, нежели у нас в большом доме, особенно, когда я могла присутствовать и слушать разговоры и споры друзей Герцена, где столько было высокого, поднимающего, где, мало-помалу, расширялся горизонт. И какие люди!» Она свидетельствует и как участница герценовского кружка, куда помимо мужчин входили и женщины, что было в ту пору большой редкостью. «Первое время, — вспоминала М. К. Рейхель, — я не была знакома с кружком Герцена. Раз мы все куда-то ездили и остановились у квартиры Коршей; Александр Иванович выпрыгнул из кареты узнать о чем-то и вскоре воротился со словами: „…да что же, полноте дичиться, выходите, Корши будут очень рады и просят взойти…“ Я, робкая, непривычная к обществу, очень боялась, особенно сестры Кор-ша Марьи Федоровны, о которой много слышала. Но каковы были моя радость и мое удивление, когда Марья Федоровна меня обласкала и так была мила и приветлива, что сразу завоевала мое сердце. С тех пор я могла бывать в этом кругу, где было столько ума, свету, свободы, знания».
«На этом времени дружного труда, полного поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы», Герцен останавливался с особой любовью. В его вечной книге пройденной жизни — признание в любви лучшим из лучших. Это не только привет из ушедшей молодости, но и преклонение перед невероятной талантливостью русских людей, которых ему посчастливилось иметь в своем окружении. На расстоянии, вдали от России, когда сиюминутные споры, обиды ушли, а идеологические размолвки с друзьями утихли, былое виделось еще более значительным. Таких особенных людей, даже среди самых блестящих западных интеллектуалов (а знакомствами Герцен не был обделен), он больше никогда не встретит. И «не даст в обиду» ни своих друзей, «ни того ясного, славного времени».
«Наш небольшой кружок собирался часто, то у того, то у другого, всего чаще у меня, — вспоминал Герцен в „Былом и думах“. — Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем.
Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки».
Для этих дружеских сборов Боткин покидал свою Маросейку, Грановские спешили из Драчей. Щепкин отправлялся зимой ли, летом, в санях, либо в коляске из насиженного семейного гнезда.
Помимо Конюшенной маршруты друзей пересекались у Красных Ворот, в салоне Авдотьи Петровны Елагиной, бывшем, по словам летописца «замечательного десятилетия» Павла Васильевича Анненкова, «любимым местом соединения ученых и литературных знаменитостей», где «противоположные мнения могли свободно высказываться».
По понедельникам ездили на поклон к басманному затворнику Чаадаеву; бывали на вечерах у Дмитрия Николаевича и Катерины Александровны Свербеевых на Страстном бульваре; не избегали и чету Павловых — поэтессу Каролину Карловну и ее мужа, литератора и издателя Николая Федоровича.
«Многочисленное литературное общество собиралось у них по четвергам, — вспоминал очевидец и непременный участник бурной московской жизни (а в дальнейшем яростный оппонент Искандера) Борис Николаевич Чичерин. — Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры…» И кого вы здесь только не встретите… «Трудно себе представить более остроумного и забавного собеседника, чем Герцен», — свидетельствовал позже Афанасий Фет. «Чрезвычайно остроумный» Герцен, — подтверждала распространенное мнение писательница Е. А. Карлгоф, принимавшая признанного полемиста и в собственном салоне.
В гостиных и салонах, в этих «оазисах», «куда скрывалась русская мысль в те эпохи, когда недоставало еще органов для ее проявления», за невозможностью открытых политических дискуссий решались вопросы литературные, — подтвердит все тот же Анненков.
В декабре 1843 года Анненков вошел в герценовский круг. Познакомились в самом начале месяца, когда Павел Васильевич наведался в старую столицу. Этот талантливый петербургский критик, издатель Пушкина, безраздельно посвятивший себя истории литературы, умевший «ловить на лету» все только зарождавшиеся явления, события, тенденции литературного процесса, прочно укоренился среди ближайших приверженцев Герцена и Белинского, и позже, в своих «Литературных воспоминаниях», подтвердил непреходящее значение этих замечательных личностей.
«Одним из важных борцов в плодотворном диспуте, завязавшемся тогда на Руси, был Г[ерцен]. Признаться сказать, — вспоминал он, — меня ошеломил и озадачил на первых порах знакомства этот необычайно подвижной ум, переходивший с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету, умевший схватить и в складе чужой речи, и в простом случае из текущей жизни, и в любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дает им физиономию и живое выражение. Способность к поминутным неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Г[ерцена] в необычайной степени, — так развита, что под конец даже утомляла слушателя. Неугасающий фейерверк его речи, неистощимость фантазии и изобретения, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно в изумление его собеседников. После всегда горячей, но и всегда строгой, последовательной речи Белинского скользящее, беспрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово Г[ерцена] требовало уже от собеседников, кроме напряженного внимания, еще и необходимости быть всегда наготове и вооруженным для ответа. Зато уж никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношений с Г[ерценом], а претензия, напыщенность, педантическая важность просто бежали от него или таяли перед ним, как воск перед огнем».
«<…> При стойком, гордом, энергическом уме это был совершенно мягкий, добродушный, почти женственный характер. Под суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, под прикрытием очень мало церемонного и нисколько не застенчивого юмора жило в нем детское сердце. Он умел быть как-то угловато нежен и деликатен, а при случае, когда наносил слишком сильный удар противнику, умел тотчас же принести ясное, хотя и подразумеваемое покаяние».
«Он жил в Москве на Сивцевом Вражке еще неведомым для публики лицом, но уже приобрел известность в кругу своем как остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды…»
«За что презирать лапоть и сермяжку? Ведь они не более, как признак крайней бедности, вопиющего недостатка…» — говорил в одно утро в мезонине «тучковского» дома Герцен, восставая против какой-то неосторожной «полемической выходки» Белинского о мужицком быте, «названном им „лапотной и сермяжной действительностью“», и Анненков, будучи свидетелем, запомнил герценовские слова.
Какой же выход найти? Как избавиться от позорного бремени несвободы, которая одновременно мучит и лучших представителей его, Герцена, класса, и ближайших друзей-единоверцев? Конечно, толки об эмансипации, о новом указе, но все без толку, без движения… Вот Огарев знает. Писал ему из Берлина: «Чувствовал ты когда-нибудь всю тяжесть наследного достояния? <…> Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься». И это не просто слова. Своих белоомутских крестьян в крупнейшей рязанской вотчине, своих наследственных рабов с их женами и детьми (четыре тысячи душ!) Николай Платонович давно уже отпустил на волю.
Небывалый опыт Белоомута 1840 года — первое в России освобождение крестьян с передачей им помещичьей земли — хоть и послужил смелым вызовом системе и наделал немало шума, но радости Огареву не принес. Он чувствовал, что становится изгоем. Даже в здешней церкви, в его пензенском владении, благовоспитанные соседи-помещики шарахались от него как черт от ладана. Кончилось тем, что в оброчной вотчине, где сила была на стороне местных богатеев, все и досталось этой верхушке, подмявшей под себя бедняков.
В герценовском кружке Огарева всегда считали «директором совести». Слова у него не расходились с делом. Будь он и Белинский рядом, легче бы переносились многие невзгоды.
Их присутствие в кружке всегда ощущали. Их письма сохранили живую человеческую связь, и Герцен свято верил в общность их воззрений, в одинаковость их развития, оговариваясь, что никогда не разделял чрезмерных крайностей во взглядах критика и некой пассивности, усматриваемой в поведении Огарева.
«Письмо от Белинского, — записал Герцен в дневник. — Фанатик, человек экстремы[62], но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы людей — Робеспьер. Человек для них ничто, убеждение — всё».
Письма от друзей, пусть не слишком регулярные, вызывали у Герцена восторженный отзвук: «…как прекрасны люди, как Огарев, в другом роде — как Белинский! Какой любовью и каким приветом мы окружены!»; «…получил прекрасное письмо от Огарева; несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое».
Огарев как-то писал: «Полное счастье — сознательно внимать великой симфонии жизни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою партию, как бы грустно не тревожили слышимые звуки». Но как эту «партию» довести до слушателей? Герцен отвечал, употребив тяжеловесное (а может, и самим им изобретенное), но всеобъемлющее слово: «Надобно одействотворить (курсив мой. — И. Ж.) все возможности, жить во все стороны — это энциклопедия жизни…»
Огарева долго ждали, друзья упрекали его иногда в слабости, иногда в нерешительности, изверились в скором его приезде из-за границы. Грановский в письме своему другу Н. Г. Фролову даже осуждал Огарева за праздность: «Говорят, что в России не для всякого возможна деятельность. Это оправдание людей, которые не хотят ничего делать. Герцен, Кетчер, Корш много делают каждый в своей сфере».
Герцен подтвердил в «Былом и думах», что все возможности, отпущенные временем до момента воздвигнутых властью препятствий, были использованы его друзьями: «Грановский и все мы были сильно заняты, все работали и трудились, кто — занимая кафедры в университете, кто — участвуя в обозрениях и журналах, кто — изучая русскую историю; к этому времени относятся начала всего сделанного потом.
Мы были уж очень не дети; <…> мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли».
Глава 24
ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ Г-НА ГРАНОВСКОГО В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Лекции Грановского… имеют историческое значение.
П. Я. Чаадаев
Первым на поприще исторической науки использовал предоставленную временем возможность публичности Тимофей Николаевич Грановский.
«Вчера Грановский начал свои публичные лекции. Превосходно, — отозвался Герцен в дневнике 24 ноября 1843 года. — Какой благородный, прекрасный язык, потому именно, что выражает благородные и прекрасные мысли. Я очень доволен. Его лекции в самом деле событие, как говорит Чаадаев; слыханное ли дело, чтоб на лекции, без опытов физических или химических, сошлось множество людей, из которых 50 заплатили за вход 50 рублей? И как современны они, какой камень в голову узким националистам! Писал сегодня статейку об них для „Московских ведомостей“, повезу ее завтра к графу Строганову, — кажется недурно. Множество дам; разумеется, они не слушать ездят, а казать себя — но все это хорошо и, впрочем, в самом деле есть желание интересов всеобщих».
С середины ноября 1843 года в доме Герцена только и разговоров, что о Грановском и о будущем его публичном курсе по истории Средних веков, объявленном в Московском университете. Публичность — великое дело, и Россия ею не избалована. Предоставить кафедру свободному слову, вывести науку за пределы университетских стен — такого Москва еще не видывала. В Петербург, к Кетчеру, летят «отчеты» друзей.
15 ноября ему пишет сам Грановский: «Я надеюсь… высказать моим слушателям en masse[63] такие вещи, которые я не решился бы сказать каждому поодиночке. Вообще хочу полемизировать, ругаться и оскорблять. <…>…у меня много врагов… источник вражды в противуположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих „врагов“».
Восемнадцатого ноября в Петербург идет письмо Герцена: «Мы живем по-старому, Гр[ановский] собирается с силами и духом, чтоб грянуть публич[ные] лекции. 50 слуш[ателей] будет наверное (сверх даровых). <…> Beau monde[64] собирается к нему, и Петр Яковлевич] говорит, что это событие. Apropos, он, т. е. Ч[аадаев], сшил себе серое пальто и говорит: „Je me retire du monde et c'est pour cela que je me suis fait des habits ad hoc“»[65].
В Москве любят шутку, острое словцо, переносят их из дома в дом, но это уж слишком отзывается трагедией. Затворник флигеля на Басманной, объявленный Николаем сумасшедшим и еженедельно посещаемый врачом, не говоря об «освидетельствовании» жандармов, только и может презреть иронией «поврежденное своеволие своих мучителей».
Успех лекций превосходит все ожидания. Да и слушателей отнюдь не пятьдесят. Давка, места нельзя получить, а сколько прекрасных дам…
Сразу же, после первой лекции, Герцен принимается за статью. Она так и называется «Публичные лекции г. Грановского». Написана на одном дыхании, за день, хотя тот день, 24 ноября, и выдался трудный (в доме волнения, беспокойства — Шушка серьезно болен). К названию статьи добавляется подзаголовок: «Письмо в Петербург». То будет лишний отчет петербуржцам, тому же Кетчеру, Белинскому, не имевшим удовольствия слышать Грановского.
«В самом событии этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: в то время, когда трудный вопрос об истинном отношении западной цивилизации к нашему историческому развитию занимает всех мыслящих и разрешается противуположно, является один из молодых преподавателей нашего университета на кафедре, чтоб передать живым словом историю того оконченного отдела судеб мира германо-католического, которого самобытно развивающаяся Россия не имела. Г-н Грановский… посвятивший жизнь свою глубокому изучению европейской истории, выходит перед московским обществом не как адвокат средних веков, а как заявитель великого ряда событий, в их органической связи с судьбами всего человечества; его чтения не могут быть разрешением вопроса, но должны внести в него новые данные; он вправе требовать, чтоб, желая осуждать и отталкивать целую фазу жизни человечества, выслушали по крайней мере симпатический рассказ о ней. <…> Эта симпатия — великое дело: в наше время глубокое уважение к народности не изъято характера реакции против иноземного; многие смотрят на европейское как на чужое, почти как на враждебное, многие боятся в общечеловеческом утратить русское. Генезис такого воззрения понятен, но и неправда его очевидна. Человек, любящий другого, не перестает быть самим собою, а расширяется всем бытием другого; человек, уважающий и признающий права ближнего, не лишается своих прав, а незыблемо укрепляет их».
Точный, провидческий анализ Герцена, его утверждение, что общество вовсе не отрицает всеобщих интересов, в нем проросших, позволяют автору статьи сформулировать ряд важных положений о философии истории, об истории как о науке, вписавшейся в современный ему политический контекст, без видимых расстановок точек над i: «В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед».
Впоследствии в «Былом и думах», написанных без цензуры, первое свое непосредственное впечатление от услышанного Герцен взвесит и обобщит. Он будет размышлять над главной причиной успеха лекций Грановского, который «не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин». «Его сила, — заключит Герцен, — была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии… в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. <…> Излагая события, художественно группируя их, он говорил ими так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслию». «Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду», — писал Герцен о приемах и методах современной науки, привитых историку «поэтически» его другом и учителем Станкевичем.
Непосредственный отчет Герцена о лекциях Грановского в России 1843 года встретил немалые цензурные сложности. В статью, кажется, безобидную, придется внести кое-какие изменения. Для ее прохождения в «Московских ведомостях» — ни в коем случае нельзя упоминать Гегеля. «Откуда эта гегелефобия?» Этого требует граф С. Г. Строганов, давний знакомый, который приязнен к Герцену и старается стоять над схваткой, но цензура — в его ведении. Попечителю Московского учебного округа, даже вполне учтивому, «рыцарски благородному», по признанию Герцена, не пристало быть чересчур либеральным и отпускать натянутые режимом вожжи. Второе письмо «О публичных чтениях г-на Грановского» граф Строганов и вовсе откажется поместить в «Московских ведомостях», и Герцен в дальнейшем будет изыскивать возможность напечатать его любой ценой.
От лекции к лекции успех Грановского растет. Общий фурор. Студенческая молодежь — в эйфории, «треск, вопль, неистовство одобрения». Такого в университете еще не видывали. Жаль, что Наталья Александровна нездорова и многое проходит мимо нее. Герцен пытается передать жене содержание чтений. Но как передать восторг публики, особый трепет, пронизывающий аудиторию всякий раз, когда слышится слабый, точно в душу проникающий голос историка. Тогда Тимофей Николаевич сам вызывается прочесть для Натальи Александровны пропущенные ею лекции.
Вспоминает Т. А. Астракова, присутствовавшая на этих чтениях вместе с М. Ф. Корш и М. К. Эрн, непременными участницами герценовского кружка: «Вот Грановский читает для Наташи, у нее в кабинете. <…> И что это были за лекции! — Не стесняясь публикой и неизбежной в публике цензурой, он читал так живо, так увлекательно, так интересно эти лекции, что, право, мне кажется, лучше этого никто не прочтет… По окончании лекции мы все благодарили Грановского. Наташа молча сжимала его руку и с горячей благодарностью глядела ему в глаза, и у Грановского всегда появлялись на глазах слезы, и он спешил уйти».
Нарастающий успех лекций Грановского множил армию его врагов. К середине декабря 1843-го становится ясно, что, соблюдая «хорошую мину», они лишь приумолкли, чтобы, как выразится Герцен, «дать пошире скачок».
И действительно, незатухающая война двух, прочно укоренившихся противоборствующих групп, спровоцированная общественным резонансом лекций Грановского, обнаружила бездну противоречий между сторонниками историка и его противниками, получившими, как известно, весьма условные названия — «западники» и «славянофилы».
Тут настало время, хотя бы коротко, вспомнить о двух течениях русской общественно-литературной мысли, в которых развивалась идеология «истинных славянофилов» (по слову Чернышевского), то есть ранних славянофилов 1830–1840-х годов, проявивших себя в это «замечательное десятилетие», так обозначенное П. В. Анненковым. В эту пору расцвета славянофильского направления жили и действовали бок о бок с Герценом и Грановским люди выдающиеся — братья И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, братья К. С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев. К славянской партии примыкали профессора Московского университета и издатели «Москвитянина» — М. П. Погодин и С. П. Шевырев. К портретам и к историческому поведению славян в означенное время будем присматриваться, и, прежде всего, открыв сочинения Герцена.
В «Былом и думах» очерчена широкая панорама противостояния лагерей: «Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение…»
«Сначала в бой вступает „тяжелая пехота“» — Погодин и Шевырев — «сиамские братья московского журнализма». Герцен отдает дань «полезному профессору» и видному историку Погодину, но не оставляет без внимания его произведения, сочиненные «шероховатым, неметеным слогом», в подражание которому им уже написан едкий пародийный очерк «Путевые записки г. Вёдрина». Пристально следит он за всеми публикациями «Москвитянина» (не раз достанется от него и от Белинского этому журналу) и не оставляет без внимания «гнусные обвинения», почти что прямой донос, преподнесенный Шевыревым в статье о лекциях Грановского.
Герцен перелистывал только что доставленную, 12-ю, декабрьскую книжку журнала за 1843 год. 11 декабря записал в дневнике: «Неблагородство славянофилов „Москвитянина“ велико, они добровольные помощники жандармов. Они негодуют на Грановского за то, что он не читает о России (читая о средних веках в Европе), не толкует о православии, негодуют, что он стоит со стороны западной науки (когда восточной вовсе нет) и что будто бы мало говорит о христианстве вообще. Все это было бы их дело; но они кричат об этом так, что и Филарет начал толковать, хотят печатать в „Москвитянине“, что он читает по Гегелю etc».
Хорошо еще, что существует видимость публичности и Грановский с кафедры может ответить «Шевырке» и присным. 20 декабря 1843 года, окончив лекцию, Грановский обращается к аудитории: «Обвиняют, что я пристрастен к Западу, — я взялся читать часть его истории, я это делаю с любовью и не вижу, почему мне должно бы читать ее с ненавистью. <…> Если б я взялся читать нашу историю, я уверен, что и в нее принес бы ту же любовь. Гром рукоплесканий и неистовое bravo, bravo окончило его речь. <…> На этот раз публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикам! Такие проявления… как они ни редки — радуют. Глядя на гам и шум, у меня сердце билось и кровь стучала в голову, есть-таки симпатии. Может, после этого, власть наложит свою лапу, закроют курс, но дело сделано…» Все это записано Герценом в тот же дневник, бездонный кладезь мыслей, сомнений, переживаний, набросков будущих писем и задуманных сочинений, из которого он будет черпать и черпать (кстати, предоставив шанс и будущему исследователю его биографии заглянуть в творческую лабораторию писателя-мемуариста).
Хрестоматийная суть расхождений Герцена, Грановского, их противников и друзей, членов герценовского кружка «западников», а точнее, «наших» (по определению Герцена[66]) состояла, как известно, в понимании и отстаивании различных возможностей развития России и споре о выборе пути предстоящих преобразований — европейского и особого, русского, в возможность которого верили славянофилы. Приверженность части общества к историческому опыту Запада (естественно, со многими оговорками) наталкивалась на протест славянофилов, славян, уверенных в гибельности Петровских реформ и необходимом возвращении к самобытности допетровского периода («к русским основам, согласным ее духу» — как было сформулировано в более поздней «Записке» К. Аксакова 1855 года).
Самые сильные стороны взглядов славянофилов сближали их с западниками. В славянофильском наследии важна постановка коренных российских вопросов о роли народа в судьбах страны; призывы к сближению с ним, к изучению народной жизни и быта, культуры и языка. Особая общность двух направлений — в обличении «угнетательной системы» самодержавия (по слову И. Киреевского) и в резкой критике злодеяний крепостничества. В этом смысле славянофилы — оппозиционеры, почему и подвергались преследованиям власти.
Весьма условной терминологией устоявшихся «эпитетов», как многие считали (в том числе П. В. Анненков), и выражалось противостояние этих двух, очень неоднородных, разношерстных лагерей, и, как увидим в дальнейшем, не имеющих единства в воззрениях даже в собственных рядах.
Не правы те критики славянофильства, полагал Д. И. Писарев, которые «стушевывали под один колер» Хомякова, Киреевского, К. Аксакова и других. У каждого — своя, индивидуальная физиономия. И Герцен, оказавшись с ними лицом к лицу, не уставал всматриваться в их лица, характеры, историческое поведение.
При всей нетерпимости, бескомпромиссной страстности споров, навсегда разводящих даже бывших, любящих друг друга людей, — это был искренний поединок, как они полагали, решающий. Речь ведь шла о судьбах Отечества.
Разговор со славянами, полемика с ними предстоит еще долгая, особенно когда у Герцена появятся собственные бесцензурные издания. (Но об этом речь опять-таки впереди.)
Но как же определить его взгляды в рассматриваемую эпоху? Был ли он «западником» в 1840-е годы или только «поддерживал западников в спорах со славянами»? Как изменялись его воззрения, представления? И как они расходились в оценках славян с более радикальным Белинским? Послушаем Герцена, Грановского, откроем их сочинения, ибо широкая панорама идейного противостояния вышедших к барьеру противников — «наших» и «не наших», развернутая Герценом, так и осталась навечно в «Былом и думах».
При самых серьезных научных исследованиях и политологических выкладках, трудах, анализах, литературных воплощениях (в силу вечной злободневности и сиюминутности темы[67], которую коротко затронем в подстрочных примечаниях, не чуждых и в построении корпуса «Былого и дум») никто, пожалуй, так и не смог художественно превзойти Герцена в его характеристиках, оценках и трактовках этих особенных явлений в истории русской общественной мысли. Трудно отвлечься от взгляда Герцена на своих «друзей-врагов» — гуманного, художественно-заостренного, литературно-изысканного. Ведь люди-то какие — философы, спорщики, поэты…
И тут армия выстроившихся определений, мнений, высказываний, блестящих, поучительных — только приглашение к сплошному чтению неувядаемых страниц герценовских мемуаров.
Глава 25
«ДРУЗЬЯ-ВРАГИ», «ВРАГИ-ДРУЗЬЯ»
Рядом с нашим кругом были наши противники, nos amis les ennemis, или, вернее, nos ennemis les amis — московские славянофилы.
А. И. Герцен. Былое и думы
Москва 40-х годов позапрошлого столетия поражала не только страстной непримиримостью публичных споров двух оформившихся в противоборстве лагерей, но и некой допотопной экстравагантностью внешнего облика приверженцев русской самобытности. Вот когда пошли в ход охабни[68] и мурмолки, атласные рубашки и кушаки, окладистые бороды и стрижки в кружок. Если в Конюшенной вдруг повстречается человек странноватого вида в столь разнопером наряде, то, несомненно, — это Константин Аксаков, живущий тут же по соседству, на Сенной, или же сам Алексей Степанович Хомяков, непременный лидер славян, которого, как ни старайся, все же выдает цыганская внешность.
«Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок», — приметит Герцен. А Чаадаев пошутит: «…К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина».
Славянофилы, считал Герцен, «начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в „Отечественных записках“, а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием „Европеец“; эти названия лучше всего доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии». Когда Белинский окончательно излечился от своей «переходной болезни» (сводившейся, известно, к непротивлению и «к признанию предержащих властей»), то он, «как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение». Особую страстность начавшейся полемике придавали его статьи и уж, конечно, «Письмо» Чаадаева, немало поспособствовавшее единению славянофилов.
«В мире не было ничего противуположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное, проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории, — писал Герцен в „Былом и думах“. — Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.
„В Москве, — говаривал Чаадаев, — каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну…“». И Чаадаев, и славяне «равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни», полагал Герцен, и спор — как же дальше жить России, ибо «так жить невозможно» — с противоположными подходами оппонентов приводил к вечному вопросу: «Где же выход?» Крепостническая, погрязшая в рабском повиновении власти николаевская Россия ответа пока не давала. Но в этом бесконечном поиске выхода из лабиринта, в этих философско-теоретических спорах уже пробуждалась русская мысль, выводившая на дорогу реальных преобразований.
Крайнее направление западнических воззрений Чаадаева, естественно, встречалось славянофилами в штыки. В их решении выхода, размышлял Герцен, «лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было, — не смертельная болезнь».
«„Выход за нами, — говорили славяне, — выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; воротимся к прежним нравам!“
Но история не возвращается, — заключал Герцен, — жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья».
В противовес национальному нигилизму возникли и крайности славянофильского направления. Проповедь национальной исключительности России и ее особой, мессианской, роли порождала теории всевозможных оттенков, которые в дальнейшем расцветут пышным цветом.
Среди немногочисленных людей, отдалившихся от Белинского, были и те, кто «сделался» православными славянофилами. Происходила «сортировка по сродству». Круг Станкевича должен был неминуемо распасться. В 1840 году уже не было в живых его идеолога, а сплотившиеся вокруг него соратники были столь разными по своим воззрениям и человеческому материалу, что при дальнейшем идейном развитии остаться вместе они не могли. Помним, что, наряду с Белинским и Грановским, крещение Гегелем и немецкой философией проходили в кружке такие антиподы, как Бакунин и Константин Аксаков, Алексей Кольцов и Михаил Катков…
«Возле Станкевичева круга, сверх нас (Герцен вспоминает о своем кружке 1830-х годов. — И. Ж.) был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ним в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии назвали славянофилами. Славяне приближались с противуположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.
Между ними и нами естественно должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, то есть к Хомякову и Киреевским, Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии».
Славянофилы упоминаются в письме Герцена Белинскому из Новгорода 26 ноября 1841 года, после недолгого пребывания ссыльного в московской командировке: «В Москве я все время ратовал с славянобесием и, несмотря на все, ей-богу люди там лучше, у них есть интересы, из-за которых они рады дни спорить…» Но пока эти схватки-бои с неоформившимся противником, с которым поименно Герцен еще не знаком, исключая Алексея Степановича Хомякова (уже признанного «столпа» славянофильства), не носят последовательного характера, да и мало что о них известно.
У славян к этому времени уже сложилась концепция, изложенная Киреевским и Хомяковым. Однако их теории и статьи были доступны лишь немногим. Распространявшиеся в рукописных списках, в печать они проходили с трудом (опубликованы значительно позже), но зато оживленно обсуждались заинтересованной частью интеллектуального московского общества. И Герцен не мог не отозваться, сочиняя в Новгороде свою хлесткую статью о противостоянии столиц: «…в Москве есть круги литературные, бескорыстно проводящие время в том, чтобы всякий день доказывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а Русь цветет. В Москве издается один журнал, да и тот „Москвитянин“».
От поверхностного знакомства Герцена с Хомяковым, состоявшегося, очевидно, еще весной 1840 года, когда Герцен только вернулся из владимирской ссылки, осталось первое впечатление — «человек эффектов, совершенно холодный для истины».
С другими из действующих лиц славянофильского войска, выстроившихся «в боевой порядок» при подготовке к беспощадной битве, Герцен познакомился, уже окончательно возвратившись в Москву, в 1842 году. Споры с Хомяковым теперь велись постоянно и были весьма продолжительными. Свидетель противостояния и соратник «не наших» А. И. Кошелев подмечает, что эти «прения» «более философские и политические», начинавшиеся крайне дружелюбно, «кончались настоящими словесными дуэлями: борцы горячились и расставались с неприятными чувствами друг против друга».
На первых порах случавшихся полемик иногда казалось, что расхождения носят лишь философско-теоретический характер, а из Гегеля и Шеллинга делаются разные выводы. Ясно, в спорах рождается истина и противники смогут договориться о каких-то общих путях продвижения в лучшее будущее страны. Недаром Герцен в «Былом и думах» оценил все значение славянофилов для пробуждения русской мысли в эпоху, «когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни»: «С них начинается перелом русской мысли».
Шестого ноября 1842 года Герцен делал первые выводы, участвуя в сложившемся противостоянии: «Славянофильство ежедневно приносит пышные плоды, открытая ненависть к Западу есть открытая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого… славянофилы само собою становятся со стороны правительства, и на этом не останавливаются, идут далее».
Бурная жизнь в салонах и гостиных воодушевляюще захватила Москву.
О московских гостиных и столовых, хранящих традиции, стремления и интересы 1820–1830-х годов, никто не написал лучше Герцена, проведя перед читателем «Былого и дум» этот несравненный парад редких индивидуальностей, более не повторившийся в русской культуре.
Герцен говорил о московских гостиных и столовых, «в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал… <…> где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало».
Частые встречи оппонентов в 1840-е годы происходили в признанном салоне Авдотьи Петровны Елагиной, в ее доме у Красных Ворот.
Восемнадцатого ноября 1842 года Герцен записал: «Был на днях у Елагиной — матери если не Гракхов, то Киреевских[69]. <…> Мать чрезвычайно умная женщина, без цитат, просто и свободно. Она грустит о славянобесии своих сыновей». Из письма ее сына Андрея Елагина известно, «как Хомяков весь вечер резал Аксакова и Герцена на бытии и небытии». (И здесь, конечно, уже начавшиеся, и столь важные для всех оппонентов, разговоры о бессмертии души.) Когда же переходили на Гегеля, то «крик был ужасный»: «Херцен и Аксаков горячились, а Хомяков их поддразнивал», — свидетельствовала другая участница вечеров.
«Они хвастаются даром слова, — говорил однажды о славянофилах в присутствии Герцена и Хомякова Чаадаев, — а во всем племени говорит один Хомяков»[70].
Полемист Хомяков действительно был отличный, «необыкновенно даровитый и обладавший страшной эрудицией», к тому же противник преопаснейший. В «Былом и думах» Герцен обобщит свои наблюдения об этом «Илье Муромце» славянизма: «Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый в них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь». Словосочетание «говорильня Хомякова» так навсегда и осталось в историческом, бытовом и музейном обиходе (если вспомнить экспозицию в Историческом музее).
С Петром Васильевичем Киреевским Герцен познакомился в ноябре 1842 года. Фольклорист и писатель, положивший немало сил на сбор, сохранение и публикацию лучших образцов русского народного творчества, привлек его особое внимание. Позже, после разговоров с ним, Герцен оценил его чисто религиозное воззрение, которое «странно до поразительности», «не изъято поэзии, хотя односторонность очевидна». Эта односторонность усматривалась им в отвержении всего западного христианства и в признании лишь «частно религиозного, именно греко-российского христианства». «…История как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию для них не существует, — продолжал Герцен свою нескончаемую внутреннюю полемику с идейными неприятелями, — их взгляд на историю приближается к взгляду скептицизма и материализма с противуположной стороны».
Внимательно приглядывался Герцен и к старшему брату Петра — Ивану Васильевичу. Встретились тут же, в салоне их матери, где среди самой пестрой публики Александр Иванович вместе с Натальей Александровной были приняты с особой симпатией.
«Иван Киреевский, конечно, замечательный человек, — подытожил в дневнике свои первые наблюдения Герцен, — он фанатик своего убеждения так, как Белинский своего. Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противуположен в воззрении; ненавистны те люди, которые не умеют резко стоять в своей экстреме, которые хитро отступают, боятся высказаться, стыдятся своего убеждения и остаются при нем. Киреевский coeur et âme [71][отстаивает] свое убеждение, он нетерпящ, он грубо и дерзко возражает, верно своим началам и, разумеется, односторонно. Человек этот глубоко перестрадал вопрос о современности Руси… Он верит в славянский мир — но знает гнусность настоящего».
Иван Киреевский тем не менее не скрывал разноголосицу в собственном лагере сторонников. Он видел оттенки и слышал разные мнения: «Во-первых, мы называем себя Славянами, и каждый понимает под этим словом различный смысл. Иной видит в славянизме только язык и единоплеменность, другой понимает в нем противоположность Европеизму, третий — стремление к народности, четвертый — стремление к православию. Каждый выдает свое понятие за единственно законное и исключает все выходящее из другого начала…»
Спустя десятилетие Чернышевский в «Очерках гоголевского периода», в эпизоде о славянофилах, вспомнил статью Ивана Киреевского «Обозрение современного состояния литературы» (Москвитянин, 1845) и не нашел там ни «вражды к просвещению», ни всяческого отрицания приобщения народа к ценностям другой культуры. Напротив, цитируя «почтенного автора», он увидел его цель, общую для «всех благомыслящих людей», — улучшение русской жизни, хотя в средствах и подходах к ее достижению с ним не соглашался.
Преследование власти не обошло этих людей, «их заела ржа страшного времени». На глазах Герцена ломались их судьбы, а самые возвышенные намерения отвергала реальная жизнь.
Как-то мартовским днем 1843 года, после длительного перерыва повстречав И. Киреевского на улице, Герцен, вернувшись домой, не мог отделаться от нового, поразившего его впечатления разительной физической перемены в «прекрасной, сильной личности Ивана Васильевича»: «Сколько погибло в нем, и притом развитого! Он сломался так, как может сломаться дуб. <…> Он чахнет, борьба в нем продолжается глухо и подрывает его. Он один искупает всю партию славянофилов».
В мае 1844 года расхождения между друзьями-врагами и врагами-друзьями уже ощутимы, но они еще не противники. 2 мая И. Киреевский в письме Хомякову разъясняет свое отношение к мнениям Грановского, Герцена и его друзей: «…славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентричные мнения Грановского».
Петр Васильевич — гораздо радикальнее своего брата, «шел дальше в православном славянизме» и «не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию — с наукой, западную цивилизацию — с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия», — считал Герцен.
Особое место в московских собраниях и страстных застольных беседах занимал дом Аксакова. Двери его всегда широко открыты для всех. И сколько тут перебывало народу. И сколь-кие получили здесь поддержку, нашли участие и ласку.
К «препочтенному и преблагородному» семейству у Герцена — особый пиетет. Уже в начале 1830-х годов эта дружная, хлебосольная, богатая интеллектуальными запросами семья, — сам патриарх — Сергей Тимофеевич, его жена — Ольга Семеновна, четверо сыновей и две дочери, — для старой столицы своего рода достопримечательность, феномен. Открытый хлебосольный дом — образец следования всем канонам русской православной традиции, несомненно, литературный оазис, притягивающий первейшие таланты (Гоголь здесь свой).
В этой семье дети постоянно с родителями, живут их жизнью, их общими интересами. Здесь и речи нет ни о каком привычном расколе на отцов и детей. Пример чистоты и духовного здоровья показывает сам отец семейства, которого дети ласково называют «отесинька», «отецинька», избегая французского «папа».
После того как уже многих из дружной семьи не станет, третий из сыновей — блестящий публицист и поэт Иван Аксаков, взявшись за историю славянофильского кружка, попытается отметить те особые, отличительные свойства его главы и вдохновителя, «которые привлекали к нему почти всех, кто его знал». Сергей Тимофеевич «был смиренного о себе мнения, был чужд гордости к ближнему, напротив, отличался постоянной снисходительностью. Это-то качество дало ему возможность развить в себе ту теплую объективность, которая составляет такую прелесть „Семейной хроники“ (знаменитого сочинения С. Т. Аксакова. — И. Ж.). Это был настоящий широкий московский барин, он любил жизнь, любил наслаждения, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. <…> Он вполне понимал жизнь и все движения человеческой души, все человеческие слабости». В его супруге, напротив, женщине строгой и прямолинейной, «не было никакой эластичности». Младший из сыновей, Константин, походил на нее. Это был настоящий дитятя — великан при любимом отце и обожаемой матери, никогда не отрывавшийся от семьи, боявшийся покинуть своих близких хоть ненадолго. Кажется, однажды он выехал за границу, но скучал, скучал, долго выдержать не мог… Отец приобщил его с детства к литературным интересам, мать укрепила в правилах строгой морали. В годы учения в Московском университете на словесном факультете общение и дружба со Станкевичем и Белинским (с которым позже будет яростно спорить) пробудили в нем страстность проповедника и непреклонность борца. После защиты магистерской диссертации появилась надежда на реальное дело — преподавание, воспитание юношества, проповедь с университетского амвона… Но только надежда. Проявил свой талант он только в литературе. Стихи, пародии, переводы, статьи, сотрудничество в славянофильской печати. Но успех пришел только в 1850-е годы.
Его брат, Иван, тоже мечтал о «поприще». В училище правоведения готовил себя к карьере чиновника. И все для того, чтобы быть полезным. Не отказывался ни от какого дела, ревизовал, заседал в уголовной палате, ездил по стране, чтобы лучше узнать Россию и свой народ.
Ближе всего Герцену — Константин Аксаков, «мужающий юноша». Уже с начала 1843 года они ведут разговоры и споры, которые во всей их непримиримой сложности остались в герценовском дневнике. «Я говорил долго с Аксаковым, — записывает Герцен, — желая посмотреть, как он примирит свое православие с своим гегельянством, но он и не примиряет, он признает религию и философию разными областями и позволяет им [жить] как-то вместе…»
Незадолго до открытия публичного курса Грановского Герцен знакомится с Юрием Самариным, в чем отчитывается в письмах отсутствующему другу Кетчеру: «очень умный человек», «разумеется, в высшей степени порядочный человек», «очень утонченный».
Встречи с Самариным намечаются еще ранней осенью 1843 года и должны были произойти, очевидно, в доме Аксакова. Но знакомятся они позже, около 10 ноября, сразу же погрузившись в «длинный и презанимательный разговор». Герцен пересказывает его суть, где, как всегда, немаловажна мысль «о имманентном сосуществовании религии с наукой…». В разговоре с Грановским Герцен признает, что у Самарина «сильная логика, великий талант изложения и что во многом он прав». Герцен заинтересован знакомством, и Грановский даже «сплетничает» ревнивому Кетчеру, что, пользуясь его отсутствием, их общий приятель «завел дружбу с Юрием Самариным». И действительно, на рубеже 1844 года отношения с Самариным — самые дружеские. Даже затея Герцена, Кетчера и Грановского издавать журнал (увы, не осуществившаяся) не должна обойтись без сотрудничества Самарина и Аксакова.
Двадцать четвертого января 1844 года Герцен подводит своеобразный итог беспрерывным словесным поединкам со славянофильской группировкой. Он полагает, что полемика эта много способствовала уяснению вопросов, что «добросовестность сторон сделала большие уступки, образовавшие мнение более основательное, нежели чистая мечтательность славян и гордое презрение ультраоксидентных».
Дело идет к видимому примирению. Лекции Грановского, несмотря на полемические трения, следуют одна за другой и со все нарастающим успехом. 22 апреля 1844 года, в последний день первого курса чтений, в доме Аксакова дают грандиозный обед.
Двадцать седьмого апреля Герцен отчитывается Кетчеру: «Такого торжественного дня на моей памяти нет. Ты ужасно много потерял, что не был здесь. Так как я сейчас писал о том же Белинскому, то почти выписываю оттуда. <…> Грановский заключил превосходно; он постиг искусство как-то нежно, тихо коснуться таких заповедных сторон сердца, что оно само, радуясь, трепещет и обливается кровью. <…> Приготовлен был обед торжественный. <…> Всё напилось, даже Петр Як[овлевич] уверяет, что на другой день болела голова, я слезно целовался с Шевыревым. <…> Распоряжались обедом Самарин, я и Сергей Тим[офеевич] Аксаков. Вина выпито количество гигантское…»
После описания сей «грандиозной оргии», в этом же письме, отстаивая собственную позицию, не отрицавшую возможность сотрудничества с некоторыми из славян, Герцен не преминет упрекнуть своих более радикальных петербургских друзей: «В последнее время я недоволен „Отечественными! зап[исками]“, прочти мое письмо к Виссариону. — Что вы хотите делайте, ругайтесь или хвалите, я в одном неизменен — это в той добросовестной и светлой гуманности, которая всегда бежит от исключительных (haineux[72]) теорий и взглядов. Только смеясь или шутя можно думать, что я разделяю мнения Хомякова и Cniе; но я вовсе не шутя говорю и прежде говорил, что я со многими очень сочувствую сердцем и умом… Так полгода тому назад ты и Белинский смеялись над тем, что я сблизился с Самариным. А который из вас знал его? Самарин юноша высоких дарований и в полном развитии, ему только 25 лет — а вы уж осудили его. Я сначала инстинктом оценил его. <…> Это одна из самых логических натур в Москве…»
«Гуманность — мое знамя», — как-то даже высокопарно не побоится напомнить Кетчеру свое кредо Герцен. А потому не престало все и всех сразу отвергать, обижаться, разрывать отношения, становиться в оппозицию. Главное — понять. И выделить лучших, наиболее близких по духу и устремлениям, гуманных и благородных. В первую голову К. Аксакова и братьев Киреевских, особо отмеченных и привечаемых Герценом.
Как чистосердечно их ратование за дело народное и интерес к народной судьбе, как искренни раскаяния и ощущение вины перед многострадальным народом. Эта «народная скорбь бытия», переданная К. Аксаковым в стихах, так и мерцает поныне в лирическом наследстве славянофилов.
Некоторые свидетели противостояния считали, что даже самим фактом публикации в «Москвитянине» (1844, № 7), ранее не прошедшей цензуру второй статьи «О публичных чтениях г-на Грановского», Герцен протягивал руку примирения славянской партии. Тем более что журнал на некоторое время перешел от Погодина под редакторство И. Киреевского.
«Примирение на этом обеде… со стороны большинства было, может, искренно, но непродолжительно, — утверждал участник торжественного действа И. И. Панаев. — Полемика… сделалась еще ожесточеннее прежнего». Ю. Самарин откликнулся после видимого перемирия, заявив, «что согласие никогда не было искренним». В письме К. Аксакову он подтверждал необходимость разрыва с Герценом.
Конечно, в самой идее примирения со славянами уже заключалась великая иллюзия. Дружба, уважение, сочувствие, даже искренность их убеждений, в некоторой части разделяемые западниками, все отступало перед главным идеологическим несогласием — разность мнений дружбу исключала.
После примирения «бой закипел с новым ожесточением».
Двенадцатого мая 1844 года в дневнике Герцен еще не отвергает сложившегося компромисса: «Истинного сближения между их воззрением и моим не могло быть, но могло быть доверие и уважение». Через пару недель вновь рассуждает, как многое сходится в их взглядах: «У нас до того все элементы перепутаны, что никак нельзя указать, с какой стороны враждебный стан…»
Белинский из Петербурга мечет громы и молнии, «предает анафеме» своих непоследовательных друзей. Он решительно не желает садиться за один стол с филистимлянами-славянами. К Герцену летят «грозные грамоты» Виссариона. Славяне еще проявят себя. Никаких попыток примирения…
У Белинского позиция в отношении славян самая радикальная, и Герцен спорит с ним. Пока он непреклонен, продолжает искать аргументы для компромисса со славянами, внутренне возражает критику: «Энергия и невозможность дела сломили Виссариона». Много вопросов: может быть, «односторонность» критика «в самом мышлении»? Или «не понимает славянский мир»? «Смотрит на него с отчаянием…» Герцен хочет писать Виссариону длинное письмо. Конечно, во многом с ним согласен. Нелегкие размышления доводит до точки: «Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu[73] в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами человек Востока. Из этого следует, что для нашего времени эти односторонние определения не годятся».
Отношения со славянофилами все обостряются. «Смерть не хочется» из-за этого возвращаться с дачи в Москву. Остается признать, как прав Белинский. 4 сентября в дневнике появляется запись: «Нет мира и совета с людьми до того розными».
В ноябре 1844 года А. А. Елагин пишет отцу, что Герцен и прочие «хотят окончательно оторваться от религиозных славян».
Проходит еще некоторое время, и 25 ноября 1844 года Герцен сообщает Грановскому о сплетнях, разговорах, неправильно переданных его словах, которые могут быть колки только по причине дерзкого обращения какого-либо оппонента, но форма их «не свиная», как у некоторых славян. В декабре 1844-го Герцен не может удержаться, чтобы не написать Самарину, в которого еще верит как в реального союзника, свое «мнение о славянах, об этой пустоте болтовни, узком взгляде, стоячести и пр.». Вряд ли письмо на него подействует, но позиция другой стороны Герценом заявлена.
Из враждебного стана долетают ядовитые стрелы, и не заметить их, и не принять в расчет уже нельзя. Москва злословит и шепчется о «ругательных стихах» поэта Н. М. Языкова «К не нашим», сочиненных по наущению Хомякова в конце 1844 года. Вместе со стихотворениями «Константину Аксакову» и «К Чаадаеву» — это прямой выпад против Чаадаева, Грановского и Герцена, названный даже близким к славянам Б. Н. Чичериным «пасквилем на главнейших представителей западного направления».
Герцен пытается разобраться в этом сознательном покушении на заключенное перемирие, которое просто отдает «невольным доносцем», ибо все они трое пригвождены как «изменники отечеству». Чаадаев у некогда любимого поэта Языкова, «сделавшегося святошей от болезни и славянофилом по родству», назван «отступником от православия», Грановский — «лжеучителем, растлевающим юношей», а сам Герцен, как он полагает (конечно, без опознания по именам), — «слугой, носящим блестящую ливрею западной науки»[74].
У Языкова есть предшественники, с которых не грех взять пример. В письме брату А. М. Языкову в начале мая 1844-го он сообщает, что соратник и поэт М. А. Дмитриев (из тех, которых даже К. Аксаков называл «непрошеными защитниками» и «гнилыми союзниками») тоже не гнушается сочинять «злейшие эпиграммы на так называемых наших гегелистов и Коммунистов — теперь сочинил целых две, на Герцена». Поток клеветы обрушивается на головы герценовских друзей.
Еще в начале января 1845 года Герцен просит Константина Аксакова заезжать. К Петру Киреевскому он по-прежнему нежен — «чудный человек, ей-богу такого врага хочется обнять от всей души, нежели с ним быть в оппозиции». Но вскоре у него закрадывается мысль: стоит ли при внезапной встрече подавать противнику руку. Около 10 января происходит объяснение К. Аксакова с Грановским, Герценом и Коршем. Аксаков пишет Самарину: объяснение «еще больше утвердило наше взаимное личное уважение, но мы расстались вследствие наших мнений». Ответ Герцена на письмо Ю. Самарина ставит окончательную точку в отношениях Герцена с лучшими из славян. Он жертвует всеми личными привязанностями: «Прощайте. Идите иным путем — мы не встретимся как попутчики — это верно».
В дальнейшем, на Западе, Герцен смикширует эту непримиримость. Славянофилы сделали свое дело. Он напишет о разрыве отношений с ними как о «семейной разладице», да и сам ощутит в себе этот перелом, произведенный славянофилами, так задевший его. Путь от убежденного социалиста, западника постепенно приведет разочаровавшегося в революционной Европе Герцена к славянофильским воззрениям.
В некрологе на смерть К. Аксакова (1861), спустя годы, издатель «Колокола» скажет о своем отношении к лучшим из славян:
«Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинакая.
У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время, как сердце билось одно».
Глава 26
ПУТЬ В НАУКУ. «РАЗВИТИЕ В ЖИЗНЬ ФИЛОСОФИИ»
«Дилетантизм в науке» — статья донельзя прекрасная — я ею упивался и беспрестанно повторял: вот, как надо писать для журнала.
В. Г. Белинский — В. П. Боткину
Бурные дискуссии со славянами, грозные выпады критика против своего непоследовательного друга отнюдь не мешали пристальному разбору сочинений Искандера, поднимающегося все выше и выше по литературной лестнице успеха.
Похвалу Белинского не так-то легко заслужить.
Пока жив был великий критик, он словно бы держал в узде русскую словесность. Нельзя было опуститься ниже высокой, заданной им планки, и литераторы примеривались к авторитетному, но весьма суровому мнению главного литературного «дирижера», беспрекословно определявшего тон и громкость звучания очередного вышедшего в свет труда. Поворотные в литературе сороковые годы, время «натуральной школы», разогретый славянофилами интерес к народной жизни, как раз и характеризовались мощным выбросом талантливых сочинений; плеядой новых имен, представших перед критикой и взыскательной публикой: Достоевский, Тургенев, Некрасов, Григорович, Даль, Гончаров… Ими и определилось все дальнейшее движение русской литературы.
Выговорив «одно-единственное слово народность, национальность», полагал В. П. Боткин, славянофилы оказали большую услугу и литературе. Белинский разбирал в деталях то, бесспорно полезное, что принесла народной литературе их деятельность, «как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии». Но с идеологически заостренными теоретическими суждениями славян о русском самобытничестве (в частности, и о литературе), когда под жизнью народа подразумевался лишь замкнутый в самом себе патриархально-общинный быт, возводимый в идеал общественного устройства, Белинский вел, как известно, нескончаемый спор-разговор. Славянофильскую доктрину «западническая» литература не приняла, хотя в 1840-е годы пробалансировала на острие увлечения народной темой.
Желание преодолеть разрыв между литературой, народом и образованным обществом, повернуть нашу словесность лицом к крестьянскому миру, бесспорно, было весьма плодотворным. Оно заставило многих талантливых писателей обратить свои взоры к народной жизни, сделать крестьянина главным героем литературы (и тут не приведешь нагляднее примера, чем «Записки охотника»). Следуя гоголевской традиции, маленький человек большого города был окончательно возведен на литературный пьедестал, ранее ему не доступный. Вышел сборник «Физиология Петербурга» (1845), обнаживший язвы столичного города, и альманах «Петербургский сборник» (1846), развивший предложенные жизнью темы в очерках соратников Герцена по литературному цеху. И Герцен не упустил возможности сотрудничества с ними. Поместил в альманахе, редактируемом Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым, свое сочинение «По разным поводам» («Капризы и раздумья»).
Герцену предстояло пройти немалый путь, чтобы отказаться от своих, весьма не дурных, ранних сочинений, чтобы шагнуть на плотно заселяемую в 1840-е terra incognita, уготовив себе подобающее место на этом, пока неведомом материке литературных шедевров (вроде «Бедных людей» Достоевского).
Что правда, то правда, Белинский с момента знакомства не обделял своего друга вниманием, не скупился на похвалы его литературным опытам, конечно, когда тот, с его точки зрения, того заслуживал. После выхода в свет «Записок одного молодого человека» (1840), словно в приступе литературного чревоугодия, восклицал: статья прелесть, объедение…
Друзья хвалили и требовали: пиши, пиши… Кетчер стращал: не примется Искандер за новую статью, он напечатает старую. В этом таилась угроза. Уж сколько раз преданный друг вмешивался, и весьма неуклюже, в творческие планы Герцена. То пошлет, вопреки договоренностям с редактором «Телеграфа» Н. А. Полевым, неправленый, сырой вариант герценовского текста в другой журнал (вспомним тут «Гофмана»); то не удосужится выверить корректуру, и многочисленные опечатки, ошибки, как сорняки в огороде, будут маячить в тексте, ущемляя авторское самолюбие.
Вот и теперь, только начался декабрь, пришла по тяжелой почте двенадцатая, последняя в 1843 году, книжка «Отечественных записок».
Видеть себя в печати — «одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком». Спорить никто не станет. И Кетчеру, державшему корректуру, конечно, спасибо. Но вот опечаток опять безбожно много… Герцен перелистывал журнал: «… на 71 стр. слово фраза вместо фаза или на 66 целью бытия вместо ценою бытия — и таких дюжины полторы», и все это безнадежно искажает слог.
Углубившись во второй отдел журнала, Герцен рассматривал публикацию. Статья «Буддизм в науке» завершала почти годовую работу над его философским циклом. Собственно, за «Дилетантизм в науке» он взялся гораздо раньше, столкнувшись года четыре назад с молодыми москвичами — Бакуниным и другими приверженцами гегелевских теорий. Тогда, поклоняясь великому диалектику, он яростно спорил с его проповедью «примирения с действительностью». Немало досталось и Белинскому. От «переходной болезни» «примирения» критик был исцелен. Но неумолкающие споры сторон требовали от начинающего философа более основательного знания. Гегель, история философии поглотили Герцена надолго, заняли значительный отрезок его предшествующей жизни и в Петербурге, и в Новгороде. Собственно, статьи цикла «Дилетантизм в науке», за которые Герцен принялся весной 1842 года, вылились в весьма профессиональный спор с бывшими оппонентами и одновременно отозвались критикой некоторых гегелевских положений. Однако критическое отношение к Гегелю не закрыло для Герцена сути его философии, диалектики, ставшей главной теоретической основой социалистических взглядов автора «Дилетантизма».
В замысел своей работы Герцен не мог не посвятить Огарева. 2 марта 1841 года писал другу о своеобразной пользе новгородской «контузии № 2» (высвободившей у него столько времени, что не грех заняться конкретным делом): «Я было затерялся (по примеру XIX века) в сфере мышления, и теперь снова стал действующим и живым до костей; самая злоба моя восстановила меня во всей практической доблести… Никогда живее я не чувствовал необходимости перевода, — нет, — развития в жизнь философии».
Мысль о «развитии в жизнь философии», в современном ее понимании, означала практическое, преобразующее назначение философии, связь ее с жизнью общества. По убеждению Герцена, человек — активный участник общественного процесса и практическая деятельность — это его назначение. Задача философской науки — сделать эту деятельность целеустремленной, разумной, научно обосновать ее. Центральная идея «Дилетантизма», методологически соединяющая социализм и философию, — это идея единства, борьбы и примирения противоположностей. Важна и проводимая в работе мысль о необходимости и жизненной важности научного мировоззрения.
В статьях цикла «Дилетантизм в науке» прослеживалось отрицательное отношение автора к попыткам идеализации современного ему общественного устройства; утверждалась уверенность в праве человека на борьбу со всем отживающим, реакционным, что мешает прогрессу общества, как его понимал Герцен. Притом от некоторых положений и примеров гегелевской идеалистической терминологии статья, как полагают специалисты, еще не свободна.
Цикл сложился из четырех статей. Статья первая (без заглавия) по замыслу автора была о дилетантизме вообще. Она открывалась своеобразной декларацией автора, осознавшего особенность переходного времени: «Мы живем на рубеже двух миров — оттого особая тягость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Старые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены — но они дороги сердцу. Новые убеждения, многообъемлющие и великие, не успели еще принести плода; первые листы, почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они чужды сердцу. Множество людей осталось без прошедших убеждений и без настоящих».
В чем же опора для мыслящего человека, оказавшегося в разломе двух эпох? В науке, считает Герцен. Он убежден, что «человек, поднявшийся до современности», то есть живущий интересами современного общества, «не может удовлетвориться вне науки».
Герцен уточняет, что не имеет в виду ни дилетантов от науки, которые «не понимают науки и не понимают, чего хотят от нее», ни кабинетных ученых, олицетворяющих «распадение с жизнию», ни «формалистов» (подразумеваемых правогегельянцев), ни прочих «бюрократов науки».
Мысли об истинной науке, ее определение, ее метод постоянно занимают Герцена. Наука — это философия, опирающаяся на естественные науки. Именно такая наука, «в высшем смысле своем», станет со временем доступной людям и будет «живоначальным источником действования и бытия всех и каждого». Но пока о философии, отвечающей этим задачам, говорить рано. Конечно, до истины люди добираются не вдруг. Когда человечество поймет и примет науку, тогда и начнется «дело сознательного деяния».
«Наука, — пишет Герцен в третьем письме, — открытый стол для всех и каждого, лишь бы был голод, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремление к истине, к знанию не исключает никаким образом частного употребления жизни; можно равно быть при этом химиком, медиком, артистом, купцом. Никак не можно думать, чтоб специально ученый имел большие права на истину; он имеет только большие притязания на нее. Отчего человеку, проводящему жизнь в монотонном и одностороннем занятии каким-нибудь исключительным предметом, иметь более ясный взгляд, более глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событиями, встретившемуся в тысяче разных столкновениях с людьми?»
Тема истинной науки, основанной на единстве мысли и дела, постоянно развивается и в «Дилетантизме», и в последующем цикле его статей «Об изучении природы».
Статья вторая «Дилетанты-романтики», важная для характеристики эстетических взглядов Герцена, рассматривает понятия «классицизм» и «романтизм» не только как названия литературных направлений начала XIX века, но и в широком смысле — как определения типов мировоззрения. Здесь — обоснование реализма как мировоззрения Нового времени. Герцен полагал, что классицизм и романтизм — это два воззрения на мир, связанные с двумя фазами истории человечества: классицизм — с Античностью, романтизм — со Средневековьем. Для классицизма, по мысли Герцена, характерны уважение к природе, эмпиризм и практически-утилитарная устремленность. В основе романтизма, выражающего сущность противоречий Средневековья, — понимание мышления и тела, духа и материи, человека и общества как находящихся в непреодолимом разрыве, дуализм, доходящий до отрицания всего естественного и до презрения к природе, отрешенности от практических жизненных интересов. Историческое объяснение этих двух типов мировоззрения соединено, как автор считает, с их психологическим осмыслением. Классические и романтические элементы — естественная принадлежность различных фаз развития человеческой личности; эти элементы в разной степени свойственны различным человеческим характерам. В новом мире, идущем под знаком науки, убежден философ, классицизм и романтизм не ответят новым потребностям и должны будут обрести свой гроб, но вместе с тем и найти свое бессмертие, ибо умирает только «ложное, временное», а в заключенной в них истине — есть вечное, общечеловеческое. Оба эти направления уступают место новому мировоззрению и новому искусству. Здесь уже прочитывается свидетельство, что в 1840-е годы Герцен — сторонник реализма как мировоззрения Нового времени.
Над статьей третьей «Дилетанты и цех ученых» Герцен работал в ноябре — декабре 1842 года, и она посвящалась «специализму в науке». Статья писалась после прочтения «Мертвых душ» и, особенно, «Сущности христианства», когда углубленное знакомство с фейербаховским материализмом сильно продвинуло его атеистическую мысль. Герцен воспринял критику Фейербахом христианства как новый довод в защиту разрыва с религией. Идейная жизнь философа Герцена, формировавшаяся и в борьбе с религиозно-мистическими воззрениями славянофилов, невольно подводила его от критики религии к критике идеализма вообще.
Статья четвертая «Буддизм в науке» замышлялась Герценом как разговор о формализме в науке. Немалую настойчивость для ее появления проявил Огарев. Статья, как считал сам Герцен, получилась на самом деле глубокой и яркой: «Тут моя поэзия, у меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна». Органическая связь философских вопросов с общественно-социальными проблемами и есть кредо этой статьи.
Философские работы были написаны настолько художественно выразительно и с таким желанием высказать волнующую мысль «как можно яснее, без притязаний, простыми средствами разговорной речи», что оставалось только принимать похвалу этим «замечательным, учено-беллетристическим статьям», как определил их Белинский. Но не все принимали желаемую простоту. Огарев, довольный статьей, писал, что был бы еще довольнее, если б Герцен избежал множества «фигурных выражений, сравнений», нередко затемняющих смысл.
Еще в рукописи Герцен читал друзьям некоторые законченные фрагменты. Хвалили. Радовались. Особенно, когда статьи появлялись в «Отечественных записках». Грановский разъезжал из дома в дом, чтобы прочитать вслух что-нибудь из «Дилетантизма». В. Боткин назвал начало статьи о формализме с эпиграфом «Вера без дел мертва»: «symphonia eroica». Автор принимал похвалу: «Написалось в самом деле с огнем и вдохновеньем».
После появления первой статьи Белинский просил Боткина: «Скажи Герцену, что его „Дилетантизм в науке“ — статья до нельзя прекрасная — я ею упивался и беспрестанно повторял: вот, как надо писать для журнала. Это не порыв и не преувеличение — я уже не увлекаюсь и умею давать вес моим хвалебным словам». Подобные высокие оценки вскоре появились в его обзоре «Русская литература в 1843 году» в первом номере «Отечественных записок», где, помимо работы «По поводу одной драмы», отмечались и две другие статьи из «Дилетантизма в науке».
Глава 27 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Моя любовь к Natalie — моя святая святых, высшее, существеннейшее отношение к моей частной жизни, становящееся рядом с моим гуманизмом.
А. И. Герцен. Дневник
«Дилетантизмом» творчески завершился 1843 год. Всю половину следующего, 1844-го, Герцен стремился засесть за новую работу. Но все что-нибудь да отвлекало — домашняя суета, вечные тревоги за Наташу и Сашу, «преуспевающего» в многочисленных детских болезнях, тяжелые безысходные разговоры с женой, не способной забыть о нанесенном ей оскорблении, уже тысячи раз им отмаливаемом. Снова и снова следовало доказывать ей и себе: его любовь к Натали «святая святых»; была всегда, есть и будет. Несправедливые обвинения жены в недостатке чувства, оплакивание ею утраченного счастья повергали в несвойственное ему уныние. Ведь он беспрестанно строил и строил «храм домашнего счастья», а через некоторое время все «рушилось как прах».
Пять лет прошло после его женитьбы. Этот пятый, 1843 год был особенно тяжел, и ему вдруг показалось, что «общее и частное призвание — все оказалось мечтою, и страшные, раздирающие сомнения царят в душе — слезы о веке, слезы о стране, и о друзьях, и об ней».
Однако деятельная натура Герцена брала верх. «Настоящим надобно чрезвычайно дорожить, а мы с ним поступаем неглиже и жертвуем его мечтам о будущем, которое никогда не устроится по нашим мыслям, а как придется, давая сверх ожидания и попирая ногами справедливейшие надежды». Когда юношеский романтизм отлетел и жизнь представала в своей переменчивой обнаженности, ее надо было принять, выбрав нужные приоритеты. Да, прав был Белинский — у человека «маленькая возможность счастия и бесконечная — страданий». Вопрос лишь в том, как этой возможностью счастья распорядиться.
Дни шли своим чередом. Частые выезды в свет не отвергались — вечера, обеды, лекции. Неустанные разговоры и споры. Без салонов и гостиных не представишь истинно московскую жизнь. Старая столица, как всегда, привлекала своим непередаваемым, не похожим ни на что древним очарованием, манила иностранцев…
Вот явился в Москву сам Лист, и грех не послушать великого виртуоза. 25 и 29 апреля 1843 года — Герцен на двух его концертах. Отмечает в дневнике поразительный талант музыканта. Не упускает возможности встретиться с Листом вновь и на «диком концерте цыган», устроенном специально для маэстро 30 апреля, и 4 мая, на торжественном обеде в его честь, в доме Н. Ф. Павлова. Только Наталья Александровна опять нездорова, уже не может сопровождать мужа, как на первом концерте музыканта в Большом театре, когда призналась, что ждет ребенка.
«Надежда и страх» вновь поселились в нем. Постоянные ее болезни, частые беременности, смерть детей, скорбь от потерь, слезы, тяжкие раздумья (Grübelei), которые можно было принять за «нервические» проявления и припадки, не давали покоя любящим супругам. Герцен был постоянно угнетен болезненным состоянием жены. Ее здоровье разрушалось на глазах. Она не могла принять и понять объяснений мужа. Уверений в вечной любви теперь недоставало. Вера в него поколебалась. Но в нем зародилось понимание, что все это составляет какой-то узел жизни, от которого будем считать новую эру. Он просил, умолял, требовал, наконец, «разумом разобрать» всю их жизнь. Причин было предостаточно. Отчасти все эти мучительные разговоры, считал Герцен, — следствие ее болезни, но есть корни и глубже, в ее характере, в ее воспитании. Он постоянно корил себя, что не умел осторожно, нежно вырвать их. От вида постоянных слез Наташи, ее «безвыходно печального взора» «приходил в какое-то горячечное состояние»; не побоялся даже признаться себе, что теперь для него «существует одно упоение» — в «мокром пути» (то есть в вине). Постоянно спрашивал себя: «За что это благородное, высокое создание страдает, уничтожает себя, имея возможность счастья, возмущенного только воспоминанием трех гробиков, но которое одно не могло привести к таким следствиям?» Черные мысли Натали, ее признания, что она не достойна его, что его «натура должна иметь иную натуру в соответственность, более энергическую и пр., и пр.», заставляли Герцена еще пристальнее вглядываться в их отношения и характеры. «Что за причина заставляет мучиться ее?» — снова и снова спрашивал он себя. Чрезвычайная нежность и восприимчивость, точнее, «сюссептибельность»; «привычка сосредоточиваться, обвиваться около мыслей скорбных». Себе в вину он ставил некое рассеяние, возможность предаваться предметам занятий и целиком поглощаться ими. Он вечно отсутствует, вечно занят, а она, поглощенная семьей и болезнями, часто остается одна. Его врожденная беспечность кажется подчас невниманием. Но он не умеет «поправить себя», потому что живет «чрезвычайно просто», поступает «совершенно натурально». Его любовь сомнению не подлежит. И снова недопонимание: «Ну, не нелепость ли, что мы мучим друг друга без всяких достаточных причин?» Что это? Герцен не может понять Натали? Но ведь сам он обнаружил корни этих причин прежде всего в ее характере и воспитании.
В набросках автобиографии, за которую она взялась по просьбе мужа, обнаружились некоторые ее комплексы: «Воспитанье началось с того, что меня убедили в стыде моего рожденья, моего существованья, вследствие этого — отчужденье от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращенье от их участия, углубленье в самое себя, требование всего от самое себя. Ничего от других».
Герцен, сам незаконный, не мог не понять душевного состояния «сироты», взятой из милости в чужой дом и ежедневно противостоящей домашнему деспотизму. Дисгармония в детстве постепенно затушевывается происходящим в ее судьбе. Встреча с Александром, казалось бы, доказавшая возможность гармонии, его обоготворение («…ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа») оборачиваются высочайшими требованиями и к нему, и к их семейной жизни. Начинается «внутренняя, глубокая работа», ломка и перестройка прежних убеждений Натальи Александровны, выводящих ее к новому возрасту жизни.
Тридцатого декабря 1843 года — в семье прибавление. «В первом часу при Альфонском родился сын Николай. Ребенок здоров. Наташа как обыкновенно, — отчитывался счастливый отец в письме другу Грановскому. — Вперед загадывать боюсь. Будто камень с груди, и как-то хочется плакать. Доселе все хорошо — но я уже проучен». Тот же страшный вопрос: выживет ли? Потерь слишком много. Врачи, отслеживающие причины трагических повторений, ставят смертельные диагнозы появившимся на свет младенцам: водянка в голове, «головные кости не срастаются». Что это, наследственное? Близкое родство? Ответов нет. А боязнь, страхи все нарастают.
Врачи приговорили к подобной участи и всех будущих детей, а некто доктор Брок, которого заменили по счастью опытным и умным Альфонским, сказал, что не поручится за жизнь Натальи Александровны, если у нее опять будет ребенок. Но теперь «очевидно, что это неправда, — пишет Кетчеру Е. Грановская, — что натура приняла plis[75] и что все дети должны были родиться с органическим недостатком. Уж в этом Николашке нет никаких».
Увы! Через некоторое время ее муж, Т. Н. Грановский, играя с Колей на ковре, поднес к уху мальчика свои карманные часы и с ужасом убедился, что тот глух. Дальнейшая жизнь подтвердила частичную правоту врачей. Оставался в силе совет — воздержаться от интимной близости, названной ими словом «развод».
Наталья Александровна, невеста и жена, вполне могла почитаться одной из счастливейших женщин своего времени. Их встречей с Герценом «завязалась» его судьба. Романтическое похищение юной Наташи, их тайное бракосочетание поставило влюбленных на пьедестал исключительности. Он вырос, поверил в себя, стал дважды талантлив, потому что рядом с ним оказалась женщина любящая и талантливая, как не все.
«Никогда я не встречала такой симпатичной женщины, как Наталья Александровна, — так видела свою обожаемую подругу весьма пристрастный и ревнивый бытописатель Н. А. Тучкова. — Прекрасный, открытый лоб, задумчивые, глубокие темно-синие глаза, темные густые брови, что-то спокойное и несколько гордое в движениях и вместе с тем женственность, нежность, мягкость…» Ее удивляло, что некоторые из знакомых находили Наталью Александровну холодной: «… это была натура поэтическая, страстная, горячая, в кроткой, изящной оболочке». Равнодушных не было: ею восхищались, ее любили или недолюбливали, а попросту ей завидовали, и уж, конечно, ближайшие подруги, вроде Лизы Грановской и Маши Корш. Напротив, друзья Герцена — Огарев, Грановский, Бакунин были единодушны в своем восторженном отношении к Натали: «одна из самых изящных (читай, прекрасных. — И. Ж.) женщин», а их союз с Герценом на редкость един и гармоничен. Белинский разглядел в этой кроткой, болезненной, тихой женщине страшную энергию и упорство; писал своей невесте М. В. Орловой (15 октября 1843 года): «Скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом…»
Пожалуй, больше всего сведений об этом московском периоде жизни Н. А. Герцен, о ее характере и личности (помимо писем и герценовского дневника) находим в ее переписке с Т. А. Астраковой, благоговейно преданной своей ближайшей подруге и, несомненно, ближе всех связанной с ней духовно.
«Припоминая жизнь Герценов в Москве, начиная с 1842 по 1847 год… и пропуская из нее разные неприятные столкновения и грустные события, — пишет Астракова, — общее составляет такое отрадное, приятное впечатление, что с радостью пережила бы всю эту жизнь, послушала бы умных речей Герцена, побывала бы на лекции милого Грановского, — посидела бы с Наташей и с любовью поглядела бы на ее милое, оживленное личико, послушала ее симпатичного голоска, ее умной, доброй речи. <…> Тени лучших людей из ее кружка являются передо мною, как живые».
Неприятные столкновения и грустные события, к сожалению, омрачали жизнь. Семейные неурядицы не отпускали, постоянно напоминая о себе.
Вспомнился сентиментальный романист «нечитаемой памяти» А. Лафонтен, хоть и отвергнутый Герценом с взрослением, но заметивший верно: «Счастливо то семейство, о котором нечего сказать и ничего не говорят». Это писалось друзьям в момент наивысшего счастья, вскоре после его соединения с Натали. А теперь…
Помимо здоровья жены Герцена тревожило состояние отца. Старик не в лучшем виде. Болеет, дряхлеет, угасает день ото дня. Вот и встает вопрос о наследстве. Переговоры эти, как водится, неприятны, а порой и безнравственны. Яковлев непоследователен, как всегда, капризен. Он любит сына, но никогда с ним не сойдется, не поймет, ибо говорят они «разными наречиями».
Есть и другой законный наследник, двоюродный брат Александра Митя, Дмитрий Павлович Голохвастов, человек чрезмерно положительный, с твердой деловой хваткой и «скорой карьерой» (дорос до товарища, то есть помощника министра народного просвещения). Герцен вносит в галерею воспоминаний о своих особенных родственниках и его портрет: «Старший брат (из двух Голохвастовых. — И. Ж.) был блондин с британски-рыжеватым оттенком, с светло-серыми глазами, которые он любил щурить и которые говорили о невозмущаемом штиле души. С летами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою».
Вопреки воле отца Герцен решает отказаться от любимого Покровского, где прошло столько светлых и счастливых дней, «чтоб не быть причиною ссор и дальнейшей запутанности».
Случай вызывает его невольные размышления о собственности: он и прежде много думал об этом, уж точно социальном вопросе. Страницы дневника заполняются его наблюдениями: «Богатство, деньги — самый лучший оселок для человека. Патриотизм, смелая гордость, открытая речь, храбрость на поле битвы, услужливая готовность одолжить — все это легко встретить, — но человека, который бы твердо сочетал свою честь с практикой так, чтоб не качнуться на сторону 1000 душ или полумиллиона денег, — трудно. Собственность — гнусная вещь; сверх всего несправедливого, она безнравственна и, как тяжелая гиря, гнетет человека вниз; она развращает человека, а он становится на одной доске с диким зверем… Оттого ни одна страсть не искажает до того человека, как скупость… Расточительность, мотовство не разумно, но не подло, не гнусно. Оно потому дурно, что человек ставит высшим наслаждением самую трату и негу роскоши; но его неуважение к деньгам скорее добродетель, нежели порок. Они не достойны уважения так, как и вообще все вещи: человек их потребляет, употребляет — и на это имеет полное право, но любить их страстно, то есть поддаваться корыстолюбию, — верх унижения». Вскоре ему попадается и «прекрасное произведение» П. Ж. Прудона «Что такое собственность, или Изыскания о принципе права в государстве» с классическим тезисом: собственность — это кража.
Через много лет в «Былом и думах» Герцен воспроизведет свои, четко запомнившиеся разговоры с Яковлевым, немало раздраженным решением сына о Покровском, но, в конце концов, оценившим его поступок:
«Ты, пожалуйста, любезный друг, не думай, что ты меня очень затруднил тем, что отказываешься от Покровского… Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь: „возьмите, мол, мое имение“, и тебе кланяться не стану. Охотники найдутся. <…> Не только Митя, уж ты, наконец, учишь меня распоряжаться моим добром, а давно ли Вера (няня Вера Артамонов-на. — И. Ж.) тебя в корыте мыла? Нет, устал, пора в отставку…»
На другой день язвительный монолог старика продолжен:
«Поди-ка сюда, да, если можешь подарить мне часик времени… помоги-ка тут мне в порядок привести разные записки[76]. Я знаю, ты занят, всё статейки пишешь — литератор… видел я как-то в „Отечественной почте“ (речь об „Отечественных записках“. — И. Ж) твою статью, ничего не понял, всё такие термины мудреные. Да уж и литература-то такая… Прежде писывали Державин, Дмитриев, а нынче ты… да мой племянник Огарев. Хотя, по правде сказать, лучше дома сидеть и писать всякие пустяки, чем все в санках, да к Яру, да шампанское». Память у старика была превосходная…
Глава 28
ВРЕМЯ НАДЕЖД И ПОИСКОВ
…Я один в деревне. Мне смертельно хотелось отдохнуть поодаль от всех… дождь льет день и ночь, ветер рвет ставни, шагу нельзя сделать из комнаты, и — странное дело! — при всем этом я ожил, поправился, веселее вздохнул — нашел то, за чем ехал.
А. И. Герцен. Письма об изучении природы
В то дождливое и холодное лето, последнее, проведенное в Покровском, Герцен живет отшельником. Не свойственный ему мизантропический выпад против любезных друзей подкреплен «идиллической выходкой» (так он выразился) в сугубо научной статье, за которую только что принялся: здесь — свобода и воля, и природа содействует. Где, как не здесь, выплеснуть накопившиеся эмоции, где, как не здесь, писать о природе: «Выйдешь под вечер на балкон, ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму — и на душе легче, благороднее, светлее; какая-то благочестивая тишина кругом успокоивает, примиряет…»
Герцен буквально завален философскими фолиантами. Занимается историей натурфилософии. Хочет постигнуть ее современное состояние. Его интересует всё, вплоть до новых открытий в палеонтологии. Одних книг для своих «Писем об естествоведении» куплено на 375 рублей.
Потерянное время при обустройстве в собственном доме на Сивцевом Вражке и в кружении дружеских встреч восполнялось активным чтением. Герцен «штудировал Гегелеву историю философии и статьи», ибо Гегель сделал «первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии…». Он погружался в «гётевские сочинения по части естествоведения» и восхищался: «Что за исполин, — нам следить невозможно за всем тем, что им сделано и как? Поэт не потерялся в натуралисте…»
Сколько авторов им освоено. Сколько рождено идей. Штудировалась история философии — Бэкон, Декарт… — загодя шла подготовка к новому циклу философских статей.
В это лето 1844 года Герцен наконец принялся работать для нового журнала, хотя будет ли он, один Бог знает, да еще министр народного просвещения граф Уваров, творец незабвенной триединой формулы — основы Русского государства. Собственный журнал, о котором они с Грановским давно мечтали, — дело весьма сложное, легче получить разрешение на передачу журналов уже существующих, чем добиться у напуганного правительства дозволения на новое издание. Вот и Кетчер пишет из Петербурга, что вновь оживился «присяжный доноситель» Булгарин, учуял в журналах «вредную тенденцию», кричит, что «Отечественные записки» Краевского подрывают «православие, самодержавие и народность», обвиняет самого Уварова в попустительстве либерализму. Отсюда меры, строгости, новые нападки на «вредные идеи», распространяемые «под видом философских и литературных исследований».
Фаддей Булгарин — литератор известный, но руку ему подавать люди порядочные поостереглись бы. Было это не только зазорно, но и компрометировало любое лицо. Новое пишущее и читающее поколение, по свидетельству И. И. Панаева, презирало Булгарина. Помимо пресмыкательства перед властью и неуемной жажды, только учуяв «угрозу», предупредить кого надо, от него всегда исходила опасность. А его «Северная пчела» могла так ужалить, что не избежать действенного противоядия. Угроза — недвусмысленная. И Герцен понимал, что «еще шаг — и „Отечественные записки“ рухнули бы со всеми участниками».
Собственный журнал, участие в нем Белинского, Панаева, Огарева и всех московских друзей сразу бы решили многие проблемы. Не мешало, однако, наконец расстаться с Краевским, освободиться от его неумеренного диктата, а заодно вызволить из журнала Белинского, буквально истерзанного «кровопийством» Андрея Александровича.
Девятнадцатого июня Герцен сообщает Кетчеру: Грановский подал просьбу об издании нового журнала. Совсем нового. Огарев согласен внести необходимую сумму. Следует отказаться от негодной идеи — покупки какого-либо дрянного журнальчика. Действительно, занятие весьма беспредметное заново создавать репутацию безликой «Галатее» Раича или непопулярному «Русскому вестнику», за которые долго и безуспешно идет торг. Будет ли толк от новых хлопот? Во всяком случае, в ожидании решения Герцен очень активен. Собирает материалы у друзей-литераторов. «Утрами очень дорожит, — свидетельствует Наталья Александровна, — потому что занимается, готовится к журналу».
Второго августа Герцен, мешая языки (латынь с французским и русским), пишет из Покровского Грановскому и серьезно, и весело. «Окончил статью для журнала и начал другую; но проблема так сложна, что я теряю надежду справиться с ней» (перевод с французского). Тут речь, конечно, о «Письмах об изучении природы», которые захватывают его теперь всецело. Послание другу продолжено: «Среди прочих литературных произведений у меня есть несколько пьес из знаменитой библиотеки Филиппа Депре, но я храню их, чтобы прочесть их вместе». Имя известного в Москве виноторговца Депре вряд ли кого-либо может обмануть.
Решение о журнале все ждут с нетерпением. Что журнал? Надежды, слухи… Вот-вот… Просьба уже пошла в Петербург… В октябре 1844 года разрешение все еще не получено. Вскоре приходит бесповоротный ответ: «Г[осударь] не соизволил разрешить Гран[овскому] издавать журнал». «Вот вам и деятельность! — только и может заключить Герцен. — Как глупо, нелепо таким образом гнать всякую мысль и как непоследовательно; может ли профессор быть терпим на кафедре, если он подозрителен как журналист? И на что у них отвратительнейшая ценсура, если и она не гарантия, что ничего прямого, ясного не проскочит; а для косвенного, скрытого есть пути. Состояние совершенного бесправия…»
На страницах дневника Герцена множество грустных предчувствий и пессимистических признаний… Подобные настроения захватывают многих из лучших, просвещенных людей.
«Наше состояние безвыходно. Потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей и наше дело — отчаянное страдание».
«Страшное время: силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекает, ни капли отрадной, ни близкой надежды — ничего».
«Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. <…> Удар не минует моей головы, меня знают они давно».
Противоборство «мы» — «они», понятно, на стороне силы. Но не таков Герцен, чтобы сидеть сложа руки. Конечно, дикая тоска по деятельности… Он готов вновь повторять, что натура его «более деятельная — нежели созерцательная», а поэтому требует жизни simper in motu — всегда в движении. Нет надежды на собственный журнал — ничего не остается, как вновь прибегнуть к посредничеству Краевского. Все же «Отечественные записки» — единственно авторитетный и читаемый орган в России. И журнал, скорее, не Краевского, а Белинского, определяющего его истинно демократическое лицо.
В сочельник, когда в залу старого дома водворяется елка, а домашние (не прошло и года) более всего озабочены появлением на свет нового члена семьи — Натальи (всеми любимой Таты), рожденной 14 декабря, Герцен, отбросив черные мысли и обретя уверенность в покровительстве счастливой судьбы, садится за письмо:
«Во-первых, почтеннейший Андрей Александрович, прошу вас заметить, что я избрал самый скромный день в году, чтоб напомнить вам о себе, т. е. сочельник — день, в котором немцы делают елку, а мы, кроме елки, ничего не едим. <…> Пишу же я именно в сей день, приготовившись постом и молитвой, о деле довольно важном. <…>
Желаете ли вы на будущий год постоянного участия в „Отечественных] зап[исках]“ Грановского, Корша, Редкина и моей ничтожности? Так что мы почти бы могли завладеть отделом наук. Тогда „Отечественные] зап[иски]“ могут вполне сделаться органом не токмо петербургского литературно-ученого направления, но и московского. У нас много читается, за многим следится; наконец, надобно для того посылать статьи наши постоянно к вам, чтоб сколько-нибудь держать в пределах славянобесие, чтоб поднимать иногда голос против клеветы на науку, на Европу etc., etc. Мы предполагали журнал, он не состоялся, как говорят, по причинам, не зависящим от издателя, и мы охотно делимся с вами тем, что заготовили».
Планы сотрудничества в «Отечественных записках» всех московских членов кружка оказываются реальными лишь отчасти. Пожалуй, только Герцен остался их непременным участником. Ведь уже публиковались в журнале его статьи из «Дилетантизма», а в марте 1844 года, когда он напечатал «Москвитянина и вселенную» против обновленного славянофильского детища, язвительные сарказмы фельетона никого не могли обмануть. В прозрачном псевдониме «Ярополк Водянский» легко отражалось герценовское перо. Да и «Вёдрина статейка», вышучивающая Погодина и его путевой дневник «Год в чужих краях», наделала много шуму. Господа-издатели «Москвитянина» собирались специально для выдумывания острот «анти-Герцен», лишь бы чем-то ослабить эффект, произведенный его статьей. Были и такие, которые рассчитывали под благовидным предлогом, после «Москвитянина и вселенной», «остановить издание „Отечественных записок“ навсегда».
Несмотря на козни идейных недругов, сотрудничество продолжилось. И Герцен готовил в журнал Краевского свои новые «письма», безраздельно углубившись в ученые проблемы. Без философского осмысления явлений природы и жизни общества в их взаимосвязи невозможно приступить «к практическому действованию». В «Дилетантизме» уже сделан вывод, что вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами.
Особенно важным в истории написания «писем» стали занятия естествознанием. Естественным наукам следует уделить особое внимание: «…ими многое уясняется в вечных вопросах». Герцен понимал, что безнадежно отстал, лет десять как не занимался практической наукой.
Уже осенью 1844-го он превращается в студента. Бегает в университет, чтобы послушать сравнительную анатомию у профессора Глебова. В аудиториях и анатомическом театре «знакомится с новым поколением юношей». Вскоре с удивлением убеждается, что молодежь несравненно ближе к его воззрению, чем даже лучшие из друзей.
Да, новая молодежь — сильное поколение, далеко ушла вперед. Материалистические идеи, несмотря на чинимые властью и церковью препоны, в большом ходу. И наука стала взрослее, реалистичнее. С каждой новой лекцией, с каждой новой дискуссией совершенствуется, «приводится в ясность» и его теоретический багаж, укрепляются материалистические взгляды, прежде существовавшие на пересечении просветительской идеологии XVIII века, идей христианского и утопического социализма. Растет его влияние среди студентов, принявших «Дилетантизм в науке»: «Юноши тотчас оценили, в чем дело, и гурьбою ходили в кондитерские читать „Отечественные записки“». Лучшей признательности за труд не стоит и желать.
Постепенно у Герцена зреет убеждение, что вскоре он останется только с Белинским и Огаревым. Оторвется от прежних друзей — идейных союзников, ибо между их воззрениями наметилась заметная трещина. Да к тому же Герцен так далеко продвинулся в постижении философских основ и теорий, проштудировав десятки изданий, развив и сформулировав собственную концепцию, что отнюдь не всем, даже «крепкоголовым» его современникам, «оказывалось по силам» освоить нелегкий интеллектуальный запас и философские труды Искандера. В этом без стеснения признавался И. И. Панаев.
Неудивительно, что и нам следовало прибегнуть к краткому знакомству с мнениями философов-специалистов, правда, в советское время чрезмерно затянувших человека позапрошлого столетия в свои конъюнктурно-идеологические сети. В их трудах было произнесено много возвышенных, политизированных слов относительно философских сочинений Герцена, где фразы: «связь с революционной борьбой», «философский материализм» и другие, слишком оставались на поверхности. Маяком, с которым непременно идеологически сверялись, были ленинские слова из статьи «Памяти Герцена» (1912), что в «Письмах об изучении природы» (последовавшими за «Дилетантизмом») Герцен «вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом». Притом «в крепостной России 1840-х годов XIX века сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени».
Не беремся судить или опровергать. Тема философских исканий и достижений Герцена слишком сложна, объемна и специальна, чтобы в небольшой по объему книге развивать ее вширь и вглубь. Это задача профессионалов-исследователей, заинтересованных в философском наследии разностороннейшего Герцена[77], привилегия, которой в наши дни они не слишком-то воспользовались. Новых работ практически нет. Ясно одно: статьи цикла «об изучении природы» и поныне считаются не только крупнейшей философской работой Герцена, но и одним из важнейших произведений русской материалистической философии XIX века. В «Письмах» были поставлены и частично решены некоторые из философских вопросов — о взаимоотношении философии и естествознания, о законах природы и мышления, об отношении сознания к природе, о методе познания и др. В главной теме — отношения философии и естественных наук, Герцен ставил целью «по мере возможности показать, что антагонизм между философией и естествоведением становится со всяким днем нелепее и невозможнее; что он держится на взаимном непонимании, что эмпирия так же истинна и действительна, как идеализм, что спекуляция есть их единство, их соединение».
Цикл «Писем об изучении природы» состоит из восьми статей, основанных на огромном количестве источников, прочитанных, проработанных, усвоенных Герценом, из которых он вынес собственное понимание сложнейших философских проблем. Это краткий очерк истории философии от древности до времени Просвещения, от изложения систем «пластического мышления древних» — греков и римлян, до постижения «методы» Бэкона и Декарта, Локка и Юма и других, которые Герцен пытается рассмотреть с современной ему точки зрения.
Общий замысел работы определен в «Письме первом» — «Эмпирия и идеализм». Цикл статей — своеобразное введение в науку; его ближайшая задача — ознакомление читателя с ее «главными вопросами» и устранение ложных и неверных мнений, обветшалых предрассудков. Что же до главных вопросов, то, по мысли Герцена, это — отношение мышления к бытию, сознания к природе и связанная с ними проблема метода познания. Значительное место в развитии философской мысли занимает разработка вопроса о союзе философии и естествознания. Автор стремится доказать, вывести к пониманию, что они едины.
«…Философия, не опертая на частных науках, на эмпирии, — призрак, метафизика, идеализм, — рассуждает Герцен. — Эмпирия, довлеющая себе вне философии, — сборник, лексикон, инвентарий — или, если это не так, она неверна себе». «Философия, не умевшая признать и понять эмпирию, хуже того, умевшая обойтись без нее, была холодна, как лед, бесчеловечно строга; законы, открытые ею, были так широки, что все частное выпадало из них; она не могла выпутаться из дуализма и, наконец, пришла к своему выходу: сама пошла навстречу эмпирии…»
Двадцатого июля 1844 года Герцен записывает в дневник о работе над первым письмом нового цикла «Эмпирия и идеализм»: «…кажется, хорошо, а впрочем, сначала все написанное кажется хорошо».
Двадцать седьмого июля «1-е письмо для журнала готово». Герцен собирается приняться за второе, но опасается цензуры. Еще нет решения, что новое издание, замышляемое друзьями, так и не состоится. Осенью работа продолжена. 16 ноября Герцен пишет Кетчеру, что занимается статьей «об отношении естествоведения к современной философии; идет недурно». Законченная в феврале 1845-го статья отослана Краевскому.
Вывод об органическом союзе философии и естествознания подразумевал материалистическую философию, основанную на признании объективной реальности природы. Герцен утверждал также необходимость диалектического метода в философии и естественных науках. Для данного этапа развития науки им с наибольшей мерой четкости высказано материалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию. Природа существует вне и независимо от сознания; попытка утвердить сознание над природой как первичное по отношению к материальному бытию — несостоятельна. В этом, как принято считать, отправное положение всех поставленных Герценом в «Письмах» вопросов, сопровождаемых критикой идеализма. Полемика с Гегелем и другими создателями философских систем и теорий предшествующих времен определила широту и злободневность его работы. Вместе с тем «Письма» выражали поиски дальнейших путей философии после Гегеля.
В конце июля Герцен пишет второе письмо — «Наука и природа — феноменология мышления», но в августе работа еще не окончена, хотя и помечена этим месяцем. Очевидно, Герцен дорабатывает обе статьи одновременно, чтобы вместе отправить их в «Отечественные записки». Он начинает письмо с определения науки и с общего обзора ее развития, формулирует важную мысль: «Дело науки — возведение всего сущего в мысль». Для Герцена философская наука — это «живой организм, которым раскрывается истина».
Осенью 1844 года Герцен трудится над третьей статьей, озаглавленной «Греческая философия». 8 февраля следующего года, отослав два первых письма Краевскому, отмечает в дневнике: «Занимался третьим; кажется, изложение греческих философов удачно, особенно софистов и Сократа».
К четвертому письму — «Последняя эпоха древней науки», Герцен приступает в декабре 1844 года, а 29 мая следующего, 1845-го, извещает Краевского о посылке ему «Письма» о «Риме» и просит охранить от попыток «кастрирования», подразумевая цензурные придирки.
Двенадцатого июня 1845 года, когда письмо пятое «Схоластика» «о средневековой философии» было готово, Герцен пишет Краевскому, пытаясь отвести упреки в сложности языка: «…стараюсь теперь всеми силами, чтоб изложение новой философии сделать как можно популярнее: все обвиняют в темноте мои статьи. Тем более постараюсь, что у меня образовался совершенно особый взгляд…»
В июне 1845 года Герцен, работая над шестым письмом — «Декарт и Бэкон», «знакомится ближе с Бэконом». О готовности письма об англичанине Бэконе и французе Декарте сообщает издателю: «…мне кажется, оно удачнее всех других, и знаю одно, что тот взгляд, который тут развит, не был таким образом развит ни в одной из современных историй философии».
Герцен предполагает, начиная шестое письмо в июне 1845-го, дать в нем изложение систем Декарта и Бэкона одновременно, но потом решает посвятить Бэкону и его школе специальную работу. Роль Бэкона в соединении естествознания и философии велика, и Герцен ее очень ценит. В августе письмо седьмое «Бэкон и его школа в Англии» уже окончено.
Очевидно, что Герцен, работая над последней, восьмой статьей «Реализм» в августе — сентябре 1845 года, имел намерение разделить ее на две части. Предварительно хотел написать о реализме в Англии и во Франции отдельно, но от намерения отказался. 27 сентября написал Краевскому: «Письмо о Локке, Юме и энциклопедистах готово». Дорабатывал ее Герцен еще несколько месяцев, до конца года.
Для характеристики основных направлений в философии Герцен употребляет термины: «идеализм», «материализм», «реализм». «Реализм», по Герцену, основан на признании объективности реального мира природы и противопоставлен «идеализму», то есть, по существу, обозначал материалистическое мировоззрение.
Все «письма» на протяжении 1845–1846 годов печатались в «Отечественных записках». Белинский, как всегда, следивший за творческим развитием Искандера, хотя и упрекал друга в трудностях языка, в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» среди «интересных статей ученого содержания» на первое место ставил седьмое и восьмое «Письма об изучении природы».
«Замечательного мыслителя», крупнейшего «представителя нашего умственного движения» в дальнейшем заметит Чернышевский (знакомящийся в 1840-е годы с его сочинениями) и узнают другие деятели из демократического лагеря. Сторонники и противники герценовских воззрений будут спорить об основных постулатах труда, а марксисты, как сказано, возьмут его на вооружение.
Глава 29
«ТЫ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ…»
У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительной верностию сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произвести суд.
В. Г. Белинский. Взгляд на русскую литературу 1847 года
Работа над «Письмами» на восьмой статье была прервана. Возможно, повлияли мнения осведомленных читателей или цензурные угрозы, но главное, кажется, было в другом…
Герцен давно мечтал взяться за повесть. Но на что похожи были его прежние приступы к жанру, его первые опыты? Да были ли они вообще успешны? Ведь самим им сказано: повесть не его род. И браться за нее нечего. Разве что «повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою…». Однако «забросать цветами один женский образ», похоронить порочащую вятскую любовь не удалось. И укор не ушел, да и с неоконченной повестью «Елена» («Там») случилась неудача. В ней «бездна натянутого, и, может, две-три порядочные страницы» — так посчитал сам автор. Зато законченный фрагмент «Город Малинов и малиновцы» из «Записок одного молодого человека» ждал успех, да к тому же скандальный, чуть не стоивший ему нового судебного разбирательства. Вятские прототипы-герои оживились, учуяли в сочинении «авктора» «пошквиль». Один вятский советник даже решил жаловаться министру и в доказательство тождества городских лице персонажами выставлял, как знамя, бальное платье брусничного цвета, в которое обряжалась жена директора гимназии. Директорша, как дама отменного вкуса, была взбешена, защищая свой особенный туалет, и вовсе не брусничный, а «цвету пенсе». Так «оттенок в колорите» спас Герцена от нависшей угрозы, и дело само собою закрылось.
Другая сторона успеха «Малинова» заставила Герцена взяться за давно отложенное сочинение, повесть, а в широком понимании — роман, оставивший в русской литературе свой вечный вопрос.
Начал он работать над повестью, которая давалась ему с трудом, во время новгородской ссылки. Вернувшись в Москву в 1842-м, показывал друзьям. Их отзывы, не слишком воодушевляющие, заставили бросить затею, и рукопись на несколько лет осталась невостребованной. Перебирая свои старые бумаги, скопившиеся во время ссыльных странствий, обнаружил рукопись первых глав повести, названия которой даже толком не помнил. Кажется, «Похождения одного учителя». Так, во всяком случае, он писал Краевскому 12 июня 1845 года, предлагая поместить ее в журнал, да еще с обещанием написать новую главу. Краевский с публикацией медлил, будучи неуверенным в скором завершении всей работы. Издательские сложности тоже предвиделись: образ помещика Негрова, безраздельного владетеля (собственника) своих наследственных рабов, вряд ли понравится цензуре. Герцен успокаивал: Негров «решительно сходит со сцены, отдавши Любу замуж за учителя, и тут начинается иная гистория…».
Месяца через полтора, «когда повесть решительно не писалась», а Краевский настойчиво торопил, Герцен строил разные планы относительно публикации отдельных отрывков, ну, хоть в новом, поджидаемом альманахе Некрасова «Петербургский сборник». Наконец, осенью того же 1845 года, он вернулся к замыслу, придав новому отрывку более самостоятельный характер. 24 октября Герцен, доверившись все же репутации журнала Краевского, просил его изменить название повести на «Кто виноват?», присовокупив эпиграф: «А дело оное предать суду Божию и, почислив его оконченным, сдать в архив»[78]. Первые главы появились в двенадцатом номере «Отечественных записок» за 1845 год.
Продолжение работы, прерванной на главе V и доведенной до главы VII, по авторской воле вылилось в «совсем новую повесть, в которой только те же лица». (Главы V–VII вышли в четвертом номере журнала Краевского за 1846 год.)
Рождалось сочинение, о котором потом будут много писать и спорить, а в анналах русской литературы критического реализма, в недрах «натуральной школы», выпестовавшей Герцена и его знаменитых современников, оно останется романом антикрепостническим, остро-социальным, хрестоматийно знаковым (как бы мы выразились теперь), вновь выдвинувшим на литературную авансцену «лишнего человека», преемника Онегиных и Печориных.
Откроем роман Искандера (с которым читатель, несомненно, давно знаком). Увидим, как в нем отразилась вся его предшествующая жизнь. Каким бесценным опытом во время тюрем и ссылок она с ним поделилась. Как персонажи обогатились характерами и чертами, конечно, обобщенными, не сказать, чтоб прототипов, но лиц реальных вполне. Как вывернулась вся бюрократическая изнанка общества, как обнажились зверские крепостнические установления. События, наблюдения, даже детали, слова, выражения, нанизавшиеся в памяти литератора, начиная со времен его детства и юности в отцовском владении, собственное его ощущение «незаконного» так или иначе в повести проступили. Сравнение с бытом отца, с его неумеренной, нерасторопной и капризной властью, оборачивающейся неумелым хозяйствованием, воровством приказчиков и безнаказанностью старосты, теперь пришлись сочинителю как нельзя кстати.
В общем, обычная, банальная российская история, в которой, казалось бы, и люди обыкновенные, и жизнь однообразная — ан, нет! Автора повествования «ужасно занимают биографии всех встречающихся ему лиц», ибо «ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей, особенно там, где нет двух человек, связанных одной общей идеей, где всякий молодец развивается на свой образец, без задней мысли — куда вынесет!». Читатель, скромно полагает автор, вправе пропускать эти биографические отступления, «но вместе с тем он пропустит и повесть». Такие отступления ценятся им бесконечно: «Они раскрывают роскошь мироздания». «Былое и думы» подтвердят это устремление автора к подобному биографическому повествованию.
Итак, биографии… Действующие лица.
Первым в этой галерее персонажей появляется на сцене Алексей Абрамович Негров. Отставной генерал-майор, его превосходительство, в начале повести еще не обзавелся собственной биографией, но уже стоит, преодолевая зевотой послеобеденный сон, на балконе своего отменно богатого дома, чтобы встретить «определяющегося к месту» учителя, нанятого при содействии доктора Крупова для обучения тринадцатилетнего отрока Михаила, приготовляемого отцом к военной службе. (И ни в коем случае ему не нужно, чтобы «из сына вышел магистр или философ».)
Бедный сын уездного лекаря, робеющий, скромный, только представлен читателю в первой главе как кандидат, вышедший по физико-математическому отделению из Московского университета. И задерживается он ненадолго для утомительного для Негрова «ученого разговора» и представления его супруге — Глафире Львовне, встретившей «нового ментора» Миши крайне благосклонно, по-домашнему, заметив только, что Дмитрий Яковлевич Круциферский (так звали учителя) «с своими большими голубыми глазами был интересен».
Экспозиция повести была бы не полна, если бы помимо упитанного недоросля Миши, его десятилетней сестрицы «с чрезвычайно глупым видом», казачка, горничной, «миньятюрной старушки» — француженки-мадам, не промелькнула бы в комнате еще одна фигура. Молодые герои (а в повести они выйдут на первый план) еще не могут разглядеть друг друга, ибо лицо девушки, уже заявленной как «какая-то Любонька», «которую воспитывал добрый генерал», было наклонено к пяльцам.
Глава II — биография их превосходительств. В описании внешности Негрова, «толстого, рослого мужчины, который, после прорезывания зубов, ни разу не был болен», обнаруживаются резкие его черты, и сквозь кажущееся благодушие и не злобность от природы проступает «строгий, вспыльчивый, жесткий на словах и часто жесткий на деле» нрав.
Его богатый послужной список определен кампанией 1812 года. Бурная жизнь в Москве после отставки и «шум большого света», как водится, с картами, театрами и клубами, утомляют генерала. Скука загоняет его в деревню, «хозяйничать». С легкостью, вопреки эротической привязанности к «голубым глазкам», он расправляется со своей любовной связью, крестьянской дочерью Дунькой, которую называли «вполслуха полу-барыней», разрешив своему камердинеру жениться на ней, а прижитое с Авдотьей Емельяновной дитя со временем берет к себе в дом. Девочка (повторившая в некотором смысле судьбу Натальи Александровны), лишенная «всех радостей своего возраста, застращена, запугана, притеснена» и, подрастая, мечтает уйти в монастырь.
Кто стал новой избранницей бравого генерала? Биография Глафиры Львовны и вовсе не легкая судьба ее семьи представлены во всех подробностях. Она — типичная, скромная представительница «полубогатых дворянских домов, которых обитатели совершенно сошли со сцены», ибо имущество их было промотано до конца. Даже не имея поначалу ни малейшего представления о своем избраннике, юная и неопытная Глафира вскоре утвердилась полноправной хозяйкой, и брачная жизнь с генералом «текла как по маслу». Выброшенную из дома «дочь преступной любви» своего супруга, трехлетнюю Любоньку, по собственной воле она милостиво приблизила к себе. Причиной тому была «романтическая экзальтация» и прочие, вовсе не дурные побуждения сердобольной супруги, желающей достойно воспитать бедную сиротку.
В главе III развернута биография юноши из дальнего губернского города, сопровождаемая нехитрым родословием Круциферских. Отец — добрый, честный, не до времени состарившийся уездный лекарь, обремененный семьей из пяти детей. Мать — дочь какого-то немецкого провизора (не вспомнил ли Герцен здесь семейную историю своей «подснежной» вятской подруги, немки Полины Тромпетер?). Тяжелое житье Круциферских — вовсе не так занимательно, как жизнь Негрова с домочадцами, считает Герцен, ибо все их усилия направлены на «битву с нуждой».
Нашелся некий меценат, увезший Дмитрия в Москву, где дал ему место во флигеле своего особняка вместе с детьми управляющего. Дальнейшая судьба выучившегося Круциферского, дошедшего до крайности, потерпевшего фиаско «во всех предприятиях», сводит его с доктором Круповым. Его рекомендация — отправиться учителем в дом Негрова, соединяет героев повести.
Глава IV «Житье-бытье», расширяющая границы быта и порядков в доме помещика Негрова, вновь выводит на сцену повзрослевшую и похорошевшую Любоньку, душу нежную, чувствительную, нередко оскорбляемую надменным и жестоким поведением своего отца.
«Немного надобно проницательности, — заключает Герцен, — чтоб предвидеть, что встреча Любоньки с Круциферским… даром не пройдет». Дальше, как водится, пылкая влюбленность, скромное письмо, первый поцелуй любви… Но в нерешительные действия Круциферского неожиданно вмешивается далеко зашедшая в своих любовных притязаниях, соскучившаяся 40-летняя супруга Негрова. Разразившийся скандал, страшные недоразумения (интрига, острый сюжет!), приводящие в содрогание отчаявшегося Круциферского, в конце концов ведут к счастливому соединению с Любонькой.
Казалось бы, конец и делу венец, но Герцен, как известно, повесть продолжает, да она, считает, и «не начиналась». В главе V на сцену выходит новый герой, отставной губернский секретарь, лет тридцати, владелец «трех тысяч душ незаложенного имения», «свалившийся, как с неба», в город NN на дворянские выборы, — Владимир Бельтов. И тут завязка почти к новому роману — явился «третий лишний». И тема Бельтова в главах VI–VII получает широкое развитие.
Слухи о Бельтове распространились самые разные, даже мифологические. Из некоторых становилось ясно, что, выйдя из университета, он «попал в милость к министру», потом будто бы «рассорился с ним и вышел в отставку». Герцен не оставил без подробнейшей родословной — истории-биографии своего героя и его родителей: отца — игрока, «охотника пить» и «волочиться за всеми женщинами», которого Владимир потерял в раннем детстве, и мать, происходившую из крестьян, и, по распространенному мнению, дамы экзальтированной, прозванной «экзальте», с приписываемым ей «дурным поведением». На самом же деле бывшей любящей матерью, целиком посвятившей себя сыну.
Кончив блестяще университет, Бельтов с товарищами был еще полон надежд: «Молодые люди чертили себе колоссальные планы…» Мечтали о гражданской деятельности, о славном поприще. Самолюбивый, многосторонне образованный, с «пылким, пламенным умом», он принялся было рьяно за дело, впрягся в бюрократическое колесо, восхищался им, все поэтизировал и встал «на скользкую дорогу», ибо средства не смешивают с целью (в чем предостерегал его женевец — гувернер-идеалист Жозеф[79], сделавший все, чтоб юноша «не понимал действительности»), «Служи делу, — наставлял учитель, — но, смотри, чтоб не вышло обратного; чтоб дело не служило тебе».
Никто не подозревал, что один из молодых мечтателей (Герцен обобщит опыт собственных наблюдений) «кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс; другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не выпьет трех рюмок зорной настойки перед обедом и не проспит трех часов после обеда; третий — на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели».
«…Деятельность, деятельность!..» Надежды не свершились, проекты на новую жизнь в России не удались. Остался без дела и Бельтов — редкая птица в своей среде. Вечно ищущий, наделенный недюжинной силой, он словно бы являл протест, был «каким-то обличением» жизни, «каким-то возражением на весь порядок ее», — размышлял Герцен.
Прошло немало «романного» времени, многочисленных встреч, смены лиц и персонажей, их историй и перемещений по миру, прежде чем Бельтов вошел в жизнь Круциферских. «Судьба вынесла»… Много обещала, да ничего из этого не вышло. Бельтов полюбил — и всех погубил. Конец случился трагический…
Оставались вопросы: кто виноват, отчего все несчастны, почему жизнь заела благородных людей — бедного лекаря, не выдержавшего схватки с немилосердной судьбой; честного, кроткого Круциферского, не способного вступить в борьбу с действительностью и, по безвыходности, пристрастившегося к зеленому змию; угасавшую на глазах сильную и самостоятельную Любоньку; Владимира Бельтова, так и не нашедшего себя, и пр. и пр. Эпиграф, вставленный Герценом в отдельное издание романа, как приложение к «Современнику» (1847), виновных, «за неоткрытием», не обнаруживал.
Вторая часть герценовского романа, который был закончен осенью 1846 года (после написанных в январе — феврале двух повестей: «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов»), стала расширенной вариацией на заданную тему судеб трех героев. Все сочинение, по мнению автора, получило «относительную целость и внутреннюю связь». Однако временной водораздел — разные эпохи личной судьбы автора, в которых создавались отрывки, явно ощущался. Стилистическая манера Герцена, как всегда сатирически заостренная, тоже претерпела изменения. Но общая направленность романа как антикрепостнического, затронувшего и проблему бюрократического всевластия, и неизбежности краха самых возвышенных мечтаний человека об истинном деле, оставалась единой.
Вопросы семьи и брака, особенно волновавшие Герцена в ту пору, тоже не потеряли своей злободневности. Одним из проводников и выразителей этих идей выступил в повести холостяк доктор Крупов, образ которого займет немалое внимание в творчестве писателя. «Кто виноват?», будто бы провидчески, посвящался Герценом своей жене.
Целые страницы сочинения, как и опасался Герцен, бесконечно предупреждая Краевского о возможных осложнениях, — попали под нож «цензурной гильотины».
Реакционная критика обрушилась на роман. Не унимался Булгарин, не оставлял своим вниманием, науськивал (корпел над доносом в Третье отделение): «Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с крепостной девкой — образцы добродетели». Глава тайной полиции Дубельт с «предосудительностью всей повести» соглашался, журнал «Сын отечества» подавал свою трактовку повести, чтобы нейтрализовать заложенный в ней идейный смысл. Ответ на вопрос представлялся очевидной банальностью: в людских трагедиях виновата одна судьба. Доносы в Третье отделение шли в своих разъяснениях дальше: «Автор — социалист, без сомнения рассчитывал, что некоторые станут вкушать вредный плод его воображения, признают виноватыми правительство и гражданский наш порядок, хотя он не выразил прямо всего его сознания».
Типичность героев романа отрицалась, особые нападки вызывал стиль герценовской беллетристики, которому несколько позже, в 1848 году, была навязана особая терминология. Шевырев в «Москвитянине» писал: «Искандер развил свой слог до чистого голословного искандеризма, как выражения его собственной личности». Этим словарем «искандеризмов» он в том же журнале открывал свой, составленный им «Словарь солецизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы». Так начинала утверждаться легенда о «неполноценности» художественного творчества Искандера, бывшая последствием идейной вражды, разделившей интеллектуальное русское общество на два лагеря.
Демократическое крыло, в лице ближайших друзей, сподвижников Герцена и представителей новой писательской «волны», восприняло с воодушевлением его повесть в «Отечественных записках» с самых первых, опубликованных там глав. (Истинные баталии вокруг трактовки «лишнего человека» развернутся значительно позже, о чем будем еще иметь случай напомнить.)
Второго декабря 1845 года Некрасов просил Кетчера: «Скажи Герцену, что его повесть — поистине превосходная повесть, что лучше он никогда ничего не писывал и что, читая его повесть, так и кажется, что он только и делал весь век, что писал повести: такая ровность и ни одной фальшивой нотки».
Первого апреля 1846 года Ф. М. Достоевский писал брату Михаилу: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров».
В первом номере «Отечественных записок» за 1846 год в статье «Русская литература в 1845 году» Белинский включал «Кто виноват?» в «ряд оригинальных произведений по части изящной прозы»: «Автор повести… как-то чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, плоды своей наблюдательности — в действие, исполненное драматического движения. Какая во всем поразительная верность действительности, какая глубокая мысль, какое единство действия… какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства!..мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта в совершенно новом роде».
В начале января 1846 года критик писал Герцену из Петербурга, словно снимая свое прежнее табу на возможность рождения в его творчестве повести как жанра: «Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем… и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант, который мне кажется лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного)…»
Белинский предполагал к Пасхе 1846 года собрать свой собственный альманах «Левиафан» (увы, не состоявшийся) и уже, заручившись обещаниями Тургенева, Достоевского и Некрасова, обращался к Герцену: «Повесть или жизнь\» Желая помочь другу, Герцен отвлекся от продолжения работы над второй частью «Кто виноват?» и в январе 1846-го взялся за «Сороку-воровку», вновь замахнувшись на крепостнический мир, безбрежно раскинувшийся от узких театральных подмостков до бескрайних российских просторов. Сюжет, подсказанный Щепкиным, воплотился в трагический рассказ о судьбе крепостной актрисы, предпочитающей гибель унижающему холопству.
Белинский сразу же откликнулся: «Твоя „Сорока-воровка“ отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят».
Вскоре явилась мысль о «Записках медика», «Докторе Крупове», небезосновательно полагавшем, что «человечество больно безумием». Подобная идея проскальзывала и в «Малиновской эпопее». Герой «Записок одного молодого человека» рассуждал о нравах, о жалкой жизни в городе: «…больные в доме умалишенных меньше бессмысленны». Безумие охватило все сословия России — от дворянства до крестьян. Причины этой «психической эпидемии» доктор Крупов усматривал не в натуре человека, а в нелепом устройстве общества с его замшелыми нравами и семейными традициями.
Повесть Белинский одобрил. Он писал Герцену 20 марта 1846 года: «„Записки доктора Крупова“ — превосходная вещь… твой талант — вещь не шуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоить быть повешенным за ленивые пальцы».
Суровый, взыскательный, непримиримый Белинский без устали восхищался всем, даже… недостатками, оригинальными, как всё у Герцена. «Я, — писал он Герцену, — окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе…»
Глава 30
СОКОЛОВСКИЙ ФОРУМ
В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости…
И. И. Панаев. Литературные воспоминания
Летом 1845 года Герцену с семьей, за неимением Покровского, отданного щедрой рукой кузену Голохвастову, пришлось снять дачу в двадцати верстах от Москвы по петербургской дороге, в старинном барском селе Соколово, некогда принадлежавшем графам Румянцевым. Так что работа над повестью «Кто виноват?» и тремя последними письмами «об изучении природы» продолжалась за городом, в живописнейшем месте, в прекрасном доме обширного имения помещика Дивова, где удобно разместилась вся разросшаяся герценовская семья. Друзья последовали за Герценом, поселившись по соседству в других взятых внаем домах, или, при случае, приезжали погостить на денек-другой.
Грановские, Корш с сестрой, Кетчер, Боткин появлялись обычно в субботу и оставались до понедельника. Однажды к ним присоединился Панаев, на долгие годы покоренный этим небывалым ощущением дружеского сплочения, радости интеллектуального общения и единства с природой:
«…Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца, и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far niente[80] на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие замечания Корша, дикий, но добродушный смех Кетчера, размахивавшего длинным чубуком — все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии…»
Какое счастливое было это время! «Ах, как тогда легко смеялось, и как было весело!» — непосредственное восклицание, вырвавшееся у М. К. Эрн, постоянной участницы соколовского бытия, передает настроение всех, кто жил в то далекое лето рядом с Герценом. Он и сам помнил, «как прекрасно» было в тот год в Соколове: «Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке».
Голос П. В. Анненкова — не последний в этом хоре участников счастливого и пока согласного времяпрепровождения: «Лето 1845 года оставило во мне такие живые воспоминания, что и теперь… по прошествии с лишком 25-ти лет, как будто вижу перед собой каждого из тогдашних лиц московского кружка…
<…> Вероятно, ни ранее, ни позже Соколово уже не представляло такой поразительной картины шума и движения… Приезд гостей к дачникам был невероятный, громадный.
Хозяева жили в страшном многолюдстве и, по-видимому, не имели времени сосредоточиться на каком-либо своем собственном, специальном занятии. Гости калейдоскопически сменялись гостями…» К привычным завсегдатаям герценовского дома присоединялся М. С. Щепкин, приходивший пешком со своей химкинской дачи, часто с кузовком набранных грибов, которых, по всему, в то лето была великая прорва. Гостил Н. А. Некрасов, «возбуждавший тогда общий симпатический интерес своей судьбою и своей поэзией». Наезжали литератор Д. А. Засядько и профессор П. Г. Редкин. (Как ни странно, среди гостей находилась и вятская пассия Александра Ивановича — Прасковья Медведева, которой, к слову сказать, он неизменно помогал.)
Герцен, личность которого неодолимо притягивала, оставался центром кружка. Недоставало Белинского, посещавшего Белокаменную лишь во время своих редких наездов из столицы; остро ощущалось отсутствие Огарева, странствовавшего в чужих краях.
Никогда еще прежде не скапливалось одновременно людей столь блестящих. В Соколове, как кто-то точно заметил, «не позволялось только одного — быть ограниченным человеком». П. В. Анненков назвал соколовскую жизнь «подвижным конгрессом из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с другом». Он подтверждал ощущения и рассказы других участников «соколовского форума».
В этом «водовороте гостей и наезжих со всех сторон» никто не забывал о деле, и хозяева дачи, как могло показаться вначале, жили вовсе не праздно. Герцен не прерывал своих ученых занятий. Грановский готовился к новому курсу публичных лекций. Кетчер в перерывах между своей бурной, «организаторской» деятельностью (подмечено, что Николай Христофорович имел обыкновение делаться «домашним человеком», где бы ни появлялся) трудился над своими переводами. Мемуаристам и живописцам в тот год оставалось участвовать, наблюдать и фиксировать все роскошество ускользающих моментов редкого человеческого единения.
Каждый из вспоминавших Соколово не может удержаться, чтобы не передать атмосферу того безудержного веселья, безотчетной, не омрачающейся ничем легкой радости, которая иногда случается в молодости.
Анненков сохранил карикатурный листок, изображающий его самого, Герцена, привычного виночерпия Кетчера, размахивающего бутылкой, Грановского, смиренно опершегося на палку, щеголеватого Панаева в клетчатых панталонах по столичной моде, остроумца Корша и К. Рейхеля, новгородского знакомца и создателя двух герценовских портретов, «в ночной беседе, какие тогда часто бывали на обрыве горы, в садовом павильоне соколовского парка», названном по традиции «Бельвю» из-за прекрасного обзора окрестностей. Беседка, которую Герцен окрестил «Пандевуй», переиначив французское point de vue, стала местом ночной пирушки, которую с веселой непосредственностью остановил карандаш художника. Под рисунком обозначены фамилии всех семи действующих лиц «Ночной сцены в Соколове в 1845 году» и подпись — «К. Горбунов». В этом наброске — Герцен в круглой шапочке, наподобие тюбетейки, устроился на краешке дивана, на котором лежит Панаев, очевидно, после неумеренного возлияния. Над ними наклонился Анненков. Щеголеватый остроумец Корш предстает в цилиндре и сюртуке. (Кстати, Анненков иронично заметит о нем, что «он стоял постоянно с ногой, занесенной, так сказать, из своего лагеря в противоположный, охлаждая слишком радужные чаяния или чересчур сангвинические порывы своих друзей».)
Сохранились свидетельства о существовании других набросков — картинок из жизни той далекой поры, которые приписывались легкому карандашу Натальи Александровны, и в дальнейшем проявившей себя недурной рисовальщицей. Но обнаружение этих рисунков спустя столетие с лишком в семье потомка Герцена Л. Риста, передача их в Дом-музей его московской кузиной Н. П. Герцен и сравнение с оригиналом — «Ночной сценой в Соколове», всякие сомнения исключили: те же действующие лица, часто в тех же ракурсах и сходных позах (как, например, Грановский). И рисовал их все тот же Горбунов.
Молодой талантливый художник из вольноотпущенных, а впоследствии академик, Кирилл Антонович Горбунов становится частым гостем в Соколове. Связанный тесной дружбой с Белинским и Боткиным, Горбунов знакомится с Герценом, очевидно, в 1839 году, а в 1845-м — он уже свой человек в его доме. Наблюдает, изображает почти всех участников герценовского кружка — Корша, Кетчера, Анненкова, не обходит вниманием и женскую половину общества. Начинает с серьезной портретной галереи, рисованной «с натуры и на камне», где появляется портрет Герцена нового возраста жизни. Александр Иванович уже не тот романтический красавец, как на ранних рисунках Витберга. Чувствуется, что нелегкая жизнь оставила след. Он погрузнел, над высоким лбом образовалась залысина, пополневшее лицо обрамляют пышные баки. Взгляд — сосредоточенный, но во всем облике — та же скрытая энергия.
На шаржированных набросках фигуру Герцена не так легко обнаружить, если не представить сцену купания на речке Сходне, привлекшей в свои воды немало соколовских любителей понырять. Герцен не единожды наблюдал, как Щепкин, «великий мастер плавать, — по свидетельству Панаева, — проделывал разные фокусы на воде и, между прочим, остров: он весь скрывался в воде, обнаруживая только один круглый и полный живот свой». Подобный фокус — «остров» — имитировался Герценом. Его фигура на шаржированном рисунке узнавалась в очертаниях пловца, освежающегося после бурно проведенной ночи в беседке «Пандевуй».
Светлая сторона соколовского лета постепенно затемнялась. Оно не было таким уж мирным и безоблачным. Не забыты гневные письма Белинского, обвинявшего друзей в заигрывании со славянофилами, которые не стеснялись упрекать своих врагов в отсутствии патриотизма и даже в «ненависти к России». Не утихали страстные споры вокруг крестьянской проблемы, нередко омрачавшие дружескую идиллию. До теоретических вопросов касались только поверхностно, слегка, а в этом, оказывается, и таилась главная опасность.
Дружба меркла, человеческие привязанности распадались — и все от различия в воззрениях, противоположности взглядов, что немедленно прекращало общение, даже в этой возвышенной, благородной среде.
Лето 1845 года в Соколове «действительно было закатом молодости этого кружка… но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами…» — свидетельствовал все тот же Панаев. «В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы…»
Герцен чувствовал: возникающее разномыслие вскоре проявится в чем-то глубоко сокровенном, что каждый выстрадал по-своему.
Глава 31
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В РОССИИ. «ПРОЩАЙТЕ!»
Ну, радуйтесь! Я отпущен!
Н. П. Огарев. Юмор
В марте 1846 года на одну из лекций Грановского (начавшего в ту пору новый публичный курс) прибежал кто-то из общих знакомых и сообщил о приезде Огарева и Сатина: «Что-то они… как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к „Яру“, где они остановились». Это воспоминание никогда не оставляло Герцена. Ведь друзей так ждали, так надеялись на скорую встречу… Не прошло и двух месяцев, как из Петербурга явился Белинский. Так собиралась «старая семья друзей», шедшая вместе долго и без видимого разномыслия. Но впереди — неминуемое расхождение, «теоретический разрыв», как назовет его Герцен, когда из «оттенков и личных взглядов» вырастает разное миросозерцание, резко разведшее прежних друзей — идеалиста Грановского и материалиста Герцена.
Года полтора назад Герцен записал в дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена!»
«В этой зависти к силе Робеспьера», одобрившего приговор бывшему другу, вынесенный революционным трибуналом, «уже дремали зачатки злых споров 1846 года», полагал Герцен. Их отсрочка пришла с кончиной его отца, с необходимым устройством образовавшихся дел, свалившегося на него наследства и окончательным переездом семьи из «тучковского дома» в большой «ростопчинский» особняк.
Счастливое лето 1845 года не повторилось. Предчувствия Герцена оправдались. Дачная жизнь в Соколове, названная им красивым итальянским словом villeggiatura, во второй раз не удалась. Обнажились тщательно маскируемые противоречия. Но первое время, в одушевлении праздника встреч и неумеренных застолий, этого никто не замечал.
Теперь трудно представить, как спор о бессмертии души может вдребезги разбить «влюбленную дружбу» двух преданных друг другу людей. Но тогда разномыслие дружбу исключало. «Тождество в главных теоретических убеждениях», в миропонимании Герцена, было необходимо. Они «не составляли постороннее, а истинную основу жизни».
Решающий разговор как-то невзначай возник во время обеда в соколовском саду. Грановский с воодушевлением отозвался относительно одного из «Писем об изучении природы». Герцен поинтересовался: «Да что тебе нравится? <…> Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен».
Мнение Герцена, «что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к приятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет… и к признанию фактов неопровержимых, как нераздельность причины и действия, духа и материи», вызывало резкую отповедь Грановского. Он никогда не примет «сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души», а личное бессмертие ему необходимо.
Долгий диалог подвел черту. Точка в споре была поставлена. Выправить происшедшее не представлялось возможным. Дружба не сладила с холодом разногласий. Внешне друзья расстались мирно. Остались сомнения в «наивности» такой непреклонности, и все же Герцен уверен был в своей правоте: «В действительно близких отношениях… необходимо тождество в главных теоретических убеждениях». Он чувствовал только, как сердце щемит от боли, словно кусок его «отхватили». Уходила открытость в общении с друзьями, возникала натянутость. Мелочные ссоры вызывали неоправданные обиды, постоянные споры выходили порой за границы только методов варения кофея, в чем особую, «строптивую нетерпимость» проявлял Кетчер, и — прежний круг распался.
Огарев, несмотря на долгое отсутствие, «был совершенно в том направлении», что и Герцен. К ним «присоединилась Natalie». Их, единомышленников, оставалось только трое.
Да, ехать! Мысли о поездке в Европу возникали не раз. «Славянофилы жестоко освирепели, „Отечественные записки“ им пришлись солоно». «Темный фатум», в который всегда он верил, кажется, вновь готов «вовлечь в безвыходное положение». Герцен не уставал повторять: «Страшная эпоха для России, в которую мы живем, и не видать никакого выхода». «Где свобода?» Нет, не в эмиграции. В известных случаях она допустима, «но не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло… Да и такая жизнь за границей — безнравственное бегство». Его манили даль, открытая борьба. С другой стороны… В его дневнике остается запись: «Мы потеряли уважение в Европе, на русских смотрят с злобой, почти с презрением. Россия становится представительницей всего ретроградного, материальной силой, употребляемой для того, чтоб остановить течение европейского развития; да и как же иначе смотреть на нее?»
После «теоретического разрыва» Наталья Александровна окончательно уверилась, что следует менять жизнь семьи.
Первого ноября 1846 года она достает свой дневник: «Да, уехать, — мы уже несколько лет собираемся в чужие край, здоровье мое расстроено, для меня необходимо это путешествие, писала просьбу к императрице пять лет тому назад — все бесполезно… <…> Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволенье и отказ. Что это — равнодушие или твердость? — но на все смотришь спокойнее, удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше… Не резигнация (покорность судьбе. — И. Ж.) ли это? Какое жалкое чувство; нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь и не страдаю? <…> По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу себе представить несчастия, под которым бы я пала. Последний припадок слабости со мною был в июне, на даче, тогда, как разорвалась цепь дружеских отношений и каждое звено отпало само по себе».
Герцен прекрасно понимал, что получить разрешение на выезд непросто, даже ссылаясь на ухудшающееся здоровье жены. Ехать «к водам» — все одно, держат полицейские вериги. Он еще поднадзорный. Николай I злопамятен. Вряд ли выпустит из пределов отечества. Дело теперь — в заграничном паспорте.
Для начала, с огромным трудом, было получено от графа Орлова, заступившего на место Бенкендорфа в Третьем отделении, разрешение посетить Петербург. И все при содействии старой и верной заступницы — Ольги Александровны Жеребцовой. Семейные обстоятельства помешали Герцену сразу же отправиться в столицу, потом вмешались полицейско-бюрократические заморочки, и только 2 октября 1846 года стало возможным ехать. В Петербурге, как полагается, он оказался под мелочной опекой дворника, пришедшего спросить от квартального, «по какому виду» он приехал в столицу. «Единственным видом» (указ об отставке был передан в канцелярию генерал-губернатора с просьбой о паспорте) был билет, который служаку не вразумил. Дворник позволил себе заметить, «что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург». Дальше бюрократическая канитель развертывалась то по вертикали, то по горизонтали, и каждый из мало-мальски облеченных властью проявлял свои, не ограниченные ничем, дикие повадки. Герцену эти «нормальные» и до боли знакомые «явления», которые он точно назвал «беспорядок в порядке», наблюдать было не впервой. Правда, Дубельт казался, как всегда, до чрезвычайности уклончиво обходительным и предлагал вернейшие пути для получения паспорта.
Все же дело о «пассе» поворачивалось скверным анекдотом, и Герцен, не солоно хлебавши отправляясь обратно из Петербурга, «присягнул себе не возвращаться в этот город самовластья голубых, зеленых и пестрых полиций, канцелярского беспорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзии, в котором учтив один Дубельт, да и тот — начальник III Отделения».
Дело затягивалось. Московский генерал-губернатор Щербатов не торопился отвечать графу Орлову. Да к тому же секретарь градоначальника, ненавидевший Герцена как отчаянного гегельянца, не брал взяток. В «Былое и думы» вплетен еще один «медальон» с парадоксальным замечанием о неистребимом российском пороке: «В русской службе всего страшнее бескорыстные люди; взяток у нас наивно не берут только немцы, а если русский не берет деньгами, то берет чем-нибудь другим и уж такой злодей, что не приведи бог».
По счастью, бюрократическая история шла к завершению, и Герцен был извещен 8 ноября 1846 года «о высочайшем повелении снять надзор», что давало ему «право на заграничный пасс». 26 ноября «Московские ведомости», в № 142, поместили первое, непременное для отъезжающих, троекратное объявление, что за границу, в Италию и Германию, на воды, отправляется с семьей надворный советник А. Герцен, а вместе с ними — Л. Гааг, М. Корш и М. Эрн. Давно ожидаемое событие в жизни Герценов вновь омрачилось роковым несчастьем: наследующий день скончалась их дочь Лика, Елизавета, не прожив и года.
В январе 1847-го прощались с друзьями. Собрались у Грановского всей разношерстной компанией. Поднимали бокалы. Пели. Смеялись, но с явной натяжкой. Произносили речи. Вроде и нет никаких ссор, никаких расхождений. Да если б и были, как с К. Аксаковым, — Герцен так любил этого человека, даже в момент разрыва, когда и руку противнику подать грешно… И все же сцена случайной встречи с ним на улице для автора «Былого и дум» отнюдь не случайна, не забываема, до слез. Накануне отъезда Аксаков приехал с ним проститься, но в первый раз хозяина дома не застал.
В Сивцевом Вражке побывали многие. Из знакомых — К. Д. Кавелин и В. А. Соллогуб. В один из зимних дней пришел на прощальный обед Чаадаев. Снова отсутствовал ближайший из близких, Ник Огарев, погрязший в делах своих наследственных имений. Прощались письмами. Предотъездные хлопоты помешали Герценам отправиться к другу в пензенское Старое Акшено. Следовало подготовиться к отъезду. Покончить со всяческими обязательствами, передать брату Егору на хранение оставшееся на время имущество — дома, библиотеку, архив. Составить доверенность на имя душеприказчика Г. А. Ключарева для ведения финансовых и имущественных дел. Подать в герольдию прошение о внесении фамилии Герцен в родословную книгу дворянства Московской губернии. Уж отец позаботился о «воспитаннике»… Наследственное состояние значительно. Справедливость рождения восстановлена.
Уезжали зимним январским днем. Плакали, обнимались. Узы не порваны. Да стоит ли ехать… Новый журнал «Современник» Некрасова, Панаева и Белинского — вот-вот, на подходе. Объявлена подписка на 1847 год. И Герцен — в числе его первых сотрудников. Панаев уведомил московских друзей, «что ни одна строка» не появится больше в журнале Краевского, а «Кто виноват?» выйдет отдельным изданием как приложение к «Современнику» в виде премии его подписчикам.
Так и случилось. Герцен успел даже надписать и подарить книжку в зеленом переплете с грифом нового журнала П. Я. Чаадаеву, М. Ф. Корш и М. К. Эрн. Отклики единомышленников воодушевляли. В литературном обзоре критика В. Н. Майкова в «Отечественных записках» (1847, № 1) автор «Кто виноват?» назывался «нашим первым современным беллетристом», так что писательское тщеславие романиста Искандера тоже, кажется, удовлетворено.
До второй почтовой станции санкт-петербургского тракта — Черная Грязь, в белоснежный, искрящийся, солнечный день провожали шесть-семь троек. Так запомнилось Герцену. В памяти Татьяны Астраковой осталось, что ее брат Сергей, которому было поручено организовать проводы, в Дорогомиловой слободе нанял «не то десять, не то пятнадцать троек», а местные ямщики только диву дались: «Вот так проводы! Да так только царей провожают…»
Вновь прощались, вновь поднимали бокалы… Двинулись в путь только к вечеру. Никому не дано было знать, что дорога ведет к вечной разлуке.
Календарь зафиксировал дату по старому стилю: воскресенье, 19 января 1847 года. Обрывалась российская жизнь. Границу России предстояло пересечь по новому летоисчислению.
Ну, радуйтесь! Я отпущен! Я отпущен в страны чужие!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЕРЦЕН НА ЗАПАДЕ
Сравнивая московское общество перед 1812 годом с тем, которое я оставил в 1847 году, сердце бьется от радости. Мы сделали страшный шаг вперед. Тогда было общество недовольных, то есть отставных, удаленных, отправленных на покой; теперь есть общество независимых.
А. И. Герцен. Былое и думы
Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину. Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели. <…> За эту веру в нее, за это исцеление ею — благодарю я мою родину. Увидимся ли, нет ли — но чувство любви к ней проводит меня до могилы.
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии
Глава 1
«ПО ТУ СТОРОНУ БЕРЕГА»
Вы-mo, Ваше высокоблагородие, кто такое?
Вопрос «ученого жандарма» на границе
«…Шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу…» Дорога уводила Герцена все дальше от Дома, от Сивцева Вражка, от почтовой станции — Черная Грязь! — врезавшейся навсегда в его память белоснежным днем прощания с родиной и друзьями. Сумятица мыслей, благодарственных чувств — позже, когда придет в себя, будет говорить, писать бесценным своим друзьям — нежных слов хватит надолго.
Черно-белый шлагбаум словно рассекал его жизнь между двумя мирами, разводил меж двумя берегами, отмеривал две судьбы.
Старый приятель и неизменный «образчик родительского дома» Карл Иванович Зонненберг, вместе с кормилицей двухлетней Таты, красавицей Татьяной, были последние, кто 31 января (по старому стилю) 1847 года прощался с путниками в пограничном местечке Тауроген. В тот же день, 12 февраля (по новому стилю[81]) русская граница была преодолена. Россия, как всегда, немного запаздывала.
Проверка паспортов в Лауцагене (Лаугсцаргене), на прусской стороне, обернулась трагической нелепостью. Бдительный заграничный страж принялся с усердием изучать «пассы», выданные по указу самодержца всероссийского, с множеством печатей и резолюций начальственных лиц и недосчитался главного — «вида» на въезд самого — «высокоблагородия» мужского пола.
Вопрос пристрастного стражника: «Вы-то, Euer Hochwohlgeboren, кто такое?» — Герцена озадачил. Он не понимал ничего. В руках усердного контролера было действительно только три женских паспорта: его матери и двух «фрейлейн» Марий — Эрн и Корш.
Уж столько преодолено, сколько напрасных усилий, надежд, и нате — потеря «пасса», глупая потеря! Опять просить, возвращаться, да не поверят: какие «минеральные воды» в январе, маршрут ведь принят совсем другой. Знакомые образы канцелярских «жимолостей» возникали, пугали повторением хлопот и мелочных преследований. «Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры…» — только и мог подумать Герцен. Что он без «пасса»? Этих нескольких сложенных листов бумаги с красноречивой подписью министра внутренних дел, «сенатора и кавалера ордена святого Владимира» Перовского, к тому же еще имеющего «золотое оружие с надписью за храбрость», хватает, чтоб решить судьбу человека, вырывающегося на волю.
Лошадь, отправлявшая в обратный путь на поиск потерянного «пасса» (может, лежит где-то, занесенный снегом, а может, оставлен при проверке в Таурогене), была уже заложена, когда пропажа внезапно обнаружилась. Где? Как? «Ваш русский сержант положил лист в лист, кто ж его там знал, я не догадался повернуть листа…» — объяснение «ученого сержанта», превзошедшего в усердной тупости своего русского, хоть и неграмотного коллегу в Таурогене, дело как-то разъяснило[82].
Граница осталась позади. Неповоротливые, громоздкие дилижансы, «мамонтовской величины кареты на полозках», «маленькие бейшезы», в общем, все, что передвигалось и где не без труда удавалось разместиться, с частыми остановками, утомительными пересадками и потерями багажа перемещали путников вглубь Европы. Что чувствует, переживает прежде подневольный человек, первый раз вырывающийся за границы государства Российского?
Всякий почувствует: «И одного часа езды достаточно, чтоб очутиться совсем в другом мире…» По дороге в Берлин преодолели Тильзит и прочие прусские городки, наконец добрались до Кёнигсберга. Истинную Европу он, русский путник, встретил именно там: «Кенигсберг был первый город, в котором я отдохнул от двенадцатилетних преследований, там я почувствовал, наконец, что я на воле, что меня не отошлют в Вятку, если я скажу, что полицейские чиновники имеют также слабости, как и все смертные, и не отдадут в солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякого честного человека делать доносы на друзей».
Ему казалось, что «все встречные смотрят весело и прямо в глаза», говорят громко и без боязни, а выставленные повсюду в витринах карикатуры на императора Николая, которые он закупил во множестве, — привычная банальность, занимающая разве что настороженное внимание русских. Герцен словно помолодел, был взволнован, полон надежд; «неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения — отлетели»; ему передалась открытая веселость иноземной толпы.
«Да и как же было не веселиться», вырвавшись из-под полицейского надзора, когда ты «во всей силе развития» и таланта идешь вперед с доверием к жизни. Открытая даль манит, пробуждающаяся Европа подает надежды; ты ищешь арены, поприща, прислушиваешься к вольной речи.
Новые, «врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени» — в письмах домой. В них — радость первого узнавания и веселое удивление от встречи с Европой. Пока это только начало. Пока он в Европе только турист и пользуется всем, предназначенным для этой беспечно-счастливой части человечества, — охоч до памятников и театров, до ресторанов и дорожной болтовни.
Ощущение раскованной свободы может и подвести. Парадоксально, что на тяжелом и длинном переезде из Кёнигсберга в Берлин невольным попутчиком по дилижансу, которому Герцен неосмотрительно доверился в разговорах о паспортах, строгости российской полиции и прочем, обсуждаемом в России вполголоса, оказался агент прусской полиции. «Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, — иронизировал впоследствии автор „Былого и дум“, — был шпион, зато он не был последний».
Размышления в пути и дорожные жалобы путников доведены до московских друзей с впечатляющей массой подробностей в первом, частном письме, отосланном Герценом 20–21 февраля 1847 года из берлинской Римской гостиницы («Stadt Rome»), что на центральной Unter den Linden. (Не забудем, что женская и детская часть кочующего общества, претерпевшая немалые сложности, с трудом и самоотвержением преодолевала обременительные препятствия дальнего путешествия.) «Представьте досаду наших дам, — отчитывался Герцен в письме, несколько придя в себя после треволнений пути, — когда в 15 минут надобно было напиться кофею, накормить детей, выгрузить пожитки и уложить их, долее 15 минут оставаться нельзя — почтальон трубит, кондуктор сердится, почтовый экспедитор ругается, зачем кондуктор ждет, а тот все трубит, и так скверно, что поневоле торопишься, а тут подушки летят в грязь, саки бросаются из кареты в карету так, как у нас льдом погреба набивают, да часто еще Коля кричит, Саша вертится между лошадями, Луиза Ив[ановна] в полнейшей десперации, не может найти своих вещей, в это время кондуктор, в утешение, бросает нас всех по местам, уверяя, что на той станции всё найдется, — а там ночь, та же сцена, но с освещением фонарями».
Берлин поразил масштабностью, высотой «огромных домов, часто серьезной и чистой архитектуры», а главное, чувством, «что это одно из больших соустий всемирного кровообращения». Без внимания путешественников не остались ни театры, ни музеи, ни кафе, притягивающие литераторов возможностью шумно подискутировать. Важным было посещение Берлинского университета, увы, пережившего свою былую славу. Но в памяти причастных к великой философии всё еще продолжали являться тени колоссальных фигур — Гегеля и Фихте. Герцена пробрало: ведь они, его герои ходили по тем же коридорам.
Как всегда, русских тянуло к своим. Герцен — не исключение. В Берлине оказался Иван Сергеевич Тургенев, неизменно следовавший за Полиной Виардо, гастролирующей в немецкой столице. Вот и повод, и удовольствие отправиться в оперу на «Севильского цирюльника», где она «удивительна мила Розиной». Вскоре следует встреча с сыном Михаила Семеновича Щепкина — археологом и филологом Дмитрием («чудо», что за ученый!). Вместе осматривали город, посетили картинную и скульптурную галереи в Берлинском музее. Знакомство Герцена с немецкими литераторами, в первую очередь с Германом Мюллером-Стрюбингом, очевидно, по рекомендации Огарева, и незамедлительно возникшая дружба между ними принесли Герцену множество воодушевляющих часов. Говорили об оставшихся в России друзьях, о русской литературе. И тут уж открытых споров, вольных разговоров, искренних воспоминаний, смешных анекдотов не избежать… «Вот она, свободная-то Европа!.. Вот они, Афины на Шпре!» Чего-чего, — усмехнется Герцен, — но «молчание никогда не было отличительным достоинством моим, несмотря на то что я всегда много говорил». Герцен стремительно входил в круг европейских интересов, неизменно обращенных и к России.
Огромная надежда возлагалась Герценами на берлинских врачей. Велись консультации с первейшими медицинскими светилами о здоровье Натальи Александровны, о глухоте маленького Коли. В специализированных заведениях для глухонемых, посещаемых Герценом, перспективы лечения сына, увы, не обнадеживали. «…Мне говорить… об этом трудно, это разлагает меня до тла», — писала Наталья Александровна своей подруге Лизе Грановской.
Из Берлина отправились в Кёльн. Как тут не восхититься деятельным городом, славным, вознесшимся до небес Кёльнским собором, как не закружиться в вихре сменяющихся картин. (Невольные ощущения туриста!) Изящество городов, свободное оживление улиц, стремительные перемещения по железной дороге — всё захватывает Герцена на первых порах, передается друзьям с поразительной силой восторженного удивления. Но вот в легкую веселость новых впечатлений врывается щемящая нота. То колокольный звон где-нибудь в чужестранном городе напомнит Белокаменную, то вдруг встреча с каким-нибудь случайным русским в толпе путешественников на таможне или станции дилижансов воскресит знакомой речью воспоминание… И тогда в голове всё одно, «не Кёльн, не его собор, а длинный ряд изб да хрустящий снег…».
Покидая пределы отечества, и в мыслях не было, что он, Александр Герцен-Искандер, уже снискавший славу автор «Кто виноват?», признанный философ с наследством «Писем об изучении природы», общественный деятель с тюремным стажем, может навсегда задержаться на Западе. Только потом, после нескольких лет кружения по взбаламученной революциями Европе, после лишения российского подданства и объявления государственным преступником с запретом на имя и труды, поверилось — мосты сожжены и обратно дороги нет.
А пока никаких сожалений. Летопись бродячей жизни новоявленного пилигрима фиксирует даты, встречи, города, которые, по его же слову, быстро «прореяли» перед глазами. После Германии, поразившей разумной добросовестностью порядка, 15 марта 1847-го — Бельгия, с изяществом «маленького Парижа» — Брюсселя, «превосходящего всякое описание», и трудно сказать, чему Герцен отдает предпочтение. Когда смотришь на все «полурассеянно, мимоходом» и стремишься только к одному — доехать до прекраснейшей из столиц, когда впервые туда попадаешь и живешь в шикарном Рейнском отеле на красивейшей Вандомской площади с видом на столп Наполеона, — эйфорию трудно сдержать.
Двадцать пятого марта по новому стилю путешественники достигли желанной цели. Свободному российскому гражданину Александру Герцену открывался долгожданный Париж.
Даже первое, ошеломляющее впечатление от города, полного имперских и революционных примет, мало изменившегося с эпохи Великой революции, остается неизменным в «Былом и думах», пересмотревших многое из того, что прежде восторженно принималось.
Глава 2
ВРЕМЯ ЖИЗНИ — ПАРИЖ
Так это правда, это действительность — я в Париже — в Париже!..
А. И. Герцен. Русская колония (перевод из «Paris-Guide…», 1867)
«…Я отворил старинное, тяжелое окно в hôtel du Rhin; передо мной стояла колонна —
Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и rue de la Paix.
В Париже — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове „Москва“. Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: „à la Bastille!“
Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря… искать Бакунина, Сазонова… Вот rue St.-Нопогé, Елисейские Поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет… да вот и сам Бакунин…
Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения: я ее прервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.
Я был вне себя от радости!
На ней я здесь и остановлюсь».
Парижские впечатления, предшествующие революции 1848 года, перехвачены письмами — коллективные частные послания друзьям неизбежно перерастут в мимолетные «записки о коротком времени» — «Письма из Франции и Италии».
В мемуарах, считает Герцен, нечего их повторять. Вот и объяснение той счастливой остановки на парижской площади Бурбон, когда, простившись с Бакуниным на палубе парохода в Петербурге без всякой надежды на новую встречу, через несколько лет старые друзья свиделись вновь.
Прекрасное время — парижская весна 1847 года. После утомительных холодов и дорожного ненастья — ласковые, мартовские денечки в лучшем из городов.
Для супругов Герценов с приездом в Париж наступала новая эра. Наталья Александровна словно предвидела возможность перемен. Ей хотелось жить, повелевать собственной судьбой. В ней ведь было столько скрытой, столько неизрасходованной энергии любви, ее привычного, судорожного счастья-страдания. Из тихой, задумчивой женщины, внутренне замкнутой, постоянно поддерживающей огонь семейного очага, она превратилась в блестящую туристку, почти светскую даму, элегантную, оживленную, которую совсем не трудно спутать с раскованными обитательницами вольного города. Герцен не отставал от жены. Он чудесно преобразился. Скинул, как змеиную кожу, неуклюжий российский долгополый сюртук и предстал в щегольском европейском облачении — ладном пиджаке и мягких панталонах. Длинные волосы пали под рукой модного парикмахера. Борода и усы обрели необходимые контуры по самой последней парижской моде.
Только взгляните на портрет, выполненный искусным литографом Леоном Ноэлем в 1847 году, и прежнего, уже несколько погрузневшего Герцена, запомнившегося по литографии К. Горбунова, выполненной пару лет назад, вы не узнаете. Изменилась даже его походка, приобретшая легкую непринужденность парижанина. Он был в своей стихии.
Из переулков Арбата, этого Сен-Жерменского предместья Москвы, из гнезда друзей — блестящих российских интеллектуалов, где ему отведено одно из первых мест, он вдруг перенесся в большой мир, в центр европейской столицы, о которой прежде приходилось только мечтать. Теперь ему предстояло завоевать этот город городов. Герценовская звезда там еще не взошла.
Кроме старых друзей, вновь обретенных в Париже — признанного летописца эпохи, знатока французской культуры Анненкова, непременного чичероне по столичным достопамятностям, регулярно отправляющего в «Современник» свои «Парижские письма»-отчеты, и вездесущего пустозвона, любителя вымышленных конспираций, заводилы Сазонова, среди поклонников мощного русского пришельца оказался приятель Бакунина, с которым они разделяли общую квартиру на улице Bourgogne. Немецкий композитор и музыкант Адольф Рейхель вскоре прочно войдет в дружеское окружение, женившись на Машеньке Эрн, ближайшей приятельнице, любимице герценовской семьи, которая в дальнейшей, издательской и личной судьбе Герцена окажет ему такую неоценимую поддержку.
У Бакунина Герцен познакомится с Жозефом Пьером Прудоном, чтимым и читаемым Александром Ивановичем еще с российских времен, личностью легендарной — философом, социалистом, публицистом, ставшим вскоре объектом полемики К. Маркса: его сочинение «Философия нищеты» грозно отзовется на Прудонову «Нищету философии». Герцен и прежде знал его нашумевшую брошюру «Что такое собственность?..» и считал ее замечательной. Позже, на «том берегу», в своей оценке Франции преддверия революции будет солидаризироваться с некоторыми из идей Прудона о важности экономических вопросов. В «Былом и думах» посвятит его деятельности целую главу.
Но самое главное, что на герценовском горизонте в те же мартовские дни 1847-го появится Георг Гервег. Лестный отзыв Огарева, снабдившего Герцена рекомендательным письмом, не оставит у лучшего друга сомнений: Гервег — это тот человек, образованный, поэт по призванию, философ по умозрению, европейская знаменитость, «изящная натура», с которой просто необходимо познакомиться. Так в личной судьбе Герцена и его семьи обозначится начало жуткой драмы.
Гервег появляется как раз в нужное время и для него, и для супругов Герценов. Наталья Александровна готова к новой жизни. Ветер перемен, климатических и политических, готов закружить наших героев.
Новые приятели сходятся очень быстро и взахлеб ведут откровенные разговоры. Их часто теперь видят вместе, оживленно беседующими на улице и в ресторациях. В знаменитом кафе Тортони — радости гурманов-интеллектуалов, замечаем Герцена и Гервега среди польских деятелей и русских друзей. Впрочем, Александра Ивановича, и с компанией приятелей, и в семейном окружении, можно встретить везде и всюду. Настроение — великолепное. (Боткин иронизирует в письме Белинскому, что у Герцена «глаза разбежались в Европе».)
Парижская жизнь увлекла, закружила Герцена, повернулась новой, неизведанной стороной. Свобода! Изящество чуда-города, бурлящие улицы, картины, перед которыми часами простаиваешь в музеях, скульптуры, созданные великими мастерами, загородные выезды, упоительные прогулки вдоль Сены, многочисленные театры на любой вкус — все захватывает на первых порах.
Герцен, как помним, отменный театрал. И не посетить модные спектакли, не увидеть знаменитого комика П. Левассора, гения перевоплощения, смешившего его до слез в «Будущем докторе», лучшей из пьес в театре Palais Royale, или не восхититься игрой прославленного Ф. Леметра на премьере пьесы Ф. Пиа «Парижский ветошник» в театре Porte St.-Martin просто исключено. На родине Мольера, Корнеля и Расина грех не пойти на «Мнимого больного», «Жоржа Дандена» или «Сида» и «Британника», эти пьесы он знает с детства и даже склонен пересмотреть свой прежний, скептический взгляд на классическую трагедию. Не забыть «минут истинного наслаждения», доставленных игрой несравненной Рашель в трагедиях Расина, в самой что ни на есть цитадели французского классицизма — Théâtre Français (Comédie Française). Есть о чем рассказать М. С. Щепкину, а заодно посоветовать ему пополнить свой репертуар «Парижским ветошником», которого намеревается даже переработать для великого актера, сделав «короче и лучше».
Почти каждый вечер отправляются они вместе с Анненковым на бульвары, в театральные залы — Palais Royale, Porte St.-Martin, Vaudeville, Variété. А всего их в Париже около двадцати пяти. В Петербурге — только три, а в Москве — и того меньше! Это не может не поражать. И у каждого театра — своя особенная роль, своя приверженность — к романтизму или классицизму, а то и вовсе к легкому жанру, без определений.
Но не все так радужно в восприятии парижской жизни. Даже театр, восхищающий Герцена-зрителя, подвергнут им критике, положившей начало дискуссии с близкими друзьями. Мнения о французском мещанстве, о пагубном влиянии буржуазии на сценическое искусство, изложенные им в письме Щепкину от 23/11 апреля 1847 года, находят продолжение в спорах и дружеских понуканиях, как всегда, умеренного Боткина.
«Сцена служит ответом, пополнением толпе зрителей, вы можете смело определить по пьесам господствующий класс в Париже, и наоборот, — обращался Герцен к Щепкину. — Господствующее большинство принадлежит здесь — мещанству, и мещанство ярко отражается во всей подробной пошлости своей и уличных романах и по крайней мере в 15 театрах. <…>
Было время, когда бойкий партер, с этой невероятной быстротой пониманья, которой одарен француз, — умел ловко встрепенуться от политического намека, от сарказма — отяжелевший от сытости мещанин отупел, его восторги так пошлы или его хладнокровие так отвратительно, что досада берет».
Вступивший в полемику Боткин пишет Анненкову: «Обнимите за меня Герцена. Я читал его письмо к Щепкину с большим огорчением. Он такого вздору наговорил! Bourgeois, видите, виноват в том, что на театрах играются гривуазные водевили. Не шутя! Недаром вы писали, что ж Герцен старается каждый предмет понять навыворот, чтоб потом иметь удовольствие поставить его на прежнее место. <…> Ну да что делать! Кто же, выехав первый раз в Европу, не начинал свои о ней суждения глупостями!» В письме Белинскому и Анненкову от 31(19) июля Боткин еще более категоричен: «Вы меня браните, милый мой Анненков, зато, что я защищаю bourgeoisie; но, ради бога, как же не защищать ее, когда наши друзья со слов социалистов представляют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благородное в человечестве? Я понимаю такие гиперболы в устах французского работника; но когда их говорит наш умный Герцен, то они кажутся мне не более как забавными. Там борьба, дух партий заставляет прибегать к преувеличениям; — это понятно, а здесь вместо самобытного взгляда, вместо живой, индивидуальной мысли вдруг встречать общие места…»
Спор о буржуазии, переросший на удивление друзей-западников в демарш Герцена против «больной» Европы, критика Франции — колыбели свободы и либерализма (всегда представлявшейся в авангарде европейского развития), затянулись надолго.
После первых оживленных дней праздничного времяпрепровождения — вечеров, застолий, встреч, проводов друзей и знакомых Герцен берется за свое привычное дело — работу, серьезные беседы, обсуждения, споры. И тут выясняется, что даже старые его друзья «строены не по одному ключу». «Сазонов и Бакунин, — вспомнит Герцен, — были недовольны… что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов».
Доходят слухи из России — друзья скучают без него, кружок осиротел, но не утратил трезвости оценок. Об идейном разладе, о недопонимании, мелких уколах самолюбий здесь просто следует забыть. «Нам надо проветриться, освежиться, — считает Герцен, — мы слишком близко подошли друг к другу», стали дома «семьей».
Огарев по большей части молчит (активно занимается своими хозяйственными проектами в унаследованных от отца имениях), а писать ленится. У Герцена тоже леность в пальцах. На первых порах их активная переписка замирает. Огарев даже иронизирует в одном из редких откликов: перечитываю «Кто виноват?», чтобы «оживить в памяти друга».
Вскоре после выхода в «Современнике» (1847, № 9) «Доктора Крупова», хоть и напечатанного с большими цензурными выпусками, Грановский восторженно отзывается в письме о повести Герцена: «Знаешь ли, что это гениальная вещь. Давно я не испытывал такого наслаждения… Так шутил Вольтер во время оно, но в Крупове более теплоты и поэзии».
В подцензурной российской печати — то и дело отклики — и лестные, и нелицеприятные на вышедшие сочинения знаменитого Искандера. Некоторые с опозданием, но все же доходят до Парижа. Старается, конечно, давний недруг Ф. Булгарин, восставший против «натуральной школы», но бесконечно радуют отзывы Некрасова, Аполлона Григорьева и других, часто анонимных рецензентов, отмечающих оригинальный, блистательный талант, создавший истинно прекрасный роман «Кто виноват?» с его глубочайшим проникновением в проблемы современного общества. С нетерпением ожидается «Современник», где все большее влияние завоевывает Белинский.
В Париже между тем ждут самого бескомпромиссного критика, отправившегося при поддержке друзей (и всенепременно Герцена) на лечение в Германию, в Зальцбрунн. 29 июля 1847 года в сопровождении Анненкова Виссарион Григорьевич появляется в отеле «Мишо», где уже поджидает их Герцен. Вечером в его доме в честь приезжих устроен ужин. Радость встречи омрачена прогрессирующей болезнью критика и его озабоченностью гоголевскими «Выбранными местами из переписки с друзьями». Белинский посчитал их «вызовом, полученным им» от большого художника, страстно им почитаемого, и не мог не ответить. Чтение Белинским чернового варианта письма Гоголю так поразило Герцена в тот день, что он, по свидетельству Анненкова, сказал ему на ухо: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его»[83].
Герцен с Гоголем лично не знаком, но, несомненно, осведомлен об отзыве автора так потрясших его в Новгороде «Мертвых душ». Гоголь пишет Анненкову 7 сентября: «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех партий отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает…»
Почти за два месяца общения с Белинским о многом переговорено, многое увидено, прочитано, обсуждено. Герцен, так отвыкший от подлинно российских разговоров начистоту, взахлеб пользуется обществом гениального полемиста. С разными подходами Герцен выражает «свою любимую мысль, что покуда западники не завладеют со своей точки зрения всеми вопросами, задачами и поползновениями славянофильства, — до тех пор никакого дела не сделается ни в жизни, ни в литературе». Белинский вроде бы соглашается, посмеиваясь, единственно прибавляя, «что для этого прежде всего надобно, чтоб все мы, западники и славяне, перемерли до единого».
Белинский слушает чтение Герценом начала повести «Долг прежде всего» (вновь вторгнувшейся в «сферу» трудных личных отношений), продолжившей предшествующие размышления писателя о долге и браке, долге и страсти (его статья-рецензия «По поводу одной драмы» (1843) и, конечно, «Кто виноват?»). Пусть даже «долг побеждает» в анализируемой Герценом драме Арну и Фурнье «Преступление, или Восемь лет старше», но ее герои тем не менее гибнут. Тогда на вопрос, кто виноват в гибельности подобных последствий, Герцен предлагал ответ: «Преступное отчуждение от интересов всеобщих, преступный холод ко всему человеческому вне их тесного круга, исключительное занятие собой…» Постепенно к бытовой мотивации (действительно ли виновны только мы сами) присоединялись раздумья о выходе в «жизнь действительную». Неизбежный конфликт личности с социальными условиями существования уже проявлен в романе «Кто виноват?».
Двадцать второго сентября 1847 года в доме Герцена прощаются с Белинским. На вечере присутствуют Анненков, Бакунин и Сазонов. Герцен сердцем чувствует, что руку другу пожимает в последний раз. Видимых улучшений его здоровья не только не наблюдается, но всё говорит об обратном.
Белинского и Анненкова провожают до гостиницы, а Герцен, Бакунин и Сазонов, выйдя на Елисейские Поля, продолжают давно начатый ими спор о характере и видимой, истинной пользе общественного служения. Сазонов сожалеет: «Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подценсурной». Герцен возражает: одна статья Белинского «полезнее для нового поколения, чем игра в конспирации и государственных людей». Этот его упрек Бакунину и Сазонову, пребывающим «в бреду и лунатизме, в вечном оптическом обмане», будет повторен Герценом потом не раз.
Глава 3
НАЧАЛО «СТРАННИЧЕСКОЙ ОДИССЕИ» В «ПИСЬМАХ» ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЫ
Письма эти — врасплох остановленные и наскоро закрепленные впечатления времени…
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии
Очнувшись от нахлынувших впечатлений, расставшись с рассеянным туристическим времяпрепровождением, Герцен с семьей покидает Рейнскую гостиницу и прочно обосновывается возле Елисейских Полей, ближе к Тюильри, на шикарной Авеню Мариньи (Avenue de Marigny, № 9, второй этаж[84]).
Елисейские Поля, как известно даже не бывавшим в Париже, с одной стороны упираются в пляс Этуаль с Триумфальной аркой — в площадь Звезды, расходящейся двенадцатью лучами престижнейших улиц. С другой стороны — пляс де ля Конкорд — площадь Согласия соединяет с Елисейскими Полями сад Тюильри (Тюльери, по старому правописанию Герцена. — И. Ж.) со своими каштанами, террасами, откуда волшебный вид на площадь с египетским обелиском и фонтанами, завороживший даже вовсе не сентиментального Белинского, восклицавшего в письме жене (3 августа 1847 года): «Это… Шехерезада».
Герцен никогда не оставлял своим вниманием ни Тюильри, удобный для пеших прогулок, ни сей знаменитый проспект, променад, задуманный как роскошный бульвар. Всегда выискивал возле него, в уютных улочках с садами, удобные жилища. Облюбовал Avenue de Marigny и приступил к работе. Так и осталось название нового места жительства в первоначальной редакции четырех первых парижских писем, вышедших в подцензурном «Современнике» за 1847 год: «Письма из Avenue Marigny»[85].
Герцен взялся за рассказ об увиденном и прочувствованном в своих статьях-эпистоляриях, путевых записках, позже влившихся (с некоторыми изменениями и без всяких цензурированных фрагментов) в книгу «Письма из Франции и Италии» (1847–1852).
Единый цикл, составлявшийся в течение четырех с лишним лет при разных исторических обстоятельствах, имел достаточно сложный состав (всего 14 писем: из предреволюционной Франции, пробуждающейся Италии, восставшего и поверженного Парижа). Естественно, тон и стилистика писем, поначалу веселых, легких, даже где-то поверхностных, в чем упрекали его друзья (как же «передать первое столкновение с Европой»?), постепенно менялся. Появлялись ирония, аллегория, когда негодование и горечь проникали в душу.
Похоже, письма, как любимый жанр герценовских художественных произведений (особенно, после «Писем об изучении природы»), не говоря о личной переписке, отвоевывают теперь значительное место. Письма вообще пишутся стремительно, непосредственно. Герцен — мастер пера. А как еще остановить мгновение, не растерять свежесть впечатлений?.. Удержать калейдоскоп событий… Письма — отчеты московским друзьям, пособие дружбе, «не дают на время простывать» к ним. «Письмами приходят люди близкие по душе и далекие по расстоянию в один уровень».
Письма — хранители вечности. Каждодневная летопись событий. В будущем они — наилучшая подмога памяти, особенно для мемуариста. Известно, письма — его творческий строительный материал. С течением времени он подберет для них множество определений, характеристик, оценок, по которым, как по нотам, можно «проиграть» моменты его изменчивой судьбы.
«Письма любви — достояние личности — они будто теряют свежесть, попадая в третьи руки…» Взгляд молодого Герцена изменится: ведь он уже прожил значительный кусок своей воображаемо-реальной жизни в любовной переписке и не преминет ею воспользоваться при работе над «Былым и думами». Письма будут представлены и «как сухие листы» воспоминаний, как приметы и напоминания об ушедшем, цветущем, «другом лете», которое не повторится вновь. Когда придется решать личную судьбу, противостоять сопернику, на первый план выйдет «взаимоистребительная переписка». Письма, на которых «запеклась кровь событий», отразят «общее» в трагической судьбе мира.
Конечно, первые письма из предреволюционного Парижа — с Avenue Marigny, пишутся Герценом для печати в подцензурном «Современнике». Поэтому постоянно являющийся «красный призрак» цензурных чернил автора не оставляет. С точки зрения цензуры, письма уязвимы и кромсаются до такой степени, что Герцен вынужден написать Некрасову: «Если его письма сильно обрежет цензура, то не печатать их». Некрасов, как редактор «Современника», отважно борется с цензорами за своего лучшего и, как он подчеркивает, «щепетильного к таким вещам» сотрудника. Но потери в публикациях несомненны.
Первое письмо собранного цикла из четырнадцати «Писем из Франции и Италии» Герцен начинает с парадоксального признания, с заманчивых размышлений праздного туриста образца весны 1847 года, что «ничего не может быть печальнее для путника, вошедшего во вкус, как приезд в Париж. <…> он чувствует, что приехал, что далее ехать некуда…», и доводит исследование территории «по ту сторону Рейна» с неизменной уверенностью, что «везде скучно». «Разумеется, разные скуки в разных местах. <…> В Париже — весело-скучно, в Лондоне — безопасно-скучно, в Риме — величаво-скучно, в Мадриде — душная скука, в Вене — скука душная». Все это Герцен напишет через три с половиной месяца странствий по Европе, когда обоснуется на время в Париже.
Через 20 лет «благочестивый пилигрим севера», вступивший впервые во французскую столицу как турист, отважится выступить в роли гида, предоставив читателям «Путеводителя по Парижу» («Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de la France») свои воспоминания. Подобные «засохшим цветам, рисункам, наполовину стершимся», побитым временем и обстоятельствами, эти первые впечатления Герцен не сочтет возможным подновлять, ибо не знает «ни отстроенного заново Парижа» 1860-х, ни живущих в нем современных русских.
У русских особое чувство к Парижу, незнакомое парижским аборигенам, — заметит он в своих размышлениях о соотечественниках во Франции, — «это чувство, которое мы испытывали, вступая в первый раз в Париж. Для нас с самого детства Париж был нашим Иерусалимом, великим городом Революции, Парижем… 89, 93 года».
Мирному Парижу, его быту и нравам, рассуждениям о кухне, слугах, квартирах посвящено и второе письмо цикла с датой 3 июня 1847 года, развивающее не менее остро театральную и общественную темы, связав их в крепкий узел. Герценом ставятся все новые вопросы: «…остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж — Париж, стоящий за ценс, или Париж, стоящий за ценсом; это различие первой важности.
— Знаете ли, что всего более меня удивило в Париже? — спрашивает автор „Писем“ читателя. — „Ипподром? Гизо?“ — Нет! — „Елисейские Поля? Депутаты?“ — Нет! Работники, швеи, даже слуги, — все эти люди толпы до такой степени в Париже избаловались, что не были бы ни на что похожи, если б действительно не походили на порядочных людей. Здесь трудно найти слугу, который бы веровал в свое призвание, слугу безответного и безвыходного, для которого высшая роскошь сон и высшая нравственность ваши капризы, — слугу, который бы „не рассуждал“».
«„Избалованность“, о которой мы говорили (читай: достоинство личности, — И. Ж.), одно из последствий прошлого переворота… Большая часть парижских слуг и работников — дети и внучата солдат „великой армии“… Несмотря на отеческие старания иезуитов и вообще духовных во время Реставрации воспитать юное поколение в духе смирения и глубокого неведения своего прошедшего, это было невозможно». (Герцен невольно склонялся к воспоминаниям и сравнениям с положением слуг и крепостных людей, которых не мало повидал он в России, хотя бы во владениях отца.)
Париж свободных граждан, «за ценсом стоящий», противопоставлен Парижу «буржуа, проприетера, лавочника, рантье и всему Парижу, за цене стоящий».
Это ставшее хрестоматийным в работах о Герцене противостояние двух миров, двух Парижей (и один из главных вопросов первых «писем»), означает только одно — ограничение избирательного закона в Июльской монархии суммой прямых налогов не менее 200 франков в год. Понятно, неоправданно высокий ценз отдавал власть крупной буржуазии и исключал из политической и общественной жизни не только пролетариат и почти все крестьянство, но часть мелкой и даже средней буржуазии. Герцена, очевидно, поразила циничная филиппика, приписываемая историку и премьер-министру правительства, Ф. П. Г. Гизо: «Обогащайтесь, и вы станете избирателями!»
Герцен прекрасно осведомлен о современной политической, экономической и общественной жизни Франции. Немалое время уделено им посещению политических клубов, палат пэров и депутатов, в которых ведутся еще бурные дебаты. Он завсегдатай всяческих судебных заседаний, разбирательств, следит за громкими процессами, на которых до времени выносятся законные, праведные решения. Тонкая наблюдательность и не утрачиваемое любопытство дают возможность Герцену создать живое представление о стране, несомненно, стоящей на пороге катастрофических перемен; составить мнение о ее устройстве, понять перекосы Июльской монархии и режима «ничтожного Людовика-Наполеона». Ведь король здесь — только номинально король, вся власть у финансовой буржуазии.
Герцен стремится исследовать все стороны парижского образа жизни. Его занимают особенности сложившегося исторически, гуманного юного поколения, живого, веселого французского характера, склонного к шутке и каламбуру. Но нынче, считает он, идеи охладели, «зацеплять политику» немодно, да и страшновато, даже на театре; фрондерства не видно, а буржуазные добродетели, касающиеся героизма и высокой отваги, и подавно утрачены. Все это прежде всего отразилось на сцене, где «легкая веселость» обратилась в «сальные намеки» и т. п. Развернутые высказывания о буржуазной культуре, о театре в «Письмах из Франции…» продолжили и развили некоторые темы, ранее изложенные в личном письме М. С. Щепкину.
В третьей статье цикла с авторской датой 20 июня Герцен вдруг захотел кое-что пересмотреть в своих замечаниях о парижских театрах: не все там пошло. На первый план выдвигается доскональный разбор, рецензия на социально заостренную мелодраму «Парижский ветошник», прежде рекомендованную первому актеру московской сцены. Автор пьесы — известный писатель-республиканец Ф. Пиа, впоследствии добрый знакомец Герцена, раскрывший на сцене «мир голода и нищеты», «мир подвалов и чердаков» — темы особой заинтересованности русских приверженцев «натуральной школы», не исключая и самого рецензента. Леметр, пишет Герцен, «беспощаден в роли „ветошника“, иначе я не умею выразить его игры; он вырывает из груди какой-то стон, какой-то упрек, похожий на угрызение совести». Подобно «Женитьбе Фигаро», полной духом протеста перед Великой революцией 1889-го, образ героя пьесы Пиа мог считаться первой ласточкой наступающих революционных перемен.
«Парадоксальный» Герцен «решительно не согласен со своим вторым письмом», о чем прямо заявляет, приводя примеры истинных театральных талантов в театре «Пале-Рояль». Зоркий глаз Герцена, его умение оценивать ситуацию, «рассказывать игру» выдающихся актеров от Рашели до Левассора, поражает, восхищает, а некоторых бывших друзей, как показано выше, раздражает.
Четвертое парижское письмо с датой 15 сентября подвергает разбору экономическую и политическую жизнь Франции, которая вот-вот должна в корне измениться. Это уже серьезный анализ текущего момента развития французского общества. Следует общий вывод, что страна, всегда олицетворявшая прогресс, — теперь одержима недугом. «Настоящим положением Франции — все недовольны, кроме записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать, — пишет Герцен. — Чем недовольны, знают многие, чем поправить и как — почти никто; ни даже социалисты, люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем.
Ни журнальная, ни парламентская оппозиция не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств; оттого-то она остается в постоянном меньшинстве; у нее истинно только живое чувство негодования, и в этом она права: сознание зла необходимо для того, чтоб рано или поздно отделаться от него.
Обвинение, всего чаще повторяемое и совершенно верное, состоит в том, что с некоторого времени материальные интересы подавили собой все другие. <…> Вместо „благородных“ идей и „возвышенных“ целей рычаг, приводящий все в движение, — деньги».
Тем не менее Герцен считает, что вопрос о материальном благосостоянии народа стоит «на первом плане»: «Как же, наконец, не признать важность вопроса, от разрешения которого зависит не только насущный хлеб большинства, но и его цивилизация? Нет образования при голоде; чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе пищу и досуг.
Страны, которые… довольно сложились, довольно приобрели… прошли азбуку гражданственности, естественно должны были обратиться к тому существенному вопросу, от которого зависит вся будущность народов. Но вопрос этот страшно труден, его не решишь громким словом, пестрым знаменем, энергическим кликом. Это самый внутренний, самый глубокий, самый жизненный, существенный и по преимуществу практический вопрос общественного устройства».
Итак, в «Письмах из Франции…» поставлены многие вопросы, которые и в дальнейшем Герцен будет обсуждать: о преемственности передовых идей Запада русскими людьми, о буржуазии и буржуазном пути развития, на который давно вступила Европа. Разочарования Герцена значительны, но и иллюзии сильны. И вопрос вопросов: не уготован ли подобный путь для России?.. Что будет с ней дальше? Ответов пока нет. Время для подробного анализа пока не пришло. Герцен не имел еще отчетливого решения, новая концепция не выкристаллизовалась. Но истина состояла в том, что свои искания Герцен не прекращал.
Споры даже среди старых друзей тоже не прекращались. Бакунин рьяно доказывал Белинскому, что «избави-де бог Россию от буржуазии». Сазонов и Анненков считали, что Герцен толкует слово «буржуазия» слишком неопределенно и сбивчиво, ибо понятие это охватывает не только крупную, но и среднюю, и мелкую буржуазию[86]. Белинский признавал, что Герцен вряд ли обнял все стороны предмета, но справедливо допускал, «что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми»[87]. Об этом Белинский писал Боткину. И был, как всегда, прозорлив. Грядущие революции ответили на многие вопросы.
«К осени сделалось невыносимо тяжело в Париже; я не мог сладить с безобразным нравственным падением, которое меня окружало…
Смерть в литературе, смерть в театре, смерть в политике…» — начинал Герцен свое «Письмо пятое», уже из Рима, помеченное декабрем 1847 года.
Статья приобретала язвительную интонацию, проникалась иронией, на что Герцен был великий мастер. Радостное одушевление от встречи с французской столицей постепенно исчезало. Не хотелось смеяться лишь над «Францией, за ценсом стоящей». Общество в Париже, «за цене стоящее», представлялось ему заросшим «плесенью». «Притязание мещан на образованность, на либерализм» вызывало «презрительный смех».
В конце пятого письма, свободно, без идолопоклонства взглянув на европейскую ситуацию, Герцену становилось ясно, что решительные перемены грядут.
Герцен оставил Париж осенью 1847 года, не завязав никаких связей; «литературные и политические кружки оставались» ему «совершенно чуждыми». «Прямого случая не представлялось…» К тому же Герцену «очень мало нравился тон снисходительного превосходства французов с русскими:…чтобы стать с ними на другую ногу, надобно импонировать; на это необходимы разные права», которых у него тогда не было и которыми он «тотчас воспользовался, когда они случились под рукой».
Герцену необходима новая среда, вместо московской (остался один верный друг — Огарев, да и тот далеко). Герцену нужен круг знакомых, единомышленников, людей, определяющих судьбы Европы, но в него можно войти только на равных.
Его многочисленные таланты, блестящее владение тремя языками, глубокое понимание новых политических и литературных веяний, восприимчивость разных культур, богатство, наконец, давали ему все основания для того, чтобы в будущем сыграть заметную роль на форуме европейских амбиций.
Париж привлекал, поглощал, и жалко было его оставить. «Париж — центр, выезжая из него, выезжаешь из современности», — настаивал Герцен в «Письмах». И тут же снижал градус преувеличенного восхищения: «Париж, что там не толкуй, — единственное место в гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть».
Вскоре принято решение ехать: покинуть Париж и отправиться в Италию, где небо сине и климат ласков. И где не оставит надежда поправить здоровье Натальи Александровны. Романтический образ Италии, «волшебного края» преследовал Герцена с юности. Да, в Италию, в Италию! Сомнения, конечно, есть: не будет ли там хуже? «Померанцевых деревьев и синего неба все-таки мало для жизни…» В колыбели великой культуры «вновь ничего не происходило». Но покой, «сколько-нибудь человеческая обстановка»… Этого Герцен страстно желал, продолжая свои странствования по Европе.
Глава 4
«Я ОБЯЗАН ИТАЛИИ ОБНОВЛЕНИЕМ ВЕРЫ В СВОИ СИЛЫ…»
О, Рим, как люблю я возвращаться к твоим обманам, как охотно перебираю день за день время, в которое я был пьян тобою!
А. И. Герцен. Былое и думы
Двадцать первого октября 1847 года Герцены наняли коляску, поставили в паспортах многочисленные штампы, разрешающие поездку в Италию (одних французских виз — четыре, собранных по разным правительственным департаментам), и двинулись в путь.
Промелькнули в памяти все те великие памятники, дворцы, мосты, соборы, вся «капризная, разнообразная архитектура», «исполненная жизни и движения», с которой так сжились они во французской столице; вспомнилась «светлая квартира» на Avenue Marigny. Ну, а дорога… О ней и сказать нечего. Нечего и сравнивать с российским благоустройством — «вся поэзия наших дорог не существует». Лошадей здесь закладывают вмиг, без мучительного ожидания, дорога — накатанная, гладкая, «шоссе — как скатерть». Даже «вечные споры о „водке“ (читай: благодарные пожертвования на „чай“. — И. Ж.) опрощены», досконально, математически рассчитаны: «полтора франка с мириаметра, но что обыкновенно порядочные люди прибавляют десять су». «Прибавочки», по российской привычке, никто не просит, — Герцен вспомнит свои вынужденные перемещения по России.
Доехали до Лиона. Герцен, хоть и взял себе заправило не повторять путеводители для широкой путешествующей публики, но не мог не воссоздать в «Письмах» образа города-крепости, не вникнуть в его историю с римских времен, не содрогнуться, напомнив о Лионском восстании, о трагедии 1831 года, когда разгромленное рабочее предместье города было «усеяно тысячами трупов».
Приближение к югу прибавляло путникам положительных впечатлений. Всякому, кому посчастливилось преодолеть эту приятную часть пути через альпийскую гряду, слова Герцена, может, выразят и его, читателя, настроения (и автор книги, простите за вольность, надеюсь, здесь не одинок).
«С Авиньона начинается, чувствуется, видится юг. Для человека, вечно жившего на севере, первая встреча с юной природой исполнена торжественной радости — юнеешь, хочется петь, плясать, плакать: все так ярко, светло, весело, роскошно. Прованс — начало благодатной полосы в Европе, отсюда начинаются леса маслин, небо синеет…» Переезжаешь Приморские Альпы. И тут уж на вершине Эстрель — незабываемая лунная ночь, восход солнца, ослепительные снежные вершины… Вся палитра великолепия природы передана Герценом с потрясающим талантом пейзажиста.
Двадцать девятого октября 1847 года с переездом через Барский мост преодолена граница Франции и Пьемонта. Герцен «поставил ногу» на итальянскую землю и вскоре оказался в Ницце.
Ницца означала только юг. Герцен отнесся к ней как к захудалой провинции, не подозревая, что в будущем поднесет ему судьба в этой красочной декорации.
Настоящая Италия ждала его в Генуе. И это был город, не столь поражавший великолепием мраморных дворцов, зеленеющих садов и вообще «удивительной красотой», которую нельзя не заметить, сколь атмосферой пробуждения, торжества, воодушевления начавшимися реформами. Со времен Венского конгресса 1815 года Генуэзская республика, отданная под власть Савойской монархии и присоединенная к Сардинскому королевству, перестала существовать.
Известно, что на протяжении столетий Италия, раздробленная на множество княжеств и государств (Пьемонт, Папская область, Тосканское герцогство и др.), была подавляема Францией, Австрией, много сделавшими, «чтоб убить» всякую политическую жизнь в стране, похоронить идею национального единства. Теперь король Сардинии (Пьемонта) Карл Альберт даровал, хоть и куцую, но реформу. И это был первый шаг на пути возрождения нации, «официальное сознание пробуждения, del risorgimento![88]». И «город пировал реформу».
Проезд по другим итальянским городам укрепил Герцена в убеждении, что после Франции он морально выздоровел, попав в эту, во всех отношениях просыпающуюся страну. Когда он добрался до Ливорно, его восхитило создание гражданской гвардии («чивика»), Ему казалось, что «время тяжелого сна для Италии прошло». «Теперь Италия забыла старые притязания и семейные ссоры… <…> и требует государственного единства и гражданской свободы». «Отрадные воспоминания» в «Письмах…». Он был слишком одушевлен народным проявлением ожидаемой свободы, выразившейся в народных сходках, карнавалах и красочных торжествах. Всюду слышались ему разговоры на улицах, казалось, все «с жаром толковали о политике». «Во всех лавках были вывешены трехцветные фуляры с зажигательными надписями, с воззваниями…» Но сон вскоре должен был исчезнуть — «и новым не сменился».
Рим, куда прибыли 28 ноября, усугубил сиюминутные ощущения Герцена, которые, как не дошедшие до логической точки, в том времени не представлялось возможным критически оценить. Не случайно, что пятый очерк о Вечном городе заключался примечанием автора, не соглашавшегося с чрезмерно придирчивыми критиками, даже из «наших», упрекавшими его в «верхоглядстве». «Письма эти, — напоминал он, — несколько помеченных впечатлений, несколько набросанных заметок на скорую руку…», «не последнее слово», «не весь собранный плод».
Отзыв Герцена о Риме по первому, непосредственному взгляду в «Письмах…» не особенно впечатляющий, порой парадоксальный. «В Рим надобно вжиться, его надобно изучать; хорошие стороны его не бросаются в глаза…» Великие памятники Вечного города важны ему для воссоздания прошлой, богатой истории Рима, которую он в очерках фрагментарно представляет, потому что впечатлен до предела его музеями, галереями. «Письма…» с via del Corso, где он поселился в Риме, всю эту грандиозную панораму несравненной культуры стараются охватить. Форум, Колизей, Капитолий, Ватикан, Сикстинская капелла… Как не насладиться всем этим пиршеством искусств… Как не остановиться перед великими статуями и божественной Мадонной кисти Ван Дейка… Не забывает он и о театре, чтобы продолжить свой отчет М. С. Щепкину.
Но главное для Герцена — современность: политические события, новые знакомства, живые разговоры с итальянцами, его включение в их борьбу (курсив мой. — И. Ж.).
В начале декабря 1847 года Герцен знакомится с художником Александром Андреевичем Ивановым, давно живущим в Риме. Разговор о «Переписке» Гоголя, с которым Иванов близок, не только не приводит к единомыслию, но чуть не доводит их до ссоры. Герцен — верный сторонник, «партизан» Белинского и восстает против «Выбранных мест из переписки с друзьями», осужденных критиком. Тем не менее общение двух талантливейших людей, несмотря на разность привычек и темпераментов, продолжается. Правда, художника-затворника, «сердившегося на шум истории» и занятого своей грандиозной картиной «Явление Христа народу» (которой посвятит более двадцати лет), трудно выманить из мастерской. Герцен, напротив, пока еще внимательный наблюдатель, буквально готов жить на улице, столько неожиданного открывает ему Вечный город.
«Громовой 1848 год» наступал с роковой неизбежностью, и Герцен включился в грандиозное действо, развертывающееся на его глазах.
Он впервые присутствовал при европейской революции и хотел уловить каждую «торжественную минуту» итальянской истории.
События развивались с небывалой быстротой, и все предвещало новые фазы итальянского «пробуждения»: мирные демонстрации, факельные шествия, многотысячная новогодняя процессия, возглавляемая народным трибуном А. Брунетти, по прозвищу Чичероваккио. Во всем проступал особенный, свойственный Риму, «характер величавого порядка, мрачной поэзии, как их развалины…».
Герцен присутствовал на двух торжественных богослужениях папы Пия IX, поставленного во главу итальянского движения, но не слишком уверился в возможности этого «бесстрастно-спокойного», «слабого» человека провести реформы, хотя первые его либеральные начинания вызвали восторженный отклик у римских масс.
«Как толчок землетрясенья», двинувший и Рим, отозвалось известие 12 января о восстании в Сицилии, самой отсталой и нищей области Королевства обеих Сицилий. Одна за другой восставали южные провинции. Разгоралось пламя на Аппенинском «континенте». Народ требовал конституции, реформ. И Герцен не упускает случая, чтобы «посмотреть своими глазами на Неаполь в революции, на Неаполь не только изящный, но и свободный». Он давно убедился, что внутренняя свобода итальянского народа — непременный залог возрождения страны.
Пятого февраля Герцен и Наталья Александровна покидают Рим. Теперь они снова продвигаются к югу. Извилистый маршрут уже привычных путешественников наносит на карту их европейских передвижений все новые области и города (Римская Кампанья, Велатри, Альбано, Террачина, Гаэта, Фонди…). Почти при каждом перемещении по раздробленной Италии необходимо поставить в паспорте визу или же помету-разрешение на въезд в очередной самостоятельный анклав… Можно представить, какой несравненной бедой могла обернуться потеря паспорта, буквально испещренного правительственно-канцелярскими отметками.
Неаполь, закруживший карнавалом, поразивший праздничной иллюминацией, воодушевивший «оргией», захватившей город по случаю подписания королем Фердинандом II конституции, готовил Герценам подобную неприятность (но опять, как на границе с Россией, по счастью, обошлось).
Дело в том, что, вернувшись в гостиницу после народного праздника принятия конституции, Герцен не обнаружил бумажника. А в нем было все его состояние: деньги, «ломбардные билеты, векселя, кредитное письмо» и к тому же тот самый «пасс». Днем он сам отдал видавший виды портфель на сохранение жене. И трудно сказать, как, где все это произошло. Неаполь, заметим, с давних пор имел нехорошую славу.
Герцен был расстроен, обескуражен, но вида не показывал. Надо было поберечь Наташу. Можно представить ее терзания… Не потеряв головы и веселого расположения духа, не отменив даже похода в театр, он решительно взялся за поиски. Затруднения представлялись столь немалыми, что, в случае неминуемого лишения векселей, следовало даже вернуться в Россию. Помогли связи: вмешались власти, знакомые банкиры; неоценимое содействие оказал редактор римской газеты «Epoca», с которым Герцен сблизился во время народных шествий, Леопольд Спини. Он-то и свел Герцена с Микеле Вальпузо, «революционным начальником неаполитанской черни», знавшим о многих тайнах криминального города.
«Потерянный» портфель (а не украденный — так представлялось удобнее, да и дипломатичнее) был объявлен афишами в розыск, с известным вознаграждением нашедшему.
Двери русских посольств и миссий тогда еще не были для него закрыты, и, по странному совпадению, бумажник обнаружился именно там, где Герцену меньше всего хотелось появиться. Не забыт горестный опыт всяческих бюрократических канцелярий и присутственных мест, от которых в России, скажем так, его с души воротило. Но пришлось-таки посетить русское посольство, и портфель после некой бюрократической канители был возвращен. Через несколько тревожных дней нашлась и другая часть ценных бумаг, исчезнувших из бумажника. Два векселя по 15 тысяч франков были возвращены каким-то оборванцем.
Этой волнующей, почти детективной историей, погрузившей читателя и в неаполитанские трущобы, и в канцелярию «шитых мундиров», Герцен заключил свое седьмое «Письмо».
Февраль 1848 года принес сенсационные известия: во Франции провозглашена республика. Король Луи Филипп бежал. Образовано временное правительство. В Париже — баррикады. Герцен узнает о событиях 3 марта на следующий день после возвращения в Рим. В римскую столицу он поспевает к концу карнавала, присутствует на ночном маскараде. Не оставляет ощущение небывалых перемен. Будто искра пронзает любую собравшуюся толпу — раздаются призывы, возгласы. Восторг, восхищение историческим смыслом момента все нарастают. «События с каждым днем густеют», «личные взгляды… теряются в величине совершающегося». Герцен уверен: «старуха» Европа просыпается — стоит прислушаться к «усиленному пульсу истории». Он воодушевлен, полон надежд. Но радость перебивается беспокойством. Объявленный состав временного правительства Франции не предвещает ничего хорошего. Назвать хотя бы имена «большого интригана» Марраста или политического соглашателя Ламартина, которого Герцен удостоит множеством едких эпитетов и метафор: «сладкоглаголивый стихотворец и политический аферист», «диктатор, полюбивший республику», «пошлая личность»…
«Письмами» неустанно продолжается эпистолярная летопись, «движущаяся, раскрытая исповедь». И хотя Герцен утверждает, что с «восторгом летел» в революционный Париж, еще целых два месяца силится расстаться с воодушевляющей его возлюбленной Италией.
Герцен — на улицах Рима. Народ демонстрирует братство с республикой во Франции. Народная манифестация восстает против австрийского гнета. И Герцен среди итальянцев. Он один из них. Теперь с полным основанием может считать себя участником этой борьбы.
А 21 марта 1848 года происходит событие и вовсе для него знаменательное. На виа Корсо, запруженной народом, празднуются дошедшие вести о революции в Вене и восстании в Милане. Народ сражался против австрийского господства и победил. Австрияки бежали. Король Пьемонта Карл Альберт готов объявить Австрии войну. И все для того, чтобы перехватить инициативу у масс, не допустить развертывания народных выступлений.
Герцен хорошо помнил ту темную мартовскую ночь. Кое-где зажжены факелы, и «говор недовольной толпы похож на перемежающийся рев волны, которая то приливает с шумом, то тихо переводит дух».
«Толпы строятся, они идут к пиэмонтскому послу узнать, объявлена ли война.
— В ряды, в ряды с нами! — кричат десятки голосов.
— Мы иностранцы.
— Тем лучше… вы наши гости.
Пошли и мы. <…> И толпа с страстным криком одобрения расступилась».
И вот Герцен — на «каменной трибуне» в виду ликующего народа, рядом с ним признанный вождь итальянского народа Чичероваккио. В отсветах факелов различимы и «четыре молодые женщины». «Все четыре русские — не странно ли?» Народ принимает в свои ряды не только Герцена, но и всех его спутниц: Наталью Герцен, Марию Корш и сестер Тучковых. Осененных знаменем Италии приветствует толпа: «Да здравствуют иностранки!» Так в первый раз на страницах «Былого и дум» появляется Наталья Алексеевна Тучкова.
Глава 5
ЯВЛЕНИЕ НАТАЛЬИ ТУЧКОВОЙ В ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА
О, как любовь ты разнообразна…
Н. П. Огарев
Еще в середине декабря 1847 года в Рим приехало семейство Тучковых: отец сестер Наташи и Елены — Алексей Алексеевич Тучков, и его супруга — Наталья Аполлоновна, урожденная Жемчужникова. Отношения с этой, во всех смыслах замечательной семьей были у Герцена давние, но о многом он не помнил и даже не подозревал. Девочки стали взрослыми. А тогда, в Москве… Как давно это было… Наташа запомнила все, до мельчайших подробностей, но справедливо считала, что Герцен никогда не возвращался к тому незабываемому моменту их первой, настоящей взрослой встречи (ранние, детские впечатления — не в счет), с мимолетной, мелькнувшей как неосознанное еще предчувствие чего-то давно ожидаемого… Отсюда начало ее знакомства с «человеком особенным», таким же, как Огарев. Сколько говорено об Александре в их семье. Ник Огарев, конечно — вне конкуренции, старый друг и сосед по пензенским имениям.
Тучковы жили тогда, в 1846-м, на Трубе — не слишком престижном районе второй столицы в нанятом доме. Своих многочисленных владений в Москве к тому времени они уже лишились усилиями деда, Алексея Алексеевича Тучкова, наделенного множеством художественных и артистических наклонностей, страстного коллекционера, растерявшего свое несметное богатство из-за пагубной страсти к картам. Братья деда — литераторы, военные и герои, верой и правдой послужили отечеству, и на памяти многих россиян был подвиг двух славных Тучковых — старшего Николая и младшего Александра, обагривших кровью поле Бородинского сражения.
Мать девочек, Натали и Елены, — Наталья Аполлоновна происходила из военной семьи среднего достатка, в высшей степени благородной и добропорядочной. Отец сестер — тоже Алексей Алексеевич Тучков, еще хранивший заветы декабристской чести (член Союза благоденствия), сам немало пострадавший по причине причастности к приверженцам российской свободы, слыл человеком умным, авторитетным, мнение которого даже по литературной части ценилось на вес золота.
«Отечественные записки», первейший литературный журнал, уже многих поразил замаскированным, даже предосудительным названием-вопросом романа Искандера, поставленным перед широкой публикой. «Кто виноват?» — считай, как хочешь. Конечно, Виссарион Белинский все как надо объяснил, хвалил безмерно. Успех, известность. Но много недоброжелателей, и цензура не дремлет. Герцен непременно хотел показать свое выстраданное детище А. А. Тучкову. Тот болел, маялся ухом, — вот и повод двойной навестить старика…
Натали помнит, как Александр вихрем вбегал наверх, в комнату отца, а они с сестрой, прижавшись друг к другу — одной семнадцать, другой — на два года больше, в «полукоротких платьях», в черных фартучках, шептались: «Ах, это Герцен — верно, читать папа». Как только Герцен вошел, не осмеливались остаться, но «что-то влекло встретиться глазами, сконфузиться и убежать…».
«Ах, Герцен, если б тогда кто-нибудь мне шепнул: вот отец твоих детей, — напишет Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева Александру Ивановичу Герцену где-то на перепутье их эмигрантских разъездов и странствий через много лет (в 1866 году), — как странно и страшно это».
Герцену Наташа Тучкова запомнилась совсем иначе, в отсветах итальянских факелов, на балконе, в виду ликующей толпы, рядом с итальянским вождем Чичероваккио. (Представленная в «Былом и думах» картина уже на памяти читателя.)
Теплой итальянской зимой, с первой встречи в Риме, с декабря 1847-го, оба семейства — Герценов и Тучковых с утра до вечера осматривали Вечный город и стали неразлучны.
«Лучшее время было в Италии (февраль), — писала Наталья Герцен старому другу Грановскому, — сколько любви, сколько надежд! <…> Все существо кипело деятельностью… мы были дома на улице, там встречались все, как родные братья».
Для Наташи Тучковой тоже — «это действительно странное и чудное время в Италии, сказочное», когда народ торжествовал свою победу, когда и Герцены, и Тучковы с упоением наслаждались свободой, а она, «дикарка», впитывала эту всеобщую радость и безграничную любовь ко всем — к отцу, к матери, к сестре, к Герцену и к его жене Натали.
Герцен многого не предвидел и не представлял. Взявшись за «Былое и думы», без конца повторял, как любила его Наташа младшую дочь Тучковых, называя ее именем героини Жорж Санд — Консуэла, «Consuelo di sua alma», «утешение моей души», а та отвечала ей страстной взаимностью.
Сверхромантическая дружба-любовь (предшествующая встрече Натальи Александровны с Гервегом) перехлестнула все границы, придала энергию и смысл существованию тридцатилетней матери семейства, судорожно искавшей выхода своим накопившимся эмоциям. «Я тебя люблю, влюблена в тебя…» — не раз повторяла младшей Натали в своей экстатической манере ее новая подруга. «Ни одна женщина не была любима так женщиной, как ты… В тебе, Natalie, только в тебе я нашла товарища, только такой ответ на мою любовь, как твоя, мог удовлетворить меня оттого, что я отдаюсь с увлечением, страстно».
Родители Натали не оставались в стороне от этих преувеличенных «увлечений и страстей» своей неуравновешенной, незаурядной дочери, с детства отличавшейся непокорным, «энергическим» характером, бескомпромиссностью и ничем не сдерживаемым свободолюбием, точнее сказать, своеволием. Презрение к «мещанским», общепринятым правилам поведения, эксцентричность поступков (почему бы юным сестрам ни надеть в Париже мужские костюмы, подобно неистовой Санд?), само собой, не могли вызвать особого восторга даже у такого вполне либерального человека, как их отец. Об экстравагантных наставлениях в письмах Натальи Герцен, этой «прелестной дамы» (по определению Тучкова), нечего и говорить. «Не пренебрегайте настоящим, будущего нет… есть только то, что есть». «Живите полнее, мои милые, живите, без оглядки», — наставляла она сестер Тучковых.
«День нашей разлуки с Т[учковы]ми… как-то особенно каркнул вороном в моей жизни; я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других, — размышлял позже Герцен. — Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения и предостережения вовсе не случайны. <…> Мы не замечаем эти психические приметы, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своею жизнию».
Но этой жизни — не только «общей», но и «частной», был уже предан иной поворот. 1849 год таил большие личные несчастья, еще не различимые в сутолоке быстротекущих дней.
Герцен не услышал, да и не мог услышать тогда, «каркнувший вороном» крик-предупреждение о своей дальнейшей судьбе. (Увлечение воодушевляющего времени было развенчано через несколько лет, когда камня на камне не осталось ни от упований на «общие» перемены, когда разлетелась прахом частная жизнь.)
«…Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли…» — писал Герцен в «Былом и думах». «Сердечная память» об Италии так и осталась в мемуарах, хотя изящное итальянское сновидение длилось недолго. Сон, по образному слову Шекспира, должен был быть «убит». Его герой, «неумолимый Макбет», «заносил уже свою руку».
Оставалась надежда на республиканскую Францию. «С каким восторгом летел» он снова в Париж, «как было не верить в событие, от которого потряслась вся Европа».
Глава 6 СНОВА ПАРИЖ
Я слушая гром, набат, и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался…
А. И. Герцен. С того берега
Париж! Как долго имя это светило путеводной звездой. Как торжественно все начиналось.
Двадцать восьмого апреля 1848-го Герцен с семьей, наконец, на пути в революционный Париж. Он покидал Италию, «влюбленный в нее», но ему «казалось изменой всем… убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика». (Это уже позднее его признание в мемуарах, но нам-то известно, сколько времени прошло с тех пор, как Герцен узнал о событиях.)
Герцены добрались до Чивитта-Веккиа, а оттуда морем — до Ливорно (Ливурно). Александр Иванович — еще под оглушительным влиянием 24 февраля, когда, вступив на палубу парохода и увидев заветный вензель «R F», поддался «ребяческому увлеченью». Одушевление его не оставляло. Сердце билось как сумасшедшее… République Française. Французская республика живет…
Из Ливорно путешественники, несмотря на страстное желание Герцена поездить по Италии, вновь садятся на пароход, чтобы плыть в Марсель. Взбудораженный город встречал их трехцветными знаменами с привычными лозунгами Свободы, Равенства, Братства и толпами блузников, распевающих Марсельезу. От Марселя, как ни в чем не бывало, «веяло республикой». И это в то время, как Руан уже ответил страшным кровопролитием. Рабочее восстание, вызванное подтасованной победой крупной буржуазии в Учредительное собрание, было жестоко подавлено. Историки темы свидетельствуют: при военном усмирении возмущения с применением артиллерии было убито и ранено около ста рабочих, их жен и детей[89].
Пятого мая Герцены добрались, наконец, до французской столицы. Накануне, 4 мая, избранное Учредительное собрание начало свою деятельность с торжественной декларации, утвердившей Февральскую республику как форму правления во Франции. Но это была уже другая республика.
Париж сильно изменился с октября 1847 года. Герцен записал: «Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей — и больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами». Приметой времени стала гениальная Рашель. Она явилась на сцене образом Франции с трехцветным знаменем в руке, поющей Марсельезу с отчаянной решимостью сопротивления врагам: «Вперед, дети Отчизны…» И Герцен, посетивший вместе с Анненковым и Тургеневым одно из ее выступлений в «Théâtre Français», присоединился к всеобщему ликованию.
Неограниченная свобода собраний и политических клубов, дарованная конституцией, Февральская республика… Восхищение «корифеями демократии» — А. Барбесом, «готовым отдать за республику последнюю каплю крови», и еще больше — «грозным трибуном Бланки»… Пережить все эти недолгие завоевания народа выпало на долю человека, случайно оказавшегося на дороге чужой истории, но он ее сделал своей. Герцен стал не только свидетелем грандиозных событий, но и участником их, сторонним, но все же участником. Потом, когда революция, как всякая из предшествовавших революций, потонула в крови тех, кто ее начинал — блузников, бедняков, пролетариев (слово это, в отличие от России, в Европе уже прижилось), сокрушался, «что не взял оружие», когда «его подавал работник за баррикадой».
Все менялось на глазах. События развивались по сценарию буржуазно-демократической революции. И Герцен прекрасно осознавал грядущие сдвиги, с детства интересуясь опытом Великой революции 1789 года. Книги (где «главное — история революции»), рассказы свидетелей-очевидцев, бывших солдат великой армии и беглецов от террора, давали ему уроки свободолюбия, стоившие «всяких субжонктивов», сослагательных наклонений, преподанных французскими гувернерами. Учителя всех мастей, наполнившие дворянскую Москву, не обошли и дом Яковлева (характерен образ француза, «террориста Бушо», с которым юный его ученик вел непозволительно смелые разговоры о правомерности казни короля: ведь он предал отечество). Революционная юность Франции 1789-го стала и его, Герцена, юностью. Свою сопричастность к историческому смыслу момента, с которым в его творчестве неизменно сопрягались «воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1783», теперь, через полстолетия, он не мог не ощутить.
Герцен соотнес происшедшее во Франции с бурным проявлением природы. Так и назвал главы своих сочинений: «Перед грозой» и «После грозы» в главной, заветной своей публицистической книге «С того берега». Очерк «В грозу» составил одну из небольших главок будущих мемуаров — Тетради первой «Западных арабесок». За летопись непосредственных наблюдений, сиюминутные письма, он взялся, как только обустроился с детьми и Наташей возле любимых Елисейских Полей в бельэтаже дома Фенси, прежде нанятом для них Тучковыми. Надо было вглядеться в новый Париж. Понять его правоту, обманы и заблуждения.
После заголовка «Опять в Париже» — третьего цикла из четырех статей (истории революции и «истории реакции»), исключительно обращенных к друзьям (о печати в России не могло быть и речи), Герцен поставил первую дату — 1 июня 1848-го. С решительного начала событий, потрясших Францию, прошло более трех месяцев; до трагической развязки революции, расстрелов, разгрома баррикад и подавления восстания пролетариата в Париже оставалось 25 дней[90]. «Восхожденья новой жизни» не произошло. От прошлых романтических упований не осталось и следа.
Выразил Герцен увиденное, пережитое, прочувствованное, притронувшись к происходящему с оголенными нервами. Восторг, обольщение, надежды сменились злобой и негодованием. Писал сразу, с множеством вариаций, поворотов, с все усиливающимся эмоциональным накалом, не ослабевающим и в последующих трудах о потрясших его событиях. В значительно переработанном виде цикл статей «Опять в Париже» (рассматриваемый ныне в научных публикациях как «другая редакция») вошел в очерки — с девятого по одиннадцатый серии «Писем из Франции и Италии», но писался ярче, непосредственнее, с множеством необязательных, однако выразительных деталей, ушедших из более позднего цикла. Перед «Письмом девятым», закрепившим хронику революционных и контрреволюционных событий, автор поставил дату — 10 июня 1848-го.
Почти что со дня приезда в столицу Герцен — с утра до ночи на улице и видит все своими глазами. Каждый день меняет картину, и 15 мая 1848 года становится пределом его ожиданий. Что он увидел и что понял? Герцен отвечает:
«Пятнадцатого мая сняло с моих глаз повязку, даже места сомнению не осталось — революция побеждена, вслед за нею будет побеждена и республика. Трех полных месяцев не прошло с 24 февраля… а уж Франция напрашивается на рабство, свобода ей тягостна. <…>…я видел кровожадную готовность Национальной гвардии начать резню и торжественное шествие победоносного Ламартина и победоносного Ледрю-Роллена из ратуши (традиционного места провозглашения нового революционного правительства. — И. Ж.) в Собрание. Спасители отечества, из которых один под рукой помогал движению, а другой кокетничал с монархистами, ехали верхами без шляп, провожаемые благословениями буржуазии».
Учредительное собрание, избранное по введенному временным правительством всеобщему голосованию и утвердившее Францию республикой, тем не менее не решало первостепенных национальных задач. «Арифметическая» реформа предоставила большинство мест в Собрании крупным провинциальным буржуа. «Народ и республиканцы с негодованием и, краснея до ушей, смотрели на эти ограниченные лица, на эти скупые глаза проприетеров, на эти черты, искаженные любовью к барышу…» Герцен сокрушался: и вот этим собственникам-«стяжателям», лавочникам и торговцам была «отдана будущность» прекрасной Франции.
Попытка демократических клубов организовать 15 мая народную демонстрацию, чтобы защитить взывающую к помощи Франции восставшую Польшу и оказать давление на Собрание, которое распустить не удалось, закончилась крахом. «Собрание победило. Монархический принцип победил». «Республика ранена насмерть…» 150-тысячная манифестация, вылившаяся в неуправляемое народное половодье, цели не достигла. Попытки руководителей — Ледрю-Роллена и Луи Блана, избранных народом членов временного правительства, ввести происходящее в какие-либо рамки, успеха не принесли.
Репрессии усиливались, начались притеснения: тюрьмы наполнялись, законы ужесточались, уличные сборища были запрещены. Дополнительные выборы в Учредительное собрание 4 июня ничего не изменили, кроме демонстративного избрания известных социалистов Прудона и П. Леру. Развернувшиеся события заслонили лица. Париж вновь покрылся баррикадами.
Двадцать третьего июня началось вооруженное восстание. Лозунг парижского пролетариата — «Демократическая и социальная республика». И Герцен, прекрасно понимающий, куда заведет работников начавшееся противостояние готовой к отпору власти, тем не менее не может скрыть своей восторженной надежды. На Новом мосту он слышит громоподобный звон набата, призывающий народ к оружию, и вольно или невольно прощается с Парижем, еще не обагренным кровью. Видит строящуюся баррикаду на Place Maubert и в тот же вечер[91] из окна кафе на набережной Orçay наблюдает за колонной спешащих «на помощь порядку» «неуклюжих, плюгавых полумужиков и полулавочников, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах», выкрикивающих: «Да здравствует Людовик Наполеон!»
«Этот зловещий крик, — вспомнит Герцен в „Былом и думах“, — я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: „Да здравствует республика!“ Ближние к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику…» Не пройдет и суток, как в столице будет учинен разгром защитников республики, прозвучат выстрелы и прольется первая кровь.
Двадцать пятого июня в восемь часов утра Герцен и Анненков, не имевшие возможности даже «выйти за ворота» из-за не-прекращающейся пальбы, появляются на Елисейских Полях. Канонада, которая слышалась ночью, умолкла. «…По временам только трещала ружейная перестрелка и раздавался барабан. Улицы были пусты, по обеим сторонам стояла Национальная гвардия». На Place de la Concorde встретилось «несколько бедных женщин с метлами, несколько тряпичников и дворников из близлежащих домов; у всех лица были мрачны и поражены ужасом». Видно, что «свирепый бой» уже произошел. Герцен вспомнит, как поразил его мальчик лет семнадцати, «из которого сделали убийцу». Он стоял тут же, в группе, грязный и полупьяный, и с нескрываемой гордостью рассказывал окружающим о своих ночных подвигах, как колол и убивал инсургентов, проще сказать, братьев по классу.
В районе церкви «Мадлен» Герцен и Анненков остановлены кордоном Национальной гвардии: обысканы, допрошены и отпущены. Второй кордон был менее сговорчив.
«Берите их — и в полицию: одного я знаю… я его не раз видел на сходках…» — угрожающе говорил «лавочник в мундире», указывая на Герцена. Дело принимало серьезный оборот. Встретившиеся по дороге мещане, принявшие облик стражей восстановленного порядка, готовы были пленников растерзать. В них видели «иностранных бунтовщиков».
За временным задержанием Герцена последовал обыск на его квартире. Изъяли архив. Герцен протестовал. Опыт тяжбы с властями остался у него со времен первого московского ареста. Вторжение жандармов в их дом на Сивцевом Вражке, едва сдерживаемое смятение отца, слезы матери трудно забыть…
Почему не возвращают бумаги: ведь ему не предъявлено никаких обвинений?.. И хотя бумаги вернули с благосклонного разрешения генерала Кавеньяка, осуществлявшего теперь диктаторскую власть в стране, но вперед следовало быть осторожнее.
Полиция всех стран, известно, на страже. Подобно спруту, охватывает она всех подозреваемых и неблагонадежных. И тут уж двоюродный братец Сергей Львов-Левицкий, и в России-то проявлявший излишнюю осведомленность в делах Александра Ивановича, невольно постарался. Сам того не желая, дал повод для категорического «повеления» Николая 1: немедленно возвратить Герцена в российские пределы. В письме с датой 2/15 июня, перлюстрированном в Третьем отделении, Левицкий сообщал своему приятелю в Москву: «Мне горько, но становится еще грустнее каждый раз, когда увижу Ал. Герцена, который опять прикатил сюда, верно привлеченный революциею; гуляет и кутите демократами. Прошу никому не говорить о Герцене». С тех пор в секретных донесениях, циркулирующих между представителями тайной власти, было обращено особое внимание на поведение надворного советника Герцена и поставлен недвусмысленный вопрос, когда же он соберется «в возвратный путь».
Сказано верно: несчастья не приходят в одиночку.
В тяжелые для Герцена июньские дни 1848-го дошло из Петербурга скорбное известие. 26 мая (7 июня по новому стилю) скончался Белинский. Умер друг, человек, который на протяжении многих лет был опорой Герцена и заинтересованным ценителем его таланта. Умер критик, определявший столбовую дорогу литературы заданной высотой, которая и вывела Герцена в ряд первейших русских писателей. «Чудный был человек», «бесконечно жаль», — написала Наталья Александровна своей верной подруге Тане Астраковой.
Последствия революции, ее успешные подавители, «мещане-воины» и умелые буржуа, прибравшие к рукам завоеванные народом привилегии и отринувшие достижения демократической республики, вызовут у Герцена тяжелейший духовный кризис. Еще находясь в России, задолго до Февральских и Июньских дней 1848 года, Герцен смел предположить, что «без крови не развяжутся эти узлы» и что «отходящее начало… готово всеми нечеловеческими средствами отстаивать себя». Теперь выводы делались по кровавым следам событий, обрубивших старые споры и уничтоживших любые сомнения в плодотворности подобных революций.
«Что мы видели, что мы слышали эти дни — мы все стали зеленые, похудели, у всех с утра какой-то жар… — писал Герцен в Россию 30 июня 1848 года. — Преступление четырех дней совершилось возле нас — около нас. — Домы упали от ядер, площади не могли обсохнуть от крови. Теперь кончились ядры и картечи — началась мелкая охота по блузникам. Свирепость Национальной гвардии и Собранья — превышает все, что вы когда-нибудь слыхали. Я полагаю, что Вас[илий] Петр[ович] (Боткин. — И. Ж.) перестанет спорить о буржуазии».
Июньские дни проложили трагическую «черту» в жизни Герцена. Спустя месяц он только и мог сказать: «В замену слез я хочу писать — не для того, чтобы описывать, объяснять кровавые события, а просто, чтоб говорить о них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам…»
«Больше двух месяцев прошло после моего последнего письма (девятого, от 10 июня 1848 года. — И. Ж.), — продолжал Герцен свою летопись пережитого в „Письмах из Франции и Италии“. — Трудно продолжить начатое, реки крови протекли между тем письмом и этим. Вещи, которые я никогда не считал возможными в Европе, даже в минуты ожесточенной досады и самого черного пессимизма, — сделались обыкновенны, ежедневны, неудивительны. Глубоко огорченный, я остался досматривать преступление осадного положения, ссылок без суда, тюремных заключений вне всяких прав, военно-судных комиссий». И в это время, когда Париж полностью преобразился, притих, погрустнел, когда утекла из него прежняя, воодушевляющая, кипучая жизнь, властям только и оставалось навязчиво заявлять, «что Франция цветет».
Позже Герцен напишет Огареву (17 октября) о «тяжести существования в этом очумелом, издыхающем городе»: «Дряхлое бессилие Франции очевидно…»
В письмах Герцена «осадного» времени, после Июньских дней, 2–8 августа, им составлена целая диссертация — многостраничный трагический отчет московским друзьям о последствиях революции, об «умирающем мире» и перспективах его возрождения.
Он должен остаться здесь, объясняет Герцен в том же письме, нисколько не меняя своих «убеждений относительно права переезда», потому что «не может оторваться» от Парижа. Ибо «лишившись всего, утративши все упования», надо быть «зрителем» там, где вершится история. «Я страшно люблю Россию и русских — только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел во французском работнике. — Это два народа будущего (то есть не французы, а работники)… Июньские дни ничего не имеют подобного в предшествовавших революциях — тут вопрос, громко поставленный 15 мая, вырос в борьбу между гнилой, отжившей, бесчеловечной цивилизацией и новым социализмом. Мещане победили. 8000 трупов и 10 000 арестантов — их трофеи…»[92] Свой неоконченный спор о буржуазии Герцен считает завершенным: «они сгубили республику»; и тут же резко обращается к московским друзьям: «Все защитники буржуазии, как вы, хлопнулись в грязь…»
Поиски путей и средств приближения к социализму в условиях отката революционной волны в Европе приводят Герцена к концепции «русского» социализма.
Замечаем, что у Герцена рождаются новые идеи и теории, и вскоре слово «социализм» неизменно свяжется с будущностью России. В письме в Москву 5 ноября 1848 года Герцен заявляет друзьям: «Мы присутствуем при великой драме… Драма — это не более и не менее как разложение христиано-европейского мира. <…> Я решительно отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса [тупика] без истребления существующего. <…> Европа, умирая, завещевает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития, социализм. Славяне… имеют во всей дикости социальные элементы». Так постепенно пересматривает Герцен европейские уроки, обращая свое внимание на особые, социальные возможности России. («Социализм предполагал, ставил, требовал республику, как необходимую гражданскую ступень».)
Герцен улавливает связь усвоенных им в 1830–1840-е годы либеральных и утопических идей с теорией справедливого экономического переустройства мира. Это и будет, по Герцену, называться социализмом в терминах того времени. Несомненно и влияние социалиста Прудона, взявшего его на некоторое время в плен своими теориями.
Уже прорастает зерно веры Герцена в возможность особого пути России. Русская община? Мысли о ней прочно укрепляются, кажется, с момента его приезда во Францию. Что он славянофил? «Нет, — отвечает Герцен московским друзьям. — Не велите казнить, велите правду говорить. Из того, что Европа умирает, никак не следует, что славяне не в ребячестве…»[93]
Лучшее будущее — без революционных потрясений. В этом Герцен окончательно утвердится позже, когда осмыслит «патологию революции». За избранием президентом Второй республики 10 декабря 1848 года «косого кретина» Луи Наполеона, племянника Наполеона I, неожиданно получившего больше всего голосов[94], последует бонапартистский государственный переворот. (Герцен еще скажет об этой черной дате — 2 декабря 1851 года.) Жесточайшее подавление вышедших на улицу защитников республики не оставит у Герцена ни малейших иллюзий.
«Ни нас, ни народы в другой раз не надуют», — заключит Герцен некоторые из своих размышлений уже после неизбежного конца революционной грозы…
«Нечего сказать, педагогический год мы прожили… — В письме Грановскому (12 мая 1849 года) Герцен подведет некоторые итоги времени, прошедшего с Июньских дней. — Мне кажется, что ты принял мою хандру за апатию… нет, она не парализовала нисколько деятельности… Трудно вам рассказать, до какой степени здесь изживаешься, в беспрерывном раздражении… Теперь здесь совершеннейший хаос, безобразие общества, распадающегося и гниющего».
В мае 1849-го французскую столицу поразила холера. 10 июня Герцен пишет Огареву о новых испытаниях: «Я думаю, что для полного воспитания моего скептицизма только недоставало этого мора, — и еще раз Франция отличилась. Помнишь холеру в Москве 31 г.: сколько было благородных усилий, сколько мер, временные больницы, люди, шедшие добровольно в смотрители, и пр. Здесь правительство не сделало ничего, болезнь продолжалась два месяца, — вдруг жары неслыханные (в тени 30, 32°), и Париж покрылся трупами».
Умерла от холеры жена А. Рейхеля — Иетта. Находясь в гостях у Герцена, накануне своего отъезда в Россию (в конце мая), занемог и «чуть не умер» Тургенев. Отправив семью в местечко Виль д’Аврэ, вблизи Парижа, Герцен ходил за ним как нянька и выходил его. (Как увидим позже, «переменчивый» друг был не столь отзывчив в решительную минуту жизни своего спасителя.)
Уроки революции «довоспитывали».
Герцен наблюдал особую породу людей, отметившихся в революциях, так называемых «хористов революции», составляющих ее непременный «фон», этих говорливых «завсегдатаев» кофеен и банкетов, для которых «демонстрации, протестации, сборы, тосты, знамена — главное в революции». «В смутные времена общественных пересозданий», — замечал он, — это народившееся поколение «с ранних лет вживается в среду политического раздражения, любит драматическую сторону его, его торжественную и яркую постановку».
Именно эти политические дилетанты-организаторы несомненно способствовали тому, что вялая, неподготовленная, без программы и центра движения демонстрация 13 июня 1849 года — попытка потребовать от правительства исполнения конституции, провалилась. И хотя Герцен понимал всю нелепость и бессилие будущего «глупого» выступления, но вовлеченный настоянием «восторженного агитатора» Сазонова (всегда являвшегося, как черт из табакерки) и толковавшего «с величайшим воодушевлением» о предстоящем грандиозном событии, вышел на площадь вместе с «почетной фалангой» знаменитых вожаков 1848 года. И проиграл.
Действие правительственных войск, уже достаточно натренированных на разгонах мирных манифестаций, было непредсказуемо жестоким. Герцен чудом избежал расправы, но арест, тюрьма, а возможно, и высылка в Россию, при совместных усилиях французской полиции и русского дипломатического сыска, ему неминуемо грозили.
И вот он решает (по его же слову) срочно «убраться» из Франции, да к тому же тайно, воспользовавшись паспортом «младо-валаха», австрийского подданного С. Петри. 20 июня 1849 года ему «приходится бежать» в Швейцарию, даже толком не простившись с родными. Мирная, нейтральная страна пока еще служит надежным укрытием пришельцев, «сборным местом» революционной эмиграции.
Аресты во Франции неминуемо следуют один за другим. Открываются быстрые судебные процессы. К трем годам заключения уже приговорен П. Ж. Прудон и заключен в тюрьму S-te Pélagie «за войну с дураком Людв[игом]-Напол[еоном]». В квартире матери Герцена на улице Шайо (Chaillot, 111) произведен обыск. Русский генеральный консул в Париже, отрабатывая поручение своего правительства, делает все возможное, чтобы продолжились розыски «человека, поддерживающего интимные отношения с самыми передовыми демократами». Французская полиция идет даже на чрезвычайные меры: окружает дом Герценов в предместье столицы — Виль д’Аврэ, где семье удалось переждать холеру, и требует выдачи находящихся там бумаг. Часть своего архива Герцен действительно возил с собой, и смелым женщинам, Луизе Ивановне и Машеньке Эрн, попавшим в полицейскую западню, ничего не оставалось, как привязать бумаги под платья, да так и проносить их немалое время.
Российский самодержец, не оставляя своих упрямых усилий расправиться с непокорным противником, оценил старания своих подчиненных в его преследовании. На рапорте русского поверенного в делах в Париже Н. Д. Киселева министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде собственноручно начертал: «Очень замечательно, этот Герцен тот, который был мной выслан, кажется, в Кострому, а наследником чрез Жуковского выпрошено прощение; надо велеть наложить запрещение на его имение, а ему немедля велеть воротиться».
Обосновавшись на некоторое время в Женеве, Герцен еще не подозревал о будущих решительных переменах в собственной судьбе, сгубивших «в частном быте еще больше, чем черные Июньские дни — в общем».
Глава 7
«ЧТО ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ?..»
Что бы ни таило для меня будущее — я люблю свою любовь…
Н. А. Герцен — Г. Гервегу
После той воодушевляющей парижской весны 1847 года, когда состоялось знакомство Герценов с Гервегом, прошло немало времени. Жизнь закружила и развела. С первой встречи с Гервегом Наталья Александровна не могла скрыть своего потрясения… Позже призналась ему: «…когда я увидела тебя впервые, каким божественно прекрасным, каким привлекательным ты мне казался! Ничего подобного я ранее не испытывала. — И я отдалялась от тебя потому, что ты слишком сильно меня привлекал!».
Подобно пушкинской героине, она могла бы воскликнуть: это он!
Георг и впрямь был чертовски красив. Темные, шелковистые, слегка седеющие волосы, темно-карие пылающие глаза, тонко очерченный нос с небольшой горбинкой. Узкий овал смуглого лица, порой приобретающий матовый оттенок. Кажущееся кроткое выражение. Маленькие нежные руки. Впрочем, не следует продолжать… Современники — и поклонники, и противники героя, немало постарались в создании портрета рокового мужчины сходными мазками. Почти что байроновский тип.
Теперь, через много месяцев, они встретились вновь, и Наталья Александровна увидела Георга в облике романтического страдальца, опаленного неудачами военных браней.
Герцен воспроизвел эту сцену в «Былом и думах»[95].
«За несколько дней до 23 июня 1848, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.
— Да это вы? — сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки. — Можно ли это?.. Узнать вас нельзя…
Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды.
Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дормезе из Парижа в баденский поход, на провозглашение германской республики. Теперь он возвращался, убежавший с поля битвы, преследуемый тучей карикатур, осмеянный врагами, обвиняемый своими… Разом изменилось все, рухнулось все, и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разорение».
Набросок портрета, подобно фантазии автора Дориана Грея, затем обрастет новыми, порой беспощадными мазками в «Былом и думах» и, в конце концов, будет разрушен, стерт, замазан, задвинут в былое… самим Герценом.
«…Было время, я строго и страстно судил человека, разбившего мою жизнь, было время, когда я искренно желал убить этого человека… С тех пор прошло семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное воззрение долгим, беспрерывным разбором. В эти семь лет я узнал и свой собственный предел, и предел многих — и вместо ножа — у меня в руках скальпель и вместо брани и проклятий — принимаюсь за рассказ из психической патологии» (выделено мной. — И. Ж.).
«Износил» ли Герцен желание мести?
И что за человек переступил порог дома Герцена? Откуда он взялся?
Жестокая ирония судьбы: эта роковая встреча, как помнит читатель, состоялась по рекомендации Огарева. Гервег ему казался «одной из самых полных и изящных натур», которых когда-либо он встречал. Конечно, знакомство могло состояться и помимо первого друга. Слишком узок был круг общих приятелей и друзей, оказавшихся в то время на Западе (М. Бакунин, И. Тургенев, Н. Сазонов). Позже, в письме Огареву, Герцен неожиданно поставит его и Гервега на одну ступень дружбы.
Семнадцатого января 1850 года, даже в период смутных догадок и сомнений в искренности Гервега, Герцен признается ему: «В моей жизни были, быть может, только две более значительные встречи, чем встреча с вами, — это с Огаревым и Натали, — неужели же вы думаете, что у меня хватит легкомыслия расстаться с вами?..» 26 января Гервег отзовется таким же признанием: «Жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я встретил вас».
Вспоминая пережитое в «Былом и думах», в 1856 году Герцен оценит совсем иначе сближение «с этим человеком»: «В нем не было той простой, откровенной натуры, того полного abandon[96], который так идет всему талантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был скрытен, лукав, боялся других, он любил наслаждаться украдкой, у него была какая-то не мужская изнеженность, жалкая зависимость от мелочей, от удобств жизни — и эгоизм без всяких границ…»
Позже, обратившись к истории написания «Былого и дум», вспомним, что сугубо личную историю страстного увлечения своей жены Г. Гервегом и трагических последствий этой страсти, впрочем, представленных в контексте измены соперника общему делу, писатель сам вынесет на публичный суд[97]. Тургенев, получив в рукописи историю страданий и измен, потрясенный прочитанным, признается в 1876 году: «Все это написано слезами, кровью: это горит и жжет».
Некоторые подробности жизнеописания Гервега, преломившиеся в исповеди Герцена о семейной драме в пятой части мемуаров, пожалуй, единственных по своей обнаженной откровенности (откровенности или субъективной, даже иногда предвзятой трактовке постфактум?), узнаем и от позднейших биографов темы[98].
Автор «Романтических изгнанников» Э. Карр в главах о семейной драме попытается представить Гервега и Герцена в их противостоянии как обычных людей из плоти и крови, со всеми присущими им слабостями, пороками и достоинствами. Так, во всяком случае, заявит он в предисловии. Тайные послания Натали Гервегу, не уничтоженные им, несмотря на все ее просьбы, и письма Гервега Герценам, оставшиеся в черновиках, предоставлены Карру сыном Гервега Марселем и впоследствии переданы ученым в Британский музей. Авторитетный историк пользуется и услугами Таты Герцен. В конце 1920-х годов, в подчеркнуто уважительной переписке с дочерью Герцена, он уточняет некоторые детали своего исследования.
Однако последствия такого контакта оказались трагическими. Тата Герцен, получив сочинение Карра и узнав всю правду о тайной переписке своей матери, закрыла книгу, не стала читать ее дальше. «„Лучше бы я умерла, не знав этой ужасной книги!“ — воскликнула она».
Наши современники не остались безучастными к откровениям их предшественников. Так, Анна Ахматова, вообще не жаловавшая писательских жен (конечно, не без исключений), категорически выговаривала Л. К. Чуковской, трепетно относившейся к Герцену, своему любимому автору. «Анна Андреевна, — записала в дневнике Лидия Корнеевна 5 июня 1955 года, — с какой-то нарочитой грубостью напустилась на Наталью Александровну.
— Терпеть не могу баб, которые вмешивают мужей в свои любовные дела. Сама завела любовника, сама сними расправляйся, а не мужу поручай — тем более, что, как теперь известно, она прямо-таки висела на Гервеге, он от нее избавиться не мог… А когда Герцен в „Былом и думах“ пишет о ней, сразу страницы линяют. Какой-то фальшивый звук».
Контрдоводы Л. Чуковской частично изменили резкую позицию Ахматовой, и с той поры Анна Андреевна «имела обыкновение добавлять: „но женщина она была незаурядная — не всякая расплачивается за двойную любовь смертью“».
Николай Павлович Анциферов, Музейщик с большой буквы, знаток иконографии Герцена и, как бы мы выразились теперь, фанат его жены, напротив, немало сил положил на апологию своей обожаемой героини. Их трагедию он воспринимал как личную драму, и умер-то он, по музейной легенде, вскоре после обнародования в 1958 году в академическом, 64-м томе «Литературного наследства» выборочного обзора потаенных писем Натальи Герцен Георгу Гервегу, произведшего эффект разорвавшейся бомбы.
Не переведенная на русский язык книга Э. Карра «Романтические изгнанники», пытавшаяся восстановить баланс в оценках антагонистов, и вышедшая на свет в середине прошлого века переписка Герценов и Гервегов все еще требовали оценки личности Гервега «с разных сторон».
Гервег родился в Штутгарте 31 мая 1817 года. Стало быть, ровесник Натали. Его отец был состоятельным вюртембергским трактирщиком, оставшимся в памяти благодарных клиентов-гурманов чуть ли не вторым Вателем — парижской знаменитостью. В детстве болезненный и хилый, страдающий «пляской святого Витта», Георг был отправлен в пансион к родным. Надежды, что горный воздух и деревенская обстановка поправят здоровье ребенка, частично оправдались. Пятнадцати лет его определили в духовную семинарию в Маульбронне. Прекрасное преподавание литературы и древних языков, возможно, и толкнувшее Георга на поэтическую стезю, отравлялось пагубной нравственной атмосферой подобных закрытых заведений. Болезненно-восприимчивый, самолюбивый, вовлеченный в интриганскую среду воспитанников пансиона, он вполне мог повторить плачевный опыт классических литературных героев (вроде Жюльена Сореля из «Красного и черного» Стендаля), но выбрал иную дорогу, да не одну. Изучив древние языки, познакомившись с лучшими образцами античной и отечественной литературы, он готов был отринуть дальнейшие занятия богословием, а позже и юриспруденцией. Университетское обучение в Тюбингене показалось ему скучным и никчемным, тем более что светский мир, полный греховных соблазнов, уже затягивал его в свою паутину. В марте 1837 года в журнале «Европа» и в его приложениях («Альбом для будуаров», «Лирический альбом»), издаваемых в Вюртемберге, стали появляться критические опыты и стихотворения Гервега. Он был нищ и окружен романтическим ореолом, чему способствовали его привлекательная внешность, чарующий музыкальный голос, вкрадчивость манер и умение держать себя в обществе. Его заметили и обласкали в светских салонах.
Биографы поэта отметили некие двусмысленные ситуации, в которые попадал Гервег. Он чуть было не угодил в армию, забыв, что давно уже не в духовной академии, — ее воспитанники освобождались от воинской повинности. Однако кратковременного заключения в казарму он не избежал. В молодости был неуживчив, задирист, позволял себе даже дерзить начальству, а потом, при опасности, бросался за протекцией к высокопоставленным друзьям и знакомым. На каком-то балу вышло резкое столкновение с офицером полка, к которому был формально приписан. И в отместку бессрочный отпуск Гервега, полученный чуть ли не с повеления короля, был аннулирован. Нерадостная перспектива отправиться в армию навела на мысль о бегстве. Из Штутгарта через границу он перебрался в Швейцарию — лучшее убежище, гавань для пришлых.
Когда весной 1840 года Гервег обосновался в Цюрихе, его связи с эмигрантской и литературной средой особенно укрепились. Либеральный воздух швейцарских кантонов увлек его в политическую жизнь. Он вошел в круг компатриотов-оппозиционеров, упорно ждавших европейской, и особенно германской великой революции, и вскоре сделался рупором этого движения.
Политический поэт и воинствующий публицист, Гервег стал германской знаменитостью, когда летом 1841 года вышла его книжка «Стихи живого». Успех был феноменальный. Тиражи сборника за пару лет подскочили до 15 тысяч экземпляров, причем шесть тысяч дешевых книжек предназначались для народного чтения. Звучные и запоминающиеся строки «железного жаворонка», как окрестил его Гейне, из-за своих припевов-повторов (наподобие песен Беранже) подхватывались на ура фрондирующей частью немецкого общества. Они долго еще воспринимались как зажигательные призывы к неограниченной свободе, конституционному устройству страны, протесту против сильных мира сего, несмотря не некую расплывчатость политической мысли. Впрочем, накануне европейских потрясений 1847–1848 годов каждый немец видел в стихах Гервега что-то свое, внушающее надежду на будущее и обновление своего дряхлеющего отечества. Позже Гейне не удержался от насмешки: ужели тот, «живой», прежний?.. Закончил совсем пессимистически: «…поэта стихи на обертку идут, / А сам он становится дрянью». И все же в разноголосом хоре политических поэтов Германии Гервегу нашлось собственное место. Он обзавелся друзьями и недругами. В круг его знакомых, помимо Тургенева и обожающего его Бакунина, готового последовать за ним хоть на край света, попали радикальный немецкий публицист, младогегельянец Арнольд Руге и Карл Маркс.
Маркс, как всегда критически настроенный к деятельности явившихся на сцену новых лидеров, был нетерпим к политическому дилетантизму Гервега, предостерегал, осуждал, не соглашался, что привело к полному их разрыву.
Впрочем, каждое историческое время раздает свои оценки[99]. Поэтический полет давал воображению Гервега независимость и свободу — от власти (хотя он не устоит перед соблазном искать излишне раболепно ее покровительства) и от богатства, которого у него пока не было.
Реальное богатство пришло ненадолго с женитьбой на Эмме Зигмунд, дочери богатого купца-оптовика, придворного поставщика шелковых тканей (у Герцена — банкира). Она влюбилась в Гервега, даже не видя его. Познакомилась с кумиром и всё бросила к его ногам: сумасшедшее обожание, пылкую страсть, состояние собственной семьи. Была она, признаемся, не слишком красива, просто нехороша собой, не в меру восторженна и деятельно упряма. Будучи реалисткой, понимала — на бескорыстную привязанность поэта нечего и рассчитывать. Его любили, восхищались им, уделяли внимание обольстительнейшие женщины Европы — сама мадам д’Агу, возлюбленная Листа, числилась в донжуанском списке Гервега. Так что следовало поместить поэта в золотую клетку. Ну а песни — о них просто забыть. Праздность, путешествия, роскошь, жизненные удобства искупят всё, на что падок Гервег (да и не только он один).
В «Былом и думах» Герцен, пытаясь быть объективным, возлагал половину вины мужа на Эмму. Но жесткая поступь его разящего слова не давала читателю никакой возможности посочувствовать той, к которой несколько лет до того он проявлял такое участие. Теперь только «травля любовью» стала своеобразным эпиграфом к представленному читателю семейному союзу Гервегов.
«Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддерживала его слабости, охорашивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был беден, — она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка. Поверженная в прахе, в каком-то вечном поклонении, Huldigung[100] перед поэтом, „шедшим на смену Гёте и Гейне“, она в то же время заморила, задушила его талант в пуховиках мещанского сибаритизма.
Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа на содержании, и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они неминуемо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходилось сдать свою квартиру „с золотым обрезом“, как мы ее называли, и распродать поодиночке и за полцены своих „Амуров и Купидонов“, по счастию, не крепостных… а бронзовых».
«Шум февральской революции разбудил Германию». Качнулись европейские императорские троны, и когда через семь лет после успеха «Стихов живого» Гервегу вновь представилась возможность послужить отечеству и вновь оказаться в лучах славы, Эмма уважила и эту его блажь. Она увязалась за ним в баденский поход — неудавшийся, непродуманный марш-бросок «немецкого демократического легиона» из восьмисот эмигрантов, отправившихся в ночь с 23 на 24 апреля 1848 года на помощь баденскому восстанию. Попытка провозгласить республику в Германии такими малыми силами и без всяких серьезных приготовлений, казалась, по меньшей мере, безумной авантюрой. Отряд во главе с Гервегом был разбит. Почти половина всего легиона захвачена в плен. Репутация Гервега, бежавшего с поля боя, да к тому же обвиненного в трусости и злоупотреблениях, была окончательно похоронена в среде немецкой эмиграции. Но сплетни и наветы, по мнению историков темы, никак не подтвердились. Однако Герцен не уклонился вовсе от подозрений и во всей красе вывел образ «воинственной четы» — «освободителя» и его верного оруженосца. При этом оговорился: «Я думаю, что деньги не были присвоены им, но также уверен и в том, что они беспорядочно бросались, и долею на ненужные прихоти…»
Ярких подробностей и живописных деталей у Герцена — великое множество. И читатель может войти в эту бесконечно талантливую галерею словесных чудес, вновь насладившись «Былым и думами». Чего стоят желтые туфли, о которых Герцен «слышал десять раз».
Когда после поражения инсургенты добрались до Страсбурга, «оборванные, голодные и без гроша денег», чтобы обратиться к Гервегу за помощью, «Эмма даже не допустила их до него — в то время как он жил в богатом отеле… „и носил желтые сафьяновые туфли“. Почему они именно это считали признаком роскоши — не знаю», — заключал Герцен.
Герцен старался по мере сил быть объективным. Ведь на дворе — только 1848 год. Гервег после поражения готов образумиться, переродиться, отринуть «положение поэта своей жены» и бежавшего с поля диктатора; он должен непременно понять, «что прежняя садовая дорожка к славе засыпана…». Гервег шел ко дну. И Герцен подал ему руку: «Мне казалось — и вот где худшая ошибка моя, — что мелкая сторона его характера переработается. Мне казалось, что я могу ему помочь в этом — больше, чем кто-нибудь».
Вот такой человек, которого впоследствии Герцен старался по мере сил, хотя бы в период их влюбленной дружбы, представить беспристрастно, вторгся в их супружескую жизнь. Но тогда все было по-иному.
У Натальи Александровны еще в России, как помнит читатель, начинается ломка и перестройка прежних убеждений. Накануне отъезда на Запад она не может не признаться себе: «У меня поколебалась вера в Александра — не в него, а в нераздельность наших существований, но это прошло, как болезнь, и не возвратится более. Теперь я не за многое поручусь в будущем, но поручусь за то, что это отношение останется цело, сколько бы ни пришлось ему выдержать толчков. Могут быть увлечения, страсть, но наша любовь во всем этом останется невредима».
Наталья Александровна, как всегда, — верная спутница своего мужа. Им дано вместе пережить воодушевление итальянского пробуждения и «медовый месяц» Французской республики. Но что-то в ней надорвалось. Сомнения в «выученных добродетелях» все чаще посещают ее, особенно при чтении утверждающих ее в этих сомнениях романов Жорж Санд, ставшей ее «путеводительницей». В своих представлениях об эмансипации и свободной любви Наталья Александровна продвинулась так далеко, что участь свободной женщины не отвергает и для собственной дочери.
Впереди новые, драматические, взрослые перемены в ее судьбе.
Возраст такой пришел, романтизм отлетел, подумает Наталья Александровна, но тонкий психолог Анненков не согласится. Он увидит ее в Париже такой же «поэтической мечтательницей», ознакомившейся с жизнью по романтизму «в том виде, как он существовал в ее фантазии». «За ним она и погналась со страстью и неутомимостью искателя волшебных кладов, надеясь когда-нибудь напасть на его след и вкусить от той испробованной немногими смертными амврозии возвышенных чувств…»
Так ли это?
Декорация Парижа выстраивалась для начала драмы.
Занавес, как известно, приоткрывают сами ее участники. Среди персонажей — четверо исторических лиц, и каждый в сиюминутных монологах, диалогах, то есть в письмах, дневниках, записках ведет свою партию. Необходимо выслушать не только Герцена как автора «Былого и дум», но и противную сторону — Георга Гервега. Наталья Александровна раскроется в тайных монологах — эпистолярных посланиях возлюбленному и в письмах мужу. Да и сам Герцен в дружеской переписке с Гервегом 1849–1850 годов, занимающей основное место в эпистолярии писателя тех лет, предстанет в совершенно иной роли.
Трагедия в нескольких действиях, где на карту поставлены дружба, любовь, жизнь, имеет значительное временное протяжение (1847–1852) и не обрывается со смертью героини. Сюжет не легок. Реальная жизнь превосходит все мыслимое и немыслимое, изложенное, например, в художественных сочинениях, где случается смерть героини с неизменным преувеличением: умерла от любви.
Итак, Гервег возвращается в Париж после бесславного баденского похода, осмеянный, обвиненный во всех смертных грехах, и только в герценовском доме находит участие и первый дружеский прием. С того июньского дня, когда Герцен застает в своей комнате сильно изменившегося Гервега, сближение их семей происходит молниеносно.
Герцен и Натали бывают у Эммы и Георга, просиживают с ними до полуночи в любимом кафе Тортони — кажется, празднуются именины Таты и Натальи Александровны; отправляются компанией на загородные прогулки. Посещение политических собраний и «красных клубов» — это привилегия мужчин. Запад узнаёт Герцена и признаёт его как «самый высоко стоящий талант».
От П. В. Анненкова, буквально следующего тенью за своими русскими друзьями, даже когда он вдали от них, не ускользнет ни единая черточка из нового, европейского статуса Герцена. Его таланты он давно оценил, еще в России. Теперь не приходится удивляться столь быстрому его вхождению в европейскую элиту: «Он [Герцен[очень скоро сделался, как и Бакунин] из зрителя и галереи участником и солистом в парижских демократических и социальных хорах; под электрическим действием всех возбуждающих элементов города живая природа Г[ерцена] мгновенно пустила в сторону ростки необычайной силы и роскоши… <…> Многосторонняя образованность Пер-цена] начинала служить ему всю ту службу, к какой была способна, — он понимал источники идей лучше тех, которые их провозглашали… Он начинал удивлять людей, и немного прошло времени с его приезда, как около него стал образовываться круг более чем поклонников, а, так сказать, любовников его, со всеми признаками страстной привязанности. В числе последних находился и известный эмигрант, поэт Г[ерве]г…»
Герцен, как, впрочем, и Гервег, не обделен искусством обольщения. Нравиться — вполне естественное желание, оно в природе человека. И нетрудно проследить, как в период «свободной дружбы» (так она названа Герценом) они завоевывают друг друга. С ноября — декабря 1848 года новые друзья неразлучны, видятся почти каждый день. Летят к Гервегам записки. Герцен призывает их прийти в новый дом, нанятый на краю Елисейских Полей. Общие прогулки, посещения театров вчетвером. Но главное — творческие вопросы…
Двенадцатого мая 1849 года Наталья Александровна пишет в Россию: «С Эммой и Геор[гом] видимся часто, мы сжились и свыклись с ними как нельзя больше, свободные и широкие натуры, с ними раздолье».
С 22 июня до 9 июля Натали и Георг, после поспешного отъезда Герцена в Швейцарию, можно сказать, остаются в Париже одни. Эмма, несмотря на расточаемые ей комплименты, кажется, не в счет. Герцен еще уверен в Гервеге (доверяет ему свои рукописи, ведение частных дел), но торопит замешкавшуюся Натали поскорее приехать в Женеву. Его письма жене полны любви, заботы о детях и нетерпеливого ожидания встречи.
Не забывает Герцен сообщить и об удобствах жизни в шикарном «Hôtel des Bergues» и, потакая эпикурейским склонностям Гервега, которого непременно ждет в Женеву, спросить своего неизменного сотрапезника: «Знает ли Гервег assmanshauser’ское вино?» Кстати заметим, что вино занимает не последнее место в их гастрономических пристрастиях, особенно в Париже, с его невероятными возможностями для поклонников Бахуса. Однажды, сильно выпив, Герцен внезапно оставляет Гервега в кафе, а потом весело кается, что никогда больше не дотронется до бургундского. Наталья Александровна пишет подруге в Москву как о вполне обыденной ситуации: Герцен забегал на минуту домой, чтобы выпить коньяку. Гервег приводит слова Гёте в письме Александру Ивановичу: «Я мог бы быть гораздо счастливее, если бы не было вина и женских слез». И в конце добавляет: «А, все-таки, я хотел бы сегодня напиться с вами».
Сближение Натали и Гервега уже чувствуется во время их общей поездки из Парижа. Выдают комплиментарные письма Натальи Александровны Эмме, где отраженным светом проходят легко улавливаемые чувства нагрянувшего счастья; и теперь слова Натали о «богатой натуре» Гервега и прочем подобном, произносимые ею с «радостным возбуждением», ничего не могут скрыть.
Глава 8
КРУШЕНИЯ И ОБРЕТЕНИЯ
Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь…
А. И. Герцен. С того берега
Незадолго до отъезда Анненкова в Россию летом 1848-го Герцен прогуливался по Парижу с всезнающим приятелем, столь скрасившим ему европейское житье. Их разговор был не легок. Анненков опасался, что Герцена ждет раскаяние, если он не возвратится домой. Мысли об эмиграции уже не раз обсуждались им с Огаревым, еще в России, но пока для себя Герцен не видел такой возможности. До поры не было и тени подозрений, что за ним пристально следят.
После Июньских дней стало ясно, что пути назад для него уже отрезаны. Он должен остаться, чтобы действовать, хотя стремления и желания еще смутны. Но вот перспектива вольного слова, без цензуры и без цензоров, невольно мерещится… Какой подарок всем, кто пострадал в России «от красных чернил», кто не выпустил свой выстраданный журнал, кто так и не мог сказать свое слово вслух.
Не раскается ли он, если останется? — задает свой вопрос Анненков. Герцен уверен, что если и раскается, — причина одна. Повторит ее в «Былом и думах»: «…не взял ружье, когда… его подавал работник за баррикадой на Place Maubert».
С тех пор прошел год, и какой год — «педагогический». Рубеж, когда многое можно осмыслить и подвести без иллюзий некий итог, — 13 июня 1849-го.
Теперь он в мирной Швейцарии, «этой старинной гавани гонимых», принявшей и радушно встретившей его. Сам президент женевского кантона Джеймс Фази избавил Герцена от необходимых формальностей: взял на себя всю ответственность и закрыл глаза на неувязки в идентификации личности пришельца с его подозрительными бумагами. Восторженное отношение к швейцарскому лидеру вскоре должно померкнуть, уж слишком не сходятся их жизненные, идеологические позиции.
Но пора Герцену осмотреться и принять наболевшие решения. На первых порах Швейцария подкупает его своей «демократической простотой». Вот и пример, где на практике можно «посмотреть, что такое республика…». Да и «нравы здесь приготовлены в тысячу раз больше к свободе, нежели во Франции…» — напишет он жене сразу же по приезде.
Герцен восхищен и своим спасительным, комфортным пристанищем на правом берегу Роны возле островка Руссо, в самом центре Женевы, и ослеплен природой Гельвеции. Тени Руссо, Байрона и Карамзина опять, как и в юности, его непременные спутники. Кажется, все сосредоточилось на берегах прекрасного голубого Лемана — кто их только не облюбовывал.
Однако будущее охладит чрезмерность его восторженных оценок свободной Швейцарии: стоит получить письмо о «гнусной» полицейской мере — исключении его шестилетнего сына Коли из цюрихской школы глухонемых. Этот факт репрессивных мер против отца, перенесенных на малолетнего ребенка, достоин публичного порицания, и Герцен спешит рассказать о нем Тургеневу и оповестить читателей анонимной заметкой в газете «Voix du Peuple».
В Женеве 1849 года — «вавилонское столпотворение» эмигрантов, «любовников революции», как называет Герцен некоторых из них. Немецкие «делатели переворотов», «французские красные горцы» (представители «Горы», группы мелкобуржуазных демократов в Учредительном собрании, выражавших свое сочувствие рабочему классу. — И. Ж.), итальянские изгнанники вызывают в нем противоречивые чувства. Их вера, что поражение не продолжительно, а удачи врагов не долговременны, подпитывалась в них «хмелем недавних успехов», а между тем контрреволюция в Европе торжествовала. И умнейшим из вынужденных беглецов было ясно, «что эта эмиграция не минутна». Теперь, находясь бок о бок с этой разноплеменной толпой, Герцен окончательно уверился, что «все эмиграции, отрезанные от живой среды», «предпринимаемые не с определенной целью, а вытесняемые победой противной партии, замыкают развитие и утягивают людей из живой действительности в призрачную…». Главное для Герцена — окончательно определить цель европейского пребывания и не оказаться в фантастическом плену несбыточных надежд.
В разноязычной, пестрой среде Герцену встретились люди замечательные, уже привлекшие внимание своих стран огромными заслугами перед ними. Следовало наладить деловые контакты. Итальянец Джузеппе Маццини — глава подпольной организации «Молодая Россия», разгромленной в 1830-х годах, много сделавший для объединения своей страны, был в числе новых знакомых Александра Ивановича. Его внимание к этой «великой, святой личности и огненной натуре» было привлечено еще в России. В разбуженной Италии 1848–1849 годов, куда вновь призвала родина бесстрашного борца, им встретиться не удалось. После падения Римской республики во главе с триумвиратом (Дж. Маццини, А. Саффи, К. Армеллини) Маццини вновь оказался на положении эмигранта. Здесь, в Швейцарии, они и увиделись впервые в конце августа (по другим сведениям, в сентябре) 1849-го. Сам Маццини пожелал познакомиться с видным русским деятелем. Дружеский обмен мнениями дал надежды на продолжение политического сотрудничества: Герцену предложено участвовать в газете «Italia del Popolo». (В дальнейшем тесные контакты, не исключающие резкую полемику оппонентов, будут продолжены.)
В доме Маццини в Паки, в пригороде Женевы, Герцен встретил и других легендарных итальянских изгнанников — Аурелио Саффи — товарища Маццини по триумвирату и предводителя римских легионеров, сподвижника Гарибальди — Джакомо Медичи.
В числе новых знакомых Герцена оказался и молодой литератор, «деликатнейший в мире человек», Фридрих Капп, помогавший Герцену в переписывании и переводе на немецкий его русских статей, вошедших затем в книгу «С того берега». Старшие приятели-компатриоты Каппа — известные деятели баденского восстания — Густав Струве и Карл Петер Гейнцен, вызвали не столь одобрительное отношение Герцена. Он полон иронии, услышав от Струве о «водворении какой-то новой демократической и революционной религии», и расценивает «как вредный вздор» «филантропическую программу» Гейнцена, «этого Собакевича революции». Их портреты, как всегда у Герцена, ювелирно отточенные, с красочными дефинициями, останутся в его мемуарах.
На примере поведения представителей эмиграции разных национальностей Герцен делает выводы, сравнивая народы, их повадки, нравы и воспитание, выявляя противоположность традиций двух европейских «пород», обозначенных им как англо-германская и франко-романская. Предпочтение он отдает второй, менее грубой породе («с этим делать нечего, это ее физиологический признак») и заключает пессимистически: «…сколько хочешь грузи амнистий и разглагольствований о братстве народов, моста долго еще не составишь».
Собирается целая когорта деятелей унесшейся революции, готовых объединиться вокруг новой демократической газеты, которую затевает Прудон при непременном литературном, а главное, финансовом пособничестве Герцена. («Издание журналов было тогда повальной болезнью», они возникали и тут же исчезали, и кто только не обращался к кошельку Герцена.) Программа «Voix du Peuple» Герцену ближе, он вносит 24 тысячи франков залога и четко оговаривает с Прудоном условия соглашения: право независимого участия, редактирования и возвращения ссуды в случае запрещения издания. (В числе ходатаев за демократическую газету — польский демократ Карл Эдмон Хоецкий, немало способствовавший вместе с Сазоновым финансовому вкладу Герцена.)
Герцен всегда очень осторожен и аккуратен в подобных вопросах, тем более что дело идет к секвестру его российской собственности. Он давно уже сформулировал для себя свое финансовое кредо, не имея «ни жажды стяжания, ни любви к безумной роскоши», и в очередном письме душеприказчику Ключареву сводил расходование средств к трем назначениям: 1) известный достаток в жизни с семьей; 2) средства на воспитание и образование детей; 3) «доставление возможности не отказывать в иных случаях приятелям и знакомым». И, действительно, порой был щедр в отношении оскудевшей эмиграции. Его дом был открыт, и в Париже обычно накрывали стол на двадцать кувертов. Да и тут Герцен как в воду смотрел: в его доме вскоре, во всех смыслах, обоснуется новый требовательный приятель.
Высочайшие приказы возвратиться следуют один за другим. Видно и по письмам друзей, как сильно накаляется атмосфера в России после краха европейских революций. С посредником, выезжающим на Запад, Грановский передает Герцену письмо, которое летом 1849-го уже невозможно послать по почте: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами… Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. <…> Благо Белинскому, умершему вовремя… Вопрос об эмансипации отставлен…»
Герцену не дано узнать, что заседающая в Петербурге Следственная комиссия допрашивает арестованных членов общества Петрашевского и ставит в вину им, в частности, чтение на их журфиксах письма Белинского Гоголю и его давней статьи «Москва и Петербург». Ф. М. Достоевский, привлеченный по «делу», дает показания, что «легкая фельетонная статья, в которой много остроумия, хотя и бездна парадоксов», рассматривалась на собраниях лишь с литературной точки зрения.
Уход на «другой берег», во всех смыслах, станет идейным, идеологическим решением Герцена, сопровождаемым мучительным поиском новых путей жизни и борьбы «за рубежом революции», и физическим перемещением, состоящим в поиске нового места жительства.
Обосновавшись «по ту сторону берега», который постепенно становился своим, приняв участие во многих европейских событиях грозовых лет, Герцен с полным правом может о них размышлять, анализировать в новом цикле лирических очерков, составивших первую печатную книгу на Западе, включившую многое из прежде написанного и не раз концептуально переработанного. «Моя логическая исповедь, история недуга… осталась в ряде статей, составивших „С того берега“», — скажет он.
Из наблюдений, разбора событий предшествующих лет — блестящих публицистических эссе, написанных в пору высокого воодушевления перед наступающей грозой и в моменты глубокого душевного разлада, «плача по революции», составится книга «С того берега» (1847–1851).
В письме П. Ж. Прудону от 27 августа 1849 года Герцен объяснит конкретнее свой замысел: «Я печатаю в Цюрихе на немецком языке сочинение, которое можно было бы назвать философией революций 48 г.».
«Никогда не было время лучше, для того чтоб поднять русскому голос. Разговоры мои, переведенные мною и неким Каппом, исправленные Гервегом, имели большой успех, — напишет Герцен Грановскому 27 сентября 1849 года, — они в корректурных листах ходили из рук в руки. Я прибавил большое письмо к Гервегу, все вместе, если успею, пришлю. <…> Заглавие „Vom andern Ufer“. Покажите Петру Яковлевичу [Чаадаеву], это написано об нем, он скажет: „Да, я его формировал, мой ставленник“…»
Издание на немецком языке вышло анонимно в 1850 году в издательстве Гофмана и Кампе. (Отдельные статьи печатались и ранее в западной прессе.) Первая часть, имевшая общее заглавие «Wer hat Recht?» («Кто прав?»), объединила статьи-диалоги «Перед грозой», «Vixerunt!» («Отжили!»), «Consolatio» («Утешение»). Во вторую часть с общим заглавием «23, 24, 25 июня 1848 г.» вошли главы «После грозы», «LVII год республики, единой и нераздельной». Книга завершалась отдельными статьями «An Giuseppe Mazzini» и «An Georg Herweg» (в дальнейшем адресат статьи «К Георгу Гервегу» будет устранен из названия и французский ее перевод выйдет под заголовком «La Russie»).
Три главы, объединенные заголовком-вопросом «Кто прав?», написаны в диалогической форме спора автора с его оппонентами: две первые — диалог автора и «мечтателя-идеалиста», прототипом которого был И. Галахов, один из «наших» друзей-западников. Споры и «долгие разговоры» с ним, как вспоминал Герцен в «Былом и думах», и послужили началом книги. Идеалист привержен к мнениям, общим для многих либеральных деятелей, готовивших теоретически события 1848 года. За их политическими, антимонархическими и национально-освободительными лозунгами не стояло то важное, о чем размышлял Герцен — экономический вопрос. Ему было важно высказаться после всего происшедшего в Европе, показать несостоятельность буржуазной демократии.
Третья статья заключала диалог молодой дамы и доктора-материалиста, смотрящего на мир глазами естествоиспытателя («он не учит, он учится»). Диалогическая композиция подчеркивала лишь разность, оригинальность точек зрения спорящих, высказанных талантливо, независимо и не претендующих на окончательную истину, хотя в парадоксальности взглядов автора и в сознательной непоследовательности его оппонентов не всегда легко уловить, какие именно мысли доверяет Герцен своим героям и на чьей стороне быть ему предпочтительнее. Заметим, что в зависимости от политической конъюнктуры в научной литературе XX века менялись предпочтения исследователей темы в оценках взглядов Герцена: насколько, например, прав Герцен, отказываясь от надежд на европейское либеральное движение или же оценивая социальные перспективы России, в частности, крестьянскую общину.
В статье «La Russie», обращенной к западному читателю, Герцен впервые поставил задачу «знакомить Европу с Русью». Его цель: рассеять недоброжелательные предубеждения, представить Россию народную, ее историю, отождествляемую в отдельных западноевропейских кругах с историей самодержавия. Это убеждение в важности Дела даст Герцену возможность, наряду с первоначальным замыслом о создании Вольной печати, подготовить платформу для работы на Западе.
Особое внимание он обратит на два сочинения о России: маркиза де Кюстина, прежде знакомую ему книгу «Россия в 1839 году» («Russie en 1839», 1843) и барона Гакстгаузена «Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России» («Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands». Т. I, 1847). Еще в Москве, встретившись с бароном Гакстгаузеном, Герцен ознакомится с его теорией русской крестьянской общины, но в тот исторический момент она не покажется ему слишком злободневной. Теперь, после проигранных революций, проклиная «год крови и безумия», в поисках путей мирного общественного преобразования России, минуя капитализм и все, связанные с ним катастрофические явления, Герцен заострит свое внимание на патриархальной сельской общине — «животворящем принципе русского народа», — с помощью которой его родине обеспечен путь к социалистическому переустройству.
Воспитанный на диалектике Гегеля, Герцен напишет о процессе постоянного движения, «вечной игры жизни», ее неотвратимых перемен, где «старческое варварство» поколений заменится «дикой, свежей мощью» юных народов и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.
«Основной тон его мы можем понять теперь, — скажет Герцен в своей выстраданной книге. — Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией…»
Размышления о поражении идей утопического социализма в качестве революционной теории периода классовых сражений 1848 года заставили Герцена искать почву, которая была бы благоприятнее для восприятия и развития социалистических начал. И ее он увидел в крестьянском мире.
Вера в творческие силы крестьянства, однако, никак не подтвердила жизненность герценовской народнической теории. Об этом, вкупе с разбором социальных утопических доктрин и оценкой Герценом социализма и коммунизма, дореволюционные и советские исследователи писали много и подробно[101]. Высказывания классиков марксизма-ленинизма у многих читателей, вероятно, на слуху. Понятно, отошедшая литература по этим вопросам — бескрайняя, и в дальнейшем мы лишь вкратце коснемся историографии наиболее злободневных из них, некогда волновавших Герцена.
Немецкое издание «С того берега» представляло своеобразный ответ на события 13 июня 1849 года, последнюю, вялую попытку потребовать от правительства исполнения конституции. В «Былом и думах» Герцен вспомнит о своих настроениях той поры, когда «наскучив бесплодными спорами», он «схватился за перо и сам в себе, с каким-то внутренним озлоблением убивал прежние упования и надежды».
Несомненно, границы книги, поведавшей о сомнениях и разочарованиях автора и подвергшей критике обветшалые воззрения времени, будут намного шире. В нее будут добавляться все новые главы, отличающиеся рядом проницательных прогнозов на будущее, состав будет пересматриваться, текст и композиция меняться, и первое русское издание выйдет в свет в 1855 году с посвящением «Сыну моему Александру» (1 января 1855 года) и с введением — обращением к русским друзьям: «Прощайте!» (1 марта 1849 года). Причем в первой, немецкой редакции пессимистические настроения автора в отношении перспектив и возможностей народов выразятся резче, чем в русском издании.
Состав книги в окончательном русском варианте (2-е издание — в 1858 году) будет выглядеть следующим образом.
Первые три главы книги «С того берега»: I. «Перед грозой» (с датой 31 декабря 1847 года), II. «После грозы», (с датой 24 июля 1848 года), III. «LVII год республики, единой и нераздельной» (с датой 1 октября 1848 года) соответствуют двум этапам развития политических событий, увиденных глазами Герцена, уже во многом известных и пережитых читателем. Кроме того, в книгу войдут статьи «Эпилог 1849» (с датой 21 декабря 1849 года), «Omnia mea mecum porto» («Все мое ношу с собой») (с датой 3 апреля 1850 года) и «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский» (с датой 18 марта 1850 года).
В книге Герцен проследит этическую сторону поведения человека, оказавшегося на дороге истории в переломный, трагический момент. Это будут «скрижали завета» независимой личности, его протест «против воззрения устарелого, рабского и полного лжи», исповедь свободного человека.
Герцен окончательно объявит русским друзьям, что принял решение. Он не может «переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту… пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!». И хотя он видит «неминуемую гибель Европы», и на отдых, на безопасность и какое-либо рассеяние нечего рассчитывать — «время прежних обманов, упований миновало», — он остается здесь. Препятствий, горестей, страданий в этом старом мире предостаточно, «при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах», можно и погибнуть. Тогда зачем же он остается? Герцен отвечает, и главка книги «Прощайте!», датированная 1 марта 1849 года, — это целый катехизис свободного человека:
«Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны, борьба открытая, никто не прячется. <…> Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь…
Дорого мне стоило решиться… вы знаете меня… и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет… Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:
<…>Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. <…>
В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты.
<…>В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.
У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу, человек пропадал в государстве, распускался в общине. <…> Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.
Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство. <…>
Я остаюсь здесь… для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела.
<…> Я здесь полезнее, я здесь бесценсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель».
Свое лирическое послание Герцен обратит и собственному сыну, когда тот достигнет пятнадцатилетия, надеясь увидеть в нем продолжателя своего дела, своего «ставленника». Во время празднования нового, 1855 года (когда обоснуется на берегах Темзы) Герцен публично, в присутствии друзей-эмигрантов, передаст Саше экземпляр своего труда. Он прочтет слова, адресованные лично ему: «Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю, тебе эта истина достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства. <…>
Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus[102], ставит только мост — иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его… Не останься на старом берегу… Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции.
Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести. Иди в свое время проповедовать ее к нам домой; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня».
Еще в письме М. Гессу от 3 марта 1850 года Герцен говорил о своей немецкой «брошюре»: «…я освободился от всех горестных ощущений, когда написал ее». Тогда же разъяснил смысл ее заглавия, который ввел многих в заблуждение: «…„С того берега“ означает только — за рубежом революции и ровно ничего больше». Очевидно, что в этот заголовок Герценом вкладывался более широкий смысл. В обращении к сыну, неоднократно редактируемом автором, берег революции противопоставлялся берегу реакции.
Неокончательность решений, их эволюция, подвижность мышления человека, идущего в ногу с историей, кое-где отставая, а то и предвосхищая события, — это характерно для воззрений Герцена той поры. В посвящении сыну он так и скажет: «Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека…» Но поиск этих путей во имя справедливого общественного устройства («грядущий переворот только начинается…»), ради воли для крестьян и «свободы лица» был постоянным и порой очень мучительным. Идея о «колоссальном» будущем русского народа его не оставляла.
Завершающей главой книги «С того берега», даже нарушившей хронологию, Герцен сознательно сделает статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император римский». В финале книги должны отразиться: его вера, его поиск; его желание, когда мир рушится, подвергнуть суду «наши старые заповеди»; его протест против консерваторов, его глубокое понимание, что «дряхлый мир должен возродиться в иных формах и что роль слова в его спасении огромна». («Мир спасается словом».)
Поиски верных решений приводили Герцена к неминуемым противоречиям в рассуждениях о демократии, в которой «бездна аскетического романтизма, либерального идеализма: в ней страшная мощь разрушения, но как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах».
Не стоит упрекать Герцена в некой «поверхностности», идеализации и «недопонимании» того-то и того-то, как делали исследователи и политики, взращенные на курсах исторического материализма. Герцен — активный участник, а отнюдь не безучастный наблюдатель исторического времени, предоставившего невероятный размах событий. Герцен, как один из самых смелых русских мыслителей, жил в переломный момент этой истории, фиксировал масштаб происшедшего в мире, размышляя о будущем своей страны. Выход на берег «спасения» после краха революций 1848 года виделся ему как «русский социализм», но пути достижения «другого берега», не имевшего четких контуров, представлялись, естественно, туманными. Он действительно колебался, сомневался, впадал в отчаяние, оказывался в тупике, но всегда искал выход из лабиринта. Так и осталась его книга «памятником борьбы» и сражением за истину, ради которой он «пожертвовал многим, но не отвагой знания».
Книга Герцена имела значительный отклик и в Западной Европе, и в России, где стали известны списки ее отдельных глав. 12 сентября 1848 года Некрасов писал Тургеневу: «Я плакал, читая „После грозы“ — это чертовски хватает за душу». Читатели опубликованной книги, даже весьма просвещенные, толковали ее смысл по-разному. Заложенная в ней полемика не могла не вызвать противоречивых отзывов. Цели и задачи, поставленные Герценом перед собой в Западной Европе, не были ими поняты. Даже в стане друзей не было единства. Некоторые из них были готовы упрекнуть автора в скептической проповеди общественной пассивности. Другие, как Грановский, не могли «помириться» с герценовским «воззрением на историю и на человека». В конце мая 1851 года историк отправил другу полное любви и горьких, не всегда справедливых упреков послание: «О тебе осталось исполненное любви воспоминанье не в одних нас, близких тебе. Я должен был раздать все бывшие у меня портреты твои… разным юношам. Есть негодяи, бранящие тебя, — потому — бедны умом и подлы сердцем. Книги твои (речь, в частности, о работе „С того берега“. — И. Ж.) дошли до нас. Я читал их с радостью и горьким чувством. Какой огромный талант у тебя, Герцен, какая страшная потеря для России, что ты должен был оторваться от нее и говорить чужим языком; <…> Все, что ты писал до сих пор, бесконечно умно, но оно обличает какую-то усталость, отрешено от живого движения событий. Ты стоишь одиноко. Ты, скажу без увлечения, значительный писатель, у тебя есть условия сделаться великим писателем, но то, что было в России живого и симпатичного для всех в твоем таланте, как будто исчезло на чуждой почве. Ты пишешь теперь для немногих, способных понять твою мысль и не оскорбиться ею».
Реакционная российская публицистика особенно задерживалась на вопросах герценовского атеизма. Западная демократическая печать, представившая отзывы о книге в лице сторонников Герцена (Прудон, Гесс) и противников (Р. Зольгер), обвиняла автора в чрезмерном пессимизме, так как не исключала в скором времени нового революционного подъема.
«Скрижали завета» Герцена, обращенные к его сыну Александру, как и вся книга огромного духовного наполнения, не могла не восхитить Л. Н. Толстого. Художественные достоинства «С того берега» отметил в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский. И они были не одиноки.
Для самого Александра Ивановича «С того берега» так и осталась незабываемой и любимой книгой, лирическим посланием к новому поколению в лице сына Саши.
Глава 9 «А ЭТО БУДЕТ!»
Наша жизнь еще будет хороша, еще мы будем все вместе… гармония, гармония, гармония.
Н. А. Герцен — Г. Гервегу
В начале августа 1849 года русским властям, упорно выслеживающим Герцена, постоянно отдающим команду — «возвратить», все еще «не удается установить» его местонахождение. А Герцен между тем, наслаждаясь покоем и красотой Швейцарии, зовет жену и Гервега поскорее присоединиться к нему.
События конца августа — начала сентября, когда Наталья Александровна и Гервег 10 июля добираются, наконец, до Женевы, подводят к пику страстного увлечения Натальи Александровны Гервегом. Их жизни пересеклись, и символом этой высшей, «заоблачной» любви остались в ее письмах две скрещенные линии — X и /\ — конусообразный контур горы Дан-де-Жаман («Зуб»-горы возле Монтрё), на которую все трое поднялись во время прекраснейшей из прогулок.
Вы же не будете отрицать, что многие любовные истории часто развертываются именно в декорациях горного пейзажа. Здесь, на «театре природы», они словно обретают романтическую почву. Свобода дыхания, усилия преодоления, неестественное состояние человека, словно парящего над грешным миром, порождают бездну эмоций. Открывшиеся горизонты поглощают обыденность существования. Горы раздвигают горизонты мира. Впрочем, романтизм заповедной декорации отнюдь не предвосхищает последующее развитие событий, будь то пошлая мелодрама или отчаянная трагедия.
Наталья Александровна, бросившая вызов судьбе, начала здесь свое восхождение к страсти. Страсть обрела свой тайный символ в ее посланиях Гервегу с эмблемой их духовного единения — Л — контуром горы Дан-де-Жаман.
«Вчера мы целый день взбирались на одну из гор возле Монтрё, день был удивительный, никто даже не чувствовал устали после 14-часового марша. Это чудные дни в наше время; вообще внутри Швейцарии хорошо, нигде нет газет, никто ничего не знает, горы, горы, дикая природа и чудные озера. <…>…мне начинает нравиться это существование, отрезанное от будущего, не гадающее, а берущее все, что попало: гору, невшательское винцо, хорошую погоду и остаток поэтического созерцания в самом себе».
Так думал Герцен в пору отчаянного пессимизма, несбывшихся надежд и тяжелых разочарований в революционных судьбах мира. Высланному из поверженного Парижа приходилось привыкать к своей будущей новой родине. 3 августа 1849 года он, вместе со своей любимой женой и обожаемым ими двумя другом-«близнецом» Георгом Гервегом (пока еще другом!), совершал восхождение на Дан-де-Жаман.
Наталья Александровна не уставала вспоминать об упоительных мгновениях их прогулки. Она не смогла сдержать нахлынувших чувств, когда буквально через неделю неосмотрительно признавалась в письме жене Гервега Эмме, оставшейся с детьми в Париже: «Я наслаждаюсь в последнее время таким полным благополучием, что испытываю боль от сознания, что вас нет близ меня, тем более, что знаю, как вы одиноки и как страдаете. <…> Я хочу сказать, что люблю Георга как сестру или младшего брата; его присутствие делает меня счастливой, и, следовательно, я становлюсь лучше. Я все более и более чувствую себя вознесенной над грязными волнами жизни, и расту, и жизнь вырастает со мною, все ничтожное делается еще ничтожней, так, что его даже перестаешь замечать». В следующем письме от 20 августа, через 17 дней после незабываемого горного вознесения, с радостным возбуждением она сообщала Эмме: «О, как мне порой хотелось бы вырваться из этой паутины и улететь далеко, далеко с Гервегом! Не навсегда (не пугайтесь!) — нет, лишь настолько, чтобы позабыть обо всем остальном, это не потребовало, стало быть, много времени. И затем я снова спустилась бы домой, в лоно своей семьи. О, после подобного взлета я была бы в тысячу раз способней к роли настоящей матери и проч… Почему говорю я „улететь с Гервегом?“ — потому, что он нуждается в этом, я думаю, больше, нежели кто-либо другой».
Тут уж не могли помочь ни уверения в любви и симпатии к новой подруге, ни сочувствие «к этому благороднейшему существу», похожему «на свежую ключевую воду». Эмма затаила ревность и вкравшиеся сомнения по поводу настроений своего любвеобильного мужа еще со времени его отъезда с Натальей Александровной из Парижа в Женеву. Но в недалеком июле она не представляла всего размаха будущей драмы.
Через месяц после восхождения на Дан-де-Жаман, в конце августа — начале сентября помянутого 1849 года, путешествие было повторено в мужской компании, и не без удовольствия. Герцен отправился в Церматт вместе с другом Гервегом. Поднялись на Монте-Розу, одну из самых высоких здесь гор. Позже, в «Былом и думах», «разговорившись о горах и вершинах», уверяя себя: «Как же лучше и кончить главу о Швейцарии, как не на высоте семи тысяч футов?» — Герцен не удержался. Передавая трудности «долгого поднимания», при самом добром и подробном описании горных жителей, он отвел своему спутнику роль анонима — «товарища, ехавшего» с ним в Церматт, а глава XXXVIII из пятой части его мемуаров (в «Полярной звезде» 1858 года), пусть с оговорками, все же логически завершилась ожидаемыми словами: «Каким натянутым ритором сочли бы меня, если б я заключил эту картину Монте-Розы, сказавши, что середь этой белизны, свежести и тишины, из двух путников, потерянных на этой выси, считавших друг друга близкими друзьями, один обдумывал черную измену?..»
А в это время, то есть реальное время действия, в отсутствие неразлучных друзей, Наталья Александровна, вынужденная остаться с детьми, предалась восторженным признаниям. На нескольких страницах записной книжки Гервега, подаренной ему женой, среди записей владельца заметен тонкий изящный почерк.
«Со вчерашнего дня все во мне проникнуто грустью, — начала свою исповедь Наталья Александровна. — Отчего же? — Знаешь ли ты меня?
Я кстати осталась одна.
Хватаюсь за эту книжку как за единственное средство спасения… Словно руку твою, прижимаю ее к своей груди…
Можно ли мне прочесть ее?.. Да, да, да, несмотря ни на что — ты мой!
И нет ничего, кроме тебя».
Четвертого сентября Герцен и Гервег вернулись из горного похода, и Наталья Александровна спешила обрадовать Эмму: «Они возвратились… <…> — обожженные солнцем, веселые и довольные, как дети, оба — милы до крайности. Право же, я иногда думаю, что общество и любовь этих двух людей могут превратить меня в совершенное существо».
Ей хотелось «жить, жить своею жизнью». Ей хотелось новых эмоций, той волшебной влюбленности, которая освещает существование человека юным, необъяснимым светом, приводит его в состояние почти безумия, заряжает невиданной дотоле энергией, заставляет совершать самые необъяснимые поступки. Быть как не все. Чувствовать свою избранность. Прибавьте к этому неудовлетворенность окружающим, идеализм восприятия и вовсе не угасший романтизм экзальтированной женщины, воспитанной на романах великой Санд, где трио в семейных сплетениях было вполне обычным и отнюдь не зазорным явлением.
Она мечтала любить страстно и безраздельно. В своей душе она взращивала эту любовь. Семейный покой после всех пронесшихся бурь и спокойная, почти святая любовь к мужу, как ей казалось, оставались незыблемы. Но это привычное, взращиваемое годами чувство сопутствовало другому, неизведанному, необъяснимому.
Пять месяцев, прожитых в Женеве вблизи Гервега, стали их общей жизнью, «все мгновения» которой стали их общими мгновениями.
«Как желала бы я разбить это тело, чтобы ни от чего более не зависеть…»
«Я начинаю верить в нематериальное существование…»
«Не надобно ни революций, ни республик: мир будет спасен, если он нас поймет. Впрочем, если он и погибнет, мне это безразлично, ты всегда для меня будешь тем же, чем теперь».
В «целую вечность блаженства», в которую погрузилась Наталья Александровна (как писала она возлюбленному через год после первых страстных признаний 29 августа — 3 сентября 1849-го), в непередаваемые ощущения полета «воскресших сил» врывались порой отчаянные нотки. Но главное, случившееся в Женеве, целиком преобразило ее: «Das Gefühl deiner Nahe[103] делало меня все более и более спокойной и счастливой… Последние годы — лучшие годы… Продолжительно было испытание… Но вот и ты! И да будет благословенно все, что было, что есть, что будет, все!..»
Что же было в Женеве? Настойчивые и ласковые просьбы Герцена поскорее покинуть опостылевший Париж, где «мещанская, полная суетности и тщеславия» жизнь уже не может удовлетворять, и обосноваться в спокойном «Hôtel des Bergues», как видим, возымели свое действие.
У Натали уже готов свой план: привлечь Гервега для обучения ее детей. Сама же она выступит в роли его учителя русского языка (примеры литературной классики, где совместные занятия сближают влюбленных, у читателя на слуху). Приезд Гервега Герцену тоже до крайности важен. Они теперь связаны множеством общих дел, изданием газеты Прудона «Voix du Peuple», всяческих творческих обязательств и поручений. Да и без общества умного собеседника, советчика, сотрапезника, в конце концов, трудно обойтись в одиночестве швейцарской «ссылки».
А между тем Герцену все больше начинает нравиться «существование, отрезанное от будущего». Альпийские горы, Монблан перед глазами и, несмотря на просачивающуюся в письма тоску, природа утешает и врачует. Грех не воспользоваться ролью старожила-чичероне и не показать приезжим славную швейцарскую столицу, а потом забраться на все эти классические Сен-Бернары, Монте-Розы и Анверы. Когда здоровье позволяет, Наталья Александровна присоединяется к горным экскурсиям неразлучных друзей.
Первого октября Герцен, Натали, Саша и Гервег отправляются в Шамуни, на гору Анвер, к ледникам. Едут на мулах, по самому краю пропасти: «…один неловкий шаг — и вдребезги». Дождь как из ведра. Грязь по колено. И представьте себе Герцена, катящегося кубарем по камням вниз, «чтобы сократить себе сход», и в результате все его «тело в огромных синих пятнах». Наталья Александровна не ограничивается описанием досадных происшествий своей русской подруге Татьяне Астраковой. Она не отрывает взгляда от Георга, «ухаживающего за горной козочкой», и чтобы как-то оправдаться перед брошенной в Париже подозрительной Эммой, уверяет ее, как всегда, в своей неизменной приязни и даже любви. Георг часто скучает, а наши герои продолжают строить планы и проекты совместного проживания двух семей.
В тот же день 5 октября, между прочими событиями, Герцен сообщает Эмме о «замечательной прогулке» и не менее замечательном выборе «дождливой, леденящей» погоды, когда из-за тумана не видно не только Монблана, но и собственных рук. Будьте уверены, что живописный пассаж, с щедрым расточительством развернутый в письме в его, только одному ему присущей ироничной манере, с обязательными каламбурами, игрой слов (здесь, конечно, по-французски), цепкая, уже пожившая рядом с Герценом Эмма способна воспринять, но ей явно не до этого.
«Мизантропия Георга приобретает новую форму: из негативного чувства она превращается в позитивное. Вы, может быть, думаете, что ненависть к мужчинам толкает его на любовь к женщинам — ничуть; в сущности, что такое женщина — это человек женского рода; нет, он впадает в козолюбие и в продолжение всего нашего путешествия на гору… подождите минутку, пойду спрошу у Саши название горы, знаю только, что это не гора Фавор и не гора Арарат, куда Ной, так и не потонув, прибыл со своей коллекцией редкостных зверей, — итак, на горе Анвер наш поэт прогуливался под ручку с молоденькой козочкой. Как жаль, думает он (и я тому нисколько не удивляюсь), что эта козочка не получила хорошего воспитания и ее покойный батюшка-козел не был букинистом, а то ее можно было бы попросить взять на себя иностранную корреспонденцию для „Голоса народов“ и коз. Кстати, он чертовски сиплый этот голос» (Герцен не удерживается от критики спонсируемой им газеты Прудона).
Однако главное заключается в том, что во время спуска в Шамуни карета опрокинулась, и «если у нас уцелели руки, ноги, носы и глаза, — весело замечает Герцен, — то тут уж вина не наша». Наташа с напускным весельем, в унисон мужу и как бы между прочим, в своем письме Эмме добавляет: «…мы все покрыты татуировкой, а у меня на лбу многоцветная шишка». Похоже, Наталья Александровна пострадала не меньше, а то и больше других, что потом аукнется на ее слабом здоровье.
В конце октября, всячески успокаивая взволнованную Эмму, которую совершенно игнорирует Гервег, притом что в их семье, помимо шестилетнего Гораса, именно в этот роковой 1849 год появилась, где-то к осени, чудная девочка Ада — «совершенство красоты и непринужденности», Наталья Александровна посылает в Париж умиротворяющие письма. «Одно лишь утешает меня при виде твоей печали, что ты, надеюсь, скоро увидишь Георга. Как ни огорчительна для меня мысль, что его не будет больше с нами, — сознание, что ты счастлива, всегда будет служить мне утешением. И потом, я надеюсь, что вскоре мы все соберемся вместе».
«Что же касается наших весенних путешествий, — далее замечает Наталья Александровна, — то ты будешь более подвижна, чем я, — моя недостаточная подвижность (курсив мой. — И. Ж.) будет полезна и для русской пропаганды, и для Таты, которая постоянно просит меня родить ей маленькую Аду». В эйфории страсти к Гервегу она не удерживается даже в письмах его жене: «Я хотела бы жить вечно, как бы невыносима ни была моя жизнь, я перенесла бы все и любила бы жизнь за возможность любить».
Возвращение в Париж, понятно, откладывалось, и не только из-за трудностей с визированием паспортов и привычных недомоганий Натали, — как в стиле советского пуританизма (когда секса не было) комментировалась сложившаяся ситуация в упомянутом обзоре ее писем Гервегу (в «Литературном наследстве»). Да и планы на будущее представлялись теперь весьма туманными. Наталья Александровна была беременна, и в октябре это для нее стало очевидным.
«Шаткая непрочность всего состояния, жизни», «это точно начало преставленья света» давали Герцену почву для тяжелых раздумий даже в письмах далеким московским друзьям: «Искать твердости в себе, удаляться — так, как делали первые христиане, — от людей, от домов… толпы едут в Америку, но они ошибутся, надобно, сидя на том же месте, уехать ото всего, а уж в Америке ли или на Плющихе — это, право, все равно».
В это же время, говоря о пребывании в Женеве (ровно пять месяцев!), Натали в своей восторженной манере писала в Москву, на Плющиху, подруге Астраковой: «Всё и все мне кажутся хуже того, что у меня дома. <…> Александр — что это за юная, свежая натура, светлый взгляд, светлое слово, живая жизнь… с ним держишься на такой вышине… в такой ширине… Потом с нами живет здесь Георг — изящнее, поэтичнее я не знаю натуры, и все мы так сжились, так спелись — я не могу себе представить существованья гармоничнее». Представление о «гармонии и счастье» соединившихся семей остается ее idée fixe.
Судя по переписке, в конце ноября Наталья Александровна еще больна. К середине декабря Натали уже справилась со своим нездоровьем после трагического происшествия, которое, возможно, усугубилось падением в Шамуни. Э. Карр в своей книге прямо утверждает, что в ноябре у нее случился выкидыш. Впоследствии, при скандальном разрыве с Герценом, Гервег позволит себе утверждать, что ребенок его. Не стоит гадать. В сущности, решение этого щекотливого вопроса так и осталось привилегией Натали. Конечно, Герцен не мог не догадываться, что отношения его жены с Гервегом зашли слишком далеко. Но пока он медлит, возможно, ни минуты не сомневается в своем, увы, несостоявшемся отцовстве. В письмах от октября — декабря все случившееся с Натали задернуто плотной завесой тайны и обнаруживается лишь намеками на нездоровье, что, впрочем, тоже не доказательство, ибо Наталья Александровна постоянно болеет.
Где-то в начале декабря, не дождавшись завизированного паспорта в Париж, Гервег внезапно уезжает в Берн. Почему? Не знаем. Возможно, избегает выяснения отношений. Возможно, огорчен всем происшедшим, подразумевая свою ответственность и причастность, возможно, хочет быть неподалеку от Натали. А может быть, просто имеет собственные планы наличную жизнь (впрямую — адюльтер), от которой он никогда не отказывался. Существуют предположения, ничем не подтвержденные, что особенно интересуется он теперь мадам д’Агу, с которой переписка не прерывается. Правда, свои страсти и романы Гервег не склонен доверять бумаге, хотя адюльтер, как он полагает, — необходимая грань счастливой творческой жизни поэта (и, действительно, классических примеров тому предостаточно).
Герценам вскоре предстоит переезд в недалекий Цюрих, чтобы определить в специальное училище для глухонемых их младшего сына Колю. 17 декабря они отправляются из Женевы и в тот же день заезжают к Гервегу. Два вечера, проведенные вместе, оставляют у Гервега чувство глубокого «проникновения душ» между ними троими, о чем он не перестанет вспоминать в письмах Александру.
Двадцать второго декабря Герцен вынужден уехать в Париж для устройства финансовых дел. Накануне, и судя по всему, в немалом смятении, Герцен беседует с женой о Гервеге. Натали, как всегда, в тайном послании, передающем ее душевную раздвоенность, пишет Гервегу: «Мы с Александром долго говорили о вас… а для меня всегда один результат: оба вы правы! Он тоже умеет любить, много любить по-своему!»
На следующий день она уже нетерпеливо призывает «соседа, ученика, друга» (эти слова написаны по-русски) приехать их навестить: «Как грустно быть так рассеянными по свету… Похороним же, по крайней мере, вместе, вдвоем, 1849 год, присутствуя при появлении 1850-го, это принесет пользу новорожденному. Бесполезно говорить, как я была бы счастлива, если б это осуществилось, однако я буду мучиться при виде тех лишений, которые вам придется здесь перенести… Не забудьте сообщить мне все новые проекты, которые Александр составит на пути из Цюриха в Берн… Расцелуйте за меня своего двойника».
Идея «двойника», «близнецов» Ландри и Сильвине, позаимствованная Натали из только что вышедшего романа обожествляемой ею Жорж Санд «Маленькая Фадетта», отныне даст простор для строительства новой жизни и ее теоретических оправданий. В поисках гармонии, откинув обветшалые представления о морали, браке и семье, фантазия Натали уже рисует контуры будущего «Гнезда близнецов». Понятно, что поэтичнейший, женственный Сильвине и полный мужественных сил Ландри, оба влюбленные в Фадетту, отождествляются Фадеттой-Натали с ее реальными спутниками.
Наталья Александровна давно готова принять подобную свободу для троих и превратиться в «совершенное существо», лишь бы пронести сквозь испытания «живую душу». Кажется, ей по нутру совершенно чуждые Герцену софизмы Гервега о «высших натурах», которым дозволено все.
Двадцать третьего декабря, заехав к Гервегу по пути в Париж, Герцен застает его за чтением корректурных листов немецкого издания «С того берега». Произнесены слова восхищения новым, несравненным сочинением Герцена; при расставании продемонстрированы знаки самой восторженной дружбы: «Сколько раз мы обнялись и расцеловались при прощании, а ведь ты вообще не отличаешься большою нежностью, особенно с мужчинами!»
Вечером Герцен с матерью уезжают из Берна, и Гервег провожает их со слезами на глазах. Герцен советует ему ехать в Цюрих. Психологически не объяснимо, почему вдруг Цюрих… Там ведь оставалась с детьми Наталья Александровна. (Впоследствии, в письме Герцену, Гервег так истолкует это предложение: «Ты понял одиночество, в котором я жил в Берне. Ты тогда пригласил меня в Цюрих».)
Через пять лет после бернского свидания, в «Былом и думах» Герцен зафиксирует момент своего прозрения, пронзившей его истины, вдруг открывшейся ему одним словом — «не-счастие»: «Это чуть ли не была последняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека…»
В тот же декабрьский день Натали, оставшись одна в Цюрихе, продолжит вести свой монолог откровений в письме Гервегу: «Наша жизнь еще будет хороша, еще мы будем все вместе… гармония, гармония, гармония. Это будет!»
Глава 10
«СПАСТИСЬ ОТ САМИХ СЕБЯ…»
…Я чувствую непреодолимое влечение (может быть, это умопомешательство) подвергать испытанию последние узы, благодаря которым мы еще дорожим жизнью. В мыслях у меня хаос, всё в брожении, распадаются последние основы, рушатся последние прибежища.
А. И. Герцен — Г. Гервегу
По пути из Берна в Париж Герцен пребывает в состоянии крайнего раздражения. Дорога трудна, и мысли холодны. Что выйдет из всего этого?
В переписке Герцена и Гервега конца 1849-го — самого начала 1850 года еще не чувствуется слома тесных дружеских отношений, хотя в письме 1852 года Герцен заявляет, что более ясно он начал высказывать свои «подозрения» уже в декабре 1849-го.
Почему тогда он советовал Гервегу посетить Цюрих?..
Да и сам ехал в Париж прямехонько на rue de Cirque, чтобы остановиться на квартире почти брошенной Эммы, и с весьма двусмысленной миссией.
В первую очередь Герцена угнетала неясная перспектива с устройством финансовых дел, в частности, капиталов его матери, на которые русское правительство наложило свою «медвежью лапу». Это требовало его немедленного присутствия во французской столице у банкира Джемса Ротшильда. Деньги, деньги, билеты, векселя… Их необходимо спасти. У него всегда было четкое понимание их роли: «Деньги — независимость, сила, оружие». Особенно при подготовке к издательской деятельности. А тактике обращения с этим оружием Герцена обучал всемогущий банкир.
Парижское знакомство с Ротшильдом в конце мая 1848 года, его бесценные советы и могучий опыт посредничества предоставили Герцену надежный форпост для дальнейшего сражения за собственность с самим российским самодержцем.
Долгая тяжба с русским правительством в середине июня 1850 года была доведена до конца: «Император Джемс Ротшильд» умело сразился с «банкиром Николаем Романовым» и одержал победу. Потеря состояния могла бы полностью изменить политическую судьбу Герцена.
В «Былом и думах» он пояснял: «Когда я ехал из России, у меня не было никакого определенного плана, я хотел только остаться донельзя за границей. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот, прежде чем я что-нибудь сделал для спасения моего состояния. Добрые люди винили меня за то, что я замешался очертя голову в политические движения и представлял на волю божью будущность семьи, — может, оно и было не совсем осторожно; но если б, живши в Риме в 1848 году, я сидел дома и придумывал средства, как спасти свое именье в то время, как вспрянувшая Италия кипела перед моими окнами, тогда я, вероятно, не остался бы в чужих краях, а поехал бы в Петербург, снова вступил бы на службу, мог бы быть „вице-губернатором“, за „обер-прокурорским столом“ и говорил бы своему секретарю „ты“, а своему министру „ваше высокопревосходительство!“
Столько воздержности и благоразумия у меня не было, и теперь я стократно благословляю это».
Деньги потребовались Герцену и для поддержания статус-кво в шатких планах семейной гармонии вчетвером (воображаемого «гнезда близнецов»). «Если билет (матери. — И. Ж.) удастся спасти, — сообщал он Гервегу, — у нас будет больше средств (у тебя ли, у меня — я думаю, в конце концов, это одно и то же)…» Позже Герцен будет думать иначе.
По письмам Герцена последних дней уходящего 1849 года никак не следует, что в эту пору Георг и Эмма уже лишались его дружеского расположения. Напротив, записки (целых две), посылаемые Гервегу 25 декабря, прямо с дороги, искренни и полны легкого юмора. Через три дня, только добравшись до Парижа, он сразу же садится за пространное письмо обо всем на свете, предлагая Георгу перейти на ты. Тем не менее, после радушной встречи Эммы, трагически переживающей невнимание мужа не только к ней, но и к детям, он готов обозначить «демаркационную линию» их с Гервегом разногласий, упрекнуть друга-близнеца за «капризную жестокость». (Не забудем, что Эмма постоянно помогает Герцену в преодолении множества деловых затруднений, и писем с поручениями ей немало.)
Еще через три дня эта деликатная тема продолжена.
«Любить или не любить женщину, мужчину — в этом мы не вольны, — пишет Герцен Гервегу, — и я никогда не посмел бы коснуться этих океанид человеческой души. Но не позволять себе капризной жестокости, не допускать даже мысли о ней — это другое дело. У человека, который думает, что достаточно его любить, чтобы выносить его гнет, невнимание, — в сердце есть изъян; возможно, что это следствие распущенности и расслабленности характера, столкнувшееся с прямо противоположными требованиями друзей. Тут я уже не могу признать вас за человека мне симпатичного. Вы скажете, что ничего не поделаешь, что так уж вы созданы, что такова ваша натура. Ну, а я не хочу вас оставлять в заблуждении — у меня натура совершенно другая в этом отношении, здесь она просто враждебна вашей. Я ни за кем не признаю права мучить — ни из любви, ни из ненависти.
Я уверен, что вам никогда не приходилось слышать таких необузданно откровенных слов. Я человек сильный и здоровый, я не могу без чувства протеста видеть у своих друзей небрежение к ближним, граничащее с бесчеловечностью, тем более что вы подняли на высоту теории то, что должны были бы отбросить как недостойный вас элемент.
„Все это форма, я придираюсь к форме“. — Ну, конечно, вежливость тоже форма, я реалист.
Этот случай заставил меня о многом подумать. Между прочим, и о нашем будущем. Я лично могу чувствовать себя счастливым в нашем тесном кружке, только если в нем установится гармония. <…> При отношениях, сложившихся у вас с Эммой, нужно оставить всякую мечту о переезде в маленький город, в тихий уголок. Останемся в Париже. Париж мне противен, но я предлагаю остаться здесь. Это единственное средство для нас — спастись от самих себя. <…> Это голос человека, который настолько вас любит, что страдает, видя ваши недостатки».
Гервег сразу же отвечает: «Мой дорогой и добросовестный друг… предупреждаю вас, что ваше письмо вовсе не произвело на меня того действия, которого вы боялись или хотели, — не знаю, наверное. Оно вылилось прямо из вашего сердца, этого мне довольно, чтобы не сердиться на вас… Немного обиженный вначале, я потом стал улыбаться вашему учительскому тону… Говорите, что вам угодно, мой реалист: жизнь не проста, как вы думаете: в нее входит столько элементов, которых вы не принимаете во внимание в своей оценке. Демон анализа всегда толкает вас к этому, чтобы возможно скорее вывести формулу; даже дружба и любовь должны проходить через горнило вашей логики».
Рассуждая о недостатках друзей как продолжении их достоинств, о своем высоком понимании дружбы, Гервег, щедро владевший эпистолярным даром, дипломатично отставляет «это стремление все выяснить, во всем разобраться»: «…прикроем пока эти бездны жизни». «Что вы, наконец, хотите? Я стряхнул с себя на некоторое время семейную пыль, но не потому, что не любил, а потому, что это гнусное установление (брак. — И. Ж.) есть лучшее средство, чтобы убить любовь даже к самому благородному, преданному и любящему в мире существу, к такой прекрасной и крупной натуре, как Эмма».
И здесь уже мировоззренческая позиция Гервега, которую не могут смикшировать все дружеские уверения «все еще близнеца». Что же касается Герцена, он потом в письмах не раз будет пенять Гервегу, разрушавшему (увы, эфемерную!) гармонию двух семейств унижением женщины, преданной мужу «идолопоклоннически».
Гервег ответит: «Да! Я серьезно сердит на Эмму: зачем она стала между нами? В эту минуту я ее просто ненавижу, сколько люблю. Все зашаталось с тех пор, как вы виделись с нею. Вы так недовольны мной, что меня это пугает, хотя я и знаю, что нет другого человека, который понимал бы вас так, как я…»
Заглянув в мемуары Герцена, вспомним, что резкие его уколы и нелестные характеристики Эммы возобладали на страницах «Былого и дум».
Противоречия, противоречия, запутанность отношений, непростых ситуаций, возникающих резких конфликтов. И все равно, компромиссы, как вынужденность поведения. В обход главного. И впрямь, жизнь не так проста…
В эпистолярии Герцена письма Гервегу 1849–1850 годов (а их сохранилось более 130) — это ворох событий, сдержанных эмоций и легко угадываемых признаний, упреков, критических суждений, недовольств, но все равно, повторимся, пока еще близкого друга. В отсутствие Георга, особенно в первые месяцы 1850 года, Герцен пишет ему едва ли не каждые три дня. Существует даже такая договоренность между ними. Адресат отвечает столь же бурно. И тут уж трудно сказать, чья инициатива превалирует.
Иногда к Герцену, когда жизнь не разводит их, присоединяется его жена. И это вполне официальные письма и приписки Натали, менее или более сдержанные, часто с условными тайными знаками.
Письма — каждодневная летопись жизни Герцена той одинокой поры. Он имеет возможность высказаться по всем политическим, творческим и деловым вопросам, и Гервег его поймет. Правда, в словах Гервега «мы думаем одинаково» — стоит усомниться. Существует некий рубеж в степени единомыслия, о котором Герцен говорит Гервегу: «Всякий раз, когда нам с вами случалось вечера напролет проговорить о политике, договариваясь до каламбуров, мы были до такой степени единодушны, что, даже споря, каждый развивал мысль другого. И напротив, стоило нам перейти к вопросам психологическим, личным, как между нами непременно возникали столкновения. У меня всегда брали верх спокойный реализм, благожелательная гуманность, у вас — нет…»
Он может полемизировать с Гервегом о специфике российского развития («…я знаю славянскую расу лучше, чем вы… <…> Быть может, Россия так и издохнет вампиром, но она может и перейти к самому неограниченному коммунизму с той же легкостью, с какою она бросилась с Петром Великим в европеизм»), Гервегу под силу оценить несравненный юмор и «черную иронию» Герцена («Сегодня ко мне заходил Рейхель (муж Марии Каспаровны. — И. Ж.) спросить, как написать Бакунину, чтобы узнать наверняка, гильотинирован он или нет[104]. Я ему посоветовал написать: „На гильотину до востребования“ — вот до какого бездушия доводит страсть к болтовне»).
Естественно, что запутанные личные отношения — камень преткновения.
Но почему, даже в самых невероятных, сугубо личных ситуациях, несмотря ни на что, переписка продолжается?
Сохранилось только 20 весьма содержательных писем Гервега Герцену (за декабрь 1849-го — июль 1850-го). И тут они на равных. Пишут много, потому что интересны друг другу, потому что оба поглощены общими интересами, потому что судьба неожиданно сводит их в одиночестве эмиграции. И пока что свидетельства пылкой дружбы со стороны Гервега (притом что ложь угнездилась в их отношениях с Натали) не так уж неискренни, как принято считать. Даже события 1850 года, о которых предстоит рассказать, еще не переступили рубеж смертельного раздора 1851–1852 годов.
Только в письмах — здесь и сейчас — бьется пульс ежесекундной жизни действующих лиц разыгравшейся драмы. Оценивать происшедшее, подводить трагический итог «кружения сердец» — привилегия мемуаров. Если перечитаем письма Гервега, похоже, что он больше всего боялся потерять дружбу Герцена.
Четвертого января 1850 года, в который раз смиренно снося упреки Герцена в равнодушии к Эмме, он отвечает другу-близнецу: «…я люблю вас, как никого на свете». Через несколько дней, когда выяснение отношений между Натали и Герценом входят в решающую стадию и Натали должна сделать свой выбор, Гервег признается Герцену, что цепляется за него «как за последнее благо».
Такие признания в дружеской любви, или, скорее, во влюбленной дружбе, почти на каждой странице его посланий: «Боже мой, жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я встретил вас. И если я пишу вам, то иногда это имеет такой вид, как будто я пишу девушке, в которую влюблен. Я мщу за ненависть, которую питаю к человечеству вообще и в частности моим друзьям, — мужчинам и женщинам, которых я мучаю своей любовью». Подобные откровения прорываются даже сквозь ненависть завершающего акта трагедии.
Девятого января 1850 года Герцен просит Наталью Александровну «тихо, внимательно исследовать свое сердце», ибо они «слишком связаны всем былым и всею жизнью, чтоб что-нибудь не договаривать». Она ответит мужу, что чиста перед ним и перед всем светом, что в ее любви к нему ей «жилось как в божьем мире» и «выбросить ее из этого мира — куда же… надобно переродиться». «Неудовлетворенное существование, — напишет она мужу, — искало иной симпатии и нашло ее в дружбе Гервега». На его ультиматум и готовность уехать с Сашей в Америку она ответит «криком ужаса»: «…нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас — я буду укладываться, и через несколько дней я с детьми в Париже!» Жизнь без Герцена и детей для нее немыслима.
О разрыве с Гервегом пока речи нет. Переписка продолжается. После бурного выяснения отношений Герцен еще раз повторит Гервегу, что у него не хватит легкомыслия расстаться с ним. Принимаются и отвергаются всяческие решения, где начать опыт новой жизни. В Париже? Гервег решительно против. Но и будущее без Герцена — для него бессмыслица. Герцен предлагает до марта — апреля пожить «врозь», оставаясь «тем, что мы есть, — мы друзья… близнецы».
Тем временем Наталья Александровна с детьми собирается в путь. А Герцен непременно хочет, чтобы она ехала одна. Просит Гервега ее сопровождать, чтобы на полпути встретиться с ним «для более обстоятельного объяснения» — «свидание как у двух императоров в Тильзите».
Гервег уклоняется от ответа и никуда не едет. Герцен измучен, угнетен общим разладом, оскорблен. И только письмо Натали перед отъездом в Париж способно его успокоить: «Точно после бурного кораблекрушения, я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью».
Эти слова Натальи Александровны, приведенные в «Былом и думах», давали повод считать, — и это отразилось в литературе, — что она уходила от Герцена, пребывая целый месяц в Цюрихе, недалеко от Берна, где жил Гервег. Но это не так. Встречались ли они? Неизвестно. Однако их тайная переписка не прерывалась. Узнав о предстоящем отъезде Натали, Гервег пишет Герцену: «Ваша жена была последним залогом осуществления наших возвышенных планов и образования того особенного мира, который теперь так жестоко рухнул».
С ожиданием Натали «неистовый шквал» стихает, и Герцен снова готов протянуть руку Гервегу. Между ними ничего не оборвано. Придуман и приемлемый план — во имя новой, гармоничной жизни поселиться всем вместе на юге Франции.
В ночь с 25 на 26 января Натали с детьми приезжает в Париж. И хотя встреча далеко не радостна, Герцена не покидает сознание, «что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева, что их разъединить не легко».
Глава 11 «КРУЖЕНИЕ СЕРДЕЦ»
Ты внес смятение в наши жизни, от тебя, от тебя одного зависит теперь гармония.
Н. А. Герцен — Г. Гервегу
Приезд Натальи Александровны в Париж мало что меняет. Герцен чувствует неудовлетворенность Натали и постоянно берет на себя часть вины, «беспредельно любя ее». За годы супружества он постиг особенности ее характера, эти российские Grübelei, эти бесконечные разочарования во всем и во всех, развившиеся в «живую боль» и «черную печаль». Свою малую способность «радоваться, веселиться, наслаждаться» сама Наталья Александровна объясняет (в письме Наталье Тучковой 1 февраля 1849 года) «дисгармонией всего существующего», но уже призрак нового, счастливого, гармоничного бытия стоит у порога.
Слово «неудовлетворенность», «что-то оставшееся незанятым, заброшенным» постепенно заменяется словом «счастье», и оно заполняет до краев всю ее жизнь. Гервег существует. И Герцен в какой-то момент не может не почувствовать эту резкую смену настроений своей жены: «Подумай, что после того как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, Гервег взойдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я».
Теперь она в Париже, и выбор сделан. Хотя, в меньшей мере, это можно назвать ее выбором. Или просто этим словом. Герцену чудится, что она вышла «из круга какого-то черного волшебства».
И все равно первый ее порыв — к Гервегу. Едва переступив порог парижского дома, она приписывает в их с Герценом общем, «официальном» письме Георгу: «Вы поняты и любимы больше, чем предполагаете…»
Четвертого февраля 1850 года после мучительных разговоров с Герценом она пытается доказать себе и Гервегу, что любит их обоих и смертельно боится их потерять: «…ты знаешь всю мою жизнь, то есть всю мою любовь к Александру, — во мне не найдется и крупицы, в которой не было бы его… Но нашлось еще место и для тебя. Моя жизнь завершена, я смотрю спокойно на смерть и даже желала бы ее… Да… Я слишком счастлива. Не было и мгновения со времени нашей разлуки, в которое ты не был бы со мною, во мне, и так глубоко…»
И хотя Эмма явно мешает этому триединству, Наталья Александровна в своих неконтролируемых фантазиях вполне искренно пытается себя обмануть. И тогда в построении «особенного мира» и в созидании призрачной гармонии обеих семей (и все ради Гервега!) фальшивой ноты просто не избежать: «Как они прекрасны, как они велики — Александр и Эмма. А ты — это ты!!! Как сильна их любовь… Я не знала до сих пор, как я необходима Александру, малейшее подозрение убило бы его». Мужа она продолжает уверять, что отношения с Гервегом не перешли границ обыкновенной дружбы. Возлюбленного она атакует тайными посланиями. Он отвечает ей, совершенно игнорируя Эмму, которая сама приносит «официальные» письма Гервега, адресованные им с Герценом на адрес «rue de Cirque». Наталья обижается за нее, пеняет Георгу за невнимательность и пытку Эммы: «Представьте себе, что кто-нибудь, умирающий от жажды, смотрит на другого, держащего в руке стакан, полный воды… Какое впечатление произвела бы на вас эта картина?..» Что сказать, когда в картине смешаны невероятные, взаимоисключающие краски? Когда слова и поступки расходятся.
В гармонию четверых Натали то верит, то не верит. Иллюзии о совместной жизни то вспыхивают, то снова гаснут.
Гервег тем временем ведет свою партию в продолжающейся переписке с изменчивым другом. Он не только чувствует ослабление своей власти над Натали, но 3 февраля ревниво и саркастически выговаривает Герцену, называя «смешным супружеством» его отношения с женой. На следующий день спохватывается, предлагает «окончательный, вечный мир», но Герцен уже способен покарать его желчность, раздражение, открывающие дорогу для несправедливых упреков в предательстве и прочем. Герцену важно объясниться в главном, определить «предел доверия» между ними двоими.
«Не знаю почему, но твое письмо, датированное 3-м числом… я получил только вчера, — отвечает Герцен Гервегу 9 февраля. — Скверное письмо. Чтобы доказать тебе, что я действительно хочу покончить с этой перепиской-анатомированием, я отсылаю тебе твое письмо обратно; я и вовсе не хотел отвечать и ограничусь лишь краткими замечаниями.
— Да, я читал твои письма к Н[атали]. (Речь, конечно, об „официальных“ письмах. — И. Ж.)
— Да, она читала твои письма ко мне. <…>
Привычка делиться всем, что не является чужой тайной, и говорить обо всем объяснит тебе, почему так случилось. Осведомленность в твоих делах, уверенность в том, что ты питаешь полное доверие к нам обоим, располагала к подобной откровенности. Никогда бы я не сообщил Н[атали] ничего такого, чего она не должна была знать, — и в дальнейшем я по-прежнему буду показывать Н[атали] эту патологическую переписку… Когда я пишу истинному другу, я вполне ему доверяю в отношении того, как он поступит с моими письмами. Я убежден, что человек, достойный дружбы, найдет в себе довольно чуткости и такта и поймет, что можно читать, что можно показывать».
Залог доверия, считает Герцен, — их пятнадцатилетняя жизнь с Натали, прожитая в полной любви и сочувствии друг другу, омраченная лишь «мимолетными недоразумениями, что никогда, однако, не нарушало» их гармонии. И эти отношения, «по сути, всегда совершенно свободные», трактуются Гервегом «чисто по-немецки» как «смешное супружество»… Натали возмущена письмом Гервега и, по словам Герцена, «не хочет отвечать». Герцену необходимо высказаться, получить обстоятельный ответ, раз уж в этом союзе продолжающейся дружбы наступил критический момент. С нескрываемой иронией он определяет эту переписку как «взаимоистребительную», но писать не прекращает. Однако более не намерен вести «братоубийственные дебаты» с Гервегом. «…Нет, дело закончено, заседание закрыто… Я высказал все, это вреда не приносит, и это глубоко соответствует моей натуре. Говорить все до конца — моя слабость».
Совершенно ясно, что Герцен не может договорить до конца, ибо знает не всё. Он искренне считает, что кредит доверия и к Натали, и к Гервегу не может иссякнуть, а смысл этой «длинной переписки очень прост». «Прежде чем окончательно и бесповоротно решиться на совместную жизнь, мы, — наставительно, не без доли дидактики заключает Герцен, — хотели предостеречь тебя от того чуждого нам духа, которое ты вносил в большое и подлинное чувство симпатии, нас объединявшее».
«У меня нет теперь ни капли горечи, ни даже неудовольствия по отношению к вам, — признается Герцен в другом „воспитательном“ письме, — и я чисто по-дружески повторяю: единственное, что вас портит в настоящее время и убьет вас (если вы сами ее не убьете), — это ваша вялость, расслабленность вашей воли. Вы слишком избалованы и потому протестуете против всякой критики… Именно поэтому в вашем последнем письме вы пресекаете все дальнейшие разговоры, давая вместо ответа заверения в глубокой любви и обезоруживая этим холодного человека, друга, который присвоил себе право критиковать. Это, однако, несправедливо». Герцен выходит на личностную тему, как правило, неприемлемую Гервегом. Но он хочет сохранить дружбу.
(Забавной картинкой Герцена в письме от 8–10 апреля подводится итог «нервических споров» и болезненного раздражения этой поры. Надгробный камень, на котором устроился огромный бокал, наполняемый до краев двумя летучими бутылками, испещрен надписями, пародирующими древнеримские эпитафии: «Здесь покоится воспоминание о братской грызне двух приятелей, изорвавших друг друга в клочья любя! <…> Выпей, viator — и продолжай свой путь!»)
Герцен, долго терпящий друг.
У Натальи Александровны другая цель. Как не потерять Гервега, оставшись с Герценом? С момента приезда к мужу ее смятение и душевная раздвоенность нарастают. «…Не спрашивай меня ни о чем, — умоляет она Гервега, — не знаю, долго ли я смогу тебе сопротивляться; если я ослабею, мы все погибли — я первая; по крайней мере, вы сможете жить тогда в полной гармонии — сделай же это, если подобная гармония тебя привлекает!..»
В февральские дни 1850 года, когда мужчины ведут свою «взаимоистребительную» партию, всё более склоняясь к гармонии вчетвером, Наталья Александровна, возвратившаяся в лоно семьи, не знает, как ответить Гервегу на его неминуемые упреки. Разве что увериться: «Судьба смеется над всеми нашими планами».
«Быть может, — пишет она (и, кажется, предусмотрительно), — мы будем идти в течение некоторого времени по разным направлениям — что за беда? Если вы не смотрите на брак как на пожизненный абонемент на ваше тело, душу и т. п., почему хотите вы абонироваться на дружбу? Все это вздор, пустяки! Сошлись, разошлись, опять сошлись, опять разошлись, опять сошлись, и эти опять уходят в бесконечность… Мы еще увидимся! Мы еще обнимемся!»
«Да, я люблю спускаться, — заявляет Натали, отвечая на какой-то укол Гервега в том же письме от 5 февраля. — Но знайте только, что в моем словаре спускаться — значит восходить; чем ниже я спускаюсь в глубины, тем более я подымаюсь в высь. О! Александр! Что скажет он об этом!»
«Спуски» и «подъемы» — это память незабываемых эмоций о восхождении к любви на горе Дан-де-Жаман. Наталья Александровна, убеждая себя в неизбежности гармонии, еще скажет Гервегу: «…дайте-ка вашу руку, попробуем выйти на Dent de Jaman… мы были чисты, ясны и беззаботны, как птицы небесные, тогда! Подождите немножко, опять пойдем на какой-нибудь зуб, опять будет хорошо, и пойдем все вместе…»
Несохранившиеся письма Гервега, судя по всему, полны упреков и недовольств. Вынужденная легкость в запутанных посланиях Натали только подхлестывает ревнивое нетерпение отставленного любовника.
На упрек Гервега, что Натали попала «под чье-то влияние» (расшифровывать не приходится — «чье»), она страстно возражает: «Я нахожусь под влиянием? Никогда и ни под чьим! Моя дружба к вам так велика, так реальна, так необходима, что никогда и ничто не может ее разрушить, однако я тем сильнее страдаю, я протестую там, где она наталкивается в вас на нечто столь жестокое, нечто столь глубоко противоположное вашей прекрасной натуре! <…> Затем, я не знаю, как развивалась ваша переписка с Александром. Знаю лишь одно — что вы ему повторяете: „Достаточно любить“ и что он вам возражает: „Нет, еще надобно действовать, то есть делать уступки другим“».
Чувствуя в подобных словах несомненную волю Натали и гуманное влияние Герцена, видя решительное изменение отношения к нему, Гервег впервые пытается выставить собственный, почти предательский контрдовод (которым он впоследствии и воспользуется), что инициатива их сближения принадлежит Натали.
В письме от 17 февраля она отвечает ему: «В чем ты упрекаешь меня? В том, что я меньше обещаю, чем привожу в исполнение? Что я не разрушила нашего будущего минутным удовлетворением?.. Что я спасала то, что ты постоянно уничтожал? Можешь ли ты сомневаться в том, что каждое мгновение моей жизни вдали от тебя тля меня невыносимо? Неужели ты до такой степени плохо меня знаешь?.. Любишь ли ты меня, наконец???!!!
<…> Ты говоришь… так, словно желаешь оправдаться в своей любви ко мне, словно хочешь обвинить в ней меня, меня одну. О, благодарю тебя за это! Приписывай, приписывай мне всё, я беру всё на себя, я хочу быть виновницей, я хочу быть единственной причиной моей любви к тебе, я хочу, если это преступление, — быть одна преступницей! <…> Ты внес смятение в наши жизни, от тебя, от тебя одного зависит теперь гармония. Ты столько обещаешь! Выполни же обещанное хоть наполовину…»
Любовь непоследовательна. Натали просто не под силу выдержать до конца роль возвратившейся в семейную гавань жены, полностью искупившей свою, не подвластную ей вину, не умеющей «строить свое безграничное счастье на несчастье таких людей, как Александр и Эмма». Страсть, не согласующаяся с разумом, тут же сметает все выстроенные барьеры…
«Дорогой мой, дорогой, дорогой!!! Я увижу тебя! О, нет у меня слов, нет слов, чтобы выразить все, что я чувствую… Увидеть тебя!..
Я искала тебя всю жизнь — и нашла тебя…
О, никогда и никому я так не принадлежала, как тебе, жизнь моя, моя вторая жизнь — что стала бы я делать без тебя?.. Жизни моей, как ни была она прекрасна, как ни была она величественна и ни с чем не сравнима, мне было недостаточно! Мне необходим был ты! Я искала тебя на небе, искала среди людей — и повсюду, повсюду, всегда, всегда… И вот я нашла тебя, второе мое рождение!..
Милый, как обнимаю я тебя, когда о тебе думаю… О, только бы коснуться тебя… только бы увидеть… милый, милый, милый!..
Какой прекрасной могла бы стать для нас четверых жизнь — не порть же ее! Заклинаю тебя на коленях, Георг, друг мой, жизнь моя, ты знаешь, кто ты для меня… Малейшее подозрение — говорю тебе — убьет нас всех, дорогое дитя! <…> Если я делаю что-нибудь такое, чем ты недоволен, то знай, что я делаю это, чтобы получить тебя…»
В подобных экстатических письмах нельзя не заметить шаткую грань между действительно реальным и желаемым, которому отныне подчинена ее новая жизнь в Париже вдали от него. Всё, пусть самое фантастичное, безрассудное (конечно, по ощущениям обычного, не влюбленного человека), брошено к ногам возлюбленного, только чтобы «получить его».
Однако у страсти на расстоянии есть свои неизменные сопутники — любовные письма, и Наталья Александровна умоляет Гервега их уничтожить. Он обещает, но делать это явно не собирается[105].
Жизнь тем не менее идет своим чередом. Герцен, несмотря на хандру, периодически посещающую его в Париже, пишет статьи, сотрудничает в «Voix du Peuple». Его письма Гервегу по-прежнему содержательны, полны творческих и политических вопросов; только дружеская критика Герцена, «вполне естественная между близкими людьми», по-прежнему вызывает у Гервега неприятие и постоянно гасится его обезоруживающими уверениями в любви и дружбе к своему «близнецу».
Парижские открытые письма Натальи Александровны Гервегу февраля — марта 1850 года полны бытовыми подробностями: бедный Александр все хлопочет по делам; по вечерам дома читают вслух, обмениваются литературными новостями; возятся с детьми, своими и чужими; ходят в оперу, в концерты, в рестораны (для Гервега — обязательный перечень блюд и вин из меню изящнейшего Café Riche). Однажды попадают на большой ночной маскарад, где сталкиваются со знакомой гризеткой Леонтиной (заинтересованно замеченной Герценом и потом не раз встречающейся на страницах его сочинений). С восхищением вновь смотрят в театре легендарную Рашель, поднимающую ничтожную пьесу до уровня трагедии. В общем, спасаются, как могут, «от мрачного отчаяния», от внешних и внутренних неурядиц рассеянным образом жизни. Да и как жить в мире, где «идет война, физическая и нравственная», если не соединиться с любимыми людьми?.. Как не поддержать гармонию, которая одна только залог достижения земли обетованной?..
И Герцен, и Натали по-прежнему упорны в своем желании защитить страдающую Эмму, которую Георг не удостаивает даже письмами. «Надо кончать гражданскую войну с Эммой», — считает Герцен. Гервег просто вынужден пригласить ее к себе в Цюрих.
В течение трех недель Гервег не пытается объясниться с женой. Она только «вносит смуту» в складывающееся триединство. И вдруг, в последнюю ночь, 10 марта, он открывает Эмме страшную тайну. Он признается ей во всем. И это не более чем секрет Полишинеля, который никто так и не желал узнать до конца (ситуация пиковая!). Гервег на коленях умоляет жену не покидать его. Жить без нее не может. Уверяет ее, что привязанность к ней ничуть не пострадала, и если Эмма уйдет от него, то покончит жизнь самоубийством. Подобные мелодраматические выходки вполне в характере этого человека. Да и Эмма не раз демонстрирует свою возвышенную жертвенность.
Хрупкое здание, возводимое Натали, готово дать крен, ибо ее многочисленные просьбы сохранять в тайне их отношения Гервегом не услышаны. Вернувшись в Париж 13 марта, Эмма спешит обо всем рассказать Натали. Казалось, осложнений в противостоянии соперниц не миновать. И тут уж, воистину, Эмма проявляет себя необъяснимо даже для привычного разумения — предлагает быть посредницей в передаче писем любовников. (Между январем и августом 1850-го Натали написано Гервегу около 150 посланий, большинство из них не предназначено для постороннего глаза.)
«Я глубоко огорчена, оскорблена, да, оскорблена, — отвечала Натали в „открытом“ мартовском письме Гервегу на возникшее у него сомнение в возможности жить всем вместе, — ибо слишком верила в искренность и правдивость ваших желаний и обетов, данных вами во имя нашей гармонии, и вот вы смутились перед тенью, ибо мне известны все обстоятельства (выделено мной. — И. Ж.), — ничто, ничто не изменилось…»
Очевидно, Натали уже успела услышать убийственное признание Эммы (письмо точно не датировано), а Георг, переживший встречу с женой, решал, как развернуть события. В интимном письме того же времени, отвечая на упреки Гервега, Натали писала:
«Я любила, любила, всю мою жизнь, а тебя — больше всего на свете…
Все остальные мои привязанности — это корни, листья, стебель, ты же — цвет растения, называющегося Натали, единственный цвет; если отрезать тебя — она не будет цвести вновь, вся ее сила, вся жизнь ее, все, что в ней было самого прекрасного, отдано цветку, даже листья опадут, корень отомрет — но цветок пострадает и в том случае, если станут обрывать листья, касаться корня.
Не знаю, почему ты хочешь сделать это, но я чувствую, что ты скоро убьешь меня — да свершится воля твоя!.. <…>
Ты занят другими делами, твоя любовь для этого слишком эгоистична, ты говоришь: „Умри, если любишь меня“. — Хорошо! Ты помнишь, как ты не любил, когда я иногда говорила тебе так?.. Сколько любви!.. О, это ты! Как бы далеко мы ни находились друг от друга — я теснее связана с тобой, чем со всем миром».
Натали по-прежнему встречалась с Эммой. Вместе проводили приятные вечера, обсуждали возможности приезда Гервега, строили общие планы. Кончилось тем, что из шикарной квартиры на rue de Cirque Эмма с детьми перебралась в тот же отель «Мирабо» на rue de la Paix, где жили Герцены.
Письма Гервега бесконечно огорчали Натали, она плакала. Отвечала ему, что неспособна сдвинуться с места, что постоянная боль пронизывает все ее тело, что силы ее оставляют. А «все могло б идти так хорошо, так хорошо, — повторяла она вновь и вновь в письме от 2 апреля, — дружба, симпатия, гармония… и наш /\ явился бы вершиной этой общей жизни, и ѻ (знаешь, это наш ребенок) был бы ее звездой, солнцем, распространяющим свет и тепло на все…». <…> «Послушай, еще одно слово, — продолжала она, — я сказала, что все могло бы идти так хорошо… Да, если б Эмма не знала об этом или если б она это понимала… Она несчастна!.. О, Георг, дитя мое, это непоправимо… Сделаем же, по крайней мере, все, чтоб облегчить ее горе!..» Но Гервег пока еще не подозревал о главном…
В письме Натали появляется новый символ в виде круга. Мечты об их с Гервегом будущем ребенке становятся ее навязчивой идеей, в то время как она уже носит ребенка от Герцена. (Дочь Ольга родится 20 ноября 1850 года, и сомнений в отцовстве нет никаких.) Жизнь вдали от Гервега приобретает особую драматичность. Сквозь страстные признания Натали прорывается слабый голос страдающей женщины: «…я была больна всячески, ужасно, я не помню, чтоб я когда-нибудь находилась в подобном состоянии — прости мне это! <…>
Ты спрашиваешь, чего я от тебя требую, что можешь ты сделать для них, — много! <…> Я прошу тебя не причинять им ни малейшего огорчения, ни малейшей заботы — я прошу тебя об этом, также, как прошу любить меня!!! Иначе… я не могу, не хочу жить!»
Открытая семейная жизнь Герценов не теряла своего обычного ритма.
Четырнадцатого апреля в «официальном» письме Гервегу Натали шутливо описывала их времяпрепровождение. Портретная мания захватила всех, и пришлых, и домочадцев, и больших, и малых: «Ах, вы воображаете, что мы роскошней, чем вы, проводим наше время! Если вы называете гримасы Хоецкого, Тургенева, простертого на полу и храпящего, и страсть рисовать карикатуры, — если вы называете это роскошью, — вы правы!»
Сама прекрасная рисовальщица, Натали доносит до нас карандашом и словом живые картины той давно ушедшей жизни, где «дети шумят, Тата и Горас пляшут польку, Эмма поет польку и бьет такт, Александр насвистывает галоп…». И в наследство нам остается целая россыпь живых портретов — детей, друзей, приятелей — Тургенева, Хоецкого…
Три новых тайных письма от Гервега вновь взрывают кое-как устоявшийся семейный порядок, заставляют Натали в который раз повторять — главное, не вызывать подозрений, щадить Александра. «Как посмел ты предположить, что Александр не потерпит моей исполненной симпатии дружбы к тебе, — ему она известна, но любовь, такую любовь… я не лгу, — говорю тебе, что если б она ему только стала известна, то он, не упрекая меня, уехал бы далеко, в Америку. Подумай, во что превратится тогда его жизнь — без детей, в одиночестве, в одиночестве…»
«Теперь я тебя совсем не понимаю… — продолжала она. — Твои упреки, отчаяние… Оставайся же вдали от меня, если не можешь принять меня такою, какая я есть. Скажи, хотел бы ты, чтоб я бросила Александра? Ответь же! Покинуть его — значит убить; желаешь ли ты этого? Превратить его тело в ступеньку, чтобы быть ближе к тебе… Наступи же лучше на мой труп. <…>
Если б ты знал мою силу, мою свободу, мою любовь, если бы ты знал меня… ты любил бы меня во всем, даже в моей привязанности к Александру, к его детям… Вырасти же, научись понимать меня, ничего от меня не требуй, и ты получишь всё… или же — оставь меня в одиночестве!»
Тем не менее мысли оставить Александра время от времени ее посещали: то вынашивала планы передать детей на руки любимой подруге Наталье Тучковой, то писала в Москву Татьяне Астраковой о такой же возможности. В другой раз воображала, что жертвенная Эмма способна расстаться с Гервегом; «только и просит, чтобы ее оставили одну», раз говорит, что для нее видеть их вместе — «значит умирать ежеминутно». Но для Эммы это была только уловка — отпустив, через некоторое время ждать обратно. Не сдержавшись, она обидно бросала Натали: «Когда пресытитесь друг другом, — возвращайтесь…»
Наталья Александровна, по меньшей мере, наивна в своих мечтах о чистейшей гармонии и возможности Гервега «вселить ее в Эмму». Она простодушно говорит ей однажды: «Нашла ли бы ты естественным, если б я не полюбила Георга?» Что остается делать жене в подобной ситуации? Расстроенные финансовые дела не оставляли у Эммы выбора. Дети на руках, муж — большой ребенок с большими запросами, которому она не устает прислуживать. Ехать, так ехать! 3 мая решено собираться всем в Ниццу.
Слово «болезнь» теперь не сходит со страниц ее писем Гервегу: «Я только улыбнулась, дитя мое, когда ты поставил мне в вину мое слабое здоровье, принимая его за отсутствие любви… С тех пор как мы расстались, я три четверти всего времени провела в постели — моя ли в том вина? А эти нервные страдания, доводящие меня до безумия!» Она заклинает Гервега ехать в Ниццу как можно скорее и, вместе с тем, понимая свое интересное положение, свои наладившиеся отношения с мужем, уверяет возлюбленного: прежние отношения возобновить невозможно. Совершенно очевидно, что Гервег пока не знает о беременности Натали.
Переписка продолжается. Страстные мольбы страдающей женщины чередуются с любовными признаниями и упреками. Счастье своей семьи она отдает в руки Гервега. Когда все летит в тартарары, она видит его в роли спасителя общей семейной гармонии. Кажется, Натали давно живет в своей, особой реальности. Экстатические письма, любовь на расстоянии только подхлестывают необузданные чувства.
Седьмого мая она пишет Гервегу:
«Знаешь ли, ангел мой, я иногда не понимаю тебя; говорю тебе, что наша любовь настолько выше всего, настолько независима… <…>
Ах, если б я знала, что ты не так грустен!
Неужели то же будет, когда мы окажемся вместе?
Осыпаю тебя поцелуями, милый…
Прощай и не грусти так! Вот я перед тобой на коленях, мой Георг, я обнимаю твои колени.
Не грусти так!
Почему говоришь ты о смерти?.. Разве мало нашей любви для того, чтобы жить???»
Для нее жизнь без Гервега — не более чем прозябание. Безрассудство слова произнесенного и сиюминутные преувеличения подогревают любовь.
Один роман в письмах ею уже пережит, и это было светлое время. Их любовь с Герценом расцветала в невероятных, восторженных посланиях, а разлука и расстояния только укрепляли чувства влюбленных. Эпистолярная связь подготовила их к реальной жизни, предупредив о возможных срывах и падениях в связи семейной. (Возможно, Натали окончательно влюбилась в Герцена по этой необыкновенной, восторженной переписке.) Опыт талантливого Герцена тоже пришелся как нельзя кстати. В нетерпеливом обмене письмами с женихом юная Наташа развила и свой литературный дар.
Если Герцен давно поборол стилевые излишества, которыми грешил в молодости, а после ссылки избавлялся от романтического миросозерцания, то Натали никак не утратила былой экзальтации, выспренней сентиментальности, мистических порывов, приводящих, как выразился современник, к «романтическому искажению действительности».
Переписка ее с Гервегом почерпнула немало из фразеологии прежнего времени, но она походила иногда на эпистолярную невоздержанность, где чрезмерной экзальтированности взрослой, замужней женщины уже не могло быть прежних поблажек. Стилистические совпадения в письмах Герцену и Гервегу поразительны, они часто дословные, и примеров тому предостаточно: «…У меня ничего нет, кроме тебя. Сам Бог, мой Александр! Он дал мне все в одном тебе… В тебе, мой друг, заключается весь мир для меня…» В уже цитированных посланиях Гервегу Натали восклицала: «Да, да, да, несмотря ни на что — ты мой! И нет ничего, кроме тебя. <…>Я любила, любила всю мою жизнь, а тебя больше всего на свете…» и т. д. и т. д.
Впрочем, стилистика писем Натали мало чем отличалась от литературных образцов. В юности она зачитывалась письмами трагически влюбленных Абеляра и Элоизы. Несомненно, что поэтика ее посланий, приторность любовных признаний при необычайно смелом выражении — все это дань нетленной традиции классических романов и прочих рукотворных сочинений, взявших след из куртуазной эпохи.
Сокрушительные идеи и теории Жорж Санд не давали покоя целым поколениям. Так, сама неистовая Санд, душа которой разбивалась порой от любви к двум мужчинам сразу, жадно брала от переполнявших ее эмоций волнующей переписки с очередными возлюбленными всё, что требовалось для ее романа литературного. В 1834 году она читала и перечитывала безумные, страстные письма Альфреда де Мюссе, и это питало творческую энергию и читающей, и, конечно, писавшего, предвосхищая его «Ночи»: «Скажи мне, что ты отдаешь мне твои губы, твои зубы, твои волосы, все это, твою голову, которая была моей! Скажи, что ты целуешь меня, ты меня! О, Боже! О, Боже! Когда я об этом думаю, горло у меня сжимается, в глазах темнеет, колени подкашиваются. Ах! Ужасно умереть, ужасно любить так. Как я жажду, мой Жорж, о как я жажду тебя! Я прошу тебя. Прошу о письме! Я погибаю, прощай…»
На смену эпохе, обожествляющей разум, приходили новые времена. Франция 1830-х годов, распространившая свое литературное влияние, воспринималась как царство страсти. И Натали, прилежной читательнице и почитательнице Жорж Санд, трудно было не попасться в сети эпистолярной моды.
В майские дни 1850 года, в преддверии соединения в Ницце, нервы всех участников будущего «гнезда» были напряжены до предела. Герцен не оставлял своей интенсивной переписки с Егором Васильевичем (так называл Георга по-русски), где извинялся за невольное нарушение соглашения о трехдневной периодичности писем. Его огорчала болезнь Натали. Потрясали «ужасы, которые он видел ежедневно». Подвиги бонапартистского правительства и свирепеющей французской полиции, преследования, аресты и высылка журналистов не оставляли сомнений — рано или поздно из Франции надо выбираться. Вот уже и сотруднику «Voix du Peuple», приятелю Эдмону Хоецкому, предписано немедленно покинуть Париж. «Сегодня положение стало еще более критическим… — писал Герцен 7 мая, — а у меня ни надежды, ни отчаяния, ни доверия, ни страха. — Вот до чего можно дойти, оставаясь безучастным, т. е. почти безличным зрителем.
В Ниццу, в Ниццу…»
Глава 12
ТРУДЫ И ДНИ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА В «ГНЕЗДЕ БЛИЗНЕЦОВ»
«Туда! Туда…»
И. В. Гёте[106]
Этот день неминуемо приближался.
Натали была в нетерпении. Но здоровье не позволяло. Герцен медлил. Он свои желания, как правило, подчинял необходимости. Вот и теперь затянувшееся пребывание в «душащем» его Париже осложнилось пресловутым векселем.
Первой в «Гнездо близнецов» отправилась Эмма. С 21 мая она была уже в пути. Натали известила Гервега, что они поедут сразу же вслед за его женой, но обстоятельства не позволили. «Теперь ваш черед!» — призывала она Георга, приветствуя новую жизнь, где они будут вольны, как птицы.
Итак, новая жизнь…
О тройственном союзе юная Наташа помышляла еще в ту пору, когда в их чистые, платонические отношения с Александром вторглась суровая проза его «нехороших» отношений с Полиной Медведевой. Но даже покаявшись Натали и получив от нее столь поспешно предлагаемое прощение, сразу отступать Герцен не собирался. Тогда, в 1835-м, у нее и зародился план, который нельзя не оценить как смутный проект жизни втроем. Она писала Александру: «Ежели бы Медведева] забыла тебя, была бы счастлива, тогда бы мы не должны были мучиться и томиться пятном… Но она несчастна. Любит тебя и, может быть, надеется, что ты женишься на ней. <…> Я была бы все та же, та же любовь, то же блаженство внутри, а наружно — кузина, любящая тебя без памяти. Я бы жила с вами, я бы любила ее, была бы сестрою ее, другом, всю бы жизнь положила за ее семейство, внутри была бы твоя Наташа, наружи — все, что она желала».
Идея общего дома для двух семей — не что иное, как подобие маленькой коммуны. Дважды включали в бесперспективные поиски утопии друга Огарева. Первый раз случилось, когда в ослеплении божественной дружбы Александр и Наташа и только что обвенчавшиеся Ник и Мария благодарили на коленях Бога за представившуюся им возможность составить идеальный союз вчетвером. Тогда, в счастливом Владимире, еще казалось, что дружба и любовь будут едины. «Тогда-то, — писал Огареву Герцен, — совершилась мистерия присоединения Наташи к вам и тебя к нам. Тогда-то мы четверо стали одно». «Это было венчание сочетающихся душ, венчание дружбы и симпатии». Слова Герцена вполне соответствовали и мировосприятию Натали романтического начала их семейного союза.
Прежние иллюзии давно растаяли, развенчаны и низведены с шаткого пьедестала, ибо жизнь решительно развернулась.
Теперь Герцена волновал один и тот же вопрос: что у Огарева?
Бывшая его жена, Марья Львовна, давно пребывавшая в Париже, вела там вполне вольную жизнь со своим новым спутником, весьма достойным человеком и неплохим художником Сократом Воробьевым. (И Герцен не избегал светского общения с ним.) Наташа Тучкова, всегда отличавшаяся независимостью и дерзким пренебрежением к условностям, вступила в гражданский брак с Ником Огаревым, несмотря на решительный протест отца — Алексея Алексеевича Тучкова, предвидевшего крупные беды от «непозволительных отношений» молодых. Суровая кара для двоеженцев, известно, неотвратима: ссылка, Сибирь, Соловки… Не говоря об общественном вакууме, образовавшемся вокруг вольнодумного предводителя дворянства. Соседи по имениям отвернулись от него.
Дело о разводе обернулось безуспешностью попыток уговорить строптивую Марию на официальный развод. (Несмотря на ее значительное содержание Огаревым.) Она просто перестала принимать всех посредников в этих переговорах. Склонить ее на расторжение брака не удалось ни Гервегу, ни даже Герцену, который вполне дружески встречался с ней в Париже (до поры, пока не перейден порог ее пьянства: последнее время «трезвого часа не было»).
Провалилась и фантастическая затея молодых отправиться летом 1849-го в Крым, а там тайно проникнуть на судно, отплывающее из Одессы в Западную Европу. По возвращении в имение, где Огаревым продолжены преобразования, деятельный реформатор попал под град новых доносов многочисленных недоброжелателей. Неудавшийся побег тоже не остался без внимания местных властей, и самого тестя, и губернатора Панчулидзева. Вслед за Огаревым, в феврале 1850-го, был арестован и увезен в Петербург Тучков. Смещенному с должности и допрошенному в Третьем отделении Алексею Алексеевичу припомнили всё, даже пребывание «в Париже на баррикадах». И надо отдать должное дерзкому мужеству его старшей дочери, отправившейся в столицу вслед за арестованными: она подняла на ноги весь Петербург. Содействие ее высокопоставленного родственника Павла Тучкова, сенатора и члена Государственного совета, обратившегося наверх, примерно через полгода (в августе) принесло успех: высочайшее прощение было объявлено, но от надзора и других ограничений подследственным освободиться не удалось. Весть об освобождении дошла до Парижа не без участия Грановского, но о свидании с далекими-близкими друзьями в маленьком тихом уголке, в их тесном кружке, оставалось только мечтать. «Ведь вы у нас одни, которых мы любим и можем назвать своими», — писала Герценам Тучкова. «О! За одну минуту с вами… мы бы отдали все остальные годы».
Надежды на скорый приезд Наташи и Ника тем не менее не оставляли, хотя писем из России доходило все меньше. Тучкова не понимала многого в жизни Герценов, удивлялась, отчего Наталья Александровна не уехала сразу в Женеву вместе с Александром: там же лучше для ее здоровья, чем во Франции… (Заметим здесь, что действие двух романов обеих Натали происходило в одно и то же время.)
В будущем Герцен и Огарев не смогли избежать нового поворота судьбы, несмотря на пережитый Герценом трагический опыт (с вторжением в его жизнь третьего). Соединение Герцена с женой друга — Натальей Тучковой-Огаревой[107], и вынужденные попытки обустроиться всем под одной крышей к успеху не привели.
Пересоздать мир на новых идеях — новым людям это казалось под силу. В каждом поколении «ставились» свои опыты, провозглашались громкие декларации, вводились новые понятия и привычки. Фантасмагория брака втроем, вариации семейной жизни, проблемы измен и свободной любви, теории освобождения женщины и свободы мужчины — время разворачивало все устоявшиеся представления о морали. Идеологические соображения и теоретические оправдания новой жизни всегда были наготове[108].
В авангарде рассматриваемой эпохи, как всегда, вышагивала Жорж Санд, предоставившая обществу литературные модели. На очереди был опыт претворения в жизнь уже принятого поведения героев-близнецов «Маленькой Фадетты». И Наталья Александровна, несмотря на вынужденную болезнь, упорно продолжала вить хрупкое гнездышко в своем скрытом стремлении «получить» Гервега во что бы то ни стало.
«Заряженное ружье» — роман «Кто виноват?» с темой тройственного союза (где в маленьком кружке есть место и четвертому), еще должно «выстрелить» в последнем акте драмы. Ужели Герцен напророчил собственную судьбу? И «будто это правда, что можно любить двоих?..» — задумывалась его литературная героиня. А какой ответ могла дать героиня реальная?..
Гервег продолжал укорять Герцена, что тот засел в Париже, а сам из Швейцарии ни ногой. «Мир вымощен препятствиями; и ты погибнешь, ты не продвинешься вперед, если не умеешь иногда проскользнуть над ними, вырвать их… в конце концов, видишь перед собою чудовищные баррикады, которые совершенно и навсегда заграждают тебе путь. <…>
Я ни во что больше не верю в этом мире, который рушится, ни даже в длительность личных отношений. И потом, почему личность должна быть счастливее, чем целое? Я не вижу в этом необходимости! <…> Проклятый нынешний век толкает и сбивает нас так же, как и других. Собираться толпою или оставаться одиноким, — вот его высший закон!»
Психологическое состояние Гервега (и впрямь настигшее одиночество или вынужденные обстоятельства?) выворачивалось в письмах Герцену: «Пусть бы в Ниццу или на луну, но вместе».
Натали последовательно вела свою партию, извещая Гервега о решении наконец ехать «Туда! Туда!». Эмме посылались нежные письма, где на ее вопросы о причинах болезни Натали только и могла ответить: «Нервы, нервы и только нервы!»
Отъезд герценовского семейства все откладывался. Финансовые дела долго не решались. Герцен был в бешенстве от новой отсрочки. Гервег, так обреченно рвавшийся в Ниццу, медлил, сомневался, что-то подозревал. Он сердился, упрекал Герцена в непостоянстве.
И вот, наконец, 17 июня 1850 года. Герцен с семьей покидает Париж. Миновали Тоннер, добрались до Лиона. Летят обязательные письма с дороги. «Львы и тигры, людоеды (это я) прибыли в Лион и обнимают его…» 23 июня — вожделенная Ницца. О преимуществах жизни в этом райском уголке надо непременно сообщить Гервегу: «Ни разу в жизни я еще не испытывал такого климатического блаженства, как здесь, даже жара… не помеха»: море, теплый благовонный воздух. В который раз Герцен тщетно пытается обустроить свое «существование, отрезанное от будущего, не гадающее, а берущее все, что попало…», как тогда, в Швейцарии в 1849-м.
«Дорогой Ландри, я вздохнул свободно вместе с тобою… — откликается Гервег в июне. — Наконец-то ты вырвался из когтей дьявола; это радует и меня, хотя я не держу тебя в своих, что было бы тебе не очень приятно. Ты бросил дела; если и дела бросят теперь тебя, тебе останется одно — отдаться жизни, чтобы быть самым счастливым человеком во всей вселенной. Что делать теперь, что говорить, о чем писать?» Он допускает даже возможность поселиться всем под одной крышей. Почему бы и нет? Это приятно для детей и для взрослых, заключенных в один маленький провинциальный мирок. А будет ли это Ницца или ее окрестности, ему все равно, лишь бы их общение, постоянная беседа, в которой он так нуждается, не прерывалась «на все будущие времена».
Герцен совершенно одинок, отрезан от всего русского. Письма из дома доходят все реже. Едва обосновавшись в Ницце, он спрашивает у Луизы Ивановны, иногда выступающей посредником в его переписке: «Неужели из России ничего не слышно?» В августе 1850-го он пишет в Москву «исполненное горечи, или, лучше, сердечной боли» пространное письмо старым друзьям, но ответа не получает. Письмо возвращается обратно. А если кое-какие вести и доходят до него, то не иначе как «печальными» их не назовешь: в письмах из России растворено отчаяние и «покорность судьбе».
Здесь под южным небом, в оторванности от мира, Герцен не может бросить Дело. Для него работа, даже в самые трудные времена, — счастью не конкурент, просто «отдаться жизни» он не может. Плыть по течению — не его удел. Поселившаяся мысль — знакомить Европу с Русью, по-прежнему не оставляет его. Опыт историка, современника событий, отслеживаемых на примере собственной жизни, дает ему право размышлять о судьбах России и Западной Европы. Европа так невежественна в отношении его страны…
«Мы ничего не пророчим, — записывает он, — но мы не думаем также, что судьбы человечества пригвождены к Западной Европе. Если Европе не удастся подняться путем общественного преобразования, то преобразуются иные страны; есть среди них и такие, которые уже готовы к этому движению, другие к нему готовятся. Одна из них известна — это Северо-Американские Штаты; другую же, полную сил, но вместе и дикости — знают мало или плохо». И вот теперь он готов широко оповестить мир повторяемым на все лады и в прессе, и на улице изречением: «Русские идут, русские идут!» Ровно для того, чтобы современная Европа в своем «высокомерном невежестве» узнала Россию и поняла ее.
«И каждый раз, когда она станет упрекать русских» за то, что они варвары, — продолжал Герцен, — «за то, что они рабы, — русские будут вправе спросить: „А вы, разве вы свободны?“».
В конце июля 1850 года Герцен завершал первую главу книги «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии революционных идей в России»), Сначала ниццкий отшельник набросал небольшую заметку «о развитии либерализма и оппозиции в России», потом подумал, что заметка о русской литературе вполне подойдет для вполне передового немецкого журнала А. Колачека, с которым его познакомил Гервег. Необходимых книг и документов под рукой не было, и Герцен просил привести недавно вышедшую книгу Г. И. Кёнига «Очерки русской литературы», где немалое участие принял его московский приятель Н. А. Мельгунов. Упомянутое сочинение маркиза де Кюстина и вышедшая в Париже и Брюсселе (1847) монография декабриста, экономиста и правоведа Н. И. Тургенева — «La Russie et les russes» («Россия и русские») предоставили фактические сведения и богатый материал для полемики. Постепенно вместо литературной заметки стал вырастать политический трактат.
Герцен рассчитывал посвятить немецкий перевод томящемуся в тюрьме другу Бакунину, а последний раздел своей книги непременно приурочить к 25-летию со дня вступления на престол Николая I. Тем более что некоторые идеи (в том числе — народнические) только что вышедшей в Лейпциге анонимной брошюры Михаила Александровича «Russische Zustände» были близки Герцену и требовали осмысления. К сожалению, не все получилось со сроками.
Исправленное издание газетных статей, «испорченных редакцией и переводчиком», как посчитал Герцен, появилось во французском переводе отдельной брошюрой в Ницце. (На титульном листе значилось: «Париж. 1851».) Позже книга неоднократно переиздавалась и в Лондоне, и в Париже, а в России распространилась нелегально, в виде литографированного издания, подготовленного московским студенческим кружком (1861).
Герцен — историк, немало писавший и размышлявший об истории своей страны еще в России: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого — раскрываем смысл будущего; глядя назад, шагаем вперед…» В новой, итоговой работе, продолжающей развивать идеи книги «С того берега», четко улавливалась его историческая концепция, как она сложилась к началу 1850-х годов, с непременным осмыслением событий, пережитых в Европе «вчера», ибо они уже стали историей. Интерес к запретному былому «вчерашнего дня», похороненному в России, дал в дальнейшем стимул и для развития исторического знания для самих русских, и для создания печатных органов — пропагандистов вольного слова.
В конце концов, книга «О развитии революционных идей…» оказалась шире заявленного заголовка и оформилась как целостное произведение из шести глав с Эпилогом и с Прибавлением «О сельской общине в России»: I. Россия и Европа; II. Россия до Петра I; III. Петр I; IV. 1812–1825; V. Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года; VI. Московский панславизм и русский европеизм.
Глубокое повествование, написанное в присущей Герцену демократической традиции, с несомненным влиянием идей Белинского, Пушкина, декабристов и, конечно, собственной жизни в истории, вынесло на поверхность все кажущиеся ему противоречия в существующих разнородных концепциях, все несогласия с отдельными взглядами, поступками даже таких кумиров, как Пушкин и Гоголь.
Главная задача очерков (в герценовской трактовке, уже во многом известной читателю) — представить, открыть в русской жизни свободолюбивые традиции; выявить тенденции формирования русского освободительного движения; показать, как примерно с Петровской эпохи Россия стала вписываться в европеизм; как развивалось умственное, религиозное и протестное движение крестьян и раскольников.
Герцен разносторонне осветил историю России с древнейших времен до середины XIX века, полемически направив свой труд против сочинений (подобных книге де Кюстина), видевших в России лишь «фасадную империю», самодержавно-крепостнический деспотизм, и крайне односторонне освещавших историю русского народа и его культуры.
Герцен блестяще, афористично проанализировал путь развития вольнолюбивой, обличительной русской литературы, выписав характеристики ее выдающихся представителей.
И опять без внимания и без идеализации не остались исторические и социальные перспективы устройства русского сельского быта, развитые ранее в статье «La Russie», хотя Герцен постоянно подчеркивал, что крепостничество — зло, которое во многом развратило и унизило русский народ. Будучи, как всегда, самостоятельным, он не спешил, подобно славянофилам, идеализировать исконные начала православного государства. Резко высказывался он и о своих бывших «друзьях-врагах», славянофилах: их проповедь — покорность, как «первая из добродетелей», как «основа московского царизма». Их проповедь — «презрение к Западу, который один еще мог осветить омут русской жизни; наконец, они превозносили прошлое, а от него, напротив, нужно было избавиться ради будущего, отныне ставшего общим для Востока и Запада». Естественно, что развертывающаяся полемика «достигла высшего своего напряжения к концу 1847 года, как будто ее участники предчувствовали, что через несколько месяцев ни о чем нельзя будет спорить в России…».
«…Картина официальной России внушала только отчаянье», — замечал Герцен о царствовании своего неизменного антагониста Николая I: казарма и канцелярия — его опора. А кому, как не Герцену, свидетельствовать об этом. «Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия…» Но и при этой, «самой грубой форме деспотизма», при засилье «вооруженной инквизиции» в лице тайной полиции, несмотря ни на что, полагал Герцен, в обществе «совершалась великая работа, работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная, всюду росло недовольство…».
«…Революционные идеи, — писал он, — за эти двадцать пять лет распространились шире, чем за предшествовавшее столетие, и тем не менее в народ они не проникли».
Появление литературных журналов и выдающихся образцов русской словесности много сделало для пропаганды слова и освободительных идей. Возникали новые мысли и тенденции, но выразить их всенародно, полностью после 14 декабря не представлялось возможным.
Мысль о печатании по-русски, об основании небольшой русской типографии все более овладевает Герценом. (Рекомендации и советы могут дать известные ему западные издатели.) Всё подвигает Герцена к осуществлению давно зреющего замысла о вольной печати. В России цензура не пропускает решительно ничего, кроме «дозволенной истории», пиши хоть о Боге, царе и народе, о дне сегодняшнем или вчерашнем, не говоря о революционных идеях, прорастающих в русской жизни. Тайны Зимнего дворца тоже за семью печатями. Свободолюбивая литература, продолжающая пушкинско-декабристские традиции, требует обнародования «непечатного» прошлого. «Русское правительство, — еще скажет Герцен, — как обратное провидение устроивает к лучшему не будущее, но прошедшее».
Положение Герцена, «навлекшего на себя высочайший гнев», усугубляется тем, что решение русских властей неминуемо поставит его перед трагическим выбором, который, впрочем, им уже сделан. После решительных заявлений всякого рода тайных служб, тщетно разыскивающих беглеца, 19 сентября 1850 года Герцена посещает русский консул в Ницце А. И. Грив и зачитывает «повеление» Николая I о его незамедлительном возвращении в отечество. Герцен наотрез отказывается. Перспектива оказаться в Петропавловской крепости или вновь быть сосланным не слишком привлекает. Обескураженный Грив напуган: нарушить высочайшую волю… Его увещевания не производят ни малейшего впечатления. Как же отчитываться по начальству?.. Ведь вина, несомненно, падет и на него. Только предложение Герцена лично написать шефу жандармов и главному начальнику Третьего отделения как-то успокаивает чиновника.
На письме Герцена своему давнему адресату, графу А. Ф. Орлову, о невозможности исполнить повеление царя, ибо «он не может быть избавлен от печальных последствий политического процесса», где «судят мнения, теории», а не поступки, главный полицейский начальник делает надпись: «Не прикажете ли поступить с сим дерзким преступником по всей строгости существующих законов?» Легкий росчерк императорского пера: «Разумеется» решает судьбу дерзкого невозвращенца.
Тридцатого декабря по новому стилю, и 18-го по российскому, Петербургский надворный уголовный суд выносит приговор: «Подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского государства». Трагическая весть об отлучении от России вскоре дойдет и до Ниццы, хотя последствия герценовского решения были вполне предсказуемыми.
Слова из работы «О развитии революционных идей…», представившей мартиролог русской литературы: «Ужасный скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром…» — приобретали пророческую силу и для «государственного преступника» Искандера.
Глава 13
AMIS MORTELS (СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ)
Бывает друг в нужное для него время, и не остается с тобою в день скорби твоей, и бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему.
Книга Пророка Сираха 5. 8. 9
После постоянных уверений в дружбе и верности «единственному человеку, который не запугал его, к которому он привязался», в июльском письме Герцену Гервег заявляет, что приедет в Ниццу, если Герцен будет рад «провести хорошие или плохие дни со своим близнецом». Герцен настоятельно советует ехать, а Натали не устает повторять, что «нет другого человека на свете, который любил бы его больше», чем Александр. Все попытки Герцена прекратить переписку с Гервегом, чтобы покончить «со сценами, приличествующими молоденьким девушкам, которые ссорятся для того, чтобы мириться» и, наконец, встретиться, объясниться, пока ни к чему не приводят. Гервег медлит, хотя прежде сам торопил Герцена начать общую гармоничную жизнь.
Нанесен ли уже Гервегу сокрушительный удар? Ведь Наталья Александровна предстала перед соперницей на пятом месяце беременности?.. И не понять эту постоянную болезненность Натали просто невозможно.
Эмма завершала деятельные хлопоты в поисках подходящих домов, проявила недюжинное умение справляться с бытовыми проблемами, но не могла скрыть своего отвращения перед совместной жизнью. Вот и славный повод известить неверного мужа, что и Натали ему не верна. Новость о состоянии Натали рано или поздно доходит до Гервега. Он оскорблен, унижен этой «изменой» и в ответном письме Эмме сообщает, что не в силах присоединиться к ним. Наталья Александровна пока ничего не знает о демарше Эммы, а Гервег до поры молчит об этом. Свое нежелание ехать в Ниццу, когда все участники будущего кружка так жаждут видеть его, он объясняет Натали ее холодностью и чрезмерным сближением с мужем. Эмма наносит следующий удар, доверительно сообщив вынужденной подруге, что у Гервега новая любовная связь. Натали отказывается верить.
Неизвестно, что держало Гервега так долго в Швейцарии, только ли семейный статус Натали, которым он все же не преминул воспользоваться как поводом, чтобы не приезжать. Его одиночество, почти девятимесячное отсутствие давало повод для правдоподобных предположений.
Письмо Гервега Натали об «измене» (не дошедшее до нас) было, очевидно, сокрушительным, но вместе с тем более мягким, чем можно было бы предположить, судя по ее ответному письму. Психологически «жертва» ускользала из рук «преследователя», и оба они должны были просчитать последствия своих шагов, — и все во имя вынужденной гармонии.
Письмо Натали, отправленное Гервегу (опубликованное Э. Карром), никогда не появлялось в русском переводе[109]. Не значилось оно и в упомянутом обзоре помянутого тома «Лит-наследства», возможно, чтобы избежать чрезмерной, шокирующей обнаженности признаний:
«Мой ребенок, мой ангел, я тебя понимаю. Будь я мужчиной — ты понимаешь меня… — я тоже поговорю с тобой без смущения. Помнишь, ты сказал, что я узнаю твоего ребенка по маленькому пятнышку, которое у тебя на нижней губе? Ты тогда предположил возможность и другого ребенка, который не будет нашим — на самом деле — а как могло быть иначе? Георг, моя любовь более независима, более велика, более храбра. Она, как жар-птица, всегда возрождается из пепла. Ты сказал, что никто на свете не должен знать, что он твой ребенок, даже сам ребенок, а теперь, как смогла бы я избежать?.. Разве я не говорила тебе, что я никому никогда не принадлежала, как тебе. Пока я не узнала тебя, я была словно девственница, и такой остаюсь, когда тебя нет рядом со мной. Я буду ею всегда, даже если у меня родится еще 10 детей — тебе этого достаточно?» Гервег понял и простил.
Наталья Александровна, глубоко задетая затянувшимся отсутствием Георга в «Гнезде близнецов», не уставала упрекать «в щепетильности» и узости его любви, вновь доказывая ему безграничность своей привязанности. Пройдет еще какое-то время, полное упреков, мелодраматических признаний и просьб (не разрушать видимость установившейся гармонии), прежде чем Гервег в тайных записочках к Натали согласится отправиться в Ниццу.
Настроения ее меняются, она страдает, ждет; упоена предчувствием наступающего счастья и полна сомнений: «Георг! Георг! Мой Георг!!! Но если ты — мой Георг, если я — твоя Натали — если ты не приедешь с целью убить меня, — не поступай так больше! Умоляю тебя, также на коленях, не разрушай ту видимость гармонии, которая установилась между нами… Сделай над своим характером некоторое усилие…»
Видимо, Гервег сдается…
Новые идеи бродят в ее голове. Вот и Огарев с Тучковой грозятся приехать — целая колония образуется! Одна семья! Не нужно сердиться на Александра, «он не в состоянии полностью понять нас — нельзя от него этого и требовать, нельзя на него за это сердиться… И совсем непростительно тебе, ангел мой, видеть в его письмах и в моих открытых письмах — намеки». «Ты не прав по отношению к Александру, — повторяет вновь Натали, защищая мужа от „нападок Гервега“, — ты совершенно не прав, ты не оценил его. Да останется ваша дружба чистой, простой и нерушимой. И да не переживу я ее!..»
Переписка Герцена с Гервегом в «частном» постепенно «замирала из-за недостатка искренности» со стороны Гервега и его неисполненных обещаний, когда он сам же, первый, «гнал их в Ниццу». Но «общее» — политическая мысль, критическое осмысление эпохи, завершившейся крахом надежд, — по-прежнему продолжало занимать собеседников, и Герцен во многом соглашался с Гервегом.
«Ты до такой степени прав в отношении трагической непоследовательности, в которой все мы movemur et sumus[110], — писал Герцен Гервегу 10 июля 1850 года, — …что я и сам написал это в „Эпилоге“, которого ты не знаешь…» Герцен приводил с некоторыми вариациями отрывок из «Эпилога 1849», включенного в книгу «С того берега»: «А нам, последним звеньям, связующим два мира и не принадлежащим ни к тому, ни к другому, — нам нет места за накрытыми столами, мы предоставлены нашим собственным силам. Люди, отрицающие прошедшее, люди, сомневающиеся в будущем, по крайней мере, в ближайшем будущем, — мы не имеем ни угла, ни пристанища, ни дела в современном мире, мы призваны дать свидетельство своей силы и полной своей ненужности. — Что же делать? — Идти прочь, покинуть мир и начать новое существование, дать другим пример индивидуальной свободы, отрешившись от интересов мира, идущего к гибели? — Но готовы ли мы дать его? Свободные в своих убеждениях, свободны ли мы на деле? Не принадлежим ли мы, вопреки нашей воле, к этому ненавистному нам миру и своими пороками, и своими добродетелями, и своими страстями, и своими привычками? Что станем мы делать на девственной земле, мы, которые не можем провести и утра, не проглотив десятка газет. Мы, надо сознаться, плохие Робинзоны. <…> Мы попали в положение педерастов — они испытывают угрызения совести, они чувствуют, что в их поведении есть что-то грязное, но поступают вопреки рассудку (роняя себя, следовательно, в собственных глазах), не будучи в силах устоять перед привычным влечением; для нас же вертепом разврата является политика. Но, черт побери, мы еще не мертвы и не слишком стары, большой шаг в сторону серьезного сделан переменой жизни».
Одна сторона этой перемены — робинзонада в Ницце — была, по меньшей мере, заранее обречена. И Герцену пришлось после оглушительного краха всего на свете выискивать в будущем новые пути.
Натали верила в Эдем. Для нее Герцен оставался по-прежнему образцом детской чистоты, непринужденности и откровенности. Не надо только обидчивости, досады и подозрительности, заклинала она Гервега, в дружеских отношениях — это начало конца.
Видимо, она не вполне понимала отношение Гервега к Герцену, все в ее представлениях смещалось… Жизнь непредвиденно выворачивалась наизнанку.
Между тем подбирался подходящий дом с террасой, садом и беседкой, где они могут встречаться, и об этом Георг тоже осведомлен.
«Все было сделано, как хотел ты…
Мои объятья открыты — я жду тебя — приди! <…>
Оставь где-нибудь все письма. Я предпочла бы, чтоб ты сжег их; ты получишь меня».
Разговоры о деньгах и квартирах, где они будут вынуждены поселиться не на равных условиях и при разных удобствах, как считала недовольная Эмма, тяготили Гервега. Он ощущал свою вынужденную зависимость от Герцена, хотя тот не давал пока ни малейшего повода ущемить самолюбие друга. Герцен и прежде писал ему о «наших» общих средствах.
Теперь, из-за «недостаточности финансового положения», подобные наставления, где и как жить, Герцену казались необходимыми.
Гервег опять не торопился. Отговаривался болезнью, которая окружающими его в Цюрихе знакомыми никак не подтверждалась.
«Если ты не хотел приехать, зачем постоянно обещать? — в который раз упрекала Натали Гервега. — <…> Что бы ни таило для меня будущее — я люблю свою любовь; ни один миг из своего мучительного существования я не обменяла бы на все земные радости…»
Итак, новая жизнь? Возможность доказать, что они, «граждане нового мира», уже не принадлежат к старому, «дряхлому миру» с его засохшими мещанскими традициями? Герцен не может не признать, что, несмотря на вызывающую смелость новых теорий и нового образа существования, им еще далеко до новых идеалов. Правда, возможность личным примером доказать жизненность новой нравственности и устройство коммуны-семьи на новых социальных и экономических основаниях уже реализовалась на практике в их демократической среде.
Общий дом, «Гнездо близнецов», давно строится в воображении Натали. Сам Герцен, до конца не уверенный в осуществлении подобной мечты, вынужден присоединиться к жене. Торопит Гервега, просит оставить все сомнения и раздумья, даже возмущается его необъяснимыми отсрочками. И Гервег в который раз выражает желание «жить под одной крышей». Время гонит Гервега в Ниццу. Как воспротивиться обстоятельствам? Тем не менее для него это прежде всего продолжение «наиболее искренних, интимных бесед» с близнецом, «как всегда было», и с нескрываемой надеждой он резервирует для подобных разговоров «время перед полуночью и после нее». Полное небрежение к семье и детям все-таки должно иметь какую-то развязку и получить необходимое материальное подкрепление. Ведь Гервег своими неумеренными тратами совершенно лишился средств, брошенных к его ногам Эммой. Повторимся, «беден как Иов».
Наталья Александровна, отягощенная нездоровьем, хлопочет по устройству гнезда, мечется среди будущих его обитателей. Гервега предостерегает от поспешных, дерзких писем «ничего не подозревающему» Герцену, криком кричит в письмах возлюбленному, повторяя в который раз, что никого не любила, как его, что «вся ее жизнь была восхождением к нему…». Образ недосягаемой вершины, кажется, вновь просматривается на горизонте нашего повествования.
Натали словно пребывает в призрачной, раздвоенной реальности, то упрекая Гервега в недостатке любви, то сообщая ему о растущей привязанности к ней мужа. 4 августа 1850 года, незадолго до приезда Гервега, она вдруг пишет ему: «Я уже говорила, мне кажется, что сам А. знает, что после него у меня ты, ты, ты…» Натали тонет в эротических воспоминаниях. Ревниво продолжает свои «излияния» (ее слово): «Неужели эта любовь оставляет в тебе свободное место для какого-то другого желания?.. Неужели сохранилось в тебе незанятое место! <…> Вот я вся, вся твоя… нужно ли тебе еще что-нибудь?.. Возможно, ангел мой, что я тебя не удовлетворяю… Но во мне уже более нет ничего, чего бы я тебе уже не отдала…» Последняя разлука Натали с Гервегом, заметим, длится уже более семи месяцев, и за это время много воды утекло…
Эмма, ревнивая, теперь окончательно ненавидящая Натали, только притворяется, будто хочет жить вместе, всячески противится, но подчиняется обстоятельствам. Натали принимает и эту «искренность» Эммы.
Остается обустроить как можно лучше «Гнездо близнецов» и подготовить декорацию к следующему акту драмы. Пока еще действующие лица не в полном составе. Гервегу сообщается о «беспрестанных дружеских спорах». «Я постоянно представляю собой публику, — пишет ему Наталья Александровна, — а Александр и Эмма — двух актеров на сцене; один изображает логику, другая же — ее отсутствие, — я хохочу, как безумная!»
Задача в том, чтобы не ущемить самолюбие Георга и устроить оба семейства на равных условиях в двух одинаковых квартирах, но найти их в Ницце не так-то просто. Герцена втягивают в квартирную комиссию. Он и сам включается в поиски. Снят прекрасный дом Сю на Английской набережной. Ясно, что и Герцен идет на всевозможные уступки, потакая Гервегу: «Тебе хотелось снять этаж в том же доме — этаж в твоем распоряжении, тебе хотелось, чтоб у нас был общий сад — в твоем распоряжении сад, равный по величине двум. Ты получил даже больше того, чего желал, — Английскую улицу, которой не желал, так садись же поскорее в дилижанс». У Натали, конечно, свои виды на Гервега. Для нее сад — это место будущих свиданий, и она с поразительной доскональностью описывает Гервегу местечко, где их не побеспокоит даже солнце, где будут проходить русские уроки, а начертанные ею тайные знаки на стене беседки (Л X О) возродят их общий дом. Время встреч тоже определено.
Понимая безотрадное финансовое положение Гервегов, Герцен предлагает умерить траты, удивляется болезненной реакции Гервега, как только речь заходит о материальном: «…мы свободно говорим о наших самых интимных, самых заветных чувствах — и не смеем рта раскрыть, когда дело касается денежных вопросов». Всякие «уравнительные требования», предлагаемые Гервегом, Герцен «решительно и безоговорочно» отвергает «как оскорбление их дружбы, как насмешку над самим понятием союза близнецов». Приводит в том же письме от 30 июля и новые доводы: «Предлагая Эмме поселиться вместе, не касаясь вопросов личного порядка, я указывал на огромную экономию, которая достигается при общей столовой, общей кухне, общем поваре, — словом, я-то думал о совместной жизни, а не о вертикальном соседстве. Я ничего не потерял бы при этом, а вы сократили бы наполовину расходы». Для Гервега такая обнаженность ситуации представляется затруднительной. Следует привести финансовый вопрос хоть к какому-нибудь мало-мальскому балансу. Чувствуя настроения мужа, за два дня до его приезда Эмма берет у Герцена взаймы десять тысяч франков, обязуясь выплатить всю означенную сумму через два года. Правда, результат этого соглашения нетрудно предположить. Герцен никогда никаких денег не получит, хотя (уже в Лондоне, 27 августа 1852 года) и представит «вексель к взысканию».
Забегая вперед заметим, что, когда события примут трагический оборот, камня на камне не останется от идиллических отношений бывших «близнецов». 16 марта 1852 года (за полтора месяца до смерти Натали) в исповедальном письме Эрнесту Гаугу (который еще покажет свое близкое участие в личных делах единомышленника) Герцен представит финансовую ситуацию совсем иначе. Он напишет о Гервегах: «Они были без средств, и я предложил им этаж в нанятом мною доме; из деликатности я брал с них сущую безделицу в качестве их доли расходов. И вот вся семья, жена и дети, устраиваются за мой счет. Субъекту это было известно, он не вмешивался в дела супруги, а она теперь смеет обвинять меня за то, что я сказал ей это перед ее отъездом». То, как Герцен поступил и как повела себя Эмма, с нескрываемым раздражением (понятно!), и с непонятным нарушением принятого им прежде правила экономической деликатности (так его назовем), — читаем в «Былом и думах»[111].
Действие драмы замерло в ожидании Гервега.
Наталья Александровна оправдывалась: он, очевидно, думает «увидеть и получить дворец» или «нечто великолепное — совсем нет». Она умоляет Георга посмотреть на будущее жилище с ее точки зрения… С своей точки зрения, Герцен вовсе не против встретиться с привычным собеседником, даже вновь призывает сотрапезника поторопиться: «Приезжайте же, мы ждем — все приостановлено, / И не пьется водочка / По этой причине». Слышится модная песенка «Едет чиж на лодочке», которую в ту пору любит напевать Герцен. И бордо (с уточнением, Леовиль) попивать возможно, если нет другого славного винца.
Его появление в Ницце 22 августа 1850 года вводит всех в ступор. Гервег видит, теперь уже воочию, как сильно изменилась Натали. До разрешения от бремени ей оставалось всего ничего. Не может он не почувствовать отвращения, ревности и раздражения Эммы под тяжестью зависимого существования в доме с террасой и садом, где рядом плещется море, «где тень олив и небо голубое». Да и сам он жестоко раздражен даже видом собственной жены, а она неумеренными жалобами теперь досаждает больной Натали, часами не вылезает из ее комнаты.
Глазами Герцена (уже в «Былом и думах») видим и Гервега: приняв «вид Вертера в последней степени отчаяния», он напоминал почти что помешенного, и обе женщины «были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится».
«Ничего не подозревающему» хозяину дома оставалось наблюдать эту фантасмагорию несовпадений заявленного в теории и проявившегося в обыденной жизни так явственно и так беспощадно.
Двадцатого ноября 1850 года появилась на свет крепкая здоровая девочка, которой суждено прожить долгую и вполне счастливую жизнь. Выбрали имя. С Ольгой, сообщал Герцен Марии Рейхель, «соединяется Олег вещий. К тому же хорошо по части равенства: Саша Тата Коля Оля. А если будет еще лет через 10, то я назову просто „Ля“».
Даже не оправившись от родов, в порыве вновь всколыхнувшейся, патологической страсти к Гервегу (этого трудного слова в «рассказе о психической патологии» не избежал сам Герцен), Наталья Александровна вновь берется за перо. Ее записочки возлюбленному, с которым она живет бок о бок, по накалу преувеличенных страстей превосходят почти всё, ранее ею написанное. 29 ноября 1850 года Натали обращалась к Гервегу: «Пусть когда-нибудь люди падут ниц, ослепленные нашей любовью, как воскресением Иисуса Христа».
Через пару дней после рождения Ольги, когда Натали еще не вставала с постели, Луиза Ивановна в компании мужчин — Герцена и Гервега, отправилась в город Виллафранка, чтобы после приятной прогулки пешком вернуться в Ниццу морем. Пока настроение приподнятое, Гервег в полном восторге, все время поет, — свидетельствует мать Герцена. В ее спокойном, стороннем повествовании о «приятной жизни под таким чудесным небом» прорываются тревожные нотки: сын не совсем здоров, мается головными болями, да и «старая история» с Гервегами всем поднадоела.
Профанация во всем скоро становится слишком очевидной. Гервег вновь настаивает на разрыве и уходе Натали из семьи. Минутные порывы покинуть Герцена возникают у нее так же часто, как и угасают. Она умоляет спокойно ждать. Ее экстатические послания Гервегу пытаются закрепить хрупкое равновесие: «На коленях умоляю тебя быть спокойным, не оскорбляться, не обижаться ничем…» В другом письме признается: «…я люблю свою семью, со всею любовью, которая только может таиться в сердце. <…> Такова моя натура, я люблю безумно; быть может, эта способность любить так велика во мне потому, что у меня нет других способностей? Я люблю для себя, исключительно из эгоизма…»
Внешне совместная жизнь в доме шла вполне обычно, хотя зловещий конец уже просматривался впереди. Одни только дети демонстрировали полную беззаботность. И Саша, и Тата Герцен, и Горас Гервег жили своей детской жизнью, решая свои важные детские проблемы. Счастливая повседневность оставалась их привилегией. И это пока еще мирное сосуществование двух семей осталось на картине, заказанной Натали известному акварелисту Жаку Гийо (Guiaud). Акварель не сохранилась, а может быть, не обнаружена[112], но по фотографии, найденной у потомка Герцена Кристиана Амфу, интересно ее рассмотреть.
Это тот самый дом Сю на Promenade Anglaise, где прошли мучительные дни в жизни Герцена (жили здесь с 4 августа 1850 года по начало августа 1851-го). Картина представляет часть четырехэтажной виллы с мансардой и террасой под аркой. За террасой — сад, небольшое строение вроде беседки. Едва различим фонтан. На дворе перед домом играют дети: мальчик повыше, везущий тачку, — это Саша; другой, ростом пониже, — Горас Гервег; совсем маленький, играющий с собакой, — Коля. Справа от мальчиков — Тата, держащая на поводке козу. Сверху, с веранды, на них смотрит Наталья Александровна.
Герцен не сомневался, что акварель назначена ему — как подарок к Новому году, но оказалось, что Натали приготовила ее для Гервега. Герцен был обескуражен, раздражен и не скрывал досады[113]. Окончательно пришла «уверенность в минутном увлечении Natalie», но и сознание, что в противостоянии с соперником он не будет вытеснен «из ее сердца».
Требовался только повод для прояснения ложной ситуации. И вскоре он нашелся. Наступление нового, 1851 года и судорожное настроение у всех встречавших его в доме Луизы Ивановны подвели черту. «…Случилось то, чего я ожидал, — писал Герцен в „Былом и думах“, — Natalie сама вызвала объяснение. После истории с акварелью и праздника у моей матери — откладывать его было невозможно.
Разговор был тяжел. Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад. Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда — хотела сама ехать на год в Россию — и боялась ехать. Я видел колебанье — и видел, что он своим эгоизмом сгубит ее — а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть за молчание». Требовалось принять решение. Разрыв был неминуем.
Мучительные объяснения с женой не принесли ничего, кроме твердого решения Герцена — существовать под крышей «гнезда» вместе с Гервегами далее невозможно. «В душе моей царила смерть», — писал он, вспоминая эти дни. Впервые возникали мысли о самоубийстве, которые перекрывались яростным желанием — убить Гервега. Наталья Александровна, слабая, постоянно страдающая, умоляла только об одном — избежать дуэли с Георгом.
«Неужели это было пророчество моей судьбы — так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?.. — думал Герцен, открыв свою давнюю повесть. — Но внутренний голос говорил ему: „Какой ты Круциферский — да и он что за Бельтов — где в нем благородная искренность — где во мне слезливое самоотвержение?“».
В последний раз они увиделись в самом начале 1851 года, 3 или 4 января. Объяснения, как всегда, не вышло, но Герцен потребовал у Гервега оставить его дом. О последствиях этого решения и поведении всех участников события — вновь читаем в рассказе-версии Герцена. Гервег «поиграл в самоубийство», а Эмма предложила отпустить Натали с Гервегом, чтобы самой остаться с Герценом. Даже чудовищная «перетасовка» действующих лиц в переломный момент драмы не могла привести к подобным поворотам. Гервег признавался, что «ни за что не выстрелит в друга, перед которым чувствует себя виноватым». Натали оставалась с Герценом: ее снова и снова уничтожала мысль, что теряет детей и «разбивает жизнь Александра». Но в ее голове звучали и «самые жестокие слова из всех сказанных» им во время объяснений.
«…Дети — бедные дети — что с ними будет? — Об них… надобно было прежде думать!» — отвечал Герцен жене.
В тайном послании Гервегу (еще не покинувшему пределов «гнезда») она намекала, что думает о самоубийстве. Просила привести в порядок пистолет и в порыве «болезненной страсти» (так называл это Герцен) вновь уверяла Гервега, что любит только его, «что она готова ко всему, однако у нее, быть может, не хватит сил…».
Лишним — оставалось покинуть дом. Около 9 января Гервеги уехали.
«Буржуазный отъезд» Гервегов с погашением счетов, неоплаченных долгов, непредвиденных покупок, совершенных практичнейшей Эммой; с возвращением, отсылкой и неожиданным обустройством детей Гервегов так и стоит перед глазами изумленного читателя редкостной картиной беспардонного человеческого поведения, впрочем, добавим мы, вполне беспечного, и конечно, вынужденного такой стремительностью событий. «Дерзкая неделикатность», — скажет точнее Герцен. Но это, скорее, об Эмме.
Пока что рано говорить о «предательстве» Гервега. Надо дойти до точки их действительного расхождения, «разрыва», когда употребим это страшное слово. В данный критический момент Гервег — только объект внезапно взорвавшейся ревности, страдающая сторона. Но ведь его постоянно призывали разделить совместную жизнь в «гнезде» — и он, не без некоторых проволочек, приехал. Его любили — и он принимал эту любовь, отвечая на нее в меру своего мужского эгоизма и не принимая двойственности решений Натали. Дружба с Герценом, в его представлении, не должна была ни в коем случае пострадать.
С отъездом Гервегов, казалось, страшная «обуза с плеч» сброшена, как полагала Луиза Ивановна, и «Александр выпущен из тюрьмы». Но, увы, дверки ее затворились еще плотнее.
Письмо от Гервега, первое после его отъезда из Ниццы, Герцен просто бросил не прочитав. Такая судьба, по-видимому, грозила и другим его посланиям. Но следующее письмо, полученное 16 января, Герцен приоткрыл, чтобы ответить после прочтения первой страницы: «…такая диссертация слишком длинна для меня в моем теперешнем состоянии. Я не нуждаюсь ни в объяснениях, ни в переписке. Я предоставляю полную свободу всем. Но пусть уважают и мою свободу. И если не умели уважать моей дружбы — пусть считаются с моим несчастьем и моей ненавистью, я этого требую». Это было последнее письмо Герцена Гервегу.
Наталья Александровна не прекратила переписываться с возлюбленным, то и дело внося коррективы в собственные решения и просьбы. На его настойчивое предложение наконец-таки бросить семью и присоединиться к нему в Генуе Натали ответила исповедью, благодарностью за всё, с множеством возвышенных слов, объясняя свои мимолетные порывы расстаться с семьей только желанием побороть его грусть и отчаяние. Тогда она была способна наложить на себя руки, «то была не шутка», но Гервег не выполнил вовремя ее просьбу о пистолете. «Теперь же рука моя не подымается, для себя я ничего не хочу, я смотрю на себя как на собственное надгробие, однако я не в состоянии покинуть Александра в таком положении…» — вновь повторяла она. — «Я хотела спасти всех… своей гибелью, если это необходимо, все спасти и очистить — для этого я готова еще умереть и жить…»
Мелодраматические повороты в поведении Гервега открылись Герцену из писем к Натали (до нас не дошедших) его бывшего друга-врага. Неизвестно, были ли они прочитаны с согласия жены после разрыва с Гервегом или уже после ее смерти, когда в «Былом и думах» выборочно цитировались отрывки из признаний Гервега. «Так, например, он писал, что на него находят такие минуты исступления, что он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы в окно и явиться к нам в их крови. В другом письме — что придет зарезаться при мне и сказать: „Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил“. Рядом с этим он умолял Natalie помирить его со мною, принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше.
Десять раз писал он о заряженном пистолете, и Natalie все еще верила. Он требовал только ее благословения на смерть; и уговаривал ее написать ему, что она, наконец, согласна, что она убедилась, что выхода нет, кроме смерти. Он отвечал, что ее строки пришли слишком поздно, что он теперь не в том расположении и не чувствует достаточно сил, чтобы исполнить, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет».
Очевидно, что не вся переписка Натали, особенно интенсивная в эту пору, проходила через руки Герцена. Правда, он полагал, что в их отношениях нет больше недоговоренностей. Но тайный поток ее писем не пересекался с «официальным», приоткрытым для Герцена в части новых уловок и планов Натали.
Чтобы «не доводить Гервега до отчаяния», Натали просила мужа разрешить иногда писать их бывшему другу, «обещала ему свидание через год под тем условием, что он не будет злоупотреблять правом переписки…». Герцен не мог не предвидеть, что это только увеличит «эпистолярную невоздержность» бывшего корреспондента.
В ответах Натали на несохранившиеся письма Гервега постоянно звучит его голос, сопровождаемый торжествующими упреками его злопамятной защитницы Эммы. Наталья Александровна теперь даже способна предъявить моральный счет неудачливой женщине, отбросив «величайшую профанацию» их вынужденных отношений. В потоке обид, угроз Гервега и упреков со всех сторон Натали особенно задевает обвинение Эммы, что она «искусственно вызвала его любовь». «Вот каким образом вы отдаете мне должное! Да, да, это я искусственно вызвала твою любовь! Это моя любовь искусственно вызвала твою… — обиженно оборонялась Натали от нападок Гервега. — Но разве я сделала бы все то, что я сделала для чувства, которое не проявило бы инициативы!.. <…> Еще ты говоришь мне, о Георг, что „следовало бы избежать этого столкновения — даже путем нашей смерти“, что я „могла бы спасти дружбу Александра, спасти Эмму“…»[114]
Теперь особую эпистолярную активность проявляла именно Эмма, и ее упреки и обвинения Герцена бумерангом отзывались в письмах Натали. Она отвечала Гервегу, бывшему в курсе переписки жены, а порой вносившему новую ложку дегтя в редактирование этих писем.
Герцен просил настойчивую корреспондентку оградить его от всяческих посягательств на честь семьи и предостерегал от разглашения подробностей его личной истории. Эмма убеждала Герцена в своей порядочности, сохранении тайны, благодарила «за доказательства подлинной дружбы в прошлом», но не уставала повторять, что о связи Гервега и Натали знала давно. В этом письме от 21 января 1851 года, сохранившемся в черновике, отчетливо видны следы текстологического вмешательства Гервега. Выражение, будто Эмма «силой увезла» из Ниццы своего мужа, желавшего расплатиться с Герценом «своею кровью», она посчитала возможным не включать в отосланный текст. Но Герцен его сжег, не читая. Через год (11 февраля 1852 года) Эмма повторила попытку оправдаться перед Герценом, переслав ему копию того же письма, — опять тщетно.
Тридцатого января 1851 года Гервег объяснялся в письме их общему с Герценом приятелю А. Колачеку: «Вот уже три недели, как я покинул Ниццу. Неизбежная катастрофа в конце концов разразилась… Герцен и я отныне — amis mortels[115]. <…> Я стою между жизнью и смертью…»
Февраль прошел в бурном выяснении отношений между Натали и Гервегом, Эммой и Натали. Ситуация обернулась своей реальной стороной, но это не давало им повода остановиться перед реальной картиной прошлых взаимоотношений: декларации, упреки и фантазии заполняли все более сжимающееся пространство раздирающе-противоречивой жизни Натали. «Никакая прекрасная действительность» для нее была невозможна. Эмма внушала бывшей подруге свой взгляд на их общие отношения: «Что было делать! С одной стороны Георг, который был для меня всем и который повторял мне, что покончит с собой, если я его покину; с другой — А., которого я нежно, от всей души любила, который был так добр ко мне, — а посередине ты, которая под предлогом желания примирить всех, жертвовала всеми и готовила своим сердечным дилетантизмом катастрофу, кровавый конец которой я предвидела и предсказывала».
«Принимаю лишь страдание или смерть…» — в который раз повторяла Натали в письме Гервегу. И тут же отвергала все посягательства на уход из этого мира. Потому что в полдень 18 февраля назначала ему через год свидание: «МЫ УВИДИМСЯ…»
Безумство новых планов четы Гервегов, их мнимая попытка самоубийств и полное игнорирование этого Герценом побуждали Гервега не останавливаться. Его уязвленное самолюбие прочитывалось в ожесточенных письмах Натали. Хотя они уничтожались, Герцен впоследствии подтверждал, что в них содержались «угрозы скандалами, убийствами и пр.». Что могла ответить Натали? Все то же, «будто ее распинают на двух крестах», потому что «любила сверх меры»: «И теперь еще все мое существо состоит из одного только сердца, разорванного надвое… — кровоточащего, изливающего потоки крови, — но ни кровь, ни любовь, которые, в сущности, нераздельны, никогда не иссякнут, никогда не прекратят усилий обоих половинок сердца слиться в единое целое; мое существование — не более как этот трепет, лишь благодаря ему я не умерла еще; и только когда мое сердце приобретет единство — я снова приду в себя; только тогда я буду в силах увидеться с тобой; ранее того — я не способна ни к чему, ни к чему. Александр не препятствует мне — это я сама ничего не могу сделать». Она «хотела спасти всё» и всех, но до полного крушения оставался один шаг. В полном исступлении она советовала Гервегу убить ее: «И пусть меня похоронят в двух могилах; предупреди меня, я напишу свое завещание. Убив меня, ты только лишишь моих детей верной собаки, остальные же ничего со мною не потеряют: я совершенно разбита». Теперь эта постоянная, почти безумная полемика-страсть с все новыми поползновениями Гервега удержать ее выливалась в новых ответах на неведомые нам теперь письма Гервега. Судить об их содержании только на основании эпистолярных порывов Натали и поздних комментариев ученых-текстологов все же следует с определенной осторожностью.
Письма Натали Гервегу после их разлуки опубликованы иногда без дат. Целая пачка с нарушенной временем хронологией как один общий «стон», крик о любви и смерти уже очень больной женщины, оказавшейся на пороге нового несчастья. Цитировать их трудно. Кажется, что ее возможности самовыражения переходят за грань, нарушают все воображаемые границы, но это только ее граница, предназначенная тогда для двоих.
Нервное напряжение, полное смятение, разгул эмоций, почти необузданные разумом слова («Бред, бред! Безумие! Горячка!», «Убей, убей всех, прикончи…»), подразумевающие временное помешательство, срыв, стресс (если сказать современно). «Меня больше не существует», — пишет она Гервегу. «Нет, нет и тени любви! Признайся! Все твое поведение в последнее время было низко, недостойно, чудовищно, это не любовь… О, нет. Ужас! Ужас!» Но между ревнивых строк всегда прорывается ее бурная страсть к Гервегу, хотя везде, как укор его эгоизму, «все более возраставшему и, наконец, оборотившемуся каким-то змеем, пытающимся удушить меня, Александра, моих детей», читаются ее четкие признания: покинуть семью — никогда. Можно понять, что ответы отвергнутого, взбешенного Гервега порождали шквал новых упреков и признаний. Для нее, несмотря ни на что, оставалась мечта, «более действительная, чем сама действительность», о новой их встрече через год.
Действие драмы внезапно выходит на новый уровень отношений. Гервег, судя по ответному письму Натали, не прочь возобновить дружескую связь с Герценом и видит возможность нового опыта совместной жизни обеих семей. Наталья Александровна не может этого допустить. Особенно ненавидит она Эмму, возмущаясь ее предательством. По-прежнему старается, в меру сил, пощадить Александра, «истерзанного, снедаемого собственным страданием, собственными подозрениями, которым не хотел верить, которые не хотел проявлять до последних дней». «Довольно разыгрывать роли! — обращается она к Гервегу. — Я говорю, как осужденная на смерть и уверенная в том, что буду казнена. Ты же говоришь, что я играю… Хорошо, говори все, что вздумается, я же — готовлюсь к смерти».
Отъезд Гервегов не отменял общих проблем семьи. Герцен судорожно искал выход. Где обосноваться, как жить дальше?
Отправиться в Испанию? Не сложилось. И в Ницце тоже нельзя оставаться. Высылают. Очень уж не пришлось ко двору французское издание его брошюры «О развитии революционных идей…». Сардиния изгоняет: «…человеку, навлекшему на себя высочайший гнев Николая Павловича», здесь не место. Книги, его книги — всему виной. Возможно, далекая Америка? Но ведь верно говорится: «Страна забвения».
Лишение Герцена всех прав российского состояния — как гром среди ясного неба… Объявленному царским указом «государственным преступником» дорога домой заказана навсегда. Стоит подумать о натурализации в одной из европейских стран. В Швейцарии Герцена привлекает возможность быть ближе к России и «вступить в союз со свободными людьми Гельветической конфедерации». К тому же обстановка в стране кажется ему наиболее нравственной для воспитания детей. В эту переломную пору его особое внимание — к их судьбам. Они во что бы то ни стало должны оставаться русскими. И не только. «…Я хочу со временем, — пишет он сыну Саше, — видеть тебя идущего по дороге, по которой я шел 25 лет». Это и есть служба «на пользу России словом и делом». (Теперь, когда эмиграция стала неотвратимой, он размышляет: «Что я сделал бы в России с железным намордником?»)
Чтобы утрясти непростой вопрос о гражданстве, немалое время уделяется хлопотам и отлучкам из дома. В начале июня 1851 года, перед поездкой в Швейцарию, Герцен оказывается в Париже. Для него это передышка, возможность успокоиться, в чем убеждает его в своих письмах и Наталья Александровна. Он откликается: «Я так привык себя считать под каким-то фатумом, что даже принимаю и светлое». Для него время разлуки — это возможность собраться с мыслями, поговорить в письмах жене о себе и об их будущем: «Я думаю, ты права, мы должны были сплавиться, сделаться необходимостью друг для друга… страшный опыт показал иное, но, может, он победится. <…> Я ведь был ужасно молод, чист даже по-детски во многом до этой страшной осени, тут я переродился и стал вовсе не так прост и прям, как прежде, я чувствую, что я стал зол, скрытен, постоянно присущее чувство великого оскорбленья, как дрожжи, бродит и мучит. — Ты скажешь, что я опять все говорю о себе, да о себе. Да о чем же, друг мой, говорить мне с тобою, как не об нас». В другом письме жене он вновь подвергает анализу (что делал не раз и в России) свой меняющийся характер: «Есть люди, рожденные с силой, с светлым взглядом, с энергией, — натуры, полные надежд, лучезарные — они не вырабатывают из себя яда, но страшно страдают, когда им дают отраву. Они верны себе, отражая боль страданием и улыбкой счастие. Долею я принадлежу к таким натурам».
С надеждой, что «рубец, нанесенный прошлым годом, изгладится», он пытается начать выстраивать заново рухнувшую семейную жизнь и 22 июня пишет ей: «Да, соединимся на великом деле воспитанья… Но только я ему (Саше. — И. Ж.) буду проповедовать не одну любовь — а и ненависть; кто никогда не ненавидел, тот еще не жил вполне…»
Проходит всего несколько дней до 28 июня. Встреча в женевском кафе с Николаем Сазоновым, отметившимся дружбой с Герценом еще со времен московских юношеских пирушек, резко меняет его настроение. Притом что слухи все более распространяются в посторонней среде, а близкие люди, вроде М. К. Рейхель, обходят острые углы, Герцен узнает от Сазонова подробности его разрыва с Гервегом. Стоит открыть «Былое и думы» и привести этот разговор о тайне, которую совершенно равнодушно, за стаканом вина, «из дружеского участия», «будто это самое обыденное дело», преподносит Герцену Сазонов.
«Я слышал всю историю от самого Г[ервега). И скажу тебе откровенно — я тебя вовсе не оправдываю. Зачем ты не пускаешь жену твою ехать или зачем не оставишь ее сам — помилуй, что за слабость — ты начал бы новую, свежую жизнь.
— Да с чего же ты вообразил, что она хочет ехать — неужели ты веришь, что я могу пускать или не пускать?
— Ты принуждаешь ее, — разумеется, не физически, аморально… <…> Г[ервег] уехал из вашего дома, во-первых, потому, что он трус и боится тебя, как огня, а во-вторых, потому что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься — приехать в Швейцарию.
— Это гнуснейшая клевета! — вскрикнул я.
— Это его слова — и в этом я даю тебе честнейшее слово.<…>
„Итак, — повторял я сам себе… — вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь, — обманом и, по дороге, европейской сплетней… Ха, ха, ха!.. Меня жалеют, меня берегут из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату, которого перестают сечь и отдают в больницу, когда пульс слабо бьется, — и усердно лечат — для того чтоб додать, когда окрепнет, вторую половину“. Я был обижен, оскорблен, унижен».
Вот здесь отчеркнута первая черная линия предательства «смертельного друга»: «подл не факт, подл обман». Сомнению подвергалась репутация Натали, и все более разгоралось «желание мести» неуёмному врагу. Герцену требовалась, наконец, правда и только правда, и прежде всего от самой Натальи Александровны.
Глава 14 КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Жизнь страшна, что решительно не на что опереться.
А. И. Герцен — М. К. Рейхель
В письме жене, написанном ночью того рокового дня, 28 июня 1851 года, Герцен не стремится скрыть ни своего отчаяния, ни даже гнева, ни своего нового недоверия Натали: «Что со мною и как, суди сама. Он все рассказал Саз[онову]… Такие подробности, что я без дыханья только слушал. Он сказал, что „ему жаль меня, но что дело сделано, что ты упросила молчать, что ты через несколько месяцев, когда я буду покойнее, оставишь меня“… <…> Так глубоко я еще не падал. <…> Неужели это о тебе говорят?.. О, боже, боже, как много мне страданий за мою любовь…»
Спустя несколько дней Наталья Александровна отвечает. Отрывок ее несохранившегося письма Герцену — в «Былом и думах»: «Лучше мне умереть, вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу!»
Ее желание остаться с семьей, несмотря на страстное желание быть с Гервегом, прочитывается во всех ее последних письмах возлюбленному. Она оставляет для себя лишь мечту увидеться с ним во что бы то ни стало, может быть, через несколько месяцев, может, через год… Об уходе из семьи речи нет.
Настроение Герцена в одиноком блуждании по миру — Париж, Фрибур, Муртен, Шатель не придает ему особых надежд на будущее. Вопреки «общему» частная жизнь идет под гору. Наталья Александровна остается в Ницце, даже не предложив Герцену вместе посетить новую родину «тяглового крестьянина» сельца Шатель, завоеванную мужем с немалым трудом. После отказов натурализовать его в Женевском кантоне и отступнического поведения Дж. Фази, с помощью новых знакомых — К. Фогта и Ю. Шаллера, президента Фрибурского кантона, дело решилось внесением взноса в 1500 франков шательской общине, некоторыми финансовыми обязательствами и «свидетельством о доброй нравственности», выданным ниццким бургомистром 2 мая. Так 1 июля 1851 года русский надворный советник перешел в тягловые крестьяне и оказался среди новых своих соплеменников на празднике торжественного вхождения в гражданство, сопровождаемом всеобщим неумеренным возлиянием, о чем не без юмора потом вспомнил в «Былом и думах»[116].
Герцен совершенно переменился в последние полгода. Злоба и тоска, как он выразился, «разъедают». Чувствуя отчаянное состояние мужа, Наталья Александровна снова старается его успокоить, и слова из полученного им письма нельзя назвать не банальными: «…если б у меня были крылья!., как бы полетела я к тебе!..»
В яростном стремлении одержать верх над противником Гервег заходит слишком далеко. В это время Эмма внезапно возвращается в Ниццу с напутствием мужа: «Пусть чувствуют, что у тебя оружие в руке и что ты в любое мгновение можешь надлежащим образом пустить его в ход…»
Это письмо Гервега[117] заключало в себе две угрозы: не допустить возвращения Герцена в Ниццу и прямой шантаж в виде компрометирующих Натали, ее же собственных тайных писем. Средство, вполне действенное, препятствующее и приезду Герцена, и создавшейся опасности для Натали. «Тебе некого щадить, — писал Гервег, наставляя жену, — и… ты больше щадить не будешь… ты можешь видеть Н[атали] у своих ног тогда, когда захочешь этого, и… она будет вымаливать у тебя прощение…» При этом Гервег не оставлял, вероятно, желания встретиться в Ницце с Натали, а в случае возвращения туда Герцена самолично явиться с разоблачениями.
Холодные письма Герцена, накаленная обстановка вокруг, наполненная сплетнями и пересудами, повергли ее в панику и призывали немедля ехать. После некоторых сомнений («Зачем еду?») она отправилась в Турин, где 9 июля возле Кариньянского дворца произошла известная читателю «Былого и дум» лирическая встреча, названная неисправимым идеалистом «вторым венчанием» и «святым временем примиренья». «…Нет, не примиренья, — поправлял себя Герцен, — это слово не идет.
<…> Нам нельзя было мириться: мы никогда не ссорились — мы страдали друг о друге, но не расходились».
Накануне отъезда в Турин Гервегу, в ответ на его «безумные письма», Натальей Александровной вновь отослано послание с твердыми уверениями, «что любовь Александра… развернулась во всем ее величии» и что семью она не покинет. «Я думала, что нашла в тебе воплощение всех моих мечтаний, я была ослеплена этим, перенесена в сферы, которых человеческое воображение едва в состоянии бывает достичь… Нам пришлось расстаться. Исполненная благодарности к тебе и судьбе за огромное счастье, я не хотела больше возвращаться к нему, видя, что оно не может сочетаться со счастьем Александра. Я хотела продолжать свою жизнь, связанную с его жизнью и жизнью детей. Ты угрожал мне, утверждая, что это будет гибелью для всех нас, и ты обещал нам спасение, гармонию, блаженство в совместной жизни; это обещание легло в основу всего: ты просил у меня позволения быть только собакой в моем доме, видеть меня лишь изредка… Ты говорил, что исчезнешь при первом же диссонансе. <…>
Из твоих безумных писем я увидела, как ты продолжаешь разрушать покой Александра, не будучи в состоянии удовлетвориться. Я видела также, что ты не способен на малейшую жертву, что ты любишь только для самого себя… Тогда силы покинули меня. Тогда я почувствовала себя готовой ко всему, и именно тогда я попросила тебя поручить привести в порядок пистолет. Зачем оставил ты меня в живых — не понимаю до сих пор… Твой отъезд, поведение после отъезда были более чем бесчеловечны; мой идеал был низвергнут, смешан с грязью. Ты пренебрег всем, всем, что есть для меня священного, попрал ногами; все обещания, мольбы — все было отвергнуто, — ты меня уничтожил. <…>
Он и дети помешали мне принять смерть, которую ты мне предложил, они удерживают меня еще и теперь, и если смерть не придет сама собой, или если ты, Георг, не пришлешь ее, чтоб оторвать меня от семьи, — я не покину семью, я в ней растворена, вне семьи меня нет больше…
Я страдаю от твоих страданий, я страдаю от них тем сильнее, что являюсь их причиною… Но поделать ничего не могу… Такова уж я от природы…
Отомсти, убей меня, если это может тебя облегчить… Если ты можешь, — я же помочь тебе не могу!..»
Наталья Александровна словно не замечает реалий обычной, бытовой жизни, не дает себе отчета, почему Гервег изгнан из Ниццы; в стилистике писем замечаем уничижительные повторы ее собственных признаний и откровений.
После туринского свидания 15–16 июля Герцен с женой едут в Ниццу.
«Возвратившаяся тишина» семейной жизни, почти одинокое существование, переезд в дом Дуйса С.-Элен, что на окраине Ниццы, казалось, сняли множество проблем и кризис миновал. Вскоре Наталья Александровна вновь забеременела. Жизнь продолжалась…
Герцен взялся за работу. Давно подумывал о повести, которую начал еще год назад. Но отложил за недосугом, да и просто повесть не шла. Писал о ней как о «неудавшейся и неоконченной статейке». А вот в октябре 1851-го решил продолжать, несмотря на мрачные пессимистические настроения, мучительно захватившие его. Вышло еще одно сочинение о лишнем человеке, к тому же «поврежденном», с его безысходным взглядом на все происходящее и бездеятельным пессимизмом. Крепостная тема (тоже очень важна) — пропащая судьба освобожденной из рабства, выучившейся пению крепостной, в трагическом рассказе слуги Спиридона, несомненно чем-то напомнившем не менее страшную историю Анеты в «Сороке-воровке», сильно прозвучала в повести.
Авторская подпись в конце повести «Поврежденный»: «С.-Элен, близ Ниццы. Зимой 1851 года» выводила ее создание ко времени и месту действия, во многом сближающими сочинение с известными лицами и событиями той поры[118].
В дальнейшем Герцен еще встретится со своим героем — Евгением Николаевичем, и при рассмотрении важного герценовского цикла «Концы и начала» (1862–1863) даст повод поговорить об этом особенном, чисто российском персонаже, в котором заключено столько взаимоисключающих русских черт.
В пору «частных» потрясений Герцен получает все большую известность в европейском демократическом оппозиционном движении, продолжая отстаивать в своих работах новые социальные отношения и безусловную независимость личности.
В предисловии к немецкому изданию «Кто виноват?» (Лейпциг, 1851) известный журналист и переводчик книги В. Вольфзон высоко оценивает Герцена как художника и мыслителя, как человека самой высокой «пробы»: «Высокоидеальное и нравственное содержание его сочинений выступает еще сильнее в его личности. <…> Искренность и правда — основные черты его характера; у него нет тайн; и перед своими близкими друзьями и перед целым светом… Это не только ясный ум, но и прозрачная душа. Ему чуждо лицемерие во всяком виде».
Герцен в переписке с Дж. Маццини, с другими выдающимися деятелями Запада последовательно излагает свои идеи. Он целенаправленно продолжает знакомить «Европу с Русью». Пишет одно из программных своих сочинений «Русский народ и социализм. Письмо к Ж. Мишле», примыкающее по тематике к работам «Россия», «Письмо русского к Маццини», «О развитии революционных идей…». Демократическое общественное мнение должно иметь правильное представление о передовой народной России, противостоящей России императорской, о богатейшей культуре страны, о судьбах славянских народов, об их взаимоотношениях между собой, о свободной славянской федерации — «зерне кристаллизации» славянского мира, не имеющего никакого отношения к правительственной идее «императорского панславизма». Гордость за русский народ, уверенность в его великом будущем позволяют Герцену возвысить голос в его защиту: «Русский народ… жив, здоров и даже не стар — напротив того, очень молод». Несомненно, «прошлое народа темно; его настоящее ужасно (Герцен перефразирует мысль Чаадаева. — И. Ж.), но у него есть права на будущее».
Размышления о русской сельской общине, занимающие его в статьях 1849 года, продолжены и в этом обращении к Мишле, написанном после свершившихся переворотов, ибо русский «сельский коммунизм», как полагал Герцен, имеет точки непосредственного соприкосновения с «революционной Европой». Герцен не обходит и «страшный вопрос»: «Достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму?»
Письмо и поставленные в нем вопросы были вызваны полемически заостренным чтением сочинения одного из просвещеннейших людей Европы Жюля Мишле. С ним Герцен познакомился в Париже в июне 1851 года. Несколькими месяцами ранее известный историк, задумав написать серию биографий героев международной революции, названную «Легендами демократии», приступил к первой из них — «Польша и Россия.
Легенда о Костюшко». Очерк, проникнутый глубоким сочувствием к Польше и ее национальной борьбе, был весьма поверхностным в ряде положений о передовой России, на что и указывал Герцен.
В который раз возвращаясь к наболевшей проблеме России и Польши, Герцен писал Мишле: «Любовь к Польше! Мы все ее любим, но разве с этим чувством необходимо сопрягать ненависть к другому народу, столь же несчастному… <…> Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. <…> Польша и Россия подавлены общим врагом. <…> Поляки почувствовали, что борьба идет не между русским народом и ими, они поняли, что им впредь можно сражаться не иначе, как ЗА ИХ И НАШУ СВОБОДУ, как было написано на их революционном знамени». (Этот лозунг был пронесен Герценом в ряде статей 1863–1864 годов, при новой исторической ситуации.)
«Критическое высказывание» Герцена было принято Мишле с огромным расположением и благодарностью, он и прежде ставил высоко его книгу «О развитии революционных идей…». Восхищаясь силой слова русского публициста, он писал Герцену 3 ноября 1851 года после получения обращенного к нему письма «Русский народ и социализм»: «Каждое ваше слово… — дело… <…> Я был тронут им до слез. <…> Мы спасемся вместе. Франция воскреснет в 52 году, и мир еще будет жить. Вы… в известном смысле — авангард человечества. Избави меня Бог спорить с теми, кто занимает этот почетный пост! Еще до получения ваших замечаний я исправил сказанное мною о русской литературе».
Герцен был готов помочь Мишле фактическим материалом для написания и других его очерков в «Легендах демократии». Когда историк заинтересовался судьбой Бакунина, «славным мучеником», переданным из австрийской тюрьмы в руки царских властей, Герцен откликнулся небольшой заметкой о друге, предлагая историку свободно воспользоваться биографическими сведениями из первых рук. Статья о Бакунине была написана Герценом 11 ноября 1851 года, буквально за пять дней до настигнувших его семью трагических событий.
Случай, фатум, неизменный спутник герценовской судьбы…
В начале августа Л. И. Гааг с внуком Колей и его учителем И. Шпильманом, страстно любящим своего питомца, уезжают в Париж, погостить у М. К. Рейхель. После долгого отсутствия, 14 ноября, мать Герцена сообщает из Марселя, что на следующий день они садятся на пароход «Ville de Grasse» и плывут в Ниццу. Но пункта назначения они не достигли.
Шестнадцатого ноября 1851 года около трех часов ночи близ Гиерских островов столкнулись два парохода. Кораблекрушение унесло близких и дорогих. Приступая к страшному рассказу о непередаваемой трагедии — «Oceano nox», Герцен нашел точные слова из стихотворения В. Гюго: «В бездонном море, в безлунную ночь, навсегда погребенные под водами слепого океана…»
«Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не осталось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежащего, — сомнение в их гибели было невозможно. <…>
Дело шло к рассвету, я велел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал место кораблекрушения. <…>
— Пароход вез груз масла; видите, оно отстоялось, — вот тут и было несчастие.
Это всплывшее пятно было всё.
— А глубоко тут?
— Метров сто восемьдесят будет.
Я постоял; утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера, дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!..
<…> С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Natalie не вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью, она говорила мне, как бы прося моей помощи:
— Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему было холодно, а тут рыбы, омары!
Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной — и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую плотину[119]. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее…»
Катастрофа ввергла Герцена в «почти бессознательное состояние». О Наталье Александровне и говорить нечего… «Наташа очень плоха, она похудала, состарилась в эту проклятую неделю», — пишет он Рейхель. Кому, как не ей писать, у кого, как не у давней подруги по счастливым московским временам, Машеньки Эрн, искать сочувствия. Ведь теперь, на чужбине, нет ближе человека. «Вы имели деликатность, нежность скрыть стон и умерить печаль», — скажет ей Герцен.
Двадцать восьмого ноября Герцен подводит некоторую черту: «…один я стою и дерзко смотрю судьбе в глаза — пусть еще что-нибудь выдумает, мне все равно: готов умереть или жить, — готов, — т. е. окончен».
К «частому удару» добавилось «общее» крушение, «вдруг уже не семья, а целая страна идет ко дну». 2 декабря последовал государственный переворот Луи Наполеона, Французская республика пала. «Общее, частное, — позже подведет итог Герцен, — все неслось куда-то в пропасть…» Остановить было невозможно.
Третьего декабря Герцен все же находит в себе силы, чтобы передать Марии Каспаровне некоторые подробности о последних минутах Коли, Луизы Ивановны и героическом поведении учителя Шпильмана, пытавшегося ценой своей жизни спасти дитя. «Результат всего, — заключает Герцен, — что жизнь страшна, что решительно не на что опереться».
Глава 15
«ТАК ТЯЖЕЛО, ЧТО СМЕРТЬ…»
Чего и чего не было в это время, и все рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье.
А. И. Герцен. Былое и думы
Двадцать девятого декабря Наталья Александровна совсем слегла. Новый год Герцен встречал у ее постели в кругу близких знакомых: зашли супруги Энгельсоны, доктор Карл Фогт… Откликнулись с соболезнованиями старые московские друзья: «Ужасно темно на душе!», «Подробности смерти Коли и Луизы Ивановны раздирают душу…»
Двадцать седьмого ноября написал из тюрьмы П. Ж. Прудон: «Весть о несчастии, вас поразившем, дошла до нас, она глубоко огорчила нас. Все наши друзья поручили мне от их имени передать вам слово их искреннего участия, живой симпатии, неизменной любви к вам.
Итак, видно, еще мало, что мы страдаем внутри нашего разумения, в качестве мыслящих людей, страдаем в нашей совести — человека, гражданина… надо еще, чтоб несчастие за не-счастием гналось за нами по пятам и преследовало бы нас в нашей любви сына, отца… Бедствия, так же как, с другой стороны, счастливые случаи, идут, цепляясь друг за друга, и когда вглядываешься поближе, то связь становится заметна, начинаешь разглядывать, что тот же самый гнет, который ведет нас в тюрьму, в ссылку, с другой стороны, морит голодом, болезнями».
Год за годом — 1849, 1850, 1851-й неумолимо приносили Герцену все новые несчастья. Укатали Сивку крутые горки… Что готовил год 1852-й?
Небольшие улучшения в течении болезни Натали чередовались с новой опасностью. 5 января врачи даже заявили о безнадежном состоянии больной. Ее мучили страшные головные боли, постоянно «перед глазами, точно открытая могила», возникала картина бушующего моря.
В эти невыносимые для Герценов дни Гервег вынашивал свой план мщения. Не в силах пережить поражение, ущемленный в своих давно признанных мужских достоинствах, он берется за перо. Месть, месть, пока на бумаге. Стоит перебелить черновик, исчерканный в поисках самых разящих слов (и они нашлись!), чтобы через несколько дней почта доставила до семейного дома, где, кажется, о нем хотят позабыть, это «страшное письмо». В роли отвергнутого любовника и отринутого друга семьи он не привык выступать.
Еще необходимо, чтоб о скандале узнали все — непосвященные и заинтересованные, все без разбора — друзья, враги. И, конечно, первая в этом списке, не раз покинутая, а теперь торжествующая Эмма, верная союзница мужа. Она уведомлена Гервегом, что на днях свершится: Герцен получит свое. Эмма спешит поделиться с их общими знакомыми К. Фогтом, К. Э. Хоецким и Ф. Орсини известием о посланном письме.
Это письмо Гервега жене не сохранилось. О нем известно лишь со слов Герцена, в свою очередь, получившего информацию о готовящемся ударе Гервега от К. Фогта. В «Былом и думах» читаем: «Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма показывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне страшное письмо, что он сбросит меня „с высоты, на которую меня поставила N[atalie]“ — что „он покроет нас позором, хотя бы для этого надобно было пройти через трупы детей и посадить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде“». Цитируя письмо, которого сам не видел, Герцен продолжал: «Наконец, он писал своей жене: „Ты одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим“… т. е. стало быть, перерезать нас».
Двадцать восьмого января Герцен уже держал в руках зловещий пакет от Гервега и не мог его не вскрыть. На обороте конверта прочитывалась надпись рукой бывшего «близнеца»: «Дело честного вызова». Отослать обратно, не открыв, было невозможно.
Вот это письмо в русском переводе[120] текста черновика, сохранившегося в записной книжке Гервега и обнародованного Э. Карром спустя 80 с лишним лет.
Гервег — Герцену 25 января 1852 года (дата белового оригинала):
«Зная ваши жестокие методы, мне приходится общаться с вами подобным способом. Я хочу исчерпать все мирные средства — и если они сведутся к нулю, я не исключу и скандала. В этом споре я буду вынужден призвать и третью сторону. Будьте уверены, что мой голос перекроет голос этого ребенка, плода кровосмешения и проституции, которого вы хотите предъявить всему миру как триумфальное доказательство, что вы не такой, как люди говорят. (Карр ставит здесь ссылку, что последние пять слов добавлены выше зачеркнутого слова „рогоносец“. — И. Ж.) Вот ваша великая душа — вы стараетесь решить проблему ценой унижения той, обладание которой вы оспариваете. Однако вы знаете из ее же собственных уст, что она никогда не принадлежала никому другому, кроме меня, что она осталась девственной в ваших объятиях, невзирая на всех ваших детей, — и таковой остается по сию пору. Вы также знаете, что мы были вместе в Женеве, в Ницце, день за днем, каждый день. Вам, наверное, говорили о таком союзе, где душа и тело едины, и о тех клятвах, которые только самая неописуемая любовь могла бы одухотворить и освятить. Когда же вы ее увидели, ее губы и тело еще пылали от моих поцелуев; вы узнали также, что в порыве любви она зачала от меня в Женеве ребенка, и я никогда не поверю, что вы и тогда не подозревали, как все остальные, — что не настолько обмануты, как хотите представить.
Вы не можете не знать, не понимать, что она была глубоко несчастна, и ей пришлось против воли родить ребенка от вас; что она просила у меня прощения, и я ее простил, ибо моя дружба к вам была тогда почти так же велика, как и моя любовь — я не хотел видеть ваших страданий. Мы доверились Эмме, на коленях умоляли ее принести себя в жертву и сохранить нашу тайну. Она видела нашу любовь; она видела нашу привязанность к вам; и она взвалила на себя это бремя — быть единственной несчастной. Но только вам одному известно, как можно обидеть женщину, когда всякой ложью, лицемерием, разными ухищрениями вы удачно изгоняете мужчин. Вы знаете, что целью нашей жизни с Натали было исправить несчастный случай в Женеве, что она думала и мечтала только о ребенке от меня и что все наше будущее заключалось в этой надежде. Когда она с вами говорила, она думала, что ей это удалось; возможно, вы не знали, что я остался неподалеку (то есть в Берне. — И. Ж.) только потому, что она была намерена уйти от вас.
Хватит. Вы не должны и дальше обладать женщиной, которую я не украл, а взял, ибо она сама говорила мне, что никогда вам не принадлежала. Что бы там ни было, мне не пережить, если вы будете вынуждать ее и далее.
К вашим незаслуженным оскорблениям Эммы вы добавляете позорное обвинение, что я соблазнил вашу жену. Есть достаточно причин, чтобы оправдать мое требование сатисфакции.
Будущий ребенок должен быть крещен в крови одного из нас. Другой был крещен совершенно иначе. Tempora mutantur[121]. Я обращаюсь с последним призывом к вашей чести — избрать предпочтительное для вас оружие. Давайте перережем друг другу глотки — подобно диким зверям, — поскольку мы уже больше не люди… Блесните же хоть раз, если вы действительно способны на это, чем-нибудь иным, кроме вашего кошелька. Гибель за гибель. Довольно холодных размышлений…»
Карр добавлял, что хотя запись кончается здесь, очевидно, Гервег придумал еще один острый удар, когда написал, согласно «Былому и думам»: «В заключение он доносил на нее и говорил, что судьба решает между мной и им, что „она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу семью“». Далее в тексте «Былого и дум» приводились слова Гервега (вариант начала письма, оставшегося в записной книжке) также в передаче Герцена: «Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно кончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения».
Герцен потом только раз раскрывал это письмо, а в годовщину рождения Натальи Александровны, 23 октября (по старому стилю) 1853 года, сжег его не читая. Трудно было даже через многие месяцы вновь пережить чудовищные обвинения и страшные признания. Взявшись за мемуары, Герцен напишет об этой первой своей «обиде, нанесенной ему со дня рождения», но самые острые места из письма все же оставит без внимания, не будет ни цитировать (теперь уже по памяти), ни даже упоминать о них.
При сравнении текстов становится очевидным, что черновик письма не повторял полностью отосланный Герцену беловой вариант, в котором некоторые слова, вроде «рогоносец», были устранены; другие же нелицеприятные пассажи — добавлены. Тем не менее, отвлекшись от оценок и трактовок Гервегом всего происшедшего, событийный ряд, представленный с его точки зрения, соответствовал некоторым фактам, уже знакомым читателю. Их связь с Натали действительно началась в Женеве, и ее влюбленность не знала границ. Наталья Александровна, не доносив ребенка (его ребенка, как утверждал Гервег), вынуждена была через месяц отправиться к Герцену в Париж. Отъезд Гервега в Берн не исключал возможности скорой встречи с Натали. Но другая, неожиданная ее беременность и рождение Ольги, не оставившие сомнений в отцовстве Герцена, планы нарушили. За вызывающим письмом Гервега, ущемленного «изменой» Натали, действительно последовало ее «прощение», а идея «гнезда близнецов» (по многим причинам, в том числе страстной привязанности к Герцену) не была им отвергнута. Отношения же Гервега с Эммой, претерпевшие столько унизительных поворотов, с возложенной на нее новой миссией мщения, нельзя не расценить только как семейно-клановую солидарность. Особый гнев Гервега вызвали дошедшие до него слухи о новой беременности Натали (также не вызывавшей сомнений в отцовстве) и ее наладившейся жизни в союзе с Герценом. Проигрыша сопернику Гервег допустить не мог. Его уязвленное чувство искало ахиллесову пяту противника, и, как представлялось Гервегу, это были деньги, «кошелек» Герцена (из которого, впрочем, он беззастенчиво черпал необходимые для его семейства средства).
«Были люди, говорившие, что он сошел с ума от любви, от разрыва со мной, от униженного самолюбия, — позже писал Герцен, — это вздор. Человек этот не сделал ни одного поступка — опасного или неосторожного, сумасшествие было только на словах, он выходил из себя литературно. Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягостнее всякого скандала…»
Тем временем скандалы, сплетни, угрозы Гервега обволакивали жизнь Герцена. В разговоре с В. Энгельсоном он вдруг узнает, что гнусное письмо Гервега давно для того не тайна. Она известна многим, и не только близким людям. «Грязный шантаж» недруга должен быть разоблачен.
Надо было действовать, отражать удар. Первая, яростная реакция Герцена — «ехать и убить» Гервега «как собаку», остановлена присутствием в доме умирающей женщины. Прежде ей даны клятвы и заверения: никаких дуэлей между «близнецами».
Последующее развитие событий можно определить как хронику безумств.
В тот же день 28 января Герцен обращается к Энгельсону с просьбой о посредничестве. Его письмо Гервегу должно расставить все точки над i: «…г. Герцен… поручил мне довести до вашего сведения, что, несмотря на все оскорбления, содержащиеся в вашем письме к нему, он в настоящее время не хочет отвечать на ваш вызов. — Вас, я полагаю, отнюдь не удивит, что он вообще не признает за вами никакого права на вызов и еще менее — выбирать в качестве удобного для дуэли времени такой момент, когда его жена тяжело больна…» Письма Гервега по-прежнему Герценом распечатываться не будут, а посредническую миссию во всех возникающих вопросах и возражениях возьмут на себя Владимир Энгельсон, исполнитель данного поручения, или же г. Сазонов.
Почему Герцен обратился за помощью именно к Энгельсону? Ведь многое их разделяло и развело впоследствии. Да только потому, что ближе человека, уже посвященного в его семейные тайны, в данный момент у Герцена не было. Привлечение других посредников, вроде «большого сплетника» Сазонова (по весьма распространенной молве), уже проявившего себя невольным вмешательством в интимное дело чужой семьи, в «Былом и думах» расценивалось как ошибка. Просьба Герцена содействовать в «дуэльном деле» давала Сазонову повод сказать впоследствии, что Герцен «принял дуэль, что только потом отказался от нее».
Рассуждения об истории дуэлей и об этических правомерностях их применения, о чем немало думал Герцен[122], могли бы занять большое место в нашем рассказе. Ограничимся доводами и поведением Герцена в контексте той эпохи, нового общества, когда частые и порой нелепые и неоправданные феодальные поединки уже становились анахронизмом.
Новое время требовало нового подхода к дуэлям и нарушенной справедливости. Новые люди исповедовали новые принципы поведения и защиты собственного достоинства. В «Былом и думах» обосновывались эти принципы: «Доказывать нелепость дуэли не стоит — в теории его никто не оправдывает… Худшая сторона дуэля в том, что он оправдывает всякого мерзавца — или его почетной смертью, или тем, что делает из него почетного убийцу. <…>
Казнь имеет ту выгоду, что ей предшествует суд, который может человека приговорить к смерти — но не может отнять права обличить — мертвого или живого врага… В дуэли остается все шито и крыто… Это институт, принадлежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в искусстве убивать — служебной обязанностью.
Пока миром будут управлять военные — дуэли не переведутся — но мы смело можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение, когда мы должны склонить голову перед идолом, в которого — не верим, — и когда явиться во весь рост свободным человеком и, после борьбы с Богом и с властями, осмелиться бросить перчатку кровавой средневековой расправе».
Гервег не успокоился, рассылал письма, искал всякой возможности примирения. На его письмо от 2 февраля с новыми обвинениями Герцена Энгельсон отвечал: «Ваш вызов, который на наш взгляд сводится к следующему: „Я виноват перед г. Герценом, а потому требую удовлетворения“, — рассматривается теми, кто вас знает и кто не знает, как акт безумия. Вот почему г. Герцен, оставляя за собой свободу действий на будущее, сейчас отвечает только презрением на ваши оскорбления, которые вы оправдываете тем, что якобы совершен акт насилия и бесчеловечности, о чем вы говорите в своем письме…» Грозящая катастрофа требовала немедленных распоряжений о судьбе детей и остающегося имущества. Все они излагались Герценом как раз 2 февраля в письме ближайшим и самым родным на Западе людям — Марии и Адольфу Рейхель. (Огарев был далеко. И надежды свидеться с ним не было никакой.)
На следующий день, 3 февраля, в письме, полученном от Сазонова, с прежними утверждениями о насильственном удержании (то есть нравственном принуждении) жены, Николай Иванович советовал, даже «не позволял» Герцену, драться с «безумным» Гервегом. Не без участия Герцена, которому бросался серьезный упрек, Натали, прочитав это письмо, решила отвечать. Дней через десять этот неизбежный шаг был сделан.
Письмо Гервега получало все большую огласку. Круг вовлеченных в дуэльную историю расширялся. Желание «казни» Гервега становилось для Герцена неотступной, навязчивой идеей. Но как отойти от постели больной, здоровье которой день ото дня убывало? И возможно ли показать жене зловещее письмо самого Гервега?
Все же свершилось. Герцен подробно передает один из частых их разговоров. Инициатива исходила от Натали. Она что-то подозревала, не сомневаясь, что письмо существует; понимала, что Гервег не оставит своим вниманием их дом. Терзаемый ревностью и сомнениями, Герцен все же сумел признаться себе, что ему «страстно хотелось знать, была ли доля истины в одном из его доносов». Несомненно, его ужасала мысль о двоедушии Натали, о ее «принадлежности» не только ему одному и, конечно, главное — о потерянном ребенке, якобы от Гервега.
Обо всем остальном Герцен был уже достаточно осведомлен. Невыносимо было перечитывать написанное рукой Гервега. Отогнув лист, он показал ей в письме только «то место» (не пояснив читателю мемуаров, какое именно). Здесь супругам имело смысл остаться тет-а-тет, не вмешивая посторонних даже нашего далекого будущего в их сугубо личное объяснение.
«…Скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..» — допытывался Герцен у Натали. Она все отрицала. И только прочувствовав предательство Гервега, раскрывшего мужу то, глубоко утаенное, интимное, что возбранялось знать всем, кроме них двоих, печально произнесла: «Подлец!».
«С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, — скорее всего, опрометчиво считал Герцен, — и никогда ни одним словом, ни одним намеком она не простила его и не пожалела об нем. Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо».
Далее в «Былом и думах» приводился его текст, датированный 15 февраля 1852 года.
Восстановим события. Необходимо было ответить на письмо Сазонова от 3 февраля, человека из дружеского стана, тем не менее, приятеля Гервега, поддержавшего его версию о насильственном удержании Натали, но «не позволявшего» Герцену драться с Гервегом («он поступает, как безумный»). Необходимо было прояснить двойственную позицию Сазонова в связи с полученным 28 января вызовом Гервега.
Пятнадцатого февраля Натали уже знала о письме Гервега, частично прочитанном ей Герценом, и не ответить не могла. Строки, обращенные к Сазонову, писала сама. Черновик письма сохранился и впервые попал в поле зрения М. Лемке. Вот текст, датированный 15 февраля: «Я желаю, Николай Иванович, вас, как и всех, принимающих живое участие в моем муже, вывести из заблуждения насчет нашего отношения с ним. Александр спишет для вас копию с письма, которое я написала… Вы увидите из него, что я не имею нужды в <его> великодушии моего мужа, в том смысле, как вы его понимаете. Хоть я для вас остаюсь и останусь, вероятно, навсегда такою же незнакомой, как и <всегда> прежде, — но, как женщина, пришедшая в себя после безумного увлеченья, и как жена вашего друга, — я прошу вас соединиться с ним и защитить меня от моего врага».
Более сил у нее не хватило. Она не покидала постели. Положилась на мужа. Ответ Натали Гервегу, который она решила написать после разговора с Герценом, ознакомившего ее со «страшным письмом», написан его рукой. Ответ Натали был несколько раз им переписан, отредактирован, почему и сохранился в разных вариантах, в частности с датой 18 февраля.
Первоначальная редакция была присоединена к ее черновому письму Сазонову; окончательная редакция опубликована в 1920 году во французском оригинале М. К. Лемке (Т. XIV), и собственно русский текст в несколько измененном виде появился в «Былом и думах» как письмо, написанное Натали.
Письмо потрясало прежде всего словами его начала, казалось бы, совершенно не свойственными ни Натали, ни Герцену: «Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить — и притом при свидетеле — то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, — но ваш характер — вероломный, низко еврейский[123], ваш необузданный эгоизм открылись во всей безобразной наготе своей — во время вашего отъезда и после — в то самое время, как достоинство и преданность Александра] росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталем, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедесталь вы хотели забросать грязью. — Но вам ничего не удастся сделать против нашего союза…»
Здесь вновь возникал образ пьедестала (несомненно, образ Герцена), на котором впоследствии он воздвигнет свой нерукотворный памятник жене. Его перо проводит ряд собственных идей и обвинений Гервега, и прежде существовавших в ее официальных письмах «близнецу». Она повторит, что остается с семьей, с детьми, с Александром, в любой роли, даже «как нянька, как служанка». В конце подведен итог: «„Между мной и вами нет моста!“ — говорю это вам я, вы мне сделали отвратительным самое прошедшее». (Слова из беловика «говорю это вам я» в мемуарах опущены.)
Во всех, не раз повторенных ею обвинениях Гервега чувствуется какая-то натянутая вынужденность, беспомощная безысходность угасающей Натали, точно она уже не в состоянии владеть своими разнополярными чувствами.
Письмо возвратилось из Цюриха, Гервег его не распечатал.
В эти февральские дни среди друзей Герцена, его европейских коллег-демократов, эмигрантов, соратников и почитателей впервые зарождается мысль о трибунале демократии. Первым об этом заговорил Ф. Орсини, человек страшной энергии, честный, противоречивый, но до самоотвержения преданный Герцену, который просто, без лишних фраз заявил ему, что «весть о письме Гервега возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают составить „jury d'honneur“[124]». Не спросив мнения Герцена (что вновь задело его), Орсини, оказывается, уже писал Маццини. Открывал ему все подробности дела и советовался с этим самым уважаемым, несгибаемым человеком их демократического сообщества. И вскоре сама идея суда не казалась Герцену такой уж несбыточной. Ответ Маццини на его собственное письмо не замедлил последовать. Этот подлинно третейский судья, авторитет которого не подвергался сомнению, считал, что раз уж предпочтительное молчание вокруг дела нарушено, следует «явиться смело обвинителем» в этом суде.
Со всех сторон шли письма поддержки. В марте Герценом получено «превосходное письмо от Гаука по этому делу, т. е. дуэльному». Оно было ответом на одно из его же писем к Маццини (6 февраля). «…Если такие люди за нас, — полагал Герцен, — то еще можно пожить и опозоренному. Мне надобно одно — год времени, тогда я восторжествую вполне, но… мои силы истощаются на борьбу, а главное — на перенесение дерзостей и сплетней; первая минута слабости — и я оправдаюсь перед дураками, и я дам волю чувству мести… и сспорчу великую позицию». Друзья Герцена сомкнулись вокруг него и своей действенной преданностью, как он считал, поддерживали его. Он платил им своей непередаваемой искренностью. Так в середине марта 1852 года появилось ответное его письмо генералу Э. Гаугу. Исповедоваться человеку даже не столь близкому, излагая на многих страницах все интимнейшие факты своей личной истории, «все, что было», Герцен считал необходимым. То был ответ глубокой благодарности за «выражение братской солидарности» истинного созидателя нового мира. Но предрассудки старого были неистребимы. Герцен страдал, был в растерянности от неожиданного, публичного поворота судьбы, в которую вовлечены столь многие (впрочем, в будущем некоторых ярых друзей, вроде Энгельсона, тогда обдумывавшего свой план мести Гервегу, он недосчитается).
Позднее Герцен объяснял М. Рейхель это свое состояние, которое было сродни безумию: в нем поселилась дерзкая мысль — «отказаться от чести драться с этой бестией, но отказаться не просто, но с шумом, открыто».
Сазонов твердил Гервегу о бессмысленном вызове человека, виноватого лишь в излишней доверчивости, призывал не мстить за собственные просчеты бывшему лучшему другу. Гервег не признавал герценовский трибунал «своим сердечным трибуналом», писал жене о «трусости» Герцена: «…то, что мне, живому, не удается добиться от своего оскорбителя, того я добьюсь посредством своей смерти…» Через некоторое время уже воображал «дуэль без свидетелей», где «с первого слова» они падут «друг другу на грудь» и всё будет забыто.
Эмма вновь пыталась через посредников вторгнуться в угасающую жизнь Натали со своими безумными планами и все еще хотела знать, останется ли она с Герценом или уйдет к Гервегу. Обвиняла ее в лишении Гервега всех средств «исповедаться» перед Герценом и «вымолить у него отпущение совершенного им преступления» и пр., и пр.
Когда же не получалось передать письма в дом Герцена, когда следовал резкий отказ во всяческих контактах с бывшим близнецом, Эмма выясняла отношения с Гервегом и требовала полного разрыва «с этой женщиной». Потом вдруг у нее возникали намерения сообщить Герцену «новые разоблачительные подробности» о его жене, что не отменяло ее желаний и просьб о свидании с ним. И всё ради налаживания отношений во имя «спасения обеих семей». И всё во имя истины и принципов гуманности, как она заявляла. И тут же — клеветы, сплетни, угрозы, в которых они, наконец, сошлись со своим мужем. Обе стороны не скупились на обвинения… У Герцена в столе всегда лежал пистолет, приготовленный на случай внезапного появления Гервега.
Эту хронику человеческих безумств можно продолжать…
Пока длилась вся эта бесчеловечная канитель, здоровье Натальи Александровны день ото дня ухудшалось. Теперь уже многое проходило мимо ее сознания. Но она продолжала уверять и Тучкову, и Рейхель, что никогда не чувствовала себя такой счастливой. «Сила моя — моя любовь к А., опора моя — его любовь ко мне…»
В двадцатых числах марта Наталья Александровна окончательно слегла, заразившись инфлюэнцей. Воспаление легких неумолимо вело к страшной развязке. 6 апреля, в день рождения Герцена, ей уже было не под силу даже выйти к столу. Лихорадка все сильнее развивалась.
Но надо было еще многое пережить. Ее письмо Гервегу (от 15 февраля), возвращенное им назад, должно было при всех условиях достигнуть адресата.
В какой-то из дней середины весеннего месяца апреля Наталья Александровна приглашает к себе только что приехавшего в Ниццу Э. Гауга (для разрешения сложившегося противостояния Герцена — Гервега). К нему присоединяются М. Э. Тесье дю Моте, В. Энгельсон, Ф. Орсини и К. Фогт. Она просит кого-нибудь из присутствующих прочесть при свидетелях ее письмо Гервегу. Возможно, ей не удастся пережить этой болезни. Гауг по-военному торжественно клянется: «Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено!»
Глава 16 СМЕРТЬ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
…Моя лодка должна была разбиться о подводные камни, и разбилась. Правда, я уцелел, но без всего…
А. И. Герцен. Былое и думы
Надежды на выздоровление постепенно угасали, но отчаянная борьба за жизнь, и теперь не только одну — продолжалась. В Россию шли письма об ухудшающемся ее здоровье. Мария Каспаровна Рейхель готовилась в дорогу, в Ниццу, на помощь. Натали хотела поручить ей детей, чтоб она стала «в главе воспитанья женского». У Герцена не оставалось иллюзий.
Двадцать шестого апреля он пишет Адольфу Рейхелю: «Я стою у поворотного пункта: или все погибнет, или что-нибудь будет спасено. В обоих случаях я начну новую жизнь. Ее последнюю часть».
В тот же день Натали получает письмо от Гервега. Силы ее оставляют. Но она не в состоянии противиться своему желанию отвечать. Упреки и самооправдания Гервега, его мольба подать хоть признак жизни не могут остановить ее. Последние слова возлюбленному в крошечной записке пишутся втайне от мужа за несколько дней до смерти: «„Признак жизни“ — а зачем? По-прежнему, чтобы оправдываться, осыпая меня упреками, обвиняя меня… Будь спокоен, хотя у тебя слишком много желания и средств, чтобы не иметь в этом удачи без моего участия, — будь спокоен: если я когда-нибудь открою рот перед кем-либо, кто мог бы меня понять, — это будет сделано не для того, чтобы оправдываться.
…Причинил ли ты мне зло?.. Ты должен знать это лучше, чем я… Я знаю только, что мои благословения будут следовать за тобою всюду, всегда…
Добавлять к этому что-либо было бы излишне» (курсив мой. — И. Ж). После слов «меня понять» Натали делает вставку-приписку: «Иначе я бы этого не сделала — иначе это было бы величайшим осквернением того, что остается самым святым для меня».
Двадцать девятого апреля Наталья Александровна получает от Э. Гервег записку, переданную Ф. Орсини: «Прости за все и за всех. Итак, забвение всему». (Воодушевившись прощением, Эмма расценивает свое раскаяние «слишком дорого»: просит Герцена безвозмездно возвратить ее вексель на десять тысяч франков.)
Вечером 29-го приезжает Мария Каспаровна. Видит, как сильно переменилась Наташа. Эта последняя встреча стала для нее потрясением.
Утром 30 апреля на свет появляется младенец, названный Владимиром. Не о том ли счастливом, венчанном Владимире вспомнилось, так и оставшемся светлой точкой в их переменчивой судьбе…
Вечером того же дня Наташа просит Герцена привести к ней детей и представить им брата. Силится напомнить Герцену: никакой дуэли!
Ночь с 30 апреля на 1 мая Герцен проводит у постели умирающей. Он уже много дней не спит.
Первого мая «около полудня», после многих часов забытья, Натали в последний раз приходит в себя. Ночью умирает новорожденный.
Второго мая Саша, рыдая, прощается с матерью. Дети потом долго будут помнить этот день.
Второго мая 1852 года в семь утра Наталья Александровна скончалась.
Умерла от любви. «Сердце, разорванное надвое», не выдержало. Спрашивала себя не раз: «…может быть, эта способность любить так велика во мне потому, что у меня нет других способностей?..» Сама и отвечала: «Такова моя натура, я люблю безумно… я люблю для себя…»
Глава 17 СТРАСТНОЙ ГОД
Моя высшая точка был этот страстной год. Кто хотел, кто мог вглядеться во все совершившееся во мне — тот не откажет мне в силе и последовательности.
А. И. Герцен — М. К. Рейхель
Третьего мая вечером Наталья Александровна была похоронена на кладбище Шато, на горе, над Ниццей и теплым морем, поглотившим ее близких. За гробом шли русские и итальянские друзья, единомышленники Герцена, эмигранты, городские жители.
На картине художника-гарибальдийца Каффи, потом долго сопровождавшей Герцена во всех его странствиях по миру, запечатлен момент похорон. В отсвете множества пламенеющих факелов видится большая группа людей. Над открытой могилой склонился Герцен, крепко держащий за руку своего первенца, двенадцатилетнего Александра.
Потрясенный таким небывалым сборищем русский консул спешит донести в центр о «беглецах», о настоящей демонстрации, ими устроенной. Местная демократическая газета «Avenir de Nice» сочувственно пишет о народной симпатии к Герцену, которая налагает на него обязательства и дальше также исполнять свой гражданский долг. Главный интендант, градоправитель Ниццы благодарит «почтенного изгнанника» за пожертвования неимущим гражданам города; часть средств будет передана детскому приюту.
Дней через пять после похорон на сообщение Эммы о смерти Натали Гервег отозвался, что больше нет препятствий для общения с ним. 15 мая он писал жене, что исчезла причина раздора с Герценом: «Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаз — он один в состоянии понять меня!» Встречи не произошло.
Двадцать второго мая Мария Каспаровна Рейхель уехала с девочками в Париж. Ницца опустела. Старая и верная подруга — единственный человек, которому с доверием и любовью Герцен может поручить «руководство» своей шестилетней Татой и совсем крошечной Олей — ей не исполнилось и двух. Огаревы далеко. И только под покровительством Марии Каспаровны («Вы ведь моя сестра» — обращается к ней Герцен) можно сделать из детей русских и «развить в них сильную любовь к России». Разлука с детьми невыносима, но он сделает все возможное, чтобы добиться возвращения в Париж, откуда его изгнали, и тогда поселится рядом с Рейхелями. И с Ниццей больно расстаться — «это последнее подтверждение всех несчастий»: оставить холодный дом, где «черное воспоминание тут как тут», а сны так реальны, совсем непросто. Привидится вдруг Наташа, и покажется ему, будто можно ее спасти. А то явятся лица из прошлого…
Все его фантазии, сны и были — «всё обращено на былое, на кладбище». На нем «еще лежат обязанности сказать погребальное слово и слово благодарности». Порой ему кажется, что и будущего у него нет, да и «в будущем ничего нет». Герцену только сорок лет, а он именует себя «скучным, вечно хныкающим стариком». Кому он способен вот так, вдруг, признаться, обнажить душу — только ближайшей из близких, сестре Марии. Вскоре, предвидя «торжественную гласность» общественного суда и поддержку друзей, он может определенно написать ей: «… я нравственно не погиб, совсем напротив: выше я никогда не стоял, я гордо несу венок с терниями на голове…»
Письмо Натали от 15 февраля 1852 года, как и завещалось герценовским друзьям, было прочитано Гервегу генералом Э. Гаугом. Судя по всему, содержание письма не было ново для адресата, а последующая реакция и непредсказуемость его поведения остались в свидетельствах участников трагедии (о чем позже расскажут «Былое и думы» в «прибавлении» «Гауг»).
Восемнадцатого июля 1852 года посредническое письмо-заявление, подписанное Э. Гаугом и другим эмигрантом-революционером М. Э. Тесье дю Моте, вместе с секундантом Гервега врачом Ф. Вилле, отвечало «на картель», вторичный вызов, полученный Герценом от Гервега: «От имени вызванного мы заявляем, что господин Герцен не может принять этот вызов, ибо с морально преступным человеком нельзя иметь ничего общего, а, следовательно, — и дела чести».
«Jury никакого не было, — свидетельствовал Герцен, — но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г[ервегу], подписанное дорогими мне именами и, между прочим, героем-мучеником Пизакане, Мордини, Орсини, Бертани, Медичи, Меццакаппо…»
Двадцать третьего июля 1852 года все подписавшиеся, «будучи приглашены г. Герценом» (дружбою которого они гордятся, «вследствие его выдающихся достоинств»), заявили, что, отвергнув при данных обстоятельствах дуэль с Гервегом, «Герцен поступил согласно нашим убеждениям» (читай: правилам новых, свободных людей).
Уже ничто не держало Герцена на континенте. Немилосердная, бродячая жизнь гнала его в Лондон. Опять Генуя, Берн, Фрибур, «родина № 2» (где составлено завещание в гостинице Zœhringen). Потом Женева, Интерлакен — забрать оставленного там на время сына и кружным путем добраться до Парижа. Через неделю отправиться с ним к побережью, да и махнуть в Англию. Он все еще рассчитывал, что окончательный суд международной демократии над Гервегом свершится именно там, ведь поддержка, сочувствие посвященных в историю — Прудона, Мишле, Фогта, Маццини, Жорж Санд (так и не откликнувшейся на его исповедальное послание) давала основание (правда, весьма иллюзорное) добиться осуждения «цюрихского злодея», отомстить, реабилитировать память Натали, доказав правоту свою и своей жены как представителей «будущего общества».
Позже Герцен признается: последняя мечта, вера в возможность такого суда и в подобное правосудие, это слишком откровенное его верование в принципы «нового общества» (и добавим, банальная неспособность даже выдающегося человека «старого мира» преодолеть силу страстей) обернулись дорогой платой за ошибку.
Герцен еще в России, чувствуя душевные метания Натали и прекрасно осознавая, что время недопонимания и обид вносило в семейное счастье иные оттенки, не уставал повторять свои искренние заклинания: «Моя любовь к Natalie — моя святая святых…», «Высокая святая женщина!»
«Какая страшная судьба постигла такое высоко и широко развитое существо, за одуренье, за чад, за круженье сердца…» — писал он Марии Рейхель в июне 1852-го, когда, несомненно, зрел уже замысел его «мемуара» — «надгробного памятника» Натали, и найдены были пронзительные слова — «круженье сердца».
Крушение «частного» и «общего», подведшее Герцена к роковой черте, предчувствие новой жизни, поворотного момента судьбы, когда еще не отыгран последний акт, побудили его взяться за перо, как только вступил на далекий берег «суровой Англии».
Глава 18 НА АНГЛИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки.
А. И. Герцен. Былое и думы
«С уваженьем, с истинным уваженьем поставил я ногу на английскую землю, — какая разница с Францией!» — Герцену вдруг показалось, что он свободен, что на время сброшен груз следовавших за ним повсюду мучительных раздумий. Пароход, на который они сели с Сашей 23 августа 1852 года, на следующий день, в пять часов утра, доставил их в Дувр.
Миновав множество государственных границ, не раз претерпев ужас потери «пасса», он отметил особую легкость вступления на английский берег и в письме к Марии Рейхель, чуть ли не единственному душевному его адресату той одинокой поры, не удержался от каламбура; поиграл со словом vapeur (пароход), повторив его в два слога: «va peur», что обернулось выражением — «долой страх». Страха не было. На время появилось ощущение гостеприимства, которое самая в ту пору цивилизованная страна с ее гражданскими свободами могла предъявить изгнанникам. По приезде отчитался Марии Каспаровне: «Один, единственный констабль на границе подошел к нам — для того, чтоб помочь Саше пройти по доске. — На таможне написано в углу: „Здесь иностранцы предъявляют паспорты, кто не предъявит, может подвергнуться штрафу до двух фунтов“. Мимо этого бюро иностранцы идут с хохотом. Ни один не отдал своего и не показал…»
Вынужденная «охота к перемене мест», как ни странно, снимала его раздражение и беспокойство. «Воля-то, воля-то какая». Его «реальная натура», как он полагал, брала верх, а «призрачный мир», в котором пребывал все последнее время, постепенно отступал, рассеивался как туман.
Если взглянуть на живописные виды Лондона, ставшие популярными в XIX веке, они отнюдь не представляют английской столицы в пелене угольно-пыльного смога, закрывающего оттененную художниками (вроде Тёрнера) синеву небес. Хотя Лондон вовсе не чистенький и не стерильный, а часто промозглый, грязный и туманный, каким и представлен в романах Диккенса. (Достаточно напомнить, что в середине XIX столетия город еще источает заразу и нечистоты, что ватерклозеты здесь появились только в 1859 году, а до этого времени Темза, как слив нечистот, ассоциировалась с великим лондонским зловонием.)
Герцен видел Лондон разным. Город был поделен на богатые кварталы, естественно, благополучные, и районы трущоб, где «сто тысяч человек всякую ночь не знают, где прислонить голову».
Думал ли он долго жить в Лондоне? Полагал, что нет, но примерно месяца через два, сменив несколько квартир, решил остаться. Понял окончательно: прибило к новому, чужому берегу, но ехать ему некуда и незачем. Подыскал себе дом в отдаленной части города с видом на великолепный Риджент-парк, да и взял себе за правило и ежедневную привычку прогуливаться после работы.
Дом, принадлежавший какому-то скульптору, носил следы художественного беспорядка. Там и сям торчали статуи и модели, в которых угадывались лица исторических персонажей. Можно вообразить, что комнаты напоминали Герцену их семейный особняк на Тверском бульваре, куда, захламленными залами, сквозь хаос громоздких артефактов — запылившихся скульптур, снятых со стен картин, он часто пробирался в маленький кабинет своего двоюродного брата, оригинала Химика. Да и вообще, теперь собственная жизнь виделась ему заброшенным старым домом, где для него «сохранился еще обитаемый уголок».
Последний акт трагедии недоигран, «fatum влечет», — написал Герцен московским друзьям, еще не ступив на английский берег. Сказал пронзительные слова: «За одно объятие теплое, братское с вами отдал бы годы…» После стольких утрат он стремится выговориться, но нет сил. Однако главное сказано, рассказано начистоту: да будет свята им «память великого существа — раз увлекшегося и так велико восставшего и так страшно казненного… Может, все величие ее я узнал после падения. Но спасти физически было нельзя. — Нравственно она будет мною спасена — и это сделано уже. — Но пока этот человек дышит, нет даже recueillement…[125]». «Дети и гроб» — мысли только об этом.
Ему невыносима разлука с детьми: скоро ли с ними свидится. Он заботится о девочках, посылает игрушки, пишет ласковые письма, наставляет старшую дочь: «Душечка Тата… Ты русская девочка — и должна Олю учить по-русски». Любимица Тата, натура душевная и «несообщительная», страшно похожая на мать, очень близка отцу. Конечно, большие надежды возложены на Сашу — вот кому он «мог бы преемственно передать» свое дело, и до поры в этом уверен. Сын должен учиться: сначала у Фогта в Женеве, а потом в Париже. «В Париже он должен жить у вас, — пишет Герцен Рейхель. — <…> Дело в том, что кроме вашего пристрастия к нам, вы сделаете из детей русских. <…> Я вам завещаю развить в них сильную любовь к России. Пусть даже со временем они едут туда…» Жить среди иностранцев и остаться русскими… Мысль, не покидавшая его никогда.
Европейские революции вымели с континента множество разных людей. Лондон превратился в средоточие эмиграции. Теперь Герцену предстояло столкнуться с вынужденными поселенцами этой «вольницы пятидесятых годов»: довериться «святому» А. Саффи, которого особо выделяет из эмигрантов, встретиться вновь с благородным Маццини, «личностью колоссальных размеров», начать дружбу с венгром Кошутом, поляком Ворцелем, сотрудничать с другими лидерами международной демократии, возвысившимися, по его словам, как «горные вершины» над низменной повседневностью эмигрантской политической суеты. Однако чрезмерные надежды на прилив новой революционной волны в их родных странах, которым посвящается вся жизнь, кажутся Герцену неоправданными.
В Лондоне Герцен ведет разговоры и пишет искренние, многостраничные, до предела обнаженные письма с благодарностью своим, единомышленникам из революционной и демократической среды, за моральную поддержку в борьбе с Гервегом. Герцен слишком открыт, порывист, однако не беспристрастен. Его не оставляет вера в свободу и абсолютную ценность личности нового человека. Самовыражение — его потребность, заложенная в прямом характере. («Может же случиться, что человеку в объяснении — главное дело, может быть ему восстановление правды дороже мести», — напишет он позже в мемуарах.)
Но где же они, эти свои, кто должен рассудить во имя правды, — их просто нет. (Герцен все более убеждался в своей ошибке.) Свои у него когда-то были в России, но некоторые из прежних, «наших», отошли, резко возражали, не поняли его. Молчали. «Отучили» его от речи с ними, как он ни старался. Один остался — верный друг Огарев, и Герцен ждет его в Лондоне «как величайшее и последнее благо».
На первых порах новоявленный житель Альбиона оценил и туман, дававший ощущение одинокого покоя («продымленный», «дымчатый», «опаловый» — эпитеты подобраны им тщательно), и все преимущества островного климата, и оторванность от целого мира, когда всё надо было решать самому и уже ни на кого не надеяться. Жизнь выставляла новые задачи.
Что ждало в дальнейшем пожившего (но еще не пожилого) человека с погасшим взором, каким запечатлела его старомодная камера в фотографическом заведении на Риджент-стрит?.. В сорок лет, когда с недолгими, счастливыми промежутками «изящнейших и поэтических эпох» промелькнули годы «педагогические», «страстные» (как сам определил), им пережит решительный перелом. В письме к М. К. Рейхель повторит кому-то уже высказанную максиму: «Жизнь — это злосчастный дар, его можно принять лишь при условии борьбы…» «Да, я останусь до конца жизни той же движущейся, революционной натурой, simper in motu[126], как я вырезал на печати. — Это горенье, это бродящее начало — спасает меня середь бедствий и страшных событий», — в который раз, словно заклинание, предъявит он свой жизненный девиз в письме своему постоянному конфиденту.
Скажет еще, не менее высокопарно, любя «до безумия» свою независимость: «Единственное, что мне остается — это энергия борьбы, и я буду бороться. Борьба — моя поэзия…» Однако, для того чтобы донести эту «поэзию» до несвободных людей, необходимо самому стать внутренне свободным. «…Начнем с того, чтобы освободить самих себя», — напишет он в одном из писем той нелегкой поры. И тогда, быть может, вольное слово дойдет до русского слушателя, у которого «ухо… железом завешено, ему больно слышать свободную речь…».
Стало быть, раз он отрезан от России, задержавшись на чужбине и, по-видимому, надолго, следует снова «завести речь с своими». «Писем не пропускают — книги сами пройдут»; писать нельзя — будет печатать.
Раз «бурями, волей и неволей» прибило его «к самому средоточию, к самой вершине», то здесь, «на нескладном, но сильном концерте» международной демократии, он «представит собою русскую мысль».
Герцен «решился на труд», взялся за два главных Дела своей жизни — за «Былое и думы» и Вольную русскую типографию.
Глава 19
«НАДОБНО ЖЕ, ХОТЬ ЧТОБ КТО-НИБУДЬ НЕ ПОКИДАЛ ОРУЖИЯ…»
(ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ В ЛОНДОНЕ
1853–1854)
Отчего мы молчим? Неужели нам нечего сказать?
А. И. Герцен. Братьям на Руси
Страстное обращение к соотечественникам не замедлило последовать. Задачи оставались все те же — борьба против рабства, тирании власти, против угнетения личности, «война против всякой неволи, во имя безусловной независимости лица». Идея русской бесцензурной печати, маячившая с 1849 года, постепенно обретала реальные контуры, воплощалась в жизнь. Когда Россия безмолвствовала, когда число обязательных цензур возрастало там с каждым днем, а печатное слово напоминало Герцену того героя из Моцартовой «Волшебной флейты», который пел с замком на губах, ему показалось — время пришло. «Охота говорить с чужими проходит», — посчитал он. Пора «дать русской мысли свободную трибуну, чтобы разоблачать чудовищные деяния петербургского правительства».
Герцен взялся за перо и бумагу, обозначил заголовок «Братьям на Руси», вывел обращение: «Братия»… Цели ему слишком ясны: «Быть вашим органом, вашей свободной, бесцензурной речью».
Поначалу казалось, что людей, особенно друзей, столько претерпевших от дикости цензуры дома, не надо убеждать в важности начатого дела: «Я знаю, как вам тягостно молчать, чего вам стоит скрывать всякое чувство, всякую мысль, всякий порыв». Верно говорил Огарев: «Не высказанное убеждение — не убеждение».
Энергичные, отточенные в слове декларации решительного Издателя, взвалившего на себя невиданную ношу, обязательно должны дойти до слуха соотечественников.
«Открытая вольная речь — великое дело; без вольной речи — нет вольного человека. <…> „Молчание — знак согласия“, — оно явно выражает отречение, безнадежность, склонение головы, сознанную безвыходность.
Открытое слово — торжественное признание, переход в действие».
Не «сидеть сложа руки и довольствоваться бесплотным ропотом и благородным негодованием…». Не отступать от всякой опасности.
«Ничто не делается… без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика».
Герцен призывал: присылать «все писанное в духе свободы», — от научных и фактических статей до потаенных сочинений Пушкина, декабристов… Двери открыты для всех. И это был первый прорыв в бесцензурную, вольную, организованную за границей печать, «тамиздат», так сказать.
Первая литографированная листовка сошла с вольного печатного станка при активном содействии членов Польской демократической централизации в июне 1853 года. Польские эмигранты, организаторы собственной типографии, где поначалу печатались русские издания, снабдили Герцена всем необходимым. Раздобыли в Париже русский шрифт, открыли возможности тайных путей для переброски в Россию нелегальной литературы, да и сами решили включиться в ее распространение. Русский шрифт был приобретен «в той же самой парижской словолитне, которая обслуживает государственную печать в Петербурге, отчего он [Герцен] имеет обыкновение в шутку называть свое учреждение „Типография императорская и революционная“», — информировала западную публику одна немецкая газета.
Неоценимую помощь в организации типографии оказал Станислав Ворцель, славный руководитель демократической части польской эмиграции и Центрального европейского демократического комитета. В «Былом и думах» Герцен вспомнит этого благородного защитника польского и русского дела: «Из всех поляков, с которыми я сблизился тогда, он был наиболее симпатичный и, может, наименее исключительный в своей нелюбви к нам. Он не то чтоб любил русских, но он понимал вещи гуманно, поэтому далек был от гуловых проклятий и ограниченной ненависти». Он же познакомил Герцена со своим соотечественником Людвигом Чернецким, неизменно заведовавшим в Лондоне русской типографией. К главным помощникам по издательским делам вскоре присоединился Станислав Тхоржевский, бесконечно преданный Герцену.
Как радовался Ворцель, держа в руке первый корректурный лист «Братьям на Руси»: ведь просто «клочок бумаги, замаранный голландской сажей», а «сколько дурных воспоминаний стирает с моей души». Герцен помнил и другие его слова, когда обратился к постоянно волнующему польскому вопросу: «Нам надобно идти вместе… нам одна дорога и одно дело…» Осенью 1853 года в Русской типографии появилась в виде листовки герценовская статья «Поляки прощают нас» как «русский» ответ на адрес, составленный польскими демократами.
Статья, напоминавшая мучительную политическую историю взаимоотношений России и Польши, давала надежду на соединение с поляками «в общую борьбу „за нашу и их вольность“».
В организации работы типографии у Герцена не было особых затруднений. Достаточными средствами он располагал. Связи с целой сетью западных торговцев и распространителей были установлены — солидная лондонская книготорговая фирма Н. Трюбнера, не говоря о прочих европейских книжных лавках, готова была взять на себя необходимые обязательства.
Станок заработал. Типография не останавливалась ни на минуту. А друзья и российские жители всё молчали.
В конце июня — начале июля вышла прокламация «Юрьев день! Юрьев день!» с подзаголовком «Русскому дворянству». Образованный класс призывался, не дожидаясь правительственного решения или народного возмущения, освободить крестьян. Тогда еще Герцен, при известных обстоятельствах, действительно колебался, допускал возможность развития событий по нежелательному пути: «Крещение кровью — великое дело, но мы не разделяем свирепой веры, что всякое освобождение, всякий успех должен непременно пройти через него». При разрешении крестьянского вопроса снизу возможны «страшные последствия», порождаемые «страшными преступлениями». «Страшна и пугачевщина, но… если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено». Подобный поворот событий Герцен расценивал как «одну из тех грозных исторических бед, которые предвидеть и избегнуть заблаговременно можно, но от которых спастись в минуту разгрома трудно или совсем нельзя».
Слово «топор», впервые употребленное в тексте как символ народного мятежа, вскоре широко распространится в печати, но отнюдь не станет «символом веры» лондонского пропагандиста, в чем упрекнут его позже крайне радикальные соотечественники из рядов революционной демократии («Письмо из провинции» с подписью «Русского человека» через семь лет появится в «Колоколе»), Вопрос о соотношении революции и реформы станет одной из самых важных проблем, постоянно проходящих в переписке и публицистике Искандера. Его отвращение от «топора», его стремление выработать различные пути русского развития, неизменно свяжется с освобождением «сверху», с надеждой найти мирный, бескровный исход для назревших перемен.
Пока Зимний дворец не приступил к осознанию необходимых реформ, Герцен, понимая последствия взрыва, все же достаточно радикален и вместе с тем не реален. Ставка на образованное меньшинство дворянства после свершившихся европейских революций, без инициатив «сверху», не оставляет надежды хоть на какие-то, робкие упорядочения отношений между крестьянами и помещиками. Но Герцен упорно продолжает обсуждение этого главного вопроса вопросов. Отдельной брошюрой выходит с вольного станка его «Крещеная собственность» — переработанная им статья «Русское крепостничество», негодующая против преступного бездействия правительства. 22 июля 1853 года он пишет М. К. Рейхель о печатании этой книги и весело замечает: «…а „Юрьев день“ послан уже высшим чиновникам в Питер по почте — пусть потешатся».
Прокламация вскоре дошла до столицы и легла на стол императору. «Любо читать!» — неожиданно отозвался Николай, припомнив своего верного и последовательного противника. Запретительных мер и расследований долго ждать не пришлось. Отныне преследование вольных герценовских изданий — одна из обязанностей и священных привилегий Третьего отделения.
В 1854 году вышли не только материалы, написанные Герценом. Автором четырех прокламаций, по два выпуска каждая («Видение св. отца Кондратия» и «Емельян Пугачев честному казачеству и всему люду русскому шлет низкий поклон»), обращенных к русскому крестьянству, был В. А. Энгельсон. Связанный в России с петрашевцами, а после освобождения из крепости эмигрировавший в Европу, он был близок Герцену в пору семейных крушений («он первый обтер глубокие раны», «он был моим братом, сестрой», — вспоминал Герцен). Их активное сотрудничество продолжалось при налаживании работы Вольной типографии. Однако о полном единомыслии Герцена со своим самолюбивым и психически неустойчивым помощником речи не было. Их разрыв был неминуем[127].
Герценовский призыв свободно печататься в его Вольной типографии, посылать потаенные материалы, чтобы в России они обрели силу печатного слова, до поры не был услышан.
Молчали по-прежнему московские друзья. Наконец, дошедшие до них герценовские прокламации только напугали. В России становилось слишком опасно. В сентябре 1853-го в Лондон поехал мягкий, податливый Щепкин, призванный уговорить своего давнего, горячо любимого друга в ошибочности его пропаганды. Приехал умолять, готов был встать «на свои старые колени», чтобы попросить «остановиться, пока есть время».
Герцен, так ждавший подробностей из России, недоумевал:
«Что же вы, Михаил Семенович, и ваши друзья хотите от меня?
— Я говорю за одного себя и прямо скажу: по-моему, поезжай в Америку, ничего не пиши, дай себя забыть, и тогда года через два-три мы начнем работать, чтоб тебе разрешили въезд в Россию».
Герцен был сражен, глубоко разочарован. Что тут скажешь… Не подвергать опасности друзей. Это он, конечно, понимает. Но отречься от себя, от своего главного дела?.. Не для того ли, чтобы жить здесь праздному?.. И тогда, проводив Щепкина, ему вдруг стало так «сиротливо, страшно», и безнадежное одиночество заставило его сесть за письмо, чтоб объяснить всепонимающей Марии Каспаровне: «Мне кажется, я в лице его простился с Русью. Мы разошлись или развелись обстоятельствами так, что друг друга не достанешь и голос становится непонятен». На следующий день он вновь высказывал ей свое выстраданное убеждение: «…надобно же, хоть чтоб кто-нибудь не покидал оружия…» Его «глубочайшее убеждение», что «основание русской типографии вне России является в настоящий момент наиболее революционным делом, какое только русский может предпринять», оставалось непреклонным.
Искреннее сотрудничество с М. К. Рейхель, теперь целиком поглощенной его делом, ставшим их общей обязанностью, никогда не прерывалось. Через ее парижский адрес, не взятый на подозрение русским сыском, должна идти вся его корреспонденция, то есть осуществляться постоянные, конспиративные контакты с родиной. Ей первой сообщаются все сокровенные мысли и замыслы. 5 ноября 1852 года Герцен пишет своему верному связному о возникшем у него «френетическом[128] желании написать мемуар». Воспоминания — выход, спасение от одиночества в чужой стране.
Глава 20
«БЫЛОЕ И ДУМЫ» — ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ, «ВОСКРЕШАЕМАЯ СЛОВОМ И ПАМЯТЬЮ»
Воспоминания и… еще воспоминания!
А. И. Герцен. Крещеная собственность
Призраки прошлого толпились, и воспоминания все больше захватывали его. Одно цеплялось за другое. Наступил удобный момент повторить жизнь, «бледно воскрешаемую словом и памятью». (Вдруг выскользнувшее сомнение в слове «бледно» его не остановило.) С российским прошлым он давно распрощался, прожив порядочно в нем. Теперь, удалившись от этого былого, осознаваемого остраненно, уже в потоке ушедшей истории, можно было вносить в книгу своей расколотой жизни отдельные ее главы. Кажется, найдено и искомое название.
«В конце прошедшего года начал я странный труд! — записал Герцен 22 июля 1853 года. — <…> Впрочем, труд этот может на всем остановиться, как наша жизнь… Надгробный памятник и исповедь, былое и думы, биография и умозрение, события и мысли, слышанное и виденное, наболевшее и выстраданное, воспоминания и… еще воспоминания!»
От идеи поставить памятник Наталье Александровне, выиграв сражение с ненавистным противником (с врагом, ценой доказательства своей правоты как человека нового мира), Герцен перешел к возрождению старого и давно испытанного опыта написания записок «о себе», некогда поощренного вниманием Белинского.
Приступ к «мемуару» порождало у будущего автора «Былого и дум» множество сомнений. С чего начать? С отъезда в чужие края? Попробовал. «Положение русского революционера относительно басурман европейских стоит тоже отделать, — об этом никто еще не думал». Однако «воскреснувшие образы» из детства, юности так мимолетны, и так жалко их упустить. «Но так писать — я напишу „Dichtung und Wahrheit“, а не мемуар о своем деле». Положить в основу гётевский принцип жизнеописания, осуществленный в его мемуарном труде «Поэзия и правда. Из моей жизни», где основа — истина?..[129]
Личность Гёте и его гениальные творения неизменно притягивали Герцена, начиная с ранних его сочинений, на которых видны следы интереса начинающего писателя к великому мастеру, маэстро, Maestri (вспомним «Германского путешественника»).
Работа над «мемуаром о своем деле», обвинительным актом Гервега, который виделся ему теперь олицетворением старого мира, таким же жестоким, растленным и лицемерным, началась, очевидно, в октябре, так как 5 ноября 1852 года Герцен уже сообщал Рейхель о своем намерении. Постепенно созревал и менялся замысел: писать не один «мемуар» о семейной драме, а создать целый том, «большой волюм», широкое художественное полотно. Верно, истина, «правда», в гётевском смысле, послужила ему отправной точкой для дальнейших осмыслений и раздумий. Вымысел был чужд ему, хотя иногда заострены оценки. Исповедь была нужна ему, нужна его детям. Писал, сомневался, переписывал, пропуская сквозь душу и сердце. Форма оставалась свободной. Сиюминутная жизнь могла остановить работу, чтобы через некоторое время, когда события подтянутся, осмыслятся, превратятся в былое, — продолжить.
В одиночестве лондонского заточения до мая 1853-го, пока не приехали дочери к первой годовщине со дня смерти Натальи Александровны, Герцен закончил первую часть своих мемуаров[130]. 7 марта М. К. Рейхель уже извещена: предпоследняя глава почти готова.
Воспоминание, считал мемуарист, пусть не восстановит всего прошедшего, пускай «сотрет все углы, всю резкость» пережитого, но все же закрепит, сохранит и образы, и ощущения «молодого времени». Вопреки сомнениям художника, вынужденным перерывам, когда работа не шла, «воскрешаемая» жизнь выступала все ярче, свободнее, лиричнее и насыщеннее.
Прожитые им детство и отрочество, годы студенчества вобрались в первую часть «Былого и дум» — «Детская и университет (1812–1834)», состоящую после нескольких композиционных переделок из семи глав (I–VII), а также прибавления «А. Полежаев». Светлый тон жизнелюбивой полосы, воссоздаваемой в памяти, неизбежно покрывался патиной более позднего знания Герцена об испытаниях и утратах. Но ощущение живой сиюминутности оставалось.
Часть вторая «Тюрьма и ссылка (1834–1838)» из десяти глав (VIII–XVIII), доведенная до начала владимирской жизни, и часть третья «Владимир-на-Клязьме (1838–1839)» из шести глав (XIX–XXIV) писались в том же 1853 году.
Публикация отдельным изданием на русском языке фрагмента записок «Тюрьма и ссылка» (1854) повлекла переводы: немецкий вышел в Гамбурге в 1855 году, английский — в Лондоне в том же году. Богатый лондонский двухтомник расширенного содержания «для заманки» читателей, мало осведомленных в истории и географии «варварской» страны, воспроизводил заглавие «Ссылка в Сибирь» (My Exile in Siberia). Герцен протестовал против подобного безграмотного добавления. Разгорелась нешуточная полемика насчет выдумки издателей (какой-то анонимный обличитель даже пытался обвинить в обмане самого Герцена, якобы выдающего себя за мужественного заключенного, этакого русского Сильвио Пеллико), и в части тиража слово «Сибирь» было устранено.
Кстати, заметим здесь, что Герцен с понятной символикой подписал одну из своих первых статей на Западе псевдонимом «Варвар», причисляя себя к людям нового мира, разрушителям всего старого и отжившего. Это была постоянная его аналогия с варварами, некогда уничтожившими разложившуюся римскую цивилизацию, на месте которой неотвратимо возникали новые формы жизни. В письме доверенному другу Рейхель дошли до нас и его слова: «…варвар, осмелившийся быть свободным человеком между крамольными холопами Запада».
Сочинения выдающегося писателя, «воссоздающего с большим успехом, чем кто-либо из прежних авторов, общественную и официальную жизнь в России», были встречены некоторой частью западной прессы с немалым энтузиазмом, что позволило работу продолжить. Наиболее близкий в ту пору Герцену Иван Тургенев, живший в Куртавнеле, прочитав отрывки из первой части записок, сразу же откликнулся: «Это прелесть — и только остается сожалеть о неверностях в языке. Но ты непременно продолжай эти рассказы: в них есть какая-то мужественная и безыскусственная правда — и сквозь печальные их звуки прорывается, как бы нехотя, веселость и свежесть. Мне всё это чрезвычайно понравилось — и я повторяю свою просьбу — непременно продолжать их, не стесняясь ничем».
На очереди было завершение части четвертой «Москва, Петербург и Новгород (1840–1847)», составившей девять глав (XXV–XXXIII). К главе XXIX вторым разделом присоединились воспоминания о Грановском «На могиле друга». Затем были написаны главы «Н. X. Кетчер (1842–1847)» и «Эпизод из 1844 года» о В. П. Боткине. Работа над четвертой частью, заключавшей прожитую Герценом жизнь в России, растянулась на несколько лет (1854–1857). Уже к 1855 году были завершены пять из восьми «русских» частей мемуаров. Потом «Былое и думы», эпизод за эпизодом, писала сама жизнь. Понадобилось еще более десяти лет жизни, продолжающейся вне России, чтобы довести до видимого конца этот грандиозный шестнадцатилетний труд. Последняя, известная дата, которую Герцен поставил под своим неоконченным творением — 10 марта 1868 года.
Широкий идейный, философский и бытовой фон, лирические отступления, социально-исторические характеристики раздвигали рамки повествования, расширяли топографию и хронологию былого. В мемуарах открывалась широчайшая панорама, охватившая жизнь целых стран, наций и их выдающихся представителей, сторонников, друзей, недругов Искандера, обычных простых людей и, конечно, вобравшая нескончаемую череду грандиозных событий, свидетелем и участником которых, в России и на Западе, был чрезвычайно одаренный социальный наблюдатель. По мере продвижения по жизни несравненного мемуариста и великого полемиста, о чем читателю нашего рассказа уже достаточно известно, емкость его записок всё увеличивалась и галерея образов становилась всё более тесной.
Герцен не хотел останавливаться только на «сильных деятелях». «Невольно призадумываешься о том, — написал он, перечитав главу о Кетчере, — что за чудаки, что за оригинальные личности живут и жили на Руси!» На скольких он нагляделся. Взять хотя бы его отца или давнего соседа по Сивцеву Вражку — Толстого-Американца, превзошедшего своим необузданным характером все мыслимое и немыслимое.
А где, кроме как в Москве, «возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, неукладистая фигура Кетчера?». Грех не спасти от полного забвения неповторимые русские типы! Герцен вспомнил слова Погодина: «Так русская печь печет!» Согласился. «И в самом деле, каких чудес она не печет, особенно, когда хлеб сажают на немецкий лад… от саек и калачей до православных булок с Гегелем и французских хлебов à la quatre-vingt-treize![131]»
В Европе Герцену предстояло преодолеть новый отрезок пути, в новых странах и в незнакомом окружении, чтобы затем, удалившись на некоторое расстояние, воспроизвести на бумаге свою продолжающуюся жизнь.
«Тут всё принадлежит не моей биографии — а биографии рода человеческого…» — слова, сказанные после выстраданных Июньских дней 1848 года, легко распространить на весь труд непременного бытописателя грандиозных событий от войны 1812 года до преддверия Парижской коммуны, настолько емко и органично вошла в них жизнь отдельного человека.
Часть пятая «Париж — Италия — Париж (1847–1852)», где преобладали «западные» сюжеты, создавалась 14 лет — с конца 1853 года. Самая ранняя дата — стоит под главкой «Сон» («Западные арабески. Тетрадь первая»). Главы писались с перерывами, не подряд, часто фрагментами; замыслы композиции менялись.
К главам пятой части четвертого тома «Былого и дум» в издании Герцена (1866) подсоединялись «прибавления», отдельные очерки под заглавием «Русские тени», создававшиеся в разное время: I. Н. И. Сазонов (1863). II. Энгельсоны (1858, с более поздним постскриптумом 1866 года). Что-то печаталось, что-то откладывалось на потом по конспиративным, этическим и семейным соображениям. Порядок публикации не всегда соответствовал хронологии описываемых событий. В предисловии к пятой части, охватившей события «Перед революцией и после нее», Герцен сообщал о скорой возможности напечатать пропущенные страницы этого раздела мемуаров, особенно дорогие для него. Рассказ о семейной драме, от замысла которого он не отступал с 1853 года, так и не увидел свет при жизни автора[132].
По мере того как Герцен углублялся в события своей жизни, вспоминались другие эпизоды, и композиционный принцип «Былого и дум» менялся. Он останавливался перед отрывочностью рассказов и картин, и ему казалось, что в них меньше единства, чем в первых частях: «Спаять их в одно — я никак не мог». Появлялись фрагменты, отрывки, зарисовки, схваченные на лету, особенно в последних частях, и все же не рассыпавшиеся, ибо скрепились воедино в предложенной Герценом композиции, как «картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками». В «картинках» появлялось все больше персонажей, они соприкасались и отдалялись; представленные исторические события уплотнялись. Язык повествования усложнялся, появлялось множество иностранных слов, англицизмов, переложенных на русский лад. Как показало будущее, читателям этой части записок требовались основательные комментарии.
Вставленные в твердую рамку, как изысканные миниатюры, некоторые эссе, включенные в текст, не были даже предназначены для «Былого и дум» и печатались отдельно.
Шестая часть «Былого и дум» «Англия (1852–1864)» охватила события, пережитые и передуманные за этот период. Приняв все особенности жизни островного королевства, Герцен по своему темпераменту и талантам не мог оказаться в изоляции. Пожалуй, нет никого из выдающихся лиц той поры, литераторов, революционеров, вообще мировых знаменитостей, с которыми Герцен не находился бы в дружбе, вражде, сотрудничестве или творческом контакте: «Везде жил и со всеми жил». Лондон еще раз это подтвердил.
Порой некоторые деятели «горных вершин» лондонской эмиграции, подобные Дж. Маццини, — «великому человеку», неукротимому борцу за дело итальянского единства, всегда носившему черные одежды в знак скорби по утраченному, раздробленному отечеству, — Герценом романтически приподняты, несмотря на несогласие с узкой программой итальянского революционера и его социальными воззрениями. Другие известные представители этого укоренившегося в Англии эмигрантского племени язвительно разоблачены.
Отдавая дань восхищения Италии и героическим образам близких ему людей — Маццини и Гарибальди, Герцен увидел в них «двух последних Дон-Кихотов революции», «трагический тип людей, переживших свой идеал».
Могучий вождь итальянского объединения Гарибальди запечатлен в главе «Camicia rossa»[133] во всем своем величии. Это апология героя, живой легенды, «идола масс», «невенчанного царя народов». Герцен понимал, что объединение всех демократических сил пойдет на великую пользу и его отечеству, и способствовал примирению Маццини и Гарибальди, пусть даже временному. Памятный день их исторической встречи 17 апреля 1864 года в его доме в Теддингтоне, прошедшей «без единого облачка», Герцен считал одним из самых светлых моментов последних пятнадцати лет.
Герцен не склонен печатать всё даже об идеологических противниках — русских радикалах или революционных европейских лидерах (вмешиваются, очевидно, соображения этические и политические). Так он решил отложить до времени главу «Немцы в эмиграции», включавшую нелицеприятные отзывы о Марксе и его фанатичных приверженцах. В «Былом и думах» он красноречиво выскажется об особенностях наций и эмиграций, представленных в Англии; рассмотрит, словно под лупой, типы выходцев из разных стран, не пощадит и главных политических противников, названных изобретенным им (скажем, небезопасным в советскую пору) словом «марксиды»[134].
Двадцать седьмого февраля 1855 года случилось событие, для эмиграции немаловажное. Некоторая часть изгнанников крайне заинтересована принятой с огромным энтузиазмом речью Герцена, только что произнесенной на международном митинге в память февральской революции 1848 года в лондонском Сент-Мартинс-холле. Цель собрания, по замыслу его организатора, вождя чартистского движения Э. Ч. Джонса — единение народов и демократических сил в трудную эпоху. «…Воюя против деспотов, мы дружны с народами», — провозглашает он.
Герцен делает свои «отчеты» друзьям о теплом приеме его речи. Пишет А. Саффи, пожалуй, самому близкому ему человеку в Европе: «Все „бурграфы“ Революции отказались выступать. Не явился ни Л. Блан, ни даже Ф. Пиа, — но митинг прошел блестяще».
Подобное мнение разделяют не все. Разнонаправленные интересы и взаимоисключающие амбиции вынужденных изгнанников Герцен давно оценил. Давно наметилась резкая неприязнь к нему главарей европейского рабочего движения, основоположников научного социализма. Карл Маркс, не считавший возможным совместные с Герценом выступления, в последнюю минуту снявший свое имя с афиши митинга, пишет Фридриху Энгельсу в Манчестер о публикациях в английской прессе: «Я тебе достану мазню Герцена, а также вчерашний номер „People’s Paper“, где ты можешь прочесть о совместных заседаниях Джонса и Герцена. Выставить ли мне Джонса за дверь, когда он явится, или действовать „дипломатически“?»
Герцен уверен, что даже среди грохота свирепствующей войны русский голос во имя братства и демократии должен быть услышан. На митинге им произнесены высокие слова, которые потом будет повторять не раз: «В России сверх царя — есть народ… кроме России Зимнего дворца — есть Русь крепостная, Русь рудников». И его полномочие, вся его жизнь — «говорить во имя России».
Отдельные очерки шестой части «Былого и дум» — это блестящие эссе, изящнейшие медальоны, включенные в ткань мемуаров. «Прибавление» к главе III «Эмиграция в Лондоне» посвящена Джону Стюарту Миллю. Особая глава <IX> отводится Роберту Оуэну.
Почитаемый английский философ, экономист Милль, создал, по слову Герцена, «книгу в защиту свободы мысли, речи и лица» (On Liberty). Почему один из серьезных умов в Европе, пользующийся огромным авторитетом, вновь поднял проблему о свободе в государстве, где уже два века до этого свобода речи успешно защищалась от насилия и нападений власти? На этот вопрос Герцен отвечал, прибегая к собственному опыту. Его критика буржуазной Европы, его печальный взгляд на ее будущее, еще со времени «Писем из Avenue Marigny», вызвали много негодующих мнений и друзей, и врагов. Революционные события 1848 года только усугубили ситуацию и подтвердили герценовский прогноз — на Западе становилось всё «темнее, угарнее». На его обличения сердились. Европа была им «нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать, — иронизировал Герцен. — <…>Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней».
Книга Милля, защищавшая свободу, потому что «явилась необходимость снова поднять речь on Liberty», подтвердила ранее высказанное Герценом. И вот, давно задействованный в государственных делах человек, «привыкший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель», «не вытерпел» и закричал: «Мы тонем!» «Он потому заговорил, что зло стало хуже», — посчитал Герцен.
Милль видит, как деградирует общество; он выступает «против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против „духовной посредственности“». «Он видит в Англии… что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: „Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — душа убывает“».
Какой же выход видит автор книги? Корить современников? Но это их не остановит. «Не только несколькими печальными упреками не уймешь убывающую душу, но, может, никакой плотиной в мире».
Меткость наблюдений Милля и его критика в адрес буржуазного общества Герцена тем не менее не удовлетворяет. Он считает, что Милль не видел выхода из сложившейся ситуации и звал людей к крохотным переменам без всякой пользы и всякого смысла. «И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их на что-нибудь. Это что-нибудь была ли утопия, фантазия или истина — нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью…»
В главе «Роберт Оуэн» завязывается важный идеологический узел. Герцен, известно, в постоянном поиске. В цепь его теоретических размышлений об общине как о мосте в будущее России, как форме организации общества, ячейки новой социальной структуры, позволяющей, как ему представляется, миновать буржуазный период развития, постоянно входят вопросы о возможности согласования «личной свободы с миром». Конкретных практических ответов пока нет. Так ли уж независимость лица совместима с твердыми правилами коллективного подчинения?..
Две знаковые мировые фигуры — француз Бабёф и англичанин Оуэн явно нужны Герцену для сопоставления разных форм социальных и политических перемен и двух подходов к способам достижения общественного блага. В противопоставлении утопического коммуниста, революционера Гракха Бабёфа, готового насильно «втеснить французам свое рабство общего благосостояния» в проекте будущего социалистического переустройства (1796) с его казарменными установлениями и несвободой лица, и поборника мирных, постепенных методов преобразования — Роберта Оуэна, Герцен, естественно, отдает предпочтение второму деятелю. Он находит на редкость емкие образы этих «мастодонтов социализма», подчеркивая различие — «хирурга» Бабёфа и «акушера» Оуэна.
В 1852 году только приехавшего в Лондон Герцена жизнь столкнула с персонажем, поистине историческим. В образе сухонького старичка, в течение шестидесяти лет не сходившего с общественной арены, предстал перед ним один из «патриархов» его юности, один из апостолов утопизма, мутивший сознание одержимых юнцов социалистическими и утопическими идеями. Его поминал Герцен еще в «Записках одного молодого человека», рассказывая о встрече (в Вятке) своего персонажа с малиновским, как поговаривали соседи, «поврежденным» помещиком Трензинским, «устроившим свое именье по-ученому», то есть не без влияния оуэновских прогрессивных теорий хозяйствования.
Герцен создал глубокий философский этюд (1860), включенный в мемуары, и отнес его к лучшим из своих статей. Он восхищался последовательным мирным упорством Оуэна, его бесконечным доверием к человеку. Оуэн являл для автора «Былого и дум» пример человеколюбия, «человечески прожитой жизни», веру в царство добра и свободы. «На что же звал» реформатор?
«С легкой руки Оуэна, — писал Герцен, — начались в Англии развиваться кооперативные работничьи ассоциации», в Шотландии была построена фабрика с укороченным рабочим днем и стали осуществляться другие филантропические планы по улучшению жизни рабочих.
Идеи Оуэна, до конца дней «проповедовавшего уничтожение казни и стройную жизнь общего труда», вызвали непонимание и были отринуты английским обществом. «…Мало-помалу, его усилия, его слова, его учение — все исчезло в болоте, — заключал Герцен. — Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только либералов; аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает». «Не взошедшее в ум большинство» (читай: буржуазная Англия, преобладающее мещанство) разрушило все его проверенные практикой полезные начинания. Собственный скептицизм Герцена, возникавший в разные эпохи его жизни, был проявлен в байроновском эпиграфе к статье: «Заприте весь мир, но откройте Бедлам, и вы, возможно, удивитесь, найдя, что все идет тем же самым путем…»
Герцен писал, что «Р. Оуэн назвал одну из статей, в которой он излагал свою систему, „Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный“» (в переводе с английского. — И. Ж.). Эта статья, помещенная в журнале Р. Оуэна в 1850 году, заканчивалась словами, буквально повторяющими (как подметили всезнающие комментаторы мемуаров) приводимое Герценом заглавие: «Превратить этот сумасшедший дом в разумный мир — вот что будет делом, которое должно осуществляться настоящим журналом» (в переводе с английского. — И. Ж.).
Идея Р. Оуэна о «мире — огромном сумасшедшем доме» («The World a great lunatic asylum»), несомненно, воспринималась Герценом, создавшим в 1840-е годы своего «Доктора Крупова», косо смотревшего на душевное здоровье человечества. В творчестве писателя — эта идея сквозная.
Чередующиеся в жизни Герцена упования и разочарования не устраняли главного — веру в человеческую личность и великое предназначение русского народа. Как достигнуть великой судьбы и какими средствами?
Окончание главы об Оуэне сродни высокой проповеди. После экскурсов в мировую историю, анализа некоторых способов изменения мира, предложенного философами-утопистами, Герцен задается вопросом, на который сам и отвечает:
«Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?
— От кого?
— Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как после этого нам сложить руки!»
Находясь вдали от России, Герцен искренно стремится весь смысл своей деятельности обратить на ее благо. Главное — еще и еще раз «поднять русский вопрос». Весь интерес издателя заключен в событиях, надвигающихся с воцарением нового императора.
Время «апогея и перигея» Вольной русской типографии, находящихся в тесной связи с близкими реформами и их последствиями (о чем в нашем рассказе речь впереди), войдет в значительную главу седьмой части «Былого и дум». Характеристики русских эмигрантов новой волны («Молодая эмиграция»), польские события 1863–1864 годов («М. Бакунин и польское дело» и др.) не останутся без освещения в этой же части записок. Герцен продолжит и традицию воскрешения неповторимых, особенных русских характеров, сродни тем, которые только «русская печь печет» (главы «Pater Petcherine», «И. Головин»).
Невольно в описаниях, особенно в русских сюжетах, возникали лакуны. События в России заставляли соблюдать жесточайшие правила конспирации. Иногда недостаточная осмотрительность приводила к роковым последствиям, трагически отзывающимся на деятельности Герцена, а главное, на судьбе его негласных помощников.
Часть восьмая «[Отрывки] 1865–1868» включала фрагменты, собранные «без связи» (и все равно спаянные, вставленные в единый каркас) уже в «швейцарский» период существования Вольной типографии и последнего пятилетия жизни мемуариста, в период его метаний по Европе. Завершающими стали главы: «Venezia la bella» и «La belle France».
«Старые письма» — бесценный документальный пласт, хлеб мемуаров, теперь уже подсобный материал, использованный Герценом, прилагались к корпусу мемуаров и завершали совершенное строительство их мощного здания.
Безусловно, «Былое и думы» — не историческая монография и не исторический источник, не историческая хроника или трактат, несмотря на множественность включенных в книгу подлинных документов, все же свободно переработанных, часто с определенной эмоциональной окраской, в чем убеждаешься при сравнении писем с другими источниками (например, дневниками или первоначальными текстами писем).
Иногда «Былое и думы» называют романом, притом что вымысел чужд Герцену. В старой, дореволюционной, литературе их рассматривали как обычные мемуары с примесью публицистики, затем подводили под категорию романа особого — автобиографического и философско-публицистического.
Сам Герцен чаще всего называл «Былое и думы» записками, подразумевая удобную условность жанрового содержания. «Мемуары, хроника — все это Герцен воспринимал как неадекватное предпринятому им творческому деянию. Ему именно нужна была уверенность в том, что он совершает открытие, создает творение, не укладывающееся ни в одну готовую рубрику, — суммировала известная исследовательница свои размышления о жанре. — <…> „Былое и думы“ — непосредственное, без всяких фабульных прослоек художественное высказывание человека о жизни»[135].
О многоцветье характерных черт создателя мемуаров (будем все же и так называть «Былое и думы», вспоминая, что Герцен употреблял слово «мемуар») написано немало. Временами книга, как учебник жизни, как несравненная проза, попадала в число самых известных бестселлеров[136]. Бесстрашие откровенности, живой и ироничный ум, язвительное остроумие, сила слова в отсутствии категоричности, неукротимый и поэтический темперамент, повышенная эмоциональность, интеллектуальная энергия, полемический задор, а вместе с тем — необыкновенная человеческая тонкость, ранимость и прочее, и прочее — всё присутствует в созданном Герценом шедевре. В нем — естественность стиля («живое тело» языка, если сказать словами Тургенева) и другие черты, свойственные «прирожденному рассказчику, неспособному устоять перед длинными отступлениями, которые сами собой уносят его в водоворот сталкивающихся потоков воспоминаний и размышлений, но всегда возвращающемуся в главное русло своей истории или аргументации»[137].
Автор мемуаров — внутренне свободная, светлая, гармоничная личность. Почему и речь его так свободна и раскованна, а богатство суждений, предвидений, сбывшихся прогнозов поражает по сию пору.
Что же до отзывов в прессе о записках Искандера из современной ему России, ждать их, понятно, не приходилось. В публицистике и критике того времени не насчитаем и нескольких. В завуалированной форме откликнулся Н. Чернышевский в «Современнике» (1856, № 9). В статье «Стихотворения Н. Огарева» обратил внимание на свободолюбивые, протестные моменты в жизни молодых друзей, на идейные искания людей 1840-х годов. К нему от Н. Добролюбова попали некоторые сочинения Искандера, которого Николай Гаврилович отметил как «человека весьма замечательного». Некрасов, по слухам, «был в восхищении» от прочитанных отрывков. Некоторые московские друзья оценили семейно-бытовые картины прошлого, переданные изящно и умно… Но все эти отзывы оставались по большей части в личной переписке или позднейших мемуарах.
Мало-помалу в Россию проникало, хоть и с трудностями, новое свободное издание, на страницах которого стали печататься мемуары лондонского изгнанника. Круг причастных к «тамиздату» расширялся. В 1855 году «Полярная звезда» уже взошла на горизонте вольного книгопечатания.
Глава 21
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» И ЕЕ «СОПУТНИКИ»
Тучи проходят — звезды остаются.
А. И. Герцен — Ж. Мишле
Четвертого марта (20 февраля) 1855 года обширный дом Герцена в лондонском пригороде Твикнеме с утра полон народом. Толпятся французские, польские рефюжье, немцы, итальянцы, английские знакомые. К общему «чувству радости и ожиданья» приобщены не только друзья и домашние, но даже посторонние. Игравшие на берегу Темзы уличные мальчишки за известное поощрение не устают кричать: «Ура! Ура! Имперникель умер!»
Организован праздничный обед. Восклицаниям и тостам нет конца. Всеобщая радость от известия, полученного третьего дня из «телеграфической новости» газеты «Times»: умер русский император. Вскоре слухи будут доходить самые разные, толки самые фантастические: царь отравился, не выдержал известия о поражении русских войск при Евпатории. В петербургских газетах напишут: Николай заболел лихорадкой — и это в бюллетене о здоровье императора в день 18 февраля (2 марта по новому стилю) 1855 года, когда его уже не стало. Герцен — мастер припечатать словом, скажет: «Николай умер от „Евпатории в легких“». Долгое противостояние закончено. Методичное преследование «тяжелого тирана», закрывшего Герцену дверь домой, больше нет. Уже написано письмо к М. К. Рейхель с поздравлениями и проблесками надежды на его возвращение в Москву: «Мы пьяны, мы сошли с ума, мы молоды стали. Когда едете на Трубу?»
Известий важных множество, но последнее, из России, — затмило всё.
Герцен, известно, не одинок в своем отношении к царствованию Николая Павловича. Даже среди именитых сограждан с ярко выраженной монархической приверженностью — мнения разнополярные. После смерти императора появляются строки Тютчева (во многом неожиданные):
Неудачи в Крымской кампании, несмотря не героизм Севастопольской обороны, неизбежно продвигали войну к трагическому концу. События ускорялись. Герцен, словно предвидя последствия, писал в январе 1855-го: «Время уже на девятом месяце беременности, я с огромным нетерпением жду событий». Внезапная смерть Николая I определила резкий поворот. Страна выбирала новые пути, «вступала в новый отдел своего развития».
Пока соотечественники молчали, а издатель Трюбнер терпел сплошные убытки, напечатав за два года работы вольного станка только пятнадцать листовок и брошюр, плотно лежащих на складе, Герцен упорствовал в своем желании не сдаваться. Желание это воплотилось в рождении нового детища Вольной типографии — толстого журнала, обозрения, альманаха, повторяющего заглавие декабристской «Полярной звезды» А. Бестужева и К. Рылеева 1823–1825 годов.
По прошествии тридцати лет, когда последние декабристы еще отбывают в ссылках свои непомерные сроки, 25 марта (6 апреля по новому стилю) 1855 года Герцен символически ставит дату своего рождения под листовкой-объявлением о новой «Полярной звезде». Возможно, он думает о рождении вынашиваемого издания, может быть, вновь хочет напомнить московским друзьям о себе и неизбежном послаблении режима, который даст им возможность сотрудничать.
Замысел альманаха на самом деле возник у Герцена, как сам и свидетельствовал, «на другой или третий день после смерти Николая». Почти через месяц, датой 31 (19) марта, можно уже обозначить первое упоминание о «русском журнале под названием „Полярная звезда“».
«Русское периодическое издание… исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, — объявлялось в листовке Вольной типографии, — чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство».
Всё напоминало о славных предшественниках, на которых с ранних пор равнялись Герцен и Огарев, — и унаследованное название, и обложка, исполненная английским гравером, литографом, издателем и публицистом, чартистом В. Линтоном[138], с профилями пятерых повешенных декабристов. Портретного сходства, конечно, нет. Изображения Рылеева, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Пестеля и Каховского — условны и символичны. Недаром Герцен соотносит героев 14 декабря то со сказочными богатырями, выкованными из стали, то с легендарными деятелями древности, оставшимися в античных скульптурных портретах и в сочинениях Плутарха. Виньетка с пятью медальонами на обложке освещена восходящей, путь указующей Полярной звездой.
Герцен стремился приурочить первую книгу «Полярной звезды» к дате казни «святых мучеников» (13 июля по старому стилю), но не успел. Первый том вышел только к середине августа 1855 года.
Объявление издателя четко обозначило план и состав журнала: «Мы желали бы иметь в каждой части одну общую статью (философия революции, социализм), одну историческую или статистическую статью о России или о мире славянском; разбор какого-нибудь замечательного сочинения и одну оригинальную литературную статью; далее идет смесь, письма, хроника и пр.»[139].
«Полярная звезда» с пушкинским эпиграфом «Да здравствует разум!», по замыслу Герцена, станет «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской ценсуре». Так присылайте, хотя бы потаенные стихотворения поэта — «Оду на свободу», «Кинжал» и все не пропущенное, все исковерканное цензурой, — вновь призывал Герцен сограждан, когда те упорно молчали. Позже он ответит на претензии одного из корреспондентов: «Вам не нравится эпиграф „Да здравствует разум!“. А мне кажется, что это единственный возглас, который остался неизношенным после воззваний красных, трехцветных, синих и белых. Во имя разума, во имя света, и только во имя их победится тьма».
На первых порах российского безмолвия Герцен нес тяжесть издательского груза на собственных плечах. Новое издание предоставило широкое поле для герценовских текстов. Вот тут-то и развернулся публицистический дар Искандера, некогда ущемляемый российской цензурой.
Важным стало письмо Александру II — первое открытое обращение к новому императору, «писанное сгоряча», по следам известия о смерти Николая. «Великая новость» «удесятерила надежды и силы». Открывшаяся возможность повлиять на нового императора показалась Герцену вполне реальной.
При публикации в первом номере издания по прошествии пяти месяцев он почему-то счел письмо устаревшим. Расценил свою программу как слишком умеренную («…я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться…»), хотя она содержала все насущные требования — свободу русскому слову, землю крестьянам и их немедленное освобождение (тезисы, затем прозвучавшие в «Колоколе»).
Возможно, тон послания с воспоминанием о судьбоносной встрече с великим князем в Вятке показался ему неуместным и чрезмерно восторженным[140]. («Государь! <…> От вас ждут кротости, от вас ждут человеческого сердца. Вы необыкновенно счастливы».) Большие возможности мирных преобразований, «благодетельных реформ», на первых порах нового царствования неизменно внушали Герцену надежду, которая прежде, при николаевском деспотизме, была исключена.
Через полтора года, в январе 1857-го, он сам в письме старому приятелю Н. М. Щепкину прояснял собственную позицию: «…не могу быть подкуплен слабенькими поползновениями к добру Александра] II. Первый я готов признать его великим государем — но пусть же он сделает в самом деле что-нибудь. Я понимаю, что можно было всему восхищаться на другой день после смерти такого урода как Николай».
В первом выпуске «Полярной звезды» читатель мог познакомиться с новым сочинением Искандера, отныне занимавшим значительное место в журнале, — отрывками из третьей, четвертой и пятой частей «Былого и дум», рассказавших об общественно-политической атмосфере русской жизни 1830–1840-х годов, и с не пропущенной в печать цензурой блестящей статьей 1842 года — «Новгород Великий и Владимир-на-Клязьме».
Герцен опубликовал один из немногих материалов одного из первых российских корреспондентов, близкого к петрашевцам А. А. Чумикова, передавшего в распоряжение издателя «Переписку Белинского с Гоголем». Этот документ — уже факт русской истории, как сами ее герои. Письмо, названное Герценом «завещанием» критика, читал ему некогда сам Белинский, и оно не теряло своей злободневности: «России… нужны не проповеди (довольно она слышала их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе…»
За чтение потаенных листков прежде в России можно было поплатиться свободой (дело петрашевцев на памяти), но теперь все тайные двери открыты.
Что печатать? Вновь задавался вопросом издатель. Время шло, а материалов не прибавлялось. Новых сочинений о текущем российском моменте и вовсе не было. Для первого раздела журнала «Философия революции, социализм» пришлось воспользоваться работой Энгельсона «Что такое государство?», подвергшей критике государственный строй разных стран. Впрочем, литературные способности неуживчивого автора даже чрезмерно подчеркивались издателем. В этот период молчания Энгельсон был «бесконечно полезен» для типографии.
Обращение к западноевропейским деятелям демократии — замысел издателя осуществить единение лучших сил России и Запада — не дало ощутимых результатов. В дальнейшем «Полярная звезда» больше ориентировалась на российских корреспондентов и русские вопросы. Присланные под занавес письма Ж. Мишле, Дж. Маццини, П. Прудона и В. Гюго едва поспели в один из последних разделов журнала. Но их поддержка, одобрение стоили дорого. «Вы совершаете дело европейское, вы совершаете дело человеческое…» — обращался к Герцену Виктор Гюго.
Получаемые редакцией новые книги (в первом номере — сочинение Ж. Мишле «Renaissance») сопровождались обширными обзорами и ответами издателя на присланные корреспонденции.
Анонимное, верноподданническое письмо из России, «проникнутое духом полнейшего гражданского духовного рабства», повлекло резкий ответ Герцена своему оппоненту, подхватившему мысль о «развязке топором», якобы насаждаемую лондонским агитатором.
«На нас, владельцах, лежит великое дело — помочь правительству последовательно, мирно, без развязок, подобных западным, достигнуть переворота, — наставлял издателя неизвестный. — <…> Вы добровольно отказались от участия в великом деле, вы сочли лучше толковать о зле вне отечества, нежели принести на пользу ему свои способности, свой труд, нежели пожертвовать частию своей собственности…» Герцен отвечал на обличения «прекрасной маски» (как иронично величал анонима): «…в вашем письме вы не ограничились общей полемикой, вы хотели набросить на меня тень иного рода. Вы говорите, что я воспользовался крепостным правом — протестуя против него? <…> Я отроду не продал, не заложил ни одного крестьянина, но еще больше — я не пользовался ни оброком, ни работой крестьян; это случай, но он тут в мою пользу. Я лишился отца в мае 1846 года, при его жизни я не владел ничем; в январе 1847 года я был уж за границей. Единственный акт, сделанный мною в управлении имением, состоял в предложении крестьянам заложить их и отпустить на волю с землею; пока староста советовался, я уехал. Через полтора года, не объявляя мне ничего, правительство взяло именье под секвестр»[141].
Заключая первую книгу, Герцен помещал принципиально важную статью «К нашим», где отказывал в печати всем тем, кто будет писать «в смысле самодержавного правительства, с целью упрочить современный порядок дел в России», ибо все его усилия устремлены на его замену свободными народными учреждениями, представленными крестьянской общиной.
Возникающий вопрос, как заявленная в журнале программа-минимум совмещалась с идеей «русского социализма», Герцен тоже не обошел. Он не отказывался ни от одной из возможностей разрешения социального конфликта. В этой же статье, обращенной к «нашим», писал, что в русском народе «не только есть начало революционное, но и социальное, которое следует развить», а для этого, в частности, «образованная Россия должна раствориться в народе». Мысль эта, высказанная в 1854 году, несомненно стала предвестием народовольчества, но материализовалась уже после смерти Герцена.
Итак, России преподнесен свободный печатный орган, трибуна для вольной речи людей самых разных воззрений; им дано во владение «слово, свободное, как воздух…». «Лед, разбитый пушками, тронулся», — скажет гордо издатель. Но дело заключается в том, последует ли после войны ответная реакция, появятся ли статьи из России — без них «Полярной звезде» не существовать.
«Если вам теперь нечего сказать или не хочется говорить, — с затаенной обидой обращался Герцен „К нашим“ (читай: к образованному меньшинству), — если вам достаточно делать бледные намеки в ваших глухонемых журналах, тогда мы с горестью должны отказаться от нашей мысли и вместо русского обозрения издавать обозрение о России. <…> Ваше молчание… нисколько не поколеблет нашу веру в народ русский и его будущее…»
Московские друзья по-прежнему не одобряли «горячечной деятельности» Герцена, в которую он сломя голову бросился. Стоило ли заводить типографию «для издания таких мелочей», — писал Грановский своему другу Кавелину 2 сентября 1855 года. Б. Н. Чичерин и К. Д. Кавелин даже отправили Герцену в конце того же года письмо за подписью «Русский либерал», убеждавшее издателя, весьма в резком тоне, поменьше заниматься идеями «социальной демократии». В письме слышалось предостережение от его пристрастия к опасным западным идеям революции, социализма и демократии. «С должной умеренностью необходимо сосредоточиться на русских проблемах», — наставляли они Герцена; призывали обратить свои взоры на внутренние недостатки «нашего быта», где главное — крестьянский вопрос.
Злободневное, «дельное», как Герцен расценил идеологическое послание недавних приятелей, почти друзей, с которыми даже теперь у него еще оставалось много общего, Герцен отложил до поры. Но к любым голосам из России следовало прислушаться. Особенно к антикрепостническим программам либеральной части общества. Время вносило свои коррективы и требовало новой трибуны для выражения несхожих взглядов. И вскоре эта трибуна появится.
Поначалу путешественников из России, навещавших лондонского невозвращенца, можно сосчитать по пальцам. Немного найдется смельчаков отправиться в столицу вражеской державы, так сказать, в логово врага в самый разгар войны. Но случилось невероятное.
В один прекрасный день в доме Герцена в Ричмонде (уж сколько квартир и домов поменяет он в Англии: насчитаем более двадцати) появится доктор В-ский. Из московских знакомцев. Человек не случайный, из «наших». Подающий надежды молодой профессор, женатый на сестре В. П. Боткина. Естественно, добирался до Лондона окольным путем. Ехал через нейтральную Вену, где лечился. Явился он после смерти императора, первым из русских, с вестями из дома, с письмом от Грановского. Привез тетрадь запрещенных стихов, видимо, сохраненных Кетчером (недовольные друзья все же вняли, уважили его просьбу).
Павел Лукич Пикулин, законспирированный фамилией Венский, своими рассказами очевидца о решительных переменах на родине, несмотря на переданные им упреки Грановского, подтверждал веру Герцена в возможность начатого дела. Его появление было для лондонского отшельника символично, как примета скорых перемен, как знак «в яркой картине проснувшегося общества». Столько раз за время «сплошного мрака» руки издателя опускались. Теперь задело! «И задело я принялся с удвоенными силами», — засвидетельствовал Герцен в «Былом и думах».
После окончания Крымской войны «Полярная звезда» должна была стать вестником новой эпохи, того «общественного одушевления» в России, которое особенно захватило ее в переломном 1856 году. В неоконченном романе «Декабристы» Л. Н. Толстой точно подметил изменения в политической атмосфере страны: «Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь».
Вторая «Полярная звезда» к началу апреля 1856 года была уже собрана и почти готова к печати. Подсчитано, если примериться к объему второй книги, которую Герцен выпустил почти единолично, то в ней было помещено восемь произведений, 11 редакционных примечаний и 23 стихотворения. Шесть произведений написано Герценом. «Былое и думы» заняли две трети книги, всего же из 288 страниц — около 190 вышло из-под пера издателя.
Во второй «Полярной звезде» (появилась около 25 мая 1856 года), в передовой статье «Вперед! Вперед!» (с датой 31 марта), Герцен призывал оставить вечные споры западников и славян. Перед грядущей проблемой модернизации страны единение всех левых сил необходимо. Его антикрепостническая программа уточняется и явно солидаризируется с позицией русских либералов: она «сводится на потребность гласности и все знамена теряются в одном — в знамени освобождения крестьян с землею». Однако призывы, помещенные в конце статьи, по-герценовски решительны, даже радикальны: «Долой дикую ценсуру и дикое помещичье право! Долой барщину и оброк! Дворовых на волю! А с становыми и квартальными сделаемся потом…»
Герцен, как всегда, в движении, в поиске. Проблема взаимосвязи Запада и России рассматривается и как вопрос «будущего переворота». Но вот каким он будет, кто станет его движущей силой? Ведь прежние революции «не удались в Европе потому, что они не касались ни поля, ни мастерской, ни даже семейных отношений и были сбиты с дороги мещанством». У Европы нам нечего заимствовать, но вот осознать ее уроки… Идея крестьянской общины по-прежнему занимает его как путь, как выход из тупика… Но на этом пути русского развития «страшное преступление крепостного состояния». «Первый враг, против которого нам надобно бороться», Герценом давно определен.
Герцен думал выпускать «Полярную звезду» как «третное обозрение», рассчитывая на периодичность — три, а то и четыре книги в год. Эти планы частично удались. Вышло всего восемь книг: книга II — «Полярная звезда на 1856», книга III — «Полярная звезда на 1857», книга IV — «Полярная звезда на 1858», книга V — «Полярная звезда на 1859», книга VI — «Полярная звезда на 1861», книга VII в двух выпусках — «Полярная звезда на 1862». Через значительный промежуток, почти перед смертью издателя, появилась книга VIII–L'Etoile Polaire, «Полярная звезда на 1869».
Форма издания тяготела больше к журналу. Ежегодные альманахи, фиксирующие успех литературы за год, отходили в прошлое еще со времени издания пушкинского «Современника». С середины 1850-х годов на поле разнополярной журналистики царствовали журналы. И трудно представить идейную жизнь эпохи 1840-х без «Отечественных записок» со статьями Белинского и упорно противостоящего режиму «Современника» Некрасова — Чернышевского — Добролюбова. Либеральный лагерь консолидировался в дореформенное время вокруг «Русского вестника», славянофилы собирались вокруг «Русской беседы».
«Полярная звезда» спасла от забвения множество потаенных сочинений, неведомых прежде российскому читателю. Герцен не забыл о затрепанных тетрадках, тайно передаваемых ему учителем Протопоповым. Помнил, как затверживал наизусть оду «Вольность» или послание поэта к декабристам «В Сибирь». Когда пушкинские тексты, существовавшие только в списках, оказались в его руках после приезда Пикулина, они тут же появились во второй «Полярной звезде на 1856». К ним присоединились неизданные стихотворения К. Рылеева, М. Лермонтова, А. Григорьева, Е. Ростопчиной, П. Вяземского и др. В дальнейшем подобные поэтические подборки, всякого рода тайные разоблачительные материалы, несшие свой протестный заряд и представляющие российскую оппозицию (в том числе и процесс петрашевцев), заполнили страницы издания.
Можно заранее подытожить, что за 14 лет существования журнала Герцен «прошелся» по всем важнейшим этапам истории русского свободомыслия, особо выделив «Рассказ о временах Николая»: материалы о тайных политических процессах, о русской цензуре при императоре, о судьбе оригинальных, ярких и непокорных личностей, выдающихся мыслителей, деятелей истории и литературы. Как и замышлял Герцен, «Полярная звезда» продолжила заявленную им декабристскую традицию. Журнал открывал свои страницы пушкинско-декабристскому наследству, истории 30–40-х годов XIX века и был обращен в основном к рассекречиванию недавнего прошлого.
Одной из самых значительных публикаций пушкинской темы, вышедших на свет из тайных закромов частных собраний, стала подборка «Материалов для биографии А. С. Пушкина», впервые открывших важные страницы его наследия. Собственно, письма, неизвестные фрагменты из сочинений поэта (примечания к истории пугачевского бунта, отрывок «Встреча с Кюхельбекером» и др.) дополнялись воспоминаниями и записками декабристов И. И. Пущина и И. Д. Якушкина, трагическими документами о дуэли и смерти поэта.
Запрещенные властью декабристские материалы были представлены стихотворениями А. Бестужева, В. Кюхельбекера; письмами и сочинениями М. Лунина («Взгляд на тайное общество в России (1816–1826)»; «Разбор Донесения тайной следственной комиссии в 1826 г. М. Лунина и Н. Муравьева»); письмами к Пушкину К. Рылеева, воспоминаниями о декабристе Н. Бестужеве; отрывками из записок И. Якушкина и др.
«Семеновская история (1821)» — крупнейшее протестное выступление в армии накануне 14 декабря, открывала цикл «недозволенной истории», о которой в России не полагалось знать. По существу, «Полярной звездой» начиналась декабристская историография. (Позже, 8 марта 1860 года, правительственным постановлением будет узаконена невозможность проведения в печать тайной истории «вчерашнего дня», не говоря уже о «седой истории» и послепетровском царствовании, с его дворцовыми переворотами и убийствами императоров.)
Слабая изученность послепетровского исторического периода, официозное истолкование в историографии отдельных эпизодов, ложь в учебниках побудили Герцена написать исторический этюд «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (кн. III, 1857), который понадобится ему в 1859-м для публикации записок этой незаурядной женщины, проявившей себя на поприще науки и политической жизни. В этой программной статье Герцен заметит, что «мы очень мало знаем наше XVIII столетие. Мы любим в истории восходить гораздо дальше. Мы из-за варягов, новгородцев, киевлян не видим вчерашнего дня».
«Канцелярская тайна Зимнего дворца», хранившаяся за семью печатями, и рискованные воспоминания не допускались. История царствующего дома — вне подозрений. Герцен, как всегда, образно отзывался о русском правительстве, устраивающем «к лучшему не будущее, но прошедшее».
«Удивительное забвение» коснулось событий 1762, 1801, 1825 годов, но чрезвычайная память устной и рукописной традиции, особенно сильно развившейся со времен Пушкина и декабристов, сохранила известия и обо всех перипетиях вступления на престол Екатерины II, и о том, кого и как душили в Ропше и в Михайловском замке, и что действительно произошло на Сенатской площади и пр., и пр.
Опережая события, заметим, что Вольная русская типография отозвалась на потребность русского общества в своем «непечатном» прошлом. В 1858–1861 годах вышли в свет уникальные памятники «недозволенной истории», тайно доставленные в Лондон: «О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева» (1858), «Исторические сборники Вольной русской типографии» (1859–1861), «Записки императрицы Екатерины II» (1859) и «Записки сенатора И. В. Лопухина» (1859)[142]. Причем среди авторов этих публикаций парадоксально соседствовали персоны-антагонисты, не совместимые по своим убеждениям: А. Н. Радищев и Екатерина II; просветитель, общественный деятель, масон И. В. Лопухин, близкий кругу Н. И. Новикова, и отъявленный консерватор, едкий памфлетист М. М. Щербатов.
Не остался без внимания издателей и выпад против декабристов М. Корфа, представившего их в своей книге «Восшествие на престол императора Николая I» (1857) как «эгоистических злодеев», фантазеров, не знавших, чего хотят. Изрядная доза «антикорфики» была впрыснута тенденциозному официозному историографу страстно протестующими статьями Герцена и Огарева и публикацией книги «14 декабря 1825 и император Николай. По поводу книги барона Корфа»(1858).
Продолжая серию работ об оригинальных личностях, Герцен представил читателю «Полярной звезды» фигуру русского «маркиза Позу», просветителя Каразина («Император Александр и В. Н. Каразин»), которого сравнил с превозносимым им с юности, шиллеровским героем-правдолюбцем.
В статьях «Полярной звезды», посвященных памяти ушедших, недавно скончавшихся друзей и единомышленников, Герцен писал о невосполнимых потерях. Одним из самых больных ударов, «ошеломивших» его, была смерть Т. Грановского в 1855 году. «Еще один сильный деятель» — П. Чаадаев, сошел в могилу в 1856-м. С. Ворцеля не стало в 1857-м. Для польского друга Герценом избрано слово, больше всего выражающее эту «фантастическую личность» и «главный характер» его — «святой человек».
Некрологическими заметками о художнике А. Иванове, «одном из лучших деятелей», скончавшемся в 1858 году, и о других выдающихся людях русской культуры пополнялся этот скорбный список. «Да и зачем нам художники и поэты, — с трагической иронией спрашивал Герцен, — зачем эти нежные, нервные организации, которые не могут выносить воздуха передней, дерзости дворецких, образованности фельдфебелей? Теперь нам надобны бойцы, теперь нам надобны люди, которые за обиду плотят (так!) не своим здоровьем, а двойной обидой, за пренебрежение невежд — презрением и ненавистию!»
Внимание Герцена привлекли совсем новые материалы (которых, увы, было совсем немного): размышление Н. Сазонова о месте России среди европейских народов выплеснулось в его сочинение о Всемирной выставке 1855 года, в связи с открытием ее в Париже, конечно, с непременной критикой буржуазной Европы. Открытое письмо Герцена И. С. [Тургеневу] «Еще вариация на старую тему» продолжило злободневную полемику о судьбах России и Запада, начатую во время посещения писателем Лондона в 1856 году. Герцен еще много раз будет спорить в печати со своим переменчивым другом о «концах и началах» европейской цивилизации. Возвращаясь к «старой теме» — полемики западников и славянофилов, Герцен ответит на упреки бывших единомышленников в его «измене» партии западников и переходе на позиции славян: сейчас не до старых «усобиц», вопросы русской жизни так широки и значительны, что требуют общего единения.
Когда в поле зрения издателей попадали сочинения славянофилов, обличающих власть, — они появлялись в журнале («Присутственный день уголовной палаты. Судебные сцены…» И. С. Аксакова). Новая волна споров со славянофилами, допускающими в своих изданиях грубые выпады против Герцена, была еще впереди, в «Колоколе».
С приездом Огарева в «Полярной звезде» многократно печатались его сочинения: подборки стихотворений, прозаические тексты и политико-экономические статьи на злобу дня. Первое из его выступлений на страницах вольной печати — «Русские вопросы», открывшее серию статей под тем же заглавием, обсуждало главное — крестьянский вопрос. Автор еще спрятан за конспиративными инициалами Р. Ч. — Русский человек, ибо продолжает числиться подданным Российской империи.
В статье «Разбор манифеста 26 августа 1856 г.» по случаю коронации Александра II Огарев оценил заявленную программу нового императора, в которой среди объявленных милостей не нашлось места проблеме освобождения крестьян. Важным в манифесте оказалось (среди прочих амнистий) — амнистирование декабристов, хотя им даровано меньше льгот, чем даже осужденным по уголовным преступлениям. Оставшиеся в живых, пережившие тридцать лет тюрьмы, каторги и ссылки, декабристы возвращались, но пути в столицы были им закрыты.
«Амнистия тощая, скупая, — полагал Герцен. — Бакунин и Спешнев разве амнистированы?» Да и шага не сделано к освобождению крестьян, «к избавлению России от палки и кулака». Вскоре лондонские издатели встретятся с некоторыми из героических мучеников и получат материалы от людей из ближайшего декабристского окружения.
Письма с откликами читателей на «Полярную звезду», всеми правдами и неправдами проникавшие в Лондон, начали постепенно приходить уже с выходом первых книг альманаха. 1 января 1856 года Герцен написал М. Рейхель о потрясшем его до слез письме из Петербурга: «Юноши благодарят меня за типографию и за „Полярную Звезду“». В начале сентября порадовал Тургенев. Заехал из Парижа с вестями из России. Рассказал множество интересных вещей. Бальзамом легли на душу слова сочувствия «пылкой петербургской молодежи», питающей к нему, Герцену, «настоящую страсть».
Доходят сведения, что «Полярная звезда» добралась даже до Сибири и уже в Иркутске, в руках декабриста И. Д. Якушкина. Из России идет и критика в адрес журнала. Негодуют славянофилы. Герцен доволен всяким отзывом. Можно ответить. Пожелания критиков часто выполняются. «Бейте — только читайте», — заявляет он.
Круг корреспондентов вольной печати постепенно расширяется[143]. С 1856 года в Лондон начинается паломничество.
Присланные и привезенные материалы столь разнообразны по тематике и политическим устремлениям, что Герцену приходится думать о специфическом издании, где он только типограф, и не обязательно разделяющий взгляды даже самого оппозиционного автора.
Так возникают «Голоса из России»[144].
Первую книжку, вышедшую летом 1856 года, издатель предварил краткой вводной статьей, где цитировал собственные слова из предисловия к «Полярной звезде» (издания вышли почти один за другим): «Мы равно приглашаем наших европейцев и наших панславистов, умеренных и неумеренных, осторожных и неосторожных, Мы исключаем одно то, что будет писано с целью упрочить современный порядок дел в России, ибо все усилия наши только к тому и устремлены, чтобы его заменить свободными и народными учреждениями. Что же касается до средств, мы открываем все двери, вызываем на все споры».
Для «Голосов…» определялись границы (вернее, их отсутствие) и принципы помещаемых в издании материалов. Единственно, снималась ответственность за публикуемое, если мнение автора «прямо противоположно» убеждению издателя. В подобном случае цензором быть Герцен не собирался. Подобная роль ему претила еще с российских времен. Он мог даже себе позволить поместить без всяких перемен то залежавшееся с конца 1855 года «Письмо к издателю», которое, возможно, и побудило его к новому предприятию. Конечно, письмо «решительно ничего бы не потеряло — если б вежливость выражений была наравне с их откровенностью», — замечал Герцен, и избежало бы «неблагородных» и «крепких слов», которые, единственно, вставлены не для оскорбления, а по «нашей не-привычке говорить без ценсорского надзора».
Своеобразный программный документ либералов за конспиративной подписью «Русский либерал» был написан Кавелиным и Чичериным, по их же свидетельству, «двумя руками». Так начиналась большая историческая полемика скрестивших рапиры двух сильных противников — Александра Герцена и Бориса Чичерина, продолжившаяся в индивидуальной схватке, в «обвинительном акте» отъявленного государственника, блестящего юриста, против «православного великобританца» (как в шутку окрестил Искандера его непременный корреспондент, сказочник А. Н. Афанасьев). Но об этом противостоянии читателю еще предстоит узнать.
Письменная литература после 1855 года давала полное представление «о вопросах, занимавших тогда и теперь умы» россиян. И первым, понятно, стоял вопрос об условиях и способах освобождения крестьян. Герцен просто обязан был предоставить трибуну не только своим сторонникам, но противникам и временным идейным попутчикам.
Первая книжка «Голосов из России» опередила «Колокол» почти на год. Осенью 1856 года вышел второй ливрезон, как Герцен называл книжечки маленького формата в яркой зеленой бумажной обложке, на которой позже появится вензель типографии Н. Трюбнера с непременным девизом по-латыни: «Книги имеют свою судьбу». Летом 1857 года вышла третья книжка, а вскоре за ней и четвертая. Пятая и шестая — появились зимой 1858-го, в год нарастания революционной ситуации, а в самом начале следующего года вышла седьмая. Восьмая книжка поступила в продажу осенью 1860 года. За ней скоро последовала девятая, заключившая в том же году счет ливрезонам.
Первыми тремя книжками, так сказать, «бал правят» либералы. Из четвертой — доносится полемика. Либеральный лагерь представлен теми же именами — Чичерин и Мельгунов. Демократическое течение обозначено сочинениями П. Л. Лаврова, будущего народника. Печатаются вольнолюбивые потаенные стихи В. С. Курочкина и других авторов. Пятую книжку издатели отдают одному сочинению — рукописи Валериана Панаева «Об освобождении крестьян в России» — с рядом ее радикальных идей они согласны. Шестая книжка помещает «строгий ответ вяземского мужичка князю Голицыну». Петр Артамонов знает, как «на свой лад» поступать крестьянам, когда пробьет их час. За «словом» вяземского мужичка идут статья Николая Тургенева «Об устройстве удельных имений с целью уничтожения крепостного права» и два письма неизвестных авторов — Александру II и самому Герцену.
На шестой книжке «Голосов…» четко обозначена эволюция издания, что отмечено в предисловии к этому выпуску: «В первой книжке все подкрашено розовой краской — Николай умер, мир заключен, реформы обещаны. Во второй книжке скептицизм примешивается к уверенности… Он возрастает в четвертой книжке до озлобленного негодования (Письмо редактору). Автор письма винит уже не правительство, он идет далее и обрушивает всю ответственность на народ…» Седьмая книжка печатает разоблачительный материал молодого, тогда либеральствующего К. П. Победоносцева (будущего государственного деятеля самых правых взглядов), направленный против реакционных подходов к реформе министра юстиции графа В. Н. Панина. Два последних выпуска посвящены исключительно крестьянскому вопросу. «Разрешение его усиливается с каждым днем», — заявляет автор печатаемого «проекта действительного освобождения крестьян», и это слышно почти всем в нарастающем гуле событий.
Предвестие надвигающихся перемен постепенно упраздняет необходимость в подобном издании. Мощный «Колокол» перехватывает инициативу сиюминутного разговора с соотечественниками. «Колокол» — противодействие рабству. Свободное слово — величайшее дело для «действительной воли народа». Десятилетнее существование «Колокола» (1857–1867) побивает все рекорды активного внедрения в жизнь своей страны зарубежного русского издания.
Теперь можно представить, как работал Герцен-издатель, начинавший в одиночестве и «Полярную звезду», и невольного ее «сопутника» — «Голоса из России», как без устали он трудился, так сказать, за двоих.
В разгар весны случилось давно ожидаемое… Приехал Огарев.
Глава 22 ПРИЕЗД ОГАРЕВЫХ
Я отпущен в страны чужие!
Н. П. Огарев. Юмор
«9 апреля мы вставали из-за завтрака, как вдруг Тата сказала: „какая-то карета остановилась у нашей решетки“. <…> Я уверен был, что это ошибка, потому что не ждал никого. Это был Ог[арев] и Н[аталья] Ал[ексеевна]…» — записал Герцен в дневник.
Свидание омрачилось сознанием — Огарев очень болен. Страшно болезненное выражение его лица отравляло радость. «И вот в ту торжественную минуту» Герцен «должен был сделать гигантское усилие, чтоб скрыть» от друга все свои неслучайные опасения.
Попытка сравнить имеющиеся документальные источники и коротко выслушать всех участников обозначенных событий, случившихся вскоре после 9 апреля 1856 года, привела к некоторым неожиданным наблюдениям. Удивительно, что, открыв в который раз одиннадцатый том академического собрания сочинений А. И. Герцена, вопреки ожиданиям я не обнаружила там ни единого упоминания о Тучковой-Огаревой. А именно «Былое и думы» в седьмой части, посвященной «Колоколу» и Вольной типографии, хронологически подводили к эпохе «цветения и преуспеяния» этого главного Дела Герцена, где не последнюю роль сыграл приезд Огаревых (ведь «Колокол» — счастливая идея Николая Платоновича!). Герцен ограничился фразой: «Весной 1856 года приехал Огарев, год спустя (1 июля 1857) вышел первый лист „Колокола“». И только Огарев, верный и единственный Ник, вновь занял свое главное место на страницах его книги.
«…Действительно, наставало утро того дня, — вспоминал Герцен, — к которому стремился я с тринадцати лет — мальчиком в камлотовой куртке, сидя с таким же „злоумышленником“ (только годом моложе) в маленькой комнате „старого дома“, в университетской аудитории, — окруженный горячим братством; в тюрьме и ссылке; на чужбине, проходя разгромом революций и реакций; на верху семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу с моим печатным монологом. Солнце, садившееся, освещая Москву под Воробьевыми горами, и уносившее с собой отроческую клятву… выходило после двадцатилетней ночи».
Позже, в своих мемуарах, Тучкова восстановила неожиданную в «Былом и думах» лакуну, описав день их бурного появления в доме Герцена. Сразу отыскать Герцена в Лондоне не удалось. Очевидно, известие о его переезде на другую квартиру по многим причинам не дошло до Огаревых. На перекладных пришлось добираться по новому адресу. Но и здесь вышла заминка. Уставший от незваных посетителей хозяин послал своего слугу François сообщить, что господина нет дома.
«„Как досадно“, — отвечал тихо Огарев по-французски и подал мне руку, чтоб я вышла из кареты; потом он велел кучеру снять с кеба чемоданы и внести их в дом; за сим спросил кучера, сколько ему следует и заплатил. Francois шел за нами в большом смущении. Войдя в переднюю, Огарев повернулся к François и спросил:
— А где же его дети?
Герцен стоял наверху, над лестницей. Услышав голос Огарева, он сбежал, как молодой человек, и бросился обнимать Огарева, потом подошел ко мне: „А, Консуэла?“ — сказал он и поцеловал меня тоже.
Видя нашу общую радость, Francois наконец пришел в себя, а сначала он стоял ошеломленный, думая про себя, что эти русские, кажется, берут приступом дом.
На зов Герцена явились дети с их гувернанткой, Мальвидой фон Мейзенбуг. Меньшая, смуглая девочка лет пяти [Оля], с правильными чертами лица, казалась живою и избалованною; старшая, лет одиннадцати [Тата], напоминала несколько мать темно-серыми глазами, формой круглого лба и густыми бровями и волосами, хотя цвет их был много светлее, чем цвет волос ее матери. В выражении лица было что-то несмелое, сиротское. Она не могла почти выражаться по-русски и потому стеснялась говорить. Впоследствии она стала охотно говорить по-русски со мной, когда шла спать, а я садилась возле ее кроватки, и мы беседовали о ее дорогой маме. Сыну Герцена, Александру, было лет 17; он очень нам обрадовался. <…> Я была до его отъезда из Лондона его старшей сестрой, другом, которому он поверял все, что было у него на душе».
Теперь дружеское участие Ника, признания без утайки, рассказ обо всем, что терзало душу все эти годы — десять лет разлуки, — помогали воскресить прошлую, «домашнюю» атмосферу с искренностью и полной теплотой. Бурный праздник встречи, хоть и с налетом грусти, продолжался недолго. Торопили дела, обязанности и будничные заботы о семье.
В дни приезда Огаревых, сразу после 9 апреля 1856 года, Герцен сделал в дневнике несколько отрывочных, противоречивых записей, потом никуда не вошедших. Теперь жизнь шла под гору, полагал он. Взяв за руку друга, дойдя не до цели, а до поворота, «можно и сказать, грустно улыбаясь: „Вот и всё!“». Но в будущем таилось какое-то необъяснимое предчувствие. Мистический смысл, которому никогда он не придавал значения, наводил на раздумья. В день своего рождения, 6 апреля, Герцен обнаружил, что его обручальное серебряное кольцо с надписью «Н. Г. 1838, мая 9», которое носил, не снимая, с памятной счастливой даты их соединения с Наташей Захарьиной, вдруг сломалось. Не прошло еще и месяца, и этот сорок пятый год его жизни «оказался одним из важнейших; в самом деле, это начало выхода — кольцо разнимается».
Тут необходимо прерваться, отступив от рассказа о набирающей силы издательской деятельности Искандера, чтобы показать, по какому трагическому руслу пошла личная жизнь Герцена с приездом жены горячо любимого друга, Натальи Тучковой-Огаревой. Вот уж верно заметил Герцен в давние итальянские времена восторженных упований: судьба «вороном каркнет», а его и не услышишь.
Ожидание Огаревых в Европе затянулось надолго, а в российской провинции время тянется и того медленнее. Годы идут — 1853-й, 1854-й… Друзей у Огаревых нет, знакомые, соседи по имениям опасаются поднадзорных. Для молодой женщины, ставшей полноправной хозяйкой и женой Ника (после смерти Марии Львовны в 1853 году), не слишком много занятий. Муж постоянно отлучается. Всё в переговорах, в хлопотах, в настоящей финансовой карусели — дел на его Тальской бумажной фабрике не переделать. А ей хочется учиться. Она чувствует, что без этого грозит ей в будущем страшная пустота. Сама она ничего не умеет. Понимает, что слишком мало знает: «нужен же фундамент, чтоб строить дом». Как-то призналась насчет своих ошибок, что «знает русский язык самоучкой». Пробовала несколько раз позаниматься с Огаревым, но он не привык учить, ему скучно, «это большое пожертвованье с его стороны, у него и для себя ужасно мало времени».
Вот и представьте жизнь мыслящей, деятельной, очень неглупой женщины в уездном захолустье…
Трагический 1855 год, как ни странно, принес Огареву облегчение. Фабрика сгорела. Избавились от собственности, свободны! Да и время переменилось. Оттепель. В конце ноября в Петербурге в съемной квартире на Малой Морской они ждут завершения своих многолетних хлопот. Через два месяца, 16 января 1856 года, решение о заграничном паспорте получено. «Коллежскому регистратору Огареву всемилостивейше дозволено с женой отправится к Гастейнским минеральным водам и в Северную Италию для излечения болезни».
«Ну, радуйтесь! Я отпущен! / Я отпущен в страны чужие!» — как помним, напишет Огарев в поэме «Юмор» в предчувствии долгожданной встречи с другом. Для Натали это тоже радость — ожидание перемен, исполнение ее необузданных мечтаний. Она уже давно вся там…
Никто не собирался ехать на воды, хотя здоровье Николая Платоновича и впрямь искало врачебного вмешательства. Аресты, преследования, трагические неудачи давали о себе знать, особенно во время столичных посещений. Здесь, в Петербурге, в отличие от сельского размеренного быта, припадки следовали с пугающей периодичностью. И хотя Огарев накануне отъезда в Европу демонстративно разъезжал по городу, опираясь на костыль, никого больше не интересовало, куда кто направляется. Со смертью Николая Романова границы приоткрылись.
Из Остенде в Дувр плыли по бурному морю. Густой, желтоватый туман окутывал мрачное побережье. Когда Огаревы были почти у цели, Натали, услышав незнакомый говор, загрустила, засомневалась, вспомнила оставленных в России родных. Всё ей представилось чужим, холодным, и потянуло домой. Так, приближаясь к Туманному Альбиону, суммировала она в поздних своих воспоминаниях первые впечатления.
Но прежде чем вновь открыть мемуары Тучковой-Огаревой, многочисленные письма с 1856 года, дневниковые записи-исповеди, во многом оправдательные (несмотря на заложенное в них самоуничижение), нужно отметить эмоциональную переменчивость ее характера в отношении людей и событий: предвзятость, неспособность на компромисс и яростное сочувствие только одной, предпочтительной в данный момент идее или стороне. И тем не менее воспоминания Тучковой, написанные через много лет после смерти Герцена, оказались «причесанными под гребенку». Спорные и двусмысленные ситуации были как-то завуалированы, приглушены. Важность их совместных общественных интересов, дел и политических устремлений нового заграничного периода ее существования, которые она могла впоследствии почерпнуть из сочинений своего покойного мужа, иногда внося путаницу в устоявшиеся факты, неожиданно выдвинулась на передний план. Притом что она всегда хотела большего — именно в «частном», личном, чего Герцен дать ей не мог.
Младшими детьми занималась Мальвида фон Мейзенбуг, личность во многом замечательная. И неприязнь к ней Тучковой проявилась с первых же шагов ее присутствия в доме. Конкуренции другой женщины Натали вынести не могла. Ведь именно ей ее покойная подруга и тезка Натали завещала быть рядом с Александром и детьми.
Настоящая война в доме разгорелась уже через месяц после приезда Огаревых, когда обнаружилось, что Мальвида заняла достаточно прочное место в жизни семьи не только в качестве гувернантки, как определила ее статус Тучкова. И дети к ней привязались, особенно пятилетняя Оля.
Надо сказать, что М. Мейзенбуг умела создавать себе кумиров и деятельно дружить с выдающимися мужчинами, приходя им на помощь в самые драматические моменты их судьбы. В одну из таких минут она была призвана Герценом и взяла на себя нелегкий труд воспитания осиротевших девочек.
В дальнейшем незаурядность фигуры его «друга-врага», писательницы, переводчицы, мемуаристки, автора интереснейших «Воспоминаний идеалистки», верного и достойного адресата, «Мальвиды Идеаловны» (по шутливому прозванию Александра Ивановича), ставшей в дальнейшем «второй матерью» его младшей дочери, рассматривалась Герценом уже двояко. Неоправданный романтизм, немецкий «мещанский идеализм» и ее непреклонная модель воспитания были Герцену не по нутру, а превращение Ольги в иностранку, оторванную от всего русского, и вовсе доставило ему немало страданий.
На протяжении своей долгой, в общем-то одинокой эмигрантской жизни она была другом, советчиком, наставником целой плеяды ярких талантов. Р. Вагнер, Ф. Ницше, а в ее старости и молодой Р. Роллан беспредельно почитали эту добрую, преданную всем «страждущим» женщину, словно воплощавшую истинно женский тип с большим сердцем и талантом сопереживания.
Как-то в городе Монпелье господин К. Амфу, передавший московскому Дому-музею своего предка несметное количество сокровищ[145], рассказал (мне. — И. Ж.) семейную байку. Однажды, в Лондоне, пребывая еще в герценовском доме, Мальвида Мейзенбуг немало удивилась, что хозяин «ошибся» дверью, невзначай свернув в комнату Натали Огаревой. Это и было началом конца ее женских надежд на Герцена.
События развивались стремительно. Натали Огарева вновь встретилась со своим кумиром, пусть поседевшим, немало постаревшим от обрушившихся на него несчастий. Нахлынули детские и юношеские воспоминания… Италия, счастливая пора; свобода любить всё и всех вокруг: Герцена, Наташу… Всплывали в памяти ее слова, говоренные не раз в Париже: «Когда меня не будет, живи с Ал. Ты любишь его, да и он тебя полюбит, вы похожи, может, за то я тебя так люблю». Уже прожита достаточно долгая и не слишком легкая жизнь с Огаревым. Серьезная болезнь мужа «обратила ее в сиделку». Его любовь, а «он уж так давно привык любить… была, может, последняя вспышка усталого сердца…». Но все равно счастье — в одном Огареве, словно заклинала она себя. Семь лет не было детей, а так хотелось «узнать, выстрадать материнское чувство». Вот теперь бесприютные сироты покойной подруги без матери… Только она и может жить для них.
А все могло бы пойти иначе. У нее нет ни истинного дела, ни самостоятельного поприща, а жажда их заполучить была так велика. На этом «празднике одиночества» ей больше не выжить. Ведь Огарев — прирожденный холостяк, — попойки, кутежи, невзирая на хвори. Но и любит ее безмерно.
Из «четырех звездочек» на небосклоне ее жизни, после смерти Натали, осталось всего три: она, Огарев и Герцен. Как их «сложить»?..
Сначала свершилось изгнание Мальвиды. Наталья Алексеевна сразу же перешла в наступление. 29 мая 1856 года она писала Герцену: «Вот что я думаю; что вы скажете, то будет сделано. Я знаю, что мы должны вместе дожить эту тяжелую жизнь, а между тем, дайте мне сказать, что на душе; глядеть вечно издали на детей с сознанием, что я ничего не исполнила, не знаю, хватит ли сил; уехать возможнее, я думаю. Вы не знаете, как письмо, в котором она звала меня, жжет мне сердце и теперь, когда я перечитываю его».
На первых порах Герцен отвергал малейший намек на разлуку с верной Мали, но все-таки выбрал между ней и друзьями. Он говорит ей о своей привязанности к Огареву, читает письмо Натали к Тучковой-Огаревой, поручающее ей детей. Мейзенбуг вынуждена покинуть любимую семью. Уже 30 мая он оставляет для Мальвиды письмо: «Я долго говорил с Огаревым. Мы не пришли ни к какому результату. Он предложил, чтобы его жена уехала на год — я от вашего имени отказался. Совершенно теряю надежду сделать то, что казалось возможным. Я считал, что необходимо вас известить об этом раньше, чем вы будете говорить с мадам Огаревой.
Поступите так, как вам подскажет ваше сердце… Я хотел сохранить всё — насколько это было возможно, но вижу, что не будет единства, не будет той полной свободы, без которой совместная жизнь будет тяжела и для них, и для вас. <…> Моя дружба, независимо даже от моей признательности, искренна».
Ни чувства глубокого почитания со стороны Герцена, ни «горючие слезы мадам Огаревой» не могли предотвратить этой трагической жертвы. На следующий день Герцен так истолковывал свое решение в письме верному другу Марии Рейхель: «С приезда Огар[евых] М-selle Meys[enbug] начала сердиться на них и на меня. Зачем Нат[алья] Ал[ексеевна] ласкает так детей, зачем мы иногда говорим по-русски, зачем Тата ее любит больше и пр. Это дошло до объяснений, очень благородных — но все-таки горьких. Из-за всего этого проглянуло нечто совсем другое — самолюбие и, кажется, невероятная мысль на бесконечное продолжение теперичной жизни. Ревность за детей приняла тотчас характер постоянной ссоры Таты с Ольгой».
Все наши герои обмениваются письмами, сожалениями, упреками, чтобы подтвердить правоту своих бескорыстных побуждений.
«Единение трех личностей во имя четвертой», ушедшей навсегда, вряд ли могло долго продолжаться.
Двенадцатое июня 1856 года — важное знамение судьбы. Этот день вновь «каркнул вороном» в его жизни, и он сам невольно подтолкнул ее к «перелому». Герцен дарит Огаревой бесценную для него вещицу — веер Натали: «Друг мой и сестра, сегодня ли или в понедельник твое рождение — дай мне право поблагодарить тебя за все теплое, родное, что ты ввела в мою разбитую жизнь. Ты — странно твое отношение ко мне — ты разом представляешь мне и Огарева и Наташу — и сверх того, ты мне сама близка с тех пор, как я тебя короче узнал».
Десятого сентября Герцен с семьей и с Огаревыми переезжает в Путней, в Laurel House. Здесь, в «непривлекательном доме» с красивым садом, благоухающим по весне сиренью и жасмином, и начинается их совместная жизнь. Все хорошо разместились.
У Александра Ивановича свой распорядок. Вставал в шесть, по лондонским обычаям — рано. Прислугу не будил. Читал несколько часов у себя в комнате. В девять, в столовой обычно выпивал целый стакан крепчайшего кофе, как подтверждает Тучкова, «очень хорошего достоинства». За кофеем читал «Таймс». Направления газеты не разделял, но находил необходимым ее просматривать. Делал замечания и сообщал всем присутствующим разные новости. Потом шел в гостиную, чтобы работать до завтрака. Во втором часу подавали ланч, состоявший из двух блюд: почти всегда из холодного мяса и остатков вчерашнего обеда. Герцен выпивал кружку любимого им светлого пива «pal al» и толковал с Огаревым, только что присоединившимся к компании, о насущных занятиях и первостепенных статьях. Иногда просматривали уже готовый материал. После обеда Герцен обыкновенно читал вслух что-нибудь из истории или литературы, понятное старшей Тате, а когда дочь уходила спать, выбирал для сына подходящие его возрасту книги. Все расходились в двенадцатом часу, а то и позже. Герцен едва ли спал шесть часов. Работал, читал, следил за новинками литературы и новыми открытиями науки. Когда отправлялся в Лондон, ездил по железной дороге, находившейся в двух шагах от дома, а если опаздывал, садился в Фулеме за Путнейским мостом на омнибус, который отходил каждые десять минут.
Жизнь текла. Всё как обычно: занятия, встречи, приемы, обеды, нашествия изгнанников (дом по воскресеньям открыт); рассказы, подозрения, дружбы, привязанности, ссоры, сомнения…
Но в конце ноября происходит предвиденное — объяснение Герцена с Тучковой-Огаревой. 9 ноября, когда все было высказано, Натали признается сестре: «Я полюбила его всеми силами измученной души…» А в самом конце того же года, когда отношения доходят до роковой черты, Герцен не может не написать тревожное письмо живущему с ним бок о бок Огареву, где растерянно признается, предупреждает.
Он вовсе не склонен нарушать гармонию сложившегося trio, они слишком «сжились втроем, будто и век вековали», он не хочет ничего менять, но уже не в силах отразить бурное наступление безмерно увлеченной Натали: «Я заметил в дружбе N[atalie] ко мне более страстности, нежели я бы хотел. Я люблю ее от всей души, глубоко и горячо — но это вовсе не страсть, для меня она ты же, вы оба — моя семья, и, прибавив детей, всё, что у меня есть. Я сначала в Путнее — отдалялся, она меня не поняла и была так этим огорчена, что я, разумеется, спешил утешить ее. К тому же я, так давно лишенный всякого теплого женского элемента, не мог не быть глубоко тронут ее братской дружбой. Ты ее хотел; в моей чистой близости с твоей подругой был для меня новый залог нашего trio. Но когда я опять увидел, что она увлекается, я все это считал результатом ее пылкого характера и непривычкой владеть собою — наконец она видит во мне Наташу, защитника ее за гробом, твоего друга, брата и мою симпатию.
Мысль, что все это будет тебе больно — не давала мне столько же спать, как мысль о твоей болезни сначала.
Сколько я ни ставил пределов — вы оба ломали их, доверие это я заслужил — смело, чисто стою я перед тобой, Друг моей юности, — но еще шаг, и новая пропасть откроется под ногами.
Я хочу вас сохранить себе, и себя вам — но для этого дай твой совет и твою руку. А главное безусловную веру.
Быть ближе того, как я к N[atalie] — другу, брату нельзя, всю мою любовь к вам обоим я употреблю на сохранение всего. Нет в мире силы, страсти, которая бы отторгла тебя от меня».
Глава 23
«КОЛОКОЛ», НАЧАЛО. 1857–1858
Дело русской пропаганды для нас не каприз, не развлечение, не кусок хлеба, — а дело нашей жизни, наша религия, кусок нашего сердца, наша служба русскому народу.
«Колокол», лист 16. 1 июня 1858
Жизнь общественная тем временем продолжалась. Герцен всецело поглощен Делом. Личное, как всегда, отходит на задний план. Опять множество обязательств, корреспонденций, неотложных занятий, встреч, принципиальных полемик. Вовсю работает вольный станок. Выходит «Полярная звезда». На очереди номер второй, уже с участием Огарева. Книжка за книжкой появляются «Голоса из России».
Время в России меняется. Ветер перемен доносится до Лондона.
В доме Герцена в Путнее нет отбоя от приезжих. В 1856–1857 годах помимо близких в ту пору друзей — И. Тургенева, М. Корш и Н. Мельгунова, которые и есть первые корреспонденты с вестями и материалами из дома, приезжают люди, всегда любившие и уважавшие Герцена за искренний талант, несмотря на расхождения во взглядах. Герцен рад старым приятелям — И. Аксакову, А. Краевскому, А. Иванову, с которым судьба свела его в Риме, — всем, слетевшимся к Герцену в Туманный Альбион с разных сторон света.
Пишутся главы «Былого и дум». Герцен полагает, что некоторые из них еще должны вылежаться. «Больно многое было отдирать от сердца», «…там слишком внутренности наружу — а ведь не все охотники до анатомии», — отвечает он Тургеневу, следившему за публикациями в «Полярной звезде». Его радует хороший отзыв о записках, и каждый раз он «с истинным страхом ждет его суда». Герцен весь еще в непрошедшем былом.
На очереди — «Колокол»: смелая идея Огарева издавать злободневную газету, распространяемую дома, принята. Теперь этот замысел отнимает все мысли и время друзей. Как анонсировать новое издание российскому читателю? Новое начинание — КОЛОКОЛ — рекламируется сначала отдельной листовкой, датированной 13 апреля 1857-го, а затем в первом номере газеты. На первом листе «Колокола» стоит дата «1 июля 1857 года», а под заглавием — «прибавочные листы к „Полярной звезде“». Преемственность газеты и журнала ясно продемонстрирована. На данном этапе стремление дискутировать, вмешиваться в довольно разнородный материал — уже непременная обязанность издателя в отличие от «Голосов из России», которые поглощают «разноголосные мнения», «неустоявшиеся мысли и стремления» без оценки, цензуры и разбора. Теперь публиковать все подряд, «лишь бы оно не было в подлом направлении», — невозможно. На это указывает Огарев в письме Герцену, помещенном в первом номере газеты. Это своеобразная издательская «игра» в письма, полемика с прежними установками Герцена по поводу «ливрезонов», даже выявление его «благородных» промахов и ошибок.
Свобода мнений и дискуссий — да, но «цвет издания» должен быть четко оттенен. Со всей серьезностью обращаясь к Герцену, Огарев доносит до читателей кредо новой издательской политики: «Ваш станок есть отражение известного направления. <…> Ваш станок имеет свой цвет. <…> Всякий издатель есть ценсор, потому что всякая книга должна иметь единство». На первом месте — четкое выражение позиции издателей, а в основе — только факты. Их издатели надеются получать из России из живой информации о русских делах. Раз общество требует обличений, так пусть присылает из дома не голословные статьи, только обременяющие типографский станок, а серьезные обличительные материалы.
Есть «Колокол», который важно не только слушать, «но и самим звонить в него». «Vivos voco! Зову живых!» — своим эпиграфом из «Песни о колоколе» Ф. Шиллера газета обращалась к соотечественникам, скликая живых и живущих на родине неравнодушных. И это реальное убеждение Герцена, «ответ на потребность» русского общества в свободном слове. Он не «типограф», как в «Голосах из России», печатающих всё без разбора. Он пономарь. Ему принадлежит «труд звона, самые же звуки идут из России».
В программе издания, пока минимальной, все те же требования, ранее высказанные в «Полярной звезде»: «В отношении к России, мы хотим страстно, со всею горячностью любви, со всей силой последнего верования, — чтоб с нее спали наконец ненужные старые свивальники, мешающие могучему развитию ее. Для этого мы теперь, как в 1855 году, считаем первым необходимым, неотлагательным шагом:
ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛОВА ОТ ЦЕНСУРЫ!
ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН ОТ ПОМЕЩИКОВ!
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОДАТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОБОЕВ!
Не ограничиваясь, впрочем, этими вопросами, „Колокол“, посвященный исключительно русским интересам, будет звонить, чем бы ни был затронут, — нелепым указом или глупым гонением раскольников, воровством сановников или невежеством сената. Смешное и преступное, злонамеренное и невежественное — все идет под „Колокол“».
Закреплены и «общие догматы» издания: «О направлении говорить нечего; оно то же… которое проходит неизменно черезо всю нашу жизнь. Везде, во всем, всегда, быть со стороны воли — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств».
Периодическая газета, должная «ловить налету» быстро несущиеся события, будет выходить часто, не реже одного раза в месяц, а где-то к году шестидесятому ее периодичность удвоится. С ноября 1861-го по июнь 1863 года «Колокол» будет появляться потри-четыре раза в месяц. Всего за десятилетие выйдет 245 номеров первого издания (не считая приложений и прибавлений), которые будут именоваться листами (каждый — по восемь — десять страниц, не считая сдвоенных номеров). Изменения периодичности, понятно, будут связаны с общей политической обстановкой в России и периодами апогея и перигея — взлета и падения издательской деятельности Герцена и Огарева. Тираж «Колокола» достигнет невероятного по тем временам размаха — 2,5–3 тысячи экземпляров. К нему присоединятся новые издания, ставшие его дополнением. Листок «Под суд!» (1858–1862) сосредоточит материалы не общественно-политической значимости, а публикации частного характера (настоящее «лобное место для частных лиц и частных дел»). «Общее вече» (1861–1864) должно «уяснить общее земское дело и служить выражением мнений, жалоб и общественных потребностей людей всех религиозных толков и согласий и всех сословий, крестьян и разночинцев». Это особые прибавления со специфическими задачами.
Как формируется состав, как строится композиция и каковы источники новой газеты?
Откроем, к примеру, первый лист «Колокола»: предисловие — стихи Огарева «Россия тягостно молчала…», пять статей, написанных исключительно издателями, и девять заметок под точно найденной рубрикой «Правда ли?». Форма вопроса дает возможность использовать материал недостаточно проверенный с последующей надеждой получить от читателей отзыв, дополнение, ответ. В разделе «Смесь», введенном в газету с первого номера, помещен авторский материал Герцена «Августейшие путешественники». В дальнейшем — общие статьи и смесь, заполняемая целой россыпью присланных заметок, замечаний, комментариев и прочее, — привилегия Герцена. Все финансовые, экономические и юридические вопросы в основном возложены на Огарева.
Сведения черпаются из иностранной и русской прессы, хотя последней явно не хватает. Опыт пересылки информации за рубеж в отсутствие гласности в России еще минимален. Важный источник — книги и, конечно, слухи, требующие подтверждения.
Просочился, к примеру, слух об очередном секретном комитете по крестьянскому вопросу… Будет ли от него прок? Известие, требующее проверки. Огарев ставит его центром своей статьи «Что сделано для освобождения крепостных людей?».
Вопрос, требующий дальнейшего подтверждения: «Правда ли, что дело о грабежах по комиссариатской части, открытых во время крымской кампании, — замяли, потому что между ворами нашлись сильные армии сей?» — уже в четвертом номере газеты находит утвердительный ответ.
Устная информация приезжих тоже идет в ход. Сведения, слухи, ими рассказанные, учитываются, проверяются. Роль корреспондентов пока незначительна. Но ведь это только начало. Активность читателей в обстановке все усиливающегося брожения в России и разрастающегося влияния «Колокола» постепенно возрастает[146]. Из России, начиная с пятого номера, идет уже «ворох писем». В начале 1858 года Тургенев извещает Герцена: «…получил № [„Колокола“] от одного из твоих пламеннейших поклонников — имя им легион».
В «Исповеди» ближайшего сотрудника «Колокола» и «Общего веча» В. И. Кельсиева, предоставившего свое покаянное сочинение властям после возвращения в Россию в 1867 году, читаем о «деятелях оппозиции», имевших огромное влияние в конце 1850-х годов, о посетителях Герцена, ловивших каждое его слово и предоставлявших ему массу сведений, при установленной им жесточайшей конспирации. Раскаявшийся в своем революционном прошлом «ренегат» Кельсиев, нарисовавший общую картину паломничества приезжих в дом Герцена, не пытаясь скрыть своего восхищения «блеском славы и авторитета» главы «лондонской партии», сообщал: «Точно панорама какая-то проходила перед глазами, водопад лился, и это, не считая тех, с которыми он виделся с глазу на глаз». Публика бывала разношерстная — от губернаторов и генералов до купцов и студентов, и каждый стремился «заявить свое сочувствие, объяснить, что он не ретроград…». Не случайно Б. Чичериным при свидании с Герценом язвительно замечено: «К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть…» Тем не менее некоторые отважившиеся корреспонденты и приезжие были так хорошо законспирированы, что и по сию пору их имена неизвестны.
Внешний вид «Колокола», его формат (называемый альбомным), тончайшая бумага — все было предусмотрено для безопасной транспортировки. Можно лист сложить, можно вложить его в двойное дно чемодана, можно даже упрятать в полую голову скульптурного изваяния самого императора Николая — о подобном ухищрении провоза через границу тоже знали современники. Ведь многие приезжающие наверняка хотели возвратиться в Россию с редким и опасным сувениром.
Конечно, русская полиция не дремала. Тайные агенты без устали корпели над списками сочувствующих лондонским издателям. В ход был запущен весь скрытый механизм дипломатической службы, оказано подобающее давление на ряд европейских правительств. Книги изымались в магазинах и на почте, на них накладывался арест. В некоторых странах с подачи российского правительства их просто запрещали.
Размах гонений удивлял, и, как обычно, это было своеобразной рекламой. Доходы издателей росли. «Колокол» «шел удивительно», адреса магазинов четко указаны: «Получается в Вольной русской типографии 2, Judd Street, Brunswick Square, W. С. У Трюбнера & Со. в книжной лавке, 60, Paternoster Row, и у Тхоржевского, 39, Rupert Street, Haymarket, London. Price six репсе». Тираж, по шесть пенсов за номер, быстро раскупали и вновь допечатывали. Так в июне 1859 года возник договор Герцена с Трюбнером на второе издание некоторых листов популярнейшей газеты.
Как же намеченная издателями программа отразилась в «Колоколе» в первые годы его существования?
Первое — это «величайшее русское событие после 14 декабря», правительственный приступ к крестьянскому вопросу, и ради него в «Колоколе» развернута широчайшая кампания — обсуждаются все проекты правительства, Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу, губернских комитетов и Редакционных комиссий; отслеживается реакция противоборствующих лагерей — консервативной части помещиков и крепостных крестьян. По мере нарастания протестных проявлений с обеих сторон, традиционно называемых нарастанием революционной ситуации, предоставляются собственные проекты лондонских издателей, видящих себя единственно свободными оппонентами власти.
Надежда издателей на крестьянскую реформу связывается в эту пору с верховной властью, подающей некоторые признаки либерализации. После обращения Герцена к царю в первой книге «Полярной звезды» (1855), давшегося ему непростой ценой, он продолжает в «Колоколе» свои усилия подвигнуть власть на решительные меры.
Реальные шаги Александра II, выразившиеся в рескриптах на имя виленского и санкт-петербургского губернаторов от 29 ноября и 5 декабря 1857 года о начале освобождения крестьян западных губерний, дают все возможности «замирения» Герцена с царем. Поступок «мощного деятеля, открывающего новую эру для России», укрепляет издателя в мнении о невозможности отступить от начатого дела, выраженном им 15 февраля 1858 года в статье «Через три года»: «Ты победил, Галилеянин!..»[147]
В июне Герцен уже почти уверен, что император «сбился с дороги» и «Колокол» «напрасно звонит ему». 1 июля издатели в восемнадцатом номере газеты «прямо и мужественно» заявляют: «Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении».
Особое разочарование вызывают проекты Главного комитета по крестьянскому делу, на что 15 августа 1858 года «Колокол» реагирует более чем страстно. В своем обращении к государю издатели заявляют: «Остановитесь! не утверждайте! Вы подпишете свой стыд и гибель России. Как честные люди от искренней скорби и от искреннего желания добра, ради всего святого, умоляем Вас: не утверждайте! Одумайтесь».
Герцен готов спросить верховную власть: «Что же вопрос улучшения быта крестьян был поставлен, или это была только жалкая фарса ради европейских рукоплесканий?» Ведь по-прежнему помещик владеет наибольшими площадями земли, наказание крестьян совершается по его неограниченной воле. Решения мирского схода должны утверждаться помещиком. Совершенно очевидно, «что Мирскому сходу и собираться не для чего…». Опять множить армию чиновников, «заводить новых экстраординарных начальников, как будто обыкновенных недостаточно!». «И что за страсть все управлять да управлять…» — восклицает Герцен.
Обращения издателей «Колокола» будоражили, нарушали спокойствие власти. Обстановка в стране требовала новых, более решительных действий Главного комитета. 18 августа 1858 года выступил Александр II, попытавшийся успокоить обе противоборствующие стороны. И помещики не пострадают, и крестьянский быт улучшится, — увещевал он.
Создание новой программы реформ продолжалось еще два года. Энергичнее заработали губернские комитеты и Редакционные комиссии под началом приснопамятного «энтузиаста» Иакова Ростовцева, «так блестяще начавшего свою карьеру с доноса». (Герцен не упускал случая, чтобы напомнить забытую многими историю предательства декабристов и привести незабвенный афоризм нового правительственного назначенца: «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство».) Парадоксально, что сановник, достигший «степеней известных», немало преуспевший на высоких правительственных постах, словно бы во искупление «греха молодости» (что подтвердит дальнейший наш рассказ), взялся за дело со всей возможной бескомпромиссной настойчивостью.
В обозрении хода реформ «Колоколу» принадлежала неоценимая роль. «Он у Ростовцева, лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу», — свидетельствовал будущий недруг Герцена, знаменитый публицист и редактор «Русского вестника» М. Н. Катков при встрече со старым университетским приятелем в 1859 году.
Сам император просматривал газету, пока его подчиненные, упорно разоблачаемые в «Колоколе», не догадались подкладывать императору листы, имитирующие герценовское издание. И все же полученное во дворце «гражданство» «Колокола» позволило довести до царя некоторые шокирующие дела, по его же приказу пересмотренные.
В «Колоколе» (№ 7) приводилась история о дикой расправе князя Кочубея с управляющим его имением. Раненный Кочубеем, австрийский подданный И. Зальцманн оказывался еще и виновным в ложном навете, и только после нескончаемых судебных разбирательств и обращений пострадавшего в судебные инстанции, вплоть до Сената, истина была восстановлена. Тургенев, приславший материал Герцену, просил его поместить «Зальцманна» не в «Полярной звезде», а в «Колоколе». Там «оно будет в тысячу раз действительнее», — считал постоянный герценовский корреспондент.
Любопытно, что М. С. Щепкин, так упорно не соглашавшийся с действенностью герценовской пропаганды в 1853-м, через пять лет получил неожиданную защиту именно от «Колокола»: в 1858-м лондонский «станок вновь попался ему на дороге».
Анекдот, переданный Герцену Тургеневым, приобрел прописку в Вольной типографии. Суть нашумевшей истории состояла в том, что дирекция московских театров не выплачивала причитающиеся актерам деньги. Щепкин, выбранный ходатаем по делу, предстал в Петербурге перед директором императорских театров. Получив дерзкий отказ от «известного Гедеонова», Щепкин сообщил, что побеспокоит министра. Диалог не был продолжительным.
«…Я ему доложу о деле, и вам будет отказ.
— В таком случае, я подам просьбу к государю.
— Что вы это — с такими дрязгами соваться к его императорскому величеству? <…>
— Ваше превосходительство… вы мне отказали и обещаете отказ министра. Я хочу просить государя, вы мне запрещаете, как начальник… мне остается одно средство, я передам все дело в „Колокол“.
— Вы с ума сошли, — закричал Гедеонов, — вы понимаете ли, что вы говорите, я велю вас арестовать. <…>
На другой день сумма была назначена артистам…»
Пришло время оценить усилия лондонского издателя.
«Ливень писем и корреспонденций» позволил Герцену решить множество нашумевших дел, о чем автор «Былого», не без иронии, вспомнит в главе VI «Апогей и перигей», охарактеризовав враждебную ему среду коррупционеров, крупных чиновников-взяточников и зарвавшихся злодеев-помещиков, оценив усиливающуюся цензуру и другие стороны правительственно-помещичьего беспредела.
Заголовки «Колокола» говорят сами за себя: «Сечь или не сечь мужика?»; «Что значит суд без гласности»; «Словобоязнь»; «Бешенство цензуры»; «Фанатик паспортов»; «Секущее православие»; «От часу не легче — кража восьмидесяти верст!!»[148] и т. д.
Обвинения в «либеральных колебаниях» «слабого» Герцена, сторонника мирных вариантов развития страны (в навязанных мнениях радикальных российских демократов, еще более радикальной «молодой эмиграции», ставших общим местом после ленинской статьи), никак не соответствовали тактике «свободного оппонента» и его глубокому пониманию, что выйдет из насилия и террора. Опытом французской революции 1848 года он «воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности». С тех страшных июньских дней сложилось у него четкое представление: если освобождение не произойдет «сверху», то неминуемо стихия поднимется «снизу».
Либеральная позиция «Колокола» подверглась страстной критике представителей революционно-демократического лагеря. У противников издателя всегда находился повод упрекнуть его в непоследовательности. На страницы газеты попадали их гневные письма, выражавшие неприятие «мягкого тона» издателей в общении с императором. В атмосфере обострения борьбы вокруг крестьянского вопроса, грозных выпадов реакционной печати в лице незабвенной булгаринской «Северной пчелы», в адрес Герцена, из России, приходят угрозы. «Колокольщику петля готова» — вычитывается из акростиха некой басни, составленной неким анонимом, подписавшимся Ижицын (Колокол, лист 17 от 15 июня 1857 года). Недоброжелатели ищут безнадежную возможность подкупить лондонского звонаря, переманить его на службу, чтобы «унять» «колокольный звон». Герцен только усмехается.
За годы существования «Колокола» много копьев переломано — схлестнулись партии в страстной полемике. Резкая критика радикальных деятелей, революционеров-демократов, «красных демократов», как называет их Искандер, сочеталась с обвинениями бывших либеральных попутчиков и даже близких друзей из «наших». Яркий пример — развернувшаяся полемика вокруг «Обвинительного акта».
В сентябре 1858 года в Лондон приехал один из любимых учеников покойного Грановского — Б. Н. Чичерин. Спор с ним, как помним, начался еще на страницах «Голосов из России» и не предвещал дружеского согласия.
С первых слов их натянутого общения Герцен увидел в Чичерине даже не противника, а идейного врага. Расхождения во всем «с учеными друзьями нашими» и интрига завязавшейся вскоре непримиримой полемики, перешедшей на страницы «Колокола», состояли в том, что юрист-«гувернементалист», проповедовавший «сильное государство и ничтожность лица перед ним», принял на свой счет укол — замечание «о доктринерах вообще» в статье Герцена «Нас упрекают» (Колокол, лист 27 от 1 ноября 1858 года). Главное, что Чичерин не мог согласиться с заявленной в статье широкой позицией Герцена об освобождении крестьян с землею: «Будет ли это освобождение „сверху или снизу“ — мы будем за него! Освободят ли их крестьянские комитеты, составленные из заклятых врагов освобождения — мы благословим их искренно и от души. <…> Прикажет ли, наконец, государь отобрать именья у крамольной аристократии, а ее выслать, — ну хоть куда-нибудь на Амур к Муравьеву, — мы столько же от души скажем: „Быть по сему“.
Из этого вовсе не следует, что мы рекомендуем эти средства, что нет других, что это лучшее, совсем нет, — наши читатели знают, что мы думаем об этом».
Последняя фраза, естественно, снимала публицистическую горячность издателя: его неприятие революций давно определено. Однако придирчивый оппонент не мог не ухватиться за резко полемическое высказывание газеты.
Статья Герцена была направлена против противников всех мастей, упрекавших издателей справа и слева, но главное — против «прямолинейных доктринеров», обвинявших «Колокол» в «легкомыслии и шаткости». Незамедлительно последовал ответ Чичерина, помещенный в «Колоколе» под заголовком «Обвинительный акт». В письме выплеснулось все негодование Чичерина против предоставления страниц лондонского издания «безумным воззваниям к дикой силе» и вообще против бесплодного критического направления.
«…Вы — сила, вы — власть в русском государстве», — комплиментарно подчеркивал оппонент исключительное положение вольной печати. А потому негоже впадать в крайности, «спотыкаться на каждом шагу», губить хорошее дело, раздувая пламя и растравляя язвы, давая только повод к усилению в России «самого дикого деспотизма» или к «свирепому разгулу толпы», — предостерегал Чичерин.
«…Единство — необходимое условие всякой пропаганды», прежний союз с либеральными сторонниками был возможен до поры, пока в действиях Александра II наблюдалась обнадеживающая последовательность, считал Герцен. «Два офицера в двух разных армиях» не могли продолжать личные отношения.
Справедливо замечено[149], что это был первый акт разъединения русской интеллигенции, взявшей в привычку (добавим мы) в острые исторические моменты решительных поворотов и сломов идеологических систем обмениваться нетерпеливыми, страстными, порой до боли разящими письмами, делающими даже бывших друзей врагами.
Глубокие споры всегда были свойственны русской интеллигенции (до и после возникновения этого термина, укоренившегося в середине XIX века). У врагов лондонского издателя всегда находился повод упрекнуть его в непоследовательности, как в случае полемики с Чичериным. Слышались и слова поддержки. От лица «значительной части мыслящих людей в России» неизвестный корреспондент протестовал против «Обвинительного акта».
Герцен не навязывал читателю своего исключительного мнения. «Переменный ветер, дующий с Невы», определял гибкую позицию издателей «Колокола», в частности, в отношении крестьянского вопроса. Они не всегда могли сказать, что надо делать, но как делать не надо, точно знали.
Забегая вперед, вкратце очертив принципы организации, композицию грандиозного издания, ставшего в России истинной «властью», справочной книгой по крестьянскому вопросу, независимым судом, пресекавшим преступления и злоупотребления, мы еще вернемся к самым ключевым вопросам, поднимаемым «Колоколом» в его историческое время. В пылу полемики отдельных лиц и политических групп детальнее определится позиция Герцена, претерпевающая изменения по мере приближения к реформе и к ее неизбежным последствиям.
Глава 24 ПОГУБЛЕННОЕ СЧАСТЬЕ
…Еще шаг, и новая пропасть откроется под ногами.
А. И. Герцен — Н. П. Огареву
Натали Тучкова вполне осознавала важность деятельной жизни близких ей мужчин. Сколько людей она перевидала, какие замечательные личности собирались вокруг Герцена и Огарева. Сколько героев и знаменитых эмигрантов! Дж. Маццини и Дж. Гарибальди, А. Саффи, Л. Блан, Г. Кинкель… Какие вдохновляющие беседы они вели, как спорили, страдали за свои утраченные отечества, как просто — жили, ели, пили, любили, строили планы… И русское паломничество в Лондон расширялось, и «Колокол» все более укреплял свое влияние. С ее цепкой памятью и недюжинными литературными способностями, пусть порой пристрастно и поверхностно, она пыталась сохранить в своих «Воспоминаниях» эти картины ушедшей жизни. Много интересных мелочей, которые напрасно многими не признаются важными. Конечно, широкого понимания масштаба событий и лиц там не обнаружится, несмотря на желание проникнуться общественными интересами и Огарева, и Герцена, ибо вся она «обращена на личное», как самая обыкновенная женщина.
Второго мая 1857 года Натали вновь заявляет о своих чувствах, садясь за письмо Александру (традиции классической литературы хорошо ею усвоены): «Зачем я не скрыла от тебя? Тебе, может, лучше было бы; — прости мне эту требовательность, неудовлетворенье, иногда всего мало… больно не слышать полного ответа; но это минуты безумия, я, могу ли я сказать, почти их победила».
Где-то на переломе весны — начала лета Натали отказывается от своих умозрительных колебаний в отношениях с Герценом — оттолкнуть, стать преданной сестрой им обоим, или же… «С каждым днем Г. все более становится мне внутренно (так!) близок… — записывает она в свой дневник, — бесконечное чувство любви к нему захватывает меня всю более и более». «Когда я увидела, что побежденный моей страстной любовью Г. тоже меня полюбил, я вдруг бросилась к О.». И Огарев принял неизбежное. Больно ли ему? Силен ли удар? Так бесконечно широко понять, как «ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, свойственным одной его нежной и широкой натуре, и тогда я все поняла и полюбила его еще больше, он как-то ближе еще мне стал, и я искала его руки, чтоб окончательно победить страстную привязанность к Г.». Но Огарев не принял этой жертвы.
Самобичевание, новая жизнь искупления, терзания от тяжести нанесенного Огареву несчастья, страхи, боязнь «недостатка полной любви со стороны Герцена»; и вопросы, вопросы, сомнения: выживет ли это чувство или для него «оно слишком лишнее и поверхностное в его жизни»? Может быть, вообще любовь для него — дело второстепенное? Свое душевное смятение, называя это откровенным анализом, она поверяла дневнику. Возможно, она совсем не та женщина, которую мог бы полюбить Герцен? От него «веет холодом», и она боится этой близости, «сдержанная семьей», вечно скрываясь от всех. «Я думаю, что наша любовь — уродство. Зачем? Что же она может нового внести в нашу жизнь? Собственную семью, ребенка, который бы мне был так дорог? Да он тоже этого боится, и он прав, — это была бы гибель, новый удар самым близким!»
Середина июня приносит ей четкое понимание отношений с Герценом. В первый раз они «резко коснулись до больных мест». А как все-таки с Огаревым? И Натали остается признаться самой себе: «Я отравила его жизнь, злейший враг не мог сделать ему больше зла…» И здесь уже выражена мысль, которой она будет суеверно придерживаться всю свою жизнь: «Да, проклятие на мне…»
Отрезвление от новой любви наступило сразу. «Чего я хочу? больше любить он не может, да и я не стою. <…> Я измучила и себя, и его, мне его смертельно жаль… его любовь мне являлась благороднее, выше, но это было только минутное увлеченье — зачем я так мало его знала, зачем я так много от него ждала?» — записала она 14 июля 1857 года.
Восьмого августа Тучкова продолжала исповедальный анализ, поверяя дневнику свои возвращающиеся сомнения: «Были светлые минуты и опять мученье… <…> я не сумела быть матерью этим детям? <…> Он не умеет любить, это вспышка, увлеченье, эта не та глубокая, чистая любовь, которая дает такую глубокую веру в человека».
Четвертого сентября она пишет Герцену после долгих разговоров и размышлений о перспективах их совместной жизни: «Попробуем жить мирно и ясно, часто мне это кажется очень возможно. <…> Я со смирением говорю тебе: Ну, не люби меня, пусть я этого слова больше не повторю, как упрек и обвиненье. Помнишь ли ты, как русский поп, крестив ребенка, уронил его и сказал: Бог дал, Бог и взял. Больше никаких требований, никаких оскорблений, буду тебя любить, как умею, не думая о взаимности, да ее и не нужно, все вздор. Умела же я тебя прежде любить, не видя и во сне, чтоб ты когда-нибудь мог меня любить».
Ей надо было покаяться перед Огаревым, и она садится за письмо к нему: «…он [Герцен] имел какое-то странное увлеченье, в котором странные вещи сорвались с его языка, я не немка, не стану вспоминать прошлого. Незнанье мое людей было причиной, что я приняла увлеченье за любовь, это была важная ошибка.
Долго я боролась, мысль о тебе и о N[atalie] сводила меня с ума; он меня убедил, что память N[atalie] не оскорблена нашим союзом; я просила тебя уехать со мной или отправить меня одну, ты не хотел и все принял, как ни один человек не мог бы. Однако двух-трех недель не прошло, как он изменил свой взгляд. Я не виню его — это было безнамеренно и естественно, страсть и увлеченье прошли, любви не было, осталось дружеское расположенье и желание покоя. Тут я выслушала страшные и холодные уроки, и вот где начинаются мои серьезные обвинения против меня. <…> Разве говорят игроку, поставившему все на карту, карта ваша проиграла?» Не прожив и года рядом с Герценом, она уже бежала топиться в Темзу.
Огарев, узнав от своей жены о любви ее к Герцену, пишет другу как-то ночью «секретное письмо». Ему трудно: как все выскажешь на бумаге, и он начинает «ab ovo», сначала. Не сразу поддался на признание Натали? Да. И это было не из ревности, а из недоверия к ее чувству, начавшемуся «ревнивым путем». Потому что еще верил «мечте соединения трех в одну любовь». Но скоро мечта растаяла, он страдал, и остался только страх разъединения, и оно началось. Теперь он боится «совершенного разъединения», конечно, не с ним, Александром, что совершенно невозможно, а своего — с Тучковой-Огаревой. Его любовь к ней перешла в сожаление.
«Оскорбленный и измученный, я не знал, куда деваться», — продолжал он свое признание. И чем жестче становились отношения Натали к Герцену, к нему и к детям, тем больше ощущал он этот, внесший ею в их жизнь, диссонанс. Опять разрушалась вожделенная гармония, опять его «вталкивали в какую-то непроходимую пропасть». А ему все «сильнее хотелось хоть минуту побыть в какой-нибудь кроткой обстановке жизни». И Огарев находит ее в знакомстве, а потом и сближении с англичанкой Мери Сетерленд, встретившейся ему в одном из лондонских кабачков.
Огарев долго не решался признаться Герцену в своей связи с Мери («Ты говорил, что нам надо отринуть женщин»), хотя у него, как всегда, самые возвышенные цели — развить падшее существо, в общем-то спасти уличную женщину, вывести в люди ее сына, «страшно талантливой и доброй натуры». И, как обычно, его намерения не расходятся с делом, а идеи претворяются в жизнь. Он мягко и трогательно излагает другу историю своего неожиданного сближения с женщиной, «существом неразвитым», но способным понять его боль. Жалея его, внося в их жизнь «какое-то странное счастье», она сама отказывается от своих привычных уличных «прогулок» и начинает новое существование. Огареву же предназначено стать примерным отцом и воспитателем далеко не легкого подростка Генри, да и статус Мери, как его гражданской жены, тоже вскоре будет определен: всю оставшуюся жизнь он станет заботиться о новой семье. Подобная «измена» вызовет бешеную ярость Тучковой и полное неприятие Герцена.
Отношения trio все более усложняются. Шаг к пропасти сделан давно.
«Что влекло Александра так сильно ко мне? — вспоминала Тучкова о „роковом сближении“ с Герценом в своей поздней исповеди. — Именно то, что должно было сделать нашу близость немыслимою: безграничная любовь Огарева ко мне! Это был магнит, который невольно, но неудержимо притягивал его ко мне — и любовь его жены к своей „Consuela“. „Ты одна, говорил он, можешь залечить раны, сделанные ею“. Все остальное дремало в нем. Сначала он мечтал, как и Огарев, что это будет единение трех личностей во имя четвертой, отсутствующей. Впоследствии они убедились, что я не могла подняться на высоту их воззрения и выполнить (sic!) их заветную мечту».
Она умела «разоблачать свою душу» перед людьми, исповедоваться перед близкими и далекими, в надежде — поймут, простят, не повторят ошибки. Все в жизни можно объяснить, перетолковать, передернуть, подтасовать, признаваясь в хороших и дурных побуждениях и поступках. Истолковывала свой решительный шаг навстречу Александру как его «гуманную пощаду».
Однако теперь, во время вхождения в герценовскую семью, ее характер, прежде отмеченный некой романтикой и героикой в отношении к жизни, наглядно менялся, становился все более неровным, деспотически-прямолинейным, разрушительно страстным, не допускающим компромиссов. Она не уставала клеймить и сама себя: «…я яд, я вред, я — зло жизни». Ее нахождение внутри семьи, дилетантские методы воспитания детей (стремление любой ценой завоевать детскую привязанность) вызывали в доме полный «бедлам». Всякое отсутствие педагогических навыков у Тучковой вносило в жизнь друзей столько смут, несчастий и тревог, что просто виделось ими как существование в сумасшедшем доме. В интимном эскизе для незаконченной комедии «Бедлам, или День из нашей жизни», за которую Огарев взялся в 1857-м — начале 1858 года, передается сложившаяся в доме атмосфера: «Начнут с общего разговора очень умно, а потом Натали обидится, и они поссорятся, а потом помирятся, хотя каждый уверен, что прав. Герцен, в общем, конечно, прав, но неправ в том, что точно также дает волю своей раздражительности. Любовно-враждебные отношения между двумя людьми, которых я люблю больше всего на свете!»
Отношения особенно накалились с появлением «недостойной женщины», Мери Сетерленд, как презрительно называла ее Тучкова. Позже она пыталась покаяться: «Мы виноваты, мы толкнули Огарева в эту страшную жизнь». Но и в этом она ошибалась. Мери до конца его дней была верной «сиделкой» и подругой Ника, облегченьем в его праведно-порочной жизни.
В постоянных стычках и конфликтах с детьми, которых Натали почему-то принимала за взрослых, Герцен никогда не брал ее сторону. Особенно невзлюбила Тучкова Ольгу, заметив «дурное направление ребенка». Она считала, что ее «шалости должны были быть остановлены», но Герцен не соглашался. Сам он был в детстве резвым ребенком и постоянно упрекал Натали в нелюбви и придирках к его детям. Все это усугубляло ее ревнивое противостояние. Оно превратилось в подлинную трагедию, когда Тучкова почувствовала, что беременна. «Бедный, бедный ребенок, непрошеный, не приглашенный, никем не благословленный вступит он в жизнь, — признавалась она сестре. — Г. думает с ужасом, как примет это О.; я тоже боюсь, чтоб слишком глубоко не отозвалась эта боль… Толки посторонних, — я меньше о них думаю, чем Г.».
Четвертого сентября 1858 года Герцен извещал Александра: «Сегодня в 5 часов родилась маленькая девочка, а зовут ее как, не знаю еще. Натали, Огарев, все здоровы». Через два дня, когда уже было принято решение об имени новорожденной, Герцен вновь писал сыну, что «Елизавета Николаевна ведет себя хорошо, a Nat[alie], хотя и очень больна, но опасности нет».
Итак, даже в самом факте рождения Лизы, объявленной дочерью Огарева, уже заключалась тайна, которую «по общему согласию и ввиду русских родных» долгое время знали лишь трое. До одиннадцати лет Лиза ничего не знала о своем истинном отце: называла Герцена — «дядя», а Огарева — «папа Ага».
Эту тайну строго скрывали от друзей и знакомых (всегда найдутся недоброжелатели), с любопытством ловивших любые слухи о личной жизни лондонских изгнанников. Ее скрывали от врагов, использовавших любые средства для дискредитации имени своих политических противников. Скрывали ее и от детей, чтобы не осложнить и без того тяжелой атмосферы, сложившейся в доме Герцена.
Лиза появилась на свет именно в то время, когда семья Герцена фактически распадалась. Искренние намерения Тучковой-Огаревой заменить мать детям своей умершей подруги обернулись ревностью, ожесточением, враждебностью, даже ненавистью, ею посеянной, и фактическим отторжением детей от отца. Саша — отрезанный ломоть: как и подобает взрослому человеку, едет доучиваться в Швейцарию. Со строптивой Ольгой никак «не клеится». Вновь решено попробовать в качестве воспитательницы М. Мейзенбуг, что обернулось полным отчуждением дочери от отца. «Семья свелась на одну Тату», — горестно заметит Герцен, вынужденный в конце жизни признать, что «жизнь частная — погублена».
Лиза с самого рождения оказалась в «плену» у матери. Отныне вся их совместная с Герценом жизнь обратилась в постоянную «войну» за Лизу и вокруг Лизы. Редкие перемирия не в силах были сгладить той накаленной страхом и ревностью атмосферы, в которой подрастала их дочь, страстно любимая ими обоими.
Горькие нелегкие признания Герцена о «страшной», «раздирающей судьбе», когда роковой шаг в сторону пропасти все же был сделан, несмотря на все предостережения и приметы, объяснялись, в частности, и тем психическим состоянием, в котором пребывала Наталья Алексеевна с момента рождения дочери. Она требовала от Герцена невозможного — целиком сосредоточиться на их семье, отречься от собственных детей. Трагический конфликт взаимного непонимания усугублялся с годами все возрастающей мнительностью и постоянным самоуничижением Тучковой, ее верой в свою мученическую роль: «Мне на роду написано причинять горе тем, кого люблю». Даже великодушный, всепрощающий Огарев не мог не сказать своей бывшей жене: «Бедная, томящаяся страдалица — сколько ненужных мучений ты приносишь себе и всему окружающему!» Герцен говорил с ней жестче, считая, что она любит быть несчастной и недостаточно любит, чтоб другие были счастливы.
Лиза подрастала, и Герцен все больше привязывался к этому необыкновенному ребенку. «Ясное дитя», — говорил о Лизе Огарев.
В июле 1859 года Тучкова с восьмимесячной дочерью впервые уехала из герценовского дома. За ними на побережье в Вентнор последовал Огарев, тщетно пытавшийся смягчить то взаимное непонимание, которое все более разделяло Герцена и Натали. Герцен, бросившийся вслед ему, за Лизой, готов на любое примирение, и Тучкова «приняла его кротко». Осенью им еще удастся пожить всем вместе в их доме в Фулеме.
Письма Герцена этой поры полны тревоги, заботы о девочке и нескрываемого восхищения ею с первых шагов: вот Лиза начинает стоять совершенно одна, выговаривает все новые слова, очень весела, хохочет от души, вдруг внезапно занемогла…
Из-за вечных угроз Тучковой вернуться в Россию Герцен — в постоянном страхе. Он смертельно боится отлучения от дочери. При каждом новом расставании, даже недолгой разлуке, у него все тот же вопрос — заметила ли дочь его отсутствие. «Что Лиза — поминает ли она дядю?»
В мае 1860 года свой отъезд в Германию Наталья Алексеевна уже обставляет как окончательный разрыв. Но Герцен без Лизы жизни не представлял и шел на любые уступки, лишь бы не потерять дочь. В конце декабря Тучкова вернулась, но узел личного противостояния затягивался все туже.
Будущее жизни частной Герцена ужасало. Но жизнь общественная предоставляла огромное поле деятельности.
Здесь сложные перипетии страстных личных кружений следует прервать, чтобы обратиться к событиям в России, которые захватывают Герцена целиком. «Частное» никогда не выбьет у Герцена почву из-под ног, никогда не победит «общее». «Живу моей работой — она идет, звоним себе в „Колокол“ — да и только». Сколько бурь пронеслось над Россией, а «Колокол» — точный барометр смены погоды на родине.
Глава 25
АПОФЕОЗ «КОЛОКОЛА». 1859–1860
…Эпоха нашего цветения и преуспеяния.
А. И. Герцен. Былое и думы
Российские события конца 1850-х годов требовали активизации деятельности типографии. «Полярная звезда», как известно, не поспевала за ходом жизни. Работа над «Былым и думами» хоть и продолжалась, но теперь время от времени.
Главные позиции занял «Колокол». Его уверенный взлет, его безграничное влияние позволили редакторам устроить «головомойку», как Герцен выразился, даже уважаемому «Современнику». «Very dangerous!!!», «Очень опасно!!!» — объявил Герцен названием своей статьи в 44-м листе газеты за 1859 год.
Опасность, по мнению Герцена, исходила от нескрываемого осуждения «гражданского направления» в русской литературе, выраженного в статьях передового российского органа. Хрестоматийная суть теоретических расхождений «Колокола» и «Современника» (с сатирическим «Свистком» в придачу) по существу обозначилась в разнонаправленном освещении двух вопросов — отношения к дворянской интеллигенции (к «лишним людям» и наследству 1840-х годов) и к так называемому «обличительному направлению», которое, по мнению «красных демократов», бессмысленной, частной критикой режима только отвлекает от настоящей борьбы.
Герцен, прочитав в «Современнике» (№ 1 и № 4 за 1859 год) статью Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» и его язвительные заметки с явными издевками над либеральной гласностью в сатирическом «Свистке», не мог стерпеть назидательного отношения и надменных выговоров новых людей.
Пренебрежительного осуждения русской литературы, дискредитации дворянской интеллигенции, породившей никчемных «лишних людей», что было развито в других добролюбовских статьях, прямо не затронувших Герцена, но так или иначе не забывших упомянуть о герое его романа «Кто виноват?» (кстати, наделенного автором лучшими чертами своего поколения), Герцен стерпеть не мог.
Подобное отношение Добролюбова отнюдь не касалось Белинского и еще «пяти-шести человек… людей высшего разбора, перед которыми с изумлением преклонится всякое поколение…» — замечал критик. Среди неназванных, чьи имена оказались в России под запретом, подразумевался, очевидно, и сам Герцен.
В духе пренебрежения к деятелям, не отмеченным достаточно радикальными настроениями, высказался в «Современнике» Н. Г. Чернышевский (№ 3–4 за 1859 год). В «Политическом обозрении» (№ 7) недвусмысленно осуждались те, которые хоть и любят «горячо» свое отечество, но «не удовлетворяют потребностям времени», ибо время требует «высших стремлений». В статьях Чернышевского и Добролюбова усматривались намеки на полный разрыв с властью и расчистки места для представителей другого, более радикального поколения.
Протест против «либерального пустозвонства», систематическая дискредитация предшествующего поколения подвигли Герцена на публичную отповедь противникам обличительства. Первый полемический выпад Герцена последовал за статьей Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года». В запальчивости, защищая гласность и обличительную литературу, он предупредил «милых паяцев наших», что «на этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего, Боже сохрани) и до Станислава на шею!».
Обвинение донельзя тяжелое…
Руководители «Современника» были удивлены и возмущены резкостью высказываний издателей «Колокола». Тогда еще не виделось отчетливых признаков резкого размежевания между ними. В своем дневнике Добролюбов записал: «Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности! Я лично не очень убит неблаговолением Герцена… но Некрасов обеспокоен».
С некоторых пор Герцен не особенно жаловал (выражение слишком слабое!) главного редактора «Современника» Н. А. Некрасова. По причине неблаговидного поведения его гражданской жены — А. Я. Панаевой вышел крупный спор, скорее, даже скандал об огаревском наследстве[150]. Поэтому в Лондон для объяснений отправился Чернышевский.
Шестого июля 1859 года Николай Гаврилович добрался до британской столицы и вечером того же дня явился в Фулем. Наталья Тучкова свидетельствовала, что она застала Александра Ивановича, ходящего взад и вперед по зале их дома с неожиданным собеседником, «о котором говорила чуть ли не вся Россия». Он был среднего роста, некрасив, с неправильными чертами лица, но его выражение, «это, особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе». Тучкова запомнила, как их познакомили, как гость погладил маленькую Лизу по голове, проговорив: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу». Содержания разговора она знать не могла, запомнив лишь поверхностное свое ощущение. Ей показалось, что в беседе с Чернышевским Герцену «недоставало откровенности», ибо гость «не высказывается вполне». Отсюда и невозможность сближения, заключила она. Предварительные переговоры кого-то из русских (имя она запамятовала) насчет издания в Лондоне «Современника» (на технической базе «Колокола») на случай его запрещения в России, по ее же свидетельству, были продолжены.
Но, главное, предстояло прояснить сложившуюся ситуацию со скандальной публикацией в «Колоколе». Двукратное появление Николая Гавриловича в Фулеме 6 и 9 июля не только не привело к выяснению отношений и преодолению конфликта, но вызвало резкое столкновение, породившее еще большую личную неприязнь.
Чернышевский свидетельствовал, как он «ломал» Герцена и какой «выговор» он ему задал. Тем не менее петербургский гость сразу же признал, что «ездил не зря», «хотя оставаться здесь долее было бы скучно». Подобное мнение в письме Добролюбову с места события, казалось бы, не согласовывалось с возникшим конфликтом.
И у Герцена, и у Чернышевского не было задачи ссориться. И тот и другой осознавали свое лидерство и стремились к равенству, хотя в духовной жизни России уже давно возникли два идеологических центра. Герценовская попытка «поучать» резко пресекалась. «Колокол» был на взлете, подцензурный «Современник» олицетворял все передовые российские веяния. Оба всемогущих издания поддерживались массой людей, и, естественно, перед Чернышевским стояла задача — не уступая авторитету герценовской, на его взгляд, отсталой либеральной пропаганде, искать возможного сближения.
Первый визит к Герцену в Фулем был достаточно мирным, и Герцен был готов поместить в «Колоколе» соответствующую заметку «для наших русских собратий», не предавая внешне чрезмерного значения своей публикации «Very dangerous!!!», которая содержала лишь «образ выражений», ироническую «manière de dire».
Первого августа 1859 года в 49-м листе Искандер писал: «Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем…»
Современники, до которых доходили разговоры и слухи о лондонском свидании двух лидеров, на протяжении многих лет не уставали передавать всевозможные сведения в своих письмах и свидетельствах. И эти разнотолки, всяческие предположения давали почву для противоречивых концепций. В спорах о встречах и переговорах двух подлинных властителей дум (как необходимого условия единения демократических сил в освободительной борьбе) советские историки страстно и не без идеологического напора схлестнулись в полемике, кардинально решая вопрос о целях приезда Чернышевского[151].
В 1972 году в существующие концепции вмешалась неожиданная находка. Правнук Герцена Леонард Рист передал в дар Дому-музею Герцена книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (СПб., 1855) с дарственной надписью: «Александру Ивановичу Герцену с благоговением подносит Автор». Написанная в тоне глубокого уважения, возможно, предназначенная для вручения Герцену при первом свидании, книга эта дала возможность еще раз подтвердить неоднозначность подходов к проблеме взаимоотношений Герцена и Чернышевского, не преувеличивая споры и расхождения и не увлекаясь чрезмерно позитивной стороной дела, даже на этой фазе их взаимодействия[152].
Подобный баланс в отношениях лидеров на этот период времени, даже если его принять, был вскоре нарушен по многим направлениям.
Непрекращающаяся критика деятелей революционного лагеря, постоянно задирающих лишних, праздных, ни на что не способных людей, «трутней» и «белоручек», заставила Герцена для новой защиты своих предшественников прибегнуть к более острому оружию, запустив стрелу в пугающих «радикальной бойкостью» желчных критиков «Современника». В известной статье «Колокола» «Лишние люди и желчевики» (13 октября 1860 года) они были припечатаны прозвищем «желчевики». Герцен, конечно, за «лишних» «заступился», в чем получил полную поддержку Тургенева, кстати, бывшего на грани разрыва с редакцией «Современника» (вышел из нее в 1861 году в числе лучших авторов), но выпад против первого российского журнала многими воспринимался как удар по его демократическим позициям.
Издатели «Колокола» были в ту пору в великой моде. Каких только писем не приходило, каких только секретов, добытых из тайных правительственных пещер, не передавалось в Лондон. Пройдет тайное заседание Государственного совета по крестьянскому делу, а отчет, скопированный кем-то из чиновников, да возможно и лицами посолиднее, тут как тут, на страницах «Колокола». Внушения государю, жалобы на несправедливость начальства — ворох полезной и бессмысленной информации, слова признательности и ненависти…
Доходят слухи, что император в разговоре с кем-то из знавших лондонского издателя будто бы заявлял: «Скажите Герцену, чтобы он не бранил меня, иначе я не буду абонироваться на его газету». Герцен вспомнит не раз тот период «апогея» его пропаганды: «Всякий писал, что попало: один — чтобы сорвать сердце, другой — чтобы себя уверить, что он опасный человек… но были письма, писанные в порыве негодования, страстные крики в обличение ежедневных мерзостей».
При свидании с приезжими разговор не унимался — речь шла о баснословных злоупотреблениях, кражах, преступлениях власти, открывшихся после Крымской войны. Назывались конкретные имена. Как выразился один из поклонников вольной печати: «В „Колокол“-то попасть им не весело…» «Колоколу» подражали.
Явился в Лондон «кривоногий» (попросту, хромой) сиятельный князь П. В. Долгоруков, некогда, по слухам, замешанный в истории с подметными письмами Пушкину. Несравненный знаток дворянской генеалогии, собиратель наисекретнейших материалов династии был очень полезен Герцену. Обидевшийся на российскую власть, выдав сокровенные тайны дома Романовых и тем заручившись яростным преследованием Николая I, Петр Владимирович был одушевлен примером «Колокола», «усердного обличителя всякой неправды». Материалы «Будущности», собственного его детища, органа весьма благонамеренного, и последующих вызывающих публикаций князя очень пригодились Герцену для освещения потаенной истории и скрываемых преступлений власти.
Посетители, друзья, знакомые в открытом доме Герцена не переводились. 24 февраля 1860 года прямо из Петербурга в Фулем приехал «очень интересный гость», из той же когорты разночинной интеллигенции, что и Чернышевский. Герцен уже знал брата нового знакомца — Александра Серно-Соловьевича, умного, серьезного молодого человека, который год тому назад получил в доме самый теплый, искренний прием и всем очень понравился. (В дальнейшем, став политическим эмигрантом, он изменит своему кумиру, не оправдает великодушного, доброго отношения Герцена и напишет на него пасквиль — «Наши домашние дела».)
Старший из братьев — Николай Александрович Серно-Соловьевич показался Герцену человеком иного толка, более сосредоточенным на общих интересах и общественном служении. Может быть, он был менее даровит, менее интеллигентен, чем младший брат, замечала Н. Тучкова, но другие его качества — прямодушие, редкое благородство, настойчивость, самоотвержение выдавали несомненного деятеля, беззаветно преданного убеждениям и намеченной цели.
Герцен узнал его историю и рассказывал ее неоднократно.
Дело было в 1858 году. Питомец Царскосельского лицея, Н. Серно-Соловьевич «начинал свою карьеру в канцелярии Государственного совета… когда проект освобождения крестьян находился в руках нескольких ретроградов-сановников, относящихся к нему враждебно». Видя, как они запутывают вопрос, затягивают решения, ставя палки в колеса, молодой человек, «фанатически преданный делу освобождения», «решил отказаться от роли орудия в руках заговорщиков против народа» и прежде отставки написал царю. В откровенном письме он раскрывал все обстоятельства и враждебные намерения людей, которым свыше было доверено «великое дело». Проникнув в Царскосельский парк, встретил там императора и безбоязненно «подал ему письмо». В тот же вечер храбрец был вызван председателем Государственного совета графом А. Ф. Орловым (кстати, на закате своей жизни назначенным еще и председателем Секретного комитета по крестьянскому делу).
«Государь, — сказал он ему, видимо, недовольный этим поручением, — приказал мне благодарить вас и поцеловать. Он прочел ваше письмо и примет его во внимание».
Сохранился подлинный архивный документ, который подтверждает эту историю. Александр II наложил на записке Серно-Соловьевича следующую резолюцию, адресованную в первой части к высокому сановнику: «Призовите его, поблагодарите его от моего имени. Скажите ему, что я не только на него не сержусь, но искренно благодарю за откровенное изложение настоящего положения дел, хотя пылкость юношества и повела его, может быть, слишком далеко».
Герцен, зная историю из первых рук, не мог не обыграть подобный экстраординарный эпизод, о котором не единожды потом вспоминал (тем более что пути их с бывшим полицейским начальником не раз пересекались в России): «Император играл еще тогда в либерализм; но последний маркиз Поза скоро увидел, что бесполезно обращаться к этому монарху, даже когда он посылает через министра полиции[153] свое императорское лобызание».
Глубоко уважая незаурядного гостя, Герцен хотел, чтобы сын походил на него, ставил Николая Серно-Соловьевича в пример двадцатилетнему Саше, вдруг задумавшему жениться на юной девушке из чуждой среды: «…посмотри на упорную энергию его, это тот самый, который был у Александра II и написал ему, что дело освобождения не идет». «…Введи с совершеннолетием арифметическим больше возмужалости»; «Жизнь, начинающаяся с конца, — жизнь без борьбы… Семейная жизнь — гавань, а тебе надобно плыть», — выговаривал Герцен достаточно слабовольному Саше, на которого возлагал надежды иного рода. «Не пошлая или несчастная жизнь», а чувство России, «в которой идет борьба». И Саша к советам отца, как увидим в дальнейшем, на время прислушался.
Герцен с первого свидания прозвал Серно-Соловьевича шиллеровским «маркизом Позой», угадывая в нем что-то рыцарское. В письмах адресатам из ближайшего окружения давал Николаю лестную рекомендацию и представлял как друга. В 1862 году в посвящении статьи «Император Александр I и В. Н. Каразин» для «Полярной звезды» написал: «Вам, Н. А., последнему нашему маркизу Позе, от всей души посвящаю этот очерк».
Николай Александрович привез из российской столицы «разные подарки», но главное — известия о ходе реформы. Герцена они ошеломили и были восприняты как «хаос». Тут же он сел за письмо И. С. Аксакову в Мюнхен, где определил ситуацию с крестьянским освобождением: «Мы… до сатураций[154] наполнились невскими грязями».
В марте дошли вести о смерти Ростовцева и многих, «кому дорого крестьянское дело», они огорчили. Герцен понимал, что о такой потере и ему придется пожалеть[155]. «Даже „Колокол“ перестал над ним издеваться», — свидетельствовал в те дни Аксаков. Тень В. Н. Панина, «главы самой дикой, самой тупой реакции», восходила на горизонте крестьянского освобождения.
Уже 15 марта 1860 года траурной рамкой в «Колоколе» издатели обозначили «этот вызов, эту дерзость, это обдуманное оскорбление общественного мнения и уступки плантаторской партии». Невероятная новость о назначении главой Редакционных комиссий министра юстиции, «жирафа в ленте», «длинного, сумасшедшего» графа Панина (печально известного не только своим невероятным ростом), подтвердилась.
«Вести о смерти Ростовцева и последствиях» застали Серно-Соловьевича в Лондоне. Пробыл он там две недели, испытав огромное воздействие Герцена, и «вернулся освеженным, бодрым, полным энергии, более чем когда-либо», — о чем сообщал в мае 1860 года своему другу в Калугу.
Среди огромного вороха материалов, злободневных посланий, попадавших в Лондон часто неведомыми путями и от неизвестных авторов, всегда оказывались важные корреспонденции из провинции. Вероятным остается мнение, что среди «гостинцев», привезенных Н. Серно-Соловьевичем, находилось и радикальное письмо «Русского человека». Но кто его автор и знал ли его Герцен — остается большой тайной[156].
Важно, что Герцен постоянно отражал нападения, объяснялся с читателями, отвечал упрекавшим его за некоторые выражения, употребленные в присланных статьях: «…С чего вы взяли, что выписанная фраза о топоре — писана мною? Я думаю, есть значительная разница между помещением корреспонденции и собственной статьей».
Публикация «Письма к редактору» в двадцать пятом листе газеты от 1 октября 1858 года с призывом анонима «заострить топоры» потребовала объяснений. И все же издатель «Колокола», получавший резкие выговоры и «родительские поучения», призывал не пугаться свободного слова, привыкать к нему, ибо «свобода книгопечатания — какие бы мелкие неудобства она ни имела — величайшая хартия».
Попавшее к издателям «Письмо из провинции» за подписью Русский человек должно было многих напугать еще больше. И на этот раз от своих установок Герцен не отступил.
В 64-м листе «Колокола» от 1 марта 1860 года он напечатал его с собственным редакционным предисловием-ответом, хотя глубоко сомневался, стоит ли вообще помещать подобный экстремальный вызов сторонникам Вольной прессы.
Топор, как средство «вырвать у царской власти человеческие права для народа», вновь возник в этом радикальном письме со всей своей устрашающей силой.
Прежде сочувствующий вольному слову анонимный автор упрекал Герцена, не оправдавшего первоначальных ожиданий русского общества. «Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II», — заявлял он в своем своеобразном «обвинительном акте». О России настоящей лондонский редактор имеет «ложное понятие». «Колокол» с его «мерными ударами» из своего «прекрасного далека» не «стал обличителем царского гнета». Народ не защищен, угнетен, голос в его защиту не слышен. «Шепот» либеральной литературы о народных бедствиях смехотворен. Помещики-либералы, либералы-профессора проповедуют умеренность, убаюкивают надеждами. Так что «не обманывайтесь и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии[157], когда она многим бы пригодилась бы», — советует обличитель.
Первейшая роль теперь перешла к таким как он, считает автор письма: «…только люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа…» Рецепт ему ясен: «…только топор может нас избавить и ничто кроме топора не поможет! <…> Вы сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш „Колокол“ благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, не вам ее поддерживать».
Предваряя публикацию откровенно революционного воззвания, Герцен готов снова повторить свою мысль об «отвращении от кровавых переворотов», в которых видит «великое не-счастие». Еще и еще раз подчеркнуть: «…к топору, к этому ultima ratio[158] притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора». А если народ бросится к топору, то «будемте стараться всеми силами, чтоб этого не было».
Какой же выход? Какая дорога к освобождению? Образованному сословию — «идти дальше самого правительства в освобождении крестьян с землею».
Герцен терпеливо убеждал отчаянного радикала, что в России правительство в деле освобождения с землей идет дальше всех: кто, кроме государя, «сделал что-нибудь путного для России»? И свои заслуги в деле пробуждения России он не склонен умалять. Несмотря на все удары слева и справа, его позиция неизменна. Он будет с тем, кто освобождает, и пока освобождает.
Герцен находит точную формулу для ответа своему радикальному оппоненту: «К метлам надобно кричать, а не к топорам!»
Тогда, в период взлета «Колокола», Герцен считал, что его деятельность «удалась вполне, и работа, жертвы — всё вознаградилось успехом», но о собственном «увековечении» не думал. Хотя, к счастью для близких, благожелательных современников и интересующихся потомков, он часто фотографировался. К этому располагали множество фотографических заведений в британской столице и возобновившиеся встречи после «замирения» с двоюродным братом С. Л. Левицким, ставшим отменным мастером, снимавшим даже царскую семью.
Н. Трюбнер, компаньон и неизменный издатель Искандера, сильно пополнивший свое состояние на запрещенной продукции вольного станка, особенно когда дела пошли в гору, по свидетельству Тучковой, «боготворил Герцена до такой степени», что заказал немецкому скульптору Грассу бюст Александра Ивановича для украшения им собственной книжной лавки.
В июне 1860-го в дом Герцена водворилась превосходная «большая картина апотеозы „Полярной звезды“ и „Колокола“», которую прежде он знал по фотографии. Ее написал «один академик Петерб[ургской] академии», а русские художники поднесли ее своему кумиру. Герцен рассматривал полотно, восхищался: «Середняя фигура очень грациозна. Внизу Алекс[андр] II, генералы в масках, попы — и народ, слушающий звон».
Действительно, на темном полотне — звонящий колокол. По его поверхности три ряда надписей, уловивших общественное звучание газеты, стиль и качества публицистики Герцена: «„Гласность“, „Правда“, „Талант“, „Философия“, „Благородство и твердость“, „Любовь и смелость“, „Острота“, „Беспристрастие“, „Деятельность“, „Желчь“, „Поэзия и ирония“, „Самобытность“, „Самоотвержение“. [Для] спасения родной России, слит в Лондоне в ½ XIX века, Свобода русского слова».
Говоря об авторе картины в письме сыну, имени артиста, живописца Герцен, понятно, не называет. Шпионы всех мастей шныряют повсюду. «Колокол» предостерегает: «Шпионство Васильчикова в Париже». Русские художники, командированные в Европу Российской академией художеств, протестуют против незваных вторжений в их мастерские. Под их негодующим письмом — подписи А. Боголюбова и Г. Будковского, А. Щедрина и М. Клодта, И. Шторма и А. Бейдемана. Васильчиков, служащий при русской миссии, под видом интереса к искусству тайно посещает их студии. От его глаза не скрывается и «Апофеоз» работы славного академика, внука Радищева Алексея Боголюбова. О показе картины в Петербурге речи нет. Ее путь — в Лондон. Герцен доволен. Видит в подношении свидетельство «лестного признания», ибо «Колокол» «призывает не только массы», но и «артиста».
Призванным артистом заявляет себя и князь-крепостник, богатейший тамбовский душевладелец, мастер проделок и чудачеств, с которым судьба сводит Герцена при необыкновенных обстоятельствах. Князь Юрий Николаевич Голицын из той, особо интересующей Герцена человеческой породы оригинальных личностей, «живых редкостей» из отечества, «крупный характеристический обломок всея России».
Феномен этого одаренного, Богом отмеченного музыканта, композитора, хормейстера, да еще так безрассудно полюбившего Герцена и его вольную печать, не мог не сразить художественного воображения Александра Ивановича, открывшего для его фантастической истории (которую местами чувствовал неправдоподобной) страницы «Былого и дум».
Владелец многих сотен крепостных душ, переродившийся под влиянием критики «Колокола», писал, оправдываясь, в Лондон: «В моих глазах ваши строгие, иногда смертельные приговоры могут быть сравнены только с властию средневековых Vehmgerichte[159]. Только ваши казни — страшнее. С физической смертию стыд для человека оканчивается, а подпавший под ваш приговор имеет завидное удовольствие переживать свою собственную смерть, оставаться моральным трупом!..
Звони же, „Колокол“, на всю святую Русь, — звони сильно над главою самого царя, пробуждай спящих, — сзывай громким набатом своим всех русских на общее, великое дело, — сбратай нас с просвещенным миром!»
Вскоре в «Колоколе» стали появляться корреспонденции князя. Сильно рискуя, он собирал номера крамольной газеты, непредусмотрительно отдав их какому-то переплетчику военного министерства, да еще вместе с ответным письмом Искандера, за что и пострадал, просидев безвылазно год в своей тамбовской вотчине.
Когда же Голицын, сбежав из-под надзора, неожиданно появился с хором крепостных в Лондоне, и ошеломленный зал, крупнейший Сент-Джеймс-холл, сопровождал «треском и громом» почти все пьесы, Герцен приветствовал его в «Колоколе». 15 июля 1860 года (в разделе «Смесь») напечатана заметка «Русская музыка в Лондоне»: «Эстетическое нашествие русских звуков идет от победы к победе. <…> Богатая натура наша высказывается тут с своей мощной стороны. Наша музыка не является скромно просить внимания своей оригинальности и какого-нибудь гражданства — она врывается разом, вооруженная Бортнянским и Глинкой, заявляет себя энергически и самоуверенно, под партизанским начальством искусного вождя!
<…> Кн. Голицын… начинает новую жизнь — из камергеров он делается художником. До сих пор он жил, как все русское барство, чужим трудом, значением по службе и царской милостию; теперь он начинает, как всякий независимый артист, жить своим трудом… высочайшее благоволение заменится рукоплесканиями свободной аудитории, а крестьянский оброк — платой за билеты.
Мы приветствуем князя на этом человеческом поприще; путь этот, может, и не так легок, но воздух, который веет на нем, необыкновенно чист».
В письмах друзьям и родным Герцен спешил передать любопытные подробности: «Голицын дает концерт в пользу Гарибальди, 120 поют — 1200 слушают — музыка играет „Herzen-Valse“; „Herzen-Valse“ произвел фурор»; «Он поднес мне Herzen-Valse… ну я и растаял».
«Герцен-вальс в четыре руки»: за одно посвящение «государственному преступнику», изгнанному из пределов империи, полагалось… Трудно сказать, сколько полагалось за это титулованному Рюриковичу или Гедиминовичу, но князь на собственном невеселом опыте хорошо знал, сколько стоит слово, имя, звук — Герцен.
Звуки герценовского вальса долетели до нас и впервые зазвучали в Доме-музее Герцена[160], но вот маленькую симфонию — «Фантазию освобождения», сочиненную «эмансипатором князем Голицыным», так и пропавшую невесть где, пока не услышали.
Глава 26 «ВОЛЯ! ВОЛЯ!» ГОД 1861-Й
Слово свобода — вылетело из клетки, и его сызнова в клетку не упрячешь.
Н. П. Огарев. На новый год
«Влияние наше в России растет и растет. Там явно готовятся бури», — писал Герцен сыну Александру, понимая и принимая успех своей пропаганды. Из «прекрасного далека» было ясно видно, что происходит на родине: полное разорение из-за неурожая и голод, отказ повиноваться помещикам, волнения, сопряженные со слухами о сокрытии «золотой грамоты о воле», убийства помещиков и пр., и пр. По мере приближения к реформе тайные корреспонденты посылали в «Колокол» все больше сообщений. Лондонским издателям предстояло преодолеть головокружительный отрезок пути, равняясь на убыстряющиеся российские события. Слишком бурное движение донеслось и до Лондона: везде в России — в кабаках, в церквях, на торгах только и разговоров, что о скором освобождении с землею.
Иногда оттуда «дул ветер реакции». Герцен не отступал от критики царя при всем благожелательном отношении к нему, сожалел, сокрушался в частных письмах, как только доходили неясные слухи об арестах студентов трех университетов и нескольких профессоров: «…совсем обезумел: идут аресты и политический процесс — первый в это царствование». За год до объявления манифеста издатель еще полагал, что самодержец упускает свой шанс: «Несчастный человек этот царь Александр: какое положение случай ему предоставил без каких-либо заслуг с его стороны, а он все погубит».
Открывая новый, 1861 год программной статьей в «Колоколе» (лист 89), Огарев не удерживался от предвидений и прогнозов, задаваясь множеством вопросов:
Может быть, 1 января уже выйдет царский манифест и торжественно будет читаться повсюду, когда «скромный лист» «Колокола» пересечет границы?
«Как будет принято народом освобождение?., освобождение личное, с правом на пользование землею и на розги, с правом на выкуп по добровольным соглашениям, при невозможности достигнуть ни соглашения ни выкупа… Какое бы оно ни было — в первый день оно примется с восторгом».
«Кто, очнувшись от первого впечатления, останется довольным? — Никто.
Крестьяне увидят, что они такие же крепостные как были; только их права, их собственность, их работа, все их отношения к помещику из неопределенности по отсутствию правил — перешли в неопределенность по бесчисленности правил; а между тем слово свобода — вылетело из клетки, и его сызнова в клетку не упрячешь».
Что из всего этого столкновения интересов — помещиков и крестьян выйдет? «Помещик потребует земскую полицию для наказаний; выйдет бунт».
Тревожные ожидания затянулись. 1 марта в заметке «Накануне» Герцен, при всех сомнениях и «неполной вере» в намерения «седых эмансипаторов», писал: «Столько для России никогда не стояло на карте, ни в 1612, ни в 1812 году».
Наконец, «слово освобождения сказано». «3 марта (19 февраля) 1861 года всенародно возвещено уничтожение крепостного права». Слово «Манифест!» набрано крупным кеглем в 95-м листе «Колокола» от 1 апреля. «Первый шаг сделан!» Манифест подписан. «Скорее, скорее второй шаг!» — обращался Герцен к царю, не удерживаясь от панегирика:
«Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. <…> Из дали нашей ссылки, мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки, — мы приветствуем его именем освободителя!»
Имя «освободителя», присвоенное царю, так навсегда и будет закреплено в российской истории за Александром II.
Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года означала фактически правительственное признание скорейшей необходимости немедленного преобразования во всех сферах деятельности страны. Герценовская «ссылка» — Англия — прослыла свободной от рабства с незапамятных времен, а Россия никак не могла выбраться из феодальных «свивальников», «мешающих могучему развитию ее». Слова, сказанные Искандером еще при зачине «Колокола», не утратили злободневности. Теперь, когда начало свободе русского народа было положено, «Колокол» провозглашал: «черед за гласностью», уничтожением телесных наказаний и за дальнейшими реформами.
Герцен вникал во все подробности происходящего в России, будь то официальные документы, присланные корреспонденции или частные письма. Не прошло и десяти дней после подписания манифеста, как Тургенев, обещавший сообщать из Парижа «все новости неофициальные, но верные», писал Герцену об официальном окончании крестьянского вопроса: «Главные основания редакционной комиссии приняты», «переходное время будет продолжаться 2 года» и «надел остается весь — с правом выкупа».
Подробно ознакомившись с текстом манифеста, Герцен, в общем, был доволен им. Сетовал только на запутанный слог документа, но считал вполне уместным поднять тост за Александра II.
В эту напряженную пору, когда речь идет о судьбах родины, да и о собственной его судьбе (может, удастся домой воротиться?), особенно волнующим было общение со своими, заинтересованными, понимающими соотечественниками. «Это наше время…» — напишет Герцен Тургеневу. Но где они — наши, свои, повторимся мы. Пожалуй, только переписка со старым изменчивым другом, все более расширяющаяся к началу шестидесятых, дает возможность обсудить многие события их обшей литературной, общественной и личной судьбы.
Вот появился в Лондоне в канун реформы их «короткий знакомый» Лев Толстой, и Герцен отчитывается Ивану Сергеевичу: «Мы уже и спорили, он упорен, и говорит чушь, но простодушный и хороший человек — даже Лиза Ог[арева] его полюбила и называет „Левостой“». Лев Николаевич засвидетельствует: виделись с Герценом почти каждый день начиная со 2 марта и вели «всякие и интересные разговоры». В общем, не остались друг к другу равнодушными, хоть и во многом разошлись, завели в Лондоне «сильную переписку — и портретами обослались». Прочитав «превосходную» шестую «Полярную звезду», а в ней статью «Роберт Оуэн», Толстой писал Герцену, что она «слишком, слишком близка» его сердцу своей «правдой» и главной мыслью о необходимости активного воздействия личности на ход истории, обращенной «только к умным и смелым людям».
Герцен еще в 1850-х годах приметил в «Современнике» анонимную публикацию повести «Детство» «нового, очень талантливого автора», покорившую его «своей пластической искренностью». В дальнейшем с нескрываемым интересом следил за развитием дарования писателя. Лев Толстой, как известно, на склоне лет высоко оценил скрытый правительственными запретами великий талант Герцена, который был бы способен многое изменить в судьбах новых поколений.
В начале апреля 1861 года в доме Герцена Orsett House готовились к грандиозному «еманципационному» празднику, назначенному на 5 или 8 апреля. Приглашались все русские, «кто бы ни были», и все работники типографии.
«Весь дом будет иллюминирован газом — с надписью: 3 МАРТА 1861 и знамя с „Emancipation in Russia“», — сообщал Герцен сыну, призывая его приехать к торжественному дню. Программа уточнялась и расширялась. Музыкальный репертуар включал «Марсельезу», «Вниз по матушке по Волге» — фантазию на русские темы «Освобождение», с непременным участием музыкантов Голицына. Несмотря на эйфорию, Герцен сомневался, писал Тургеневу: «…грабить хотят».
Отрезвление пришло быстро. Праздник 10 апреля, хоть и «вышел великолепен — погодой, количеством гостей и количеством совершенно незнакомых русских», был «убит». Праздничное оживление было нарушено приездом верного сотрудника типографии, поляка Станислава Тхоржевского. Показанные им фотографические карточки убитых поляков, только что полученные из Варшавы, не оставили сомнений: в польской столице льется кровь.
«Там были демонстрации, — рассказывал Тхоржевский, — поляки молились на улицах; вдруг раздалась команда, русские выстрелы положили несколько человек коленопреклоненных». «Все походило на похороны», — герценовский итог так радостно начавшегося праздника.
Вслед за расстрелами царскими войсками многолюдной демонстрации поляков, протестующих против политики усиления национального гнета, в «Колоколе» появилась статья «10 апреля 1861 года и убийства в Варшаве», а через месяц издатели криком кричали, узнав о подавлении крестьянских протестов: «Русская кровь льется!»
Бурные события, последовавшие за объявлением манифеста и «Положений 19 февраля», заставили издателей газеты гибко поменять свой политический курс. В «Колоколе», как в капле воды, сконцентрировалось всё самое важное в реформируемом отечестве.
Объявление манифеста на сходах, непонимание неграмотными крестьянами его мудреного, запутанного содержания, вызвало массу слухов и толков: царь дал настоящую волю, а помещики и чиновники украли, скрыли ее. За один лишь 1861 год неповиновение крестьян имело место в 1176 имениях, что почти равнялось числу крестьянских волнений за предшествующие 35 лет[161].
Из России шли письма, что «в нескольких губерниях действуют розги, действует войско и льется кровь». Особое внимание издателей привлекло Безднинское дело: в селе Бездна Казанской губернии произошло одно из самых мощных волнений крестьян с трагической развязкой, получившее огласку в России только после тревожной публикации в «Колоколе» («Русская кровь льется!», лист 98–99 от 15 мая 1861 года). Корреспондент (публицист и высокий правительственный чиновник С. С. Громека) сообщал, что «в Казани явился самозванец… выдающий себя за Александра Николаевича, гонимого дворянами. Семнадцать деревень окопались и сражаются с войсками под знаменем этого господина. Кто он — неизвестно. Но схватки были ужасные: 70 человек крестьян уже легли жертвою…». Автор второго письма, приведенного Герценом частью, давал несколько иное толкование событий, рассказывал о некоем пророке, появившемся между раскольниками и выдававшем себя за государя. В письме утверждалось, что никакого сражения с войсками не было. Просто, узнав о возмущении крестьян, явился туда генерал свиты Апраксин с двенадцатью ротами и расстрелял крестьян батальонным огнем, после чего «70 тел остались на месте».
Неполные сообщения Герцен старался уточнять, почему подробнейшая информация о событиях 12 апреля в селе Бездне постоянно появлялась в газете.
Первого июня (лист 100) под общим заголовком «Мартиролог крестьян» напечатано «Письмо к издателям» — «Граф Апраксин-Безднинский», где называлось имя крестьянина Антона Петрова, бывшего «чем-то вроде духовидца и пророка», убеждавшего народ в его полной свободе. Послушать его рассказы собиралось до пяти тысяч человек. Приказ разойтись и выдать пророка крестьянами не был услышан. Тогда и последовала кровавая расправа прибывшего с ротой солдат генерала Апраксина: 70 убито, 12 умерло от ран. Петров был расстрелян по приговору военно-полевого суда.
Убийства продолжались. «В двадцати губерниях секут, объедают крестьян солдатами, свирепствуют предводители и генералы, и все это называется освобождением крестьян, — писал Герцен в разделе „Колокола“ „Смесь“ (лист 102 от 1 июля 1861 года), подытоживая сообщение корреспондента о событиях в Пензенской губернии. — Генерал Дренякин положил в одном селении, оказавшем ослушание, 9 человек, 28 ранено, 30 прогнано сквозь строй, 22 на поселение…»
Крик, с которым умирали безднинские мученики: «Воля! Воля!» — был услышан лондонскими звонарями. В России нашлись сочувствующие, открыто выступившие в защиту крестьян. Профессор Казанского университета А. П. Щапов за свою публичную речь на панихиде в память убитых в Бездне поплатился арестом.
«Колокол» оглашал секретные документы о крестьянских выступлениях, становившиеся предметом гласности и достоянием общественности в России, где, по словам официальных газет, крестьяне поголовно раскаивались после «легкого наказания»; призывал военных присылать имена офицеров, «отличившихся в крестьянских убийствах». Поддержка народного возмущения издателями «Колокола» вызывала резкое неприятие части либерального лагеря. Герцен отвечал: «Да, русская кровь льется рекой!., и есть пресные души, робкие умы, упрекающие нас в выстраданных нами словах проклятия и негодования!»
По мере нарастания событий, заголовки статей «Колокола» словно бы вторили их ходу, говорили сами за себя: «Разбор нового крепостного права» (лист 110). Вывод Огарева по-еле подробных выкладок и точных подсчетов, которыми, как правило, были наполнены его пореформенные публикации, не оставлял сомнений: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут!» Именно так воспринимали освобождение демократические круги России.
На вопрос в названии статьи «Что нужно народу?» 1 июля 1861 года Огарев отвечал: «Очень просто, народу нужна земля да воля. <…> Земля никому другому не принадлежит как народу. Кто занял землю, которую зовут Россией? Кто ее возделал, кто ее спокон веков отвоевывал, да отстаивал против всяких врагов? Народ, никто другой как народ».
Выпущенная отдельной листовкой, в расчете на более широкое распространение, статья Огарева стала агитационным документом, давшим название будущей тайной организации — «Земля и воля». У Огарева, одержимо занятого вопросами учреждения конспиративного общества, был уже опыт написания подобных документов. В конце 1850-го — начале 1860-х годов им составлены тексты, сохранившиеся под названиями «Записка о тайном обществе» и «Идеалы», где определялись цель, методы и организация конспиративного общества. После «идейного напутствия» «Земле и воле» Огаревым был написан еще ряд статей, приобретших силу прокламаций, в том числе «Что надо делать войску?» («Колокол», лист 111 от 8 ноября) — воззвание, призывавшее солдат не выступать против народа.
Вслед за крестьянскими выступлениями всколыхнулось студенчество.
В ответ на протесты студентов, не принявших новый университетский устав, началось гонение на университеты. Ссылки и заключения в крепость отрезвляли некоторую часть либерального общества, идейно разобщенного. Раздавались голоса в пользу конституционного правления. Между тем аудитории пустели, университеты закрывались. В знак протеста многие известные профессора (в их числе, А. Н. Пыпин, К. Д. Кавелин и др.) выходили в отставку. Университетские истории излечивали некоторых либерально настроенных интеллигентов от веры в правительство, другие же, напротив, искали защиты у власти. Прозорливый оппозиционер Кавелин писал в частном письме: «Страшно подумать, как у этих дураков не дрогнула рука зарезать целое поколение!..»
С весны 1861 года Петербург, а затем и Москву поразили печатные прокламации. Град нелегальных листков обрушился на столицы. Подпольные воззвания к народу, к солдатам, к молодежи будоражили общество и не давали покоя правительству. Близкий к революционным конспирациям, хорошо знавший Чернышевского сотрудник «Современника» Н. В. Шелгунов, написавший зимой воззвание «К солдатам», засвидетельствовал в поздних мемуарах, что распространившаяся прокламация «К народу» принадлежит перу самого Чернышевского и вручена им «для печатания Костомарову» (позже разоблаченному как агент Третьего отделения). Шелгунов назвал так известное своим радикализмом воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», которое многие приписывали Чернышевскому. Однако документальных свидетельств тому не нашлось.
До Лондона тем временем дошел листок «Великоруса». Три его выпуска (30 июня, 7 сентября и 20 октября) от лица некоего комитета[162] выдвигали основные требования о введении конституции, освобождении крестьян без выкупа и о свободной Польше. На первый случай предлагалось испытать все возможные мирные средства.
Ознакомившись с содержанием первого листка, издатели «Колокола» увидели реальную возможность, «не беспокоя ценсуру», печатать «на родной почве», и 15 августа из Лондона последовал призыв, названный «братским советом»: «Заводите типографии!» Небольшая заметка Герцена содержала первое упоминание о воззвании.
Пятнадцатого сентября в «Колоколе» (лист 107) был помещен «Ответ „Великорусу“», где анонимный автор заметки (Н. Серно-Соловьевич?) призывал обращаться не к обществу, а к народу: «пора борьбы наступила», и жить дальше при настоящем режиме невозможно. Герцен, не склонный дразнить общество «топором», был против этой публикации, но уступил давлению Огарева, все более воодушевлявшегося возможностями настоящего революционного дела. Его «Ответ на „Ответ Великорусу“» выражал уверенность, что сегодня сторонников «Великоруса» — «меньшинство», а «завтра оно будет большинством».
Уже с мая члены студенческого кружка Заичневского — Аргиропуло широко развернули работу по литографированию нелегальных изданий, в том числе сочинений Герцена и других изданий Вольной русской типографии, за что жестоко пострадали. В августе был арестован в Москве П. Э. Аргиропуло, а в Орловской губернии — П. Г. Заичневский.
Четырнадцатого сентября 1861 года в Петербурге схватили М. Л. Михайлова, видного сотрудника «Современника», уже зарекомендовавшего себя талантливым переводчиком, поэтом и публицистом. Повсеместно распространившееся воззвание «К молодому поколению», написанное им сообща со своим другом и соратником Н. В. Шелгуновым, бурно отозвалось в России.
Когда Михайлов еще в конце июня появился в Лондоне, Герцен, прочитав листовку, где радикализм авторов был доведен до крайности, «заклинал» его не печатать. Встреча издателя с Шелгуновым через короткое время после посещения Михайлова вызвала «самый разнообразный» интереснейший разговор, где, среди прочих насущных тем, опять обсуждалась листовка, которая вот-вот должна была сойти с вольного типографского станка. И Герцен вновь не одобрил ее. Может быть, он мог согласиться и с критикой императора, не оправдавшего надежд после освобождения, и поверить в «свежие силы» молодежи, готовой к спасению России. Но вот средства к этому спасению — желаемой революции с категоричностью кровавого пути, никак принять не мог.
Не мог принять и жестких, ироничных упреков, вроде тех, которые становились достоянием дневников и пока еще приватных обсуждений, сплетен и слухов его современников, что он-де, Герцен, сидящий «за три тысячи верст от всех этих ужасов», «не рискуя ни волосом со своей головы», только «возбуждает народные страсти». И причины к тому: его тщеславие и «неблагородная трусливая жадность к популярности»: хочет, верно, «на чужой счет прослыть вторым Маццини».
В адрес Герцена сыпались подметные письма, где брань была доведена до высшего предела, как он скажет, «по-матерно». Доброжелатели предупреждали, что в тайной полиции уже готовятся его убрать, похитить, и советовали пределов Англии не покидать. Герцен опять посмеивался, но угрозу принимал: Третье отделение «расхорохорилось и не на шутку вздумало меня убить». Ироничное письмо русскому послу в Лондоне с характерным герценовским заголовком — «Бруты и Кассии III отделения» открывало 109-й лист «Колокола» от 15 октября и перепечатывалось отдельной листовкой. Шум в иностранной прессе поднялся основательный.
Герцен постоянно следил за студенческими возмущениями, разгоравшимися в Петербурге все с новой силой. Аресты не прекращались. До 13 октября 1861 года в Петропавловскую крепость заключено несколько сот студентов. На стенах крепости, как считал очевидец, следовало написать — «Петербургский университет».
Среди серии авторских заметок Герцена: «Петербургский университет закрыт!», «По поводу студенческих избиений», «Третья кровь!» и других, особо выделялась статья — «Исполин просыпается!», развернутая в «Колоколе» 1 ноября 1861 года.
«Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. — задавался вопросом издатель. — Сказать вам куда?»
И это был призыв молодежи к организованности, целенаправленному делу: «Прислушайтесь — благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра, растет стон, поднимается ропот — это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки…» Призыв будущего идеолога теории народничества, прежде уже высказывавшегося на эту тему, представлялся более радикальным. Время и революционные события в России требовали от издателя не отставать, подталкивали к новой, более решительной тактике поведения.
Мысль о создании тайного общества в России созрела у его организаторов, участников молодежных кружков, которыми во множестве обзавелась невская столица, возможно, под влиянием чтения «Письма из провинции» и определенной надежды на его публикатора в «Колоколе».
В середине августа 1860 года к Герцену в Лондон уже приезжал А. А. Слепцов, будущий лидер «Земли и воли». Но в «крупном деятеле» прошлого он не усмотрел «путеводителя нового движения», казавшегося ему безнадежно отсталым и просто, как он выразился, «непригодным». Правда, эта оценка Слепцова относилась к более позднему времени, а тогда, продолжая надеяться на советы Герцена, прежде чем браться за дело организации, он вновь отправился в Лондон в конце января — начале февраля 1861 года. Встречен был в доме «великого изгнанника» с большим вниманием, но конкретных результатов свидание не принесло.
Слепцову запомнились слова Маццини, с которым познакомил его Герцен, что «близость русской революции указана ему многими русскими», и главный его совет — «организовываться». Эти слова были переданы Слепцовым Чернышевскому при первой их встрече в Петербурге, в июне, а скорее, в осенние дни 1861 года. Чернышевский тогда, «смеясь», отозвался: «…он [Маццини] всегда предвидит где-нибудь революцию на завтрашний день».
Диалог велся в надежде получить благословение признанного российского лидера на организацию тайного общества. И оно было получено: «Что ж, это дело, — твердо сказал Чернышевский». «Как я потом уверился, — продолжал вспоминать Слепцов, — Чернышевскому именно по душе пришлось мое сомнение в Герцене и сознание необходимости нащупать почву для дела прежде, чем приниматься за дело». Не упустил он и случая, чтобы иронически отозваться о былом своем идоле как о «владельце либеральных русских сердец».
С конца октября 1861 года Слепцов занялся подготовительной работой, объединением разрозненных кружков, составлением устава, «подбором людей, которым уже и предоставить вербовку рядовых членов-пропагандистов». Сила тайного общества виделась ему в пропаганде, «исходя из ужасной темноты народной массы». К организации «Земли и воли» присоединились Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, С. С. Рымаренко, В. С. Курочкин и др. Идейная поддержка землевольцев редактором «Колокола» несомненна. Но ни о каком объединении и единстве действий двух центров — российского и лондонского, и тем более руководства из Лондона, речи нет[163].
Нет речи и о прямом вхождении Герцена в общество русских революционеров. В «Былом и думах» он вспомнит о своих переговорах со Слепцовым, специально приехавшим в Лондон с предложением превратить «Колокол» в орган «Земли и воли»: «Уполномоченный был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться агентами общества „Земли и воли“. Я отклонил это, к крайнему удивлению не только Бакунина, но и Огарева…»
Огарев сразу же включился в деятельность тайной организации, все больше склоняясь к революционным проектам и радикальным воззрениям своих молодых соратников. Активно занимаясь организацией «Земли и воли», он все более отдалялся от Герцена. Герцен, сосредоточившийся на «положительной, созидающей части» лондонской пропаганды, сводившейся к тем же двум словам — «Земля и воля», готов был помогать («служить им я буду») при условии, что программа организации должна стать для него приемлемой и совершенно ясной. Он оставался при прежнем мнении, что не из Лондона надо руководить движением. Не было веры и в массовость общероссийского тайного общества, якобы насчитывающего даже в провинции до двух тысяч членов. «…Пусть же они докажут, что они сила», — не раз повторит он Огареву.
Несмотря на активность, спровоцированную мощными переменами в России и успехом собственной деятельности, названной им «апогеем», высшей точкой влияния, Герцен чувствовал себя все более одиноким. Ожесточались враги. Покидали друзья. Уж сколько раз он мысленно с ними прощался, уж сколько раз их разводили время и обстоятельства…
Вернулся бежавший из Сибири Бакунин («самое длинное бегство в географическом смысле»), с прежней одержимостью готовый перейти к раздуванию революционного пламени всегда и повсюду. («Страсть к разрушению — страсть созидающая», — непременное повторение прежних призывов.)
Едва добравшись до Сан-Франциско, Бакунин спешит радостно оповестить друзей: «…только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей idée fixe с 1846…» Своими фантазиями и идеалами, своими заговорами и баррикадами он явно усугубит и так непростую ситуацию, хотя радость Герцена от головокружительной встречи с многолетним заключенным и отважным беглым каторжником бесконечна.
Герцен ожесточен. Его полемика на два фронта — с «желчевиками», «свистунами», «красными демократами» и напуганной либеральной интеллигенцией, готовой услужить власти, разъедает душу. Несомненно задет отношением Чернышевского, репутация которого очень высока. Критика «русских западников», упрекавших его в переходе на славянофильские позиции, стоит дорого. Такое словесное противоборство даром не проходит. В последнее время ему приходится читать свои мысли, искаженные или вовсе отвергнутые враждебной или «желчевой» критикой.
Трагические известия о расстрелах, смертях, арестах, приходящие отовсюду, страшно, трагически волнуют, а тут еще появившиеся угрозы — убить, уничтожить его, с кивком на тайную российскую «шпионницу».
Вздернутость ситуации, непомерный труд, когда почти в каждый номер «Колокола» приходится писать острые, разящие статьи и комментарии, не оставляют времени на обыденную семейную жизнь, да ее в общем и нет.
Глава 27
ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ СПЛОТИТЬ СЕМЬЮ
Сердце мое переломилось окончательно…
А. И. Герцен — Н. А. Тучковой-Огаревой
Частная жизнь приносила Герцену столько страданий, что те редкие моменты перемирия с Тучковой можно было принять за остановку в шаткой семейной гавани, от которой он настойчиво отговаривал своих взрослеющих детей.
Поддержка Огарева, его дружба, поражающая своей чистотой и бескорыстием, ответственность без вины виноватого, и все же берущего на себя груз этих непереносимых страданий, порой кажутся невероятными. Вот листает Николай Платонович корректуру отдельного издания «Былого и дум», ту главу, что о нем, о них, о святых Воробьевых холмах, и не может, «не перечитавши, отпустить последнего листа», — от него «повеяло такой весной». «Что мы остались верны друг другу и нашей святыне… от этого мы не состарились еще и можем работать», — пишет он однажды ночью. Письмо, возможно, Герцену и не отдаст. Но мысль, что он внес в жизнь друга такие «страсти и страдания», без которых тот «был бы светлее», что его «благословение» сближению с Натали возникло из «темного чувства личной свободы» и прочее, преследует его. Только узнав, что Наталья Алексеевна беременна, он испытывает «новый страх перед усложнением жизни». И только непомерная любовь к Лизе спасает его «от мучительного сомнения в собственной чистоте».
Десятого декабря 1861 года Тата Герцен уклончиво сообщает Марии Рейхель: «У Натали родилось двое детей, ты, верно, уже знаешь. <…> Во время ее болезни, я за Лизой смотрела, заменяла ей Натали». «…Мне так хотелось тебе писать и все рассказать, но в этом останавливало меня то, что я не могла послать тебе письмо, не показавши Папаше, а часто мне не хотелось, чтобы он его читал, потому что речь шла бы о самом Папаше и об других людях». Все вопросы о детях родители Натали, естественно, обращают к Огареву, и он с удовольствием пишет в Россию о счастливом их подрастании.
Рождение близнецов — Алексея и Елены ненадолго смягчило Тучкову. В 1866 году она записала: «Во всех моих несчастиях мне было послано от жизни несказанное утешение — в 1861 году родились 23 ноября мои близнецы „Лёля-boy“ и „Лёля-gerl“, так они звали себя сами — три года я не расставалась с ними…»
О появлении на свет близняшек пока знали немногие, хотя теперь было труднее скрыть, кто их отец. При регистрации рождения Алексея и Елены они были записаны как дети Огарева, хотя жизнь свою он устраивал заново.
Тучкова мало изменилась. Она металась, переезжая с детьми с места на место. Герцен и Огарев сбивались с ног, чтобы обеспечить ей максимальные удобства в ее постоянных перемещениях.
В ее письмах слышатся и раскаяния («я вас так мучу»), и новые упреки в нежелании Герцена официально признать их семью, и вполне практичные просьбы (о присылке денег и предпочтении «квартеры» с садом). Она не перестает выяснять и без того запутанные отношения с ними. Множество писем-исповедей, вопросов, обвинений и сожалений…
Герцен по-прежнему полон заботой о собственных взрослых детях. Они обязаны оставаться русскими и продолжить его дело. Не устает рассчитывать на Сашу. Главное — не утратить связи с Россией, не порвать семейной традиции. В этом — первая ему помощница Тата. Герцен чувствует ее художественную натуру и советует приняться за рисование.
«С каким-то религиозным трепетом» Герцен читает ей отрывок из «Рассказа о семейной драме» — о последних минутах ее матери, а присутствующая при этом Тучкова, так преданная памяти своей старшей подруги, вдруг прерывает чтение «дикой сценой». Герцен считает этот «перерыв, грубый, страшный, оскорбляющий детей», полным крахом его новых усилий сплотить семью.
Конфликт Натали с Герценом, его дочерьми и М. Мейзенбуг все более разгорается. За бурными сценами следуют новые угрозы немедленно ехать в Россию. В который раз, в горести и полной беспомощности, Герцен берется за письмо к ней, просит образумиться («Сердце мое переломилось окончательно»), готов бороться за младших детей, которых «отрывают» от него и Огарева. Он способен даже пойти на крайний шаг, думая открыть отцу Натали — А. А. Тучкову все тайны семейных отношений. Он требует у Саши «святой клятвы»: полностью сблизить старших детей с младшими, хотя бы после его смерти. Казалось бы, нет предела личной трагедии. Но главные несчастья еще впереди.
Глава 28
«НАШЕ ДЕЛО — РАБОТАТЬ». ГОД 1862-Й
…Незакрывающаяся рана на сердце…
А. И. Герцен — Е. В. Салиас де Турнемир
Пятилетие «Колокола» все же решили отпраздновать. Инициатива исходила от В. И. Кельсиева, личности крайне примечательной[164]. Этой весной 1862-го проделал Василий Иванович головокружительный бросок из Лондона в Москву и Петербург, причем с конспиративными целями по налаживанию контактов со старообрядцами, и, конечно, с чужим паспортом. Никак не обнаруженный русской полицией, встречаясь буквально перед ее носом с важными представителями старообрядческих общин, как ни в чем не бывало, предстал он перед Герценом в гордом сознании выполненного долга. И, конечно, со значительными амбициями уговорить Герцена на этот праздник, устройство которого Александр Иванович не слишком приветствовал. Повторял: не время, не время, стоит отложить. В России обстановка накалена. Да и соратники — друзья не особо сдержанны на язык (а бакунинская «болтовня» и вовсе таит угрозу). Неосторожного слова, реплики, жеста достаточно… И как в воду смотрел…
Собрались по подписке 1 июля 1862 года в дорогом ресторане Кюна. Герцен и прежде обедал там с приезжими и с друзьями. Известное заведение, да еще с отменной кухней (от которой не откажется и в дальнейшем, когда примет в доме Гарибальди), было взято на заметку тайными соглядатаями. При подобных сборищах всегда замешивался кто-либо из посторонних.
Особого оживления за обедом не наблюдалось. Среди приличествующих случаю тостов и анекдотов прорывались слова, что петербургский гость, приятель Кельсиева, Павел Александрович Ветошников, приехавший в Лондон по делам службы, готов взять с собой что-либо из необходимой пересылки в Россию. Конечно, это не укрылось от внимания давно следившего за домом Герцена тайного сотрудника Третьего отделения Перетца, которого держали за приятного и умного малого, импонировавшего присутствующим своими идеями и красноречием.
Шестого июля, в воскресенье, праздник продолжился. В обширном доме Герцена Орсетт-хаус (Orsett House), Вестборн Террас, куда он переехал еще осенью 1860-го, собралось еще более многочисленное общество. Ветошников, готовый завтра ехать в Петербург, конфиденциально повторил хозяину дома свое предложение. Из рассказа в «Былом и думах» можно заключить, что Огарев написал «несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу», а Герцен сделал не слишком осторожный постскриптум, где просил старого знакомца «обратить внимание Чернышевского» (к которому никогда прежде не писал) на возможность «печатать на свой счет „Современник“ в Лондоне».
Все письма были взяты у Ветошникова при его аресте еще на пароходе. Власти, понятно, были давно осведомлены. И документы, давшие толчок к возбуждению «Дела о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», ставшего «процессом 32-х», оказались в секретном правительственном архиве.
Огаревские «несколько слов» можно теперь прочитать как довольно обширную «беседу» со своим соратником Серно-Соловьевичем, с которым он не только делился основными положениями своей программы в трудный послереформенный период, но и давал практические рекомендации: «Мне кажется, что уяснить необходимость Земского собора становится делом обязательным. <…> Состоится ли он? Будет ли он сам чем-то переходным или действительно организует — как знать!» Особое внимание следует обратить на живую жизнь в провинциях: «Если у вас нет корня в провинциях — ваша работа не пойдет в рост. <…> Вы только в провинциях встретите народ. <…> Работайте в провинциях».
В предложении печатать «Современник» (после его временной приостановки распоряжением правительства от 15 июня 1862 года по старому стилю) не было ничего предосудительного, как считали издатели. Давно имелась в виду возможность печатания в Лондоне запрещенных российских журналов. Вопросы эти обсуждались неоднократно, и подобное оповещение появилось в «Колоколе», в листе 139-м от 15 июля 1862 года.
Бывалый конспиратор все же потерял бдительность, как сам позже терзался, позволив своему гостю Ветошникову захватить не только кипу писем, но издания Вольной типографии, и даже большую его фотографию работы Левицкого, которую отъезжающий неудачно завернул в газету. «Чтобы поблагодарить участников обеда», Герцен просил всех принять от него что-нибудь на память — и просчитался. «…Зачем мы писали?» Это «ослепленье» стоило Герцену слишком дорого. В Петербурге начались новые аресты.
Двадцать восьмого мая 1862 года в столице вспыхнули пожары, уничтожавшие целые кварталы. Месяц в столице выдался жаркий и сухой. Говорили о поджогах. Быстро распространявшиеся возмутительные листки не давали покоя Третьему отделению. Тогда же, в конце мая, в столицах появилась прокламация «Молодая Россия». Ее радикализм превзошел все предшествующие революционные призывы. Изданная под грифом несуществующего «Центрального революционного комитета», она вышла из-под пера организатора московского студенческого кружка П. Заичневского, уже отметившегося изданием в тайной литографии запрещенных сочинений, в том числе книг Искандера. Поднадзорный сумел переправить для печати свою зажигательную листовку прямо из-под носа своих стражей в Тверской полицейской части Москвы, где сидел под арестом.
Автор прокламации отвергал весь общественный и государственный строй России и рассматривал лишь единственный выход «из гнетущего страшного положения, губящего современного человека». «…Революция, революция кровавая и неумолимая, — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы… <…>С Романовыми расчет другой! Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей», — выкладывал свой яростный запал молодой нарушитель спокойствия.
Досталось и Герцену за отказ от революции, а «Колоколу» — за умеренность: он «не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их». Не признавались все «близорукие» ответы Герцена, призывающего звать не к топору, а к метлам.
1862 год пошел по опасной дорожке. Слухи о какой-то страшной прокламации захватили общество, да к тому же распространились одновременно с пожарами. «Молодая Россия» еще не появилась в Лондоне, а о ее зажигательном воздействии уже вовсю говорили. Стало ясным временное ослепление некоторой части общества, даже весьма приличных людей, поверивших в наветы на издателя «Колокола».
В одно не слишком прекрасное утро в доме Герцена появилась девушка, которую он видел едва ли «раза два», бурно требующая встречи с хозяином. Диалог с бывшей поклонницей его деятельности был явным сигналом «распаденья с общественным мнением, и притом в обе стороны», как посчитал Герцен после этого впечатляющего диалога, приведенного им в мемуарах.
«— Я только что воротилась из России, из Москвы; ваши друзья, люди любящие вас, поручили мне сказать вам, спросить вас… <…> Скажите, бога ради, да или нет, — вы участвовали в петербургском пожаре?
— Я?
— Да, да, вы; вас обвиняют… по крайней мере говорят, что вы знали об этом злодейском намерении.
— Что за безумие! И вы это можете принимать так серьезно? <…>
— Не знаю. Я затем и пришла, что не знаю; я жду от вас объяснения…
— Начните с того, что успокойтесь, сядьте и выслушайте меня. Если я тайно участвовал в поджогах, почему же вы думаете, что я бы вам сказал это, так, по первому спросу? Вы не имеете права, основания мне поверить… Лучше скажите, где, во всем писанном мною, есть что-нибудь, одно слово, которое могло бы оправдать такое нелепое обвинение? Ведь мы не сумасшедшие, чтоб рекомендоваться русскому народу поджогом Толкучего рынка!
— Зачем же вы молчите, зачем не оправдываетесь публично? — заметила она, и в глазах ее было раздумие и сомнение. — Заклеймите печатно этих злодеев, скажите, что вы ужасаетесь их, что вы не с ними… <…> Верьте мне, оправдывайтесь — или вспомните мои слова: друзья ваши и сторонники ваши вас оставят.
<…> В то время как приподнявшие голову реакционеры называли нас извергами и зажигателями, часть молодежи прощалась с нами, как с отсталыми на дороге».
В российской печати развернулась мощная пропагандистская кампания против лондонских «агитаторов». С того времени, как Герцен был назван изгнанником, «государственным преступником», его имя в России гласно не пропускалось. А тут объявился застрельщик, и всем известная, но скрытая фамилия зазвучала на все лады. Нападать на «Колокол» дозволялось официально. Творцом наветов, наговоров, клевет — в общем, инсинуаций всех оттенков стал вошедший в силу, одиозный Катков, продолживший свою целенаправленную атаку. Петербургские пожары объявлялись им делом рук молодежи, сбитой с толку революционными призывами. Деятельность «русских агитаторов, проживающих комфортабельно за морями», оценивалась как «те же поджоги»: «Или они так невинны, что не понимают, куда клонятся их манифесты?»
Если инсинуациям Каткова можно противостоять, то полный разлад с бесконечно дорогим другом Кавелиным пережить невозможно. Конечно, трудно спорили, временно расходились, но «личной дружеской связью дорожили безмерно». В книге Кавелина «Дворянство и освобождение крестьян» Герцен увидел попытку «создать из дворян класс привилегированных землевладельцев», «просвещенной бюрократии» («и это в то время, как дворянство летит под гору — рассыпается в прах»), и это в то время, как обличение русского чиновничества и дворянства, «доктринеров-бюрократов и бюрократов-кнутинеров», препятствующих начавшимся преобразованиям, остается неизменным гражданским долгом и привилегией «Колокола». Герцен был потрясен и нескрываемым пренебрежением Кавелина к народу: «Народ русский — скот и выбрать людей для земства не умеет, а правительство — умница, все знает — и какую реформу куда поставить, и кого выбрать…» Он должен был ответить.
Герцен не согласится с разъяснениями Кавелина в его частном письме, хотя общее у них главное — ненависть к революционному террору. Он считает ошибочным его памфлет, просит от него отречься, не хочет больше видеться с «сбившемся», но близким другом. И это для обоих непомерное горе. Кавелин отвечает Герцену на его письмо от 15 июня: «…для меня свидание с тобою есть дело сердца, воспоминаний, я готов почти сказать поклонения, хотя мы и стоим на разных дорогах. Повторяю, я думаю, что нас разделяют средства, а не цели… мысли твои, которые ты бросаешь мимоходом… кажутся мне программными на века».
Дружба, рухнувшая из-за идейных расхождений, — примеров такой тяжелой практики для просвещенных представителей интеллигенции герценовского времени больше, чем достаточно. Герцен, как сам сожалел, «схоронил Грановского — материально… Кетчера, Корша — психически…». Ушли К. Аксаков и братья Киреевские, «и нет этих „противников, которые были ближе нам многих своих“». И ко всему, Кавелин, этот «последний представитель московской эпохи, второй юности», которому он посвятил одну из лучших своих работ — «Роберт Оуэн», и тот потерян, и тот должен быть «прихоронен».
В начале июля «Молодая Россия» получена в Лондоне, и у Герцена есть возможность выступить публично. 15 июля «Колокол» публикует статью «Молодая и старая Россия». Не слышащему его обществу еще и еще раз необходимо повторить: с идеями прокламации он расходится. Авторы ее — «фанатики собственных идей», народа русского не знают и не хотят понять — никто не схватится за топор во имя абстрактных социалистических идей. «Нерасчетливо и вредно пугать» переворотами, — повторит он через месяц свое отречение, свое страстное предостережение от насильственных потрясений в статье «Журналисты и террористы».
Катков снова и снова нападает на Герцена, теперь в «Русском вестнике», ставшем привилегированной территорией для сокрушительного обличения бывшего своего приятеля, а ныне заклятого врага. В ответ на «Письмо гг. Каткову и Леонтьеву», появившееся в «Колоколе», Катков в «Заметке для издателя „Колокола“» обрушивается дикой бранью на «генерала от революции», «бойкого остряка и кривляку» (количество презрительных дефиниций растет в русской прессе день ото дня). Этот «подстрекатель к кровавым преступлениям» «юношей-фанатиков», который был до последнего времени «для русской литературы неприкосновенною святыней», этот распространитель «социалистических бредней с того берега», обвинен Катковым во всех смертных грехах, в том числе и в прямом подстрекательстве к пожарам.
Герцен, как всегда, держит удар. Передовая российская общественность негодует. «Хищническим набегом на честь» называет анонимный автор «Отечественных записок» (1863, № 3) недопустимость выражений, типа «старые блудницы», «исписавшиеся остряки» и прочее, используемых Катковым в своем обличительном раже. «Это значит, — обобщает рецензент, — что сказать ничего больше они не умеют».
Непозволительный тон катковской статьи многими, даже умеренными читателями, не принят. Катков в нужный правительству момент, понятно, проявляет предусмотрительную ловкость. Даже его «Заметка…» набирается в типографии «такими клочками, чтобы наборщики не могли сообщить ничего студенчеству университета…» — свидетельствует современник.
Тревоги и страхи, охватившие русское общество, еще более усугубляют разъединение даже его просвещенной части. Некоторые, в том числе и Достоевский, оценивший глупость и ничтожность революционного листка, тем не менее видят в «Молодой России» декларацию радикалов, «нигилистов», уже выведенных Тургеневым в только что вышедшем его романе «Отцы и дети». Раздаются голоса за и против Базарова. Достоевский считает необходимым остановить радикальную молодежь, для чего даже отправляется к Чернышевскому, в надежде на его непререкаемый авторитет в этих кругах[165]. Уверен: он может повлиять на события.
Герцену припоминают все, даже прежние, брошенные вскользь, вырванные из контекста его высказывания (такие, к примеру, как в «Тюрьме и ссылке» о революционной силе воздействия пожара). Агенты Третьего отделения сбиваются с ног, пополняя списки навестивших Герцена. В связях с Герценом подозревают многих русских литераторов и деятелей культуры, не говоря об обычных сочувствующих, желающих выразить свое восхищение деятельностью лондонских редакторов. Наблюдение возле дома Герцена усиливается. В обширные списки тайной полиции конца июля 1862 года внесены лица, отныне подвергнувшиеся не только пристальной слежке, но, возможно, и будущему аресту. Среди них музыкальный критик В. В. Стасов, композитор Н. Г. Рубинштейн, писатель А. Ф. Писемский и многие, многие известные лица.
Девятнадцатого мая Герцен, еще в России оценивший талант автора «Бедных людей», постоянно следивший за всеми новинками русской литературы, спрашивал у Тургенева: «Напиши, пожалуйста, где найти мне Достоевского воспоминания о каторге». Через два дня нетерпеливый вопрос уже превращался в просьбу-приказ — прислать «Записки из Мертвого дома».
Не успел еще Иван Сергеевич ответить, как в Лондоне появился сам Достоевский. Первое впечатление после столь долгого перерыва в отношениях передано в письме Герцена Огареву от 17 июля: «Вчера был Достоевский, он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек». Оттиск из журнала «Время» с разыскиваемыми «Записками» тут же поднесен автором «Александру Ивановичу Герцену в знак глубочайшего уважения…». Еще через пару дней, при втором свидании, Герцен подарит именитому гостю свою фотографию с надписью: «В знак глубочайшей симпатии от Герцена. 19 июля 1862 года».
Достоевский не останется в долгу. На следующий день, при третьей встрече, Федор Михайлович подпишет свою фотографию Александру Ивановичу «в память нашего свидания в Лондоне 8/20 июля 1862 года»[166].
Пережив эшафот и ссылку, Достоевский достаточно осторожен, и полиции, даже не знавшей о третьем его посещении лондонского отшельника, не к чему придраться.
В июле при обыске в Ясной Поляне в отсутствие Толстого будут захвачены старые письма Тургенева, а в них обнаружатся явные свидетельства о «коротких отношениях» Льва Николаевича с лондонским изгнанником. Вскоре и Тургенев будет вызван на следствие в Петербург по сколачиваемому тайным сыском «делу о лондонских пропагандистах».
На фоне всего происходящего в Петербурге, окрашенного заревом пожаров, в «Колоколе» начинается полемика двух давних друзей, выразившаяся в их незатихающем споре о судьбах России и Запада. Судя по всему, «и Тургенев дышит на ладан», в идейном, конечно, смысле. Герцен склонен и его, как Кавелина, вскоре «прихоронить». Тургенев, без сомнения, двойствен, переменчив и податлив, но в своих сочинениях гениально прозорлив, улавливает и воздух, и гарь, и дым каждой, вновь открывающейся для России эпохи. Печатается у Каткова, восхищается антикатковскими выступлениями «Колокола», и у Герцена нет ни минуты сомнений, что друг не сможет «апробовать говнословие Каткова» («но все же весело его прочесть», — бросает он в письме старому товарищу).
После майского визита Тургенева Герцен решает ему писать «авангардное письмо». Долгое продолжение возобновленного разговора займет многие страницы в «Колоколе». С 1 июля 1862 года, и на протяжении более полугода, Герцен печатает восемь писем, озаглавленных «Концы и начала». Первое из писем пишется в период их полного расхождения с Кавелиным и поэтому включает в себя некоторые идеи, связанные с общей позицией и Кавелина, и Тургенева.
Двадцать второго августа Герцен спрашивал друга, читал ли он послания к нему, «доволен ли ими, али прогневался…». Тургенев отвечал с готовностью начать полемику в «Колоколе», но остерегся, так как получил «официальное предостережение не печататься» в Лондоне. Недалек час вызова парижского жителя в Петербург, в Следственную комиссию. В полемическом противостоянии Герцена помогли частные письма Тургенева, включенные в тексты «Колокола», порой почти дословно и, естественно, анонимно.
После революции 1848 года Герцену особенно претит «мещанская цивилизация» Запада. Ему ненавистен буржуа, лавочник, рантье, «за цене стоящий». Он в поисках особенного русского пути. Уже прорастает зерно его веры в благодетельность русской общины. Спор о буржуазии, переросший тогда, на удивление друзей-западников, в демарш Герцена против «больной» Европы, затягивается надолго.
Не уготован ли западный путь для России? Время пришло дать ответ. Собственно, речь идет о российских «началах» и европейских «концах». В Европе, уверен Герцен, — одни «концы». А как же Маццини, Прудон, все выдающиеся деятели прошедшей эпохи, которыми жива память о революционной Европе? Они фантасты, фанатики и идеалисты, они «титаны, остающиеся после борьбы». «Они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войска…» Они — «Дон-Кихоты революции»[167]. Герцен приводит свою известную формулу. В революцию он давно не верит.
Герцен оппонирует своему идейному противнику, убежденному в том, «что если русские принадлежат к европейской семье, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами…».
«Общее происхождение, — полагает Герцен, — нисколько не обусловливает одинаковость биографий». «…Я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится, и, достигая которого, она, вероятно, пройдет и мещанской полосой, — пишет он в заключительном восьмом письме. — Может, народы европейские сами перейдут к другой жизни, может, Россия вовсе не разовьется, но именно потому, что это может быть — может быть и другое». Так в постоянном, недогматическом поиске верного пути развития России Герцен допускает возможность вариаций.
Из мощного спора всемерно уважающих друг друга старых товарищей выделяются главные темы этого колоссального диалога, не потерявшего своей злободневности. В запасе спорящих — Герцена и его «оппонента», образа собирательного, такой интеллектуальный запас, такое воображение и знание, такая смелость фантазии и неумеренность аналогий, ассоциаций, образов, что не грех представить отдельные фрагменты этого непростого разговора.
«Оппонент:
— Выслушайте меня покойно, без авторского самолюбия, без изгнаннической исключительности — к чему вы все это пишите?
Герцен:
— На это много причин. Во-первых, я считаю истиной то, что пишу, а у каждого человека, неравнодушного к истине, есть слабость ее распространять.
Оппонент:
— Нет. Вы должны знать публику, с которой говорите, ее возраст, обстоятельства, в которых она находится. Я вам скажу прямо: вы имеете самое пагубное влияние на нашу молодежь, которая учится у вас неуважению к Европе, к ее цивилизации…
Герцен:
— <…> Подумайте лучше, сколько веков люди безбожно лгали с нравственной целью, а нравственности не поправили; отчего же не попробовать говорить правду? Правда выйдет нехороша, пример будет хорош. С вредным влиянием на молодежь я давно примирился, взяв в расчет, что всех, делавших пользу молодому поколению, постоянно считали развратителями его, от Сократа до Вольтера, от Вольтера до Шеллея [Шелли] и Белинского. К тому же меня утешает, что нашу русскую молодежь очень трудно испортить. <…>
Оппонент:
— Правдой!.. Да позвольте вас спросить, правда-то ваша в самом ли деле правда? <…> Вас не убедишь — и знаете почему: потому что вы отчасти правы. <…> Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей неперебродившей социально-славянофильской брагой, бродит потом, отуманенная и хмельная, пока себе сломит шею или разобьет нос об действительную действительность нашу. <…> Неотразимые факты вам обоим нипочем.
Герцен:
— <…> Какие же это несомненные факты?
Оппонент:
— Бездна.
Герцен:
— Например?
Оппонент:
— Например, факт, что мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе к европейской семье, genus europaeum[168], и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге.
Герцен:
— <…> Уж такой неизменный закон физиологии: принадлежишь к genus europaeum, так и проделывай все старые глупости на новый лад; что мы, как бараны, должны спотыкнуться на той же рытвине, упасть в тот же овраг и сесть потом вечным лавочником и продавать овощ другим баранам.
Пропадай он совсем, этот физиологический закон!»
Герцен уверен, что «пора стать на свои ноги, зачем же непременно на деревянные — потому что они иностранной работы? Зачем же наряжаться в блузу, когда есть своя рубашка с косым воротом?».
Говоря о «европейских концах», Герцен всегда имеет в виду «начала».
«Но в чем же эти начала?»
Герцен повторял их не раз, создавая свою теорию общинного социализма, будущего социально-справедливого общества. Написал множество работ на эту тему (вспомним, «С того берега»), и в своих утопических упованиях на народные начала (искал их бесконечно) так и не достиг искомой истины в этом вечном вопросе.
Клеветническая кампания против Герцена между тем набирала силу. Теперь все кому не лень ополчились против «лондонского короля». «Почти все, владеющие пращою в русской журналистике, явились один за другим на высочайше разрешенный тир и побивают нас… — пишет Герцен в статье „Журналисты и террористы“ (лист 141 от 15 августа). — По счастью, у иных рука не верна, словно дрожит от волнения, от угрызения совести, от воспоминаний; другие нарочно пускают мимо, а третьи бросаются грязью, это очень гадко, но не больно».
Неизменно слышатся анонимные крики — доносы, не оставляющие в покое Третье отделение: избавьте нас от Чернышевского и Герцена и от их разрушительной деятельности. Чернышевский признается врагом, еще более опасным, чем Герцен.
Статья Чернышевского «Научились ли?» в майском «Современнике» 1862 года — последняя его публикация перед приостановкой журнала на восемь месяцев. «Мера эта составляет часть того общего рода действий, который начался после пожаров…» — напишет он Некрасову.
Министр внутренних дел П. А. Валуев в письме царю настаивает на самых решительных, «энергических правительственных распоряжениях»: «Разве не достаточно для задержания известных личностей факта их общественных отношений к Лондону…» Подобный повод нашелся быстро, и дело сфабриковано.
Седьмого июля Чернышевский арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Туда же из Третьего отделения доставляют Н. Серно-Соловьевича, Ветошникова и др. Ранее взяты В. А. Обручев, соратник Чернышевского по «Современнику», и восходящая звезда критик Дмитрий Писарев, талант которого позволил поставить его на один уровень с покойным Добролюбовым.
Через несколько месяцев Чернышевский и Серно-Соловьевич предстанут перед Следственной комиссией, возглавляемой тем же «junior'ом», «младшим» князем А. Ф. Голицыным, который и через 28 лет после разбирательства «дела» Герцена во второй Следственной комиссии 1834 года хоть и утратит «молодое» свое прозвище, но также усердно исполнит функции «отборнейшего из инквизиторов». Давний опыт усердного поиска зажигателей и фабрикации дел опять пригодился.
Герцен, коря себя за трагический просчет с организованной в Orsett House вечеринкой, 21 августа 1862 года напишет давней их с Огаревым приятельнице Е. В. Салиас де Турнемир, ставшей знаменитой писательницей Е. Тур: «В России террор — но ведь его надобно было ждать. Страшно больно, что С[ерно]-С[оловьевича],Чер[нышевского] и других взяли — это у нас незакрывающаяся рана на сердце…»
Незаживающих ран впереди — множество. Начало «апогея» вольного словоизлияния вскоре обернется «перигеем» конца. Кровавые раны польских событий навсегда изменят мощное влияние Вольной печати, приумерят звуки набатного колокола. 1863 год приблизит Герцена к спаду его издательской деятельности, окончательно разведет даже с теми, кто числился в его потенциальных поклонниках, сочувствующих, заинтересованных и немногих оставшихся друзьях. Почти все отпрянут от него.
Глава 29 ПОЛЬША. ГОД 1863-Й
Начинаете ли вы новую эру независимости и развития, заключаете ли вашей смертью вековую, беспримерную борьбу — вы велики.
Искандер. Resurrexit![169] «Колокол», 1 февраля 1863
Двадцать первого марта 1863 года происходит событие, по меньшей мере, фантастическое. Этим весенним днем застаем Александра Ивановича в числе провожающих на платформе железной дороги, не только свидетелем, но и участником шумной сцены — торжественного отбытия польской повстанческой экспедиции.
Саша Герцен, все же склоненный отцом на решительные поступки и участие в конспиративной деятельности общества «Земля и воля», здесь же, рядом. Он отправляется дальше в порт Саутенд, до парохода «Ward Jackson», который в ночь должен выйти к берегам Скандинавии. Поставлена задача — взять в Гельсинборге на борт Бакунина и всем высадиться в Литве. Цель — подмога польским повстанцам.
Приготовления экспедиции шли так тайно и тихо, что слух о «дальнем пути» не замедлил распространиться. Когда назначенный час встречи собрал на платформе вокзала множество «будущих воинов», «искренно любящих Польшу», и всякого сорта кричащих женщин, «неутешных Дидон» (как Герцен позволил себе позже выразиться при описании этой трагикомической сцены «исхода»), выяснилось, что даже самое начало отбытия экспедиции не подготовлено.
Тяжелый польский вопрос ложился грозной тенью на искреннего поборника польской свободы.
Хорошо известно, как Герцен последовательно и бесстрашно выражал свою позицию в отношении Польши. Отстаивал полную, безусловную ее независимость, освобождение от России и Германии, призывал к братскому единению русских с поляками. И, наверное, он был одним из первых русских, требовавших для Польши полной независимости после кровавых событий весны 1861 года. «Мы видим в вас и мы приветствуем в вас первого русского, требующего для Польши… совершенной ее независимости…» — писал Герцену видный польский публицист — эмигрант Ю.-Б. Островский в мае 1861 года.
Это дружеское расположение Герцена к польскому народу было проверено опытом ссылок, встреч, симпатий, постоянного общения с поляками и подкреплено глубокой благодарностью за их помощь в открытии Вольной русской типографии. Поддержка Герценом многолюдной демонстрации, расстрелянной 8 апреля 1861 года, еще более укрепила это единение и вызвала бурные отклики по миру.
Гарибальди через «Колокол» просил передать «слово сочувствия от народа итальянского несчастной и героической Польше». Восхищался смелостью русских офицеров, не обагривших руки «в крови народа», и приветствовал Герцена за его отважную позицию на его безбоязненном поприще. После статей в «Колоколе» («Mater dolorosa» и др.) слышались слова одобрения и симпатии к благородному деятелю России, но их перебивала жестокая брань в рептильных журналах. Даже многие сочувствующие Герцену вообще не советовали вмешиваться в польские дела.
В ответ на письмо Прудона Герцен размышлял о вопросах, кажущихся ему основополагающими: «Я очень далек от восхищения исключительным национализмом; шовинизм во всех своих формах смехотворен; меня приводит в ужас аннексионистский и эгоистический патриотизм, и мы во всеуслышание проповедуем отделение Польши от России».
Бурное включение в «дело» Бакунина, сразу же после его возвращения уже в 1862 году, выявило глубину его разногласий с издателем «Колокола». Пропагандистская идеологическая деятельность Герцена накануне Польского восстания никак не устраивала неутомимого борца, приверженного к «практическому» направлению. «Колокол» представлялся ему как руководящий центр заговорщической работы среди славянских народов, а Герцен оставался при своем убеждении, что не из-за границы надо руководить русской революцией. «Быть третьим» в союзе с лондонскими издателями Бакунин допущен не был. Однако Огарев все более солидаризировался с позицией Бакунина; считал, «что мы по мере сил и возможности должны принять непосредственное участие в польском восстании, так как оно есть восстание против нашего общего врага — русского императорского государства».
Восстание, намечавшееся Центральным национальным комитетом Польши на весну или лето 1863 года, грянуло внезапно. Январский рекрутский «подтасованный» набор, произведенный с целью нейтрализовать революционно настроенную молодежь, переполнил чашу терпения и вызвал преждевременное выступление поляков. В январе неподготовленная Польша «загорелась со всех сторон», но Герцен при всем сочувствии к польской свободе прекрасно понимал ее обреченность. Не было реальных сил ни для обеспечения русско-польского союза, ни для всероссийского крестьянского восстания, которое связывалось с польским выступлением ввиду окончания двухлетнего срока для введения в действие Положения 19 февраля.
Когда же «сила литературной пропаганды» восстания, на которую уповал издатель «Колокола», исчерпала свои возможности, он, несмотря на разномыслие с друзьями, не мог не пойти с ними по одной дороге в деле практической помощи соседям. Не мог не поддержать Огарева.
Вот тогда-то, в марте 1863 года, Герцен и включается в активную помощь Польше — всеми возможными и даже чрезвычайными средствами, кажущимися фантастическими. Вот тогда-то и снарядилась морская повстанческая экспедиция для поддержки Польского восстания.
Под руководством заграничного представителя Варшавского национального комитета И. Демонтовича и полковника Ф. Лапинского Огарев и Герцены, сын и отец, принимают участие в самой «деятельной и живой» ее подготовке. Огарев полагает, что «польская революция действительно удастся, если восстание польское перейдет соседними губерниями в русское крестьянское восстание». Тем более что в 1863 году кончается срок подписания уставных грамот и крестьянство должно выразить свое недовольство. Герцен не слишком верит в подобное развитие событий, но содействие повстанцам кажется издателям делом святым.
Сложившийся сценарий практической помощи восставшим был легко нарушен. За продвижением парохода «Ward Jackson» установлена слежка. Кораблю русского морского флота приказано «выступать» и следить за мятежным пароходом.
Конспиративная бакунинская «карусель» завертелась. Он, как всегда, инструктировал: Саше связаться с «серьезными финскими патриотами», организаторами будущего тайного общества. В письменных поручениях ему давались противоречивые рекомендации. Шли телеграммы и письма о помощи, о налаживании связей и пропаганды через Финляндию и Петербург. Насаждались слухи, что существующая в России тайная организация вступится за поляков и пр., и пр. Бакунин был в своей стихии. «Конспираторские страстишки» друга, как иногда грустно подшучивал Герцен, разгорались не на шутку.
Конспирация, в самом деле, подкачала. Польский транспорт с оружием был перехвачен. Капитан «Ward Jackson» был подкуплен и в Копенгагене исчез. Новый капитан прямиком привел судно в порт Мальмё, где оно и было интернировано. После провала экспедиции, бывшей отчаянной попыткой помочь восставшим, Герцен ставил Бакунину в вину, что в дело экспедиции он посвятил людей посторонних. Да и некоторые поляки выдвинули обвинения против него.
Несмотря на пессимистические перспективы развернувшегося восстания, «Колокол» продолжал оказывать всемерную поддержку «братьям полякам»: «…погибните ли в ваших дремучих мицкевических лесах, воротитесь ли свободными в свободную Варшаву, мир равно не может вам отказать в удивлении. Начинаете ли вы новую эру независимости и развития, заключаете ли вашей смертью вековую, беспримерную борьбу — вы велики».
Герценовская газета постоянно вдохновляла восставших, разоблачала преступления царского войска, поддерживала польских руководителей, воздавая дань памяти героически павшим в сражениях. Узнав о казни в Вильно Сигизмунда (Зыгмунта) Сераковского, офицера русской армии, возглавившего восстание в Литве, Герцен первым откликнулся в «Колоколе» статьей «Польский мартиролог».
Русскому другу, «одному из главных учредителей русского офицерского комитета в Польше» Андрею Афанасьевичу Потебне, возглавившему отряд и пожертвовавшему жизнью ради общей свободы, Герцен посвятил страстный некролог: «Чище, самоотверженнее, преданнее жертвы очищения Россия не могла принести на пылающем алтаре Польского Освобождения».
Точка зрения Герцена по польскому вопросу, давно заявленная, предопределила массовую реакцию русского общества на все совершавшееся в Польше.
И. С. Аксаков, в силу своих славянофильских воззрений всегда уважавший искренность убеждений Герцена, сожалел о его союзе с врагами России — поляками, с которыми он празднует «варфоломеевскую ночь Польши», с Бакуниным, «изменником русскому народу». Он призывал издателя «Колокола» к раскаянию, обвиняя его в «возбуждении юношества воззваниями, фальшивыми манифестами».
Кавелин писал Огареву: «Я… разойдясь с Вами, сохраняю воспоминание о прошедшем и берегу его под старость лет».
Особенно яростно в отношении к Польскому восстанию выступили Катков, глашатай «патриотического остервенения», и армия его пособников — «катковистов», одержимо нападающих на Герцена и его газету.
«„Колокол“-то вы порешили, — сокрушенно говорил Александру Ивановичу его искренний приверженец и корреспондент Петр Алексеевич Мартьянов. — Что вам за дело мешаться в польские дела… Поляки, может, и правы, но их дело шляхетское — не ваше».
«Пророчество», в которое было трудно сразу поверить, вызвало у Герцена тяжелые сомнения: может быть, «что-то ошибочное сделано».
После провала экспедиции, гибели А. А. Потебни, нарушения связи с руководителями «Земли и воли» Герцен все больше убеждался в слабости тайной организации, на которую сильно рассчитывали Бакунин с Огаревым в своих надеждах на русскую революцию. Расхождения с Огаревым обозначились так резко, что Герцен с болью в сердце решил ему написать.
Двадцать девятого апреля 1863 года он объяснял другу свою позицию: их сила, их дело — «бескомпромиссная пропаганда в „Колоколе“». «Веря в нашу силу, — писал Герцен, — я не верю, что можно произвести роды в шесть месяцев беременности, а мне кажется, что Россия в этом шестом месяце. <…> Дай мне не готовую силу, а дай ощупать живой зародыш, — конечно, живой зародыш носится в общем состоянии: носится в гении народа, в направлении литературы, в реформах и пр. — но где он до той степени сложился и обособился, как… ты находишь в „3[емле] и в[оле]“? Я этого не вижу».
В «обвинительном» письме Бакунину от 1 сентября 1863 года Герцен жестко выговорил ему за всё: за ошибки в польском деле, за беспочвенную болтовню, погубившую не одного человека, за неумение «не выдать тайны», за нескрупулезность в финансах, «с долей тихенького, но упорного эпикуреизма и с чесоткой революционной деятельности, которой недостает революции», за чрезмерные, несправедливые нападки на Сашу… Конечно, виноваты все. Но от многого он ведь предостерегал.
Скрепя сердце Герцен должен признать в этом частном письме, что польское дело — «не наше дело — хотя и правое относительно», что польский союз был невозможен, но и любые попытки остановить друга тоже были излишни. «Ты брат — стихия, — обращался он к Бакунину, отношения с которым и после таких серьезных обвинений еще не разорваны, — солому ломишь, как тебя остановить?»
Русские еще приезжали к Герцену. Но слышались все чаще упреки и сетования за поддержку Польши. Он, по свидетельству Тучковой, «отвечал резко, что гуманность — его девиз, что он всегда будет на стороне слабого и что он не может ценой неправды купить сочувствие соотечественников». Забыть историю с расстрелом мирной польской демонстрации в светлый день празднования освобождения крестьян Герцен никак не мог.
К концу 1863 года стало совершенно ясно, что ждать в России революционного подъема нечего. Даже самоликвидация «Земли и воли» в марте 1864-го ни в чем не убедила Бакунина и Огарева, не остановила их продолжающейся активности. Для них открывались новые горизонты борьбы. На политическую арену вместо «старой», дворянской эмиграции пробиралась «новая», «разночинная», отличавшаяся не только своим социальным происхождением, манерой жить и мыслить, но, в конце концов, неприятием устаревших, как они настаивали, идей Герцена и К°. Герцен оставался один.
Ситуацию с «Колоколом» теперь можно было вполне обозначить как дальнейшее угасание деятельности, резкое падение прежнего влияния. Тираж газеты с 2,5–2 тысяч сошел на 500 и более тысячи никогда больше не поднимался.
Глава 30 НЕПОПРАВИМОЕ
Начали светло, широко, а оканчиваем темно, глубоко.
А. И. Герцен — московским друзьям
Время, когда Лондон притягивал как магнит, прошло. Никому из русских в голову не приходило вот просто так, чтобы только посмотреть на Герцена, пожать ему руку, явиться к уважаемому патриарху. Однако для некоторых западных друзей и поклонников он оставался непререкаемым авторитетом и символом свободной России.
В апреле 1864 года случилось событие историческое.
В Лондон приехал человек, о котором наперебой писали все газеты, а радостная толпа, восторженно приветствующая его, устроила ему поистине «королевский въезд» в столицу. Мало найдется личностей столь любимых и оцененных народами, как этот «невенчанный король», этот простой рыбак, сделавший столько для объединения Италии.
Пути Герцена и Гарибальди уже не раз соединялись, и 17 апреля 1864 года они скрестились вновь в герценовском доме в Теддингтоне. Праздник в честь могучего вождя, «живого воплощения» великих идей: свободы народов, их союза, сопровождаемый тостами Маццини, Гарибальди и всех присутствующих, «удался необыкновенно». Он был самым светлым воспоминанием Герцена последних лет. И в памяти его остались слова Гарибальди, воспроизведенные им через пару недель в отчете «Колокола»: «За юную Россию…», «За новую Россию, которая, раз одолев Россию царскую, будет очевидно в своем развитии иметь огромное значение в судьбах мира»; запомнилось и обращение к нему Маццини: «За тех русских, которые вслед за другом нашим Герценом наиболее трудились для развития этой России».
Соотечественники, в лучшем случае, хранили полное равнодушие к своему выдающемуся соплеменнику. Теперь не важно было: «Что-то скажет Герцен?» В общественном мнении, с оглядкой на издателя «Колокола», всегда витал прежде этот вопрос. Теперь общество перестало деятельно прислушиваться к лондонскому затворнику. Заговорили «дети», молодое поколение, оказавшееся в эмиграции. Появлялись новые лидеры, крайне амбициозные в своих притязаниях на преимущественное влияние. Лондон эмигрантов более не привлекал. Они в основном сосредоточились в Швейцарии — в Женеве и Цюрихе, в Германии — в Гейдельберге и Карлсруэ, и в меньшей степени — в Италии и во Франции. Эта молодежь воспитывалась на сочинениях Чернышевского и Добролюбова и считала себя их учениками и последователями.
Жить в Лондоне становилось все труднее. Типография не приносила доходов, дороговизна жизни росла. При сложившихся условиях у Герцена возникла мысль перенести свою типографию ближе к России, на континент. Поездка, им предпринятая осенью 1863 года, укрепила желание. Во Флоренции он попал в благожелательную среду русской эмигрантской колонии, а в Женеве, на совещании со старыми и новыми знакомцами, окончательно уверился в необходимости такого шага.
А. А. Слепцов уже принял на себя главную роль в «Земле и воле»; Л. И. Бакст, отметившийся в студенческом движении столицы, эмигрировав, занимался делами типографии в Берне, к тому времени свернутой; В. И. Касаткин, страстный библиофил и большой поклонник Герцена еще до эмиграции, готов был включиться в их совместную работу.
Тем не менее переезд на континент при всех колебаниях и противодействии Огарева совершился не в мае 1864 года, а лишь в середине марта следующего года, и не в Лугано, как было договорено, а в Женеву.
Почему такая отсрочка? Герцен сильно колебался, чувствовал, что «молодая эмиграция» не прочь прибрать к своим рукам «Колокол», а заодно весь наработанный за долгие годы материальный и моральный багаж. Мысль о соединении в единое предприятие бернской и лондонской типографий действительно возникала у молодых, но Герценом была отвергнута, что не исключало материальной поддержки из Лондона. Кое-какие листовки и книжки даже сошли с бернского станка. Отдельной книжечкой были напечатаны в 1863 году «Концы и начала». Причем умелая маскировка выходных данных с указанием на несуществующего издателя в каком-то неведомом норвежском местечке была лишь вынужденной уловкой для удобного распространения в России заграничных изданий. Увы, спрос на подобную литературу катастрофически падал.
В этом же году в среде русской эмиграции появились новые люди. Особенно заметным стал приезд, а скорее, бегство из России, члена «Земли и воли», вершившего в Петербурге важные дела еще со времен студенческих волнений, — Н. И. Утина. Фигура Николая таила большую загадку и даже некоторое предостережение. «Находчивый Утин», без меры энергичный, «с диктаторскими замашками» и резкими мнениями, желающий играть руководящую роль в каждом предпринимаемом деле, по отзывам его товарищей по партии, еще в России нажил себе «если не явных врагов, то людей, которые могут покинуть его при первом остром случае».
Скрывшийся от преследования, вовремя предупрежденный о ближайшем аресте, он появился в Лондоне и был радушно встречен Герценом. Просьба Утина: оповестить ЦК «Земли и воли» в «Колоколе» «об успешном исходе своего путешествия» была Герценом удовлетворена (15 августа 1863 года). Однако предложение издателя сотрудничать не встретило понимания. У молодого человека были далекоидущие планы.
Возможно, первое недовольство Утина вызвало нежелание Герцена печать его статьи на страницах «Колокола». Таланта явно не хватало, амбиций было больше чем достаточно. Утин не сомневался, что «Колокол» и вообще издательство Герцена из личного дела лондонских редакторов должно превратиться в дело общеэмигрантское, «совокупное», с новой программой действий.
Впрочем, Герцен решился напечатать только одну его статью. Отказать было трудно. Статья посвящалась Чернышевскому.
«Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение!» 15 июня 1864 года «Колокол» напечатал собственную заметку издателя. Искандер гневно обрушился за «безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение». Передавая слова очевидца о гражданской казни Чернышевского, свершившейся теперь «белым днем», Герцен заключал: «Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, — а вы, а Россия на сколько лет остаетесь привязанными к нему?..»
Переезд Утина в Швейцарию и его убежденность в общей работе, для чего Огареву летом 1864 года была переслана программа преобразования, заставили Герцена испытывать все большее недоверие к подобным узурпациям. Разлад в среде эмиграции, сплетни, интриги, усиливающаяся критика в его адрес еще более настораживали. Некоторые лица, бесцеремонно являвшиеся к Герцену, даже требовали от него полного подчинения. Переезд оттягивался, и Утин считал возможным убеждать более податливого Огарева, хоть и противящегося переезду, — поторопиться.
Бывший недоучившийся студент историко-филологического факультета отличался даром слова, умел увлекать других, но ни серьезные задатки агитатора и, несомненно, будущего деятеля не прибавляли «дальновидности суждения» и искреннего чувства «всецело отдаться известной идее», как позже полагал товарищ Утина по партии Л. Ф. Пантелеев.
Желание эмиграции подмять под себя пропаганду Герцена и решительный отказ издателя заставили женевскую молодежь думать о новом журнале. Не остался без внимания и денежный вопрос, всегда служивший камнем преткновения между Герценом и «молодой эмиграцией». Утин писал Герцену, непрозрачно намекая на основанный издателем «Колокола» «Общий фонд»: «Ваш карман слишком уже достаточно служил общему делу. Мы хотели бы все принять равную долю участия и на себя…»
Усилиями Утина и других эмигрантов для решения поставленных вопросов в Женеве созывается съезд, не собравший и двадцати человек. Туда прибывают: обосновавшийся в флорентийской эмигрантской колонии Л. И. Мечников, брат известного ученого, волонтер гарибальдийского войска, будущий публицист, уже сотрудничавший в «Колоколе»; А. А. Серно-Соловьевич, А. А. Черкесов, близкий друг и неразлучный его спутник, прекрасно осведомленный в издательском деле; возможно, Бакст, заинтересованный в налаживании работы бернской типографии. Герцен указывает в письмах о приезде Касаткина, В. Ф. Лугинина (сына богатейшего помещика, окончившего артиллерийскую академию и после отставки занимавшегося в Гейдельберге химией). Присутствие Саши Герцена, также участника переговоров, несомненно служит одним из поводов не игнорировать съезд. Герцен решает ехать.
Накануне открытия женевского созыва, в новогодней статье «1865» он пишет, а по сути, осведомляет представителей «молодой эмиграции» о своей неизменной позиции: «Мы продолжаем свой путь, а не вступаем в другой. „Колокол“ остается, чем он был — органом социального развития в России. Он будет, как прежде, против всего, что мешает этому развитию, и за всё, что ему способствует».
Приглашение молодых эмигрантов принято, и, несмотря на чудовищные препятствия, 28 декабря 1864 года Герцен добирается до Женевы. Будет ли ему поддержка? Вряд ли. Человека два-три на его стороне: это преданный Касаткин, презрительно окрещенный эмигрантской сворой «герценовской цепной собакой», да Лугинин, ставший издателю на некоторое время близким человеком.
«Юные птенцы клюют старого пеликана и хотят все делать так, чтобы делали всё мы…» — заключает Герцен в письме Тучковой свое двухдневное пребывание на съезде. Пишет Огареву, что «больше уступал возможного и справедливого, но они все что-то хлопочут и интригуют».
Герцен все более убеждался, что, несмотря на дом, «приисканный Касаткиным», настоящий «palazzo», и помещение для типографии, пребывание в Женеве «почти невозможно», и все по вине этих «праздных интриганов». Конечно, в письме Огареву Герцен готов смягчить приговор: «Может, они и добрые люди, но самолюбие всё потемнило». Ему невыносимо скучно с этими господами, их узость и нежелание учиться отвращает Герцена, надоедает ему, но что делать? Он вынужденно идет на компромиссы, на расширение программы «Колокола» и круга его сотрудников.
Шестого января Герцен уезжает. Но даже то небольшое налаженное соглашение срывается негодованием и истерикой недовольных. И в первых рядах — неуравновешенный (уже склонный к помешательству последующими обстоятельствами его личной жизни) А. Серно-Соловьевич, главный противник Герцена (некогда так им обласканный). Притязания эмигрантов остаются неизменными.
Откуда только берутся силы — ведь месяца не прошло после жуткой трагедии, которую Герцену-отцу пришлось пережить…
Судьба вновь доказывала ему свое трагическое постоянство.
Летом 1864 года в письме Огареву, который по-прежнему оставался непременным конфидентом Натальи Алексеевны, она отвечала ему: «Ты спрашиваешь о моем внутреннем настроении — вот тебе правда: оно мрачно, без искры надежды и веры в жизнь и в себя, но оно полно желания счастия и спокойствия других — я исполню то, что себе обещала, но моя жизнь кончена, с ужасом оглядываюсь на всю свою жизнь, всё ошибки, всё эгоизм и ошибки, которые сделали много зла другим, ни одного шага, на котором бы я могла с светлой улыбкой остановиться и сказать себе: „Ну, это было хорошо…“ О, Огарев, я истинно очень несчастна…»
Неотвратимость судьбы, с которой Натали ассоциировала себя, пока та ее не настигла, не давала ей в полной мере понять, что такое несчастье.
В декабре 1864-го случилось непоправимое, страшное, окончательно сломившее Натали. После ее нелепого переезда в Париж, где свирепствовали эпидемии, заболела Лиза. 29 ноября слегла девочка Лёля. Врачи подозревали корь или скарлатину.
Герцен едет за детьми, проводит ночь у постели маленькой. Он неотрывно пишет Огареву и Тате о развертывающейся трагедии. «Еще дрожат руки и внутренность, я затерял письмо к тебе, съездивши за доктором, — рассказывает он в записке другу, забежав в случайный „трахтир на улице Кастильи“. — У Лёли вырезали трахею. Я держал ее головку — и не смотрел. Пот с меня лил. На первую минуту она спасена — в минуту агонии. Но если останется живой, это чудо».
Страшными страданиями во время операции трахеотомии жизнь ребенка продлена на семь часов. В ночь на 4 декабря Лёля умирает от дифтерита. Герцен находит силы, чтобы написать дочери: «Тата, я сижу возле тела Лёли… Это был самый гениальный ребенок из всех». На следующий день Герцен и Тучкова-Огарева отвозят гроб с телом дочери в склеп на Монмартрское кладбище, чтобы потом похоронить в Ницце.
Через неделю после смерти девочки, 11 декабря, в невероятных мучениях погибает «задушенный крупом» мальчик. Лиза уцелела. Ее удалось изолировать, увезти.
«Тяжело, Герцен, так тяжело, что иногда глупо не верится, что это в самом деле… — пишет Натали, только добравшись до Монпелье, где она спасает Лизу от парижской эпидемии и страшного потрясения. — Лёлино место никто не займет в моем сердце — а забудешь, разве когда лишишься рассудка…» «Вот моя плаха, на которой мне голову отрубили», — не может она сдержать себя.
Траурные настроения Натальи Алексеевны приводят ее к границе возможного, мысль о смерти целиком захватывает ее. Кажется, что жизнь «разлетелась вдребезги». Она винит сначала себя, а потом и своих близких в чудовищности трагедии, которую все они не попытались предотвратить. Жалеет Герцена, чувствуя его страдания, но наносит ему все новые моральные удары.
Ее посещают жуткие видения, во сне она ищет своих детей: «Natalie, где твои дети, что ты сделала с ними?» С девочкой Лёлей она видит особую связь, признается Огареву: «Это была моя звезда, в эту темную ночь наших бедствий».
Трагедия тем не менее не подразумевает ее примирения с Герценом. Оградить от несчастий, «окружить Лизу любовью, теплыми сердцами, так чтоб я могла уйти» — таков лейтмотив предстоящей ей жизни после кончины близнецов. Огарев пытается помочь, как всегда, принять на себя часть беды: «Собери все силы, чтоб для нее [Лизы] ожить. Лучшей тризны ты не совершишь над гробиками».
Соболезнования Тучковой идут со всех сторон. Пишут родные, верный друг Мария Рейхель. Целая связка писем от Дж. Маццини. Он делит с ней ее горе, подтверждает «связь, которую образовало между ними страдание».
Ожесточение и комплекс вины, беспредельная мнительность и самобичевание, вечные претензии и упреки все больше и глубже овладевали Натальей Алексеевной — близким приходила даже в голову мысль о ее психическом нездоровье. Она поддерживает себя в «безысходном отчаянии», — считал Герцен, а Огарев заклинал ее опомниться — «не отравлять» жизни детей, «хорошие жизни вокруг себя».
«Личная жизнь моя закончилась — бурями и ударами 1852 года», — писал Герцен сыну еще в 1860 году. «Начали светло, широко, а оканчиваем темно, глубоко», — давний крик души в письме московским друзьям, кажется, с трагической неизбежностью оправдывал его предвидение.
Двадцать шестого марта 1865 года гробики с телами близнецов перевезены Герценом из Парижа в Ниццу. Там на кладбище Шато и похоронены им «возле самой Natalie».
С этого времени начинается новый этап жизни Герцена.
Воспоминания о прожитом за эти 12 лет на английской земле не покидают его. Как в процессии, и траурной, и праздничной, или просто в будничном движении толпы проходили перед ним люди, встретившиеся на его пути. Возникали обрывки разговоров, незаконченных споров, в которых он еще должен поставить точку. Мелькали города, лондонские зеленые предместья, ухоженные лужайки и сады, многочисленные просторные дома, часто неприветливые, но дававшие приют его непростой семье. Дети, дети, постоянно отнимаемые у него то ли роком, то ли людской черствостью… Память не выдерживала. Тяжесть потерь, лежавшую на сердце, нельзя было сдвинуть никакими силами.
Ему уже 53! Молодые, даже совсем юные гимназисты перестают интересоваться тем, что он пишет, «улыбаются, глядя, как еще проступает в Герцене старый человек», — цинично, даже злорадно повторяет в письме своему бывшему «другу-врагу» теперь уже яростный его противник Ю. Самарин. Три безответных письма к нему в «Колоколе» Герцен так и назовет: «Письма к противнику».
Пророков всегда побивают камнями. Известное дело…
Герцен считает излишним повторять их с Огаревым символ веры и менять дорогу. Его убеждения неизменны. «Колокол» остается тем, чем был, то есть «самим собой». Его издатель по-прежнему сосредоточен на русских «началах».
Глава 31
«КРУЖЕНИЕ ПО СВЕТУ». ПЕРЕЕЗД В ШВЕЙЦАРИЮ
Трудна эпоха, по которой мы проходим, но я, как и прежде, гляжу с сочувствием, но без отчаянья.
А. И. Герцен — Г. Н. Вырубову
После многомесячного кружения по Европе Герцен добрался, наконец, до своего palazzo, снятого Касаткиным на окраине Женевы[170]. Слово «кружение», которое и сам он не раз повторял, вовсе не преувеличение для последнего пятилетия его кочевой жизни. С начала 1865 года счет городам идет на десятки. Перемещения стремительны: Женева, Монпелье, Париж, Лондон, Париж, Ницца, Канн, Ницца, Марсель, Лион, Женева…
Поскитался вдоволь по Европе… Не пора ли осесть…
Семнадцатого апреля 1865 года первая решительная остановка. Четыре часа пополудни. День великолепный. Дом великолепный. «Замок Буассьер», палаццо, «шато», как любят называть свои немалые особняки не чуждые преувеличений и понятия престижа жители крошечной Гельвеции. А для Герцена это домик в деревне Буассоньеровке, Буассоньерке, так по-русски привычнее.
«Тут только жить да похваливать, всем места через край». «Милости просим», — пишет Герцен сыну, мысленно размещая в комнатах всех ожидаемых им дорогих людей. В который раз его посещает надежда: собрать под единым кровом распадающуюся семью. Лиза с Натальей Алексеевной пока ненадолго с ним. Нельзя оставлять их одних. Тучкова в таком бескрайнем отчаянии, что даже приезд из России ее отца — не в помощь.
Нескончаемые хлопоты о «Колоколе», об организации «щели» как возможности пересылки в Россию вольных изданий Герцена не оставляют. Найдено приличное помещение для типографии на улице Pré l'Evêque, 40. (Разместились там до сентября 1867-го.) Меры предосторожности от натиска молодых эмигрантов, стремившихся «употребить» издателей «пьедесталем» собственной пропаганды, тоже приняты. Опасения Огарева относительно предложения Касаткина — превратить Вольную русскую типографию в акционерное общество Герценом отведены, а роли всех участников соглашения четко определены.
Герцен умел в организации и тверд в денежных делах: «Заведовать морально — буду я, голландской сажей [т. е. производственным процессом] — Чернецкий». А в роли компаньона выступит Касаткин.
Типография устанавливалась с апреля, но не так быстро, как хотелось бы, и Герцен уже готов «воскреснуть» ради дела.
Доносятся тревожные слухи из России, события несутся, не устают возмущать, а иногда придают надежды, и Герцен полон планов не упустить их в «Колоколе». Хотя голосу его, правду сказать, мало кто из восторженных читателей прошлого теперь внимает.
Прислушивается к «агитаторам» по-прежнему тайный сыск. Летят агентурные донесения в Петербург. Уж филерам известна вся подноготная. Куда и как перебирается Искандер со всеми своими спутниками. Надежды разрушить, сокрушить это гнездо, это «складочное место» злокозненной пропаганды, у агента (воспарившего над Женевским озером) — самое радужное: к лету всё и свершится, — доносит он своим хозяевам.
Не так страшна эта история. Одно дурно, молодые эмигранты житья не дают. Женевский молодняк из «птенцов» и «щенят», как Герцен их именует, превращается в «волчат», и они без устали его терзают. Разделились на «буассиерцев», вполне лояльных, даже помогающих в деле, не игнорирующих Буассьерку, и «непримиримых».
Укрыться от «праздных интриганов» в Женеве довольно трудно. Да и «работать с ними нельзя». «Один Мечников умеет писать». Все погрязли в ссорах. «Русская эмиграция в Женеве, если состоит из 10 человек, образует столько же или 11 партий», — невесело добавляет Тата к одному из писем отца Марии Рейхель.
Особо донимает А. А. Серно-Соловьевич, так обласканный Герценом еще в Лондоне. Он протестует против всякого, мало-мальски приемлемого соглашения с редакторами «Колокола», пишет против них «ругательные» листовки, скандалит, злословит, будучи крайне неуравновешенным. Герцен принимает его в Буассьере и продолжает давать деньги на лечение в психиатрической клинике. Он кается, просит защиты, признается в своей клевете, а потом нападает на своего благодетеля с новой безумной яростью.
Любовная история Серно-Соловьевича, конечно, трагическая. Главная героиня — Л. П. Шелгунова, «непримиримая» к Герцену, переводчица и писательница, державшая русский пансион в Женеве, «та самая», которая была связана с сосланным Михайловым и «не только успела забыть его, но и заменить Серно-Соловьевичем младшим». Тучкова-Огарева не упускает случая ввести этот рассказ в свои «Воспоминания». Тут и отвергнутая любовь Серно-Соловьевича, и незаконный ребенок, отправленный в Россию к находящемуся в ссылке официальному мужу «непримиримой» Людмилы — Н. Шелгунову, и совсем уж печальный конец[171].
Герцен еще надеялся, что с приездом в Женеву он «двинет общее и частное». Объединит семью. Но очень скоро дом опустел. Все разъехались. Кто куда: Натали с Лизой в Монтрё, Мальвида с Ольгой в свою любимую Италию. Герцен остался с Татой один.
Теперь их часто видели вместе, как степенно прогуливались они по берегу Женевского озера, о чем-то рассуждая. Вернувшись домой, Тата делала свои зарисовки, недорисуночки. Уроки видных мастеров, у которых она училась (кстати, в Брюсселе — у «первого художника» Луи Галле), и наставления отца (только в труде, кропотливой работе — залог «душевного здоровья») пошли ей на пользу.
Профессиональной художницы из нее, правда, не вышло. Так и осталась она дилетантом, «аматёром», как любил выражаться ее строгий воспитатель-отец, но успехи отмечались значительные.
В одной из комнат особняка замечаем на мольберте уже «начатый портрет Искандера». Изобразила Тата отца в серой блузе, белой рубашке, красным мазком жилета словно высветила темный фон, сделав профиль модели более выпуклым.
(Первый опыт работы маслом будет успешно повторен художницей через пару лет, когда писать Герцена будет знаменитый живописец Николай Ге, а Тата сделает новый, весьма профессиональный портрет отца. Но об этом несколько позже.)
Обширный дом в Буассьере вскоре показался таким неприютным и в общем-то даже не слишком удобным, что пришлось нанять новую квартиру на Quai du Mont Blanc. Огарев перебирался в Lancy, почти за город. Герцен, как всегда, устремился за Лизой, которую мать перевозила с места на место — Шильон, Монтрё, Веве…
Террор Тучковой переходил все возможные границы.
Герцен все еще надеялся любой ценой наладить отношения с ней, примерить ее со своими детьми. В 1866 году после очередного разрыва она продолжила свое ревнивое наступление: «Чего я хотела? Чтобы ты с нами был так же, как с ними — ты не мог или не хотел…»
Лиза росла в постоянных разговорах с матерью о смерти. «…Бедная, — писала Тучкова Герцену о дочери, — ее детство многого лишено, она растет как цветок на кладбище». «Смотрю на Лизу, и еще больнее становится — тяжело видеть ребенка, играющего на кладбище», — повторяла она в письме Огареву. — «У нее к тебе любовь и вера, которых нет ни к кому.<…> Это твой ребенок больше, чем наш…»
Герцен считал, что Тучкова не воспитывает дочь, а занимается «душевредительством» ребенка. Спасти Лизу во что бы то ни стало, «спасти Лизу — в ней сила огромная», всё подчинив ее воспитанию и образованию, — вот самое важное для Герцена и Огарева. Герцен словно предчувствовал, что дочь не вынесет той атмосферы «плача и отчаяния», в которую ее погрузила мать.
Семейная тайна становилась все более непереносимой пыткой. Страдали все: он — от невозможности (боязни, нежелания?) легализовать эти отношения. Она, страстно желавшая этого, — от его нерешительности.
Лиза между тем быстро развивалась и, вопреки всему, словно бы бессознательно, пропитывалась атмосферой, окружавшей Герцена и Огарева: приобщалась к великой истории, героям и лицам, ее представлявшим, воспитывалась на героических образцах. Она уже по-детски разбиралась в издательской деятельности, стремясь послать свою статейку в «Колокол». «Изумительный ребенок, — не уставал повторять Герцен. — Она несет на себе печать большого морального единства со мною».
Однако старания отца нивелировались пагубным влиянием матери. Характер Лизы полон сумасбродств и неожиданных фантазий. Она нервна, развязна, строптива. Вечная тревога за дочь и боязнь ее потерять делают жизнь последних его лет просто невыносимой.
Ухудшалось на глазах здоровье Огарева. Приступы эпилепсии следовали один за другим, и это особенно огорчало и беспокоило Герцена.
С тех пор как в 1859 году Огарев сошелся с Мери Сетерленд, много воды утекло. Ей было тогда 27, ему — около 46. Первые пять лет, до конца 1864-го, когда Герцен еще не перебрался из Англии на континент, Огарев жил в доме друга, часто навещая свою подругу. Их совместная с Мери жизнь началась только в Женеве.
У читателя, не посвященного в эту исключительную историю любовных взаимоотношений, таких непохожих, несравнимых людей, столь разного интеллектуального и социального уровня, может создаться превратное впечатление: барин, поэт, интеллектуал и… «кабацкая женщина» (как осмелилась ее назвать Тучкова), если бы не сохранившаяся между ними переписка — редкое свидетельство этого невероятного человеческого союза. Сложилась настоящая семья, где с пятилетнего возраста Генри, неизвестно от кого прижитого сына Мери, Огарев — его друг, воспитатель и отец.
Истинное, странное чувство, в которое он вложил всю свою душу, вызывает у него время от времени то опасение, то тревогу: а вдруг люди испортят всё, посмеются над ними, представят их отношения в виде шутки. Он страдает, а потом вдруг счастье переполняет его, и тогда приходит спокойное сознание, что Мери «прилепилась» к нему всем сердцем: «Жизнь должна быть проникнута человеческим чувством, иначе она пуста и холодно скучна».
В своих принципах гуманизма и свободы личности Огарев непоколебим, даже перед лицом друга. Его нравственные принципы неизменны. Без малейших сомнений «исправляет чужие грехи».
У Александра Александровича появляется первенец — его незаконнорожденный сын от связи с англичанкой Шарлоттой Гётсон (родившийся еще до женитьбы Саши на красавице-итальянке Терезине Феличе), тоже Александр, по прозвищу Тутс, Сандрино или Александр III. Решается вопрос, с кем будет жить мальчик. Герцен, как всегда, помогает деньгами, Тучкова как воспитатель — исключается, и Огарев берет его под свое покровительство. Тутс входит в новую семью Николая Платоновича, где воспитывается уже нелегкий подросток Генри[172].
На темном фоне частной повседневности — в «общей» жизни Герцена тоже множество утрат.
Девятнадцатого января 1865 года, едва достигнув пятидесяти шести лет, скончался Прудон. «Смерть продолжает косить… <…> все сталкивается, возникает очередь… кто следующий… Я же, вместо того, чтобы умереть, лысею так сильно — что скоро нигде не смогу показаться без шляпы», — с горестной самоиронией пишет Герцен Мальвиде Мейзенбуг. В «Колоколе» помещен некролог, где он называет «мощного борца» неоконченной борьбы своим учителем. Понятно, совместная деятельность прожита не без потерь и несогласий. С некоторыми позициями и взглядами выдающегося мыслителя Герцен, как известно, расходился.
После трехлетнего заключения в казематах ушел из жизни старший Серно-Соловьевич, Николай. Умер в Иркутске 5 марта 1866 года.
«Это был один из лучших, весенних провозвестников нового времени в России…», «…благороднейший, чистейший, честнейший Серно-Соловьевич — и его убили…» — помянет Герцен последнего «маркиза Позу».
Работа в типографии налаживалась. Известно: во всех самых трагических поворотах его судьбы работа и только работа держала Герцена на плаву.
Он спешил. Публикациям в женевском «Колоколе» не должно быть задержки.
Первая статья, законченная в Буассьере, «Письмо к Александру 11», имела повод — смерть наследника. Написана страстно. И встречена «молодой эмиграцией» не менее страстно, в штыки, как новая апелляция к высшей власти, как возбуждение «в большом числе читателей новой веры в царскую реформу».
У Герцена — сверхзадача (пусть несколько иллюзорная): в тягостную для императора минуту заставить его подумать «о пройденном» — о том, где он и куда идет. Ведь на «лавировании между казенным прогрессом и полицейской реакцией» далеко не уедешь. А потому необходимо сойти с того «страшного пути», на который царь встал с половины 1862 года, и возвратиться на прежнюю дорогу реформ во имя «великого земского дела».
Герцен по-прежнему уверен, что это письмо, как и первое, вызвавшее у него «невольный крик радости» при начале освобождения, не пройдет даром и Александр очнется от испуга «какого-то горящего рынка» или нескольких летучих листков.
«Сошествие с пьедестала», шаткость императора в оценке событий 1862–1863 годов Герцен готов привычно объяснить дурным его окружением, «опорой на тайную полицию и явно подкупленную журналистику». Но цель у него одна — доказать, что на дворе новая эпоха и возвращение к николаевскому самовластию преступно.
На фоне неумолимой судьбы (как представляется гуманному Герцену) легче понять трагедию других людей, тех польских семей, потерявших своих сыновей, тех крестьян, падавших под пулями после манифеста, тех невинных жертв, томящихся на каторге. Резкие тревожащие вопросы царю («ясно, что нужны голоса громче и сильнее, чтоб перекричать трубы и литавры», его окружающие) следуют в письме один за другим:
«Вы с беспримерной свирепостью осудили единственного замечательного публициста, явившегося в наше время. А знаете ли, что писал Чернышевский? <…> В чем опасность, преступность?»
Вопросы встраиваются в ряд обвинений: «Печать не свободна, да и вы мало читаете. Видите вы одних слуг, зависящих от вас, лгущих перед вами! Свободных людей, поднимающих голос, вы казните. Был человек, убежденный, что вы хотите добра России… он пробился до вас. Вы велели Орлову его поцеловать в 1859 году (встреча с Н. Серно-Соловьевичем отнесена в „Былом и думах“ к 1858 году. — И. Ж), а в 63 бросили его в каземат…»
«Не для невинных жертв ваших, не для пострадавших мучеников нужно всепрощение, — заключал Герцен свое письмо Александру. — Оно нужно для вас. Вам нельзя человечески идти дальше без амнистии от них. Государь, заслужите ее!»
В 1864–1865 годах, после двухлетней реакции, в жизни России наметился явный перелом. Активизировалась демократическая интеллигенция, ободренная некоторыми устремлениями правительства к продолжению реформистской деятельности; продвинулось обсуждение целого ряда реформ — земской, судебной, цензурной… Герцен включился в «Колоколе» и в широкое историко-философское их обоснование, и в злободневную жизнь по их реализации. Полемика в русской легальной печати, в том числе о реорганизации земледельческого труда на капиталистических основах, о социальном составе земских учреждений, об уничтожении сословного неравенства и др., развернулась острейшая.
Весь сложнейший узел общественно-политических и экономических вопросов, характер их обсуждения в консервативной печати («Русским вестником», «Московскими ведомостями») и в либеральной журналистике («Современнике», «Отечественных записках») определили проблематику шести «Писем к путешественнику», появившихся в «Колоколе» с 25 мая по 1 сентября 1865 года.
Герцен по-прежнему опасность для России видит в капитализации русской экономики. Обращает внимание на немалую угрозу тех буржуазных тенденций, которые неизменно несли реформы, и не отступает от своей старой теории крестьянской общины как «зародыше» будущего социального переустройства. Ни о каких насильственных методах водворения новых отношений, ни о каких революционных переворотах речи нет. При всех необходимых реформах — только эволюционное развитие, — в который раз подтверждает Герцен свои неизменные теории.
Но вот 4 апреля 1866 года прозвучал выстрел Каракозова, резко поменявший сравнительно мирное течение русской жизни. Катков и присные поставили единичное событие в ряд «злодеяний» «революционных переодетых эмиссаров», начавшихся с петербургских пожаров и, уж конечно, не без влияния поляков. Неудавшееся покушение на Александра II еще больше обострило и без того непростые отношения Герцена с эмиграцией. И Герцен, как всегда, отвечал в «Колоколе».
Еще не зная подробностей о стрелявшем, он печатает принципиальную статью, возражающую против индивидуального террора:
«Выстрел 4 апреля был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик. Мы вообще терпеть не можем сюрпризов ни на именинах, ни на площадях; первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами. Убийства полезны больше всего лицам, династическим перемещениям. <…>
Пуль нам не нужно… мы в полной силе идем большой дорогой; на ней много капканов, много грязи, но в нас еще больше надежд… Остановить нас невозможно, можно только своротить с одной большой дороги на другую — с пути стройного развития на путь общего восстания».
Стрелявший оказался выходцем из революционного студенческого кружка Н. А. Ишутина, дворянином из благопристойной многодетной семьи. Его отец — помещик Сердобского уезда Саратовской губернии, заседатель уездного земского суда, один из братьев — уездный врач.
«Еще два года назад, — свидетельствовала Тучкова, — Герцен отговаривал трех нетерпеливых русских юношей, явившихся к нему за моральной поддержкой. Отговаривал и отговорил, отвел их от рокового решения: ценой террористического акта „пожертвовать жизнью для блага отечества“».
И все же в последние годы, отбиваясь от обвинений оппонентов и врагов в попустительстве революционной молодежи, Герцен чувствовал и некоторую свою ответственность. На историческую арену выходили радикалы-нигилисты, для которых не было ничего святого. Их цель оправдывала любые средства.
Вот почему, когда Герцен увидит крайний пример выражения кровавого радикализма в лице Нечаева, он восстанет против него. Резко отвергнет его неумеренные притязания даже ценой «развода» с ближайшим другом Огаревым — первого серьезного несогласия с ним.
Для Герцена террорист Каракозов — «фанатик». Это слово особенно задевает «женевскую свору». Для нее Каракозов — «герой». 1 сентября Искандер помещает в своей газете статью «Польша в Сибири и каракозовское дело», где вновь говорит о покушении как о частном случае, не имеющем никакой связи с предшествующими событиями. Правительство и реакционная пресса «припутывают» к делу «всех, кто под руку попался», чтобы только обвинить «всю юную Россию».
После слова «фанатик», вызвавшего ярость эмиграции, Герцен осторожен в своих высказываниях, ибо не хочет ставить знак равенства между выстрелом и деятельностью русской молодежи вообще. Однако твердый тон по отношению к женевским «юным братиям» ничуть не умерен.
Как найти выход, защититься от кровавых потрясений? Герцен вновь вглядывается в европейскую жизнь, стремится подытожить свое новое понимание возможности России пойти по европейскому пути. Прежние пессимистические взгляды на будущее Западной Европы теперь им частично пересмотрены.
Хотя старый европейский мир по-прежнему разлагается, но умирать не хочет. Там массы, помня прежний опыт, не поддержат революций. Поэтому «выход один»: «Его указала Франция… Социальный вопрос, поставленный ею — открытый вопрос для всей Европы». Таким же главным он является и для России.
В декабре 1866 года Герцен начинает печатать в «Колоколе» свою статью «Порядок торжествует!», которую долго вынашивает как итоговую. Он считает ее «общей статьей о европейских делах», но все же значительно большее место отводит России.
Дома «порядок торжествует», то есть реакция возвращается на круги своя: «старая николаевская плющильная машина… в полном ходу».
А какие надежды подавала крестьянская реформа, «когда государь признал в принципе освобождение крестьян с землей…». Если «Земля остается при деревне и крестьянин при наделе», — считает Герцен, — то «имея выборное начало и сельское самоуправление, русский человек непременно дойдет до воли и превратит насильственную связь с общиной в добровольно-соглашенную, в которой личная независимость будет не менее признана круговой поруки». Герцен по-прежнему убежден, «что почин, что первые шаги нашего переворота совершатся без кровавых потрясений».
«В прошлое пятилетие, — подытоживает Герцен свои размышления, — мы немного избаловались, пораспустились, забывая, что нам были даны не права, а поблажки. Пора опять сосредоточится». «…Знамя наше, знамя „Земли и Воли“, водруженное нами», остается прежним, кто бы его ни держал.
В письме от 16 декабря 1866 года Герцен обращал внимание своего адресата Григория Николаевича Вырубова, философа и издателя, человека особенно близкого в ту пору герценовской семье, на помещенный в «Колоколе» первый фрагмент своей обширной статьи: «Трудна эпоха, по которой мы проходим, но я, как и прежде, гляжу с сочувствием, но без отчаянья».
Статья «Порядок торжествует!» еще более раззадорила молодую эмиграцию. Она не оставляла Герцена своим вниманием. И главное расхождение с молодыми, начинавшими с революционных призывов, оставалось прежним. К мирным средствам достижения воли, к социальным экономическим вопросам (Герцен употреблял в этом смысле термин «социализм») и защите обездоленных, — к идеям, проповедуемым редактором «Колокола», нигилисты (как чаще теперь называли в печати радикально настроенных молодых людей) не только глухи, но и воинственно враждебны.
А. Серно-Соловьевич уже готовил новый ответ Искандеру, вылившийся в развязную, оскорбительную брошюру «Наши домашние дела». Шокирующая даже некоторых молодых единомышленников автора, она вышла в мае 1867 года в новой, конкурирующей с герценовской, типографии такого же «непримиримого» к Искандеру эмигранта М. К. Элпидина.
Помимо враждебных, несправедливых упреков Серно-Соловьевича буквально во всех действиях Искандера, резкой характеристики его политической деятельности, главный выпад против «самоуверенного» Герцена состоял в его высокомерной смелости даже поставить себя рядом с Чернышевским, даже «сравниться» с ним, ибо они несовместимы как «два противоположных элемента», как «две враждебные натуры». Вытаскивалась на свет вся непростая история отношений Герцена и Чернышевского, о которой Серно-Соловьевич был, конечно, осведомлен, но преподносилась она, естественно, тенденциозно.
Опять клеветы, зависть, отторжение, опять стремление заполучить деньги из «Общего фонда». Новая отповедь Герцену последовала от Бакунина, не воспринявшего более чем резкий, убийственный отзыв друга о «невеждах», «нигилистах, оправдывающих своим сукиносынизмом меры правительства… на которых Катковы, Погодины, Аксаковы etc. указывают пальцами».
«Каковы бы ни были недостатки молодого поколения, — выговаривал Герцену Бакунин, — оно чрезмерно выше Катковых и Погодиных, твоих Аксаковых и Тургеневых…»
Эмигранты, одержимые поиском денег, даже пошли на попятную. Серно-Соловьевич предложил через Утина за известную сумму уничтожить тираж брошюры, но «гнусную сделку» Герцен отверг.
Жизнь в Женеве становилась просто невыносимой. «…Я горю желанием сбежать… оставив Огарева в этом осином гнезде». Герцен сердился, не мог сдержать раздражения, и все это не улучшало его здоровья.
«Они себе поставили целью — обругивать меня, печатают брошюры, лгут, например, о моей розни и ссоре с Чернышевским…» — писал Герцен Вырубову.
Человек добрый и в общем-то сдержанно-корректный даже в полемике с идейными противниками, теперь в общении с близкими он не жалел ни ругательств, ни бранных слов для «банды русских емиграчей». И это был полный разрыв с молодыми эмигрантами. Теперь, по возможности, он старался с ними не встречаться.
Переезжая из города в город, Герцен писал, грустно улыбаясь, что, удаляясь на некоторое время из Женевы, хотел «освежиться другими физиономиями», но, увы, не всегда удавалось.
Герцен не может смириться, что Тучкова хочет отнять у него дочь. Ради Лизы — готов на всё. Ехать туда, куда пожелает Натали. Не хочет в Женеву, не хочет в Лозанну — можно выбрать другие швейцарские города, в которых будет жить еще более «скверно».
С октября 1866-го он все еще «бродяжничает» по Швейцарии в поисках совершенного места. И хотя понимает, что лучше худой Женевы не найти, готов отвезти Натали с Лизой хоть в Ниццу, которая неизменно вызывает в его памяти смерть, могилы и бушующее море. Для него это «Голгофа или лобное место». Но выбор Тучковой сделан.
Даже в этих торопливых разъездах по Европе, отмечает он в письме сыну, как ни парадоксально, ему видится самая «покойная жизнь на свете». Потому что вырвался на волю, потому что путешествия дают массу впечатлений, и, посещая те же места, что и десяток лет тому назад, можно представить, как изменились люди, их устремления, их статус, их повадки.
Картина воспоминаний не затмевает современный шаг жизни. Он прощается с тем, что видел, знал и пережил. Не плохо бы присмотреться, а что же изменилось, улучшилось в мире… Да улучшилось ли?
«Где эти времена, когда „Юная Германия“, в своем „прекрасном высоко“, теоретически освобождала отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков? Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте…»
Примеров у Герцена, наблюдающего, как меняется культура и общество (кроме приведенного эпизода пришествия славной эпохи «Бури и натиска»), больше чем достаточно. И все же…
Он улавливает новый лихорадочный темп жизни, выразившийся, например, в устройстве всемирных выставок: «Все несется, плывет, идет, летит, тратится, домогается, глядит, устает, живет еще неудобнее, чтоб следить за успехом — чего? Ну, так, за успехами. Как будто в три-четыре года может быть такой прогресс во всем, как будто при железных дорогах такая крайность возить из угла в угол домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды…
…Ну, а выставки надоедят — примутся за войну, начнут рассеиваться грудами трупов, лишь бы не видеть каких-то черных точек на небосклоне…»
На повестке дня — приближающееся кровавое столкновение наполеоновской Франции и «прусского деспотизма» Бисмарка.
Из своих путевых впечатлений, тронутых острым пером очеркиста, Герцен, говорящий обо «всем на свете» и «без связи», как сам считает, составит последнюю, восьмую часть своих несравненных мемуаров. Отдельные фрагменты о посещениях Швейцарии, Италии, Франции станут публикациями в поредевшем материалами «Колоколе» (1865–1867), а в конце 1868-го восьмая часть «Былого и дум» полностью появится в последней, завершающей издание «Полярной звезде» (книга VIII на 1869 год).
Жизнь по-прежнему движется, подобно венецианскому карнавалу. А семейные проблемы, тревожные, мучительные, беспокойные, остаются неразрешимыми.
Окончательно устроив Натали и Лизу в Ницце (в декабре 1866 года, почти на год), Герцен решает ехать во Флоренцию, чтобы повидать старших детей — Тату и Сашу, поселившихся здесь надолго. Вечное его страдание, что духовно он порознь с ними, постоянные его мучения как объединить не дают ему покоя.
Во Флоренции он может наблюдать результаты своих неослабевающих усилий отца, воспитателя, свято выполняющего свои обязанности. Правда, видит, как Ольга по-прежнему в «плену» у Мейзенбуг. Отстала от всего русского, забыла язык. Но у Саши, отошедшего от политической деятельности и нашедшего себя в науке, — немалые успехи. Герцен присутствует на его публичной лекции по физиологии, где собралась вся элита ученого мира, и не может скрыть своего восхищения. Тата продолжает с 1862 года свои занятия живописью, копирует подлинники лучших итальянских мастеров и профессионально уже готова взяться за большой портрет отца.
И случай такой через несколько лет представляется.
Войдя в флорентийский кружок молодежи, собиравшийся в доме физиолога Морица Шиффа, у которого Саша работал ассистентом, Тата имеет возможность познакомиться со многими знаменитостями научного и художественного мира. Давно представлена Николаю Николаевичу Ге и мечтает брать у него уроки.
Именитый живописец постоянно думает о создании портрета ее отца. Собственно, когда встреча Николая Ге с Александром Герценом, наконец, состоялась, для художника уже существовал внутренний образ человека, с которым он чувствовал духовное родство.
Герцен оставался для Ге властителем дум, властелином поколения. Еще в 1863 году представился случай познакомиться, да разминулись. А потом и вовсе, в 1864-м разнесся слух о смерти его кумира. Когда скверные небылицы поутихли, художник был счастлив. Желание воплотить в жизнь свою мечту стало вполне осязаемым.
Во Флоренции Николай Ге вошел в круг герценовской семьи, имел с Герценом множество общих знакомых, и все они постоянно держали его в курсе событий многотрудной жизни Александра Ивановича. Образ Герцена — деятеля и человека становился для мастера всё более объемным, духовно наполненным.
Даже не начав портрет, художник, взявшийся за свою великую картину о предательстве Спасителя, представлял, как будет выглядеть Христос на его «Тайной вечере». Фотографий Герцена ходило множество, а «Колокол» был постоянным спутником мастера.
Познакомились в конце января 1867 года. Встретились как старые друзья. В феврале — марте портрет-«шедевр», как оценивал его Герцен, был готов за пять сеансов.
Еще не усадив свою модель для позирования, на холсте уже виделась фактура будущего портрета. Перед художником был человек «небольшого роста, полный, плотный, с прекрасной головою, с красивыми руками; высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад без пробора, живые умные глаза энергично выглядывали из-за сдавленных век; нос широкий русский… с двумя резкими чертами по бокам; рот, скрытый усами и короткой бородой…».
Таким предстал оригинал. Гигант. Учитель. Кумир. На портрете остались живые, пронзительные глаза, не скрывшие боль пережитого.
И как разительно этот большой масляный портрет, последний в жизни Герцена, отличался от ранних его изображений…
Прежнего «байронического» элемента молодости, как на Витберговом портрете, или раскрепощенной радости среднего возраста, как на первой европейской фотографии, в чертах постаревшего человека теперь не найти. Но портрет писался «с любовью, преданностью и верой», как свидетельствовал В. В. Стасов, следивший за ходом творчества своего друга-художника. Шедевр создавался по мановению кисти мастера как «портрет для потомства». И таким остался.
Для Таты, присутствующей при сеансах в мастерской художника, представился счастливый случай написать свой новый портрет отца[173].
В середине апреля 1867 года Герцен вновь вернулся в Женеву. (Через несколько месяцев, в июле, она перестанет быть его постоянным местопребыванием, и он вновь устремится за Лизой в Ниццу.) Нужно было срочно решать судьбу «Колокола». И решение это должно быть «круто». (Полюбившееся нашим современникам словечко, оказывается, не так уж ново.)
Факт охлаждения русской публики к зарубежным изданиям отрицать было невозможно. И в первое время врожденный оптимизм Герцена все же не покидал его. Однако опыт деятельности в изменившейся обстановке неизменно доказывал, что время вольной печати прошло и «типография умирает». Когда нет материала и даже русские газеты совсем не доходят, «противно» говорить о русском «Колоколе».
НА ВРЕМЯ ЛИ СМОЛКНЕТ «КОЛОКОЛ»?
Н. П. Огарев. До свиданья!
- Смолкнет Колокол на время,
- Пока в России старый слух
- К свободной правде снова глух…
Десятилетие «Колокола» решили отпраздновать до 1 июля, а затем полгода отдохнуть, чтобы в новом году, прямо с 1 января, приняться за издание снова. Так в середине мая 1867 года Герцен оповещал своих друзей и заинтересованных читателей.
Готовился к выходу последний, сдвоенный 244–245-й номер газеты, немало послужившей на пользу русскому Делу. Стихами «До свиданья!» Огарев выражал уверенность издателей, что «снова с родины далекой / Привет услышится широкой»; «И снова наш раздастся звон».
Первого июля 1867 года две крупно набранные цифры на первой странице последнего выпуска отмечали конец первого десятилетия «Колокола»:
«Десять лет! Мы их выдержали и главное выдержали пять последних, они были тяжелы.
Теперь мы хотим перевести дух, отереть пот, собрать свежие силы и для этого приостановиться на полгода. <…>
Мы хотим еще раз спокойно, без развлечений срочной работой, вглядеться в то, что делается дома, куда волна идет, куда ветер тянет, мы хотим проверить, в чем мы были правы и где ошибались.
Мы слишком часто оглядывались в последнее время, чтоб нужно было снова повторять наш символ веры и основы того взгляда, который мы проводили в „Колоколе“, они были неизменны…»
Дело точно приближалось к своему «перигею», позднему закату, о котором Герцен словно напоминал публикацией фрагмента главы из мемуаров — «Апогей и перигей» — на самых последних страницах последнего «Колокола».
Разнесся слух, что «Колокол» вовсе не будет выходить. Русские газеты его подхватили. Герцен не хотел обрывать издание, даже на время. С Огаревым они выпустили «Прибавочный лист к первому десятилетию», задумали сборник новых и старых статей о России. Но мысль эта не показалась им слишком продуктивной, и идею отставили.
А почему бы не издать «Колокол» на французском? Или вовсе — двуязычный. Реакция на Западе растет вместе с полным непониманием и незнанием России. Начатые когда-то уроки — знакомить Запад с Русью следует продолжить.
Принятый Герценом девиз «всегда в движении», видимо, несмотря ни на что, не давал остановиться. Герцен писал Огареву о «тоске от общих и частных дел, доходящей до сплина, до невыносимой боли», и тут же брался «для увертюры» за статью «о выходе „Колокола“» на французском.
Итак, русский «Колокол» умер. Да здравствует «Колокол» французский!
Рекламный листок о новом издании был готов к ноябрю и уже рассылался повсюду, чтобы оповестить западные города и веси: 1 января 1868 года выйдет «Kolokol (La Cloche)», «Обозрение социального, политического и литературного развития в России» и отдельная часть газеты на русском — «Колокол (Русское прибавление)».
Формат издания повторял прежний «Колокол». К эпиграфу «Зову живых» добавлялся новый символ времени: «Terre et liberté!» — «Земля и воля!».
В первом номере издатели утверждали, что, «меняя язык, газета… останется той же и по направлению и по цели». Станет продолжением русского «Колокола». Однако, в силу изменения аудитории, обращаясь не только к русским, владеющим языком, но и к иностранцам, мало, а подчас превратно знающим о России, «Колокол» не будет стесняться повторением и разъяснением того, о чем много говорено и написано. «Заглянуть за кулисы русской жизни» интересно и для иностранцев, считали издатели.
Они предполагали, что «Kolokol» будет выходить два раза в месяц. Не вышло. Пятнадцатый последний номер датирован 1 декабря 1868 года, двуязычный лист таки не появился, а «Русское прибавление» в количестве семи листов остановилось 15 июня того же года. Вслед прекратившемуся изданию в феврале 1869 года поспел прибавочный выпуск «Supplement…», который публиковал разоблачающие правящую верхушку исторические документы из архива П. В. Долгорукова.
То была последняя страница общего сотрудничества бессменных редакторов, которые на своих плечах вынесли все тяготы издания. Их произведения во французском «Колоколе» и русских приложениях преобладали.
Особенно значительным был историко-теоретический очерк Искандера «Prolegomena» [Предисловие], точно отвечавший цели — «знакомить Европу с Русью», с ее лучшими освободительными, революционными традициями, с ее славной историей, включая и «седую старину». Западный читатель должен был знать глубину того разрыва, который существовал между Россией официальной, правительственной, самодержавной и Русью народной. Мысли, которые русские читатели во множестве вариаций встречали в произведениях Герцена, теперь преподносились Западу «бойко и с петардами».
Известив Огарева о подобном подходе к работе, Герцен, с присущей ему образностью несравненного стилиста, сообщал М. П. Погодину (не раз заявлявшему, что мечтает вернуть Герцена «в лоно русской словесности»): «…я написал для поучения французов нечто в роде братского увещания, в котором бархатной перчаткой подал полынную пилюлю. <…> Меня в бешенство приводит их высокомерное невежество. Да и немцы не лучше. <…> Мне пришла опять охота пожучить западных матадоров». Подобный выпад Герцена был связан, в частности, с усилением антирусской пропаганды на страницах французской печати.
«Kolokol» давал обширный материал о свободолюбии России, о подвиге «первых мучеников» — декабристов, о социальном вопросе и теории русской общины. Новому, западному читателю представлялся строй русской жизни, «источники нашего развития и пути нашего социального роста». Поскольку Герцен и Огарев были самыми крупными русскими публицистами на Западе, они и говорили от имени страны и народа. Определяли значение и место России в мире.
«…Мы, — писал Герцен, — часть света между Америкой и Европой, и для этого нас достаточно». «Мы довольны тем, что в наших жилах течет финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные, братские отношения с теми расами-париями, о которых человеколюбивая демократия Европы не может упомянуть без презрения и оскорблений».
В «Prolégomèna» закреплялся новый взгляд на противопоставление России и Запада. Вместе с прежней критикой западной демократии и буржуазной цивилизации Герценом вовсе не подвергались сомнению большие возможности Запада, его примеры организации власти и общества.
«Статья-преддверие» ставила на повестку дня трудной дороги России «созыв „великого собора“, представительства, — без различия классов, единственное средство для определения действительных нужд народа и положения».
«Каково бы ни было первое Учредительное собрание, первый парламент — мы получим свободу слова, обсуждения и законную почву под ногами».
Словно бы отвечая Чернышевскому, некогда в «Современнике» критиковавшему его идею об агонии западной цивилизации, Герцен склонен теперь оценить как позитивное и решение проблемы прогрессивного социального развития Запада, и его ближайшие социалистические перспективы с нарастающим рабочим движением.
Когда решилась судьба с закрытием русского «Колокола», Герцен узнал о выходе у Элпидина в июле 1867 года романа Чернышевского «Что делать?» и просил Тхоржевского немедленно его прислать. Место в брошюрке Серно-Соловьевича с резким противопоставлением его Чернышевскому («Между вами и Чернышевским нет, не было и не могло быть ничего общего») слишком задело Александра Ивановича, чтобы еще раз не вернуться к воплощенным в романной форме взглядам вождя молодого поколения.
Читал Герцен роман внимательно. Сначала в письмах Огареву иронизировал над его стилем, новой эстетикой, удивлялся языку («как гнусно написано, сколько кривлянья»), И вместе с тем, позолотив пилюлю, признавал, что «в нем бездна хорошего», что «мысли есть прекрасные, даже положения — и всё полито из семинарски-петербургски-мещанского урыльника…».
Как всегда, тщательно определяя круг чтения своих детей в стремлении приобщить их к важным идеологическим событиям русской жизни, советовал книгу и Тате, и Саше: «…поучиться есть чему в манере ставить житейские вопросы».
Когда же дочитал и даже перечитал роман, торопил Огарева, наконец, открыть книгу: «Это очень замечательная вещь — в нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультранигилистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты, и — с другой стороны — много хорошего, здорового, воспитательного. Он оканчивает фаланстером, борделью — смело».
Герцена не могли удовлетворить ни эстетика, ни кредо молодого поколения: роман «урод и мил. А вред он должен принести немалый». И вместе с тем он понимал, что именно Чернышевский, страдающий на каторге, теперь стоит у руля, указывая дорогу молодым. Поколения сменились. Настало время от поиска «виновных», «лишних», от расплаты устаревших, отставших от времени, как посчитали новые люди, перейти ко второй сакраментальной российской задаче, стоящей на повестке дня: «Что делать?» Уж это-то они твердо знали.
В ноябре 1868-го Герцену стало ясно, что вскоре «„Kolokol“ издаст погребальный звон по самому себе». Так и случилось. Герцен объяснил его закрытие: без постоянных корреспонденций газета, теряющая «связь с текущей жизнью, превращается в молитвенник для эмигрантов» и существовать дальше не может.
В условиях террора в России, наступившего после 1866 года, после двух покушений на императора, происходила, как известно, перегруппировка общественных сил. Наблюдалось четкое размежевание между набирающим силы революционно-демократическим и либеральным крылом. Оппозиционность либерализма глохла, все больше скатываясь к охранительству.
В рядах незначительной части оставшихся союзников Герцена не было не только единства, но на глазах предавалось дело, которому он служил последние десять лет.
Из газет Герцен узнал, что на русско-румынской границе, в Скулянах, добровольно «предал себя в руки русского правительства» его бывший доверенный сотрудник Кельсиев.
Под арестом в Третьем отделении он пишет свое покаяние. Впоследствии оно выльется в его «Исповедь»[174] и кажущиеся объективными мемуары «Пережитое и передуманное»[175]. Кельсиев полон уважения к личностям Герцена и Огарева; ясно, что находится под их влиянием. Но подобные признания о связях Герцена, о путях переправки в Россию вольных изданий, о бывавших в его доме посетителях, даже при значительной осведомленности тайной полиции, иначе как предательством не назовешь. Верноподданнически раскаявшись, «экс-эмигрант» был властями прощен.
Из «Московских ведомостей» Герцен сделал вырезку, которую приклеил к своей рукописи той части «Былого и дум», в которой еще не было окончания этой скверной истории. Главу «В. И. Кельсиев» поместил отдельно. Внес небольшие поправки, «подчистил», удалил одну положительную характеристику бывшего соратника, но окончательного приговора тогда не вынес. В письме Огареву от 29 октября 1867 года считал, «что он пакостей политических не наделал».
Событий, и часто весьма неприятных, на долю Герцена в это время выпало больше чем достаточно. Но самой главной болью «общей» его жизни был смолкнувший навсегда «Колокол».
Глава 33 В ПОИСКАХ ДОМА
Но куда ко мне? «У меня» нет у меня.
А. И. Герцен — Н. П. Огареву
Последние годы Герцена были не менее тяжелыми, чем личные испытания 1851, 1852 и 1864 годов. В будущем ему не виделось «ни одной светлой черточки».
Даже в спокойном письме от 10 марта 1867 года, написанном Герценом Огареву в самый обычный день, вместивший в себя, как всегда, множество проблем, обязанностей и событий многострадальной жизни писателя времени ее заката и катастрофического «бездомья», когда домом становится весь мир, прорывается нескрываемый трагизм. На предложение Огареву: «Если ты хочешь переехать ко мне…» сам же и отвечает: «Но куда ко мне? „У меня“ нет у меня».
Упорное стремление Герцена к общему дому, где под одной крышей соберутся близкие ему люди, как оказывается, недосягаемая мечта — стоит к ней только приблизиться. Вот и предпоследний год в его судьбе, 1868-й, опять дарит иллюзорную надежду «всем соединиться».
«Ясновельможный пан» Тхоржевский, помощник бескорыстный, кажется, постарался. Снял замок Пранжен близ Ниона. Огромное палаццо на берегу прекрасного голубого Лемана.
«Хорошо… вроде Буассьер, но обширнее видом и всем», — Герцен рассылает письма всем приглашенным членам разросшейся семьи. И действительно, замок так замок.
«Я с тобой в rez-de-chaussée[176] — есть для тебя кресло на колесах», — сообщает он в августе 1868-го Огареву, повредившему при обмороке ногу. Очерчивая границы временного пристанища с множеством высоких, удобных комнат, где места хватит всем, он вновь, как тогда, в Буассьере, мысленно размещает в средневековых чертогах всех прибывающих, конечно, корректно учитывая некоторую несовместимость действующих лиц давно начавшейся драмы[177].
«Едет сюда и Мейз[енбуг] с Ольгой, кажется, и Саша с Weib und Kind[178] — наверно, что это — конгресс omnium[179] — начало ли разлуки со всеми, или что?» Вопрос, конечно, риторический.
Постепенно члены «конгресса» заполняют временное жилище. Герцен едет за Огаревым в Женеву — он болен и припадки его учащаются. Тата приезжает с Тучковой и Лизой. Ольга — с Мальвидой (при явном недовольстве последней, не желающей отпускать от себя свою приемную дочь). Саша появляется с Тутсом и со своей женой, красавицей Терезиной.
Естественно, когда все «дома», много писем не пишется, что обычно делает Герцен. И трудно воспроизвести атмосферу, услышать обрывки разговоров в семейном королевстве, образованном лишь на время.
Почти через месяц пребывания в Пранжене, уже 11 сентября, приглашая верного советчика и душеприказчика семьи Г. Н. Вырубова посетить замок, Герцен, все еще надеясь на всеобщее «замиренье», с горестью сообщает ему: «…мы же все рассыпаемся: кто в Женеву, кто во Флоренцию — а я еду в Париж на несколько дней».
Вообще в замке приглашенных друзей и знакомых не слишком много. Кроме Вырубова и Тхоржевского на свидание с Герценом приезжает редактор петербургской «Недели» А. П. Пятковский, чтобы поговорить о возможном сотрудничестве в русской печати. Конечно, анонимном. И вскоре под псевдонимом «И. Нионский», предложенным Пятковским в память о знаменательной встрече в Нионе, русский читатель познакомится с серией очерков Герцена «Скуки ради».
В Пранжен доходит известие, что после смерти П. В. Долгорукова надо срочно решать вопрос о богатейшем собрании княжеских бумаг, на которые охотится тайный российский сыск. Последние посещения умирающего Долгорукова, вмешательство Герцена в примирение неуживчивого князя с его сыном, последующая провокационная развязка с унаследованным Тхоржевским архивом Петра Владимировича стоили Александру Ивановичу слишком дорого. Российская «шпионница» проницательного Герцена попросту провела.
Под видом скорейшего издания разоблачительных материалов Долгорукова некто Постников, оказавшийся подготовленным агентом Третьего отделения К. А. Романном, входит в доверие к соратникам Герцена, получает обманным путем от Тхоржевского и Огарева секретнейшие бумаги князя и вскоре переправляет их в Петербург[180].
До поры Герцен полагал, что еще крепок, «здоров, как бык» (не считая, конечно, навязчивых мигреней), но и по делу медицины и собственного здоровья терпел фиаско.
Открывшийся у него диабет требовал немедленного врачебного вмешательства. Доктор Сергей Петрович Боткин, брат небезызвестного Василия Петровича, врач первоклассный, ставит диагноз и, вслед за швейцарским профессором гигиены Адольфом Фогтом, советует ехать «на воды» в Виши или Карлсбад.
Врачебное предписание будет исполнено, но лечение в Виши к успеху не приведет. (Из-за развития диабета Герцена постоянно, «до лихорадки», будет мучить боль от появившихся на руках чирьев.)
Думая о будущем своих детей, Герцен не склонен отодвигать вопрос собственной смерти. Вся практическая финансово-наследственная сторона семьи давно решена, и в завещании четко указаны все доли наследства.
Но вот сознание, что в сердцах его младших детей «останутся пустоты», бесконечно ранит его. Ольга, не знавшая свою покойную мать и всю красоту ее характера, теперь страстно привязана к Мальвиде. Да и сам он останется в памяти дочери «словно какой-то чужедальний друг… довольно расплывчатый, довольно неизвестный…».
Итог для него мучительный: не смог приобщить дочь «к нашему образу жизни», и она не сможет его понять, не зная русского языка и созданных им книг.
Свидания с отцом все чаще отодвигаются не только по воле Мейзенбуг, Ольга неохотно расстается со своей «второй матерью». Герцену снятся тревожащие, печальные сны. Проснувшись, в смятении вспоминает, как ожидает Ольгу на железной дороге, а «поезд подходит — неосвященный». Дочь «выходит раздетая, истерзанная», больная. Он берет ее на руки, а она падает на мостовую…
Семейная тайна о рождении младшей дочери, скрытая до поры даже от старших детей, — еще больший камень преткновения. И в этом немалая доля его вины. Вопрос уже близок к решению, но как сделать это безболезненнее для Лизы и Ольги?
«Полный разрыв или официальное житье вместе» — в конце концов, Герцен вынужден принять эту альтернативу Тучковой и решительно, безусловно согласиться на всё. В начале 1869 года Наталья Алексеевна получает его фамилию (которую носит до возвращения в Россию в 1876 году), и младшим детям — еще неосведомленной Ольге и, главное, Лизе — раскрывается семейный секрет.
Свое решение упорядочить семейное положение Герцен доверяет верной Марии Рейхель: «Хотя я с вами об этом не говорил — но полагаю, вы знаете, что Лиза — моя дочь. <…> Ог[арев] первый знал все — все было откровенно и чисто, и наши отношения скорее теснее сблизились от общего доверия, чем потерялись. Но мне под конец стало тяжело, что вы и пять, шесть близких людей — или не знаете, или думаете, что я не доверяю, скрываю».
Наталья Алексеевна открывается в письме другому близкому человеку из их московского окружения — Татьяне Алексеевне Астраковой. За 27 дней до кончины Герцена она исповедуется в рассказе о собственной жизни, «исполненной лишений, недоразумений, тяжелых тайн»: «Дайте мне быть откровенной, дайте мне сегодня высказаться насколько можно письменно, — вот тринадцать почти лет, как мы благородно и дружески расстались с Н[иколаем] П[латоновичем]. Нам обоим было тяжело, мне многого стоил этот жесткий поступок. <…> С одной стороны, я казалась какой-то жертвой — и это было тяжело на совести — с другой — дочь моя росла — я хотела, чтоб она знала истину, знала свою семью, сблизилась бы с ней неразрывнее — она слишком была одинока, и я ожидала со временем упреков с ее стороны: зачем не живем вместе с ее отцом…»
Рассечь трагический узел Герцен так и не смог. Не было мира общественного, не было мира семейного, не было мира душевного, а она, эта безжалостная судьба, готовила все новые испытания.
Двадцать девятого октября 1869 года Герцен получил от сына сообщение о «сильном нервном расстройстве» Таты и немедленно выехал во Флоренцию. Жесткая телеграмма Саши: «Расстройство умственных способностей» — будто свела Герцена с ума. Встреча с любимой дочерью была как «удар грома средь осеннего спокойного времени», который «расшиб» его. Положение больной казалось ужасным, необъяснимым. И Герцен вместе с приехавшей по его просьбе Тучковой взялись за спасение Таты и выходили ее.
Некоторое время тому назад во Флоренции Герцен познакомился со слепым итальянцем Пенизи и находил в нем множество достоинств: «Я еще такого чуда не видывал». Он и поэт, и полиглот, владеющий многими языками, и несравненный музыкант. Готов даже взяться за переводы его сочинений. Тата не отказывалась от интересного общения и даже давала Пенизи уроки русского языка.
Чрезмерно настойчивый, преследующий Тату и добивающийся ее любви, Пенизи стал настолько неотвязной тенью в жизни девушки, что случилась трагедия. Боясь его оскорбить, резко отдалив от себя, на чем настаивал и Герцен (уж скольких прекрасных претендентов на руку дочери было отведено — Шифф, Лугинин, Мещерский), Тата была не в силах порвать с несчастным, постоянно испытывая чувство вины. А он угрожал, что убьет себя, что расправится с ее семьей. Душевный срыв очень хрупкой психически Таты словно бы стал повторением истории ее матери. Опять Гервег! Пенизи — второй Гервег! — восклицала она в смятении.
Потрясение стало слишком тяжелым для отца, свято привязанного к дочери.
Герцену было трудно. Ах, как трудно было Герцену! Он настаивал, неистово любил, страстно проповедовал, был не прав, раздражителен, добр, обидчив и прозорлив до прозрения… Он возводил, строил здание расколовшейся семьи по кирпичику, упорно и терпеливо, и брался за постройку заново, когда удары судьбы вновь настигали его.
За несколько недель до смерти в письмах Огареву Герценом подытоживалась трагическая история его постоянных усилий: «Ни Мейз[енбуг] не позволит мне иметь влияния (т. е. не некоторого, а общего и полного) на Ольгу, ни N[atalie] — на Лизу. <…> Итак, в детях главная казнь — и казнь, равно падающая на них, как на меня». «Ну, милая идеалистка… отомстила мне за выход из дома в 1856 году. Ольга (ей стукнуло 18 лет) — не имеет ничего общего с нами…»
«Сколько исторических событий пронеслось… и каждый год отрывал клочья нашей плоти». Герцену оставалось признать, что «жизнь частная — погублена».
После Швейцарии, «родины № 2», окончательно переставшей быть его постоянным местожительством, после закрытия «Колокола», после краткой остановки в Пранжене, немилосердная жизнь вновь гнала вечного странника вслед за Тучковой и Лизой. Города менялись, как в калейдоскопе: Париж, Виши, Лион, Женева, Лозанна, Цюрих, Женева, Лион, Марсель, Ницца, Марсель, Женева, Страсбург, Брюссель… а он все еще надеялся, ездил, искал… Может быть, остановиться на Брюсселе «до возвращения в Париж или в Россию?» Где разбить свой дом и поселить там всех?
«О России и думать нечего — Америка, Англия и… разве Париж. В Париже надобно больше самодельной работы…» — рассуждал Герцен в письме Огареву, предлагая с половины марта 1869-го начать там печатание «Полярной звезды».
«Звезда» в последний раз засияла после шестилетнего перерыва в ноябре 1868 года, когда вышла последняя, восьмая книжка на 1869 год. Заказов на печать в типографии больше не поступало. Связи с Россией оборвались. Альманах включил исключительно сочинения Герцена и Огарева.
Большую его часть заняли главы из «Былого и дум». Вновь обратился Герцен к своему «Доктору Крупову», опубликовав своеобразное продолжение повести в виде «Сочинения прозектора и адъюнкт-профессора Тита Левиафанского» — «Aphorismata» [Афоризмы]. Ученик Крупова, следуя его теории, продолжал защищать мысль доктора о безумии как основе человеческого существования.
Важной стала идеологическая статья «Еще раз Базаров» (1868), вызванная знакомством Герцена с сочинением Писарева «Базаров» и другими работами талантливого критика из поколения нигилистов. Статья подводила к краю непрекращающейся полемики с «молодой эмиграцией», нигилистами, «базароидами».
Герцен решился отразить «грубый хвастливый материализм» своих противников, их ненависть к дворянскому поколению и его культуре, снисходительное отношение к Белинскому, презрение к создателям вольной прессы. И вместе с тем он размышлял о сути нового явления — нигилизма, прекрасно освоенного и прочувствованного в романах его друга Тургенева.
Еще в письме Бакунину 1867 года, в связи с брошюрой «Наши домашние дела», Герцен в раздражении писал об особом характере ненавистной ему «молодой эмиграции» в лице Серно-Соловьевича, к которой никак нельзя приложить термин нигилизм: «Страшно то, что большинство молодежи такое и что мы все помогли ему таким быть. Я много думал об этом последнее время и даже писал, не для печати теперь. Это не нигилизм; нигилизм — явление великое в русском развитии».
В статье «Еще раз Базаров» понятию нигилизма придано широкое философское осмысление. Герцен считал, что модное определение прижилось и у друзей, и у врагов. И, соответственно, «попав в полицейский признак, оно стало доносом, обидой у одних, похвалой у других».
Расширение понятия «нигилизм», который «яснее сознал себя, долею стал доктриной, принял в себя многое из науки и вызвал деятелей с огромными силами, с огромными талантами…». Все это неоспоримо. Но новых начал, принципов он не внес.
«Или где же они?» — повторял Герцен свои сомнения относительно нового явления русской жизни.
После трехлетнего расхождения, можно даже сказать — ссоры, Тургенев первый подал руку к «замирению», прислал Герцену свой новый роман.
Герцен прочитал «Дым» (1867) еще в «Русском вестнике», отозвался зло. В «Колоколе» поместил статью «Отцы сделались дедами». Отношения, часто прерываемые, тем не менее продолжились. В примирительном письме Тургенев убеждал старого друга в незначительности своих «политических грехов» и мелких прегрешений по отношению к нему. Считал, что их позиции значительно сблизились, ведь и его партия молодых эмигрантов «пожаловала в отсталые и реаки; расстояние между ними и поуменьшилось».
Герцен соглашался «похерить счет» былым обидам, объяснял, что шуточная его заметка о «Дыме» идет вовсе «не из злобы»: «…мои зубы против тебя давно выпали». Тургенев по-прежнему жаловался Герцену, что его «грызут отношения с Катковым»; снова испытывал неловкость, что печатается в «Русском вестнике». И продолжал…
Последние годы Герцен особенно цеплялся за работу. Читал, и «почти всё с омерзением» — российская печать не радовала. Писал не слишком много. По шедшим корректурам перекладывал основной труд на Огарева: «Поправь, убавь, прибавь». В марте 1869-го взялся за повесть «Доктор, умирающий и мертвые». Думал о ней, когда еще спорил с Тургеневым в «Концах и началах» «о типе Дон-Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан».
Сложный трехчастный сюжет, рассказ доктора о последнем из якобинцев, умирающем в день Февральской революции 1848 года на руках своего сына, отнюдь не унаследовавшего его идей, развертывался в повествование о революционных поколениях 1789, 1848 годов, продолженных с выходом на историческую арену новых людей, «новых сил», готовых к новой революции.
Грозовое время особенно ощущалось в Париже 1869 года. И тут уж было не до прежних теорий об «умирающей» Европе. Герцен характеризовал Огареву парижское «пекло» и «электрическую атмосферу» в очередной свой приезд во французскую столицу, заключая в письме 21 октября: «Здесь хаос, и мы бродим на вулкане».
Перспективы исторического развития Европы, о которых он прежде полемизировал с Тургеневым, окончательно пересматривались.
Одновременно с работой над последней повестью Герцен посчитал необходимым поставить точку в многолетней полемике с Бакуниным и взялся за письма «К старому товарищу».
Глава 34
«МЕЖДУ СТАРИЧКАМИ». ГЕРЦЕН ПРОТИВ БАКУНИНА
Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть…
А. И. Герцен. К старому товарищу
С тех пор как осенью 1867 года явился в Женеву Бакунин, деятельность эмиграции резко активизировалась. Герцен, уже обжегшийся на фантастическом польском проекте старого друга, не хотел, даже сознательно, идти у него на поводу.
Дружба может многое вытерпеть. Она необъективна и изменчива. Герцену жаль людей, которых любил. Уж сколько времени прошло с того дня, как в юной жизни Александра появился Михаил, бескомпромиссный, отважно-безрассудный, одержимый философией Гегеля. Сколько расставаний, сожалений, тревог, горестей, обид, резких несогласий, а все равно дорогому другу многое прощал, взяв часть вины на себя, «потому, что уступал от слабости и нежелания спорить».
«Бакунин имел много недостатков, — писал Герцен в „Былом и думах“, вырисовывая образ старого товарища в главе „Бакунин и польское дело“. — Но недостатки его были мелки, а сильные качества — крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни? <…>
В Лондоне он, во-первых, стал революционировать „Колокол“ и говорил в 1862 против нас почти то, что говорил в 1847 про Белинского. Мало было пропаганды, надобно было неминуемое приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были „посвященные и полупосвященные братья“, организация в крае, — славянская организация, польская организация. Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, что в скором времени поставит нас на путь истинный».
Полемика с Бакуниным в частных письмах Герцена началась давно. Упреки Герцена за отказ от революционных идей, за предпочтение мирного пути, за непонимание молодых, истинных хозяев положения, когда на повестке дня лишь одна правда «бунтовская, Стеньки-Разиновская, пугачевская», сыпались как из рога изобилия. Теперь оставалось ответить Бакунину в печати.
Герцен понимал, что «многое лежит на совести Михаила Александровича» и не пора ли положить предел.
Письма «К старому товарищу», да еще полемические, резко критические — не простая задача. Осенью 1868-го Герцен взялся за нелегкий труд. Долго примеривался к нужной форме, без конца совершенствовал, перерабатывал редакции. Думал даже поместить письма в России (конечно, без имен и личных намеков). Обращался и к Пятковскому, знакомому редактору петербургской «Недели», в которой в 1869 году опубликует свой цикл «Скуки ради», и даже — в «Отечественные записки».
Однако Некрасов счел это дело безнадежным: «необыкновенная типичность герценовского слога» узнавалась во всем, а по когтям, как известно, и лев узнаваем. Некрасов приводил свой главный довод: «надзирающим властям» — не помеха всякие псевдонимы, а «опасные для судьбы журнала последствия» — велики.
По мере того как создавались и совершенствовались письма, и Огарев, и Тучкова, и Саша с Татой периодически посвящались в замыслы Герцена, ему казалось, что Ник с ним заодно.
Работалось Герцену не слишком ловко. Но первый набросок работы уже в январе 1869-го получил, казалось бы, мирное заглавие: «Между старичками».
Около 10 мая вышла в Женеве брошюра Бакунина «Постановка революционного вопроса». И тут уж Михаил Александрович «совсем закусил удила». Герцен уверен, что новая статья «наделает страшных бед», и решение сразу же принял. «Я буду протестовать и снимаю всякую солидарность», — пишет он 11 мая Тучковой.
Герцен окончательно оформил четыре письма цикла, под которыми стоят даты: 15 января, 25 января, июль, август 1869-го. Первые два письма написаны в Ницце. Третье — в Брюсселе и Париже, а последнее — в Брюсселе.
Окончательная редакция писем, считается, была неизвестна Бакунину и попала в его руки после 1870 года в сборнике посмертных статей Герцена, как, впрочем, и глава о нем в «Былом и думах». Еще не прочитав письма, он просил Огарева непременно прислать книгу их общего друга: «Он, говорят, много толкует, и, разумеется, с фальшивой недоброжелательностью, кисло-сладкою симпатиею обо мне. Надо же мне прочесть, а, пожалуй, и ответить».
Ни Бакунин, ни Огарев, принявший инициативу на себя, не ответили на письма «К старому товарищу». Огарев, как всегда примиряюще, писал Бакунину: «Обидного в них для тебя ничего нет, правды в них много, но согласиться с ними целиком я не могу».
Известно, в дальнейшем критика была и «слева» и «справа». И каждый из оппонентов в письмах находил свое[181].
Как же читаются ныне письма «К старому товарищу»?
Заинтересованный читатель обратится к этой последней, итоговой работе, несомненному результату герценовской идейно-политической эволюции.
Изменился ли Герцен в своих воззрениях на революцию, на невозможность достижения цели насильственными методами, на закономерную предпочтительность только эволюционного пути в развитии России?
В первом письме Герцен уточняет суть расхождений со старым товарищем, разрешение серьезного социально-экономического вопроса, который «ставится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад», ибо опыт французской революции, «грозный пример кровавого восстания», не имел ни знамени, ни продуктивного завета и привел только к экономическим «промахам», «к разорению, к застою», к усилившейся реакции.
Первый, приводимый Герценом аргумент: чтобы перейти к новым социально-экономическим отношениям важна длительная подготовка, подчиненная определенным законам. «Наше время — именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам». Автор письма уверен, что время для подобной «работы осуществления» еще не пришло, «старый мир» еще крепок и нельзя идти «зря, на авось».
Яркие доказательства Герцена развивают его позицию: «Новый водворяющийся порядок (в автографе эти три слова стоят вместо зачеркнутого слова „социализм“. — И. Ж.) должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании». (Полемика с высказыванием тургеневского героя Базарова очевидна.)
Письмо второе проявляет интерес к уже выдвинувшимся на арену политической жизни «международным работничьим съездам» (конгрессам Первого интернационала), в которых ставится «один социальный вопрос за другим». Герцен отмечает все более организующие «работничьи лиги».
«Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое „государство в государстве“, достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства».
Однако Герцен, следивший за работой Международного товарищества рабочих, далек от признания силы и влияния Первого интернационала, руководимого Марксом, чем вызваны все навешанные на Герцена (после затверженной статьи Ленина) укоризны и обвинения в «непонимании», «остановке» и пр.
Конечно, Герцен не отступает от собственной теории русского крестьянского социализма (утопической, как теперь понятно, так и не оправдавшей себя). Но главное, он готов опровергнуть Бакунина в его нетерпеливом стремлении разрушить государство и приблизить революцию, которая истребит решительно всё.
Уже во втором письме кредо Герцена выражено с потрясающей афористичной определенностью:
«Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разно стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть… ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти».
Глава 35 БАКУНИН — ОГАРЕВ — НЕЧАЕВ
Мы на многое смотрим больше разно, чем прежде.
А. И. Герцен — Н. П. Огареву
Кончались 1860-е годы. Историкам эпохи и современникам Герцена да и самому Александру Ивановичу казалось, что и его эпоха кончалась. Основания были. За рулем влияния оказались новые люди. «Штурманы будущей бури», как названы они Герценом в точном предвидении, повторенном вождем пролетариата. На вахту заступили революционеры-разночинцы, молодые бунтари, отбросившие Герцена с дороги истории. Время его Вольной печати прошло, его теории достижения прогресса без кровавых средств — преданы поруганию. Молодые начинали резко, без всякой подготовки, с места в карьер, прямо с переворота.
За Чернышевским с его романом и «знаковым» героем Рахметовым последовали более радикальные, реальные личности, как Нечаев, с ожесточенной преступностью которых (цель оправдывает средства, а средство — это убийство) Герцен уже не мог справиться. Их противостояние, вражда, выросшая в прямой поединок-столкновение, не принесло победы Герцену.
Не говоря о Бакунине, постоянно выискивающем любой повод для «вспышкопускательства», готовом раздуть в пожар любую тлеющую искру, и лучший друг Огарев оказался в стане противника. Никакие уговоры, разоблачения и доказательства, выдвинутые Герценом против Нечаева, не смогли убедить стареющего, больного, прежде верного, неизменного соратника, остававшегося в последний год жизни Герцена в отрыве от него. Огарев и Герцен жили в разных странах, виделись редко, и общаться, по большей части, приходилось письмами.
Друзья и сподвижники, в лучшем случае, отошли, а некоторые, как Кельсиев, предали.
Герцен терял последнюю опору в дружбе — Огарева, и тот переметнулся на сторону Бакунина и Нечаева. Словно подвергся дурману их с Бакуниным влияния. Эти господа — Нечаев и Бакунин, замечала Тучкова, буквально «завладели волей Огарева».
Герцену и прежде пеняли его друзья, Тургенев, например, не жаловавший Огарева; говоривший, что он путаник, что в невнятице его запылившихся статей невозможно добраться до смысла.
Но Герцен никогда не давал в обиду друга.
Огареву казалось, что в России — оживление, что она на пороге резких перемен. На этот раз социальные «химеры» Огарева возобновились с появлением в Женеве Нечаева.
Работы, как представлялось Николаю Платоновичу, было непочатый край. Союз с «молодой эмиграцией», с Бакуниным, расширение возможностей революционной деятельности с Нечаевым все больше отдаляли его от Герцена.
Нечаев — в череде новых людей — особое, страшное явление. Высшая точка нараставшего спора Герцена с молодой эмиграцией. И Герцен был вовлечен в настоящую войну после пришествия нового «апостола» кровавой революции.
Несколько прямо-таки детективных историй на протяжении последних двенадцати лет жизни Александра Ивановича вдруг связались в один узел. И, как всегда, немаловажными в жизненном противостоянии и в споре «из-за наследства» оказались деньги.
«Загадкой Бахметьева», «особенного человека» (фамилией его, считается, воспользовался Чернышевский для своего героя Рахметова), назван этот феноменальный, так и не разгаданный эпизод в истории революционно-освободительного движения.
В один из августовских дней 1857 года, когда «русское паломничество в Путней» стало уже признанным фактом популярности вольных изданий, Герцен получает записку от неизвестного ему саратовского помещика П. И. Бахметьева с просьбой принять его. За встречей в одном из лондонских отелей следует приглашение Герцена посетить его дом.
Через несколько дней, видимо, после впечатляющего визита в Путней, Бахметьев встречает Герцена на улице и сообщает ему о созревшем у него решении отправиться на «Маркизовы острова», чтобы «завести колонию на совершенно социальных основаниях». Спросив у Герцена, не коммерческое ли у него предприятие, и получив отрицательный ответ, он заявляет о намерении оставить деньги для нужд типографии или «для русской пропаганды вообще». Герцен отказывается (средств для типографии у него предостаточно) и отговаривает молодого человека от поездки. Ограбят по дороге, а то и вовсе жизни лишат.
Немалая по тому времени сумма в 800 фунтов стерлингов все же передана Герцену по всем юридическим правилам в банке Л. Ротшильда. Герцен уполномочен, в случае смерти жертвователя, употребить капитал «так, как лично… условлено» между ним [Бахметьевым], Герценом и Огаревым. Далее следы Бахметьева теряются, а оставленные деньги неизменно сохраняются в неприкосновенном Общем фонде.
Проходит более десятилетия, и в один из весенних дней 1869 года за границей появляется Нечаев. За ним тянется (известный в истории революционного движения) кровавый след вдохновителя убийства студента Петровской сельскохозяйственной академии И. Иванова, отказавшегося подчиниться нечаевской диктатуре в кружке тайных заговорщиков, перешедшем к устранению неугодных членов.
И вот на имя Герцена приходит письмо от некого студента, якобы «только что удравшего из Петропавловской крепости». Огареву, переправившему письмо Герцену с просьбой напечатать прокламацию, обращенную к студентам университета, академии и Технологического института (с подписью «Ваш Нечаев»), чудится, что это представитель тайной революционной организации в России, имеющей большое влияние, а, значит, есть перспективы продолжать борьбу, что «поворачивает на воскресенье заграничной прессы». Герцен откликается: пустить прокламацию в Прибавлении к замолкнувшему «Колоколу»? Да это «просто шлехтодыровато».
Ироничная оценка друга Огарева не останавливает. Смириться с таким неприятием Герцена Николай Платонович, пригревший «внучка» (как ласково называет Нечаева), просто не мог. Пристрастие к конспиративной работе, уже продвинувшей создателя планов тайного общества к полному краху, не покидало его.
Развитие событий в отношениях Огарев — Бакунин — Нечаев — Герцен показало, что Нечаев и не думал восхищаться деятельностью ни дедов, ни отцов, что перед ним стояли чисто прагматические задачи: использовать имя и деньги создателя заграничной печати для целей собственной революционной пропаганды, конечно, понимаемой им по-своему.
В Женеве Нечаев появился в начале апреля 1869-го и непредсказуемо быстро попал под покровительство Бакунина, сблизившись с ним. Их продолжительные беседы, зажигательные речи неистового юноши, его неукротимая энергия, сразившая даже Бакунина, стали залогом полного доверия к будущему организатору революционной пропаганды в России. Огарев увидел в молодом своем друге настоящего вожака, «революционера новой формации», способного «стать руководящей силой будущей крестьянской революции».
Герцен протестовал, осуждал развернутую «троицей» пропагандистскую кампанию. На все просьбы Огарева печатать прокламации, иногда даже за подписью Герцена, он отвечал решительно: нет. Ему было горько и обидно, что он «чуть ли не в первый раз не только не согласен» с другом, но и не уступает ему.
Протесты Герцена против печатной агитации развертывались все шире. Личность Нечаева была ему глубоко антипатична. Разногласия в спорах достигли высшей точки кипения, когда вставали вопросы о продолжении «Колокола» под эгидой Нечаева, а главное, о получении средств из бахметьевского фонда. И все же Герцен должен был уступить. Огарев аргументировал свою настойчивость: деньги от Бахметьева получены под их общую с Герценом расписку. Герцен сдался. Перед самой его смертью возвратившийся в Женеву Нечаев потребовал от него и второй половины оставшихся в фонде средств.
Трагедия зашла слишком далеко. В нечаевскую историю, «русское дело», была вовлечена после смерти отца Наталья Александровна, Тата Герцен, которая объявлялась Бакуниным «архивариусом», «хранителем всех писем и финансовых документов», отложившихся в совместных действиях «тройки» — Бакунина и Огарева с Нечаевым.
В Женеву Тата приехала увидеться с Огаревым, едва оправившись от болезни и мучительных переживаний от невосполнимой потери отца. В доме Аги она и встретилась с Нечаевым. Смутные мысли о наставлениях Герцена продолжить его дело («Ты мой Петр — „на котором созижду храм мой…“» — весело когда-то понукал отец не слишком деятельную дочь), растерянность одиночества (сестра Ольга — в руках Мейзенбуг, брат Александр — счастливый семьянин) наводили ее на мысль: «Надобно бы что-нибудь да делать для других…» И она решилась.
Сближения с Татой симпатизирующий ей Нечаев добивался, не только расчетливо полагаясь на финансовую поддержку (А. Герцен-сын уже и так согласился на передачу второй половины бахметьевского фонда): Нечаеву нужно было имя Герцена, которое могла бы дать его дочь неким своим участием в издании его, нечаевского, возобновленного «Колокола». И пара номеров газеты действительно вышла под прежним заголовком, несмотря на убедительные просьбы семьи. Кстати, все члены ее на протяжении десятилетий окружали эту частную историю в биографии Таты непроницаемой тайной, не выпуская из своих архивов компрометирующие семью документы.
Общественное обсуждение истории убийства Нечаевым студента Иванова, страшных перипетий деятельности человека вне нравственности, политического интригана, преследование властями «руководителя тайной организации» проходило в России бурно. Грозное общество, названное «Народной расправой», писания Нечаева, вроде «Катехизиса революционера», и рассылаемые по многим адресам письма о готовящемся убийстве адресатов, навели в России ужас.
Своих бывших сотоварищей — Бакунина и Огарева Нечаев тоже не пощадил, предал и Тату, украв ряд документов, которые, как он считал, могли бы их всех скомпрометировать.
Впоследствии, выданный швейцарским правительством российским властям, Нечаев был приговорен к двадцатилетней каторге и невеселый свой конец застал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, откуда, якобы при начале революционной карьеры, каким-то фантастическим образом ему удалось «удрать».
Страшные события нашествия «бесов», крайних радикалов-революционеров на подобие Нечаева, еще долго не могли успокоить общество. Они дали материал Достоевскому для его романа как неоспоримые факты исторического времени. Среди прототипов персонажей «Бесов», да и прежних его сочинений, угадывались деятели радикального революционного крыла и ненавистные писателю либеральные представители общества.
Итак, в последнем своем поединке с вражеской силой Нечаевых Герцен, как мог, доказывал Огареву свою правоту, но вынужден был отступить.
Горькие разочарования Герцена в последние месяцы жизни, когда страшный удар — болезнь Таты, буквально сразил его, остались как темные пятна в записях дневника.
Второго декабря 1869 года он не стеснялся с горечью признаться себе, что «они», «сложившиеся разрушителями», «ничего не создали, не воспитали. Последствие непростительно — нигилизм в окружающих людях в отношении к семье, к детям».
Эта мысль не оставляла его. «Вера обломилась». Через два дня, 4 декабря, он признавался сыну: «Я ничего не жду, ни в кого не верю. Я даже не особенно желаю долгого продолжения жизни. Того добра, которое я хотел бы сделать, того добра, которое соответствует моей любви, — я не умею и не могу сделать. <…> Мы родились в среде — в которой нужно было смелое отрицание и безжалостное разрушение. Мы сделали свое… будьте счастливее нас…»
В этом его признании как не услышать парафраз прежнего его завещания юному Саше, прописанного в очень личной книге «С того берега»: «Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек… ставит только мост… Ты, может, увидишь его…»
Наверное, многое в суждениях и поступках Герцена объясняет одна из последних записей в том же отрывочном дневничке: «Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный, прощает только сильный… да и смеется сильный, часто его смех — слезы».
Глава 36
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ПАРИЖЕ
Видно, нам России еще долго не видеть…
А. И. Герцен — И. С. Тургеневу
Восемнадцатое декабря 1869-го — последняя остановка Александра Ивановича на пути «кружений по свету».
В Париж он приехал с Тучковой, Лизой и Татой. Старшая дочь едва оправлялась после болезни.
Перед самым новым годом перебрались со всем своим походным скарбом из шикарного Луврского отеля в меблированную квартиру («Павильон Роан»), разместившуюся в том же доме, только со стороны Риволи. На длинной и просторной улице, только что отстроенной по грандиозному плану преобразования столицы, укрылся тихий проулок «Роан», поименованный в честь кардинала и великого капеллана Франции.
Здесь, в одном из солидных однотипных сооружений, прикрытых галереями, где укрылись модные магазины, по адресу: 172, Rue de Rivoli, Pavilion Rohan, в снятом Герценом пансионе, в «роковом доме», как назвала его Тучкова, и прошли три последние недели его жизни.
Ничего не предвещало, что эта тихая пристань окажется последней.
Герцен не пропускал почти ни дня, чтобы не написать Огареву, отвечал на письма и, поскольку плохо работалось, много читал.
Бакунин постоянно тормошил его, решая финансовые дела с аннексированными суммами из бахметьевского фонда; сообщал, что взялся за перевод Марксова «Капитала».
Собирались знакомые. По обозначенным для приемов «средам» приходили П. Д. Боборыкин и Г. Н. Вырубов. Один — модный литератор, бывший в курсе литературной жизни столиц, второй — философ, заядлый спорщик, редактор позитивистского журнала «Revue philosophique de la France», в котором участвовали Герцен и его сын Саша, не упускали возможности всласть поговорить, поспорить и даже посплетничать. И Герцен тут — не исключение.
«С великими дружбами» явился старик Д. Н. Свербеев, тот незабвенный москвич, в салоне которого на вечерах, в дальней московской дали, Герцен когда-то бывал. Да, в том самом родственном доме дядюшки Яковлева на Тверском, где он родился. Заходила старая приятельница Е. Салиас, и «длинные разговоры» опять сводились к запутанным семейным обстоятельствам.
События больно задевали, «неслись вихрем». 12 января весь Париж хоронил убитого принцем Наполеоном, членом императорской фамилии, молодого оппозиционного журналиста Виктора Ле Нуара. Все это чрезмерно волновало Герцена. Он наблюдал на улицах, как людские толпы возвращались с кладбища из предместья Нейи. Лиза, чрезмерно «политизированная» всем образом жизни отца, была полна энтузиазма и, выйдя на улицу Риволи, подпевала Марсельезу, выкрикивая: «Долой императора, долой тиранов и убийц, да здравствует свобода!»
Через день после похорон, потрясенный размахом настоящей антиправительственной демонстрации, Герцен писал Огареву: «Что будет — не знаю, я — не пророк, но что история совершает свой акт здесь… — это ясно до очевидности». (События Парижской коммуны 1871 года не замедлили подтвердить тяжелые предвидения Герцена.)
«После семилетней разлуки» появился Тургенев. Первый раз зашел — Герцена не застал. На следующий день они встретятся.
Герцен улыбнется (всегда любил говорить о нем в полунасмешливом тоне): «…весел и здоров, как никогда»; «у него подагра и больше, кажется, ничего».
Тургенев только что приехал из Баден-Бадена, куда вскоре вновь устремится.
Особо видеться не хотелось. Хотя и смеялись, и Тургенев сыпал остротами, беседа показалась Герцену натужной. Уходя, Иван Сергеевич спросил, бывает ли Герцен дома по вечерам. Назавтра хотел прийти снова.
Этот следующий день пал на субботу, 15 декабря. Тургенев застал друга уже в постели. Ночью у Герцена был сильный жар, болел бок, и срочно вызванный доктор, знаменитый клиницист Ж. М. Шарко, принимал все неотложные меры.
Накануне Герцен вернулся с публичной лекции, в зале было жарко, и он, очевидно, простудился. Диагноз Шарко — воспаление в левом легком — показался фатальным. Тучкова вспомнила, что Александр Иванович часто говорил, что «умрет или параличом, или воспалением легких».
Герцен волновался, что воспаление распространяется, боли в боку и в ногах не оставляли, но в письме Саше он уверял, что опасности нет никакой…
Шестнадцатого января 1870 года, в воскресенье, на клочке прозрачной бумаги Герцен едва вывел слова: «Шарко меня решительно положил в постель. Скучно, глупо — небольшое воспаление в груди. По-моему, сегодня лучше. Затем прощай»[182].
Семнадцатого января Шарко и вправду заметил некоторое улучшение: и пульс, и лихорадка слабее.
Восемнадцатого января Шарко вновь повторил, что не видит опасности. Тата принялась за письмо Огареву: «Доктор находит, что лихорадка значительно уменьшилась. — Жажда и голод продолжаются…»
Сквозь предсмертную улыбку, с трудом, он приписывал к Татиному письму: «Умора да и только — кажется, дни в два пройдет главное. Прощай».
И это последние слова Герцена, написанные его рукой.
В ночь на четверг, 20 января, вдруг наступило улучшение. Герцен умылся, переоделся, «вообще был в приподнятом настроении». Просил телеграфировать Тхоржевскому. Огарев уже был извещен.
Днем 20-го появился бред, и в сознание Герцен почти не приходил. Последнюю ночь близкие не оставляли его. Тата держала его левую руку, и он, казалось, смотрел на любимую дочь. Тучкова держала другую его руку. Лиза и Ольга стояли возле кровати за Татой, Мейзенбуг — поодаль.
К двум часам дыхание стало тихим и редким, и вскоре «наступила та страшная тишина, которую слышно».
Смерть настигла Герцена в половине третьего ночи, с 20 на 21 января 1870 года по европейскому стилю. В России в эти дни, 8–9 января, праздновали Рождество.
Не слишком долгая физическая жизнь — 57 лет, начавшаяся в весенний день Благовещения, оборвалась…
Внезапная трагедия оглушила Тучкову, отняла понимание о прошлых ударах: «О, какие страшные дни и ночи я провела у его постели…» Вспоминала, как, умирая, Герцен говорил: «„Отчего бы не ехать нам в Россию“, и казалось, ничего более не желал».
Двадцать третьего января провожали гроб Герцена на кладбище «Пер-Лашез», чтобы потом перевезти его в Ниццу и похоронить рядом с Натальей Александровной.
Народу было немного. Человек сорок пришедших заранее сопровождали три траурных экипажа. Вынос тела парижская полиция перенесла с 11 утра на час раньше, ибо «не была уверена в благополучном исходе погребального шествия по городу». Вероятно, опасалась и новых манифестаций. Свидетельство, не часто поминаемое, сообщало, что распоряжение вынести тело в 10 часов утра «было дано только гробовщику, изобретательности которого предоставлялось объяснение с семьей и друзьями».
Из-за потрясения и неоставляющей болезни не смог приехать Огарев. Накануне кончины Герцена стремительно уехал в Баден-Баден Тургенев, надеясь, что его известят о состоянии здоровья «бедного Герцена».
Общее количество присутствующих, когда к траурной процессии присоединились на кладбище многие опоздавшие, говорят, доходило до пятисот. Скорбное слово, когда гроб был поставлен во временный склеп, произнес Г. Н. Вырубов. Его выступление было единственным. Семья просила не произносить у могилы речей.
Вырубов говорил, что «придет день, и соотечественники лучше поймут свою историю» и «воздвигнут памятник, и на нем вырежут слова: „Великому гражданину, великому изгнаннику — Александру Герцену — благодарная Россия…“».
Член Учредительного собрания 1848 года П. Малярдье положил на гроб Герцена букет иммортелей, громко произнеся только три емких слова: «Вольтеру XIX столетия».
Упокоился Герцен в Ницце, над Средиземным морем, на кладбище «Шато», как и завещал, — возле своих близких. Впоследствии ему поставили памятник, бронзовый, во весь рост, работы скульптора П. П. Забелло.
После смерти друга Огареву, постаревшему, сильно сдавшему, хоть и полному жажды Дела, оставалось жить без Герцена еще почти шесть с половиной лет. Его похоронили в Гринвиче 12 июня 1877 года.
На старой выцветшей фотографии, снятой на кладбище «Шутерс-хилл», у могилы Огарева заметим скорбную фигуру «преданной Мери», выполнившей до конца свой долг признательности и любви этому странному русскому, так широко и бескорыстно служившему правде, добру и справедливости…
В год кончины Герцена Наталье Алексеевне Огаревой-Герцен было всего 40 лет. Ее жизнь растянулась еще на 43 года. В Россию она вернулась в 1876-м после гибели дочери: семнадцатилетняя Лиза Герцен, получившая свое подлинное имя в последний год жизни своего отца, покончила жизнь самоубийством 23 декабря 1875 года.
Саша, известный ученый-физиолог, прожив счастливую семейную жизнь и оставив десять детей, скончался в Лозанне в 1906 году.
Тата, неизменный патриарх огромной семьи, разбросанной по всему свету, замуж не выходила, приняв на себя роль верной хранительницы огромного наследия отца. Прожила еще 30 лет, до 1936 года.
Долгожительницей стала благополучная Ольга Герцен-Моно, жена известного французского профессора Габриеля Моно, свято почитавшая память отца. Скончалась в возрасте 103 лет (в 1953 году) на своей версальской вилле.
Повесть кончена, но жизнь продолжается…
«Победитель в момент поражения», говорят иногда о Герцене, размышляя о жизни Деятеля, Писателя, Публициста. Можно сказать по-иному: одинокий Человек, прошедший через все «Сциллы и Харибды» и оставшийся самим собой, таким же свободным и независимым. Одиноким.
Его надежды сменялись отчаянием. Разочарование — новой верой. Взгляды преобразовывало историческое время. И это не было лукавством или непониманием. Ведь он шел вперед по неизведанной местности. Искал, ошибался, прокладывал дорогу, не отступая от главной цели, следуя главному вектору своей судьбы, давая пример соотечественникам свободного мироощущения и вольной речи.
Герцен представил нам энциклопедию свободы всем опытом своей многострадальной жизни, ценой тюрем и ссылок, «проходя разгромом революций и реакций; на верху семейного счастья и разбитый, потерянный на английском берегу», ни на йоту не отступая от возможности прокричать согражданам свой свободный «печатный монолог».
POST SCRIPTUM. ДЕКАЛОГ СВОБОДЫ АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА
…Мы можем сказать, как не надобно, мы можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль…
А. И. Герцен
«Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа».
«В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе».
«…Научимтесь выносить свободу!»
«Любите свободу даже с ее неудобствами».
«…Любовь к истине требует жертв…»
«…Мы вовсе не врачи — мы боль; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем — но боль заявлена».
«Из всех преступлений я всего дальше от идолопоклонства и против второй заповеди никогда не согрешу».
«Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу: стой! — начнем с того, чтобы освободить самих себя…»
«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы».
«Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?
— От кого?
— Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!»
ИЛЛЮСТРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. И. ГЕРЦЕНА
1812, 25 марта (6 апреля по новому стилю) — рождение Александра в семье помещика-аристократа И. А. Яковлева в Москве на Тверском бульваре (ныне дом 25). Ребенок записан в канцелярском свидетельстве как «воспитанник господина Яковлева» под вымышленной «сердечной» фамилией — Герцен (от немецкого слова Herz). Мать Александра Ивановича Герцена — Генриетта Луиза Гааг, уроженка г. Штутгарта, дочь секретаря казенной палаты Готлоба Фридриха и Вильгельмины Регины Эрпф (Эрпфин), в законном браке с Яковлевым не состояла.
Начало сентября — нахождение семейств Яковлевых и Голохвастовых в горящей, опустевшей Москве.
7 сентября[183] — поручение, данное в Кремле И. А. Яковлеву Наполеоном — передать императору Александру I в Петербурге письмо с предложением мира.
Конец сентября — отъезд семьи Яковлева в ярославское владение — сельцо Глебовское Романовского уезда.
12 октября — возвращение И. А. Яковлева из Петербурга в Глебовское после непродолжительного ареста.
1813, весна — возвращение семьи в Москву.
1823, 7 августа — покупка И. А. Яковлевым дома в Старой Конюшенной, в приходе церкви Святого Власия («старый дом»).
1825, 14 декабря — восстание декабристов.
1825 или 1826 — встреча и начало дружбы с Николаем Платоновичем Огаревым.
1826, 13 июля — казнь Рылеева, Пестеля, Бестужева, Каховского, С. Муравьева-Апостола, «торжество виселиц».
19 июля — молебен в Кремле после казни декабристов, где присутствует Герцен.
1827, лето — клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах — «всю жизнь посвятить на борьбу с неправдой и пороками».
1829–1833 — годы обучения на физико-математическом отделении Московского университета. Интерес к естественным наукам и первые публикации переводов в «Вестнике естественных наук и медицины». Знакомство с Н. Сазоновым, Н. Сатиным, А. Савичем, В. Пассеком, Н. Кетчером. Кружок Герцена.
1830 — покупка И. А. Яковлевым дома в Сивцевом Вражке («большой дом»; ныне дом 29), где Герцен провел студенческие годы и был арестован.
1831, март — участие в «маловской истории», протесте студентов против профессора-ретрограда Малова.
1833, 22 июня — выпускной экзамен в университете, присвоение степени кандидата. За диссертацию «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» А. И. Герцен удостоен серебряной медали. Июнь — июль — начало переписки с Н. А. Захарьиной.
1834, 9 июля — арест Огарева по «Делу о лицах, певших пасквильные стихи».
21 июля — арест Герцена по тому же делу. Заключение в Пречистенской полицейской части. Допросы в Следственной комиссии.
Декабрь — заключение в жандармские казармы Крутицкого монастыря, написание там рассказа «Германский путешественник» («Первая встреча»).
1835, февраль — работа над повестью «Легенда» в Крутицах.
Март — приговор Следственной комиссии о ссылке Герцена в Пермь. Высылка Огарева под надзор полиции в Пензенское имение его умирающего отца.
1835–1837 — перевод Герцена в Вятку. Знакомство с П. Медведевой, с «подснежными друзьями» — А. Скворцовым, П. Тромпетер, с семействами Эрнов и Витбергов. Участие в судьбе архитектора А. Л. Витберга.
1836 — написание очерка «Гофман» — первого беллетристического сочинения, появившегося в печати. Опубликовано в журнале «Телескоп» за подписью «Искандер». («Философическое письмо» П. Я. Чаадаева напечатано в том же журнале, вскоре закрытом властями.)
1837 — участие в выставке естественных и искусственных произведений Вятской губернии. Пребывание наследника престола Александра Николаевича в Вятке. Знакомство с В. А. Жуковским. Хлопоты о переводе из вятской ссылки.
1838, 2 января — приезд Герцена во Владимир, в новую ссылку.
Март — апрель — краткие свидания в Москве с Наташей Захарьиной. Дружба с семейством Курута.
8 мая — «похищение» Натальи Александровны Захарьиной.
9 мая — венчание А. И. Герцена и Н. А. Захарьиной во Владимире.
1839, 13 июня — рождение первенца, Александра Герцена.
26 июля — высочайшее освобождение от ссылки и снятие полицейского надзора.
Осень — приезды Герцена в Москву. Знакомство с М. А. Бакуниным, Т. Н. Грановским, И. П. Галаховым, В. П. Боткиным, М. С. Щепкиным. Приезд в Москву Огарева.
Декабрь — первая поездка в Санкт-Петербург. Встреча и споры с Белинским.
1840, март — переезд с семьей из Владимира в Москву. Встреча с П. Я. Чаадаевым. Знакомство с А. С. Хомяковым.
Май — переезд в Санкт-Петербург с семьей для прохождения новой службы в канцелярии министра внутренних дел. Дружба с Белинским.
11 октября — смерть в Италии Н. В. Станкевича.
Декабрь — начало публикации «Записок одного молодого человека» в «Отечественных записках» (№ 12) (под названием «Из записок одного молодого человека»). Арест по обвинению «о распространении вредных слухов для правительства» и объявление высочайшего решения о новой ссылке.
1841, между 11 и 19 февраля — рождение второго сына, Ивана, который вскоре умер.
Июль — «Контузия № 2», ссылка в Новгород с «повышением» в соответствии с указом Правительствующего сената об утверждении Герцена советником Новгородского губернского правления.
22–24 декабря — рождение и смерть дочери Герценов Натальи.
1842, май — выход в отставку в чине надворного советника.
10 июля — официальное разрешение на переезд из Новгорода в Москву.
14 июля — приезд Герценов в Белокаменную. Устройство на проживание в снятом доме княгини Е. С. Гагариной в Малом Власьевском переулке.
Лето — осень — посещения Чаадаева на Старой Басманной. Встреча с В. В. Пассеком. Известие о его смерти. Представление Герцена семье Елагиных. Знакомство с братьями П. В. и И. В. Киреевскими. Споры и дискуссии со славянофилами. Работа над статьями цикла «Дилетантизм в науке».
30 ноября — 5 декабря — рождение и смерть сына Ивана.
1843 — публикация в «Отечественных записках» серии статей цикла «Дилетантизм в науке». Знакомство с К. Д. Кавелиным.
Лето — проживание семьи Герценов в Покровском — подмосковной вотчине Яковлевых.
26 августа — возвращение из Покровского в Москву, квартирные хлопоты и устройство в «тучковском доме» (Сивцев Вражек, 27; ныне Дом-музей А. И. Герцена). Споры с К. С. Аксаковым. Знакомство с Ю. Ф. Самариным.
Осень — начало курса публичных лекций Т. Н. Грановского в Московском университете.
30 декабря — рождение сына Герценов Николая.
1844, лето — проживание в Покровском. Работа над циклом статей «Письма об изучении природы».
Осень — возвращение в Москву. Продолжение дискуссий и противостояния западнического и славянофильского лагерей.
13 декабря — рождение дочери Герценов Натальи (Таты).
1845 — продолжение работы и публикация в «Отечественных записках» цикла статей «Письма об изучении природы».
Лето — Герцен с друзьями на даче в Соколове.
Коней, сентября — начало октября — возвращение в Москву. Публикация в «Отечественных записках» первых глав романа «Кто виноват?». Расхождения и разрыв со славянами.
30 декабря — рождение дочери Герценов Елизаветы (Лики).
1846 — работа над повестями «Сорока-воровка» и «Записки доктора Крупова». (Опубликованы в «Современнике» после отъезда Герцена за границу.)
6 мая — смерть отца, И. А. Яковлева.
Июнь — август — последнее лето в Соколове, проведенное вместе с Н. П. Огаревым и Т. Н. и Е. Б. Грановскими. Споры с друзьями и теоретические расхождения с Грановским. На даче Герценов навещают Н. А. Некрасов, Е. Ф. Корш и др.
Сентябрь — возвращение Герценов в Москву. Прошение на имя московского генерал-губернатора о разрешении на выезд семьи за границу.
4 октября — отъезд Герцена в Петербург для получения разрешения. Останавливается у И. И. Панаева, где знакомится с И. А. Гончаровым. Встреча с Ф. М. Достоевским.
Ноябрь — возвращение в Москву.
6 ноября — освобождение Герцена от полицейского надзора.
27 ноября — смерть дочери Герценов Елизаветы (Лики).
Декабрь — вручение заграничного паспорта «отставному надворному советнику Герцену, отправляющемуся с семейством за границу».
1847, 19 января — отъезд Герценов из России.
12 февраля (31 января по старому стилю) — переезд через русско-прусскую границу.
15 февраля[184] — прибытие в Кёнигсберг.
17–18 февраля — переезд из Кёнигсберга в Берлин.
25 марта — приезд Герцена с семьей после путешествия по Европе в Париж. В тот же день встречается с М. А. Бакуниным, Н. И. Сазоновым, П. В. Анненковым, знакомится с А. Рейхелем.
Весна — лето — первая встреча с Г. Гервегом, знакомство с П. Ж. Прудоном, К. Фогтом. Встреча с И. С. Тургеневым. Переезд из гостиницы в квартиру на Avenue Marigny, работа над циклом статей «Письма из Avenue Marigny». Приезд в Париж В. Г. Белинского.
21 октября — Герцены покидают Францию. Путешествие по Италии. Декабрь — написание Письма первого из цикла «Письма с Via del Corco».
1847–1851 — работа над книгой «С того берега».
1848, январь — февраль — участие Герцена в римских шествиях в связи с назревающими революционными событиями в стране (Королевстве обеих Сицилии и других областях).
Февраль — революция во Франции.
5 мая — Герцены возвращаются в Париж.
7 июня (26 мая по старому стилю) — в Петербурге скончался В. Г. Белинский.
23–26 июня — вооруженное восстание парижских рабочих («Июньские дни»).
5 июля — повеление Николая I о немедленном возвращении Герцена в Россию. Начало преследований и слежки. Обыск в квартире Герцена.
Лето — осень — работа над «Письмами из Франции и Италии» и статьями, которые войдут в книгу «С того берега».
1849, 13 июня — участие Герцена в демонстрации, требовавшей от французского правительства исполнения конституционных законов.
20 июня — «бегство» в Швейцарию от неминуемого преследования во Франции после провала выступления.
10 июля — приезд из Парижа в Женеву Н. А. Герцен и Г. Гервега. Лето — осень — встречи в Женеве с Дж. Фази, Дж. Маццини, А. Саффи, Г. Струве и др. Содействие П. Ж. Прудону в издании газеты «Voix du Peuple». Продолжение преследований русских властей. Окончательное решение Герцена остаться за границей. По резолюции Николая I на имение Герцена наложен секвестр.
27 декабря — отъезд Герцена в Париж.
1850 — издание на немецком языке книги «С того берега» и ряда статей, обращенных к западному читателю («La Russie»).
27 июня — переезд в Ниццу. «Гнездо близнецов» — период совместного проживания семей Герценов и Гервегов.
Лето — осень — работа над книгой «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии революционных идей в России»).
20 ноября — рождение дочери Герценов Ольги.
30 (18 декабря по старому стилю) декабря — приговор Петербургского надворного уголовного суда: «Подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского государства».
1851, январь — разрыв с Г. и Э. Гервег. Отъезд Гервегов из Ниццы.
Май — натурализация Герцена в Швейцарии.
Лето — осень — французское издание «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» («О развитии революционных идей в России»), Немецкое издание «Кто виноват?». Знакомство с Ж. Мишле. Работа над сочинением «Русский народ и социализм» («Письмо к Мишле»).
16 ноября — гибель матери Герцена и сына Коли во время кораблекрушения на Средиземном море.
2 декабря — государственный переворот Луи Наполеона. Падение республики во Франции.
1852, 2 мая — смерть в Ницце Натальи Александровны Герцен и ее новорожденного сына Владимира.
24 августа — приезд Герцена с сыном Александром после скитаний по Европе в Лондон.
Сентябрь — октябрь — встреча с Дж. Маццини. Знакомство с А. О. Ледрю-Ролленом, Л. Кошутом, Г. Кинкелем, С. Ворцелем, М. Мейзенбуг. Решение остаться в Англии.
Ноябрь — начало работы над мемуарами «Былое и думы».
1853, зима — основание Герценом Вольной русской типографии.
Февраль — выпуск первой литографированной листовки — «Вольное русское книгопечатание. Братьям на Руси» при активном содействии членов Польской демократической централизации.
Июнь — издание прокламации «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству».
Сентябрь — приезд в Лондон М. С. Щепкина. Сотрудничество Герцена с М. К. Рейхель.
1854 — публикация отдельным изданием на русском языке фрагмента «Былого и дум» «Тюрьма и ссылка» (в 1855-м — немецкий и английский переводы). Выход книги «С того берега».
1855 — смерть императора Николая I. Основание альманаха «Полярная звезда» (1855–1869). Приезд из России П. Л. Пикулина. Выход книги «С того берега» отдельным изданием на русском языке.
1856 — окончание Крымской войны (1854–1856). Издание сборника «Голоса из России» (1856–1860).
9 апреля — приезд в Лондон Н. П. Огарева и Н. А. Тучковой-Огаревой.
1857 — основание газеты «Колокол» (1857–1867). Рескрипты Александра II о начале освобождения крестьян западных губерний. Знакомство Герцена с П. И. Бахметьевым. Основание бахметьевского фонда.
1858, 4 сентября — рождение дочери Герцена и Тучковой-Огаревой Лизы. Осень — приезд в Лондон Б. Н. Чичерина и разрыв Герцена с либеральными сторонниками.
1859 — полемика Герцена с журналом «Современник». Встречи и полемика Герцена с Н. Г. Чернышевским.
1859–1861 — апогей герценовского влияния в России. Апофеоз «Колокола».
1860, февраль — приезд из Петербурга А. А. Серно-Соловьевича, А. А. Слепцова. Знакомство Герцена с Н. А. Серно-Соловьевичем. Март — публикация в «Колоколе» анонимного «Письма из провинции» с предисловием Герцена. Появление в Лондоне князя Ю. Н. Голицына.
1861, февраль — освобождение крестьян в России. Объявление манифеста и «Положений 19 февраля». Расстрел мирной демонстрации в Польше. Крестьянские выступления в России (Бездна, Кандеевка) и реакция в «Колоколе» на их подавление. Прокламационная кампания в Петербурге. «Ответ „Великорусу“» в «Колоколе». Статьи и публикации в ответ на реформу.
Март — приезд к Герцену Л. Н. Толстого.
Апрель — посещение Герцена М. Л. Михайловым и Н. В. Шелгуновым.
Август — сентябрь — аресты М. Л. Михайлова, П. Э. Аргиропуло, П. Г. Заичневского. Возвращение бежавшего из Сибири Бакунина. 10 декабря — рождение близнецов Герцена и Тучковой-Огаревой Алексея и Елены.
1862, весна — московские пожары. Прокламация «Молодая Россия», распространяемая в столицах. Пропагандистская кампания против лондонских издателей, развязанная М. Н. Катковым.
Лето — создание в России тайного общества «Земля и воля». Арест П. А. Ветошникова. Арест Чернышевского и Н. Серно-Соловьевича. «Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». Полемика Герцена с К. Д. Кавелиным и их разрыв. Встречи с Ф. М. Достоевским. Приезд в Лондон В. В. Стасова, Н. Г. Рубинштейна, А. Ф. Писемского. Конспиративная поездка В. И. Кельсиева в Россию. Полемика с И. С. Тургеневым («Концы и начала»).
1863, март — начало Польского восстания (1863–1864) и поддержка Герценом поляков в «Колоколе». Участие Герцена и его сына Саши в польской повстанческой экспедиции. Разногласия Герцена с Бакуниным по польскому вопросу.
Лето — появление в Лондоне Н. И. Утина.
1864 — падение влияния «Колокола» в России. Сокращение его тиражей.
Полемика Герцена с Ю. Ф. Самариным («Письма к противнику»). Переговоры в Женеве с русской «молодой эмиграцией».
17 апреля — прием Гарибальди в доме Герцена.
Декабрь — смерть близнецов от дифтерита. Женевский съезд «молодой эмиграции» и участие в нем Герцена.
1865 — «Кружение» Герцена по Европе (Женева, Монпелье, Париж, Лондон, Ницца, Канн, Марсель, Женева…). Перевод Вольной русской типографии в Женеву. Переезд Герцена в Швейцарию, проживание в Женеве в шато «Буассьер».
1866, март — смерть Н. Серно-Соловьевича в Иркутске. Выстрел Каракозова — покушение на Александра II.
Декабрь — статья Герцена в «Колоколе» «Порядок торжествует!».
1867 — постоянные поездки по Европе (Флоренция, Ницца, Неаполь).
Знакомство Герцена с Н. Н. Ге. Возвращение в Россию В. Кельсиева и его покаянная «Исповедь». Брошюра А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела». Разрыв Герцена с «молодыми эмигрантами». Выход последнего, 244–245-го, сдвоенного листа «Колокола».
1868 — печатание французского «Колокола» («Kolokol») и отдельной части газеты на русском языке: «Колокол» («Русское прибавление»). Работа над последними главами «Былого и дум». Публикация статей «Пролегомена», «Еще раз Базаров». Переезд в замок Пранжен близ Ниона. Сбор семьи. Приезд Огарева. Дело о бумагах П. В. Долгорукова. Лечение Герцена от диабета в Виши.
1869 — новые скитания по Европе в поисках постоянного места жительства семьи. Встречи в Женеве с С. Нечаевым. Резкие разногласия с Бакуниным и Огаревым по поводу нечаевских притязаний, передача Нечаеву части «бахметьевского фонда». Выход последней «Полярной звезды» (кн. VIII). Работа над повестью «Доктор, умирающий и мертвые» и циклом статей «К старому товарищу». Болезнь Н. А. (Таты) Герцен.
18 декабря — приезд Герцена в Париж с Тучковой, Лизой и Татой.
1870,12 января — похороны журналиста В. Ле Нуара, вылившиеся в антиправительственную демонстрацию.
В ночь с 20 на 21 января, в половине третьего — Александр Иванович Герцен скончался.
23 января — временно похоронен на кладбище «Пер-Лашез».
20 февраля — его тело перевезено на кладбище «Шато» в Ниццу.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Анненков П. В. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1989.
Антонов В. Ф. А. И. Герцен. Общественный идеал анархиста. М.: Эдиториал УРСС, 2000.
Архив Н. А и Н. П. Огаревых: Собрал и подготовил к печати М. Гершензон / Ред. и предисл. В. П. Полонского; прим. Н. М. Мендельсона, Я. 3. Черняка. М.; Л.: Гос. издание, 1930.
Берлин И. История свободы. М.: НЛО, 2001.
Берлин И. Философия свободы. М.: НЛО, 2001.
Володин А. И. Александр Герцен и его философские искания // Герцен А. И. Сочинения: В 2 т. / Общ. ред. А. И. Володина, 3. В. Смирновой; сост. 3. В. Смирнова. Т. 1. М.: Мысль, 1986.
Володин А. И. Герцен. М.: Мысль, 1970.
Герцен А. И. Былое и думы: В 2 т. / Сост., предисл., коммент. И. Г. Птушкиной. М.: Слово, 2001.
Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953–1966.
Герцен А. И. Сочинения и переписка с Н. А. Захарьиной: В 7 т. Т. VII. СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1905.
Герцен А. Полное собрание сочинений и писем: В 21 т. Т. XXII: Приложения и указатели / Под ред. М. К. Лемке. Пг.; М., 1915–1925.
Герцен в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1956.
А. И. Герцен в русской критике: Сб. статей. 2-е. изд., доп. М.: ГИХЛ, 1953.
Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. М.: Советский писатель, 1957.
Голоса из России (Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева) 1856–1860. Лондон. Факсимильное изд.: В 3 вып. (Кн. I–IX). Вып. 4 (Кн. X): Коммент. и указатели / Издание подготовлено Группой по изучению революционной ситуации в России конца 1850-х — начала 1860-х годов. М.: Наука, 1974–1976.
Гурвич-Лищинер С. Д. Творчество Герцена в развитии русского реализма середины XIX века. М.: Наследие, 1994.
Дрыжакова Е. Н. Герцен на Западе. СПб.: Академический проект, 1999.
Желвакова И. А. Тогда… в Сивцевом. 4-е изд. М.: Знак, 2009.
Желвакова И. От Девичьего поля до Елисейских полей. Поиски и находки. Встречи и впечатления. М.: Знак, 2005.
Желвакова И. Кружение сердец. М.: Знак, 2008.
Житомирская С. В., Пирумова Н. М. Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в «Нечаевской» истории (1870 г.) // Литературное наследство. Т. 96. Герцен и Запад. М.: Наука, 1985.
Житомирская С. В. Судьба архива Герцена и Огарева // Литературное наследство. Т. 96. Герцен и Запад. М.: Наука, 1985.
Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Факсимильное изд.: В 2 кн. Кн. III: Комментарии и указатели. М.: Наука, 1971.
Итенберг Б. С., Твардовская В. А. Карл Маркс и Александр Герцен: история одной вражды // Твардовская В. А., Итенберг Б. С. Русские и Карл Маркс: выбор или судьба? М.: Эдиториал УРСС, 1999.
Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961.
Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева: Вольная русская типография. 1857–1867. Лондон; Женева. Факсимильное изд.: В 9 вып. Вып. X–XI: Приложения и указатели. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960–1962.
Крестьянское движение. 1827–1869: В 2 вып. / Подготовка к печати Е. А. Мороховец. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931.
Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х годов. М.; Пг.: Госиздат, 1923–1927.
Лемке М. Николаевские жандармы и литература. 1826–1855 гг. СПб.: Издание С. В. Бунина, 1909.
Лемке М. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». По неизданным документам и материалам. СПб.: Изд-во О. Н. Поповой, 1908.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812–1850. Кн. <1> / Сост. тома Г. Г. Елизаветина, Л. Р. Ланский, А. М. Малахова, В. А. Путинцев; ред. тома И. Г. Птушкина. М.: Наука, 1974.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1851–1858. Кн. <П> / Сост. тома Л. Р. Ланский, И. Г. Птушкина; ред. тома С. Д. Гурвич-Лищинер, И. Г. Птушкина. М.: Наука, 1976.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1859–1864. Кн. <Ш> / Сост. и отв. ред. тома И. Г. Птушкина, С. Д. Гурвич-Лищинер. М.: Наука, 1983.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1864–1867. Кн. <IV> / Автор-сост. С. Д. Гурвич-Лищинер; отв. ред. И. Г. Птушкина. М.: Наука, 1987.
Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1868–1870. Кн. <V>/Авторы-сост. С. Д. Гурвич-Лищинер, Л. Р. Ланский; отв. ред. И. Г. Птушкина, С. Д. Гурвич-Лищинер. М.: Наука, 1990.
Литературное наследство. Т. 39–40. А. И. Герцен. Кн. 1 / Институт литературы (Пушкинский Дом) АН СССР; отв. ред. П. И. Лебедев-Полянский; зав. ред. И. С. Зильберштейн. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1941.
Литературное наследство. Т. 41–42. А. И. Герцен. Кн. 2 / Институт литературы (Пушкинский Дом) АН СССР; отв. ред. П. И. Лебедев-Полянский; зав. ред. И. С. Зильберштейн. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1941.
Литературное наследство. Т. 61. Герцен и Огарев. Кн. 1 / Отделение литературы и языка АН СССР; редакция: А. М. Еголин(гл. ред.), Н. Ф. Бельчиков, И. С. Зильберштейн, С. А. Макашин. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953.
Литературное наследство. Т. 62–63. Герцен и Огарев. Кн. 2–3 / Отделение литературы и языка АН СССР; редакция: В. В. Виноградов (гл. ред.), И. С. Зильберштейн, С. А. Макашин, М. Б. Храпченко. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1955–1956.
Литературное наследство. Т. 64. Герцен в заграничных коллекциях / Отделение литературы и языка АН СССР; редакция: В. В. Виноградов (гл. ред.), И. С. Зильберштейн, С. А. Макашин, М. Б. Храпченко. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.
Литературное наследство. Т. 96. Герцен и Запад / Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР; редакция: Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, В. Р. Щербина (гл. ред.); отв. ред. С. А. Макашин, Л. Р. Ланский. М.: Наука, 1985.
Литературное наследство. Т. 99. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей: В 2 кн. / Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН; редакция: Н. В. Котрелев, Ф. Ф. Кузнецов (гл. ред.), А. С. Курилов и др.; отв. ред. Л. Р. Ланский, С. А. Макашин. М.; Наука, 1997.
Литературные взгляды и творчество славянофилов. 1830–1850-е годы. М.: Наука, 1978.
Мейзенбуг М. Воспоминания идеалистки / Пер. с нем. Н. А. Макшее-вой. М.; Л.: Academia, 1933.
Нович И. Молодой Герцен. М.: Советский писатель, 1980.
Новое литературное обозрение. 2001. № 49 (3). Александр Иванович Герцен; Исследования и публикации / Статьи и публикации И. Берлина, М. Малия, А. Келли, В. Фрезе, И. Каспэ, И. Желваковой, Е. Нарекой, С. Головко. М.: НЛО, 2001.
Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. / Подгот. текста к печати и прим. Я. 3. Черняка. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1952–1956.
Орлова Р. Последний год жизни Герцена. New York: Chalidze publ., 1982.
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М.: ГИХЛ, 1950.
Паншин И. К. А. И. Герцен: начало либерального социализма // Вопросы философии. 2006. № 3.
Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1963.
Пивоваров Ю. С. Два века русской мысли. М.: ИНИОН РАН, 2006.
Пирумова Н. М. Александр Герцен — революционер, мыслитель, человек. М.: Мысль, 1989.
Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену / С объяснит. прим. М. Драгоманова. Женева, 1892.
Полярная звезда. Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная русская типография. 1855–1869. Лондон; Женева. Факсимильное изд.: В 8 кн. Кн. IX: Приложения. М.: Наука, 1966–1968.
Порох И. В. Герцен о России // В раздумьях о России (XIX век): Сб. статей / Отв. ред., сост. и авт. вступ. статьи Е. Л. Рудницкая. М.: Археографический центр, 1996.
Порудоминский В. Николай Ге. М.: Искусство, 1970.
Прокофьев В. Герцен. М.: Молодая гвардия, 1987.
Революционеры и либералы России: Сборник / Под ред. Б. С. Итенберга. М.: Наука, 1990.
Рейхель М. К. Отрывки из воспоминаний и письма к ней А. И. Герцена. М.: Издание Л. Э. Бухгейма, 1909.
Рудницкая Е. Л. Лики русской интеллигенции. М.: Канон плюс, 2007.
Рудницкая Е. Л. Русская революционная мысль. Демократическая печать. 1864–1873. М.: Наука, 1984.
Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Т. 4.: Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1917.
Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России. Очерки истории (середина XIX — начало XX в.). М.: Памятники исторической мысли, 1995.
Семенов В. Александр Герцен. М.: Современник, 1989.
Т. Н. Грановский и его переписка: В 2 т. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1897.
Твардовская В. А. Б. П. Козьмин. Историк и современность. М.: ИРИ РАН, 2003.
Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М.: ГИХЛ, 1959.
Тхоржевский С. Александр Иванович Герцен сегодня // Звезда. 2007. № 1.
Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников/Сост. Е. И. Покусаев, А. А. Демченко; подг. текста А. А. Демченко, М. И. Перпер. М.: Художественная литература, 1982.
Черняк Я. Спор об огаревских деньгах(Дело Огарева — Панаевой). М.: Захаров, 2004.
Чуковская Л. «Былое и думы» Герцена. М.: Художественная литература, 1966.
Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М.: Мысль, 1966.
Эйдельман Н. Свободное слово Герцена / Вступ. ст. и сост. Е. Л. Рудницкой. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
Янов А. Откуда в самодержавной России взялся Герцен? // Знание — сила. 2009. № 1–3.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
За большую моральную поддержку и неоценимую помощь при написании и оформлении этой книги автор сердечно благодарит своих друзей и коллег: Станислава Борисовича Рассадина, Марину Ивановну Вишневскую, Киру Константиновну Искольдскую, Леонида Самуиловича Слуцкина, Галину Сергеевну Чурак, а также потомков А. И. Герцена, в особенности Наташу Юзер-Герцен и Майкла Герцена.
Автор приносит искреннюю благодарность коллегам по Дому-музею А. И. Герцена и Государственному литературному музею: Светлане Романовне Головко, Елене Георгиевне Нарской и Александру Юрьевичу Бобосову, оказавшим большое содействие при подготовке книги.