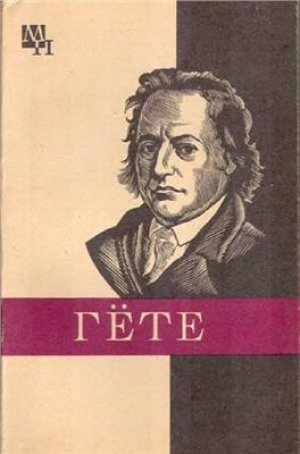
Вечная мировая загадка выражается в отдельных индивидах; в Новое время наиболее значительным образом она выразилась в Гёте; поэтому можно прямо сказать, что уровень воззрений современного человека измеряется его отношением к гётевскому мировоззрению.
Рудольф Штейнер
Свасьян Карен Араевич (род. в 1948 г.) — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права АН Арм. ССР, автор научных трудов по истории философии, среди которых: «Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона» (Ереван, 1978), «Проблема символа в современной философии» (Ереван, 1980), «Философское мировоззрение Гёте» (Ереван, 1983), «Голоса безмолвия» (Ереван, 1984), «Феноменологическое познание» (Ереван, 1987), «Философия символических форм Э. Кассирера» (Ереван, 1988).
Рецензенты — канд. филос. наук В. В. ЛАЗАРЕВ, докт. филос. наук Э. Ю. СОЛОВЬЕВ
Глава I. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. ОРФИЧЕСКИЕ ПЕРВОПАРАДОКСЫ
Есть два Гёте: Гёте извне, почитаемый и не читаемый, а если и читаемый, то по всем правилам кабинетно-филологического этикета, и Гёте изнутри — открытая книга, чтение которой равно непрерывному соавторскому риску. О первом мы говорим: «титан», «величайший гений», «олимпиец», скрывая под этими шумными комплиментами не на шутку растревоженное безразличие души, готовое всегда дать отпор содержимому этих комплиментов, буде оно проявит признаки перехода из филологически-музейного бытия в живую жизнь; о втором поначалу мы молчим, ища единственно верных слов. Отношение к первому коренится в неосознанной привычке «сотворить себе кумира»; по существу в нем изживает себя идолопоклонство, следы которого просматриваются едва ли не во всех срезах жизни: от примитивного «обожествления» ближайшего сценического героя до религии стереотипов. Возьмем ряд имен и попытаемся хотя бы в первом приближении осмыслить нашу связь с ними: Гомер, Данте, Шекспир, Рафаэль, Моцарт, Гёте. Эпитет «божественный» естественно вписывается в этот ряд: но к чему он, как правило, сводится? Здесь и срабатывает механизм самооправдания: отдать богу богово, себе же оставить стабильное право на убожество. Гёте высказался однажды именно в этом смысле. «Бог, — по его словам, — есть все, если мы стоим высоко; если мы стоим низко, он есть дополнение нашего убожества» (6, 813)[1]. Модель отношения в несколько измененной (посюсторонней) форме остается все той же: приведенный ряд имен, взятый извне, в масштабах насильственно навязанной самодистанции, пребывает довеском к бережно лелеемой нами отчужденности от судеб мира.
Не то второй Гёте, открытая книга, воочию демонстрирующая возможность невозможного, или, говоря словами самого Гёте, «жизнь в идее», что и значит «обращаться с невозможным так, словно бы оно было возможно» (7, 5, 457). Эта книга в сущности начинается там, где кончается мистификация «величайшего гения», обрамленная внушительных размеров библиотечным инвентарем. Путь к ней нелегок; добраться до нее — значит одолеть толщи препятствий, и среди них наиогромнейшее: самого Гёте. Изумление, восторг грозят забвением последней и по существу единственной цел. и: неким безвыездным «островом Цирцеи» грозит нам стать господин Тайный Советник, настолько ослепляющий нас своей открытой тайной, что за великолепными деревьями его необозримого наследия и вовсе не видим мы леса. Поэт, натуралист, романист, философ, ученый, критик, эстетик, политик, педагог, администратор, переводчик, путешественник, ироник, эротик, оккультист, мудрец, провидец, физиогномист, министр, живописец, эрудит, шармёр; если отвлечься от прочего и сосредоточить внимание на одном лишь естествознании, то уже один голый перечень побьет рекорды невероятного. Круг естественнонаучных занятий Гёте: биология, ботаника, зоология, анатомия, остеология, оптика, физика, физиология, химия, метеорология, геология; его открытия не только открытия в отдельных науках, но и открытия отдельных наук. Он — создатель сравнительной анатомии, современной морфологии растений, физиологической оптики, понятия гомологии, морфологического типа, метаморфоза, идеи ледникового периода (частности не идут в счет, хотя и о частностях пишутся книги). Понятна инстинктивная реакция на этот паноптикум, граничащий с неправдоподобием: либо назад, в привычное, свое, вполне вероятное, и тогда — да здравствует невероятное, но Боже упаси иметь с ним дело, либо же стоп в невероятном, но в научных целях, и тогда — посильная инвентаризация виденных небылиц в привычных, своих, вполне бывалых представлениях и понятиях. Первое «либо» охватывает массу неспециальных читателей, так или иначе в разное время знакомящихся с творчеством Гёте на фоне самого общего о нем представления; второе «либо» рисует нам обычный тип «гётеведа». Ситуация вынуждает к парадоксальному, но отнюдь не нелепому вопросу: был ли сам Гёте «гётеведом», или, иначе, осилил бы он «минимум» по гётеведению, необходимый хотя бы для получения права на членство в «Обществе Гёте»? Фридрих Геббель рискнул однажды представить себе воплотившегося в XIX веке Платона, который сносит от школьного учителя побои за неверное объяснение платоновской философии. Участь Гёте — скажем это со всей убежденностью — едва ли окажется более завидной, тем более что, словно бы предвидя ее, он обмолвился явными предупреждениями. «Так как я всегда стремлюсь вперед, — гласит одно из них, — то я забываю, что я написал, и со мною очень скоро случается, что я собственные произведения рассматриваю как нечто совершенно чужое» (13, 260). Классический пример — отрывок «Природа», чье забытое авторство в свое время причинило немало хлопот «гётеведам». Но забыть, в духе Гёте, — значит забыть побочное, несущественное. «Немцы, — сказал он однажды Эккерману, — никак не могут избавиться от филистерства. Сейчас они затеяли отчаянную возню и споры вокруг нескольких двустиший, которые напечатаны в собрании сочинений Шиллера и в моем тоже, полагая, что невесть как важно с полной точностью установить, какие же написаны Шиллером, а какие мною. Можно подумать, что от этого что-то зависит или кому-нибудь приносит выгоду, а по-моему, достаточно того, что они существуют… Право, надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам». «Но ведь это частое явление в литературной жизни, — возразил Эккерман, — кто-то, к примеру, вдруг усомнится в оригинальности произведения того или иного крупнейшего писателя и начинает вынюхивать, откуда тот почерпнул свои сюжеты». «Смешно, — сказал Гёте, — с таким же успехом можно расспрашивать хорошо упитанного человека о быках, овцах и свиньях, которых он съел и которые придали ему силы» (3, 274–275). И еще раз, за несколько дней до смерти, самое существенное: духа не угашайте.
Драма «Гёте», в колоссальном масштабе разыгранная им за время его земной жизни, разыгрывается и по сей день; негативный ракурс этой драмы — борьба за дух против угашающей его буквы, и едва ли не в первую очередь собственной буквы, ибо где же, если не в собственной несравненной букве, таилась столь же несравненная угроза духу! Будем помнить: сказанное относится отнюдь не к одному Вертеру: «Вертер и все это отродье — детский лепет и побрякушки по сравнению с внутренним свидетельством моей души» (13, 13; курсив мой. — К. С).
Запомним это внутреннее свидетельство: оно — единственное игольное ушко, через которое, как сказано, порою легче пройти верблюду, чем иному специалисту по глобальной проблематике. Но прежде придется справиться с «побрякушками», предположив, что в данном случае речь может идти о неосторожном евфемизме Атлантовой ноши.
Количество томов: 143 (Большого Веймарского издания, так называемой Sophien-Ausgabe). Количество стихотворений: ровно 3150. Количество слов («словарь Гёте») — «словарь немецкого языка». Вот в каких выражениях квалифицирует это Герман Гримм: «Гёте сотворил наш язык и литературу. До него они не имели никакой значимости на мировом рынке европейских народов… Во всех кругах северной Германии вторым родным языком был французский, а в Австрии преобладал итальянский. Вольтер в статье Langue в Энциклопедии обсуждает литературно-выразительные качества различных языков: среди них немецкий и вовсе отсутствует. Лишь после того, как „Вертер“ Гёте был зачитан до дыр англичанами и французами и даже проник в Италию, извне была допущена возможность немецкой литературы высшего ранга… Проза Гёте постепенно стала образцом выразительных средств для всех специальностей духовной жизни. Через Шеллинга она вторглась в философию, через Савиньи в юриспруденцию, через Александра фон Гумбольдта в естествознание, через Вильгельма фон Гумбольдта в филологическую ученость. Весь наш эпистолярный стиль покоится на гётевском. Бесконечные обороты, которыми мы пользуемся, не задаваясь в силу их естественности вопросом об их источнике, были бы без Гёте сокрыты от нас» (35, 2–3). И еще одна оценка гётевского языка, принадлежащая Фридриху Гундольфу: «Впечатление таково, как если бы мир, данный в прочных образах, расплавился в текучий, бушующий хаос, и творческой хватке юного Гёте приходилось осуществлять совершенно новые смешения и сочетания между расшатанными, рассредоточенными веществами и силами внутреннего и внешнего мира. В истории языка нет ничего более радующего, более полногрудого (Atemlosenderes), чем эта блаженная, утренняя свобода, с которой Гёте, пробужденный Гердером, прогревает, размягчает, развязывает и наново соединяет традиционно оцепенелые понятия и представления… Символ этого прежде всего — неслыханная легкость новых словосочетаний, выплавки слов, растяжимость, гибкость и текучесть, которых прежде никто не мог бы ожидать от немецкого языка, несмотря на насильственные, остроумные, властолюбивые дерзания Клопштока и штурмовые неологизмы Гердера. У Гёте все это действует уже не как оригинальная смелость, не как насильственное расширение и своеобразие, но он говорит столь свободно и естественно, как если бы никогда не существовало чего-либо другого, кроме его грамматики; короче, его язык действует не как обособленный индивид, но как тело, единственно сообразное душе нового мира» (36, 103–104). Эти оценки бесчисленны; нет конца воздаяниям потомков создателю языка и, стало быть (тем более с учетом исторических судеб Германии), нации — факт, отмеченный самим Гёте в удивительном признании: «В мои восемнадцать лет Германии тоже едва минуло восемнадцать…» (3, 102).
«Побрякушки» — что и говорить — вполне по плечам Атланта. Отдадим же себе отчет в собственном недоумении, если, перелистывая многотысячные страницы 143-томника, мы то и дело будем натыкаться на высказывания, определенно подчеркивающие граничащее с презрением недоверие к слову, языку, писательству вообще. «Поменьше писать, — гласит одно из правил Гёте, — побольше рисовать» (9, 32(1), 159). «Близко знававшие меня друзья, — вспоминает он в старости, — часто говорили мне, что прожитое мною лучше высказанного, сказанное лучше написанного, а написанное лучше напечатанного» (9, 36(1), 232). «Непосредственному созерцанию вещей обязан я всем, — заявляет он за год до смерти, — слова значат для меня меньше, чем когда-либо» (9, 48(4), 154). Ненависть к фразам граничит у него почти с одержимостью; он признается однажды в физической невозможности «сделать фразу». «Ничего в жизни не остерегался я так, как пустых слов» (9, 35(1), 158). Книгам, как собственным, так и чужим, предпочитает он всегда живое общение, опыт, жизнь. «Чем был бы я, не общайся я всегда с умными людьми и не учись я у них? Не из книг, но в живом обмене идей, в доброй общительности должны вы учиться» (8, 9—10). Ибо «писать — значит злоупотреблять языком… Все влияние, которое человек способен оказать на человека, осуществляется через его личность» (9, 34(4), 148).
Приведенные выдержки — капля в океане — не случайные обмолвки, а едва ли не самый существенный лейтмотив гётевского мировоззрения. Понять их, понять суровейшую неприязнь к словам непревзойденного мастера слова — значит овладеть ключом к тайнику творчества Гёте. Неприязнь к словам — мы слышали уже выше — есть неприязнь к пустым словам. Что есть пустые слова? Для ответа на этот вопрос нам пришлось бы переворошить целые курсы лингвистики, но что поделать — вопрос поставлен, и ответ должен явиться, тем более что без ответа на этот вопрос к Гёте не может быть доступа. Пустые слова — слова, лишенные созерцательности и предметности. Они — продукт рассудка, извне оформляющий данные созерцания, вытравляя из них присущее им самим содержание. Лингвисты позднее назвали их языковыми знаками, которые связывают не вещь и ее название, а лишь понятие вещи с ее акустическим образом.
Поль Валери, один из тех немногих умов, которые по-своему и в силу собственной естественности пришли к мировоззрительному настроению, во многом совпадающему с гётевским, проанализировал ситуацию в следующем наблюдении: «Вы, несомненно, подмечали любопытный факт, когда какое-то слово, которое кажется совершенно ясным, если вы слышите или употребляете его в обиходной речи, и которое не вызывает никаких трудностей, если оно включено в скороговорку обыденной фразы, становится магически затруднительным, приобретает странную сопротивляемость, обезвреживает все попытки определить его, стоит только вам изъять его из обращения, чтобы рассмотреть его со стороны, и искать в нем смысл в отрыве от его насущной функции». «Обратитесь к вашему опыту, — резюмирует Валери, — и вы обнаружите, что мы понимаем других и понимаем самих себя лишь благодаря быстроте нашего перелета по словам. Не следует задерживаться на них, иначе откроется, что наиболее ясная речь сложена из загадок, из более или менее ученых иллюзий» (62, 1317–1318).
Пустые слова, присвоившие себе титул понятия, оказываются, таким образом, более или менее блистательной формой, таящей в себе содержательный иллюзион невнятиц. Быстротой нашего перелета по словам мы обеспечиваем себе не понимание, а лишь иллюзию понимания. Скажем так: понять нечто сложное — значит помимо слова, обозначающего это нечто, погрузиться в само явление и исходить из него. Само по себе слово есть всего лишь символическое упрощение, сокращение, аббревиатура реального содержания. Оно значимо как жест, наводящий силу нашего внимания на смысл; подобно фонарю, освещающему дорогу, оно освещает сущность наблюдаемого явления, и если мы должны смотреть не на фонарь, а себе под ноги, чтобы не спотыкаться, а идти, то это условие сохраняет силу и здесь: сквозь слово должны мы видеть сущность самой вещи, а не застревать в акустическом образе ее. В случае пустых слов вещь называется, но такое название всегда клетка с выпорхнувшим содержанием. Гёте именно здесь настигается шумными комплиментами типа: «величайший гений» и «титан». Формальная правда этих слов — колосс на ногах скороговорки.
С такими колоссами ему пришлось сталкиваться всю жизнь. Он вспоминает эпизод из своей молодости, когда его друг Лафатер, автор знаменитой «Физиогномики» (в написании которой Гёте принимал живейшее участие), стал подступаться к нему с жесткой дилеммой: либо христианин, либо атеист. «В ответ я заявил, что если ему не угодно оставить меня при моем христианстве (как я доселе его понимал), то я, пожалуй, склоняюсь в сторону атеизма, тем более что никто, видно, толком не понимает, что подразумевается под тем и под другим» (2, 3, 514). Впоследствии, когда дилемма все-таки решалась людьми, не способными обойтись без этикеток, он в основном предпочитал хранить молчание, хотя временами его подмывало на провокации. Еще при жизни его сложилась прочная традиция считать его «язычником»; по выходе в свет «Западно-восточного дивана» иные сочли даже, что он обратился в мусульманство. По иным репликам Гёте можно было бы подумать, что он потворствует этим мнениям. Парадоксы возникали изредка и оставались незамеченными. «Язычник» мог, например, назвать себя «чисто протестантским язычником» (9, 26(4), 43), а новоиспеченный «адепт Корана», известный своими нападками на христианскую религию, мог позволить себе и такое признание: «Кто нынче христианин, каким его хотел видеть Христос? Пожалуй, я один, хотя вы и считаете меня язычником» (8, 71). В целом, однако, сохраняло силу однажды сформулированное им правило: «Я вменил себе в обязанность соблюдать о самом себе и о моем пути определенное молчание» (9, 5(4), 144). Поводов для применения этого правила было у него предостаточно. Так, уже за год до смерти пишет он об одном «болтуне», который заговорил с ним о пантеизме: «С великим простодушием заверил я его, что не встречал до сих пор ни одного человека, который знал бы, что означает это слово» (9, 49(4), 127).
Стоит ли и говорить, что самым плачевным выводом из вышесказанного было бы поспешное суждение о наличии у Гёте логофобии, словоненавистничества. Для любителей парадокса мы сказали бы, что это было бы вдвойне плачевным как раз с учетом того, что словоненавистничество и в самом деле присуще Гёте. Парадокс вполне уместный, так как именно на нем можно еще раз проверить собственное умение или неумение отличать пустые слова от… скажем пока, непустых. Вдумаемся для этого хотя бы в само слово «словоненавистничество». Что оно значит именно в данном контексте? Можно — и примеры этого мы уже приводили в достатке— оторвать его от реальной личности самого Гёте, довольствуясь лишь «побрякушками» собрания сочинений, и набрать такой букет свидетельств, что, не знай кто-либо, что речь идет об авторе «Фауста» и даже просто создателе немецкого языка и литературы (как-никак!), у него не осталось бы и капельки сомнения в том, что он имеет дело с заклятым врагом человечества. Между тем истина заключается как раз в противоположном: заклятый враг человечества оказывается на деле величайшим другом его, и для того, чтобы это понять, а не, скажем, просто принять на веру, поскольку этому учили в школе, следует на время отречься от слов, забыть слова, тем более что они свидетельствуют об обратном, и погрузиться в непосредственное наблюдение того феномена, вокруг которого и в связи с которым стало возможным такое количество самых противоречивых слов. Эта процедура, по Гёте, наитруднейшая. «Нет ничего труднее, — говорит он, — чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле» (9, 31(4), 112). Трудность связана прежде всего с тем, что наше восприятие вещи бессознательно сращено со словами и обусловлено словами; мы настолько отвыкли от первозданного, младенчески чистого созерцания вещи и, с другой стороны, настолько привыкли к языковым знакам, что, образно выражаясь, взгляд наш, брошенный на мир, лишь в редких случаях достигает самого мира, без того чтобы по ходу он не был перехвачен мощными пеленгаторами беспредметной лингвистики, коренящейся в самих наших инстинктах. Возникает ситуация, действительно подмеченная многими языковедами; беда в том, что патология восприятия выдается за норму восприятия. Слова, охраняющие, как Цербер, доступ к вещи, подменяют нам саму вещь ее акустическим образом; в результате мы оказываемся замкнутыми в некоей лингвистической монаде, в которой есть и понятие вещи, и ее акустический образ, и еще целый набор терминологических случайностей и нет лишь одного: действительности.
Но, говоря о логофобии Гёте, даже отрывая ее от реального ее контекста, можно ли забыть хоть на секунду, что речь идет о несравненном гении языка. Парадоксальность этого соотношения — чистейший мираж; по существу оно донельзя естественно и очевидно. Именно суровейшая неприязнь к словам могла вызвать к жизни такой сказочный источник словотворчества. Сила гётевского слова — в поэзии или романе, письме или научной заметке — первозданна в самом буквальном смысле («herrlich wie am ersten Tag», как сказано в Прологе «Фауста»). Давно было замечено, что если у других, пусть даже самых значительных поэтов слово передает некое состояние, выражает его или сотворяет, так что в любом случае между ними сохраняется интервал и различие, то у Гёте слово равно самому состоянию, есть оно само, как если бы само состояние (природное явление, душевная страсть или тончайшая мысль, все равно), исполненное глубочайшего содержания, но немое по природе, обрело вдруг дар речи и выговорилось до конца. Это и изумляло современников: романтиков, классиков, философов, политиков, любителей и специалистов, включая августейших особ, от Карла Августа до Наполеона. Изумленный Шиллер писал об умении Гёте «внезапно и полностью высказать тайну сердца в одном-единственном слове». Он и приводит пример такого слова, слова «вечно», произносимого одною из гётевских героинь: «Это единственное слово, на этом месте, равносильно целой долгой истории любви, и вот же, оба влюбленных стоят друг против друга так, словно бы их связь существовала уже многие годы» (5, 1, 139). Подумаем же теперь, сколько таких единственных слов оставил нам в наследие человек, словарь которого исчисляется почти мифическим количеством! И вспомним еще раз, что он сам говорит о происхождении этого словаря: «Непосредственному созерцанию вещей обязан я всем, слова значат для меня меньше, чем когда-либо». Незначимость слова у него — не мировоззренческое кредо иррационалиста или традиционная мистическая тривиальность, а тактический прием мастера, который, сознавая, как никто, магические возможности слова, отлично ведает, с другой стороны, всю ущербность словоупотребления. Поэтому и оказываются возможными внешне взаимоисключающие позиции, которые по сути дела вытекают одна из другой. Лишь в полной мере обнаружив свое жесткое недоверие к словам, мог Гёте решиться и на следующее признание: «Не будь язык, бесспорно, наивысшим, чем мы обладаем, я поставил бы музыку выше языка и превыше всего» (9, 11(2), 170). Но не ему ли, испытаннейшему диалектику опыта, было знать, что на каждый образ есть свой противообраз и что, стало быть, противообразом наивысшего могло бы быть только наинизшее. Оттого стратегия словотворчества сознательно предпочитает тактику словоненавистничества. Гёте, несомненно, подписался бы под саркастической поправкой Киркегора к известному афоризму Талейрана: язык дан нам не для того, чтобы скрывать мысли, но для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. «Добрая вы душа, — сказал он однажды Эккерману в этой связи, — ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия» (3, 276).
Один начинающий стихотворец распространялся перед Гёте о муках собственного творчества и был облит ушатом ледяной воды: «О страданиях в искусстве не может быть и речи!» Можно ли было вытерпеть такое из уст автора «Вертера», «Тассо» и «Мариенбадской элегии»? С каким сердцем расставался незадачливый новичок с его превосходительством господином Тайным Советником, в котором он не смог ни увидеть тайны, ни услышать совета, и пришло ли ему вообще в голову элементарное соображение: а можно ли было говорить на эту тему с автором «Вертера»? Едва ли. Сила слова «страдание» настолько вытеснила в нем силу вещи «страдание», что он не в состоянии был осознать очевиднейшей правды услышанного. О страдании в искусстве не может быть и речи, так как сама речь искусства вспоена страданием и есть просветленное страдание. Таков серьезный контекст реплики. Но ей, несомненно, присущ и иной контекст: подвоха, провокации, щелчка по лбу. Ибо распространяться (к тому же не без теоретической подготовки, надо полагать) о страданиях в искусстве — значит просто не иметь к нему никаких отношений, и тогда о них вдвойне не может быть речи, как не может быть речи и о самом искусстве; слишком серьезные партнеры страдания и художник для того, чтобы выбалтывать свою связь открытым текстом, да еще украшенным междометиями и наспех позаимствованными из какой-то научной дисциплины терминами. Эти термины — термиты, пожирающие вещь и мысль; наивернейший признак отсутствия вещи и мысли — слова, нарушающие молчание, слова-выкидыши, непочтительные к смыслу и оттого лишенные смысла, обладающие разве что значением, о котором уже написано и будет еще написано столько научных трудов. Другой случай мы уже приводили — дилемма, с которой пристал к Гёте Лафатер: либо христианин, либо атеист. Состояние Гёте оказалось аналогичным тому, что он пережил при знакомстве с ботаникой Линнея, где весь растительный мир объяснялся путем сведения к номенклатурным рубрикам. Страсть к классификациям, с которой пришлось столкнуться молодому Гёте, была почти болезненной; классифицировали все что угодно, вплоть до мифической фауны, считая, что без этого не может быть ни понимания, ни объяснения. Надо было определяться не только в «табели о рангах», но и во всевозможных иных табелях: о родах, видах, вероисповеданиях, предпочтениях, мировоззрениях, художественных вкусах. Понять что-либо значило просто назвать это; открывалась великая эпоха наименований и анкетных данных. Одни оказывались эмпириками, другие рационалистами, третьи классицистами, четвертые романтиками, пятые христианами, шестые атеистами, но угроза нависала над теми, кто ничем не оказывался, не желая вообще чем-либо оказываться. Случай Гёте — едва ли не величайшая из когда-либо существовавших помех самому принципу классификации, анкетирования, определения через термин. Он действительно не мог ответить ни на один вопрос анкетного типа не потому, что скрывал что-то, а потому именно, что хотел открыть себя. Вот несколько свидетельств времен его прибытия в Веймар: «С каждым мигом растет мое неведение о самом себе» (9, 4(4), 304); «Я все меньше понимаю, кто я такой и что я должен» (9, 6(4), 91). Самое определенное, что он может сказать о себе: «Теперь я чувствую себя здоровым, бесстрастным, без сумбура, без неопределенностей в поступках, но как некто любимый Богом» (9, 4(4), 50). Парадоксально, но именно эта определенность в несколько негативной переформулировке и закрепится за ним впоследствии, когда его все-таки подведут под рубрику «баловень судьбы». «Я знаю, — признался он Эккерману в возрасте восьмидесяти одного года, — для многих я, как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться» (3, 608). Бельмо в глазу — принципиальная неанкетируемость человека, подчинившего свою жизнь правилу: «Мы должны быть ничем, но мы хотим стать всем» (9, 1(4), 244). От него же требовали быть: христианином или атеистом, рационалистом или эмпириком, поэтом или ученым. Надо было быть чем-то, и не просто чем-то, а альтернативно чем-то: «или — или». Или поэт, или ученый. Если же становились и тем и другим, то стереотип реакции срабатывал без промаха: не поэт и ученый, а поэтизирующий ученый, в лучшем случае поэт, увлекающийся науками и предвосхитивший кое-что в них. Так, Леонардо, открывший кровообращение, предвосхитил-де Гарвея, Дюрер, написавший первый учебник по прикладной геометрии на немецком языке, был-де гениальным дилетантом, Гёте, творец органики, опять предвосхитил-де Дарвина и т. д. Странная и изрядно сомнительная порода предшественников и предвосхитителей, этаких контрабандистов от науки, лишенных полноценного признания в научном «что-то» только потому, что взыскуют решительно «всё». «Математическая гильдия, — свидетельствует Гёте, — постаралась сделать мое имя в науке настолько подозрительным, что люди опасаются его произносить» (3, 462). Больше всего, конечно, повезло «поэту» Гёте, не считая «баловня судьбы», — его постарались основательно загнать в рубрику «поэзия», хотя и под давлением фактов — с правом несносно-контрабандных вылазок во «всё».
В «Кротких Ксениях» Гёте есть четверостишие, поразительно напоминающее по стилю и технике исполнения древние даосские параболы. Это — четверостишие-контрапункт, рассчитанное на мало-мальски полифонический слух и абсолютно запечатанное для ушей, реагирующих только на термины:
Буквально: кто обладает наукой и искусством, у того есть и религия; кто ими не обладает, у того пусть будет религия. Это четверостишие вполне объясняет и парадокс гётевской словесности; можно было бы выразить его в следующей парафразе: кто умеет видеть вещи, у того есть и слово; кто не умеет видеть вещи, у того пусть будут слова. Или, как гласит об этом, совершенно по-гётевски, древнекитайская притча: «Ловушкой пользуются для ловли зайца. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для того, чтобы внушить смысл. Постигнув смысл, забывают про слова. Где же найти мне забывшего слова человека, чтобы перекинуться с ним словом?» (цит. по: 17, 88). Современная лингвистика в лице некоторых своих наиболее влиятельных адептов постаралась упразднить «зайца», заменив его «денотатом», «референтом» (чем еще?), и оказалась сама в собственной ловушке, которая, разумеется, уже не могла быть забыта. В этой теме Гёте весь — предостережение, весь — противопоказание, весь — зловещий прогноз. Участь мира, опутанного тьмой словесных ловушек, видит и провидит он в сверхмощных апокалиптических картинах. Подумаем: если всё через слово начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть, то что, как не слова, пустые беспредметные слова, уготовили нынче миру сюрпризы беспрецедентных катастроф — от колдовской власти буквы до экологического кризиса, включая и сумму бесплодных словесных фиксаций происходящего, отмеченных безблагодатностью все того же слова! Оставим в покое экзистенциальных философов, набивших себе руку на подобного рода фиксациях; послушаем-ка лучше свидетельство крупнейшего ученого, одного из создателей молекулярной биологии, тем более что, не знай мы, кому принадлежит это свидетельство, оно вполне могло бы сойти — семантически и стилистически — за образец сартровской или ясперсовской философской прозы. «Человек, — пишет Жак Моно, нобелевский лауреат, — должен наконец пробудиться от тысячелетнего сна, и, пробудившись, он окажется в полном одиночестве, в абсолютной изоляции. Лишь тогда он наконец осознает, что, подобно цыгану, живет на краю чуждого ему мира. Мира, глухого к его музыке, безразличного к его чаяниям, равно как и к его страданиям или преступлениям» (цит. по: 19, 43). Позволительно дополнить этот отрывок крохотной и радикально меняющей его смысл поправкой: следовало бы говорить не о мире как таковом, но о мире, сотворенном пустыми словами и вытеснившем Слово, мире, дегуманизированном знаками и значениями, которым вдруг вздумалось роптать на собственный же искусственный эксперимент синтезации глухоты, немоты и безразличия. «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, — nicht mir» — «Ты равен духу, которого ты познаешь, — не мне», — мог бы словами Духа Земли из «Фауста» ответить на вышеприведенную ламентацию действительный естественный мир. Глухота и безразличие мира в устах позволяющего себе подобный стиль ученого — всего лишь обворожительные метафоры, столь же сомнительные, как «заброшенность» и «ненадежность» экзистенциалистов. По сути дела они — бессознательная проекция на мир собственной глухоты и безразличия, и в этом самопроецировании уличает их автор «Фауста».
Мир Гёте донельзя иной, настолько иной, что одно и то же слово, «мир», взятое в этих двух контекстах, выглядит сущим антонимом. Здесь нет никакой нужды пробуждаться от тысячелетнего сна, ибо в мире этом царит тысячелетнее бодрствование. Этот мир не глух и не безразличен к слову, если слово не навязывает ему собственных лингвистических правил, а предоставляется в его распоряжение, дабы сам он получил возможность выговориться о себе; мир, о котором сказал однажды Гёте, что считал его всегда гениальнее собственного гения, и который воспел однажды в порыве дифирамбического восторга: «Природа! Мы окружены и охвачены ею и не можем ни выйти из нее, ни глубже в нее проникнуть. Непрошеная и нежданная, захватывает она нас в круговорот своего танца и несется с нами, покуда мы не выбиваемся из сил и не выпадаем из ее рук…
Все люди в ней, и она во всех. Со всеми ведет она дружескую игру и радуется по мере того, чем больше у нее выигрывают. Со многими она скрытно играет так, что игра подходит к концу, прежде чем они это заметят.
Даже неестественное есть природа, на самом грубом филистерстве лежит нечто от ее гения. Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее перед собой.
Она любит себя и навеки прикована к себе бесчисленными глазами и сердцами. Она расчленилась для того, чтобы наслаждаться собою. Все новых и новых гурманов пробуждает она в своем ненасытимом стремлении передаться…
Она позволяет всякому ребенку мудрить над собой, каждому глупцу судить о ней; тысячам тупо проходить мимо и ничего не видеть; и во всех она имеет радость и со всеми ведет свой расчет.
Ее законам повинуются также тогда, когда противятся им; даже и тогда действуют с ней согласно, когда хотят действовать против нее…
У нее нет языка и речей, но она творит языки и сердца, которыми она чувствует и говорит.
Ее венец — любовь. Только любовью приближаются к ней… Каждому является она в собственном виде. Она скрывается под тысячью имен и названий, и всегда одна и та же.
Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяюсь ей. Она может распоряжаться мною. Она не возненавидит своего творения. Я ничего не сказал о ней. Нет. Она уже сама сказала, что истинно и что ложно. Всё ее вина, всё ее заслуга» (7, 2, 5–9).
Мировоззрение Гёте, в каких бы формах оно ни выступало, художественной, философской, естественнонаучной, житейски-мудрой, все равно, предваряется именно таким миром. Решающий принцип Гёте гласит: «Если естествоиспытатель хочет отстоять свое право свободного созерцания и наблюдения, то пусть он вменит себе в обязанность обеспечить права природы; только там, где она свободна, будет свободен и он; там, где ее связывают человеческими установлениями, он будет связан и сам» (7, 2, 167). Мы еще успеем проследить конкретный праксис этого принципа у Гёте; вышесказанное имеет значимость попытки краткого очерка введения в гётевское мировоззрение. Трудность понимания этого мировоззрения качественно однотипна с трудностью понимания феноменов природы в духе Гёте. Можно предположить даже, что в иных случаях названная трудность практически оказывается непреодолимой. Преодолеть ее — значит выполнить ряд предварительных условий, среди которых мы, резюмируя сказанное, решились бы пока выделить следующие три, может и не лишенные некоторой акустической наивности для терминологически избалованного слуха, но бесконечно глубокие там, где кончается власть термина и начинается понимание и жизнь. Первое: существует мир, который должен восприниматься как он есть, чисто и непосредственно («Чувства не обманывают, — говорит Гёте, — обманывает суждение» — 7, 5, 348). Второе: необходимо для достижения такого восприятия дать миру беспрепятственно воздействовать на душу, не выпячивая никаких априорных понятий и представлений, приобретенных из книг. Помнить, что «всякий новый предмет, хорошо увиденный, открывает в нас новый орган» (7, 2, 32). Что мешает видению? Спешность, с которой мы подменяем восприятие словами, терминами, понятиями, теориями и концепциями, словно бы речь шла не о познании мира, а о поучительных истинах о мире, преподносимых нами миру без того, чтобы мы сочли возможным поучиться у самого мира. Отсюда вытекает третье, наиболее парадоксальное, но вместе с тем и наиболее решительное условие: лингвистический катарсис, обязательность которого вменяется правилами не философской логики, а философской терапии. Если корень зла сокрыт в словесном самоотравлении, если язык чаще всего маскирует отсутствие мыслей, то познание, желающее быть познанием, а не обманом и самообманом, должно решиться на временную диету и временно отказаться от слов. Испытание молчанием — участь каждого слова, если ему назначено быть не кимвалом бряцающим, а благовестием. Задача не из легких, в иных случаях — мы говорили уже — просто невыполнимая. Но вот же, сказав это, разве не уготовили мы очередной триумф еще одному незабытому слову? Невозможность. Пусть так, но в таком случае будем помнить, что невозможность — это Гёте. Ибо что же такое Гёте, как не «полный словарь» забытых (ибо по-предметному хорошо увиденных) слов, сотворивших целую ослепительную культуру, включающую так или иначе «всё», вплоть до констатации потомков: Гёте сотворил наш язык и литературу. Всмотримся же в эту невозможность, забыв ее словесного двойника: когда литература творится такими словами, она уже больше, чем просто литература, больше, чем любое из слов. Гёте, увиденный так, — сущее бельмо в глазу одних и орган восприятия в других. Это следовало бы принять во внимание с самого начала: здесь дело идет не об учености, а о жизни, или, как выразился однажды сам Гёте в связи с Винкельманом: «Читая это произведение, мало чему научаешься, но чем-то становишься» (3, 227).
Глава II. ИЗ «ПОЭЗИИ И ПРАВДЫ»
Всё преходящее — только подобие — «Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis»
Восемнадцатилетняя «имперская советница» Катарина-Элизабета Текстор-Гёте (будущая великолепная «фрау Айя») мучилась уже третий день, а ребенок не хотел появляться на свет. Наконец он появился, «весь почерневший» и без признаков жизни. Часы в доме на франкфуртской Хиршграбен били полдень: 28 августа 1749 года — «расположение созвездий мне благоприятствовало: солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените. Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий — без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли; лишь полная Луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рождению…» (2, 3, 12). Врача не было; роды приняли повивальная бабка и бабушка. Долгое время они протирали вином сердце новорожденного, пока, наконец, обессилевшая мать не услышала радостный крик бабушки: «Элизабета, он жив!»
Так началась «поэзия и правда» этой жизни, и если любое рождение, что бы ни думали на этот счет медики, несет в себе что-то из области мифического, то мифом этого рождения оказывалось нежелание быть. Уроженец Аркадии и небожитель, он словно бы с великим трудом решался на нынешнее земное воплощение, где — он скажет об этом спустя восемьдесят лет — никто не поймет его предпосылок (8, 70). Предпосылки мира, в котором ему пришлось провести такую долгую жизнь, были активно иными; мир этот, увлеченный просветительским азартом, решительно разучивался изумляться и благоговеть, держаться во всем естественности и видеть вещи такими, каковы они суть на самом деле. Миф рождения, сказавшийся трехдневными муками роженицы, был в этом смысле как бы мукой выбора: он знал, что приходит в мир как миротворец, и тяжесть предстоящей карьеры отталкивала его назад.
Послеобразы мифа вспыхивали и в детстве. О некоторых из них рассказал в своей изумительной автобиографии он сам, и рассказал с тем чувством бесхитростного бытописательства, сквозь которое мифическое только и могло проявиться с изначальной силой. Однажды малыш возился дома со своей игрушечной посудой и, заскучав, швырнул один из горшочков на улицу. «Братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставляет удовольствие, — я даже захлопал в ладоши от радости, — крикнули: „А ну еще!“ Нимало не медля, я кинул еще один горшок и, под непрерывные поощрения: „Еще, а ну еще!“ — расколотил о мостовую решительно все мисочки, кастрюлечки и кувшинчики. Соседи продолжали подзадоривать меня, я же был рад стараться. Но мой запас быстро истощился, а они все восклицали: „Еще! Еще!“ Недолго думая, я помчался на кухню и притащил глиняных тарелок, которые бились даже еще веселее. Я бегал взад и вперед, хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал все, что стояли на нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил всю посуду, до которой мог дотянуться» (2, 3, 13). Поразительным образом это раннее воспоминание, казалось бы, если о чем и говорящее, то о врожденном инстинкте разрушения, свидетельствует как раз об обратном: о высшей силе созидания, которой была одержима вся гётевская жизнь, созидания, более того, рассчитанного не на форму-результат, а на форму-процесс; восторг младенца перед весело бьющейся формой вырастает из респективы будущего в почти ритуальный жест освобождения формы от семантического (вспомним: сема, по Платону, и есть гроб) гнета ставшего и причащения ее к таинствам жизни и метаморфоза; в послегётевской немецкой лирике сохранился исключительный по точности поэтический паралипоменон к описанной сцене, принадлежащий Рильке:
Или еще одно несравненное воспоминание — из тех, о которых он скажет впоследствии, что факты нашей жизни определяются не столько степенью их правдивости, сколько степенью их значительности. Мальчик, охваченный чувством несказанного благоговения перед природой и ее творцом, решил во что бы то ни стало сообщить этому чувству видимый образ. Он завладел нотным пюпитром отца, разместил на нем различные минералы из домашней естественноисторической коллекции и утром, по восходе солнца, зажег с помощью зажигательного стекла ароматические свечи, которые для благоухания водрузил на вершине пюпитра. «Все удалось как нельзя лучше: то было истинное благолепие. Алтарь же и впредь продолжал украшать комнату, отведенную мальчику в новом доме. Все видели в нем лишь заботливо подобранную естественноисторическую коллекцию, а мальчик молчал о том, что знал он один» (2, 3, 39). Молчание это — мы увидим еще — он сохранит в себе всю жизнь, не как пассивное владение каким-то секретом, а как активнейшую внутреннюю атмосферу, наделенную верховными полномочиями цензора для всех в таком количестве и с таким качеством сотворенных им слов.
Мифика детства воссоздавалась, как и следовало ожидать, не только канонически, но и апокрифически. Беттина Брентано записала со слов матери Гёте три любопытных эпизода, как бы «в кредит» освещающих наиболее характерные признаки будущности этой жизни. «Он неохотно играл с маленькими детьми, — гласит первый рассказ, — они должны были быть для этого очень красивыми. Однажды в гостях он вдруг начал плакать, крича, чтобы черный мальчик убрался прочь… он не переставал плакать и дома, после того как мать пожурила его за невоспитанность. Он не мог вынести безобразного вида ребенка. Тогда ему было три года». Другой рассказ: «Часто смотрел он на звезды, о которых знал со слов взрослых, что они благоприятствовали его рождению; здесь фантазии матери приходилось временами преодолевать невозможное, чтобы удовлетворять его любознательности, и вскоре он был уже в курсе, что Юпитер и Венера — правители и хранители его судеб. Ни одна игрушка отныне не могла занять его больше, чем счетная доска отца, на которой он фишками имитировал расположение увиденных им созвездий; эту счетную доску он брал с собою в постель, веря, что тем самым придвинет себя ближе к воздействию своих благосклонных звезд. Часто озабоченно говорил он матери: не забудут ли меня звезды и сдержат ли обещанное мне еще в колыбели? Тогда мать сказала: почему же ты силою добиваешься помощи звезд, когда мы, прочие, должны обходиться без них? Он, весь зардевшись, ответил: я не могу обойтись тем, чем довольствуются другие люди. Ему было тогда семь лет». И наконец, третий рассказ, уже словами самой матери: «Я садилась, и он пожирал меня своими большими черными глазами, и когда судьба какого-то любимца шла вразрез с его разумением, я замечала, как у него от ярости вздувались жилы на лбу и как он сдерживал слезы. Часто он вмешивался и говорил, прежде чем я успевала досказать: не правда ли, матушка, принцесса не выйдет замуж за проклятого портного, даже если он убьет великана; когда я затем останавливалась, чтобы отодвинуть катастрофу на следующий вечер, я могла быть спокойна, что он до этого устроит всё сам как следует, и таким образом часто моя фантазия подменялась его фантазией» (36, 32–34).
Остальное было уже биографией… Семнадцатилетний Вольфганг по настоянию отца и вопреки собственной воле, влекущей его к изучению древних языков и истории, едет в Лейпциг изучать постылое ему право. С учебой явно не ладилось; учеба все больше и больше переставала считаться с естественными задатками восприятия и смахивала на своеобразную общеобязательную вакцинацию от здорового пользования собственной силой суждения. «В логике меня удивляло, что те мыслительные операции, которые я запросто производил с детства, мне отныне надлежало разрывать на части, членить и как бы разрушать, чтобы усвоить правильное употребление оных. О субстанции, о мире и о Боге я знал, как мне казалось, не меньше, чем мой учитель, который в своих лекциях далеко не всегда сводил концы с концами… С юридическими занятиями дело тоже обстояло не лучше…» (2, 3, 208–209). Нужно было любой ценой спасать первородство; предстояло еще написать «Фауста» и «Учение о цвете». Полагаться приходилось не столько на силу анализа, сколько на инстинкт (или, вспоминая мифически-детский язык, «на благосклонность звезд»); испытание оказывалось не из легких; скука, навеваемая лекциями, инстинктивно переживалась не как безобидное нечто, а как денатурализация и деперсонализация мысли, чувств и воли путем регулярного втемяшивания стереотипов положительного знания. Инстинкт не подвел, хотя и на довольно своеобразный манер: «…все шло еще сравнительно гладко до масленицы, когда на Томасплане, неподалеку от дома профессора Винклера, как раз в часы лекций стали продавать прямо со сковороды вкуснейшие горячие пышки, из-за чего мы обычно опаздывали и в наших записях явно обозначились проплешины…» (2, 3, 209).
Лейпциг, навязанный отцом, был потерян; приобретением оказался другой Лейпциг, спровоцировавший первый мощный выброс чисто витальной энергии. Характеристики Гёте этого периода— сплошной негативный перечень: ветреный, рассеянный, непостоянный, вспыльчивый, причудливый, неуравновешенный — таким он остался в памяти очевидцев, да и в своей собственной. «Гёте все еще тот же гордый фантаст, каким я застал его по приезде, — свидетельствует один из его франкфуртских знакомых. — Если бы только ты его увидел, ты либо пришел бы вне себя от ярости, либо должен был бы лопнуть со смеху… При всей его гордости он умудряется быть и щеголем, и его наряды, сколь бы красивы они ни были, такого дурацкого вкуса, что выделяют его на фоне всей Академии. Но все это ему нипочем, можно выговаривать ему за его сумасбродство сколько вздумается… Единственная его цель — понравиться своей милой барышне и себе самому. Где бы он ни появлялся, он выставляет себя скорее в смешном, чем в приятном свете… Походка, которую он себе выработал, совершенно невыносима» (36, 57). Действительно невыносимым выглядел этот юный спесивец, оставляющий впечатление неустойчивости и легкомыслия. Необузданное поведение не замедлило сказаться острейшими ситуациями; в скором времени выяснилось, что «надменный лорд с петушиными ногами» таит в себе реального кандидата в самоубийцы и что за маской ветрености скрывается чувствительнейший иммунодефицит «гуттаперчевого мальчика». Первый серьезный конфликт с миром раздался двойным покушением на собственную жизнь; кровохаркающий жизнелюб мог бы сказать о себе будущими словами Китса: «The world is too brutal for me» — «Мир слишком груб для меня» (42, 347); «Вертер» еще не был написан и, ненаписанный, обладал полномочиями реально диктовать условия.
Лейпциг пронесся и предвестием действительной судьбы. Здесь впервые в виландовском переводе был узнан Шекспир, а через Шекспира и собственные возможности. Почтенный проект отца, предусматривающий возвращение блудного сына в образе адвоката, стал ареной столкновения двух захватывающих страстей: к поэзии и к живописи. Выбор впоследствии был сделан, и на этот раз в согласии со всеми нормами легкомыслия: через «орла или решку» (см. 2, 3, 469).
Болезнь временно вернула юношу домой. К этому времени, по-видимому, относится первый гетевский опыт по части «невозможного». Опыт, продолженный в десятилетиях, собственно до конца жизни, и продемонстрировавший уникальное отнюдь не с одной медицинской точки зрения умение прожить почти восьмидесятитрехлетнюю и во всех смыслах здоровую жизнь с туберкулезом. Болезнь грозила ему смертью всю жизнь: кровь хлынула однажды горлом в Лейпциге, последний раз — в возрасте восьмидесяти одного года и — заметим это — до завершения «Фауста»; со смертью и вопреки ей жил он, всякий раз одолевая ее своеобразнейшим курсом терапии, мало вяжущимся с элементарными представлениями о медицине, как университетской, так и народной. Тогда, в первом случае, лечение сводилось к регулярному чтению Парацельса, Гельмонта, Корнелия Агриппы, Базилия Валентина — мир, открытый юному Гёте встречей с фрейлейн фон Клеттенберг (2, 3, 286–290. Ср. 63).
Прерванная учеба — и на этот раз уже серьезно — продолжилась в Страсбурге. Стихийной витальности необходимо было противопоставить сознательную волю к самодисциплине; Гёте уже к этому времени выработал в себе труднейшую и вместе с тем целительную способность как бы тактического самоотчуждения, способность, позволявшую ему при любой ситуации раздваиваться и наблюдать себя со стороны, причем в высшей степени объективным и спокойным взглядом. Говоря языком современной психологии, ему удавалось избегать отождествления с ситуациями, т. е. с собственными «масками», каждая из которых в отведенный ей промежуток времени насильственно узурпировала «лицо», стремясь выдать себя за саму «личность». Масок было много— от «щеголя» и «спесивца» до «самоубийцы»; урок Лейпцига показал, что отождествление с ними — прямой и быстрейший путь к концу; вставал вопрос о «режиссуре», или об овладении собственным «действом»; именно к этому сводились первые опыты страсбургской жизни. Выяснилось, что наряду с ветреностью и прожигательством существует способность наблюдать их со стороны, как если бы речь шла о чужом человеке. Выяснилось также, что дело не ограничивается одним наблюдением, но доходит до вмешательства, т. е. упомянутая способность оказывалась не только зрителем, но и режиссером, более того, автором, умеющим при случае создавать новые маски. Таковыми, в частности, стали дисциплина и самоограничение; Гёте буквально сотворил их себе, вдоволь испытав гибельные последствия недавней неуравновешенности. Это отнюдь не значило, что одно вытеснило другое; это значило, что одно временно вытеснило другое в момент, когда последнее грозило отождествлением, и что в свою очередь само оно при случае должно было уступить место третьему и т. д., с тем чтобы каждое из них (да, да, включая и «волокиту», совращающего патриархальных барышень, и будущего председателя Веймарской Каммерколлегии) было уместным и сообразным действительности.
Страсбург открылся бесконечной жаждой знаний, в основе которой лежала программа-максимум: усвоить «всё» и, значит (он уже предчувствовал это), стать «всем». Первый импульс по излечении себя чтением Парацельса был соответственно парацельсическим: изучение медицины, химии, ботаники. О лейпцигской скуке уже не могло быть и речи; занятия носили не обезличенно-вынужденный характер, а определялись на этот раз правилами личной духовной гигиены. Вот некоторые из этих правил, которым он и на девятом десятке лет будет следовать столь же неукоснительно, как в юности: «Рассматривать вещи с максимальной сосредоточенностью, вписывать их в память, быть внимательным и не пропускать ни одного дня без какого-либо приобретения. Далее, предаваться тем наукам, которые дают духу прямое направление и учат его сравнивать вещи, ставить каждую на надлежащее место, определять ценность каждой: я разумею настоящую философию и основательное знание» (9, 1(4), 244). Уже на этой ранней стадии ученичества сполна проявилась господствующая способность Гёте к цельному знанию; если, скажем, он изучал медицину и химию и в то же время вчитывался в Пиндара и Шекспира, то процесс усвоения шел не по двум каналам, а по единственному: пиндаровско-шекспировский опыт активно вмешивался в специальнейшие разделы медицины и естественных наук, открывая невиданные перспективы в осмыслении последних. При такой гигиене безвредной, более того, полезной оказывалась даже юриспруденция, проглоченная в два счета, так что довольный отец мог по возвращении прижать к груди уже не гуляку праздного, а господина Doktor juris (диссертация со скоростью моцартовских опер писалась в последние две-три недели страсбургского пребывания). Дошло даже до четырехлетней адвокатской практики в Вецларе и Франкфурте, где, впрочем, молодой лиценциат зарекомендовал себя не лучшим образом: в судебных актах сохранились жалобы на некорректность выражений доктора Гёте.
«Благосклонность звезд» становилась все более явной. В сентябре 1770 г. произошла встреча с Гердером: юный Коперфильд встретил своего Стирфорса. Гердер, который старше на пять лет, уже к тому времени был знаменитостью; «лопнувшая струна на большой золотой арфе человечества», как он назвал себя впоследствии (25, 125), он предстал тогда юному Гёте едва ли не самой натянутой струной; ошеломлял уже самый образ его мыслей, во всех отношениях непривычный и головокружительный, до очевидного новый и небывало зрелый, как бы демонстрирующий воочию новую стадию зрелости самого человечества. Гердер стал больше чем учителем; он стал органом восприятия, не только открывшим новое, но и позволившим по-новому увидеть старое. Мир, данный как бытие в хрупких оформлениях стиля рококо, увиделся вдруг с катастрофической очевидностью как становление и как история; моментально улетучивалась постылая серия дуализмов между Богом и миром, языком и вещью, субъективным переживанием и внешним событием; становящийся мир оказывался сквозным единством вулканически разыгрывающихся энергий, в которых не было уже места Богу и миру или языку и вещи и единственной реальностью которых представали Бог как мир или язык как вещь — будущая гумбольдтовская «энергейя», будущее гегелевское «бывание» — и далее: будущий гётевский «метаморфоз». Нужно представить себе степень потрясения юного студиозуса, столкнувшегося с этим «явлением богов» (так он назвал Гердера). Был открыт больше чем мир; была открыта мера мира, и мерой этой стал по-новому человек, не homo lupus (человеко-волк) Томаса Гоббса, a homo genialis. Реакция была молниеносной; оптика Гердера взорвалась неслыханными образцами лирики и драмою «Гёц фон Берлихинген»: «бурей и натиском» нового мировидения, не признающего иной морали, кроме гениальности. Отныне и навсегда ум, сердце и воля подчинялись следующим канонам: 1) подлинный индивидуализм возможен только через универсализм, 2) видеть — значит всегда видеть целое, 3) познание — это страсть, 4) истина — это продуктивность.
Потом был написан «Вертер». Книга вышла анонимно, в двух томах в Лейпциге, помеченная 1774 годом. «Это создание… я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков. Впрочем… я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла» (3, 466). В Другой раз — мы слышали уже — он назвал ее «отродьем»; тень романтического юноши, не выдержавшего последствий своего аппетита к «мировой скорби» и лишившего себя жизни, преследовала его по пятам, досаждая назойливой маской «автора Вертера» вплоть до эрфуртской встречи с Наполеоном в 1808 г., когда этот царственный почитатель книги, прочитанной им семь раз, все еще приветствовал ее автора. В каком-то смысле «Вертер» оказался западней, и если кому-то суждено было ускользнуть из нее, то в первую очередь самому творцу; западня выглядела повальным психозом упоения гибелью и вереницей реальных Вертеров, добровольно покидающих жизнь в голубых сюртуках и желтых жилетах и с «Вертером» в карманах. Повторялся младенческий миф о битой посуде; очередной разбитый кувшин оказывался действительностью не осколков, а живого источника. Вот некоторые из характеристик Гёте этого периода, принадлежащие его друзьям и знакомым: «Передо мной стоял один из необыкновеннейших людей, полный высокого гения, пылкого воображения, глубокого чувства, быстро изменчивых причуд» (Георг Якоби). «Гёте — гений с головы до пят… Нужно лишь побыть с ним час, чтобы признать в высшей степени смехотворным требовать от него думать и поступать иначе, чем он думает и поступает в действительности» (Фридрих Якоби). «Гёте был у нас, красивый юноша 25 лет, гений, сила и мощь с головы до пят» (В. Гейнзе). «Поразительный человек. Первый человек из людей, когда-либо мною виденных. Единственный, с кем я могу существовать. Потомки придут в изумление, что некогда был такой человек» (Ф. М. Клингер). «Совершенно великолепный человек. Полнота горячего чувства струится из каждого слова, каждого выражения лица. Живой до неистовства, но таящий за неистовством нежно любящее сердце» (X. Штольберг). «Он мог бы быть королем. Он обладает не только мудростью и простосердечностью, но и силой» (Лафатер) (36, 217–218). Знаменитый Виланд, кумир лейпцигских лет Гёте, обобщил все эти свидетельства в следующих дифирамбических строках:
7 ноября 1775 г. двадцатишестилетний Гёте по приглашению герцога Карла Августа прибыл в Веймар. «Ему едва минуло восемнадцать лет, когда я приехал в Веймар… Он был тогда еще очень молод… и мы немало сумасбродствовали» (3, 581–582). В Гёте он не чаял души и сразу же наделил его всеми полномочиями верховной власти: сперва тайным легационным советником с правом решающего голоса в Тайном совете, а позже и действительным тайным советником. Практически речь шла о неограниченной власти; в ведении «автора Вертера» оказались: внешняя политика, финансы, военное дело, народное образование, строительство дорог и каналов, мельницы и орошение, рудники и каменоломни, богадельни и театр. Недовольство веймарской знати не знало предела и грозило перерасти в бунт, но герцог настоял на своем. Аргумент был прост и административно невероятен: «Использовать гениального человека там, где он не может применить свои необыкновенные дарования, значит употребить их во зло» (25, 39). Овладение этой новой маской произошло с молниеносной быстротой. Так, к примеру, ознакомившись с финансовым положением и обнаружив там крах, он отстранил от дел всех, единолично занялся вопросом и в кратчайший срок навел совершенный порядок (кстати, увеличив ежегодный апанаж двора с 25 тысяч до 50 тысяч талеров). Надо прибавить сюда еще внушительный список «сумасбродств», с помощью которых «его превосходительству», очевидно не без успеха, удавалось справляться с масками «педанта» и «бюрократа». Герцог, похожий, по общему мнению веймарцев, скорее на егеря, чем на принца, был одержим желанием иметь наследника, которое осуществлял не только в своих супружеских покоях, но и в окрестностях своего герцогства (наследникам по этой линии доставалась не корона, а, как правило, место егеря); необыкновенные дарования Гёте были реализованы и здесь. Сомнений нет: это потрясало или приводило в бешенство, но налицо было одно: абсолютная полифоническая включенность, ослепительный коллектив в одном лице, магический театр перевоплощений. «Величайший дар, за который я благодарен богам, состоит в том, что быстротой и разнообразием мыслей я могу расколоть один-единственный ясный день на миллионы частей и сотворить из него маленькую вечность» (9, 4(4), 288). Гёте были основаны или впервые «задействованы»: 1) библиотека, 2) собрание картин, 3) собрание эстампов, 4) нумизматический кабинет, 5) так называемая кунсткамера (содержащая антиквариат и курьезы), 6) художественная школа, 7) параллельно с последней Литографический институт в Эйзенахе, 8) минералогический музей, включающий геологическое и палеонтологическое отделения, 9) зоологический музей, 10) остеологический музей, 11) музей человеческой анатомии, 12) ботанический музей, 13) ботанический сад, 14) физико-химический кабинет, 15) химическая лаборатория, 16) обсерватория, 17) ветеринарная школа, 18) университетская библиотека, 19) музей йенского общества естествоиспытателей (25, 217–218). Содержательная сторона дела прояснится на одном лишь примере: минералогический музей в первые веймарские годы Гёте представлял собою крохотную и жалкую любительскую коллекцию; после его смерти это было уже одно из самых богатых и научно значимых собраний во всей Европе.
И все-таки он задыхался. Непонятным образом дело шло к концу, хотя роптать на судьбу у него не было ни малейших оснований. Он чувствовал, что зашел в тупик и что случай до невозможного обострялся тем обстоятельством, что налицо были все признаки отсутствия тупика; предположить можно было все что угодно, кроме тупика, но реальностью оказывался именно тупик. «Я считал себя мертвым», — скажет он чуть позже, осмысливая уже из Италии последние месяцы веймарского одиннадцатилетия (9, 8(4), 83); спасение и на этот раз было инстинктивным. Надо представить себе ситуацию, когда последнее слово остается за чисто моторной реакцией; человек встает, нарушая все нормы поведения, и направляется к выходу, но дело идет при этом не просто о выходке, а о глотке свежего воздуха, отсутствие которого — сию же минуту— грозит разрывом сердца. 3 сентября 1786 г. в три часа утра Гёте тайком покинул Веймар. Об отъезде не знал никто, даже герцог; в кармане лежали документы на имя Жана Филиппа Мёллера, живописца. Неясна была даже цель побега; путь лежал поначалу в сторону Мюнхена; потом оказалось, что он вел в Италию, ибо попасть любой ценой надо было именно в Италию.
Дело шло не о случайном капризе; это была исконная ностальгия германской души, гнавшая эту душу со времен великих Штауфенов до Гёльдерлина и Ницше на юг, под лазурное итальянское небо. Признания Гёте не оставляют ни малейших сомнений насчет реальной причины этого внешне столь экстравагантного бегства: «Я несказанно узнал себя в этом путешествии» (9, 8(4), 232); «Наконец, я достиг цели моих желаний… Моя привычка видеть и читать все вещи такими, как они есть, смотреть на все ясными глазами, мой полный отказ от всяких претензий — все это делает меня здесь, в тиши, в высшей степени счастливым» (9, 8(4), 50); «В Риме я впервые обрел самого себя, впервые в согласии с самим собою стал я счастливым и разумным» (9, 32(4), 295). Путешествие длилось два года; был даже соблазн поселиться здесь навсегда; в этой стране, хранящей верность истокам европейского детства, не разучились еще весело хлопать в ладоши при виде колотящейся о мостовую посуды; здесь еще раз удалось ему соорудить детский алтарь и повторить детское богослужение. Соблазн был велик, но долг перед будущим одержал победу. Италия не стала остановленным мгновением этого еще не написанного «Фауста»; последний взгляд, брошенный им на римскую Кампанью, был не только взглядом разлуки, но и приобретением; он уносил ее с собою как душевное здоровье и импульс жизни. Италию нужно было увидеть, вспомнить, вобрать в себя и увезти с собою. Он сделал это и уже никогда сюда не возвращался.
Позади оставались разбитые осколки детского мифа, или страна туристических древностей.
Глава III. «КАРЬЕРА В НЕВОЗМОЖНОМ»
Гёте-естествоиспытатель остался полностью вне зрения Канта, хотя самые существенные открытия в области органической природы и, что бесконечно важнее, создание самой органики как науки были сделаны им еще при жизни кёнигсбергского философа. «Кант меня попросту не замечал» (3, 234) — так ответил однажды Гёте на вопрос Эккермана о том, были ли они знакомы. Фактически этот ответ не таит в себе никакой проблемы; значимость его симптоматична и символична. Попытаемся обыграть его в небольшом мысленном эксперименте. Как оказалось возможным, что Кант попросту не заметил Гёте (добавим в скобках, не такого уж и незаметного)? Не оттого ли, что, заметь он Гёте, ему пришлось бы — попросту! — посчитаться с ним, не с поэтом, а как раз с естествоиспытателем, выдвинувшим и на деле подтвердившим совершенно новый, небывалый, революционный метод научного познания живой природы? Острота вопроса усиливается тем более, что речь идет именно о естествознании, во всех отношениях и принципиально альтернативном ньютоновскому; не только в истории науки, но и в истории культуры вообще едва ли сыщется прецедент, равный по непримиримости отношению Гёте к Ньютону. Вопрос «как возможен „Гёте“?», равносильный в общей форме вопросу о возможности интуитивного познания, поставил бы Канта перед труднейшим выбором: пришлось бы либо в корне перестраивать все здание критики познания, либо — вопреки факту и очевидности — заключить к невозможности «создателя» позвоночной теории черепа и морфологии растений. Гёте постигла бы участь шведского духовидца Сведенборга, замеченного в свое время Кантом и разоблаченного как «трансцендентальная иллюзия» (евфемизм, обозначающий на языке Канта попросту «шарлатанство»).
Обоснование возможности ньютоновского естествознания могло бы показаться на первый взгляд вопросом, имеющим частную и специальную значимость. На деле эта проблема выходит далеко за рамки сугубо научного и философского интереса и представляет собой первостепенную задачу культурно-исторического ранга. Возможность «Ньютона» отнюдь не ограничивалась сферою математического естествознания; ко времени Гёте и Канта она приобрела значимость некой универсальной парадигмы почти для всех измерений культуры и быта. По сути дела «Критика чистого разума» философски обосновывала не только научное знание, но и некую жизненную возможность, некое единство стиля жизни, специфически проявляющегося в самых различных областях и нашедшего совершенное выражение в символах механистического мировоззрения. Возможность «Ньютона» оказывалась в этом смысле возможностью жизни вообще, включая и те сферы жизненного поведения, где о самом Ньютоне и естествознании как таковом можно было не иметь ни малейшего представления. Для историка культуры, исследующего многообразие некой эпохи с целью выявления ее культурной физиогномики, подобное единство есть вопрос мало-мальски развитой техники существенных ассоциаций и умения оформлять материал сообразно требованиям структурно-типологических связей. «Ньютон» (понятый символически и симптоматологически) вырастает до значимости модели — или, как сказали бы сегодняшние философы, «порождающей модели» — эпохи; «Ньютона» в этом смысле приходится обнаруживать не только в естественнонаучных мемуарах эпохи, но и, с не меньшей силой, в политике, эстетике, религиозных представлениях, социальной жизни: от чисто механистического описания Версальского двора у герцога Сен-Симона до механизма поступков, совершаемых героями романов Ретифа де ла Бретона. Возможность этой культурно-исторической типологии и обосновывал на деле Кант под скромной маской анализа оснований математического естествознания.
В наши задачи не входит детальное исследование означенной модели; мы вынуждены ограничиться кратким описанием наиболее существенных признаков ее. Вот они: преобладание количественного метода; ограничение сферы опыта только чувственным опытом; подчинение эксперимента заведомо предпосланным понятиям, сведение целого к совокупности частей и, следовательно, замена целого общим; утрата эйдетического, т. е. сущностного, зрения; выработка единого рассудочного стереотипа, под который подгоняются все без исключения явления (механистическая модель как ключ не только к падающим телам, но и к живой природе, морали, версификации, администрированию, экономике)[3]; отсюда знание, движимое волей к власти, к господству над миром, — бэконовский принцип «подчинения паче повелевания»; закабаление явления авторитетом формулы — на языке Канта: «…рассудок не черпает свои законы (a priori) из природы, а предписывает их ей» (14, 4(1), 140).
Еще раз: возможность математического естествознания оказалась возможностью вообще. Все, что так или иначе не умещалось в рамках описанной модели, механически расценивалось как невозможность. Вопрос о «ересях» получил неожиданно изощренное решение. Еретикам и изгоям механистической Вселенной всемилостивейше дозволялось быть поэтами, художниками, мечтателями, мистиками, духовидцами, этакими, с позволения сказать, «чудаками», скрашивающими досуг научно мыслящей элиты причудами собственных субъективных дарований. О доступе в общезначимую зону, зону «априорных синтетических суждений», не могло быть и речи; там начиналась сфера невозможного, или, говоря словами Канта, «авантюра разума». Ничто не должно было нарушать строго математического порядка мироустройства, где даже авантюрам предназначалось свершаться надлежащим образом и в надлежащем месте, скажем в сфере слепой (по Канту) чувственности, так что какой-нибудь Казанова мог отлично вписываться в общую типику ньютоновской модели, не имея ни малейшего представления о том, в какой степени его поведение регулировалось нормами мира свободно падающих тел. Невозможность начиналась там, где внимание переключалось на святая святых этого мира: на сами нормы, на саму науку, на само познание. В таких случаях механизм репрессии срабатывал безошибочно: более слабых вообще сбрасывали со счетов; сильных одолевали иначе, с помощью почти колдовского аргумента: это слишком художественно, слишком поэтично, даже слишком красиво, чтобы быть научно значимым.
«Проза мира» (выражение М. Фуко) требовала иного изложения: сухого, бескрасочного, скопческого. Пуританская этика импульсировала не только хозяйственную жизнь, но и стиль мышления. Статус Лондонского Королевского общества предписывал членам Общества математический стиль выражения во всех темах и жанрах («bringing all things as near the Mathematical plainnes as they can»); это предписание было настолько решающим, что именно стиль помешал Томасу Брауну стать членом Общества (26, 335–336).
В конце концов сэр Исаак Ньютон, имевший обыкновение обнажать голову при слове «Бог», ничуть не претендовал на роль творца Божьего мира, довольствуясь скромной ролью «редактора», отредактировавшего этот мир по всем правилам редакторского искусства: до самой грани, за которой возникает феномен неузнавания автором собственного творения. Перейти роковую грань оказалось не так уж просто. Острота ситуации потребовала, чтобы наряду с возможностью Ньютона возможной стала бы и сама невозможность. Она и стала возможной в лице немногих и единственных, тех самых, о которых обронил еще Гераклит несносно-безошибочное слово: «Один для меня — мириада, если он есть наилучший» (12, 19). Очевидно, потому, что гётевская «карьера в невозможном» (его поразительное выражение) бесповоротно нарушила постылое однообразие ньютоновско-кантовской возможности.
Заметить Гёте и в самом деле было нелегко. «Со мной дело обстоит так однообразно и едва заметно, как с часовой стрелкой, и лишь со временем замечают мое движение» (9, 9(4), 300). Признание изумительно схожее с эпиграфом из Книги Иова, который Гёте предпослал серии своих работ по органике: «Смотри, он проходит мимо прежде, чем я это увижу, и изменяется прежде, чем я это замечу». Между тем именно движение, бесконечная подвижность составляет наиболее уникальный первофеномен Гёте, от признания пятнадцатилетнего: «Я изрядно похож на хамелеона» (9, 1(4), 4) — до рокота восьмидесятилетнего: «Для того ли я дожил до восьмидесяти лет, чтобы думать всегда одно и то же? Я стремлюсь, скорее, каждый день думать по-другому, по-новому, чтобы не стать скучным. Всегда нужно меняться, обновляться, омолаживаться, чтобы не закоснеть» (8, 72). И в промежутке еще одно удивительное свидетельство тридцативосьмилетнего: «Я всегда новорожденное дитя» (9, 32(1), 113). Жизнь этого человека во всем головокружительном объеме ее становления и есть, быть может, наиболее совершенное творение его, по сравнению с которым отступает на задний план библиотека всего написанного им («детский лепет и побрякушки»); эта жизнь была им сделана по всем неисповедимым правилам творчества, как великий прообраз и оригинал его произведений; он сам однажды назвал свое творчество большой исповедью, где смысл каждой строки исчерпывается ее продуктивностью по отношению к индивидуальному целому. Бессмысленно подвергать Гёте изощренным процедурам структуралистского прочтения, исходящего из иллюзорной посылки абсолютной автономности текста и устраняющего личность автора как помеху к объективной работе над текстом («ампутация личности творца», по выражению Р. Барта). Идеалом такого метода навсегда останется ответ астронома Лапласа Наполеону на вопрос о творце: «Ваше Величество, я не нуждался в этой гипотезе»
Контекст ответа: меня интересует мир сам по себе в его механической устроенности; кто его так устроил, вопрос для меня совершенно праздный. Предполагается: некто устроил мир и удалился на покой, предоставив инструкции по использованию составлять чадам своим. Мир Гёте — смертоносное опровержение этого конструкторского высокомерия, ибо, во-первых, здесь нет никакого мира самого по себе, а есть миротворческая воля индивида, не отчуждающая от себя продукты собственного творчества, а формирующая себя в них и ими; во-вторых, здесь нет никакой устроенности в смысле чего-то готового, ставшего, законченного; этот мир — мир бесконечных изменений, трансформаций и трансфигураций; сказать о нем, что он есть, — ошибка, он не есть, а становится; говоря словами Гёте, «нигде нет ничего устойчивого, ничего покоящегося, законченного; все, напротив, зыблется в непрестанном движении» (7, 1, 8). Движение здесь — первооснова, первосила, первофакт; уже пятнадцатилетний мальчик называет себя «хамелеоном» и не в порицательном смысле, а как особый дар. Вдумаемся в это ощущение, чтобы осмыслить факт и заодно преодолеть школьную инерцию отрицательных ассоциаций в связи со словом «хамелеон». Дело в том, что уже пятнадцатилетним приходится, как правило, осиливать тяжкую стезю самоутверждения, дабы не прослыть «хамелеонами», что равносильно в общем мнении беспринципности, бесхребетности и конформизму. При этом остается открытым вопрос: что именно самоутверждается в столь героической установке на принципиальность? В любом случае позволительно сказать: утверждается именно что-то и — так или иначе — вопреки всему. С годами эта тенденция усиливается и наконец окончательно замыкается в некой мировоззрительной «точке зрения», завоеванной ценою утраты «сферы зрения». Установка на принципиальность оказывается идентичной установке на узость, ограниченность и нетерпимость; в пафосе преждевременного нонконформизма выигрыш достается близорукости, утверждающей себя за счет неприятия универсальных перспектив. Установка Гёте — врожденная, ибо присуща уже пятнадцатилетнему! — диаметрально иная: «Моя максима: максимально отречься от себя и воспринимать объекты во всей возможной чистоте» (9, 35(4), 12). Быть «хамелеоном» в этом смысле значит только одно: учиться у мира, ежемгновенно давать миру воздействовать на себя, принимать в себя мир чистым и естественным, не в призме слов, книжных знаний и точек зрения, а непосредственно. Неестественность отношения к миру начинается, по Гёте, с факта преждевременного и самоуверенного противопоставления себя миру; не мудрено, что итогом такого противопоставления оказывается ощущение одиночества и изоляции, где отвергнутому с порога миру инкриминируется глухота и безразличие к человеческой экзистенции. Вспомним еще раз удивительное признание Гёте: «Я всегда считал мир гениальнее, чем собственный гений». Это значит, что мерой действительной гениальности может быть только абсолютная открытость миру и постоянная готовность учиться у Мира. Несравненный мастер слова, он тем и стяжал себе право на неумирающие слова, что приучил себя с детства больше доверять неприметнейшей вещи, чем всем изощреннейшим навыкам риторики и филологии. Ибо инстинкт, а со временем и опыт убедили его в том, что и самая неприметная вещь учит большему, чем иные прославленные фолианты; разве не посрамил эти фолианты разбитый череп барана, валявшийся где-то на кладбище в Венеции и увиденный им так, что итогом этого стала позвоночная теория черепа! Эмерсон заметил как-то, что Гёте побежал бы даже к своему врагу, если бы знал, что сможет у него хоть чему-нибудь научиться. «Ein gewaltiger Nehmer» (страшный захватчик), — неодобрительно ворчал старый Клопшток. Ситуация временами принимала эпатирующие формы. «Что я написал — то мое… — заявил однажды Гёте, — а откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно — что я хорошо управился с материалом!» И тут же — к смятению специалистов по авторскому праву — конкретные примеры: «Вальтер Скотт заимствовал одну сцену из моего „Эгмонта“, на что имел полное право, а так как обошелся он с ней очень умно, то заслуживает только похвалы. В одном из своих романов он почти что повторил характер моей Миньоны; но было ли это сделано так уж умно — осталось под вопросом! „Преображенный урод“ лорда Байрона — продолженный Мефистофель, и это хорошо! Пожелай он для оригинальности дальше отойти от уже существовавшего образа, вышло бы хуже. Мой Мефистофель поет песню, взятую мною из Шекспира, ну и что за беда? Зачем мне было ломать себе голову, выдумывая новую, если Шекспирова оказалась как нельзя более подходящей и говорилось в ней именно то, что мне было нужно. Если в экспозиции моего „Фауста“ есть кое-что общее с книгой Иова, то это опять-таки не беда, и меня за это надо скорее похвалить, чем порицать» (3, 146–147). Что это: святая простота или искушенная мудрость? Несомненно одно: сознание, настоянное на логико-юридической формалистике анкетного миропознания, окажется категорично неспособным не только принять, но и просто выслушать до конца эти здоровые и естественные соображения, судящие о вещах сообразно природе самих вещей, а не в угоду различным точкам зрения на вещи. Аналогия вполне основательная: подобно тому как организм, привыкший к искусственным продуктам, может среагировать на естественные резями в желудке и общим дискомфортом самочувствия, так и сознанию, воспитанному на общих отвлеченных понятиях и туго набитому большим самомнением, покажутся нестерпимыми парадоксами самые простые и естественные истины. «Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои труды вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупцами; детство, зрелый возраст, старость — все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свой образ жизни; часто я пожинал посеянное другими; мой труд — труд коллективного существа, и носит он имя Гёте» (34, 729).
Самодиагноз пятнадцатилетнего («хамелеон») оказался прогнозом всей дальнейшей жизни. Выбор пал на открытость, открытость стала открытостью изумления перед всем-что-ни-есть. Но открытость в то же время обернулась и открытостью мишени, расстреливаемой остроумием окружения. Юный Гёте не без срывов прошел через это испытание, тем более тяжкое, что провокации часто исходили от близких. Не только жителей Веймара смешила «перпендикулярная походка» этого «выскочки», но даже не чаявшие в нем души друзья не удерживались от соблазна подтрунивать над ежедневно «новорожденным». Для Гердера он так и остался до конца «воробушком» и «большим ребенком». «Диковинной помесью героя и комедианта» называет его Кнебель в письме к Лафатеру (25, 143). Герцог Карл Август, любящий его как никого на свете, жаловался на невозможность переписки с ним: «Гёте пишет мне реляции, достойные того, чтобы быть помещенными в любой газете; это просто потешно, когда человек оказывается способным на такую торжественность» (23, 107). Дело доходило до прямой антипатии. «Мне не нравится его характер, — писал Шиллер до знакомства с Гёте, — я бы чувствовал себя не лучшим образом рядом с таким человеком» (54, 2, 223). (Гёте сам впоследствии признавался в страданиях, причиненных ему причудливостью (Grillenhafte) его характера, которым он «отталкивал от себя одних и делал врагами других» (9, 33(4), 198). «Das planlose Wesen» (бесплановое, бесхарактерное существо), — говорит он о себе, как бы подтверждая задним числом реакции своего окружения. «Как часто, — пишет друг его юности Штольберг, — видал я его на протяжении каких-нибудь четверти часа то млеющим, то бешеным» (13, 91–92). «Я не видел другого одновременно столь терпимого и нетерпимого человека», — свидетельствует Лафатер (25, 63). «Злым человеком с добрым сердцем» видится он одной из своих подруг (4, 10). А вот и схожее признание тридцатилетнего Гёте: «Как всегда я задумчивая ветреность и теплый холод» (9, 4(4), 278). Быть «хамелеоном» оказалось нелегко, во всяком случае не легче, чем культивировать с младенческих лет принципиальность, маскирующую просто принципиальную закрытость по отношению к подлинной принципиальности, т. е. к самоотрешенному поиску первооснов, «первофеноменов» окружающего мира («Они, — скажет зрелый Гёте о таких преждевременных „принципиалистах“, — относятся к делу серьезно, но не знают, что делать со своей серьезностью») (7, 5, 392). Как бы то ни было, «хамелеону», вознамерившемуся безоглядно учиться у мира, пришлось в полной мере испить горькую чашу мира и не раз скатываться на грань бунта. «Я не создан для этого мира, — гласит одна дневниковая запись двадцатидевятилетнего Гёте, — где стоит только выйти из дому, как попадаешь в сплошное дерьмо (auf lauter Kot), и поскольку я не интересуюсь ерундой, не судачу и не поддерживаю подобных репортеров, часто мои поступки оказываются глупыми» (9, 1(3), 74). И еще одно — в том же возрасте— свидетельство отчаяния: «Чем больше мир, тем сквернее фарс» (9, 3(4), 225).
Единственное, что путеводной звездой сияет в беспринципной открытости этому фарсу, — упомянутое уже нами раньше ощущение себя «любимцем Бога». «Меня всегда называли баловнем судьбы. Я и не собираюсь брюзжать по поводу своей участи или сетовать на жизнь. Но, по существу, вся она — усилия и тяжкий труд, и я смело могу сказать, что за семьдесят пять лет не было у меня месяца, прожитого в свое удовольствие» (3, 101). Об этом же свидетельствует и признание тридцатитрехлетнего: «В одном я могу Вас уверить: даже в полном разгаре счастья я живу в непрерывном отречении» (9, 6(4), 14). «Хамелеон» (впоследствии его назовут «Протеем») оказывается не так прост и не так бесхребетен, как это могло бы показаться иным фанатикам стерильной принципиальности; «скверный фарс» открытости и всеприятия таил в себе утонченнейшую психотехнику самосозидания, плоды которой не преминули сказаться.
Весь смысл гётевской «карьеры в невозможном» исчерпывается по существу двумя основополагающими фактами его жизни: фактом открытости миру и фактом самосозидания в этой открытости. Открытость миру — жажда вобрать в себя весь мир, стать самому миром; мировоззрение в обычном смысле есть воззрение на мир с определенной точки зрения, где прочие точки зрения оказываются источником раздора и вражды; в таком мировоззрении акцент падает не на мир собственно, а на само воззрение, или на «Я» самого воззрителя, использующего мир в качестве повода для самоутверждения. В гётевском смысле мировоззрения акценты переставлены; роль сильной доли назначена здесь миру, а задача воззрения определена равнением на мир, уподоблением миру и в конечном счете саморазвитием мира в человеческом «Я». Вспомним еще раз завет Гёте: «Мы должны быть ничем, но мы хотим стать всем». Быть ничем и значит: даже в полном разгаре счастья жить в непрерывном отречении. Гёте формулирует без обиняков: «Высший смысл отречения в том, что только через него становится мыслимым действительный вход в жизнь» (9, 25(1), 244). В этой стадии все права и полномочия отданы «хамелеону», который должен быть ничем и есть ничто: «das planlose Wesen» — «странная личность, не могущая быть единой с собой» (9, 25(4), 178). Гёте в кадре этого «остановленного мгновения» — несносный верхогляд, доводящий до бешенства веймарскую знать и кажущийся «воробушком» пересмешнику Гердеру. «Он сделал ставку на ничто», — говорит о нем недолюбливавшая его Шарлотта Шиллер. Точнее не скажешь, но точность достигнута ценою остановки кадра. Увидеть его за рамками этого кадра — значит сказать ему словами Фауста: «В твоем ничто я все найти надеюсь», ибо «ничто» не стабильное состояние, а тактическая уловка хитроумца, отвергающего всякие «что-то» во имя — раз и навсегда — «всего» (еще раз словами Фауста: «Весь удел человечества хочу я испытать в самом себе»). Отречение поэтому выглядит здесь не мистико-аскетической прихотью души, а вполне деловым качеством молодого человека, честолюбие которого простиралось далеко за пределы отдельных «точек зрения», взыскуя универсума в его первозданности. Таким же чисто деловым качеством оказывается у Гёте правдивость. Отречение от точек зрения есть отречение во имя правдивости, правдивость же во всех отношениях принадлежит природе, а не мнениям о ней. «Все твои идеалы, — пишет двадцатисемилетний Гёте Лафатеру, — не должны сбивать меня с пути и мешать мне быть правдивым и добрым и злым как сама природа» (9, 3(4), 33). «Первое и последнее, что требуется от гения, — скажет он впоследствии, — это любовь к правде» (7, 5, 467). Но правду недостаточно просто любить, надо еще и уметь ее любить. Рецепт Гёте крайне прост и в крайности этой почти недостижимо прост: «Истинно лишь плодотворное» (9, 3(1), 83). «Я заметил, что я считаю за истину ту мысль, которая для меня плодотворна, которая примыкает ко всему моему мышлению и которая двигает меня вперед» (9, 46(4), 199). Отсюда суровейшее правило внутренней диеты: избегать всего, что не ведет к продуктивности. В первую очередь: держаться подальше от всяческих споров, дискуссий, критики. «Кто набрасывается на негативное, — предупреждает Гёте, — тот разрушает самого себя и распыляется в чаду» (9, 37(4), 207). В конечном счете негативное отношение к негативному, культивируемое как самоцель, есть лишь усиление негативного окольным путем; его итог — бессилие и энтропийная смерть созидательного импульса. «Ни слова больше об этом скверном предмете, — восклицает Гёте, — не то, борясь с неразумием, я сам в него впаду» (3, 444). Но избегать полемики вовсе не значит избирать примиренческую позицию; Гёте и здесь находит точнейшую формулировку: «Ни полемически, ни примиренчески, но позитивно и индивидуально» (9, 46(4), 8). «Страшный захватчик», вознамерившийся вместить в себя «весь удел человечества», он вменяет себе в обязанность использовать всё, «даже враждебные вещи» (9, 41(4), 332). Воля к продуктивности обнаруживает еще одну фундаментальную черту гётевского характера, то, что сам он называет Beharren: твердость, настойчивость, упорство. В этой стадии «хамелеон» обращен к нам донельзя напряженной позой «борца». Беспринципная открытость миру оборачивается таким принципиальным противостоянием миру, перед которым сущим лепетом выглядят громокипящие прокламации иных бунтарских натур. «Мир полон сумасбродства, глупости, непоследовательности и неуместности; нужно много мужества, чтобы не уступить им поле боя и не уйти в сторону» (9, 5(4), 164). Усматривать здесь противоречие — значит по существу ничего не понять в становлении этой души. Будем помнить: речь идет не о «школьных безделушках» логики («les bagatelles d'ecole», выражение Декарта), а о живой жизни, разыгрывающейся по всем правилам вдохновенной полифонии. Что поделать, если именно такой — неразгаданно открытой — тайной предстает нам господин Тайный Советник, Мейстер Вольфганг, dottore in gaye scienze (доктор веселых наук) и спец по части «невозможного»! Эта тайна — тайна самой природы: полярность и нарастание, как называет ее сам Гёте; на деле одновременное пересечение двух путей — вширь и вглубь (= ввысь). Путь вширь — путь самоотречения и всеприятия; между обоими полюсами этого пути возникает сверхнапряженное поле универсальной антитетики, как следствие изначально поволенного решения «стать всем» («добрым и злым как сама природа»). Из уст «воробушка» срываются временами неожиданнейшие признания: «Я никогда не слышал о таком преступлении, — говорит он, к примеру, — которое я не мог бы совершить, и не знаю ни одного порока, на который не был бы способен» (35, 477). Канцлер фон Мюллер не без содрогания вспоминает другое «веселое» признание своего олимпийского собеседника: «О, я вполне способен и на зверство!» (О, ich kann wohl auch bestialisch sein). Именно здесь вступает в действие принцип нарастания: путь вглубь, или интенсификация полярностей. «Хамелеон» преображается в «борца» (Kampfer), исполненного неслыханной твердости, настойчивости, упорства, даже деспотического своеволия. Вот еще одно свидетельство канцлера фон Мюллера: «С Гёте невозможно спорить, так как о многом он высказывается слишком односторонне и деспотически» (8, 30). Нарастание — головокружительный метаморфоз, доводящий восприятие до грани обморока; обморок — доподлинная реакция на «оборотня», демонстрирующего воочию вихрь перевоплощений. Рассказывают об одном молодом англичанине, приехавшем в Веймар повидать Гёте и потерявшем сознание, увидев его. Противостояние миру равно по силе открытости миру, ибо стать «всем» значит во что бы то ни стало избегать окончательно быть «чем-то». Ощущение таково, что имеешь дело с неким сказочным существом, в котором невозможно остановить ни одно мгновение. На каждое «да» есть тут свое «нет», на каждое «нет» — новое «да». Гёте-деятель, Гёте, считающий деятельность первым и последним в человеке, и Гёте-гуляка праздный, огорчающий Шиллера своим «бездельничанием»; Гёте-большой ребенок, ставящий превыше всего чувства изумления, почитания и благоговения («Высшее, чего может достигнуть человек… изумление». 3, 290); и Гёте-холодный скептик, готовый охладить любой пыл и любой энтузиазм («Склонность Гёте к отрицанию и его невероятное равнодушие, — сетует канцлер фон Мюллер, — вновь решительно выступили наружу». 8, 43); Гёте-вдохновенный патриот, не мыслящий себя иначе, как только немцем, и Гёте — свидетель битвы при Вальми, не нашедший иного способа реализовать свой национальный траур в связи с исходом битвы, кроме как воспользоваться счастливым случаем такого количества материала, чтобы целую ночь измерять черепа своих павших соотечественников; Гёте-ипохондрик, удивляющий друзей своей рассеянностью («ein fahriges Wesen», — говорит он о себе), и Гёте-источник ядерной волевой энергии («Я могу рассказать вам факт из собственной моей жизни, когда я неминуемо должен был заразиться болотной лихорадкой и только решительным усилием воли отогнал от себя болезнь». 3, 313). Единственное «что-то», на которое он способен, — быть новорожденным, т. е. начинать каждый Божий день так, словно бы это был самый первый день —
В этом и состоит высочайшее таинство метаморфоза, что он есть форма, мыслимая в движении, и что видоизменяющаяся сущность не идентифицируется здесь полностью ни с одной из форм, какими бы совершенными сами по себе они ни были. Смертельная опасность Фауста, делающая его добычей Отца Лжи, — остановка прекраснейшего мгновения, т. е. одной из своих модификаций; жизнь Гёте — непрестанное сопротивление этому соблазну; быть равным себе значит для него быть неверным каждой из своих форм в момент, когда им случится предъявить иск на исключительность. «В человеческом духе, — говорит Гёте, — как и во Вселенной, нет ничего ни вверху, ни внизу; все требует равных прав по отношению к общему центру, скрытое существование которого проявляется как раз в гармонической соотнесенности с ним всех частей» (7, 2, 23). Позволительно прибегнуть к аналогии: если сравнить духовные способности с оркестрантами, то ничего не может быть очевиднее того, что все зависит от добросовестного и уместного отношения к собственным партиям. Никаких привилегий и профессиональной спеси; ни одна гениальная первая скрипка не спасет положения, если, скажем, литаврист вступит не вовремя или флейтист сфальшивит свои несколько нот. Все требует равных прав по отношению к творимой музыке, ибо перед музыкой равны все и настоящая музыка определяется не привилегированностью партии, а долгом каждого по отношению к своим, пусть даже нескольким нотам. Эта простейшая аналогия сполна проясняет нам случай Гёте. Универсальность здесь достигается путем строжайшего самоограничения. Гёте-игрок, признающийся в своем отвращении ко всему профессиональному, именно здесь обнаруживает тончайшее мастерство профессионала. Отказ быть «чем-то» спровоцирован проектом стать «всем», но путь ко «всему» лежит через овладение многоразличными «что-го», каждое из которых должно быть доведено до совершенства и подчинено «всему». Отказ, таким образом, есть отказ от успокоения в какой-либо освоенной «теме», тем более что наиболее совершенным из них свойственно претендовать на пульт дирижера. «Темы» Гёте — все до одной — образец совершенства, но его отношение к ним не терпит и намека на «табель о рангах». Выскочкам и зазнавшимся спесивцам в себе он всегда готов дать по носу, чтобы напомнить им меру их уместности и пределы их сообразности. Так не раз доставалось, в частности, «поэту», этой всепризнанной первой скрипке оркестра «Гёте». «У арабов, — сказал он как-то, — на протяжении пяти веков было лишь семь поэтов, которым они придавали значимость, а между тем среди отверженных было множество прохвостов, лучших, чем я» (8, 35). Мобильность и совершенное равноправие участников гётевского «коллективного существа» исключают какую-либо установку на эффективность и сенсационность; это значило бы добиться необычного успеха в одном ценою обкрадывания другого и даже ценою жизни. «Вертер» уже был написан и изжит; сумасшедшая «персона» влюбленного неудачника, влекущая к гибели весь коллектив, подверглась решительному усмирению путем переключения внимания с ее безутешных проблем на другие и самые различные вещи, скажем, на тот же череп барана или круг административных забот господина министра. «Если бы моей задачей, — говорит Гёте, — было непрерывно опорожнять и снова наполнять вот эту песочницу, которая стоит передо мною, то я делал бы это с неутомимым терпением и самой старательной точностью» (9, 31(4), 134). Подумаем теперь, что с таким же терпением и такой же точностью писал он «Фауста» и исследовал мир цвета. Так вот в этом, между прочим, и следовало бы искать не только разгадку написания «Фауста», но и один из наиболее существенных уроков его; дело не в том, писал ли Гёте «Фауста» или уподоблялся Сизифу в «миссии» с песочницей, а в том, что и то и другое требовало равных прав и равного внимания, будучи лишь средством на путях к самосозиданию. Эту мысль Гёте высказал однажды в подчеркнуто бесцеремонной форме: «Свои труды и поступки я всегда рассматривал символически, и, по существу, мне довольно безразлично, обжигал я горшки или миски» (3, 128). В «Годах учения Вильгельма Мейстера» приводится итоговое признание: «Я уважаю человека, который отчетливо знает, чего хочет, неутомимо совершенствуется, понимает, какие средства потребны для достижения его цели, умеет овладеть и воспользоваться ими; велика или мала его цель, заслуживает ли похвалы или хулы — это для меня вопрос второстепенный» (2, 7, 332). К этому же кругу высказываний относится одно поразительное замечание, таящее в себе целую концепцию долгожительства: «Можно стать трехсотлетним и больше, если только добросовестно выполнять свои ежедневные дела» (9, 33(4), 75).
Разумеется, «карьера в невозможном», осуществляемая на виду у всех и вопреки всем нормам канто-ньютоновской возможности, требовала особой осторожности и скрытности. «Слишком много требований, — объясняет Гёте, — предъявлялось к моей деятельности как извне, так и изнутри» (3, 101). В конце концов речь шла не просто об «изолированном человеке» Гёте, который в любом случае завоевал бы себе почетнейшее право на первенство среди маргинальных гениев эпохи, а о достойной альтернативе общему мировоззренческому гегемону эпохи. Надо было не просто личностно реализовать себя, но самой этой реализацией создать новый тип мировоззрения, новый путь жизни, новую эпоху. Отсюда делается понятной та стабильная черта гётевского характера, которую к Герман Гримм назвал «склонностью к инкогнито» (35, 59). Инкогнито — еще одна тактическая увертка человека, вознамерившегося вопреки всему построить свою индивидуальность сообразно ее первородству и еще раз в планетарных масштабах напомнить миру, уверовавшему в свое первоначально-туманное происхождение, высокое таинство его наследственности. Мы слышали уже: «Я вменил себе в обязанность соблюдать о самом себе и о моем пути определенное молчание» (9, 5(4), 144). «Нем, как рыба» — так характеризует он себя в другой раз (9, 7(4), 205). Каждый волен думать о нем и представлять себе его как угодно; для этого он и оставляет за собою нескончаемую галерею шлаков и побрякушек: язычник, христианин, атеист, пантеист, вольнодумец, консерватор, хамелеон, баловень судьбы, герой, комедиант — что еще?! Все равно, главное остается неуловимым. В этом вся суть фокуса, что и подтвердил он однажды Шиллеру в минуту озорной откровенности, назвав себя счастливым фокусником, который удачно стасовал карты и дурачит публику. Публике вовсе не обязательно знать, что фокусник — инкогнито. «Мой Бог, которому я всегда хранил верность, щедро благословил меня в тайном, ибо судьба моя полностью сокрыта от людей; им не дано ни видеть ее, ни слышать» (9, 4(4), 73). Или еще: «О многом я молчу, так как не хочу сбивать людей с толку, и меня вполне устраивает, если они радуются там, где я еле сдерживаю злость» (7, 5, 537). Преимущества «инкогнито» испытаны им в полной мере; таково «ничто», готовое в любое мгновение стать «чем угодно», — виртуозная техника гнозиса, свершающегося по формуле: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть». В этой формуле весь Гёте, сравнивший однажды свое отношение к людям с отношением музыканта к инструменту (9, 5(4), 328), несгибаемый гностик, «рожденный, чтоб видеть» (как поет Линкей в «Фаусте»), сделавший, по прекрасному слову Христиана Моргенштерна, своей единственной специальностью человека (45, 438) и показавший на себе возможность невозможности. «Судьба сыграла бы со мной и вовсе злую шутку, если бы не было у меня того преимущества, что я знаю мысли других, а они моих не знают» (3, 101). Ошеломительное признание, которое так и хочется уличить в противоречивости, если бы сама эта противоречивость не подчеркивала всей его правды. Как же можно было не знать мыслей Гёте, если только в записанной форме они составили 143 нелегких тома? Как мог сам он настаивать на этом своем преимуществе при наличии такого баснословного богатства с неслыханной ясностью выраженных мыслей? Тщетные вопросы. Разве не слышали мы уже ответа на них: «Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле»! Разве не ответом на них оказывается еще одно гётевское определение «труднейшего» из «Кротких Ксений»: «Что труднее всего? — То, что кажется тебе самым легким: видеть глазами то, что у тебя перед глазами»! Тайна гётевских мыслей единородна с тайной очевидного; это — открытая тайна, тайна, ничего не таящая и предлагающая себя каждому взгляду, способному смотреть на деревья и видеть лес, читать слова и постигать смысл:
Здесь сказано все; в четырех словах — податливость при большой воле — удалось Гёте найти яснейшую формулу своей «карьеры в невозможном». Он еще раз повторит эту формулу на самом исходе жизни, в письме к В. фон Гумбольдту, написанном за 5 дней до смерти и тем самым как бы подводящем итоговый смысл всей жизни: «Высший гений — это тот, кто все впитывает в себя, все способен усвоить, не нанося при этом никакого ущерба своему действительному, основному назначению, тому, что называют характером, вернее, только таким путем могущий возвысить его и максимально развить свое дарование.» (9, 49(4), 282). Это дарование, сказано в том же письме, «повергнет мир в изумление». Гёте, рожденный, по его словам, для изумления («Zum Erstaunen bin ich da»), считавший изумление органом восприятия и, с другой стороны, профессиональной обязанностью человека, продемонстрировал, воплотил еще одну ослепительно открытую тайну, гласящую, что изумление — это бумеранг, как бумеранг и глухое равнодушие, и что мир сторицей возвращает человеку и то и другое. Одному он изумляется, другому предстает глухим и безразличным. По плодам узнаются оба.
«Воробушек» в мгновение ока сбрасывает свое «инкогнито». «Он являет нам, господа человеки, — гремит уже из нашего века Поль Валери, — одну из лучших наших попыток уподобиться богам» (61, 534). Метафора, скажут иные. Может быть. Но пусть подумают они о том, какой невозможный, сверхнапряженный смысл пылает в этой метафоре, и пусть попытаются подобрать для него другое, неметафорическое, но адекватное ему выражение. Как бы ни было, «возможность Канта — Ньютона» встретила могучий отпор. Весь фокус ситуации заключается в том, что отпора-то в прямом смысле и не было; было сплошное созидание, которое, между прочим, и само по себе стало отпором. Вдвойне удивительным оказалось то, что исключение из правила, т. е. невозможное, возвело себя в ранг нового правила. Эпоха была названа именем Гёте, Goethezeit. Сбылся дерзкий парадокс Фауста: «это невозможно и именно поэтому достоверно». Но ведь к этому и сводилась гётевская дефиниция человека: человек, по Гёте, — это тот, кто «способен на невозможное» (vermag das Unmogliche). Продолжения нет, но продолжение продиктовано самой жизнью: или он — гомункул, жуткое наваждение генной инженерии, загнавшее природу в лабораторный застенок и покинутое природой, — «бесполезная страсть», как отозвался о нем один из современных западных философов (52, 708).
Путь Фауста — «с горних высот через жизнь в преисподнюю». «Человеку, — говорит Гёте, — надлежит быть снова руинизированным!» (3, 569). Случай гомункула иной; здесь все решается случайной небрежностью эксперимента:
Глава IV. ФИЛОСОФ ПОНЕВОЛЕ
В Йене 14 июля 1794 г. состоялось знакомство Гёте с Шиллером. Судьба свела их на одном из заседаний Йенского общества естествоиспытателей, где им пришлось заслушать доклад некоего Батша по вопросам исследования природы или, как сказали бы сейчас, научной методологии. Доклад был выдержан в духе строгих тенденций математического естествознания, в частности основополагающей тенденции механистического способа объяснения. Гёте, который реагировал на подобный тип мышления ощущением почти физической боли, признался в этом Шиллеру и, к радости своей, обнаружил полное согласие и поддержку. Но возник вопрос: что именно в позитивном смысле можно было бы противопоставить такому способу рассмотрения природы? Ведь одной критикой не решишь еще самой проблемы. Реплики Шиллера попали в точку; он коснулся наиболее значительной черты гётевского характера вообще: избегать всего непродуктивного и мыслить — мы слышали уже — «ни полемически, ни примиренчески, но позитивно и индивидуально». Ответ воспоследовал без промедления.
Подготовленность Гёте к ответу была безукоризненной. Восемь лет назад, в 1786 году, он уже открыл межчелюстную кость у человека, а спустя четыре года издал «Метаморфоз растений». Суть сводилась к тому, чтобы рассматривать природу не разрозненно и раскромсанной на части, а в живой целостности ее проявлений. Шиллер потребовал разъяснений этой мысли.
«Мы дошли до его дома, разговор завлек меня к нему; тут я увлеченно изложил ему метаморфоз растений и немногими характеристичными штрихами пером воссоздал перед его глазами символическое растение. Он слушал все это и смотрел с большим участием, с решительной силой понимания; но когда я кончил, покачал головой и сказал: „Это не опыт, это идея“. Я смутился, несколько раздосадованный, ибо пункт, разделявший нас, был тем самым обозначен самым точным образом. Снова вспомнилось утверждение из статьи „О грации и достоинстве“, старый гнев собирался вскипеть, однако я сдержался и ответил: „Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами“. Шиллер… возразил на это как образованный кантианец, и когда мой закоренелый реализм дал не один повод для оживленных противоречий, то после долгих сражений было объявлено перемирие; никто из нас не мог считать себя победителем, оба считали себя непобедимыми. Положения вроде следующего делали меня совершенно несчастным: „Как может когда-либо быть дан опыт, сообразный идее? Ибо в том именно и состоит своеобразие последней, что с ней никогда не может совпасть опыт“. Если он принимал за идею то, что я считал опытом, то должно же было между ними иметь место нечто посредствующее, связующее!» (7, 1, 111–112).
Мы запомним этот разговор; в нем с исключительной отчетливостью запечатлен конфликт Гёте с господствующими философскими тенденциями Нового времени. Рискнем сказать большее: если бы позволительно было применять к истории философских воззрений метод работы палеонтолога, восстанавливающего по одной косточке цельный образ живого существа, то по одному этому обмену репликами — «Это не опыт, это идея» и «Значит, я вижу идеи» — можно было бы последовательно охватить едва ли не всю историю европейской философии, от досократиков до наших дней.
Гёте никогда не считал себя философом. «Для философии в собственном смысле, — признается он, — у меня не было органа» (7, 2, 26). Но отношение его к ней всегда граничило с сильной неприязнью, от которой он никак не мог избавиться при малейшем соприкосновении с отвлеченным мышлением. «В каждом адепте опыта… — поясняет он, — я допускаю своего рода опасливость по отношению к философии, в особенности, когда она проявляется так, как в настоящее время; но эта опасливость не должна вырождаться в отвращение, а должна разрешаться в спокойную и осторожную склонность» (9, 15(4), 281). С большей дипломатичностью и нельзя было выразиться, если учесть, что самому Гёте эта спокойная и осторожная склонность удавалась далеко не всегда и, как правило, с большим трудом. Его контакты с философией — образец благопристойного дискомфорта шеи, стянутой тугим воротничком и тоскующей по полногрудому воздуху. «Она подчас вредила мне, мешая мне подвигаться по присущему мне от природы пути» (9, 15(4), 281). Исключения не составила Даже немецкая классическая философия в лице трех своих представителей — Фихте, Гегеля и Шеллинга. Все трое были пронизаны мощными импульсами гётевского мировоззрения, вплоть до того, что считали себя так или иначе философскими глашатаями этого мировоззрения. Для Фихте Гёте — «пробный камень» философии как таковой. Гегель прямо благодарит его за новые перспективы философского мышления. Шеллинг считает его своим духовным отцом. Тем не менее дистанция сохраняла силу, и опасливость то и дело давала о себе знать. «Эти господа, — отзывается Гёте о фихтеанцах, — постоянно пережевывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего „я“. Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным» (9, 23(4), 112). Раздражение не обходит и Гегеля: «Я не хочу детально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне приятен» (8, 60). Исключение, казалось бы, составил Шеллинг, прививающий философии моцартовскую легкость и быстроту, но природа и здесь взяла свое: «С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда очень радует. Я бы чаще виделся с ним, если бы не надеялся еще на поэтическое вдохновение, а философия разрушает у меня поэзию» (5, 2, 300).
Тон реплики откровенно просвечивает типично гётевской брезгливостью, не стесняющейся в выборе средств там, где речь идет о самозащите. Уже в глубокой старости он написал одному поэту, приславшему ему свои стихи, следующие строки: «Перелистал Вашу книжечку. Но поскольку, ввиду надвигающейся холеры, следует остерегаться вредоносного бессилия, отложил ее в сторону» (9, 48(4), 53). Этот ответ едва ли не в буквальном смысле исчерпывает его отношение и к философии. Для нее, признается он, «у меня не было слов, еще меньше фраз» (7, 2, 27). Внушаемое ею вредоносное бессилие вынуждало его откладывать ее в сторону и оставаться при своей первобытности. «Во всяком случае столько философии, сколько мне нужно до моей кончины, у меня еще есть в запасе; собственно говоря, я не нуждаюсь ни в какой философии» (8, 60).
Корни этой неприязни легко проследить; они со всей ясностью обнаруживаются из общего своеобразия личности Гёте. Все в этой личности мешало ей установить положительную связь с философией, в особенности когда она проявлялась так, как в Новое время. Перечислим некоторые из наиболее существенных препонов. Несовместимыми оказались прежде всего таксономически-самоопределительная тенденция философии и его врожденное отвращение ко всякого рода ярлыкам. Философ уже не мог быть просто и непосредственно философом, каким он был в прежние времена; он должен был пройти, подобно растениям в системе Линнея, соответствующую номенклатурную обработку и сортировку для получения исправных документов, без которых его ожидали бы большие неприятности чисто профессионального толка. Нужно было быть «пантеистом» или «атеистом», «идеалистом» или «реалистом», «эмпириком» или «рационалистом», ну и поскольку одно и то же растение, скажем, из группы Monocotyledones (односемянодольных) не могло одновременно фигурировать под рубрикой Dicotyledones (двусемянодольных), то оказывалось нежелательным нарушение соответствующей рубрикации и философами, которым в отместку была уготована особая и, с позволения сказать, штрафная рубрика «эклектики». То, что «эклектичной» являлась сама Вселенная, допускающая все без исключения точки зрения, даже «солипсистскую», не принималось в расчет; порядок рыл превыше всего, и ради таксономической стройности ситуации можно было пожертвовать «тоном, делающим музыку». Этот порядок сам по себе и при «умеренном непритязательном употреблении» (7, 3, 287) вполне соответствовал духу Гёте; ужас начинался там, где права его распространялись на все, и особенно, когда внешняя условная номенклатура заслоняла, а то и вовсе вытесняла живую сущность. Приговор Гёте окончателен и безапелляционен: «Каждый друг учения о природе ежечасно вздыхает и восклицает: кто спасет меня от этой смерти!» (9, 28(4), 310). Разрыв с Лафатером, ценнейшим другом юности, был предопределен с того момента, когда последний потребовал от него именно такого однозначного самоопределения: либо христианин, либо атеист. Впоследствии выход был найден с помощью игры: «счастливый фокусник» замешал в колоду номенклатур неуловимого джокера-инкогнито, с истовой старательностью изощрявшегося в мастерстве «дурачить публику». О философии не могло быть и речи; «с тех пор как я вынужден был оторваться от традиционного естествознания и, предоставленный самому себе, блуждаю, словно монада, по духовным стезям науки, я редко испытывал влечение к той или иной теории» (9, 15(4), 117). Самоопределение в общепринятом смысле слова оказывалось химерой, так как требовало однозначности. К концу прошлого века берлинский академик Э. Дюбуа-Реймон, прославившийся открытием «Ignorabimus» (лозунг, означающий: «Не будем знать»), сетовал на Гёте в связи с Фаустом, который, вместо того чтобы снюхиваться с чертом и обольщать честных барышень, должен был заняться наукой и стать университетским профессором. Маститого академика едва ли устраивало то, что всеученейший Фауст, поставленный перед необходимостью номенклатурного самоопределения, перечисляет ряд осиленных им специальностей и останавливает свой выбор на семействе «бедных дураков» («Da steh'ich nun, ich armer Tor!»). Гётевская натура «хамелеона» сработала и здесь: «Что до меня, то при многообразных направлениях моего существа, я не могу довольствоваться одним способом мышления; как поэт и художник я политеист, как естествоиспытатель — напротив, пантеист, и в первом столь же решительно, как и во втором. Если мне, как нравственному человеку, потребуется единый Бог, то я позабочусь и об этом». «Небесные и земные вещи, — прибавляет он, — образуют царство столь обширное, что только органы всех существ в совокупности способны объять его» (9, 23(4), 226). Не меньшей помехой в отношениях Гёте с философией оказалась и господствующая в ней тенденция к внутренней содержательной выхолощенности под знаком все той же номенклатуризации. Общий стиль эпохи с особенной силой утверждался именно здесь. Гёте застал лишь начальные симптомы процесса, обещавшего такую безрадостную будущность, но и о будущности можно было вполне догадываться по симптомам. Вставал вопрос: что есть сама философия? Есть ли она личное творчество или некая методологически вышколенная процедура мышления, в которой основополагающая роль уделена не столько личным качествам философа, сколько степени его верности объективным и формальным нормам самой процедуры? Верно то, что философия с момента вступления в пору зрелости прямыми и косвенными путями шла к очищению от всяческого субъективизма, но верно и то, что в этом пункте скрещивались сила ее и слабость. Сила — так как нельзя было и надеяться на возможность философского подхода без предварительного очищения мысли от необязательных субъективистских привкусов, но и слабость — так как, последовательно очищая мысль от случайных и побочных факторов, настолько увлеклись самой чисткой, что решили очистить мысль вообще от всех признаков индивидуальности. Нет никакой возможности подробнее войти в эту тему; скажем лишь, что именно здесь коренилась инстинктивная опасливость Гёте по отношению к философии. С какого-то периода (можно датировать его началом Нового времени) философия постепенно берет курс на интеллектуалистический тип мировоззрения, где сам интеллект берется не в соотнесенности с курсом ангелологии, как у схоластических докторов, а иначе; рассудочность, логизированность, понятийность, лишенные интуитивно обретенной содержательности и выступающие только в качестве форм, занимают в ней центральное место, претендующее к тому же на единственность. Неважно, идет ли речь о рационалистах или эмпиристах, крайности сходятся в одном: в растущей тенденции к формализованной абстрактности, и в этом смысле все упреки эмпиристов в адрес рационалистов по поводу отвлеченного мышления описывают круг и поражают их самих, выказывающих не меньшую отвлеченность в своих вполне чувственных конкретизациях. Образно выражаясь, философия, равная некогда всей личности в комплексе ее духовных, душевных и телесных проявлений, стягивается в фокус только головы (рассудочного мышления); свершается, так сказать, планированное и последовательное изгнание ее из всего существа человека: из рук, из ног, из сердца, из мимики, с тем чтобы уготовить ей постоянную прописку в голове без права выезда. Отныне она изживается уже не в жесте, не в поступи («перипатетика»), не в ритме жизненных поступков, а в некой «в себе и для себя» голове. Ум, естественный, изначальный, первородный ум, был заменен в ней таблицей категорий; переживание — термином; очевидность — доказательством; бытие — методом. Специалист, профессиональный инструктор по эксплуатации понятий рос и мощнел за счет просто «умницы» во всем интуитивно очевидном, неисчислимом объеме этого слова. «Вообще, — пишет Гёте анатому Земмерингу, — Вы не выиграли от того, что замешали в дело философов; этот сорт людей понимает, быть может, лучше, чем когда-либо, свое ремесло и с полным правом строго и неумолимо практикует его, резко отмежевавши свою область» (9, 11(4), 176).
На память почему-то приходят сценки из Мольера; может быть, философам все-таки следовало бы поискать генезис возмутительной дискредитации философии, разыгранной в этих бессмертных сценках? «Сганарель. Я пришел к вам посовещаться. Марфурий. Вы не должны говорить: „Я пришел“, но „Мне кажется, что я пришел“». И дальше, когда выведенный из терпения обыватель начинает бить «философа»: «Марфурий. Меня бьют. Сганарель. Выражайтесь, пожалуйста, точнее… Вы не должны говорить, что я вас побил, но что вам кажется, что я вас побил». Для такой философии у Гёте действительно не было и не могло быть органа.
Когда Вильгельм фон Гумбольдт через несколько дней после смерти Гёте писал о могущественном влиянии, которое он оказывал на людей, и связывал это влияние не с мыслителем и поэтом, а с великой и неповторимой личностью, в этой характеристике был обнажен краеугольный камень гётевского мировоззрения. Личность, названная Гёте в одном стихотворении «высшим счастьем детей земли», есть альфа и омега всех его помыслов и свершений; из бесчисленных выдержек хотелось бы упомянуть лишь одну, тем более удивительную, что она была запечатлена в административном отчете господина первого министра Саксен-Веймарского герцогства: «Каждое предприятие, поскольку все они осуществляются человеком, движется, по сути, этическим рычагом. При этом все зависит от личности» (25, 207). Повелительность и резолютивность этих слов бьют, как молот; резолюция администратора Гёте непререкаема и окончательна. Нет личности и мировоззрения, где, грубо говоря, можно быть ничтожнейшим среди детей света, покуда тебя не требует к священной жертве Аполлон. Есть личность, как мировоззрение, и мировоззрение, как личность, а точнее, есть мировоззрение, как путь самостановления, самоформирования личности. С какой бы стороны ни подходили мы к гётевскому мировоззрению, какие бы разночтения и кривотолки, интерпретации и точки зрения оно ни провоцировало, базис его навечно фундирован следующими положениями:
1. «Все великое, произведенное человечеством, всегда возникало из индивидуума» (7, 4, 103).
2. «Истину познают лишь тогда, когда опытно постигают ее в ее возникновении в индивидууме» (7, 3, 515).
3. «Истина — ничто сама по себе и для себя. Она развивается в человеке, если он позволяет миру воздействовать на его чувства и дух. Каждый человек, сообразно своей организации, имеет собственную истину, которую только он может понять в ее интимных чертах. Кто достигает всеобще-значимой истины, не понимает себя» (7, 5, 349).
4. «Истина заложена в целостном личности; она получает свой характер не только из рассудка и разума, но и из образа мыслей. Для характеристики научной личности недостаточно простого перечисления истин, возникших из ее головы. Необходимо знать сущность всего человека, чтобы понять, почему идеи и понятия приняли в этом случае именно эту определенную форму» (7, 5, 395).
5. «Истинное есть всегда индивидуально-истинное значительных людей» (7, 5, 400)[7].
Ни одному из этих положений не отвечала философия, с которой пришлось столкнуться Гёте. Нарождался и приобретал господствующее значение новый тип философа, как специалиста по части деперсонализации собственных и чужих знаний, некоего мастера самоотчуждения, отрешенного не только от реальности окружающих его фактов, но и от умения пользоваться собственным умом. Что же оставалось делать Гёте, столкнувшемуся с таким дружным саботажем его административной резолюции, как не отойти в сторону и не придерживаться правил строгой гигиены! «Если бы Вы оставили в покое философов, игнорировали всю их деятельность и твердо держались описания природы, то… каждый отнесся бы с безусловным уважением к Вашим усилиям» (9, 11(4), 175). Беспощаднее не скажешь, но разве меньшей беспощадностью к себе было бы узнавать себя в мольеровских гротесках?
Неприязнь к философии не была у него просто инстинктивной: он при случае умел отдать себе отчет в ней. «Школьная философия» — такова характеристика, данная им этим симптомам. Но вот, впрочем, более подробное объяснение: «Школьная философия, заслуга которой в том всегда и состояла, что она на любой вопрос тотчас же давала ответ согласно принятым ею исходным положениям, однажды установленному порядку и определенным рубрикам… сделалась в глазах профанов чем-то чуждым, неудобоваримым, а под конец и вовсе ненадобным» (2, 3, 231). В свете этой характеристики совершенно понятна внутренняя объективность гётевского отношения к философии, для которой конечно же у него «не было слов, еще меньше фраз» и в которой он. собственно говоря, не нуждался.
Встреча с Шиллером нарушила стабильность этой установки. Выяснилось, что «наивный природовоззритель» Гёте допускает просто безграмотность в азах философской образованности, путая идею с опытом. Шиллер, «образованный кантианец» (по существу вдохновенный и еретический бард кантианства, но в этом случае строгий блюститель азбуки), покачал головой… Так качают головой экзаменаторы, услышав несуразицу.
По сути дела случился именно экзамен, где экзаменатором выступила многовековая традиция отвлеченной мысли, а экзаменуемым — живой непосредственный опыт. «Хамелеону» пришлось моментально преобразиться из «воробушка» в «Зигфрида». Речь шла не о разногласии, а о защите собственного опыта, мировоззрения и, стало быть, собственной личности.
Но это и значило, что не нуждающийся ни в какой философии был вынужден нуждаться в ней, и не вообще в ней, а в своей собственной. Ситуация напоминала анекдот, случившийся однажды с композитором Арнольдом Шёнбергом во время службы в армии. Какой-то начальник спросил его удивленно: «Вы тот самый Шёнберг? Композитор?» Шёнберг ответил: «Да. Никто не хотел им быть — пришлось стать им мне».
Шиллер покачал головой и сказал: «Это не опыт, это идея». В этом возражении сконцентрирована мощь более чем тысячелетней дискурсивной традиции. Речь идет о философских судьбах двух извечных и бессменных протагонистов всякого философствования: мышлении и созерцании, дискурсии и интуиции, мире логического и мире чувственного, рационализме и эмпиризме. Путь европейской философии, начавшейся, как и всякая философия, с единства познавательных способностей, свершался под знаком аналитики; мышление и созерцание, фактически и беспроблемно единые у ранних греческих философов, досократиков, у Платона и Аристотеля, подчинились требованиям аналитической логики и должны были мучительно разыгрывать роль разъятия и обособления. Описанная выше безотрадная картина философии конечно же имела историю и предысторию, краткий экскурс в которую мы должны совершить, так как без этого исследование нашей темы стало бы просто невозможным.
Существует преемственность знаний, и внутри ее существует также преемственность предрассудков. По существу первая необходимым образом предполагает вторую; говоря о вечных истинах, мы вправе говорить и о неистребимых предрассудках, обнаружение которых подчас связано с не меньшими трудностями, чем усвоение истин. Одним из таких предрассудков, передаваемых из поколения в поколение и чрезвычайно тормозящих умственную работу, является убеждение исследователей в том, что именно их эпохе присущ безошибочный критерий оценки мысли прошлого, как если бы именно с точки зрения умственных стереотипов этой вот эпохи и можно было судить «труды и дни» минувших эпох. Общие понятия, с одной стороны, и большое самомнение — с другой, дают едва ли не каждому поколению повод считать, что развитие мысли отмечено постепенным восхождением от низшего к высшему; при этом высшим на данном этапе непременно провозглашается уровень, достигнутый современностью. С высоты достигнутого уровня делаются оценки, и вот, к примеру, уже в нашем веке почтенный Бертран Рассел умудрился обозвать Пифагора и Эмпедокла «шарлатанами» (51, 53). Разумеется, если взять за норму мысль самого Рассела, то оценка его окажется не только понятной, но и вполне правомерной.
Что, однако, за вычетом притязаний самого философа, дает нам право считать ее таковой? Здесь мы и сталкиваемся с уже упомянутым предрассудком: предполагается, что при всей разности мысленных конструкций, образующих единый процесс истории философской мысли, сама эта мысль качественно не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений, оставаясь стабильной и однозначной в самом своем существе. Если же так, если отличие греческих философов от нашего современника коренится не в субстанциальном, а лишь функциональном различии их типов мышления, то греческий тип, без всякого сомнения, может быть охарактеризован как недоразвитая форма современного уровня мысли. Античная философия, вся или почти вся, аттестуется баллом наивности, и сегодня каждому школяру, сдающему экзамен по философии, дозволительно считать наивным Пифагора, снисходительно подчеркивая эту наивность на фоне собственной прожженности и искушенности в мировых загадках. Перечнем номенклатур, оторванных от живого брожения мысли, подменяем мы историю философии; внимание наше приковано к текстам без контекстов; термин вытесняет живую атмосферу слова; мы по сути дела не вычитываем из текстов адекватный им смысл, а впитываем в них собственные стандарты понимания, после чего со спокойной совестью расточаем упреки или просто брань. Но достаточно хоть однажды соприкоснуться с историей мысли не через посредничество термина, а в опыте живого восприятия, вслушиваясь в головокружительные ритмы ее становления, достаточно хоть раз окунуться в катастрофическую текучесть гераклитовской философемы или неизъяснимую праведность сократовской иронии, как нас оставят общезначимые предрассудки и мы окажемся застигнутыми врасплох; тогда уже мы внемлем не современным оценкам прежних философов, а самим этим философам, и расселовская брань уступает место панегирику Алкивиада: «Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы…» (18, 2, 148).
Если, скажем, углубиться в тексты досократических философов, то ничто в них не дает нам оснований говорить о «внешнем» и «внутреннем», «объективном» и «субъективном»; ни одна из наших рассудочных дистинкций, никакая классификация не в состоянии справиться с этим странным миром, каждый фрагмент которого балансирует на грани сновиденного и в любое мгновение может пронзить нас взглядом Медузы. Субъективности мысли в нашем разумении не ведает досократик; еще меньше присуща ему раздельность мысли и созерцания, идеи и опыта. Мы никогда не поймем специфику этой мысли, если будем рассматривать ее с точки зрения картезианского cogito или кантовского единства апперцепции. Вещь в современном смысле и мысль в современном смысле неведомы досократику; они для него одно и то же, а точнее, вещь воспринимает он как символ мысли, и поэтому, когда он говорит о веществе (предмет опыта), вещество это следует понимать не в объемно-весовых категориях, а символически, как идею, и опять-таки как идею не в нашем современном смысле, а в смысле греческом, исконном и законном, как явственно зримое, как умную сущность вещи, скажет нам А. Ф. Лосев.
«Идея» и означает по-гречески буквально: «то, что видно». Реплика Гёте «Я вижу идеи», показавшаяся философской безграмотностью кантианцу Шиллеру, воспринимается как простая тавтология уже на уровне обыденного сознания древнего грека.
Тем более естественно звучит она для античного философского сознания. Единство мышления и созерцания, идеи и опыта — очевиднейшая самоданность не только раннегреческой философии, но и платоновско-аристотелевского мировоззрения. Правда, уже на этой стадии обнаруживаются первые признаки раскола; впервые у Платона идея, бывшая до этого просто фактом видения, и выражаемая в сакральных формулах-дарохранительницах, проявляет свою понятийную значимость, намекая тем самым на грань, разделяющую мир умопостигаемого, т. е. идей собственно, и мир чувственного. Монопольное господство эйдетики сменяется двоевластием, где идее-эйдосу приходится делить бразды правления с логосом-понятием. Мысль, сращенная с объектом (и, стало быть, конкретная в буквальном смысле слова), вынуждена теперь отбывать строгую логическую повинность, отрывающую ее от вещи и все больше створяющую ее с рассудком; умопостигаемая Вселенная сжимается до черепа, и на горизонтальную перекладину лобного места упадает с наднебесных высей вертикаль умного места, образуя фигуру креста как загаданный наперед символ всех последующих мытарствований европейской мысли (Платон в «Тимее» мистериально выражает это в образе мировой души, распятой на кресте мирового тела).
История философии и, шире, вся история культуры отныне разыгрывается под знаком борьбы этих двух начал расколотой целостности. Идея, ставшая в рассудке понятием, отторгла от себя созерцательность, дисгармонирующую с ее рассудочной формой, и отдала ее органам чувств. Логика, достаточно окрепшая уже у Платона и достигшая мощной власти у Аристотеля, в нарастающих темпах утверждала свою автономность, притязая на единоличное господство, и с не меньшей силой противилась ей эйдетика, изгнанная в сферу чувственного опыта. Налицо антиномия, та самая антиномия, которой суждено было столь страстно вспыхнуть в споре Шиллера и Гёте. У истоков ее зрим мы две незабываемые фигуры, демонстрирующие нам урок напряженного баланса обоих начал на трагическом фоне дружбы-вражды. История философии не знает более глубокого и плодотворного символа, чем распря между Платоном и несравненным его учеником; единомышленники, они вынуждены были вступить в единоборство, дабы явить будущему двойной ракурс единства идеи и опыта, именно: с акцентом на идею в опыте и с акцентом на опыт в идее.
Ближе, чем Аристотель, стоит Платон к ясновидческой мистериальной мудрости прошлого, и потому больше, чем Аристотеля, мучает его необходимость распятия горней идеи в опытной эмпирике; завсегдатай умных топосов, он с неохотой гостит в пещере чувственного, изживая эту неохоту в двусмысленных намеках мифа о пещере. Оттого и по сей день он отвечает вкусам «Art poetique» Верлена в большей степени, чем ригористическим требованиям опытных наук. Исторически так сложилось, что доминирование идеи в нем не раз давало повод именем его сокрушать эмпиристические твердыни; дух его возрождался всякий раз при смещении мировоззренческой парадигмы эпохи, когда взрыв художественных интуиции шумно и бранно нарушал сосредоточенную работу экспериментатора; разве случайно, что именно его звезда воцаряется на ослепительном небе Возрождения, затмевая недавнюю звезду Аристотеля, непонятого, искаженного, подвергнутого всем процедурам ритуального логического умерщвления! Так, в попеременном стравливании этих двух воплощенных парадигм складывались судьбы европейской культуры.
Гёте в «Материалах для истории учения о цвете» дал прекрасную характеристику обоих философов: «Платон относится к миру как блаженный дух, которому угодно погостить в нем некоторое время. Для него дело идет не столько о том, чтобы познакомиться с миром, ибо он его уже предполагает, сколько дружески поделиться с ним тем, что он принес с собой и что так необходимо миру. Он проникает в глубины больше для того, чтобы заполнить их своим существом, чем для того, чтобы исследовать их. Он стремится ввысь, движимый тоской снова причаститься своему происхождению. Все, что он высказывает, относится к вечно целому, доброму, истинному, прекрасному, взыскание которого он ищет пробудить в каждой груди. Все усвоенные им частности земного знания тают, можно даже сказать, испаряются в его методе, в его изложении. Аристотель, напротив, стоит перед миром как муж, как зодчий. Он очутился здесь и здесь должен действовать и созидать. Он справляется о почве, но не более, покуда он не находит основания. Все прочее, с этого места до центра Земли, ему безразлично. Он очерчивает огромный основной круг для своего сооружения, со всех сторон добывает материалы, упорядочивает их, наслаивает их друг на друга и растет таким образом ввысь в форме правильной пирамиды, тогда как Платон ищет неба наподобие обелиска, даже заостренного пламени» (7, 4, 110).
Не в меньшей степени, чем Платон, признает Аристотель значимость мира идей, но в большей степени, чем Платон, связан он с логикой эмпирического мира. Логика Платона виртуозна и сверхэмпирична; он словно бы боится замарать ее чувственным опытом и оттого парит над ним, демонстрируя мощную технику себедовлеющей мысли. В Аристотеле больше подчеркнута именно сиюминутность эмпирического поиска; он более трезв, в том смысле, что не довольствуется уже умозрительными восторгами, а предпочитает деловой подход логического осмысления собственных созерцаний. Не случайно, что именно у него логика впервые приобретает статус дисциплины, тогда как у Платона она играет еще роль дополнительного праксиса в выработке иной дисциплины, бывшей, по меткому определению Уолтера Пейтера, «дисциплиной любви» (49, 134). Как бы то ни было, дальнейшая история мысли, складывающаяся в нарастающем crescendo огрубления этих эфирных нюансов, отмечена знаком раздвоения, поляризации обоих начал, между которыми разыгралось «зимнее странствие» европейской души.
История мысли стала в этом плане историей последовательных искажений. «Друг идей» Платон в столетиях преображался в заклятого врага всего земного; сверхмощные фильтры христианской аскетики вытравили из него тончайшие нюансы «веселой науки», придав ему образ покровителя всего бесплотного и призрачно-возвышенного, вплоть до обывательских представлений (не без «хихиков») о «платонической любви». Худшей оказалась участь Аристотеля, искалеченного сначала неоплатоником Порфирием, потом арабами и, наконец, некоторыми схоластическими докторами. В результате насильственное разъятие опыта и идеи оказывалось не просто делом отдельных философских школ и направлений, но стабильной традицией, закрепляемой в учебниках и постепенно переходящей в инстинктивное убеждение. Философия Нового времени, начавшаяся с антиномии между рационализмом и эмпиризмом, возвела эту традицию в ранг непререкаемой истины. Опыт, понимавшийся прежде в равной мере и чувственно, и сверхчувственно, ибо чем же, если не опытом, считать, скажем, опыт мысли, был отдан только чувствам, а идея, переставшая быть фактом опыта, была всецело препарирована в рассудке; «то, что видно», стало как раз «тем, что не видно»; видеть отныне можно было не что иное, как «подсвечник, стоящий вот здесь, и табакерку, лежащую вон там» (по язвительному замечанию Гегеля в адрес Канта), идею оставалось мыслить и только мыслить.
Итоги водораздела подвела критическая философия Канта. Кант, занятый обоснованием возможности ньютоновской Вселенной, осуществил старательную формализацию познавательных способностей. Отторжение мышления от созерцания получает у него едва ли не юридическую окраску («quid juris» — его любимейший вопрос), и только однажды призрачным бликом мелькает у него намек на их общий, хотя и неведомый нам, корень (14, 3, 123–124. Ср. 60, 485–489). Пафос кантовской конструкции — апелляция к нашему устройству: «наш» рассудок, «наш» чувственный опыт, утверждает он, устроены так-то и так-то; философ, исследующий механику познавательного акта, должен исходить из факта этого устройства и составлять к нему, так сказать, инструкцию. Как же устроен «наш» познавательный мир? Ответ на редкость ясный и инструктивный, словно бы речь шла об эксплуатации некой машины. Мышление, говорит Кант, без чувственных созерцаний пусто, созерцания без мышления слепы; преодоление пустоты и слепоты осуществляется в акте их слияния, когда созерцания поставляют мысли эмпирический материал, а мысль облицовывает его априорной формой. Тогда они теряют-де свою слепоту и пустоту, образуя знание, совсем по забавному рецепту Эразма Роттердамского, уверяющего, что удачный брак может быть лишь между слепым мужем и глухой женой. При этом мышление оказывается возможным только в направлении к чувственности, так что знание всегда и при всех обстоятельствах квалифицируется лишь как рассудочный синтез чувственного опыта. Дело в том, что существует и другое направление: так сказать, не вниз, но вверх, не к чувственности, а к миру идей, принадлежащих разуму и пребывающих над сферою рассудка и чувственности. Логика рассуждений Канта являет в этом пункте образец драматической ситуации. Кант — если и не «друг идей», то во всяком случае безнадежный по ним воздыхатель (он обмолвился однажды признанием в роковой любви к Метафизике: «Die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein») — налагает на сферу идей строжайший познавательный запрет; мышление, желающее быть знанием, должно иметь дело только с опытом, опыт же возможен только в сфере чувственного; но мышлению присуща также так называемая «трансцендентальная иллюзия», совращающая его с опытных путей и влекущая его к идеям. Поскольку же идеи не имеют ничего общего с опытом, то мысли остается синтезировать пустые иллюзии и химеры. Так, по Канту, возникают лженауки типа рациональной психологии или рациональной метафизики, оказывающиеся на поверку фокусничеством и шарлатанством. Быть в пределах знания — значит истово избегать нашептов «трансцендентальной иллюзии» (почему бы не самого Мефистофеля?) и, продолжая аналогию, канонизировать не гётевскую версию Фауста, а печальной памяти вариант Дюбуа-Реймона. Фауст, овладевший компендиумом наук, начинает не с благодатного признания себя «дураком», признания, только и открывающего ему головокружительные стези карьеры в невозможном, а с хладнокровного объяснения Мефистофелю его полнейшей иллюзорности и дальнейшей успешной научной деятельности в области имеющих вот-вот появиться логико-методологических проблем естествознания.
Не будем несправедливыми в общей оценке ситуации. Разъяснения требует прежде всего «платоническая любовь» Канта к миру идей, столь высоко вознесенных им и ставших поэтому недоступными «нашему» знанию. «Высокие башни, вокруг которых шумит ветер… не для меня, — признался он однажды. — Мое место — плодотворная глубина опыта…» (14, 4(1), 199). Как же все-таки быть с башнями, тем более что именно в них, а не в «плодотворном опыте» оказалась заточенной личная судьба? Выход Канта потряс благородством; отняв идеи у знания, он отдал их вере, и теперь уже для замаливания поступка ему не оставалось ничего другого, как на все лады, со всей истовостью своей организованной патетики подчеркивать примат, преимущество, превосходство веры (в звездное небо над головой и в долг в груди) над знанием. Все выглядело донельзя стройным и упорядоченным: Ньютон продолжал исчислять комбинации атомов и обнажать голову при упоминании Бога. Вольтер истощал свою саркастичность в мире, отданном «его трижды проклятому величеству случаю», и предлагал выдумать Бога за его отсутствием. Шиллер покачал головой и сказал: «Это не опыт, это идея».
«Я смутился, несколько раздосадованный, ибо пункт, разделявший нас, был тем самым обозначен самым точным образом… Старый гнев собирался вскипеть, однако я сдержался и ответил: „Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами“». Он — мы убедимся в этом еще — их действительно видел, и теперь, при столкновении с непроницаемой стеной философской образованности, ему оставалось верить либо собственным глазам, либо, пользуясь метафорой Ф. Бэкона, идолам рынка. Ситуация до смешного напоминала изящную французскую юмореску просветительской эпохи. Некто — in flagranti — уличил свою возлюбленную в неверности и осыпал ее упреками. Ее старания переубедить его не возымели никакого действия, и тогда она разочарованно сказала: «Теперь, сударь, я знаю, что Вы меня не любите, ибо Вы доверяете больше своим глазам, чем моим словам».
Глаза Гёте — «he sees at every pore» (он видит каждой порой), говорит о нем Эмерсон, — и были наиболее надежным гарантом его слов. Для того чтобы понять специфику гетевской философии, необходимо учесть две основополагающие посылки, те самые, о которых с горечью сказал он как-то: «Я больше ни с кем не могу говорить о важнейших своих делах, ибо никто не понимает моих посылок» (8, 70).
Прежде всего, употребляя кантовский способ выражения, Гёте был устроен иначе. «Гёте», по Канту, невозможен, так как мышление не видит, а созерцание не мыслит; между тем «мое мышление не отделяется от предметов, элементы предметов созерцания входят в него и внутреннейшим образом проникаются им, так что само мое созерцание является мышлением, а мышление созерцанием» (7,2, 31). Созерцающее мышление квалифицирует Кант как нечто сверхчеловеческое; «…наш рассудок, — по его словам, — имеет то свойство, что в своем познании… он должен идти от аналитически общего (от понятий) к особенному (к данному эмпирическому созерцанию)…» (14, 5, 436). Кант, правда, допускает оговорку: «Но мы можем мыслить себе и такой рассудок, который, поскольку он не дискурсивен подобно нашему, а интуитивен, идет от синтетически общего (созерцания целого, как такового) к особенному, т. е. от целого к частям…» (14, 5, 436–437). Страницей раньше этот интуитивный рассудок приписывается высшему существу. Вывод непререкаем: «Гёте» либо иллюзия, либо он есть высшее существо. Как бы ни было, несомненно одно: он устроен не по Канту, и именно это определило всю «невозможность» его опыта.
Фридрих Гундольф метко заметил, что Гёте «мыслил не изолированным мозгом, а всем телом» (36, 378). «Мы отлично знаем, — утверждает сам Гёте, — что в отдельных человеческих натурах обычно обнаруживается перевес какой-нибудь одной возможности, одной способности и что отсюда необходимо проистекают односторонности способа представлении, поскольку человек знает мир только через себя и, стало быть, в наивном самомнении полагает, что мир построен через него и ради него. Как раз поэтому свои главные способности он заостряет в целое, а чего у него меньше, то ему хочется полностью отвергнуть и изгнать из своей собственной целостности. Кто не убежден в том, что все манифестации человеческого существа, чувственность и разум, силу воображения и рассудок, он должен развить до решительного единства, какое бы из этих свойств у него ни преобладало, тот будет всегда изводиться в безрадостной ограниченности и никогда не поймет, почему у него столько упорных противников и почему сам он иногда оказывается собственным внезапным противником» (7, 2, 23). Особенности становления личности Гёте слагались — мы знаем уже — таким образом, что он всеми средствами избегал закоснения в какой-либо одной специальности. Более того, патологической представлялась ему сама тенденция разделять человеческие способности по сферам приложения, где для того, чтобы быть, скажем, философом, вовсе не обязательно было обладать художественным вкусом, а для того, чтобы быть художником, и вовсе не требовалось развивать навыки естествоиспытателя. Разобщение, разъединение, дезинтеграция человеческих способностей уже в его время набирали угрожающий темп; с невероятной остротой видел он воз мира, растаскиваемый в разные стороны басенными животными специализированных способностей, — вот это в ведении физика, этим занимается психолог, тем другим — философ, а тем вот — социолог, и — просьба: не соваться в чужое, по крайней мере до тех пор, покуда не возникнет угроза экологической катастрофы; тогда «соваться» станет требованием дня, но «соваться» будет не с чем, настолько непонятными и отчужденными окажутся смежные сферы. Разве не это предвидение нашего будущего сквозит из строк, написанных рукою человека, которому оставалось жить пять дней: «Запутывающее учение для запутанных действий царит над миром, и нет у меня более настоятельной задачи, чем усиливать при малейшей возможности то, что есть и осталось во мне» (9, 49(4), 283). Корень зла фиксирует он в коротком диагнозе: «Да, наступило время односторонностей» (9, 34(4), 83). Что же противопоставляет сам он этому: позитивно и индивидуально? Высшее единство всех гармонически развитых способностей, способных в нужное время концентрированно проявляться через любую одну. Соединение всех сил: всякие отдельные усилия должны быть отвергнуты. Мир един, и сообразное постижение мира дано лишь единой личности. Акт познания — безотносительно к тому, кто его совершает: художник, философ или естествоиспытатель, — есть тотальная мобилизация всех познавательных сил (включая и резервы) в акт познания; победа может быть обеспечена только при наличии индивидуума как коллектива. Изоляция способностей, какими бы эффективными ни выглядели плоды их деятельности, есть дефект познания: «физики» вышучивают «лириков», «лирики» вышучивают «физиков», а спектакль тем временем близится к концу. Лирик (величайший!) Гёте просто становится физиком, и не просто физиком, а физиком, содеявшим, по слову Новалиса, «эпоху» (48, 587).
Он становится и философом. Посылка единства способностей необходимым образом взывает к другой посылке: философствовать не из книг, а из личного опыта. Суть шиллеровского возражения прекрасно понимает Гёте. «Все попытки решить проблему природы, — подтверждает он, — являются, по существу, лишь конфликтами мыслительной способности с созерцанием» (7, 2, 200). Но понимает он и другое, а именно причину этих конфликтов. Нам придется вспомнить в этой связи феномен слово-боязни Гёте. Вот еще одна, решающая выдержка: «Теории — это обычно результаты чрезмерной поспешности нетерпеливого рассудка, который охотно хотел бы избавиться от явлений и поэтому подсовывает на их место образы, понятия, часто даже одни слова» (7, 5, 376). Опыт, таким образом, оказывается отрезанным от самих вещей; вместо вещей он имеет дело со словами (разумеется, недоступными простому смертному), и философия становится не познанием мира, а своеобразным решением лингвистических кроссвордов. Как это происходит? Гёте и здесь предлагает четкий рентгеновский снимок: «При переходе от опыта к суждению… как раз и подстерегают человека, словно в ущелье, все его внутренние враги: воображение, нетерпение, поспешность, самодовольство, косность, формализм мысли, предвзятое мнение, лень, легкомыслие, непостоянство, и как бы вся эта толпа с ее свитой ни называлась» (7, 2, 15). Так вот, дело подлинно критической философии — контроль как раз над этим переходом. Переход от опыта к суждению ведь и есть переход от созерцания к мышлению, от опыта к идее. Отчего же случается конфликт? Отчего опыт не может быть адекватным идее? Отчего, наконец, возможным оказывается тезис: «Это не опыт, это идея»? Оттого, отвечает Гёте, что во всех поставленных вопросах нет, собственно, ни опыта, ни идеи, а есть лишь слова «опыт» и «идея». «Вместо того, чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место природы и постепенно делается столь же непонятной, как последняя» (9, 36(4), 162). А между тем «постоянно повторяемые фразы переходят, в конце концов, в окостенелые убеждения, органы же созерцания совершенно притупляются» (7, 1, 302). Оттого разрыв между опытом и идеей становится разрывом между практикой и теорией, и «то, что в теории кажется нам столь поразительным, практически мы видим ежедневно» (5, 2, 29).
О философии самого Канта Гёте выразился как раз в этом смысле. Она, по Гёте, лишена «выхода к объекту» (9, 49(4), 82), и причина этого в том, что она «принимает за объект субъективную возможность познания» (9, 11(2), 376), т. е. понятия, в конечном счете, слова. Понятно, что собственную философию он должен был начинать с очищения «авгиевых конюшен».
В первую очередь «макиавеллизм рефлексии» (7, 5, 366) безоговорочно уступает место сократической установке: я знаю то, что я ничего не знаю. Жизненный принцип: быть ничем — стать всем — становится принципом философским. Вся сумма философии, весь корпус традиции, до последнего понятия и представления, заключается в скобки с подведением под временный запрет, не потому, что речь идет о пренебрежении его значимостью, а с единственной целью воссоздания его в личном опыте. Как часто приходится, скажем, философски необразованной мысли, не стесненной никакими стереотипами и навыками и протекающей вне русла заведомо усвоенных терминов и понятий, самой прокладывать себе это русло и безотчетно «открывать» от века известные истины. И как часто образованной мысли не остается ничего другого, как указывать на первоисточники: «помилуйте, но это давно уже было сказано таким-то». Вот и прекрасно, что было, и давно. Давно уже было сказано всё, и поиск «первоисточника» — столь же безнадежная затея, как обгон элейской черепахи. На эрудита всегда найдется эрудит, и мысль, увиденная, скажем, у Шеллинга, обнаружится у Баадера, а еще раньше у Якова Бёме, Мейстера Экхарта, шартрских старцев, Плотина, не говоря уже о буддийских логиках и китайских даосах. Вспомним Гёте: «Право, надо очень уж глубоко увязнуть в филистерстве, чтобы придавать хоть малейшее значение таким вопросам» (3, 274). И вспомним еще поразительные слова, сказанные им тому же Эккерману: «Кант и на вас повлиял, хотя вы его не читали. Теперь он вам уже не нужен, ибо то, что он мог вам дать, вы уже имеете» (3, 233–234). Проблема философии заостряется в дилемму: либо знания философа индивидуализированы, либо он просто «запрограммирован» ими на манер небезызвестной «эпистемологии без познающего субъекта». Иначе говоря, является ли философия потребностью ума и сердца, или ею занимаются только потому, что случайно научились ее словарю? Но философский словарь должен быть предварен философским опытом. Опыт же, в смысле Гёте, ничем не предварен, кроме воли к познанию. Если философия предпосылает опыту что-то внеопытное (все равно, «привычки» Юма или «априорные основоположения» Канта), то она заведомо предписывает опыту правила осуществляться так, а не иначе. Мир проходит в таком опыте через призму предпосланной абстракции, и мысль постигает в мире не мир собственно, а свое отражение, которое затем приписывается миру как некая объективная характеристика. Так, скажем, сетует некий романтический поэт на глухоту и безразличие мира, а вместе с ним позволяет себе подобный же оборот и муж науки. «При рассмотрении природы, как в большом, так и в малом, — учит Гёте, — я непрерывно задавался вопросом: кто высказывается здесь, предмет или ты сам? И в этом смысле рассматривал я также предшественников и сотрудников» (7, 5, 352). Каким же образом добывается ответ? Путем строжайшего контролирования зоны перехода от опыта к суждению и разоблачения всех «внутренних врагов». Первое требование познания гласит у Гёте: познание должно быть свободно от познавательных предпосылок. Это значит, не примышлять ничего к явлениям, но дать им возможность самим обнаружить себя. Для этого прежде всего обеспечивается доступ к явлению. Устраняются все понятия, определения, термины, гипотезы, суждения; остается только чистый экран, изображающий непосредственный чувственный опыт. Такова, по Гёте, стадия достижения «эмпирического феномена». О ней и говорит он в уже известном нам отрывке: «Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле». Трудность связана с самой процедурой очищения опыта от «внутренних врагов». Достаточно взглянуть на какой-нибудь предмет и тщательно просмотреть природу его восприятия, чтобы обнаружить в самом восприятии избыток факторов, не имеющих еще никакой познавательной ценности. Говорят, например, что восприятие (пусть даже на уровне ощущения) субъективно; само по себе это утверждение ничего еще не значило бы, если бы из него не вырастали исполинских размеров недоразумения. Мы увидим еще в дальнейшем, что именно отсюда проистекала критика в адрес Гёте со стороны многих естествоиспытателей (в частности, Гельмгольца): он-де приписывает объективному миру субъективные ощущения цвета. Была определена даже соответствующая рубрикация: «наивный реализм». Респективный просмотр ситуации обнаруживает корень недоразумения: он в некритическом суждении о субъективности восприятия. Ибо в смысле Гёте восприятие не только субъективно, но и объективно. Если оно полностью субъективно, то ни о каком выходе к объекту не может быть и речи; объект моментально становится загадочной «вещью в себе», а познание фатально обрекает себя на агностицизм. Но вот простейший опыт по методу Гёте. Временно устраняются термины «субъективный» и «объективный», и внимание непредвзято концентрируется на самом процессе восприятия. Предположим, воспринимается некий внешний предмет. При отсутствии патологии он воспринимается именно как нечто внешнее, находящееся вне субъекта. Но, с другой стороны, он дан в восприятии субъекта. Утверждают: вне восприятия, сам по себе, он объективен, в восприятии же он становится субъективным. Разумеется, но как именно? Ведь из того, что восприятие предмета субъективно, вовсе не вытекает, что субъект воспринимает его как находящееся в себе. Напротив, в восприятии подчеркнута как раз его внеположность, объективность. Выходит, что в восприятии следует различать двоякое: форму и содержание. Форма ощущения субъективна, так как зависит от специфики субъекта. Но каковой бы ни была эта специфика, она, будучи здоровой, всегда имеет дело с независящим от нее содержанием восприятия, которое в субъективной форме сохраняет свою объективность. Таким образом восприятие одновременно оказывается и субъективным, т. е. способом восприятия вещи, и объективным, т. е. самой вещью. В чисто гётевском смысле сформулировал это уже в нашем веке Эдмунд Гуссерль: «Для каждого, только не для путаных философов, является абсолютно само собой разумеющимся, что вещь, воспринятая в восприятии, есть сама вещь, в своем самоличном бытии» (41, 248).
Корень путаницы, по Гёте, в априорном, до и вне опыта установленном разделении субъекта и объекта с произвольно обозначенной разграничительной чертой. Некритическая субъективизация восприятий оказывается прямым следствием поспешного рассудочного суждения. Оттого выход к объекту и кажется столь недоступным, что субъект еще до реального опыта о мире проводит резкую черту между субъективным и объективным, которую затем не в силах преступить. Допускается реальность природных свершений и познавательных усилий; одна приписывается объекту, другая субъекту; итог с бесподобной красочностью формулирует Давид Юм: «Мы можем направлять наш взор на бесконечные дали, можем уноситься воображением до небес, до последних границ мироздания, но мы все же ни на шаг не выйдем за пределы нас самих, никогда не узнаем иного рода бытия, кроме представлений, возникающих в узком круге нашего „я“» (40, 371). Не правда ли, отсюда лишь один шаг (вспомним) до человека, живущего, подобно цыгану, на краю чуждого ему мира! Вот что значит, по Гёте, «не видеть природы за сплошной чушью» (weil man vor lauter Kjam die Natur nicht mehr sieht. 7, 3, 503). Между тем речь идет как раз о том, чтобы видеть природу. Для этого рекомендует Гёте испытаннейшее средство — очищение природой; «Я никогда не могу оставаться в чисто спекулятивной области… и посему тотчас же ускользаю в природу» (5, 2, 300). Как можно больше созерцать и переживать, не допуская никакой спекуляции, дабы «знания не заняли место проницательности» (7, 5, 448). «Люди так задавлены бесконечными условиями явлений, что не в состоянии воспринимать единое первичное условие» (7, 5, 370). Это значит, что люди настолько привыкли к искусственно измышленной «природе», к восприятию природы лишь через учебники естествознания, к термину, вытеснившему проницательность, что миру, по безутешно-язвительному прогнозу Гёте, остается участь «большого лазарета, где каждый будет другому гуманным санитаром» (9, 8(4), 233). Дело представляется так, как если бы мир был изначально расщеплен на познающее и познаваемое в позиции субъект-объектного противостояния, где за субъективной невозможностью выйти из узкого круга субъективных представлений объекту вменяется в обязанность слыть глухим и безразличным. Резкая формулировка Гёте: «Нужен самобытный поворот ума, чтобы схватить бесформенную действительность в ее самобытнейшем виде и отличить ее от мозговых химер, которые ведь тоже настойчиво навязываются с известным характером действительности» (7, 5, 361). Как же осуществляется этот самобытный поворот? Ответ Гёте: перестать сомневаться в достоверном и довериться очевидному. Очевидно же то, что человек не противопоставлен природе, а единороден с ней, и это значит, что он является таким же творением природы, как и все то, что считается им объектами; но при этом он есть высшее ее творение. Его мысль природна в том же смысле, в каком природные объекты этой мысли, и в мысли о природе сама природа создала себе орган для самопознания. Человеческая мысль, по Гёте, поворот природы на самое себя в целях самопознания и дальнейшего развития; таков ключ к пониманию чисто гётеанского и лишь кажущегося загадочным положения Шеллинга о том, что познавать природу — значит творить ее. Гёте в статье о Винкельмане нашел прекрасные слова для выражения этого факта: «Когда здоровая природа человека действует как целое, когда она чувствует себя в мире как в большом, прекрасном, достойном и значимом целом, когда чувство гармонии доставляет ему чистый, свободный восторг, тогда Вселенная, если бы она смогла ощутить себя как достигшую своей цели, вскрикнула бы от радости и преклонилась бы перед вершиной собственного становления и существования» (9, 46(1), 22). «Громовой вопль восторга серафимов» (скажет впоследствии Достоевский) — вот точная формула действительного человеческого познания, в котором природа достигает своей высшей цели.
В возражении Шиллера: «Это не опыт, это идея» — идея оттого и не может совпасть с опытом, что мыслится изначально разнородной с ним. Рассудок предписывает природе правила, говорит Кант. Но откуда взялась в нем эта способность предписания, если не из самой природы! Между тем «сама» природа безмолвствует у Канта; «наше» познание природы оказывается извлечением из природы вложенного в нее нами же нашего рассудочного произвола. «…Мы a priori познаем о вещах лишь то, — пишет Кант, — что вложено в них нами самими» (14, 3, 88). Попытаемся расшифровать этот тезис в терминах очевидности. Если, скажем, мы видим падающее яблоко, то мы «научно» видим его не потому, что оно падает, а оно падает потому, что мы заведомо вложили в него «Principia» Ньютона. Неудивительно, что Мольеру оставалось в такой ситуации лишь закидывать невод в «плодотворную глубину» рассудочного опыта… Впрочем, самозваный рассудок оказался на руку не только комедиографам; уже в пределах самой философии он спровоцировал сильнейшее негодование с обратного конца и рост иррационализма, потребовавшего «вышвырнуть рассудок за его пределы» (формулировка Бергсона). Гёте и здесь сохраняет мудрую меру равновесия: «Я желал бы критики человеческого рассудка» (7, 5, 365). Критика рассудка— точное определение его прав и функций. По самой природе своей рассудок назначен расчленять и аналитически прояснять опыт. Ложь и бессмысленность его начинаются с момента, когда он полагает себя основой опыта. Может ли анализ быть основой? «Аналитику, — говорит Гёте, — грозит большая опасность, когда он применяет свой метод там, где в основе нет никакого синтеза. Тогда его работа полностью уподобляется усилиям Данаид» (7, 2, 61). Анализ не только предваряется опытом, но и полностью обусловливается им в стадии познания, называемой Гёте «научным феноменом». Понятия вступают здесь в силу, но не в модусе законодательности, а для выражения объективных законов. Понятие ведь и значит понять. Допонятийный поток чувственных восприятий именно непонятен; в нем есть всё, кроме понятия; иначе говоря, в нем есть закон, но отсутствует понятие закона, так что закон остается непонятным. Необходим анализ, искусственное расчленение потока, который только таким образом может обнаружить через рассудок свои закономерности. Собственно говоря, в восприятиях нам дано не столько содержание опыта, как полагал Кант, сколько именно форма (субъективная), и эта форма есть не что иное, как форма проявления понятия, которое полностью содержательно, так как дает нам возможность объективно понять явление. У Канта потому и выглядит все наоборот, что понятие в его аналитике наделено не понимающей функцией, а определяющей. Кантовское понятие извне привносится в поток восприятий и облицовывает их терминами; но в термине нет понимания; прежде чем понимать термином, необходимо еще понять и самый термин. Поэтому понятие может быть либо содержательным, либо ему остается быть пустым. В восприятии оно находит себе не что иное, как форму выражения своего содержания, которое и есть объективное содержание (содержание объекта). Эта стадия познания характеризуется Гёте как «чистый феномен», или «первофеномен». Здесь, по Гёте, и достигается труднейшее: взятие вещи такой, как она есть на самом деле. Это «на самом деле» и есть сама мысль, которая отражается в рассудке, как понятие, а в разуме, как идея. Мысль, следовательно, не оторвана от природы, а есть венец развития самой природы («громовой вопль» ее восторга перед вершиной собственного становления); между внешним свершением природы и внутренним процессом мысли существует глубочайшая родственная связь, так что, мысля, мы присутствуем не в мозговом изоляторе, а в самом средоточии «вещи в себе». «Природу и идею, — говорит Гёте, — нельзя разделить, не разрушив тем самым искусство и жизнь» (7, 5, 503). И еще: «То, что называют идеей, всегда обнаруживается в явлении и выступает как закон всякого явления» (9, 13(4), 39).
Посылая Гёте экземпляр своего «Наукоучения», Фихте писал ему в сопроводительном письме: «Философия не достигнет своей цели, покуда результаты рефлектирующей абстракции не примкнут к чистейшей духовности чувства. Я рассматриваю Вас, и всегда рассматривал Вас, как представителя этой духовности на современной достигнутой человечеством ступени развития. К Вам по праву обращается философия. Ваше чувство — пробный камень ее» (34, 435). Круг замкнулся. Гёте, вынужденный стать философом, потребовал и от философии невозможного, что на его языке было равнозначно умению «жить в идее», а не просто писать о ней книги. Немногие философы поняли и приняли это; в целом же и здесь сработало четко сформулированное им однажды правило: «Каждый слышит только то, что он понимает» (7, 5, 355).
Глава V. «ГАЛИЛЕЙ ОРГАНИКИ»
Непреходящей, бессмертной заслугой Гёте-естествоиспытателя останется создание науки об органическом мире. Этот вопрос требует предварительного уяснения некоторых пунктов, в связи с которыми историкам науки приходится испытывать ряд трудностей и недоразумений. Как правило, суть дела упирается в отдельные биологические открытия или догадки Гёте, оценка которых колеблется в связи с общими установками историка. Уже с конца прошлого века неоднозначность, а временами и несовместимость оценок бросались в глаза; панегирики в адрес гётевского естествознания перекрещивались с негативными выпадами вплоть до прямой хулы. Достаточно будет сопоставить книгу известного фармаколога и историка науки Р. Магнуса «Гёте как естествоиспытатель» (44), где биологическим открытиям Гёте приписывается исключительная значимость, с работой другого историка науки, И. Кольбругге, «Историко-критические исследования о Гёте как естествоиспытателе» (43) или — ближе по времени к нам — с книжкой английского физиолога Ч. Шеррингтона «Гёте о природе и науке» (55), не только отрицающими за Гёте какие-либо научные заслуги, но и доказывающими научную вредоносность его естествознания, чтобы картина прояснилась сполна. Полюсы выравниваются более сдержанным признанием естественнонаучного наследия Гёте, где последнему отводится и вовсе уж подозрительное место: между натурфилософскими фантазиями, с одной стороны, и биологической наукой — с другой, т. е. между, скажем, Кильмайером и Тревиранусом и Дарвином и Геккелем; Гёте-де уже был свободен от околонаучных тенденций, но еще далек от строго научных, так что в целом его значимость определяется рядом гениальных толчков, которые он дал вновь зарождающейся органике, оказавшись предтечей будущих свершений и т. д. и т. п.
Вносить ясность в эту разноголосицу, на наш взгляд, было бы неблагодарным занятием, так как неплодотворной и прямо тупиковой представляется нам сама постановка вопроса. Гёте действительно принадлежат многие большие и малые открытия в сфере биологии, но оценивать его значимость в этом русле, сводить ее только к этому уровню значило бы проглядеть существенное и наиболее уникальное. Дюбуа-Реймон в своем двусмысленном отношении к естествознанию Гёте высказал мысль, что «наука и без Гёте продвинулась бы вообще до своего настоящего уровня» (28, 31). Это утверждение представляется нам вполне справедливым и приемлемым, но с одной поправкой: «без Гёте» означает — без отдельных открытий, сделанных Гете. Необходимо строго различать у Гёте эти открытия и науку об органическом как таковую. Гетевские открытия в любом случае были бы сделаны и без него; они частично и были сделаны одновременно с ним и даже немногим раньше его; так, французский естествоиспытатель Ф. Вик д'Азир почти в одно время с Гёте обнаружил межчелюстную кость у человека, а немецкий ученый Л. Окен выдвинул позвоночную теорию черепа, что впоследствии привело его даже к спору о приоритете. «Многие мысли, — говорит Гёте, — вырастают только из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения роз повсюду распускаются розы» (7, 5, 395). Суть дела, однако, вовсе не в открытиях, а в способе, каким они были сделаны. Сам Гёте никогда не соблазнялся комплексом первооткрывателя; его интересовали не открытия сами по себе, сколь бы значительными они ни были, а тайна живого. Он учился адекватно постигать жизнь; этой центральной задаче подчинялась вся его практическая деятельность естествоиспытателя. «После того, — признается он однажды, — что мне довелось увидеть, исследуя растения и рыб у Неаполя и в Сицилии, будь я на десять лет моложе, мне было бы трудно удержаться от соблазна совершить путешествие в Индию, не для того чтобы открыть нечто новое, а чтобы рассмотреть открытое по моему способу» (57, 101). Открытия приходили сами собой и побочно, в подтверждение способа исследования. Так, между прочим, случилось со знаменитой os intermaxillare (межчелюстной костью). «Его поначалу не интересовал вопрос: есть ли у человека, как у прочих животных, межчелюстная кость в верхней челюсти. Он хотел обнаружить план, по которому природа образует градацию животных и кульминирует эту градацию человеком. Общий праобраз, лежащий в основании всех животных видов и, наконец, в своем наивысшем совершенстве проявляющийся в человеке, — вот, что он хотел найти. Естествоиспытатели говорили ему: в строении животного и человеческого тела существует различие. В верхней челюсти у животных имеется промежуточная кость, каковая отсутствует у человека. Его же воззрение состояло в том, что физическое строение человека может отличаться от животного лишь по степени совершенства, а не в частностях. Ибо в последнем случае в основании животной и человеческой организации не мог бы лежать общий праобраз. Утверждение естествоиспытателей заводило его в тупик. Поэтому он взялся за поиск промежуточной кости у человека и обнаружил ее» (57, 102).
В этом отрывке, принадлежащем перу Рудольфа Штейнера, впервые осуществившего в 80-х годах прошлого века систематизацию и редакцию естественнонаучного наследия Гёте, наияснейшим образом подчеркнута специфика гётевской биологии.
Сосредоточивать внимание на отдельных открытиях, которые никогда не выступали у Гёте как самоцель, но всегда как средства к выработке способа исследования, — значит способствовать укреплению разноголосицы в оценке их, примеры чего мы уже приводили выше. В этом плане Гёте хоть и представляет немалый интерес, но полностью стушевывается в самом главном. Быть предшественником Дарвина и разделять с Океном приоритет на научное открытие, разумеется, весьма почетная привилегия. Отметить ее у Гёте — долг исследователя; но свести к ней Гёте — значит зачеркнуть то именно, в чем он не только никакой не предшественник, но и по сей день никем не превзойден. Речь идет, повторяем, о способе, каким он исследовал мир живых существ, открыв тем самым — сквозь все отдельные открытия — возможность самой науки об органическом.
Краткий исторический экскурс необходим и в этом случае. Без предварительной картины общего состояния биологии, с каковой пришлось столкнуться молодому Гёте, смысл и значимость содеянного им останутся недоступными.
Собственно, говорить о биологии применительно к тому времени можно лишь условно и с большой натяжкой. Мишель Фуко в парадоксально точных выражениях дал характеристику ситуации: «Хотят писать историю биологии XVIII века, но не отдают себе отчета в том, что биологии не существовало… и что на это имелась весьма простая причина: отсутствие самой жизни. Существовали лишь живые существа, являющиеся сквозь решетку знания, образуемого естественной историей» (30, 139). Иначе говоря, отсутствовала сама идея организации живых существ; эмпирическое разнообразие живого долгое время опережало попытки как структурного овладения материалом, так и постижения внутренних принципов его строения. Материал нарастал в чудовищных темпах; расширение географических рамок взрывной волной преобразований прошлось по всем слоям европейской культурной жизни вплоть до представлений о флоре и фауне. Приток новых, чужестранных растений, культивация картофеля и табака, знакомство с экзотическими видами животного мира бесповоротно снесли старый, средиземноморский авторитет Плиния и Теофраста, отвердевший в веках в исключительную догму. Возникала новая культура — зоологических музеев и ботанических садов. Вполне понятно, что все это требовало порядка и системы: миссия, осуществить которую взялась естественная история. XVII век — век естественных историй, где реальные естества соседствуют с мифическими. Забыты все метафизические волнения; страсть к наведению порядка оказалась превыше всего. Белон пишет «Историю птиц», Альдрованди — «Историю Змей и Драконов», Дюре — «Восхитительную историю растений», Джонстон — «Естественную историю четвероногих», Рей — знаменитую «Общую историю растений». Высочайшего уровня достигла эта тенденция уже в XVIII в. у Карла Линнея. «Систематик по врожденному, яркому таланту, систематик до мозга костей, доводивший свое влечение к классификациям порою до курьезов…» — так характеризует шведского ученого отечественный историк науки В. В. Лункевич (16, 2, 333). Образцом такого курьеза может послужить, к примеру, линнеевская классификация наряду с растениями самих ботаников («фитологов», как он их называет), которые сначала делятся на две группы: Botanici (ботаники) и Botanophili (любители ботаники), затем первая группа снова делится на две подгруппы: Collectores et Methodici (собиратели и методисты), каждая из которых в свою очередь распадается на множество мелких подгрупп: Collectores — на Patres (отцы, или собственно собиратели растений), Commentatores (комментаторы «отцов»), Ichniographi (рисовальщики растений), Adonides (собиратели экзотики), a Methodici — на Philosophi (философы), Systematici (систематики), Nomenclatores (наименователи). Таксономический экстаз на этом не кончается: Philosophi снова распадаются на Oratores (ораторы), Eristici (спорщики), Physiologi (физиологи, занятые проблемой пола у растений), Institutores (учредители канонов ботанической методики). В свою очередь Systematici дробятся на Fructistae (классификаторы по плодам), Carollistae (классификаторы по венчику), Calicistae (классификаторы по чашечке), Sexualistae (классификаторы по полу). Группа Botanophili (придется ее вспомнить) также подвергается здесь распаду, но, Думаем мы, можно со спокойной совестью остановиться и на этом.
Нетрудно догадаться, каково в этой системе было самим растениям. Достаточно упомянуть одну лишь калькуляцию Линнея: 38 органов генерации, включающие каждый четыре переменные величины, допускают 5776 конфигураций, достаточных для определения родов (см. § 167 его «Философии ботаники»). Таким мощным противоударом ответила наука на разрастающийся в хаос эмпирический материал. Впрочем, едва ли можно говорить здесь о курьезах: такова была общая программная страсть эпохи, движимой импульсом к господству над природой и научно реализующей этот импульс на старый имперский лад: разделяй и властвуй. Влияние Линнея, подчинившего живую природу строжайшей классификационной дисциплине, было огромным; не избежал его и Гёте. «Я хочу признаться, — пишет он, — что после Шекспира и Спинозы наибольшее воздействие оказал на меня Линней, и как раз через противодействие, к которому он меня спровоцировал» (7, 1, 68). Причина противодействия вскрыта со всей определенностью: «…рожденный поэтом, я стремился создавать свои слова, свои выражения в непосредственной связи с соответствующими предметами, чтобы до некоторой степени удовлетворять им. И вот такому человеку приходилось удерживать в памяти готовую терминологию, иметь наготове известное число существительных и прилагательных, чтобы при встрече с какой-либо формой мочь, производя подходящий выбор, применять и сочетать их для характеристичного обозначения. Подобный способ всегда казался мне некоторого рода мозаикой, где один готовый камешек помещают возле другого, дабы в конце концов из тысячи отдельных кусков создать видимость картины, и поэтому такое требование было мне в некоторой степени отвратительным» (7, 1, 76). Как бы то ни было, школу эту следовало пройти; гётевский принцип — использовать даже враждебные вещи — оказал ему услугу и здесь: поэту пришлось посторониться и уступить место прилежному каталогизатору.
Драматичность ситуации была обусловлена самой спецификой характера Гёте. Резолюция, наложенная им однажды в административном порядке: «Все зависит от личности» — в полной мере сохраняла силу во всех проявлениях этого характера, и наука не могла составить здесь исключения. Ему был бесконечно чужд тип ученого мужа, культивирующего стерильную объективность ценою чудовищно репрессивных мер в отношении собственной личности, где идеалом научного знания выступало насильственное самоотчуждение от научного поиска. Об этих ученых выразился он однажды в таких словах: «Слишком велика масса неполноценных людей, которые оказывают влияние и воздвигают свое ничтожество друг на друге» (9, 38(4), 13). Его случай был вполне полноценным; его наука имитировала не «гримасничающую серьезность совы» (как он выразился в другой раз), а веселую науку провансальских трубадуров: «…теоретизировать сознательно, с привлечением своих знаний, свободно и, если воспользоваться смелым словом, иронично; такое умение необходимо для того, чтобы абстракция, которой мы опасаемся, оказалась бы безвредной, а результат опыта, который мы ожидаем, — вполне живым и полезным» (7, 3, 79). По этому принципу он не только теоретизировал, но и жил; «Зезенгеймские песни», «Гец фон Берлихинген», «Метаморфоз растений» проистекают из одного источника и морфологически равноценны. Понятно, что в живой природе внимание такого человека могла привлекать не решетка классификации, а сама жизнь. В одном юношеском письме он пишет об увиденной им бабочке: «Бедное создание трепещет в сачке, стирает свои прекраснейшие цвета, и когда его ловят невредимым, оно лежит уже застывшим и безжизненным; труп не есть всё животное, здесь недостает чего-то еще, чего-то главного, а при случае, как и при всех случаях, чего-то очень главного: жизни» (9, 1(4), 237). Между тем именно жизни недоставало и вновь зарождающейся науке о живой природе; наилегчайшее и здесь оказывалось наитруднейшим: видеть глазами то, что лежало перед глазами. Наука о живом росла и крепла под строжайшим присмотром более старшей по возрасту и несоизмеримой по успехам науки о неживом; гегемон механистической модели не мог не сказаться и в этом случае. Мы уже имели возможность ранее отметить особенности общего стиля эпохи, словно бы запрограммированной в гигантских масштабах идеей формализованного порядка. Порядок стал бредом, одержимостью, невменяемостью ума; все, что грешило против правил этого порядка, подлежало либо исправлению, либо исключению: Драйден переписывал Шекспира согласно правилам, издатели вычеркивали из него сотни строк, Фридрих II благодарил Вольтера за редактированный перевод «бесформенной пьесы этого англичанина»; во Франции свирепствовал Буало, и «исправленные» гомеровские герои вели себя на подмостках сцен, как будущие персонажи романов Дюма; триумф суровейших правил вызвучивался в барочной музыке; теологи упорядочивали небеса по схеме конституционной монархии — «даже Бог Локка, — как удачно выразился один английский исследователь, — был вигом» (24, 3); открывалась эпоха нотариусов и бюрократов, где сама Вселенная моделировалась на манер бесконечного «конструкторского бюро» при отсутствии нужды клерков в гипотезе Главного Конструктора. Мода на математику, ибо что в большей степени могло гарантировать порядок, как не математика, побивала все рекорды истории мод; математикой бредили все: мужчины, женщины, сановные особы, обыватели; появлялись придворные математики; Фонтенель приписывал все хорошие книги a l'esprit geometrique (духу геометрии). Понятно, что метод Линнея в этом контексте не мог быть курьезом; скорее напротив, курьезом оказывалось все не подчиняющееся этому методу. Богатство и разнообразие форм живой природы вносили пугающий диссонанс в господствующее умонастроение эпохи; «жизнь» грозила «порядку» чем-то очень главным и ему недостающим: собою. Здесь и сыграл свою роль таксономический гений шведского ученого, подчинившего природу господству вымышленных знаков и структур.
Что могло отталкивать от всего этого Вольфганга Гёте? Ответ напрашивается со стремительной силой: его личность. Коллизия была очевидной: его в равной степени влекло и к природе, и к науке о природе. Но столкнулся он и здесь, и там с совершенно различными и противоположными мирами; созерцание и мышление, опыт и идея оказывались разъятыми по всем правилам философской образованности. Опыт был опытом жизни, идея представала застывшей и безжизненной. Опыт створял с живыми растениями, идея преображала их в гербарий отвлеченных структур. Опыт имел дело с естеством, идея обнаруживалась как естествознание, в котором не было естества, а знание было знанием неестественного. Гёте вспоминал впоследствии свое знакомство с одним из образцов такого «естествознания»: «Нам было непонятно, как могла такая книга считаться опасной. Она казалась нам до такой степени мрачной, киммерийской, мертвенной, что неприятно было держать ее в руках; мы содрогались перед ней, как перед призраком» (2, 3, 413). Недоставало чего-то при всех случаях очень главного: связи, перехода, жизни. Недоставало личности, которая за субъективностью была отстранена от дел, дабы не вносить разлад в призрачное царство объективности. «Абсурдный народ! — еще раз перед самой смертью резюмирует Гёте. — Совсем как некоторые философы среди моих соотечественников. Тридцать лет просиживают они в запертой камере, не глядя на мир. Все их занятие в том лишь и состоит, чтобы снова и снова просеивать сквозь сито идеи, выцеженные ими из собственных убогих мозгов, и в этом находят они неиссякаемый источник оригинальных, великих, дельных озарений! Вы знаете, что при этом выходит наружу? Химеры, сплошные химеры! Глуп был я, долго сетуя на эти сумасбродства: нынче позволяю я себе в свой старческий досуг смеяться над ними!» (34, 730).
Личность требовала единства многообразия. Линней изучался ежедневно, но при этом ювелирный порядок его классификаций воспринимался как маска хаоса и распада. «Его резкие, остроумные обособления, меткие, целесообразные, но часто произвольные законы… представали мне внутренне как разлад: то, что он силился насильственно разъединить, должно было, по глубочайшей потребности моего существа, стремиться к соединению» (7, 1, 68). Живое требовало жизни. Естественная история и система природы должны были претвориться в биологию.
В скором времени корень проблемы обнаружился самым ясным образом. Не представляло особого труда заметить, что все сводилось к способу исследования. Способ был наспех и безоглядно позаимствован из механики, которая уже не только числилась царицей наук, но и начинала слыть наукой как таковой. Здесь и столкнулись с очевиднейшим препятствием. Механика занята неживым; ее способ вполне отвечает неорганической природе. Но допустимо ли переносить на живое в качестве объясняющего принципа метод, имеющий значимость только в неживом? Мертвый организм есть ли организм? Говоря словами юношеского письма Гёте— труп бабочки есть ли сама бабочка? Но труп — в ведении патологоанатомии; в чьем же ведении живая бабочка, которая ищет не только распятия в коллекции, но и объяснения в жизни? Крах механистического способа засвидетельствовал не кто иной, как Мефистофель:
Выход из тупика искали, в частности, путем противопоставления механицизму виталистического способа рассмотрения. Предполагалась некая «жизненная сила», одушевляющая органический мир. При этом ссылались на Парацельса, Ван-Гельмонта; эксплуатировали данные алхимии и натуральной магии, но уловом стало метафизическое понятие с выхолощенным содержанием. «Жизненная сила» оказалась по существу перенесенной в науку театральной развязкой Deus ex machina (Бог из машины); о науке здесь не могло быть и речи.
Безысходность ситуации потребовала философского вмешательства. Кант, успевший уже обосновать возможность механики, взялся теперь за обоснование возможности органики. Парадокс, однако, состоял в том, что если в первом случае он исходил из фактического наличия механистической науки, то во втором случае пришлось иметь дело не с фактом, а с проблемой. Органики фактически не существовало, и вопрос о ее возможности становился, таким образом, не просто вопросом о ее логической возможности, но вопросом о возможности ее как фактической науки. Решение, предложенное Кантом, поразило парадоксальным сочетанием в нем резкой определенности и не менее резкой двусмысленности.
Механистический способ рассмотрения живой природы подрубается здесь под корень. В одном из ранних своих трудов Кант четко определил водораздел: «…пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» (14, 1, 127). Механистически объяснить явление — значит разложить его в анализе на составные части и, проследив их взаимосвязь, обобщить в понятии. В живом организме дело обстоит существенно иначе; его части не поддаются никакому обобщению. Принцип живого не общее, а целое, т. е. не совокупность частей, а их особая организованность и подвижная взаимопроникновенность. Механическая часть всегда меньше совокупности частей; в организме каждая часть по-своему равна целому, так как целое неделимо и нерасчленимо; оно присутствует во всем и в каждой отдельности, специфицируясь всякий раз сообразно части и оставаясь всегда равным себе. Если, скажем, наблюдая растение, мы фиксируем отдельные его органы, мы можем говорить о них как следствиях чего-то. Но это что-то не принадлежит ни одному органу, ни их сумме; оно есть некий формообразующий принцип, действующий во всех органах как бы «нераздельно и неслиянно». Кант следующим образом определяет организм: «…органический продукт природы — это такой, в котором все есть цель и в то же время средство. Ничего в нем не бывает напрасно, бесцельно и ничего нельзя приписать слепому механизму природы» (14, 5, 401). Шокирующие последствия этого представления вскрывает Гёте. «Действие природы, — так говорит он об организме, — которое по идее мы должны мыслить как зараз одновременное и последовательное, может довести нас до своего рода сумасшествия» (7, 1, 117). Понятно, что механика совершенно бессильна перед таким действием природы, что и фиксирует Кант в следующем ярком отрывке: «Вполне достоверно то, что мы не можем в достаточной степени узнать и тем более объяснить организмы и их внутреннюю возможность, исходя только из механических принципов природы; и это так достоверно, что можно смело сказать: Для людей было бы нелепо даже только думать об этом или надеяться, что когда-нибудь появится новый Ньютон, который сумеет сделать понятным возникновение хотя бы травинки, исходя лишь из законов природы, не подчиненных никакой цели…» (14, 5, 428).
Яснее и определеннее не скажешь. В сфере механики, по Канту, мы подводим частное под общее, явление под понятие. В органике дело обстоит иначе: нам дано частное, для которого нужно найти общее. Рассудок уже не штампует чувственный опыт априорными метками, а вынужден искать принцип, сообразуясь с единичным. Но найти его он не может ни в опыте, ни в самом себе. Опыт не дает его, так как сам нуждается в нем, чтобы стать осмысленным. Не дает его и рассудок, так как речь идет не о предписании закона явлению (механика), а о возможности мыслить явление сообразно закону, чего «наш» рассудок, по Канту, не в состоянии делать. Делает это особая способность, называемая Кантом «рефлектирующей способностью суждения», где понятие уже принадлежит не рассудку, а оказывается как бы присущим самому явлению. Во всей кантовской философии нет другого более драматичного и конфликтного хода мысли, чем описанный, к которому привела его непредвзятая сила анализа. Еще шаг — и он должен был заговорить (до Шеллинга) на языке Шеллинга. Но последнее слово осталось за высотобоязнью (вспомним: «Высокие башни, вокруг которых шумит ветер, — не для меня»). Кант спешит обратно, к опыту низовий. Его вывод: предмет механики дан в чувственном опыте, понятию здесь есть что синтезировать, тогда как предмет органики не чувственный, а сверхчувственный, и для того, чтобы синтез был возможен, рассудок должен иметь особый сверхчувственный материал. Этот материал он сам мог бы дать себе через созерцание., но тогда ему пришлось бы уже быть не дискурсивным, а интуитивным. Между тем человеческий рассудок именно дискурсивен и неразрывно связан с чувственным. Сверхчувственный опыт вне его возможностей.
«Когда я стремился, — пишет Гёте, — если и не проникнуть в кантовское учение, то хотя бы по возможности использовать его, мне порой казалось, что этот превосходный муж действовал с плутовской иронией, когда он то словно бы старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы кивком указывал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел» (7, 1, 115). Последний случай мы уже обсуждали раньше; речь идет о кантовском чисто теоретическом допущении мыслимости интуитивного ума, реальность которого у человека тем не менее решительно им отрицается. По существу на такого рода кивках и строит Кант свое дальнейшее объяснение. Подведем его итоги. Органика не может опираться на механистический способ рассмотрения. Она требует самостоятельного и сообразного собственной специфике обоснования. Но, с другой стороны, наука может быть только опытной наукой, а опыт в свою очередь только чувственным опытом. Опыт органики выходит за пределы чувственного мира, и это значит, что рассудку с ним делать нечего. Следовательно, органика, как наука, невозможна.
Так в негативном плане. Но, отказывая органике в праве на научность, Кант вынужден считаться с фактом органического мира. Здесь и вступает в силу «кивок». Если интуитивный рассудок чисто теоретически не содержит в себе никакого противоречия, то сверхчувственное единство организма мы можем рассматривать так, как если бы оно было предписано природе именно таким рассудком. Ведь кроме рассудочных понятий человек обладает еще и разумом, содержащим идеи, высокие регулятивные принципы, в которых и не пахнет никакой научностью, зато куда как пахнет переодетой теологией, отжившей свой век и наделенной, на чисто английский лад, всем иллюзионом царственной особы. Что касается научной стороны, то здесь все обошлось по принципу: «Механика умерла! Да здравствует механика!» Теоретическое естествознание, по Канту, возможно только в пределах механистического способа исследования. Поэтому, несмотря на принципиальную (!) непригодность механистического объяснения органической природы, мы должны все-таки объяснять ее механистически, как этого требует строгая научность, но, с другой стороны, поскольку механистический подход неадекватен живому явлению, нам остается ввести в игру резервы разума и выпутываться из ситуации с помощью регулятивной фикции «как если бы» (als ob). Вот ее образчик в рассуждениях самого Канта: так как чувственный опыт не содержит в себе ничего сверхчувственного, а таковой именно и является целесообразность природы, то «…понятие целесообразности природы в ее продуктах (т. е. в организмах. — К. С.) будет для человеческой способности суждения в отношении природы необходимым, но не касающимся определения самих объектов понятием, следовательно, оно будет, субъективным принципом разума для способности суждения, который как регулятивный (не конститутивный) принцип для нашей человеческой способности суждения имеет такую же необходимую значимость, как если бы он был объективным принципом» (14, 5, 433–434). В итоге долгом исследователя оказывается: «…все продукты и события природы, даже самые целесообразные, объяснять механически настолько, насколько это в нашей возможности (пределы которой для этого способа изучения мы не можем указать)…» (14, 5, 446). Нужно только не упускать из виду, что этот тип объяснения (в отличие от чистой механики) нуждается в особом покровительстве регулятивных фикций разума.
Итак, механистический метод путем утонченно-лукавых кивков наново утверждается в своих претензиях. Не надо никакого нового Ньютона, вполне достаточно и старого. Живое исследуется на манер мертвого (ибо таковы условия строгой научности); при этом лишь делается вид, что мертвое — это как если бы живое. Былинкам и гусеницам, по недоразумению оказавшимся в канто-лапласовской Вселенной, отказывается в том, в чем не отказывается катящемуся бильярдному шару: в праве на полнокровное научное объяснение. Пусть они станут трупами, тогда — милости просим; но покуда в них жизнь, они в научном мире на птичьих правах— мысль, венец творения, расписывается в своем бессилии постичь элементарнейшую тварь. От былинки дошли до клетки, думая тем самым сократить дистанцию различия между живым и неживым, и вот уже через столетие после Канта признается крупнейший американский гистолог Э. Уильсон: «Изучение клетки в целом скорее увеличивает, чем сокращает огромное расстояние между неорганическим миром и самыми низшими формами жизни» (62, 330). Прошло еще одно столетие; механическое расщепление клетки открыло в ней целые миры, но расстояние продолжало увеличиваться; теперь оно, по-видимому, увеличилось уже настолько, что угрожает забвением самой проблемы, из-за которой и разгорелся некогда весь сыр-бор.
Мы возвращаемся к Гёте; противофон, на котором ему пришлось пролагать свои пути, очерчен в достаточной степени. Еще раз подчеркнем своеобразные начала гётевского метода, прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению самой проблемы. Во-первых, держаться во всем опыта, доверять очевидному и помнить, что мы не вне природы, а в самой природе, больше того, сама природа (но «высшая», говорит Гёте) в природе. Из этого следует, во-вторых: не навязывать природе капризы собственного рассудка, а давать ей возможность самой интерпретировать себя через нас. И наконец самое главное: помнить, что «научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могущественнее и живее должна быть любовь, более того — страсть» (9, 23(4), 7).
Гёте исходит из сравнения механического и органического. Мы наблюдаем некое явление, затем разлагаем его на составляющие его факторы и путем эксперимента пытаемся объяснить их взаимосвязь. Собственно механическое объяснение явления полностью сводится к выявлению в чувственном опыте необходимых взаимосвязей и к выражению их в понятии. Понятие здесь без остатка покрывает опыт, и опыт без остатка объясняется понятием. В случае организма все существенно меняется. Разумеется, и здесь наличествует чувственный опыт, когда, скажем, мы наблюдаем некую растительную форму. Но в отличие от механического предмета этот опыт охватывает далеко не все явление. Чувственно мы воспринимаем растение в совокупности его внешне воспринимаемых признаков: формы, величины, цвета и т. д. Но очевидно, что наиболее существенное ускользает от нашего непосредственного восприятия. Как это проверить? Достаточно еще раз прибегнуть к сравнению с неорганическим. Механический предмет разлагается на части, которые обусловливают друг друга; между ними существует причинно-следственная связь, относящаяся к тому же роду чувственных явлений, что и сами части. Скажем, тело расширяется от нагревания; объем тела и фактор тепла находятся в причинной взаимосвязи, будучи одновременно явлениями одинакового — чувственно воспринимаемого — порядка. Эта процедура объяснения теряет силу при переходе к органической форме. Здесь уже нельзя говорить о взаимосвязи в механическом смысле. Бессмысленно утверждать, что одна часть растения является причиной другой и что, скажем, между формой корня и цветком существует чувственно воспринимаемая причинно-следственная взаимосвязь. Очевидно другое: все внешние признаки растения являются следствиями чего-то, лежащего за пределами чувственного наблюдения. Не корень обусловливает стебель и не стебель — лист, но все эти органы пронизаны неким единством, которое и обусловливает их чувственно зримую форму, будучи само чувственно незримым. Таким образом, здесь речь идет не о рядоположенной взаимосвязи по схеме: а есть причина в, а о таком роде взаимопроникновения, где как а, так и в суть следствия некоего А, или высшего единства. Для мышления, привыкшего к механистическим процедурам, дело оборачивается серьезным затруднением. Понятие уже не только не покрывает опыт, но и вынуждено оторваться от него; ведь упомянутое нами А, или высшее единство, есть элемент, с одной стороны, не данный в чувственном восприятии, а с другой стороны, необходимый для мысли, пытающейся осилить явление. Происходит то, что Гёте называет «конфликтом между мышлением и созерцанием»; чувственное созерцание не дает опыта, мышление же вынуждено опираться на самое себя, хотя — ив этом вся коварная ирония конфликта — имеет дело не с галлюцинацией, а с простой былинкой.
Теперь нам еще раз предоставляется возможность конкретно и на уровне здравого смысла подытожить догётевские реакции на этот конфликт со стороны естествоиспытателей и философов. Механицисты продолжали упорно придерживаться собственного хорошо проторенного пути. Понятие у них покрывало ровно столько опыта, сколько в состоянии было покрыть: от линнеевских рубрикаций до (уже в наше время) митохондрий и рибосом. То, что растекалось за его пределы — «что-то очень главное», — просто не принималось в расчет. Судьбе угодно было подтрунить над ними методом бумеранга. Ведь еще совсем недавно не принимали в расчет их самих. Так, Чезаре Кремонини, ученейший муж, ухитрившийся в XVII в. читать в Падуанском университете аверроистскую схоластику, заявил после открытия Галилеем спутников Юпитера, что он не станет впредь смотреть в телескоп, так как это опровергает Аристотеля. Теперь сами они избегали смотреть в жизнь — из страха, что это опровергнет Ньютона. Противоположную позицию заняли виталисты. Понятие у них покрыло опыт, но под этим покрытием было ровно столько пустоты, сколько недоставало нужного опыта. По существу ничего не менялось. Опыт продолжал оставаться недостаточным и ущербным, и возместить его взялось бессодержательное понятие «жизненной силы». Наконец распутать проблему взялся Кант. Ответ продемонстрировал нелегкий класс умозрительно-адвокатской виртуозности. Задача: нет соответствующего опыта, есть соответствующее понятие; вопрос: что делать? Решение: делать по-старому; несоответствующий опыт под соответствующее понятие (покуда возможно); недостающий остаток опыта примыслить; покрыть пробел фикцией: пробел есть, но есть так, как если бы его не было.
Гёте отклонил все три варианта. С механицистами расправа была короткой; мы слышали уже: «Каждый друг учения о природе ежечасно вздыхает и восклицает: кто спасет меня от этой смерти!» (9, 28(4), 310). Не менее жесткой оказывается характеристика виталистов: «…удобный мистицизм, охотно прячущий свою нищету в респектабельной темноте» (9, 13(2), 429). Ответ Канту: «Автор, по-видимому, разумеет здесь божественный рассудок, однако… и в интеллектуальной сфере можно было бы признать, что посредством созерцания вечно созидающей природы мы становимся достойными принять духовное участие в ее творениях. И если я сначала бессознательно и силою внутренней потребности без устали взыскал праобраза, типического, так что мне даже посчастливилось создать соответствующее природе представление, то ничто не могло помешать мне и впредь отважно настаивать на этой авантюре разума, как ее называет сам кёнигсбергский старец» (7, 1, 116).
Каков же ответ Гёте? Ответ крайне прост, не в смысле легкости, а по сообразности самой ситуации. В этом и проявилась та универсальная независимость мысли, которая, по словам К. Маркса, «относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи» (1, 1, 7). Естествознание должно быть опытной наукой. В области неорганического опыт вполне удовлетворяет требованиям мысли. В органическом мире это не так. Чувственный опыт здесь оказывается недостаточным. Что же делать? Пренебрегать этим недостатком и приучать мысль к спекулятивным хитросплетениям? Нет, отвечает Гёте, восполнить недостаток путем расширения и качественного изменения опыта.
Последнее особенно важно. Только расширение достигается и механическим путем, но «сто серых лошадей не дают одной-единственной белой» (7, 5, 419). Необходимо именно качественное изменение, т. е. совершенно иной и новый опыт, отвечающий сущности самого явления. Механика — величайшее достижение ума, и оспаривать этот факт могут лишь те, чей удел — прятать свою духовную нищету в респектабельной темноте. Но сколь бы значительной ни была механика, Вселенная еще значительнее, и возводить механику в ранг универсальной модели, объяснять Вселенную по механистическому шаблону, сводить все без исключения природные явления, весь мировой процесс к одной математической формуле, к одной огромной системе одновременных дифференциальных уравнений, которыми определялось бы в каждый момент положение, направление и скорость каждого атома Вселенной (идеал естествознания, по Дюбуа-Реймону, 29), — значит искажать не только Вселенную, где, перефразируя слова шекспировского героя, есть много чего такого, что и не снилось механике, но и саму механику. Чувственный опыт, исчерпывающий область механики, недостаточен для познания органической природы. Следовательно, нужен сверхчувственный опыт. Никаких недоразумений и кривотолков здесь быть не может. Это говорит человек, зарекомендовавший себя как неутомимый поборник чувственного опыта. Сенсуалистам и не мерещилось такое утверждение мира чувств, какое Гёте провел через всю жизнь. Вот одна из его максим: «Кто не доверяет своим чувствам, тот дурак, который неизбежно превратится в умозрителя» (7, 5, 432). Парадокс или курьез, но эта тенденция отталкивала от Гёте не только умозрителей, но и адептов механистического естествознания. Еще в прошлом веке сетовал Герман Гельмгольц на то, что Гёте «в своих естественнонаучных трудах не покидает область чувственного созерцания» (37, 268); замечание, почти граничащее с правдой, настолько естественно и незаметно он ее покидал. И вот же если он все-таки покидал ее, то лишь в силу все того же врожденного доверия к чувствам, ибо, строго говоря, он не покидал ее, а сами чувства выводили его за свои пределы. Природа, которой он предоставил полное право самой интерпретировать себя через его познавательные способности, держала его в чувственном, покуда этого требовал сам предмет, и по требованию же предмета выводила его из чувственного. Он твердо держался одного: восприятия должны считаться с предметами и соответствовать им; обратное оборачивалось насилием над предметами. Органический мир, мир метаморфоза и жизни, взывал к существенно иным восприятиям, и он, всегда считавший мир гениальнее собственного гения, подчинился миру и на этот раз.
Ему говорили: это невозможно. Опыт может быть только чувственным опытом; все прочее — идея, или продукт мышления. Он же, предпочитавший всякой книжной философии личный опыт, из личного опыта знал: человек — высшая природа внутри самой природы, и нет ничего во внешних свершениях природы, чему бы не было соответствия в познавательных способностях человека. Природа человечна («внешний человек», как называл ее Парацельс), человек природен — этим еще не сказано ничего, но без этого ничего не может быть сказано. Анализ всегда произволен, вторичен и обусловлен; полагать его как начало — значит лишиться «выхода к объекту» и обречь себя на «усилия Данаид». Ведь анализ — это расчленение, и когда расчленяется нечто, рефлексия не должна забывать, что части никогда не соберутся воедино, если их расчлененность будет приниматься за первичное условие. До того, как мысль и созерцание оказались разъятыми на рассудочное понятие и чувственный опыт, было нечто единое, и это нечто единое было опытом, но опытом особого рода, к которому чувственный опыт относился так, как часть к целому. Говоря проще, был опыт мысли и был чувственный опыт, переживаемые как целостность. Когда потом раскололи целое надвое, чувственный опыт продолжал считаться опытом, а мысли в этом было отказано. Мысль стала априорным понятием, некой формой, штампующей объем чувственных данных. Для того чтобы быть опытом, ей требовалась созерцательная (интуитивная) способность; будучи дискурсивной, опытом она быть не могла. На заре Нового времени европейская духовность, воспитанная тысячелетиями небывалого поиска и всегда ощущавшая себя как некое единство, пережила своеобразное событие «великой схизмы» путем решительной дезинтеграции и самоспецификации. Говоря иначе и популярнее, опыт предшествующих столетий был, как правило, опытом вообще; норма духовной жизни определялась универсальностью такого опыта, который в любых проявлениях и на любых стезях оставался тождественным себе. Дело было не в том, что один Леонардо совмещал в себе наряду с художником целый академический городок, включающий математика, механика, инженера, астронома, геолога, анатома и физиолога, а в том, что в основании всего этого коллектива специальностей лежал единый и равный себе индивидуальный опыт, не подозревавший даже, что как художник он делает одно, а как, скажем, анатом — другое. Единство опыта предопределяло единство делания: во всех случаях делалось познание и делалась наука (не случайно, что вплоть до XVI в. слова scicntia и ars, обозначающие науку и искусство, считались синонимичными; тенденция, сохраняющаяся еще у Декарта). «Великая схизма» опыта положила этому конец. Идеал классификации и таксономии поразил в первую очередь единство познавательного опыта, и могучая классификационная решетка изрешетила этот опыт на десятки (а вскоре и сотни) различнейших рубрикаций, объединенных внешне формальным признаком системы и теряющих внутреннее единство и взаимосвязь. И если Леонардо еще мог свободно заниматься философскими проблемами и сочетать художественные интуиции с научным поиском в причудливых изломах своего универсального опыта, то отныне входила в силу противоположная норма профессиональной этики, где все должно было быть на своих местах: Расин должен был писать трагедии, Буало — поучать его, как их писать, Гюйгенс — изобретать часы с маятником, а Локк — решать, что есть идея и что опыт. Декарт, Лейбниц — последние ностальгические озарения универсальности, вытесняемой новым веянием эпохи, и уже Гёте — мы слышали это — фиксирует «время односторонностей». Разделение опыта обернулось разобщением опыта; корень проблемы лежал в том, что научить Локка решать, что есть идея и что опыт, мог бы, скажем, Шекспир, который — заметим это — не решал по существу ничего другого; но Шекспир был из иной рубрики, и считаться с ним Локк мог в пределах значимости его класса; все прочее списывалось на счет художественного наслаждения и других компонентов «эстетического» класса. Философу-профессионалу отныне предстояло определять, что есть опыт, и он именем нашего рассудка ограничивал опыт только чувственным миром. То, что сюда не подгонялся полностью опыт Шекспира или опыт Баха, не тревожило его; этот род опыта отлично умещался вне рамок научного познания. Аналогичной селекции подвергся и гётевский опыт художника; автор «Фауста» занял-таки олимпийское место в соответствующей рубрике духовности. Но оставался и другой опыт: опыт Гёте-естествоиспытателя, автора «Метаморфоза растений» и «Учения о цвете». Этот опыт не умещался нигде, ни только в созерцаниях, ни только в мышлении, ни вообще в системе. Он был равен самой природе, увиденной не через решетку, а с башни Линкея. «Природа не имеет системы; она имеет, она есть жизнь и течение от неведомого центра к непознаваемому пределу. Поэтому рассмотрение природы бесконечно; можно идти до мельчайших подробностей либо прослеживать путь в целом, вширь и ввысь» (7, 1, 121).
Решение загадки органической природы и в этом случае потребовало от Гёте мобилизации всего опыта. Еще во время путешествия по Италии его озарила внезапная догадка, ставшая путеводной нитью естественнонаучного поиска. Созерцая античные произведения искусства, он понял, что их духовное происхождение восходит к той же необходимости, по которой природа творит свои явления. «Я предполагаю, — записывает он в дневнике, — что они (греки. — К. С.) действовали как раз по тем самым законам, по которым действует природа и на след которых я напал» (9, 30(4), 265). Очевидно, что его нисколько не заботила «научная» правомерность такого рода утверждений. Художник и ученый действовали в нем сообща; художник учил ученого любоваться природой, ученый учил художника быть точным. В данном случае догадка о том, что природа творит как художник, навела его на след тех самых законов, от постижения которых зависела возможность науки о живом.
Все решалось силою двух очевидных обстоятельств. Во-первых, рассмотренное выше сравнение мира механики с органическим миром таило в себе еще один, быть может наиболее существенный, фактор различия. Механический предмет, скажем машина, сводится к взаимодействию частей, но принцип самого взаимодействия лежит за ее пределами. Машина строится извне, и, таким образом, ей самой недостает того принципа, благодаря которому оказывается возможным взаимодействие ее частей. Этот принцип есть не что иное, как творческая мысль конструктора, некий план, извне определяющий механические функции предмета. Переход к организму открывает существенно иную картину. Здесь явление не обусловливается и не конструируется извне (роль внешних факторов, разумеется, велика, но не в них лежит принцип единства вещи). Единство органического феномена имманентно ему самому, его чувственно проявленной форме, но оно столь же недоступно чувственному наблюдению, как в случае машины мысль конструктора, находящаяся в его голове (Ср. 56, 325–326). Было бы нелепостью отрицать мысль конструктора или считать ее как если бы действительной на том основании, что она сокрыта от органов чувств и нет никакой возможности «схватить ее руками» (как саркастически выражается Сократ в платоновском «Теэтете»). Но, с другой стороны, если признавать за природой право быть не только мертвой, но и живой и если принимать выражение «созидающая природа» не как метафорический ляпсус, а на самом деле, то в силу каких оснований допустимо отрицать в ней или научно не узаконивать ту толику творческой потенции, в которой мы не отказываем голове (природной, как-никак) инженера? Второе крайне существенное обстоятельство касается самой специфики научного подхода. Видимо, каждый научный подход, согласно требованиям очевидности и здравого смысла, должен не только исходить из своих особенностей, но и в какой-то степени считаться с особенностями самого объекта исследования. «Клятва Гиппократа» требует от врача, между прочим, чтобы он не навязывал больному, а тем паче здоровому человеку болезней, которые ему удалось лучше всего изучить, а, напротив, считался именно с его состоянием и ставил диагноз сообразно самому состоянию. Дискурсивный рассудок — в этом не может быть никакого сомнения — прекрасно справляется с явлениями неорганической природы. Секрет успеха в том, что между спецификой этих явлений и спецификой самого рассудка существует полнейшая однородность и, мы бы сказали даже, единородность. Дискурсивный рассудок способен мыслить ставшее, расчлененное, неживое; его логика, по остроумному выражению одного французского философа, есть «логика твердых тел» (22, 3). Мыслить живое он не в состоянии по той самой причине, что живое — это не ставшее и не расчлененное, а именно живое, т. е. становящееся, целостное, подвижное, изменяющееся, текучее, гераклитическое, неуловимое, противоречивое — словом, нечто такое, фиксация чего (вспомним предостережение Гёте) может довести дискурсивный рассудок до своего рода сумасшествия. Вполне понятно, что он благоразумно отказывается иметь с этим дело, но вовсе не понятно, по какому праву он распространяет это благоразумие на науку как таковую. Действительным благоразумием было бы другое: если «наш» рассудок устроен таким образом, что он не в силах объяснить былинку или гусеницу, то не былинку и гусеницу следует научно дискредитировать, а самому рассудку перестраивать свою устроенность.
«Животных, — замечает Гёте, — поучают их органы, говорили древние. Я добавлю: людей — тоже, но людям дано преимущество в свою очередь поучать эти органы» (9, 49(4), 282). Странное дело: правило это сознательно или бессознательно применяется на практике людьми самых различных специальностей, от спортивных рекордсменов до музыкантов-исполнителей. Исключение или почти исключение составляют (как-то неловко говорить об этом)… «мыслители». Таким «мыслителям» кажется, что стать специалистом в этой области зависит от суммы и качества усвоения чужих мыслей и овладения портативным словарем терминов и понятий. Приходит ли им при этом в голову, что кроме перечисленных факторов существует еще и собственная мысль, никак не меньше рук или ног нуждающаяся в регулярной непрерывной подготовке, движимая импульсом к обязательному самоопределению? «Каждый день, — говорит Гёте, — есть причины прояснять опыт и очищать дух» (7, 5, 394). Не делать этого — значит поспешно заключать к непознаваемости и писать солидные монографии о «границах познания». Гётевское заключение мы уже слышали: «Всякий новый предмет, хорошо увиденный, открывает в нас новый орган» (7, 2, 32). Но ведь это и значит в прямом смысле: существует столько же органов восприятия, сколько существует хорошо увиденных предметов. Предмет органики оказался именно таким в гётевской науке видеть.
Теперь, наконец, мы находимся в самой сердцевине проблемы. Если чувственное созерцание не дает никакого опыта о сущности живого, то таковой следует искать в сверхчувственном созерцании. Кант — мы помним — говорит об интуитивном рассудке, допуская лишь его теоретическую мыслимость и отрицая его действительность как некую «авантюру разума». Мы помним также и контрудар Гёте: ничто не могло помешать ему настаивать на этой «авантюре». Организм может быть понят только в интуитивном понятии, т. е. в таком понятии, которое, не получая чувственно-опытных данных, само творит себе опыт с помощью «созерцающей способности суждения», причем опыт, обладающий ничуть не меньшей достоверностью, чем чувственные восприятия.
Здесь самое место рассмотреть вопрос со всей определенностью и развеять массу кривотолков, связанных со злополучной темой «интуиции». Рационалистическая традиция, судящая об интуиции лишь понаслышке, на манер этаких строго дискурсивных сплетен, основательно постаралась в научной профанации этого понятия, выдавая его за нечто художественно-наитийно-иррационально-смутное и попросту мистическое. Разумеется, в истории мысли есть и такие прецеденты. Но ведь небезгрешна в этом смысле и сама дискурсия, где, к примеру (выбирая таковой из избытка возможных), можно было утверждать и даже научно обосновывать, что когда человек жертвует собою во имя родины, веры или чести, то в основе этого лежат простые «химические реакции» (утверждение принадлежит крупному физиологу и биологу-экспериментатору прошлого века Жаку Лёбу. См. 25, 287–288). И если мы не дискредитируем дискурсию на основании подобных прецедентов, то отчего так сильно достается интуиции, когда она химическим реакциям предпочитает, скажем, алхимические? Следует подчеркнуть это со всей силой: интуиция, созерцательная мысль у Гёте не только не имеет ничего общего с иррационализмом или мистикой, но и является их активнейшей противоположностью.
Вот типичный (и простейший) пример интуиции в духе гётеанизма. Предположим, мы смотрим на растение. Физическое зрение фиксирует ряд ставших форм. Но мы знаем уже, что ни одна из этих внешне зримых форм не есть причина растения, и еще мы знаем, что формы эти не механически соположены, а органически сращены, т. е., глядя на них, мы вынуждены мыслить себе некий единый формообразующий принцип, без которого все они были бы невозможны. Стало быть, для объяснения растительного организма мы должны выйти за пределы сугубо чувственных восприятий, не дающих нам никакого опыта об указанном принципе. Он закрыт нашему чувственному созерцанию, и тем не менее, не видя его физически, мы знаем, что он есть. У нас, следовательно, есть понятие о нем и недостает лишь опыта. Если мы встанем на кантианскую точку зрения, нам придется сделать из всего этого поспешный вывод о невозможности опыта и спасать понятие от пустой химеричности перенесением его в эвристически-фикциональную зону мышления. Но мы не будем спешить и предпочтем без Канта убедиться в том, действительно ли невозможен опыт. Как в этом убедиться? Через опыт. Если чувственное созерцание не дает нам опыта, может, следует поискать его иначе. Возьмем семя какого-нибудь растения и попытаемся сосредоточиться на нем. Прежде всего отдадим себе отчет в том, что мы видим глазами. Мы видим крохотное семя, его форму и цвет. Но в то же время мы знаем, что суть видимого этим не исчерпывается, что в семени таится нечто гораздо более существенное, чем внешняя форма и цвет, но именно оно-то и остается незримым. Тогда мы прибегаем к помощи фантазии. Если посадить это семя в землю, говорим мы себе, из него вырастет растение. Значит, в семени незримо присутствует то, что в будущем разовьется как растение и что теперь недоступно нашим чувственным восприятиям. Мы, таким образом, создаем в фантазии растение, которое позднее станет действительностью в природе. Незримое станет зримым. Но прежде чем стать зримым, оно уже существует реально как творческая сила в семени. И мы ее мыслим, но мыслим не дискурсивно, ибо для дискурсивного понятия нам недостает опыта чувств. С другой стороны, только близорукость педанта сочла бы эту мысль химеричной на том лишь основании, что она не опирается на чувственные восприятия. Сила, заключенная в семени, — объективная реальность, обладающая сверхчувственным характером, и мы имеем о ней не менее реальный и объективный опыт, чем в случае наблюдения уже самого растения. Этот опыт дала нам фантазия, и, будучи полностью сообразным своему объекту, он должен также называться сверхчувственным. Очевидно, что мысль заимствует свое содержание не извне, а из самой себя. Вовне, в чувственной сфере, собственно говоря, нет ничего, что отвечало бы этому содержанию; мысль сама создает его себе и сама же синтезирует его в суждение. Но такая мысль и есть созерцательная (интуитивная) мысль, или тот высший орган восприятия, который сообразен органическому миру и который открывается в нас, когда нам удается хорошо увидеть специфику этого мира. Гёте называет его точной фантазией.
В отдельности взятые, точность и фантазия характеризуют две различные рубрики духовных способностей человека в строгом соответствии с правилами специализации. Точность мыслится как прерогатива естественных наук, фантазия отдана в распоряжение искусства. Разумеется, практика часто демонстрирует иное; история науки и история искусства имели бы непоправимо убогий вид, если бы их реальная жизнь свершалась по правилам, измышленным методологами и эстетиками. Но правила все же остаются правилами, и в конце концов им удается в популярных масштабах добиться того, чтобы о науке и искусстве судили не по их реальной жизни, а по схеме. Точная фантазия Гёте не умещается ни в одной из таких схем. Она есть гармоничное слияние науки и искусства на равноправных началах — не в том смысле, что художнику, дескать, нужно быть точным или (что и вовсе не то) научно образованным, а ученый-де должен эвристически использовать художество (по модели известного заявления Эйнштейна о том, что Достоевский дает ему больше, чем Гаусс), но принципиально и без обиняков: наука есть искусство, и искусство есть наука, причем взятые уже как одно целое. Гёте обнаруживает это целое не только в «Метаморфозе растений» и «Лекциях по сравнительной анатомии», но и в интимнейших шедеврах лирики.
Высшая познавательная способность была открыта. Открытия посыпались, как из рога. Мы возвращаемся к тому, с чего начали: не отдельных открытий искал Гёте, но развития познания до сообразного природе уровня. «По сути дела, — говорит он, — я изучал природу и искусство всегда лишь эгоистически, именно: чтобы формировать себя» (8, 70). Ни наука, ни искусство не интересовали его сами по себе; дело шло о становлении индивидуальности, и главным открытием была здесь способность воочию увидеть идею, увидеть ее как жизнь и зажить в ней неслыханно по-новому, «обращаясь с невозможным так, словно бы оно было возможно» (7, 5, 457). Все остальное прилагалось само собой: морфология растений и позвоночная теория черепа, «Фауст» и «Орфические первоглаголы».
«Галилеем органики» назвал Гёте Рудольф Штейнер (58, 79). «Он, — говорит Гёте о Галилее, — снова привел естествознание к человеку и… показал, что для гения один случай стоит тысячи» (7, 4, 177). Случай, стоящий тысячи, — случай закона механики; Галилей сотворил механику именно открытием в ней закона. В рамки этого закона потом силились втиснуть и органику, но попытки — мы знаем — оставались тщетными. Гёте повторил деяние Галилея сообразно специфике самой органики. Он открыл, что в отличие от закона, действующего в пределах неорганического мира, в органическом мире действует тип.
Поиск типа — Harmonia Plantarum (гармония растений), как называет его Гёте применительно к растительному миру, — вызревал в нем давно, едва ли не с первых веймарских лет. Знакомство с системой Линнея и спровоцированное ею противодействие усилило стремление преодолеть насильственный разлад. Разлад преодолевался не спекулятивно, a in herbis et lapidibus (средь трав и камней). «Мне постепенно становилось все яснее и яснее, что подобно тому, как растения можно подвести под одно понятие, так и созерцание могло бы быть поднято на еще более высокую ступень» (7, 1, 79–80). Наблюдения и эксперименты (включая и работу с микроскопом) не прекращались; параллельно Гёте занимался анатомией и искал межчелюстную кость у человека, движимый тем же стремлением преодолеть разлад. Путешествие в Италию оказалось кульминацией; в Падуанском ботаническом саду проблема достигает критической точки. «Здесь, среди этого разнообразия, мне живее представляется мысль, что, может быть, все растительные формы можно вывести из одной… На этой точке остановилась моя ботаническая философия, и как я выпутаюсь, я еще не знаю» (9, 30(1), 90). Обратим внимание на самый процесс поиска: чувственная эмпирика идет здесь параллельно со сверхчувственной. Единство многообразия — самый основательный и изначально-личный опыт Гёте; он это знал своим опытом цельной личности. Научный поиск был поиском подтверждения. Точность и фантазия координировали усилия; точность не давала фантазии разойтись в фантастику, фантазия спасала точность от тупого педантизма. Идея сверхчувственного единства организовывала чувственный опыт, чувственный опыт вел к реализации идеи: «Перед лицом стольких новых и обновленных созданий снова осенила меня моя старая причуда: не открою ли я среди этой массы растений перворастение? Ведь должно же оно быть! Откуда иначе знал бы я, что то или иное образование является растением, не будь все они созданы по одному образцу?» (9, 31(1), 147). Вот ярчайшая иллюстрация нового, совершенно отличного от механики опыта. Путь механического опыта ведет от факта к закону; факт качания люстры приводит Галилея к закону маятника. Органический опыт возможен в противодвижении; факт, открытый физическому зрению, сам по себе не приводит ни к чему. Собственно и строго говоря, здесь недопустимо говорить о факте, разумея под последним нечто фиксированное; органический опыт зиждется не на факте, а на метаморфозе: «…смотри, он проходит мимо прежде, чем я это увижу, и изменяется прежде, чем я это замечу». Таким образом, исходить из факта здесь не только не допустимо, но и невозможно за отсутствием самого факта. Оттого чувственный опыт, поднаторевший в механике и предоставленный самому себе, не знает, как отсюда выпутаться. Но опыт должен опираться на данное; данным же органики выступает не факт, а мысль, но не дискурсивная мысль, а интуитивная — тот самый высший орган восприятия, который оказывается единственной путеводной нитью, выводящей опыт из этого лабиринта, грозящего сущим сумасшествием. Гёте, «наименее сумасшедший из людей» (по изумительной характеристике Поля Валери), опирается именно на высший орган: «…духовные глаза, без которых мы, как во всем, так и в особенности при исследовании природы, вынуждены блуждать впотьмах» (7, 1, 262). Духовные глаза, открывающие ему единство, ведут его снова к физическим глазам, не знавшим было, как выпутаться из многообразия, но теперь уже видящим в многообразии не разлад и сумасшествие, а гармонию и идею. «Перворастение становится самым удивительным созданием в мире, из-за которого мне должна завидовать сама природа. С этой моделью и ключом к ней можно до бесконечности изобретать растения, которые должны быть последовательными, именно: даже те из них, которые не существуют, смогли бы все-таки существовать, являясь не чем-то вроде живописных или поэтических теней и призраков, но имея внутреннюю правду и необходимость. Этот же закон можно будет применить ко всему прочему живому» (9, 31(1), 159).
В приведенных словах тип охарактеризован со строгостью алгоритма. Тип — высшее единство жизни, пронизывающее все многообразие органической природы. Как таковой он не сводим ни к одному отдельному организму, ни ко всей их совокупности, хотя одновременно и равный себе он присутствует во всех, проявляясь и специфицируясь в каждом на бесконечные лады. Он, таким образом, идеален, поскольку не обособлен ни в одном организме, и реален, поскольку объективно существует во всех. Как идеальный, он равен мысли, которая для выражения его невыразимости прибегает к символике, скажем, к тому образу, о котором шла речь у Гёте при первой встрече с Шиллером. Возражение Шиллера покоилось на недоразумении: символический образ перворастения (типа) он принял за саму реальность и подивился наивности Гёте. Гёте, наивному там, где этого требовала продуктивность, было здесь не до наивности. «Символика, — он знал это со всей определенностью, — превращает явление в идею, идею в образ, и притом так, что идея остается в образе всегда бесконечно действенной и недостижимой; даже выраженная на всех языках, она осталась бы все же невыразимой» (7, 5, 507–508). Тип, следовательно, есть идея, несовершенно выраженная в мысли через символ. Таков его идеальный аспект. В реальном аспекте он есть мир живой природы, каждое создание которой также несовершенно и по-своему выражает его. В аспекте единства он есть и то и другое: органический мир — подобие точной фантазии, точная фантазия— воссоздание органического мира. Точная фантазия природы — градация живых существ, от клетки до человека («…кто знает, — продолжает Гёте, — не есть ли и весь человек снова лишь бросок к более высокой цели?» 9, 34(4), 53). Точная фантазия мысли — познание живой природы силами самой природы, где «мы становимся достойными принять Духовное участие в ее творениях» (7, 1, 116). Подобное познается подобным. Мысль, постигающая, скажем, растение, постигает его формообразующими силами самого растения, и правота такой мысли подтверждается не иссушенными гербариями, а ароматом цветущей рощи.
Остальное, как нам кажется, выходит за рамки нашей непосредственной темы. Прослеживать конкретно-практическое применение гётевского способа рассмотрения органической природы в его многочисленных трудах по зоологии, остеологии, анатомии и т. д. — задача крайне интересная, но не обязательная (в силу ее специального характера) для настоящей книги. Обязательным было как раз знакомство с самим способом. Отдельные открытия — повторим это еще раз — обладают ничтожнейшей значимостью по сравнению со способом открытия, который оказался не обособленным умением специалиста, а концентрированным проявлением личности. Ограничиться только открытиями «в себе и для себя» — значит оторвать их от личности Гёте и обсуждать по всем правилам объективно-отчужденного подхода. Мы возвращаемся к почитателям и хулителям. Одни превозносят то, что ругают другие. Кое-что подтверждается, другое опровергается. Говорят: «Здесь Гёте ошибался» — и совершенно упускают из виду, что «здесь» тут ни при чем. В этом «здесь» как раз и не достает чего-то еще, чего-то главного, а при случае, как и при всех случаях, чего-то очень главного: «В наблюдении частностей я никогда не был силен» (9, 12(4), 242). И еще: «Я могу ошибаться в отдельных вещах, в целом я никогда не ошибусь» (9, 9(4), 121).
Глава VI. БОРЬБА ЗА СВЕТ
Когда автор «Вертера» весной 1790 г. сдал в печать «Метаморфоз растений», его издатель Гешен решительно отказался печатать это сочинение. Книга вышла у другого издателя и была встречена с враждебным холодом. Симптоматичным оказалось то, что отпор шел по единому фронту. Поэт должен был оставаться поэтом; даже в 1808 г., при встрече с Гёте, Наполеон приветствовал именно автора «Вертера», той самой «змеиной шкуры», которая давно уже была окончательно сброшена. В письмах Гёте, в статьях и заметках, беседах и дневниках эта тема звучит неослабевающе, почти безутешно; впечатление таково, что боль и бессилие что-либо изменить доходят здесь до почти физической муки. «Более полувека я известен на родине и за границей как поэт, во всяком случае меня признают за такового; но что я с большим вниманием и старательностью изучал природу в ее общих физических и органических явлениях… это не так общеизвестно, и еще менее внимательно обдумывалось… Когда потом мой „Опыт“, напечатанный сорок лет назад на немецком языке… теперь, особенно в Швейцарии и Франции, стал более известным, то не могли достаточно надивиться, как это поэт… сумел на мгновение свернуть со своего пути и мимоходом сделать такое значительное открытие» (7, 1, 83). Разве было бы ошибкой в полной мере адресовать эти слова и нашей современности? Разве Гёте — гордость любой поэтической антологии — не предан забвению в учебниках по естествознанию?
Крайность ситуации провоцирует на рискованнейший ход. А что если сделать рокировку и поменять местами поэта и естествоиспытателя! Ну, скажем, следующим образом: это был не поэт, мимоходом сворачивающий в науку, а именно ученый, пишущий по случаю стихи. Оснований для такого хода более чем достаточно: 1) внушительный объем гётевского научного наследия (пять томов Кюршнеровского издания и четырнадцать томов Большого Веймарского); 2) открытия в науках и открытия наук; 3) признание себя «случайным поэтом» (Gelegenheitsdichter); 4) регулярное подчеркивание преимущества собственных научных заслуг над поэтическими. Спешим оговориться: вывода из этого, конечно, не следует никакого. Он — поэт, и такой, каких свет мало видывал. Но он вместе с тем поэт, готовый — не из каприза, а из правды — не считать себя таковым, если поэтический гений по щучьему велению оказывается альтернативой гения научного.
«Щучье веление» было на деле велением стереотипа обезличенной научности. С наукой у Гёте не могло быть никакого конфликта; именем науки с ним боролась, третировала его так называемая научность, нивелированная и дегуманизированная власть учебников и общезначимых мнений, хайдегеровское «das Man» научной повседневности, бронированное почти колдовской силой автоматических присказок типа: «наука утверждает», «научно доказано», «научно не допустимо». Стереотип работал необратимо: ведь обратись он на самого себя, выяснилась бы научная недопустимость самой науки, которая всегда прокладывала свои пути не в угоду позднейшим параграфам, а под покровительством безумий и потрясений (Нильс Бор и сколько еще действительных высказывались в этом смысле). Этой науке и принадлежал Гёте; ее младенчество и возмужание, шаткую юность и зрелое мужество с любовью и вдохновением изображал он в «Истории учения о цвете», «романе о европейской мысли», по выражению Томаса Манна. Шум и ярость обрушились на стереотип. Сначала была растерянность; прирожденный научный гений, вооруженный только любовью к правде, наткнулся на корпорацию людей, предпочитающих своим духовным глазам «тысячу ложных параграфов» (7, 5, 367). Есть что-то потрясающе обнаженное, некий ужас ежедневно новорожденного в восклицании Гёте из письма к Якоби: «О, мой друг! кто такие ученые! и что они такое!» (9, 10(4), 220). Историки науки, касаясь этого вопроса, говорят, как правило, о пристрастности Гёте, о его несправедливых нападках на ньютоновскую школу, о вспышках субъективного гнева, омрачающего классически-гипсовую белизну образа олимпийца. В тени остается другая сторона: замалчивание, заушение, высокомерное отрицание, организованная дискредитация. «…В научном мире, — свидетельствует Гёте, — собственностью считается как то, что вошло в традицию учебных заведений, так и то, чему ты в них научился. Если кто-то вдруг заявляет о новом понимании того или иного явления и это понимание противоречит нашему кредо, которое мы годами обожествляли и уже успели передать другим, или, Боже упаси, грозит его ниспровергнуть, ярость обрушивается на этого смельчака и все средства пускаются в ход, чтобы подавить его» (3, 462). Смельчак, о котором идет речь, — он сам. Но смельчак не был этаким гасконским сорвиголовой, рассчитывающим в порыве провинциального вдохновения триумфально объехать Париж на сомнительного здоровья кляче; смельчак был тем, от которого иные падали в обморок, которого недвусмысленно уподобляли божеству, именем которого была названа целая эпоха. Гнев Гёте, потрясающие раскаты которого вызвучивают сотни страниц его трудов, был на деле ответом и самозащитой. Не он объявил войну; он просто шел своим путем, который, как оказалось, был запретным.
Гнев поддерживался пониманием. Верный своему принципу исследовать явления в их «как», а не в «почему», он и на этот раз проник в глубинные слои проблемы. Нижеследующий отрывок — уникальный в своем роде образец психогенеалогического анализа научности; Гёте, как нам кажется, впервые применяет здесь тот жанр философской генеалогии, открытие которого в европейской философии связывают с именем Фридриха Ницше. Речь идет не о чем ином, как о механизме фабрикации научного стереотипа: «Самое ужасное, что приходится выслушивать, — это неоднократно повторяемое заверение: все без исключения естествоиспытатели единодушны в этом. Кто, однако, знает людей, тому известно, как это случается: добрые, дельные, смелые головы выражают подобное мнение с помощью всяческих правдоподобных деталей; они делаются последователями и учениками, эта масса приобретает литературную власть; мнение усиливается, утрируется и проводится при наличии определенного азарта и волнения. — Что же остается другим, сотням и сотням благомыслящих, разумных мужей, которые работают в других специальностях и желают видеть и свой круг живым, действенным, почтенным и признанным, что остается им делать, как не допустить тех первых в свою область и не дать своего согласия тому, до чего им нет дела? Тогда это называется: всеобщее единодушие исследователей» (7, 2, 311).
В гораздо большей степени, чем в органике, наткнулся Гёте на это единодушие в своих работах; по оптике и хроматике. Объяснение оказалось простым и ясным, как день: там ему, собственно, не на что было натыкаться за отсутствием самой биологической науки (сопротивление шло слабыми и спорадическими реакциями); здесь «новорожденный» попал в саму цитадель, в верховную ставку математического естествознания.
Все произошло и на этот раз совершенно непреднамеренным образом. Он и на этот раз шел от самой природы и от глубочайших потребностей своего существа, «предаваясь им с детской, почти мальчишеской заботливостью» (9, 28(4), 280), скажет он впоследствии, шел, исполненный «невинной, шаг за шагом продвигающейся наивности», которую никогда не переставал считать чудом в себе (9, 28(4), 99). Выход к проблеме цвета, как и в случае органики, был обусловлен инстинктивным переживанием художника. Ища объяснения великим творениям искусства, он учился видеть сокровенное родство между ними и природой; природа была ему пробным камнем во всем; он, может быть, оттого и считал себя рожденным для эстетического (8, 40), что из всех форм человеческих деяний одно лишь искусство, в наивысших своих образцах, казалось ему до конца хранящим верность природе. В искусстве он видел продолжение природы Другими, более высокими средствами и стремился распознавать особенности этого перехода. Здесь он случайно столкнулся с элементом, который не мог объяснить ему ни один художник-живописец. Это был колорит. Объяснялось все прочее, композиция и перспективы; с цветом начинался тупик. «Как только дело доходило до краски, — вспоминает он, — все, казалось бы, предоставлялось случаю, причем случай определялся известным вкусом, вкус — привычкой, привычка — предрассудком, предрассудок же — особенностями художника, знатока, любителя» (7, 5, 124). Нужно было искать прочную основу, и случилось то, чего не могло не случиться: выход из тупика обещала одна лишь математическая физика.
Оптику Ньютона Гёте знал еще с университетской скамьи. Тогда она была воспринята со студенческой обязательностью и на веру. Теперь к ней возник особенный интерес. Гофрат Бютнер, йенский знакомый Гёте, снабдил его нужными приборами, и господину Тайному Советнику не оставалось ничего другого, как старательно приступить к «изобретению велосипеда». Впрочем, служебные хлопоты отвлекали его от этого изо дня в день, и начать опыты он вынужден был лишь после того, как владелец приборов затребовал их обратно. «Как и целый мир, я был убежден в том, что все цвета содержатся в свете; никогда мне не говорили ничего обратного, и у меня не было ни малейшей причины сомневаться в этом, так как я не вникал в существо вопроса» (7, 5, 126). И вот же, следуя предписаниям ньютоновской оптики, он устанавливает призму между оконным отверстием и чисто выбеленной стеной, ожидая увидеть на последней цветовой спектр. «Я ожидал, помня ньютоновскую теорию, увидеть всю белую стену окрашенной по различным ступеням, и что свет, возвращающийся от нее в глаз, будет расщеплен на столько же цветовых оттенков. Каково же было мое удивление, когда рассматриваемая сквозь призму белая стена оставалась, как и прежде, белой, и лишь там, где она граничила с чем-то темным, показывался более или менее явный цвет, так что в конце концов ярче всего выглядел оконный переплет, тогда как на светло-сером небе не было видно ни следа окраски. Без долгих размышлений я понял, что для возникновения цвета необходима граница, и словно бы инстинктивно я тотчас же высказался вслух, что учение Ньютона ложно» (7, 5, 128).
Согласно ньютоновской оптике, солнечный свет есть конгломерат цветовых огоньков (lights). Появление цвета поэтому возможно лишь через разложение или распад света на составляющие его элементы. Этот распад осуществляется путем ряда опытов. Если сквозь маленькое круглое отверстие пропустить пучок света в темную комнату и зафиксировать его на белом экране, установленном перпендикулярно к направлению света, то экран отобразит белый солнечный диск. Последний тут же преображается в солнечный спектр, когда между отверстием и экраном помещают стеклянную призму; он выглядит смещенным, удлиненным и окрашенным. Цветовой образ в свою очередь смещается в зависимости от установок призмы; если пристроить ее таким образом, что верхняя часть света проходит в стекле более краткое расстояние, чем нижняя, то образ сдвигается вниз; верхний край его становится красным, нижний фиолетовым; красный книзу переходит в желтый, фиолетовый кверху в синий; середина пока остается белой. Она исчезает лишь с отдалением экрана от призмы, и тогда уже весь образ оказывается цветовым в следующей последовательности сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Но поскольку отсюда еще нельзя заключить, идет ли речь просто о видоизменении света или о его разложении, Ньютон прибегает к помощи второй призмы, — в этом и заключается experimentum crucis (решающий эксперимент). Вторая призма помещается за первой таким образом, что ее преломляющее ребро перпендикулярно преломляющему ребру первой. Тогда спектр на экране уже не разлагается, а смещается на некоторый угол. Это, по мнению Ньютона, и служит доказательством того, что монохроматические лучи, на которые разлагается белый свет, сохраняют свой цвет при любых преломлениях. Опыт может быть воспроизведен и искусственным способом. Берется диск, последовательно покрытый семью цветами; при быстром вращении цвета сливаются в однотонный белый цвет, который и мыслится как свет. При этом, поскольку белое явно смахивает на серое, советуется поместить в середину диска черный кружок, чтобы по контрасту серое выглядело как белое.
Ничто в этой теории не могло удовлетворить Тёте. Стало общим местом утверждение о том, что, плохо помня оптику Ньютона, да к тому же второпях, он допустил ошибку в эксперименте. Удивление перерастает в недоумение, когда обращают внимание на то, что этот «наспех» сделанный эксперимент длился в течение сорока лет, и «ошибка так и не была осознана». Впрочем, даже в этом случае магическое единодушие дает осечки. Герман Гельмгольц, выдающийся физик-экспериментатор, отнюдь не гётеанец (напротив, из «единодушных»), следующим образом характеризует экспериментальный базис гётевских наблюдений: «Опыты, проведенные Гёте в „Учении о цвете“, покоятся на точном наблюдении и живом описании; об их правильности не может быть спора» (37, 268). Вообще следует заметить, что «опровержение» Гёте со стороны приверженцев математического естествознания странным образом вызывало к жизни аналогичные курьезы. Так, уже в нашем веке оказалась возможной и такая оценка «Учения о цвете». Вернер Гейзенберг, анализируя позиции Гёте и Ньютона с точки зрения современной физики, признает, вслед за Гельмгольцем, корректность гётевских опытов; труд Гёте, по его словам, «написан со всей научной строгостью» (11, 62). Тремя страницами ниже утверждается даже, что «борьба Гёте против физической теории цвета должна быть в настоящее время продолжена на более широком фронте» (11, 65). Но все эти утверждения выглядят более чем странными в свете приговора, вынесенного в самом начале: «…в целом учение Гёте физик принять не может» (11, 58). В чем же дело? Во-первых, почему не может, если оно написано со всей научной строгостью? Во-вторых, если не может, то кем же и на каком именно более широком фронте должна быть продолжена борьба Гёте против физической теории цвета? Допустимо ли не принимать нечто и рекомендовать его и одновременно рекомендовать другое и не принимать его?
Критике ньютоновской теории Гёте посвятил вторую — полемическую — часть «Учения о цвете», озаглавленную «Разоблачение теории Ньютона». Нам представляется необходимым, хотя бы в пределах допустимой краткости, разобраться в существе вопроса, прежде чем перейти к позитивной стороне дела. Эту полемику принято считать недоразумением; полагают, что гётевский и ньютоновский подходы (в силу их принципиального различия) отлично совмещаются друг с другом и даже — по модели волшебного «алгоритма» современности — друг друга «дополняют». Скажем так: алгоритм этот здесь неуместен. Речь действительно идет о двух диаметрально противоположных способах рассмотрения феномена цвета, и полемика оказывается не каким-то (интересно бы знать, каким именно?) недоразумением, а необходимостью. Если один понимает свет как смесь, а другой как чистейшую неделимую энергию и оба строят на этом основании оптические учения, то остается лишь догадываться, какими ухищренными путями эти учения в состоянии дополнять друг друга?
Вопрос крайне сложен и требует предварительного уяснения. Гёте возражает Ньютону не как ньютонианец, это следовало бы учесть прежде всего. Его естествознание — мы знаем уже — мыслит себя как естественное знание, знание естества. Быть специалистом в какой-то области — и это мы знаем — вовсе не означает для него замкнуться, самоизолироваться, отключить все прочие потребности и способности и эксплуатировать лишь профессионально натренированный участок мозга. Напротив, это значит: мобилизовать все способности на данную специальность так, чтобы все служили достижению одной цели. «Учение о цвете» поэтому адресовано не только физикам, но и философам, художникам, красильщикам, физиологам, врачам, химикам, практикам-фабрикантам («…они, — говорит Гёте, — гораздо быстрее чувствуют пустоту и ложность какой-либо теории, чем ученый». 7, 3, 93), дизайнерам, даже психиатрам. Этот контекст необходимо не упускать из виду, так как в противном случае не будет понято само существо полемики. Естественность и плодотворность — вот чего ищет Гёте. Отсюда и начинаются возражения. Дело вовсе не в том, корректно ли был поставлен ньютоновский эксперимент, дело в типике самого эксперимента. Эксперимент, по Гёте, еще ничего не доказывает сам по себе; определенным образом поставленный, он-таки может выпытать у природы кое-что, но в этом и коренится источник величайших заблуждений. Эксперимент Ньютона представляется Гёте именно таким; вот его дословная аналитическая характеристика:
«Ньютоновский опыт, на котором покоится традиционное учение о цвете, сопряжен с многообразнейшими осложнениями; он связует следующие условия.
Для того, чтобы призрак появился, необходимы:
Во-первых — стеклянная призма;
Во-вторых — трехгранная;
В-третьих — маленькая;
В-четвертых — ставня;
В-пятых — отверстие в ней;
В-шестых — последнее очень маленькое;
В-седьмых — солнечный свет, проникающий внутрь;
В-восьмых — на определенное расстояние;
В-девятых — падающий на призму в определенном направлении;
В-десятых — отражающийся на экране;
В-одиннадцатых — который помещен на некотором расстоянии позади призмы.
Если отбросить третье, шестое и одиннадцатое из этих условий, т. е. увеличить отверстие, взять большую призму, приблизить к ней экран, то желанный спектр так и не извлечется на свет Божий» (7, 5, 418–419).
В этой искусственности эксперимента видит Гёте особую технику ньютоновского метода, выработанную в спорах с противниками. «Чтобы обнаружить глубоко скрытое свойство природы, он пользуется всего лишь тремя экспериментами, через которые раскрываются отнюдь не первофеномены, а в высшей степени производные феномены. Рекомендовать с исключительной настойчивостью только эти три, лежащие в основе письма к Обществу (Лондонскому Королевскому Обществу. — К. С), эксперимента: со спектром через простую призму, с двумя призмами — experimentum crucis — и с чечевидной линзой, и отвергать всё прочее, — в этом состоит весь маневр против первых противников» (7, 4, 303). Ошибка, по Гёте, и в этом случае коренится в предпосланности опыту некой точки зрения. «Сначала он находит свою теорию убедительной, затем наспех убеждается в ней сам, прежде чем ему становится ясным, какие вымученные уловки нужны, чтобы провести на опыте применение его гипотетического остроумия. Но он уже высказался публично, и теперь он не упускает случая пустить в ход всю ловкость своего ума, чтобы провести свой тезис; причем он с невероятной смелостью утверждает миру прямо в лицо самое абсурдное как доказанную истину» (7, 4, 289).
Главный вопрос Гёте, вопрос-недоумение, вопрос-возмущение, сформулирован им со всей громкостью реплики ребенка из андерсеновской сказки о голом короле. Как можно исследовать свет в темной комнате? Любопытнее всего то, что от этого вопроса отмахивались и по сей день отмахиваются со снисходительным презрением: он-де понятия не имел о специфике математической физики. Но ведь его интересовала не математическая физика сама по себе, а сеет! Бесполезно. Клише срабатывает автоматически. Он был поэтической натурой, и его коробила сухая проза науки. «Щучье веление» обжалованию не подлежит. Нам не остается ничего другого, как набраться терпения и начать с самого начала. Проследим же сперва, как видела цвет «поэтическая натура», и потом лишь снова вернемся к вопросу, что коробило ее в «сухой прозе».
Призма гофрата Бютнера еще раз доказала, что «для гения один случай стоит тысячи» (7, 4, 177). Гёте увидел самое существенное. Цвет возникал на границе соприкосновения света с тьмой; спектр оказывался «краевым спектром». Опыты были продолжены; они, собственно, уже не прекращались до конца жизни. В них и складывались постепенно черты нового воззрения на цвет. В 1810 г. Гёте издал первый том «Учения о цвете», который вскоре был дополнен вторым томом, содержащим историческую часть. Чтобы получить самое общее впечатление о масштабах исследования, достаточно уже ознакомиться с композицией первой — дидактической — части работы. Она включает шесть отделов: первый — «Физиологические цвета», второй — «Физические цвета», третий — «Химические цвета», четвертый — «Общие воззрения» (обобщение предыдущего), пятый — «Соседские отношения» (связь хроматики с философией, математикой, красильным мастерством и т. д.) и, наконец, шестой — «Чувственно-нравственное воздействие цвета». Построение самой хроматики осуществляется следующим образом. Для возникновения цвета, говорит Гёте, необходимы свет и тьма. Цвет по существу есть свет, модифицированный тьмой. В самой близости к свету возникает желтая модификация, непосредственно у тьмы — синяя. Гармоничное смешение обоих этих цветов образует зеленый. Но возможна также и интенсификация каждого из них в отдельности. Постепенно сгущаемые, они просвечивают красноватыми оттенками, превращаясь — синий — в фиолетовый, желтый — в оранжевый. Соединение на этот раз дает ярчайший и чистейший пурпур, который, по словам Гёте, «частично актуально, частично потенциально содержит в себе все остальные цвета» (7, 3, 296); стало быть, именно в красном находит Гёте то, что, по Ньютону, содержится в белом. Эти шесть цветов и лежат в основании всего «Учения о цвете».
Нас в первую очередь интересует, как и при рассмотрении органики, проблема метода исследования. Метод Гёте в данном случае принципиально отличается от пути, которым он шел в своем изучении органической природы, хотя (и ниже мы отметим это) общая точка соприкосновения наличествует и здесь. Цвет полностью ограничен чувственной сферой; тем самым определяется необходимый эмпиризм подхода. Но поскольку речь идет о понимании сущности явлений, эмпиризм столь же необходимым образом сочетается с рационализмом. «Ибо один лишь взгляд на вещь не может продвинуть нас вперед. Всякое смотрение переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в размышление, всякое размышление — в связывание, и поэтому можно сказать, что при каждом внимательном взгляде на мир мы уже теоретизируем» (7, 3, 79). В этих словах сконцентрирована по существу вся специфика философского и исследовательского метода Гёте. Он никогда не начинает с теоретизирования, но всегда приходит к нему одновременно с созерцанием. «Самое высокое было бы понять, что все фактическое есть уже теория: синева неба раскрывает нам основной закон хроматики. Не нужно только ничего искать за феноменами. Они сами составляют учение» (7, 5, 376). Прямой аналог этого утверждения мы уже слышали в ответе Гёте Шиллеру: «Я вижу идеи». Такова высшая точка соединения рационализма и эмпиризма, устраняющая крайности того и другого. Эмпиризм, по Гёте, погрязает в «миллионоглавой гидре эмпирии» (5, 1, 288) и лишает себя возможности дойти до идеи. Рационализм начинает именно с идеи, но тщетно силится привести ее к факту. Это и есть бесплодные «усилия Данаид»; изначально разобщенное, причем искусственно разобщенное, не в состоянии прийти к единству. Единство, по Гёте, достигается только на пути единоличного и сообразного природе исследования. Факт идеен, идея фактична — таков «результат опыта» (7, 5, 379). Самое поразительное, что речь идет при этом не о каком-то привилегированном наитии, составляющем личную собственность «великих гениев», а о чем-то таком, чему можно и должно научиться.
Вспомним (в который раз!): самое трудное, по Гёте, это то, что кажется самым легким: видеть глазами находящееся перед глазами. Так вот, весь фокус в том и состоит, что, вместо того чтобы смотреть и учиться видеть, предаются размышлениям в стиле Мольера: а что такое видеть? и что именно находится перед глазами? а как отличить субъективный образ вещи от самой вещи? и не есть ли сама вещь всего лишь субъективный образ? Вопросы нарастают со скоростью сновидения; путь к вещи смещается в сторону книжной полки. Удивительный, ни в одной патологии не описанный еще дефект зрения, когда смотришь, скажем, на фабричную трубу и видишь… сочинения Давида Юма! Ну с трубой еще куда ни вылетало; неописуемости начинаются с гораздо более важных материй, допустим, с решения насущных экологических проблем… В конце концов это будет понято: гетеанизм — не глава в истории культуры, а сегодняшний и завтрашний день. Борьба шла не только за свет, вернее, она шла именно за свет. Рассказывает Эккерман: «Среда, 21 декабря 1831 г. Обедал с Гёте. Разговор о том, отчего так мало популярно „Учение о цвете“. „Его очень трудно распространить, — заметил Гёте, — поскольку тут, как вам известно, недостаточно читать и штудировать, тут необходимо „действовать“… а это затруднительно“» (3, 440–441). Практика — вот, по Гёте, «пробный камень для всякой теории» (9, 34(4), 93), особенно для разрешения конфликта между мышлением и созерцанием. «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — соглашается с Гёте К. Маркс, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» (1, 3, 1). Метод Гёте — практическая выработка умения видеть вещи, каковы они суть на самом деле.
«То, что мы обнаруживаем в опыте, является большей частью лишь случаями, которые при некоторой внимательности могут быть подведены под общие эмпирические рубрики. Последние заново подводятся под научные рубрики, которые указывают на дальнейший путь, в результате чего мы ближе знакомимся с неизбежными условиями являющегося. С этого момента все постепенно подходит под более высокие правила и законы, которые, однако, открываются не рассудку через слова и гипотезы, а созерцанию опять-таки через феномены. Мы называем их первофеноменами, ибо в явлении нет ничего выше их» (7, 3, 141). Такова общая формула. Остается расшифровать ее и последовательно воссоздать в опыте.
Направляя взор на мир, человек встречается с фактами, происшедшими от такого множества всевозможных факторов, что он не в состоянии непосредственно постичь какую-либо закономерность во всех этих процессах. Предположим, взору его явлен некий ряд фактов, составляющих известный процесс. Непосредственное созерцание не открывает ему объективной необходимости и закономерности этого процесса, поскольку он не знает, какой из фактов играет существенную роль в явлении и какова их общая взаимосвязь. Гёте, обязанный непосредственному созерцанию всем, фиксирует на этой стадии его «подверженность многим опасностям» (9, 10(4), 344). С другой стороны, выступает опасность нетерпеливого рассудка, домогающегося познания путем форсирования опыта. Задача исследователя — проскользнуть между Сциллой непосредственных субъективных ощущений и Харибдой преждевременного рассудочного суждения, навязывающих мысли (в первом случае) «пагубную индукцию» явления и навязывающих явлению (во втором случае) априорные предписания. Гёте рекомендует на этой стадии полное воздержание от суждений и осторожную игру с опытом. Успех зависит от овладения правилами игры. Во-первых, наблюдатель должен признать за явлением полную независимость и самостоятельность, что удержит его от всяческих агрессивных амбиций, выражающихся в экспериментальных попытках либо в самонадеянном априоризме. Не следует прельщаться скороспелыми эффектами; можно добиться у природы каких угодно признаний, силой можно поставить ее на службу себе, но разве не значит это — вынудить природу к революционной ситуации, где ей, воистину, нечего терять, кроме изощреннейшей аппаратуры, кроме собственной призрачности и химеричности! Природа мстит, и вот уже гордый господин над ней панически ощущает себя «цыганом, живущим на краю чуждого мира», и, Бог весть, чем еще только он не ощутит себя. Гётевская игра («Все, что я могу, — сказал как-то он, — я хочу делать играя…» (13, 14–15)[9]) безусловно исключает возможность такого рода ощущений. Познать явление — значит не посягать на его свободу, дать ему возможность нестесненно проявлять свою природу, себе же оставить — пока! — только внимание — и никаких рассуждений. Внимание в скором времени обнаруживает сложность явления, его многосоставность; теперь уже дело идет о том, чтобы столь же ненавязчивым образом осуществить дифференциацию, т. е. выяснить, какие именно факторы играют здесь существенную и какие второстепенную роль. Наблюдатель видит, что, скажем, в комплексе факторов abcd, составляющих явление, без фактора a оно не могло бы иметь место, фактор b решительно изменяет его, в то время как изменения, вносимые фактором c, малозначительны и незаметны, наконец, фактор d мог бы и вовсе отсутствовать без ущерба для процесса и поэтому случаен. Установление этих закономерностей происходит по-разному: в одном случае их может прямо обнаружить само явление, в другом случае наблюдатель приходит к ним путем осторожного личного вмешательства: скажем, мысленно комбинируя факторы или даже фантазируя с помощью несуществующих и вымышленных. Эта стадия исследования характеризуется Гёте как «приемлемая гипотеза». «Приемлемой гипотезой я называю такую, которую мы выдвигаем как бы шутя, чтобы предоставить серьезной природе опровергнуть нас» (7, 5, 358). Таков experimentum crucis гётевского метода-игры; гипотеза здесь не респектабельная серьезность, провоцирующая природу на шутку, а шутка (у Гёте даже плутовство — schalkhaft), вынуждающая природу быть серьезной; так, ребенок щурится на свет, как бы играя с ним в жмурки и давая ему понять, что может скрыться от него, крепко зажмурившись, и тогда что же остается свету, как не опровергнуть эту гипотезу ярчайшими красочными вспыхами на сетчатке глаза (см. §§ 39–46 «Учения о цвете»)! Опыт упорядочивается и крепнет; наблюдение уже не теряется в хаосе ощущений и опирается на прочный фундамент различения существенных и несущественных факторов. Только теперь игра, подступившая к концу, требует активного включения. Феномен должен быть, наконец, увиден. Для этого устраняется все колеблющееся, случайное, побочное, нечистое, и сложность сводится к простоте. Взору предстает первофеномен, или совокупность только тех факторов, которые необходимым образом обусловливают явление: «предел прозрачности факта», по меткому определению Андрея Белого (10, 109). Но предел этот и есть идея, как «закон всякого явления». Абстрактный рассудок, приписывающий закон себе, чтобы предписывать его природе, опровергается самим явлением, хорошо увиденным и увиденным как закон: «Синева неба раскрывает нам основной закон хроматики». И еще говорит Гёте: «Магнит — первофеномен; достаточно лишь указать на него, чтобы его объяснить» (7, 5, 415). Таково самообъяснение природного факта в опыте и понятии. Думать об этом что-либо еще — бесполезная абстракция. Гёте исчерпывает вопрос в гениальной формуле:
Первофеномен — единичный случай общего. Эмпиристы ищут общее в миллионах случаев и не находят его. «Для того, чтобы понять, что небо везде сине, — веселится Гёте, — нет нужды объездить целый свет» (7, 5, 368). Рационалисты и вовсе чураются миллионов случаев, попросту предписывая им быть синими («…немцы, — продолжает Гёте, — да и не одни они, обладают даром делать науки недоступными» — 7, 5, 405). Первофеномен — наука мудрецов-весельчаков, чей глаз обязан своим существованием не библиотекам, а свету:
«Сам Бог, — говорит Гёте, — не знает о нем больше, чем я» (8, 17). Ибо что же можно знать больше закона, тем более увиденного? За примерами дело не станет; примерами полна история наук и повседневность.
Раскачивание лампады открыло Галилею идею маятника. Уатт увидел силу пара в приподымающейся крышке чайника. Сокращение бедра убитой лягушки оказалось гальванизмом. «Эврика» первофеномена настигла Архимеда… в ванне. Однажды, играя в шлифовальной мастерской, дети сложили определенно отшлифованные стекла таким образом, что оптическое действие их стало заметным, и оставалось лишь реализовать этот наглядный закон сопоставления стекол для изобретения подзорной трубы. В § 172 «Учения о цвете» Гёте рассказывает курьез, происшедший с одним художником, которому поручили реставрировать портрет теолога в черной одежде. Вымыв предварительно портрет мокрой губкой, художник был удивлен изменением цвета: черный бархатный сюртук стал светло-голубым плюшевым сюртуком, вследствие чего духовное лицо приобрело весьма светский, хоть и несколько старомодный вид. Не понимая в чем дело, художник перепугался, думая, что испортил портрет. Но когда портрет высох, одежда снова стала черной. Через мутную среду сырой поверхности проявился основной закон хроматики (черный цвет был покрыт лаком, который, впитав в себя влагу, помутнел, и черное, таким образом, моментально поголубело).
«Непосредственное созерцание первофеноменов, — говорит Гёте, — повергает нас в своего рода страх, мы чувствуем нашу недостаточность» (7, 5, 370). Еще бы, после того как, привыкшие к акустическому образу вещи, мы вдруг воочию видим саму вещь! Но первофеномен может быть и словом, тем самым забытым словом, которое звучит в нужный момент и (вспомним изумление Шиллера перед одним таким гётевским словом) обнажает целый мир.
Фауст
(испуганно)
Что? Матери?
Мефистофель
В смятенье
Ты сказанным как будто приведен?
Фауст
Да. Матери… Звучит необычайно.
«Высшее, чего может достигнуть человек, — продолжает Гёте, — изумление. Ежели прафеномен повергнул его в изумление, он должен быть доволен, ничего более высокого увидеть ему не дано, а искать дальнейшего не имеет смысла — это граница. Но люди обычно не удовлетворяются содержанием прафеномена, им подавай то, что кроется за ним, и в этом они похожи на детей, что, глянув в зеркало, тотчас же переворачивают его — посмотреть, что там с другой стороны» (3, 290).
Такова в общих и наиболее существенных чертах специфика гётевского метода познания неорганической природы. Он сам как-то сравнил его с чтением, и эта аналогия доступнейшим образом проясняет существо вопроса. Явления природы представали ему как буквы, и он учился читать их по складам (buchstabieren). Как мы читаем текст? В целом отдельных букв. Слово есть именно целое входящих в него букв. Что выйдет, если, скажем, слово хлеб мы будем читать как х, л, е, б? Выйдет просто бессмыслица. Вот мы респектабельно и во всеоружии знаний сосредоточиваемся на букве х. Эффекта никакого. Тогда нас осеняет искать то, что за ней скрывается, и вскоре мы заключаем, что это — «вещь в себе». Мы, конечно, не делаем ничего подобного; мы читаем и понимаем. Первофеномен, по Гёте, и есть чтение и понимание природы, а метод сводится к такой группировке явлений, где они обнаружили бы свой смысл. К этому и только к этому сводится все «Учение о цвете» (ср. 59, 101–102).
«Я не похваляюсь тем, что я сделал как поэт, — часто говаривал Гёте, — превосходнейшие поэты жили одновременно со мной, еще лучшие жили до меня и будут жить после. Но то, что в наш век в многотрудной науке, занимающейся проблемами цвета, мне одному известна истина, это преисполняет меня гордости и сознания превосходства над многими» (3, 297–298). Ставим точку. «Поэтическая натура» сказала свое слово. Теперь оставалась безрадостная тяжба с «сухой прозой».
Гёте действительно не пощадил Ньютона. Разъяренность его не имела границ, и он задолго до Ницше научил немецкую словесность философствовать молотом: «Никакой затяжной осады или сомнительной вражды; крепость должна быть запросто снесена, дабы солнце проникло, наконец, в это? ветхое прибежище крыс и сов» (34, 530). Сожалеть об этом, как это делают многие историки науки, представляется нам не только бесплодным, но и не интересным занятием; это значит действительно отрывать личность от мировоззрения, полагая, что в спорах о мировоззрении критерий принадлежит невозмутимости и беспристрастности. К чему — так приблизительно формулируется суть вопроса — позволять себе личные выпады там, где речь идет об отвлеченных предметах? Формулировка безупречная, отвечающая всем стандартам дипломатических схваток. Как же, однако, быть с тем, что у Гете речь шла не об отвлеченном предмете, а о весьма вовлеченном? Отдать 40 лет жизни любимейшему занятию, предпочитать его всем прочим занятиям — шутка ли сказать: когда в октябре 1806 г. после сражения под Йеной французские солдаты высадили прикладами дверь Гёте и угрожали его жизни, он позаботился не о спасении стихов и прочих рукописей, но бумаг с учением о цвете, — и после всего этого сохранять невозмутимость в угоду истукану какой-то там объективности, когда тебе доказывают ложность и несостоятельность твоего дела, — это поистине недозволенный прием. Беря дальше, почему бы не сожалеть и о Джордано Бруно, которому спор о мировоззрении стоил жизни? Цвет был для Гёте не отвлеченностью, а «восьмым чудом света»; речь шла у него о спасении «семицветной принцессы», похищенной злым волшебником — «Бал-Исааком», как он называл его. Но дело не ограничивалось одним только цветом; борьба с ньютонианством выходила за рамки естественнонаучной проблематики и вырастала до духовной культуры в целом; борьба за свет оказывалась борьбой за духовность, за очеловеченное мировоззрение — цвет был предлогом, дело шло не о цвете, а о человеке. Вопрос Канта «как возможен Ньютон» по-своему ставит и Гёте; обойти вниманием этот контекст — значит всё свести к профессиональному спору двух принципиально различных подходов. Подходы донельзя различны, но в том-то и вопрос, что они различны, вернее, как могло случиться такое различие. Учение Ньютона покоится на мысли о комбинированной природе света, заключающего в себе цвета. Цвет возникает здесь через призматическое разложение света. Гёте исходит из непосредственного и естественного созерцания цвета, возникающего из взаимодействия света и тьмы. Цвет Ньютона — абстрагированная краска, цвет Гёте — живой колорит. Ньютона не интересует ничто, кроме математически-количественных характеристик: от 400 до 800 биллионов колебаний частицы в секунду; Гёте интересует всё, вплоть до чувственно-моральных воздействий цвета. Сказать, что дело идет о совершенно разных вещах — значит сказать сущую правду. Но делать из этого выводы о зряшности спора — еще хуже, сводить его к субъективной пристрастности и объяснять через недоразумение — недопустимо, если брать вещи не в профессиональной изолированности, а в контексте проблемы человеческой духовности. Было бы смешно оспаривать значимость Ньютона, величайшего математического гения, но печальнее было бы на основании математического гения заключать к духовной непогрешимости. Когда Гёте говорит об «универсальной гильдии», когда он сравнивает себя с Лютером, выступающим против этого «другого папства» (7, 5, 375), он имеет в виду не саму математическую науку, а именно ее притязания на универсальность и непогрешимость: «Математики — странные люди; на том основании, что они много сделали, они возомнили себя универсальной гильдией и не хотят ничего признавать, кроме того, что подходит к их кругу, что их орган в состоянии обработать» (7, 5, 407). Возникает вопрос: каким образом оказался возможным тип познания природы, вся специфика которого заключается в том, чтобы изолировать некое явление, оторвав его в первую очередь от мира человеческих переживаний, анализировать его под углом голых калькуляций и вдобавок считать себя единственно научным? Цвет — это целый мир, включающий разнообразнейшую гамму переживаний: он — живопись и математика, нравственность и эстетика, медицина и быт. Дело не в том, что Гёте удалось охватить всю эту гамму; другому это может оказаться не под силу, и он ограничится каким-нибудь одним аспектом. Но можно ли при этом не иметь в виду остальные аспекты, собственно целое, а если и говорить о них, то в сфере вне-научных интересов? Цвет Ньютона — частный и искусственный случай этого целого, для появления которого (вспомним) потребовалось одиннадцать условий в темной комнате. Самое любопытное в этом цвете то, что он не нуждается в глазе; ему совершенно безразлично, кто с ним имеет дело: слепые, изображенные Брейгелем, или сам Брейгель. Ну, если бы хоть все на этом и кончалось; так нет же: он утверждает, что он и есть сам цвет, не в смысле отрицания прочих, а в смысле присвоения права на научность и познание. Итак, любуйтесь Брейгелем, наслаждайтесь его красками, но оставайтесь при этом профанами, думающими, что на картине действительно существует цвет. Никакого цвета там нет — цвет в ваших глазах; там же сплошные вибрации частиц, ну совсем как в случае (мы уже слышали это) самопожертвования во имя чести, которое научно есть лишь простая химическая реакция. Вам это не нравится, вас коробит от этого? Ничего не поделаешь — такова «сухая проза» науки, развенчивающая ребяческую прелесть поэтических эфемерид. «Я раб фактов и горжусь этим», — признался какой-то ученый (кажется, Ломброзо), ставя точку над «и».
Действительно, ничего не поделаешь: факты — вещь упрямая. Постараемся же проследить некоторые причуды этого упрямства. Фундаментальную ошибку (error fundamentalis) Гёте «единодушно» усматривают в объективации субъективных свойств, в наивно-реалистическом перенесении на внешний мир собственных ощущений и даже понятий. Юлиус Закс, крупнейший историк ботаники прошлого века, обвинял Гёте в том, что «он переносит рассудочные абстракции на сам объект, приписывая последнему метаморфоз, который свершается, по сути, лишь в нашем понятии» (53, 169). Аналогичное обвинение выдвигается и физиками: Гёте-де не мог понять правильность позиции Ньютона, так как стоял на позиции наивного реализма. Свет и тьму, мир красок вообще он принимал за нечто объективно существующее, не понимая, что их существование — результат зрительных способностей, которым во внешнем мире объективно соответствуют механические колебания частицы, вызывающие цветовые ощущения. Пойми он это, все стало бы на свои места: физик исследовал бы колебания, физиолог — ощущения. Сам Гёте конечно же был физиологом цвета, более того, создателем физиологической оптики (великий Иоганнес Мюллер считал себя его учеником); заслуги его в этой области неоценимы, но, вторгшись в чужую область, наивно приняв ее за свою, он наломал в ней дров и значительно попортил себе нервы. Виной тому была его несчастная привычка доверять своим чувствам; между тем, продолжая словами Гельмгольца, «всякое физическое объяснение должно возвыситься до сил, они же никогда не могут стать предметом чувственного созерцания, но лишь объектами понимающего рассудка» (37, 268).
Позиция на редкость ясная и определенная. Теперь нам потребуется чуточку усилить внимание. Утверждается, что во внешней природе нет цвета, а есть механические колебания частицы. Проследим логику этого утверждения у того же Гельмгольца, едва ли не главного оппонента Гёте, тем более что эта логика, мы уже говорили, разделяется «единодушно». Итак, что существует вне нашего глаза, объективно? Свет. Что такое свет? Ну, мнения на этот счет разнообразны: есть, скажем, корпускулярная теория (ее, в частности, придерживался Ньютон), мыслящая свет как крохотные «шарики», испускаемые от Солнца к Земле, и есть волновая, заменяющая «шарики» «волнами»; есть еще и корпускулярно-волновая, где «шарики» ведут себя как «волны», а «волны» как «шарики», но для логики вполне достаточно и первых двух. Сам Гельмгольц был приверженцем второй; определение света в его «Оптике» гласит: «Свет — это своеобразная форма движения гипотетического медиума, называемого световым эфиром» (37, 30). Давайте разберемся в буквальном смысле. Измышляется гипотетический медиум — эфир; он предполагается движущимся; итак, свет есть движение светового эфира. Что же есть цвет? Количество колебаний эфирной частицы в секунду. Прекрасно, и где же все это находится? Вовне, в природе. Когда мы видим, скажем, синее небо, мы должны быть начеку и не обманываться. Полагать, что небо само по себе синее, — наивный реализм. Искушенный реализм, имеющий дело не с предметом чувственного созерцания, а с объектом понимающего рассудка, корректирует ошибку: небо само по себе не синее, синим оно видится глазу, но глаз должен доверять не себе, а понимающему рассудку, который и вводит его в небесную мистерию эфирной частицы, колебания которой доходят до 800 биллионов в секунду. Но глаз — «finestra dell'anima» (окно души), как называет его Леонардо, — вправе спросить у рассудка: ты отказываешь мне в объективности и говоришь об объективности частицы; но каким неисповедимым путем частица эта оказалась в небе? Ведь она гипотетична, т. е. измышлена тобою же! И если уж говорить о переносе, то лучше уж мне переносить во внешний мир синеву, чем тебе жуткую пляску мозговых призраков!
Ситуация, требующая психологического, а может, и психоаналитического вмешательства. Поскольку речь зашла о переносе, то, оставив на время мир в покое, мы скажем, что здесь в первую очередь собственная ошибка переносится на Гёте; Гёте обвиняется в том именно, в чем обвинения заслуживает сам обвинитель. Когда Гельмгольц говорит о том, что физическое объяснение должно возвыситься до сил, что он имеет в виду при этом? Нечто непосредственно не наблюдаемое, для чего, однако, измышляются определенные символические обозначения: «частица», «волна», «эфир» и т. п. Поначалу естествоиспытатель отдает себе отчет в том, что имеет дело с символическим инструментарием вспомогательного свойства; Генрих Герц прямо характеризует эти обозначения как «мнимые образы» (Scheinbilder) и подчеркивает их условность и абстрактность (41, 1–2). Доходят даже до того, что объясняют всю процедуру принципом удобства; о гелиоцентрической системе пишет Анри Пуанкаре, что «удобнее представлять себе дело так, будто земля вращается» (50, 141). Но, как остроумно заметил в этой связи один исследователь, такое утверждение едва ли вызвало бы в свое время противодействие со стороны как папы Урбана VIII, так и протестантского лидера Меланхтона (25, 377). Что же получается? Сначала, чтобы обеспечить удобство исследования, измышляют чисто абстрактные символы и в ряде случаев оговаривают их как «мнимые образы». Потом вопрос переходит в учебные заведения, где изучаются не первоисточники, оговаривающие удобство и мнимость, а учебники, ничего не оговаривающие. Постепенно складывается традиция, со школьной скамьи представляющая дело таким образом, будто свет на самом деле доходит до нас волнами. Кончается тем, что упрекают в наивном реализме того, кто принимает мир за виденное, и утверждают, что мир — это пунктиры, линии, стрелки, волны, ведущие себя как частицы, частицы, ведущие себя как волны, и еще целый сонм частиц, по-всякому себя ведущих. Позиция Гёте принципиально иная. Он исходит именно из предметов чувственного созерцания, твердо зная, что в случае надобности они сами приведут его к «объектам понимающего рассудка». Так — мы видели уже — шел он в познании органической природы, где из полноты разнообразия чувственного ему открылась перспектива сверхчувственного типа. Так случилось и здесь: предметом чувственного созерцания был цвет, и он исследовал именно его модификации, нисколько не смущаясь тем, что под рукой не оказалось никакого определения света. Ньютоновское «Гипотез не измышляю» не устраивало его во всех смыслах: во-первых, потому, что отказ от гипотез оборачивался на Деле сплошным нашествием гипотез, во-вторых, потому, что и гипотеза при случае могла быть продуктивной. Он исследовал цвет, и цвет сам вывел его на понимание света. Свет оказался здесь не частицей и не волной, а своеобразным аналогом типа в мире цветовых явлений. Подобно типу, пронизывающему органический мир и своеобразно проявляющемуся в каждой отдельной спецификации, не сводясь к ней полностью, свет предстает как подвижное единство цветового многообразия, где каждый цвет специфически манифестирует его через темную среду, никогда не совпадая с ним в полной мере. Свет поэтому, с одной стороны, видим непосредственно в цвете; с другой стороны, сам по себе он абсолютно незрим, хотя именно ему и обязано зрение своим существованием (эта гениальная мысль была впоследствии полностью подтверждена наукой). Свет — «объект понимающего рассудка» — явлен, таким образом, именно в предметах чувственного созерцания как условие и возможность самого созерцания. Шопенгауэр вспоминает свой любопытный разговор с Гёте, где его угораздило доказывать великому эмпирику и реалисту тезис: «Мир есть мое представление»: «Как! — сказал он мне, взглянув на меня своими глазами Юпитера. — Свет, по-Вашему, существует лишь постольку, поскольку Вы его видите? Нет!? Вас самих не было бы, если бы свет Вас не видел».
«Сущность, — говорит Гёте, — всегда надо иметь живой перед собой и не убивать ее словом» (7, 3, 287). Повторим еще раз, во избежание всяческих кривотолков: его отношение к математике было не отрицательным, а ограничительным. Математику он ценил и однажды воздал ей высочайшую похвалу в словах: «…нам нужно учиться у математиков, даже там, где мы не пользуемся счетом, мы всегда должны подходить к делу так, словно мы обязаны дать отчет строжайшему геометру» (7, 2, 19). «Но я с неудовольствием заметил, — говорит он в другой раз, — что моим стремлениям приписали ложный смысл. Я слышал, как меня обвиняли в том, будто я противник, враг математики вообще, которую, однако, никто не может ценить выше, чем я, ибо она делает как раз то, в достижении чего мне совершенно отказано» (7, 2, 45). Гёте имеет в виду свой почти инстинктивный страх перед счетом и измерением; но, с другой стороны, где, как не в математике, мог бы он найти исключительно чистый опыт работы с первофеноменами, на которых по существу вся она и строится. Разве не определил он однажды первофеномен как «формулу, посредством которой выражается бесчисленное количество единичных примеров исчисления» (7, 2, 18)? Математика, названная им как-то «богоподобной» (7, 5, 405), привлекала его именно этой чистотой, где за обнаженностью чисел и фигур взор его проницал жизнь идей. Есть у него и резкие выпады против математики (ниже мы кое-что услышим), но ошибся бы тот, кто усмотрел бы здесь противоречие, так как речь шла у него о двух разных типах математики. Его «богоподобная» математика, к которой он однажды причислил и себя, назвав себя «этико-эстетическим математиком, стремящимся к последним формулам» (9, 41(4), 221), и математика «гильдии», на которую ему пришлось обрушить столько гнева, не имели точек соприкосновения. Первая восходила к платонической традиции и была уже почти забытой, настолько забытой, что парадоксом, если не шарлатанством, считалась просто мысль о ней. В удивительной, остро эпатирующей форме охарактеризовал ее Новалис: «Могут быть математики первой величины, не умеющие считать». И еще: «Можно быть великим в счете, не имея представления о математике» (48, 146). Лейбниц, последний герой ее, в грандиозных масштабах сочетавший в себе и то и другое, выразил ту же мысль в словах: «…существует исчисление более важное, чем выкладки арифметики и геометрии, исчисление, которое связано с анализом идей» (15, 1, 344). Рост и триумфальное развитие опытных наук положили конец этой традиции; математика отныне все теснее и теснее сходилась с физикой, давая ей точность и беря от нее содержание. Уже Декарт, говоря о чистой математике, видит в ней совершенную пустоту (rien de plus vide); характерно и то, что французский язык фиксирует множество математик (математика здесь и суть les mathematiques). Отныне этой в себе опустевшей дисциплине предоставляется роль дирижерской палочки в концерте европейских наук; со времен Канта она вообще становится измерительным лотом всякого естествознания «…в любом частном учении о природе, — говорит Кант, — можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в ней математики» (14, 6, 58), вплоть до известного уже нам идеала, высказанного Дюбуа-Реймоном: представить Вселенную одной огромной системой дифференциальных уравнений.
«Так, — обобщает Гёте, — подходят ко мне математики и утверждают, что, не будучи математиком, нельзя ничего увидеть и ничего обнаружить в физических вещах» (7, 5, 406). Повторялась — правда, на этот раз в колоссальных масштабах — история с философами. Опыт снова противоречил общезначимой истине. Опыт, не будучи математическим, плодотворно исследовал физические вещи. Но поскольку уже вошел в силу магический абсурд: «Этого не может быть, так как этого не может быть никогда»— плодотворность нематематического опыта старательно и деловито списывали со счетов науки и записывали в актив «поэтической натуры». Отсюда и возникли «пристрастность» и «субъективные вспышки гнева».
«Нам следует познать и осознать, что есть математика, в чем может она существенно служить исследованию природы, где, напротив, она неуместна и в каком плачевном заблуждении оказались наука и искусство из-за ложного ее применения со времен ее регенерации?» (7, 5, 409). Вывод формулируется прямо и бесцеремонно: «Физику нужно излагать отдельно от математики. Первая должна существовать решительно независимым образом и пытаться всеми любящими, почитающими, благоговеющими силами вникнуть в природу и ее священную жизнь, нисколько не беспокоясь о том, что делает и чего достигает со своей стороны математика. Последняя, напротив, должна объявить себя не зависящей от всего внешнего, идти своим собственным великим духовным путем и развиваться более чисто, чем это могло случиться до сих пор, когда она отдается наличному и силится что-либо извлечь из него или навязать ему» (7, 5, 408). Не будем торопиться с выводами; выводы не так уж просты и утешительны. Легче всего охарактеризовать эти слова как наивные и необоснованные. Нет ничего более достоверного, чем их полнейшая несостоятельность в наши дни. Но, может, именно поэтому к ним стоило бы прислушаться дольше, чем этого требует поспешность школьной логики. В конце концов приведенное утверждение не несет в себе ни малейших признаков прогноза или пророчества, чтобы можно было со спокойной совестью констатировать его несбывшесть. Оно скорее звучит как требование, императив, и если мы в состоянии еще чувствовать, что значит быть автором «Фауста», то пусть хотя бы это чувство удержит нас на время от машинальных оценок.
Скажем только: было бы насилием над здравым смыслом предъявить к требованию Гёте претензии сегодняшнего дня. Оно в этом смысле принадлежит к своему времени и в любом случае оправданно вписывается в его контекст. Если можно говорить о «веке Гёте», то век этот, между прочим, потому и был наречен таким именем, что в нем вполне нормальными оказывались аналогичные требования. «Многое еще можно было сделать, — вспоминал семидесятипятилетний „новорожденный“ о днях своей юности и добавлял — Теперь… все дороги отрезаны» (3, 102). Дороги действительно повели в иное, до того иное, что требование излагать физику отдельно от математики сегодня фактически воспринимается как курьез. Можно снисходительно забыть его, не обратить снисходительно же на него внимания, можно снисходительно и посмеяться. Все это в наших правах, поскольку мы служим фактам и гордимся этим. Но в наших правах и другое. «…Существует тенденция забывать, что все естественные науки связаны с общечеловеческой культурой и что научные открытия… наука… представители которой внушают друг другу идеи на языке, в лучшем случае понятном лишь малой группе близких попутчиков, такая наука непременно оторвется от остальной человеческой культуры; в перспективе она обречена на бессилие и паралич, сколько бы ни продолжался и как бы упрямо ни поддерживался этот стиль для избранных, в пределах этих изолированных групп специалистов» (20, 261). Это говорит Эрвин Шредингер, один из создателей квантовой теории. Еще одно свидетельство, принадлежащее Александру Койре, видному современному философу и историку науки: «Я уже упоминал о том, что современная наука разрушила барьеры, отделявшие небо от Земли, объединила и унифицировала Вселенную. Всё это так. Но я упоминал и о том, что, опрокидывая барьеры, наука подменяла наш мир качества и чувственного восприятия, мир, в котором мы живем, любим и умираем, другим миром — миром количества, воплощенной геометрии, миром, в котором, хотя он и вмещает в себя всё, нет места для человека. Так мир науки — реальный мир — стал отчужденным и полностью оторванным от мира жизни. Наука не в состоянии не только объяснить этот мир, но даже оправдаться, назвав его „субъективным“» (цит. по: 19, 78). Наконец, вспомним еще раз Вернера Гейзенберга. «В наше время, — пишет он о математической физике, — оказалось, что такая картина с увеличением точности становится всё более и более удаленной от живой природы. Наука имеет дело уже не с миром непосредственного опыта, а лишь со скрытыми основами этого мира, обнаруженными нашими экспериментами». Мы слышали уже, каким образом резюмирует ситуацию Гейзенберг: «Это развитие убеждает нас в том, что борьба Гёте против физической теории цвета должна быть в настоящее время продолжена на более широком фронте» (11, 65).
15 июля 1955 года участники научной конференции в Майнау на Бодензее опубликовали манифест, подписанный 18 нобелевскими лауреатами, к которым потом присоединились еще 33. В тексте можно было прочитать следующее:
«С радостью поставили мы нашу жизнь на службу науке. Она является, по нашему мнению, путем к более счастливой жизни человека. С ужасом мы видим, что именно эта наука дает человечеству в руки средство самоуничтожения!» (цит. по: 38, 7).
Под последней фразой — можно ли в этом сомневаться? — подписались бы сегодня миллиарды. Странным образом, попирая все формальности, гётевское требование ворвалось в злобу дня. Воздержимся от опрометчивых суждений. Тогда оно действительно опиралось на нечто возможное: «многое еще можно было сделать». Теперь, при отрезанности всех путей, было бы по меньшей мере необъяснимым воспринимать его как требование. Фауст уже спустился к Матерям, вызволив оттуда не Елену Прекрасную, а… фауст-патрон. Бессилие и паралич — такова ближайшая перспектива его пути. Рискнет ли он на новую «карьеру в невозможном»? Скажет ли себе силою внезапно пробудившегося импульса: «Тебе говорю, встань!»? Или предпочтет сомнительную эстетику одиночества в глухом и безразличном мире? «С годами, — говорит Гёте, — испытания становятся строже» (7, 5, 454). Можно еще раз посмеяться над наивностью человека, переносившего свои ощущения на внешний мир и не отказывавшего в синеве небу и в небесности глазу. Скандал легче всего стушевывается методологической пародией: отдать Гёте Гётево, Ньютону же Ньютоново. Пусть поэт пишет стихи, а ученый получает премии и подписывает душераздирающие манифесты. Вспомним: возможность «самобытного поворота ума» есть и остается по-прежнему в силе. Констатация «поздно» приложима к чему угодно; к сознанию она не имеет никакого отношения. Таков урок Гёте. «Всё, что освобождает наш дух, не давая нам власти над самими собой, есть порча» (7, 5, 465).
Глава VII. «ЖЕРТВУЯ НАСТОЯЩИМ, ПОСВЯЩАЯ СЕБЯ БУДУЩЕМУ…»
Он написал эти слова, когда ему оставался год жизни. Позади расстилалась ослепительная панорама минувшего: от крика бабушки, склонившейся над только что рожденным и долгое время почти бездыханным ребенком: «Элизабета, он жив!» — до старческой руки, дописывающей последние сцены «Фауста», а в промежутке — живая, головокружительно живая жизнь, сопровождаемая раскатами всемирной истории: семилетней войной, провозглашением независимости Североамериканских штатов, Великой французской революцией, взлетами и падениями Наполеона, четырьмя разделами Польши, концом Священной Римской империи, восстанием на Сенатской площади, июльской революцией. Объем был вполне под стать реализации; ему, четырнадцатилетним видевшему семилетнего Моцарта и семидесятипятилетним встретившему смерть Байрона, назначено было не только жить, но и переживать: целый сонм небожителей воплощался и развоплощался на его глазах, ровные сосредоточенные жизни и метеоры юношеского недолголетия, неукротимый метаморфоз жизней и смертей, мыслей и деяний, старого и нового; «страшный захватчик», он, словно некое гигантское гравитационное поле, втягивал в себя всё, с годами уподобляясь всему и уподобляя его небывалому образцу своей индивидуальности. На его глазах менялись контуры и матрицы мира, сходили в могилу целые миры и входили в жизнь новые, преображался самый генотип человечества, от Фауста-мечтателя первой части до Фауста-цивилизатора второй; безвозвратно исчезали одни первофеномены — пастушеская поэзия, камерная музыка, старинное французское вежество, искусство гобелена и фарфоровых групп, провинциальная поименность отношений — и властно утверждались другие — анонимность мальтузианского населения, машинная техника, поэзия мировой скорби, всемирная литература, потребительство как стиль жизни, планетарная фигура рабочего. Он и сам менялся вместе с ними, сообразно им; соображение, а не воображение всегда составляло наиболее типичную черту его взаимодействий с действительностью; его творчество, никогда не расходящееся с жизнью, зрело с неторопливостью природного свершения, словно бы в нем самом была разлита та самая длительность, которая, по неумирающему слову поэта, разлита в природе, как в метрике Гомера; всеми силами души чурался он всякого форсирования (исключением был Вертер, и Вертер был убит), всякой преждевременности, пусть даже чреватой гимнами Гёльдерлина, — он вынашивал всё, ибо знал, что дело шло не об эффекте и сенсации, а о проверке на прочность тысячелетий. Не оттого ли эта его подозрительность и даже застегнутость к некоторым из его метеорических современников — к тому же Гёльдерлину, к Клейсту, к романтикам, отчасти к Бетховену? Юное поколение в лице Гейне или Берне поспешило взять реванш упреками в консерватизме и эгоизме; тут была своя правда, та самая правда, которая уже по одному лишь праву юности не может и не хочет быть неправдой; царственный веймарский старец действительно раздражал многих — равномерность и полнейшая непричастность к безумию казались консерватизмом и эгоизмом; еще немного- и раздражение вызвал бы сам возраст, переживший столькое и стольких и, казалось бы, диссонирующий с обязательной эстетикой «рано угасшего гения». Он это знал; его способность сбрасывать змеиные шкуры открывала ему и это преимущество юности: «Вот вдруг вырастает передо мною совершенно новый, до сей поры совершенно неведомый мне мир красок и образов, который насильственно выгоняет меня из старой колеи моих воззрений и ощущений, — новая, вечная молодость; и посмей я здесь что-нибудь сказать, та или другая рука протянулась бы из картины, чтобы ударить меня по лицу, да и поделом было бы мне» (9, 44(4), 171). Он и на это был согласен; ему не прощали и до сих пор не прощают Гёльдерлина и Клейста, которых он действительно не принял, не мог принять, настолько невыносимым, просто варварским казалось ему право на гениальность, купленное ценою распада жизни, когда бессмертный шедевр, ослепляющий мир, прокидывается жалкой тенью рехнувшегося или лишающего себя жизни творца. Слишком рано открылась ему несоизмеримость его самого и «побрякушек» творчества; фраза «Человеческая жизнь не стоит строки Бодлера», произнесенная уже в нашем веке одним талантливым писателем (тоже молодым и тоже лишившим себя жизни), показалась бы ему верхом чудовищной патологии; он исповедовал обратное: если строка не служит жизни и не способствует повышению значимости жизни, то она не заслуживает ни малейшего внимания. Но вдохнуть в нее жизнь — значит не форсировать ее ураганами вангоговской эйфории, а дать ей вызреть теми же силами, каковыми вызревает природный плод. Весь облик гётевской жизни пронизан этой удивительной сообразностью органическим силам роста, но было бы ошибочным усматривать здесь плоско и стандартно понятый пантеизм, пасторально-слащавую натуральность руссоизма, некое буквальное следование заповеди о птицах небесных и лилиях полевых. Он уподоблялся не лилиям, а творческим силам их роста; возвращение к природе означало в его смысле постижение тайн природного творчества с последующим правом на духовное в нем участие, и не было ему ничего более чуждого, чем карикатурная мода на уподобление себя быту краснокожих (в смысле начитавшихся Руссо героев Шатобриана). «Жизнь — это долг», сказал он однажды устами Фауста: долг перед силами, дающими жизнь, и выплата долга может заключаться только в одном: в непрестанном дальнейшем развитии в себе этих сил, где они смогли бы вскрикнуть от радости и преклониться перед вершиной собственного становления и существования.
«Кто может сказать об этом лице, что это не гений!» — восклицает Лафатер, разбирая в своей «Физиогномике» портрет двадцатипятилетнего Гёте, сделанный художником Шмоллем. Сохранилось свыше 167 портретных изображений Гёте (27), предлагающих исследователю своеобразную головоломку: впечатление таково, что речь идет о разных людях, причем это касается не только изображений, датированных разным временем, но и в пределах одного года. Очевидно, вина лежала не на художниках, среди которых было немало знаменитостей; ошеломлены были и сами художники. Лафатер подтрунивал над ними, «забывшими, сколько натур смешала в Тебе мать-природа». Самое удивительное в этой головоломке то, что она как бы in capita (по числу лиц) демонстрирует его учение о типе в органической природе, проявляющемся в тысячах форм и ни с одной из них не совпадающем полностью. Внешнее манифестировало внутреннее; учение о метаморфозе в равной степени отвечало жанру научной литературы и интимнейшему жанру дневника. Он делал себя, а не литературу; литер тура сама по себе отталкивала его, но как средство она вполне годилась; ему — мы слышали уже — было совершенно безразлично, обжигал он миски или горшки; он готов был — мы слышали и это — самым старательным образом посвятить свою жизнь опорожнению и наполнению песочницы, ибо дело было не в песочнице и не в «Фаусте», а в нем самом, в «триумфе чисто человеческого», как он однажды выразился о всем содеянном им. «Самый ничтожный человек, — таково сильнейшее его убеждение, — может стать совершенным, если он движется в пределах своих способностей и навыков» (7, 5, 487). Уподобление высшему равносильно для него уместности и самосовершенствованию в рамках (пусть самых ничтожных) этой уместности; пересыпатель песочницы может оказаться более совершенной личностью, чем иная сиятельная особа. «Родовая спесь, — говорит он, — ни на йоту не смешнее ученой спеси, купеческой спеси и всякой утрированной партийности в отношении преимуществ счастья. Кто научился находить удовлетворение на той ступени, где он стоит, тот с равнодушием будет взирать на все ступени выше и ниже себя» (9, 38(4), 388).
Все было поставлено на службу единственной высшей цели: показать, на что способен человек или что в силах человеческих («Ах, Лотта, что может человек! И что мог бы человек!»). Тема не была темой книги; на весы была поставлена жизнь. Изучение природы, писание стихов, драм и романов, любовь и страдания, административные заботы, философия, общение с людьми, описывая гигантские круги, сходились в единой точке, и точкой этой была личность, конкретная и символическая, вернее, конкретно-символическая, ибо, показывая, на что способен он сам, он не красовался перед веками и не позировал будущим «гётеведам», а преподавал урок. Дело было не в мистической привилегированности «великого гения», а в годах учения; учиться надо было естественнейшим первичным условиям: податливости и воле, способности изумляться, умению чувствовать и мыслить вещи согласно с их природой, чтобы очеловечивались вещи, а не овеществлялись люди, словом, надо было отучиваться от труднейшего и учиться легчайшему, отучиваться от искусственности и учиться естественности. Он отходил от себя, как художник от полотна. Полотно оставалось недописанным, хотя видеть это был в состоянии лишь он. Несделанного все-таки было больше, чем сделанного, но главное в сделанном определялось не изумительной законченностью, а открытостью в несделанное. Мысль о смерти редко посещала его, хотя саму смерть он пережил несколько раз, впервые совсем юношей, страдающим от регулярных легочных кровотечений. Ему было не до смерти; она не могла выпадать из метаморфоза, в самом же метаморфозе не могла оставаться только смертью. «Для меня, — говорит он, — убежденность в вечной жизни вытекает из понятия деятельности. Поскольку я действую неустанно до самого своего конца, природа обязана предоставить мне иную форму существования, ежели нынешней дольше не удержать моего духа» (3, 281). В этом «природа обязана» звучит не только логика исключенной бездеятельности, но и великолепный запал самоуверенности, не привыкшей вытягивать пустые билеты, запал, так напоминающий несравненное упрямство Ломоносова, его брата по духу: «Я и у Господа Бога в дураках числиться не желаю». Что до традиционной идеи бессмертия, для нее у него всегда наготове подобающий ответ: «С идеями бессмертия… могут носиться разве что благородные сословия, и в первую очередь женщины, которым нечего делать» (3, 109). Он думает не о смерти, а о жизни, — «что б ни было, иди вперед»— это его строка, строка и в этот раз из стихотворения на случай. Случай был ужасным: в возрасте восьмидесяти одного года он потерял единственного сына. Вот его доподлинные слова: «Uber Graber vorwarts!» — буквально: «Над могилами вперед!» И только через две недели, свидетельствует Эккерман, «Гёте поверг нас в немалую тревогу, ночью у него случилось сильное кровоизлияние, и весь день он был близок к смерти» (3, 386).
Вперед! — лучшее, быть может, из всех слов, когда-либо им сказанных. Вперед! — об этом и последнее его письмо, написанное за пять дней до смерти. «Жертвуя настоящим, посвящая себя будущему» (9, 48(4), 100), ибо «всё, что есть, не могло бы быть, не будь оно бесконечным» (25, 590). Мгновение было прекраснейшим из прекрасных; ослепший столетний Фауст, не видя лемуров, роющих ему могилу, поддался соблазну замуровать его в надгробном монологе. Змея, жертвующая собою в «Сказке» Гёте и прокидывающаяся мостом к другому берегу, не смогла на этот раз сбросить шкуру. Свершилось подписанное кровью. Фауст бездыханный упал навзничь. Ангелы, поднимающиеся к небу, уносили с собою не его энтелехию, а энтелехию его творца, сумевшего и на этот раз превзойти форму превращением, гениальность броском, прекраснейшее мгновение верностью духу странников, золото светом, разгар счастья отречением, смерть жизнью и жизнь новой жизнью. Он был впереди всех разлук и расставаний; он проходил мимо, прежде чем это видели, и изменялся, прежде чем это замечали. Его гравитация была не механической, а органической, и первофеноменом ее было не падающее с дерева яблоко, а само растущее дерево; тип побеждал закон тяжести и притяжения; опираясь на земное, он падал не вниз, а вверх («der Fall nach oben» — его изумительное выражение). «Эта жажда как можно выше вознести к небесам пирамиду моего существования, основание которой мне дано и упрочено, перевешивает все остальное и ни на мгновение не утоляется» (9, 4(4), 299).
Таков его единственный завет живущим, его, можно сказать, посмертная воля: не останавливать его сказочного мгновения с филологической вывеской «Век Гёте» и не терзать его дух в филологическом изоляторе «гётеведения». «Заблуждения, — обронил он как-то, — хранятся в библиотеках, истина живет в человеческом духе» (3, 382). Не будем спорить против этих слов; их истина не утвердительна, а предупредительна. Гёте сегодня — не достояние библиотек, где разложены «побрякушки» времен безвозвратно минувших; Гёте сегодня — странник по новым стезям «невозможного», осуществивший наконец свою мечту «совершить путешествие в Индию, не для того чтобы открыть нечто новое, а чтобы рассмотреть открытое по моему способу». От вчерашнего же Гёте нам остается принять именно это и, пожалуй, еще неунывающую надежду: «…будем ждать и надеяться, что лет эдак сто спустя мы… сумеем наконец стать не абстрактными учеными и философами, но людьми» (3, 575).
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд.
2. Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976.
3. Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М., 1981.
4. Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi/Hrsg. von M. Jacobi. Leipzig, 1846.
5. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Bd 1–2. Stuttgart, 1881.
6. Goethe. Maximen und Reflexionen/Hrsg. von M. Hecker. Weimar, 1907.
7. Goethe. Naturwissenschaftliche Schriften: Mit Einleitungen und Erlauterungen im Text/Hrsg. von Rudolf Steiner. Dornach, 1982.
8. Goethe. Unterhaltungen mit dem Kanzler von Muller. Munchen, 1950.
9. Goethe's Werke/Hrsg. im Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen. Weimar, 1887–1919.
10. Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М., 1917.
11. Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М., 1953.
12. Гераклит Эфесский. Фрагменты/Пер. В. Нилендера. М., 1910.
13. Зиммель Г. Гёте. М., 1928.
14. Кант И. Соч.: В 6 т. М, 1963–1966.
15. Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. М., 1982–1984.
16. Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина: Очерки по истории биологии. Т. 1–3. М.; Л., 1936–1943.
17. Малявин В. В. Чжуан-Цзы. М., 1985.
18. Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968–1972.
19. Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
20. Шредингер Э. Избранные труды по квантовой механике. М., 1976.
21. Шиллер Ф. Собр. соч.: В 6 т. М., 1957.
22. Bergson H. L'evolution creatrice. Paris, 1912.
23. Briefe des Herzogs Carl August an Knebel und Herder/Hrsg. von Diintzer. Weimar, 1883.
24. Brinton С. Introduction to the Portable Age of Reason. Reader, Penguin Books, 1977.
25. Chamberlain H. St. Goethe. Munchen, 1912,
26. Clark G. N. The Seventeenth Century. London, 1956.
27. Die Bildnisse Goethe's/Hrsg. von E. Schulte-Strathaus. Munchen, 1910.
28. Du-Bois Reymond E. Goethe und kein Ende. Leipzig, 1883.
29. Du-Bois Reymond E. Ober die Grenzen des Naturerkenntnis. Leipzig, 1892.
30. Foucault M. Les mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines. Paris, 1966.
31. Foucault M. L'histoire de la folie a l'age classique. Paris, 1972.
32. Foucault M. Naissance de la clinique. Une archeologie du regard medical. Paris, 1963.
33. Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, 1975.
34. Friedenthal R. Goethe: Sein Leben und seine Zeit. Bd 2. Miinchen, 1968.
35. Grimm H. Goethe. Berlin, 1882.
36. Gundolf F. Goethe. Berlin, 1930.
37. Helmholtz H. Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig, 1867.
38. Hemleben J. Das haben wir nicht gewollt. Sinn und Tragik der Naturwissenschaft. Frankfurt a/M., 1981.
39. Hertz H. Prinzipien der Mechanik. Leipzig, 1891.
40. Hume D. Treatise on Human Nature. London, 1909.
41. Husserl E. Formale und transcendentale Logik. Halle, 1929.
42. Keats J. Selected Poetry. New York, 1966.
43. Kohtbrugge I. H. F. Historisch-kritische Studien uber Goethe als Naturforscher. Wurzberg, 1913.
44. Magnus R. Goethe als Naturforscher. Leipzig, 1906.
45. Morgenstern Chr. Gesammelte Werke. Mflnchen, 1977.
46. Nietzsche F. Die Frohliche Wissenschaft. Leipzig, 1927.
47. Novalis, Dichtungen und Prosa. Leipzig, 1975.
48. Novalis: Die Lehrlinge zu Sais. Gedichte. Fragmenten. Stuttgart, 1979.
49. Pater W. Plato and Platonism. London, 1901.
50. Poincare H. La science et l'hypothese. Paris, 1912.
51. Russell B. A History of Western Philosophy. New York, 1945.
52. Sartre I.-P. L'etre et!e neant. Paris, 1955.
53. Sachs I. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. Munchen, 1875.
54. Schiller's Briefe/Hrsg. von Jonas. Bd 2. Weimar, s. a.
55. Sherrington Ch. Goethe on Nature and on Science. Cambridge, 1949.
56. Steiner R. Goethes Naturwissenschaftliche Schriften. Freiburg i/Br., 1949.
57. Steiner R. Goethes Weltanschauung. Dornach, 1979.
58. Steiner R. Mein Lebensgang. Stuttgart, 1975.
59. Steiner R. Naturbeobachtung, Mathematik, wissenschaftliches Experiment und Erkenntnisergebnisse vom Gesichtspunkt der Anthroposophie. Dornach, 1972.
60. Vaihinger H. Commentar ги Kants Kritik der reinen Vernunft. Bd 2. Stuttgart, 1892.
61. Valiry P. Oeuvres completes. T. 1. Paris, 1957.
62. Wilson E. B. The Sell in Development and Inheritance. New York, 1897.
63. Zimtnermann R. Ch. Das Wejtbild des jungen Goethe: Studien zur hermetischen Tradition des Deutschen 18. Jahrhunderts. Bd 1. Miinchen, 1969.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Альдрованди У. 108
Аристотель 79, 83–86, 124
Архимед 162
Баадер Ф. 95
Базилий Валентин 33
Барт Р. 48
Батш Г. К. 67
Белон П. 108
Белый А. 161
Бёме Я. 95
Бергсон А. 101
Берне Л. 181
Бор Н. 145
Браун Т. 47
Буало Н. 112, 129
Бекон Ф. 46. 89
Бютнер X. В. 148, 155
Валери П. 11 66, 140
Вик д'Азир Ф. 105
Виланд К. М. 38
Винкельман И. И. 25, 100
Вольтер Ф. М. А. 8, 89, 112
Галилей Г. 104, 124, 138, 139, 162
Гарней У. 19
Гаусс К. Ф. 137
Геббель Ф. 6
Гегель Г. В. Ф. 36, 69, 70, 86
Гейзенберг В. 151, 177, 178
Гейне Г. 181
Геккель Э. 105
Гёльдерлин Ф. 181, 182
Гельмгольц Г. 96, 126, 150, 151, 169, 170
Гельмонт-Ван И. Б. 33, 115
Гераклит 47, 81
Гердер И. Г. 9, 35, 36, 55
Герц Г. 170
Гешен Г. И. 143
Гоббс Т. 36
Гомер 181
Гримм Г. 8, 63
Гумбольдт А. 9
Гумбольдт В. 9, 36, 65, 75
Гундольф Ф. 9, 90
Гуссерль Э. 97
Гюйгенс X. 129
Дарвин Ч. 19, 105, 107
Декарт Р. 57, 81, 128, 129, 174
Джонстон У. 108
Достоевский Ф. М. 100, 137
Драйден Т. 112
Дюма А. 112
Дюбуа-Реймон Э. 72, 88, 105, 126, 174
Дюре П. 108
Дюрер А. 19
Закс Ю. 168
Земмеринг С. Т. 75
Казанова Дж. 46
Карл Август 16, 38, 53
Карлейль Т. 3
Кант И. 43–47, 66, 81, 86–88, 90, 94, 95, 100–102, 116–121, 124, 125, 133, 135, 166, 174
Кильмайер К. Ф. 105
Киркегор С. 17
Ките Дж. 32
Клейст Г. 181, 182
Клеттенберг С. 33
Клопшток Ф. Г. 9, 51
Кнебель К. Л. 52
Койре А. 177
Кольбругге И. 104
Корнелий Агриппа 33
Кремоннни Ч. 124
Лаплас П. С. 48, 121
Лафатер И. К. 12, 18, 38, 52, 53, 56, 72, 183
Леб Ж. 134
Леонардо да Винчи 19, 128, 129, 170
Лейбниц Г. В. Ф. 129, 174
Линней К. 18, 71, 109, 110, 113, 114, 124, 138
Локк Дж. 112, 129
Ломоносов М. В. 186
Лосев А. Ф. 82
Лункевнч В. В. 109
Лютер М. 166
Магнус Р. 104
Манн Т. 145
Маркс К. 125, 158
Меланхток Ф. 171
Мольер Ж. Б. 75, 100, 157
Моно Ж. 21
Моргенштерн X. 64
Мюллер И. 168
Мюллер Ф. 58, 59
Наполеон 16, 37, 48, 143
Ницше Ф. 41, 146, 162, 164
Новалис (наст, имя Харденберг Ф.) 92, 173
Ньютон И. 43–47, 66, 86, 89, 100, 117, 121, 124, 145, 148–153, 156, 164–169, 171, 177, 179
Окен Л. 105. 107
Парацельс Ф. А. Т. 33, 34, 115,
Пастернак Б. Л. 66, 115
Пейтер У. 85
Пиндар 35
Пифагор 80
Платон 6, 28, 79, 83–86, 131
Плиний 108
Плотин 95
Порфирин 86
Пуанкаре А. 171
Рассел Б. 80
Расин Ж. 129
Рей Дж. 109
Ретиф де ла Бретон Н. Э. 45
Рильке Р. М. 28
Руссо Ж. Ж. 183
Савиньи К. 9
Сведенборг Э. 44
Сен-Симон К. А. 45
Скотт В. 51
Сократ 81, 131
Спиноза Б. 110
Талейран Ш. М. 17
Текстор-Гёте Э. 26
Теофраст 108
Тревиранус Г. 105
Уатт Д. 162
Уильсон Э. 121
Урбан VIII 171
Фихте И. Г. 69, 70, 102
Фридрих II 112
Фонтенель Б. 113
Фуко М. 45, 47, 108
Хайдеггер М. 144
Шатобриан Ф. Р. 183
Шекспир У. 32, 35, 51, 110, 112, 126, 129
Шеллинг Ф. В. Й. 9, 69, 60, 95, 99, 118
Шёнберг А. 78
Шеррингтон Ч. 104
Шиллер Ф. 7, 16, 53, 59, 63, 67, 63, 78, 82, 83, 89, 92, 100, 141, 156, 159, 163
Шиллер Ш. 55
Шопенгауэр А. 172
Шредингер Э. 177
Штейнер Р. З, 77, 107, 138
Штольберг X. 38, 53
Эйнштейн А. 137
Эккерман И. П. 7, 17, 19, 43, 95, 157, 186
Экхарт Мейстер 95
Эмерсон Р. У. 3, 51, 89
Эмпедокл 80
Эразм 87
Юм Д. 95, 98, 157
Якоби Г. 38
Якоби Ф. 38, 145