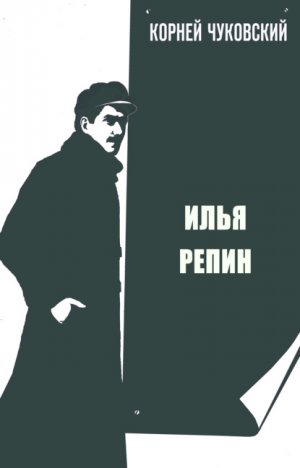
I. Великая любовь. – Великий гнев
Около полувека назад в дачном поселке Куоккале стоял неподалеку от станции деревянный домишко, над которым торчала нелепая башенка с разноцветными, наполовину разбитыми стеклами. Там, в башенке, лет шестьдесят назад находилось мое жилье, и лестница туда была очень крутая.
По этой-то крутой лестнице однажды, перед вечерними сумерками, легко, без одышки, взобрался ко мне пожилой человек – в первую минуту я принял его за посыльного – и подает мне письмо:
– Из Питера, от Ивана Ивановича…
И называет фамилию одного очень небольшого писателя (Ив. Ив. Лазаревского), который печатал в тогдашних газетах мелкие заметки об искусстве.
Я вскрываю конверт и читаю:
«Пользуясь любезностью Ильи Ефимовича Репина, который доставит Вам эту записку, спешу сообщить…»
Дальше я не читал. Мысль, что здесь, предо мною, в этой крохотной комнатке, создатель «Бурлаков», «Запорожцев», «Не ждали», «Ивана Грозного», «Крестного хода» привела меня в состояние крайней растерянности. Я стал усаживать его на свой единственный стул, но он сказал, что он только что с поезда, что ему нужно поскорее домой, и все же задержался на минуту, чтобы оглядеть мою скудную книжную полку.
Когда в Третьяковке или в Русском музее смотришь десятки и десятки картин, написанных репинской кистью, Репин кажется великаном. Самое количество этих картин поражает своей колоссальностью. И вот он стоит предо мною – небольшого роста, с улыбающимся, крепким, обветренным стариковским лицом, с прищуренным правым глазом, в черной шинельке с накидкой, в самых обыкновенных вязаных деревенских перчатках, и даже не перчатках, а варежках, вокруг усов у него топорщатся рыжеватые волосы, совсем простой, даже как будто застенчивый, будто и не знает, что он – Репин.
– Ах, вы и по-английски читаете! – сказал он, увидев на полке какую-то английскую книгу, и сказал таким уважительным голосом, словно умение читать на чужом языке было величайшей премудростью, недоступной обыкновенному смертному.
В этот памятный вечер я долго не мог успокоиться. Казалось невероятным, что знаменитый художник, самое имя которого для множества русских людей считалось в то время синонимом гения, может так легко и свободно, с такой обаятельной скромностью сбросить с себя всю свою славу и, как равный к равному, взобраться на убогий чердак к безвестному юнцу-литератору.
После этого случайного знакомства я нередко встречал его то на почте, то в булочной, то в аптеке, то в лавке бакалейных товаров, носившей громкое название «Меркурий». И хотя Репин – все в той же простоватой шинельке и в тех же незатейливых варежках – всегда отвечал на мое приветствие со своей обычной ласковостью, я так смущался и робел, что ни разу не осмелился вступить с ним в беседу. Мне, провинциалу, с детства привыкшему связывать с его именем представление о бессмертных заслугах, было даже странно, что и в аптеке, и в булочной его ничем не выделяют из серой массы других покупателей, что говорливый приказчик «Меркурия», отпуская ему свой убогий товар, обращается к нему с теми же бойкими шуточками, что и ко всем остальным, и что никто не считает его появление в лавке событием.
Мне казалось диким, что, когда Репин проходит по куоккальской улице, никто даже не оглянется на него, не побежит вслед за ним: поздороваются и пройдут себе мимо. А начальник станции Броме (или Бруме), наделенный от природы такой напыщенной важностью, которая присуща лишь тупицам, разговаривал с ним даже чуть-чуть свысока. И все это казалось мне очень обидным.
Зимняя Куоккала была совсем не похожа на летнюю. Летняя Куоккала, шумная, нарядная, пестрая, кишащая модными франтами, разноцветными дамскими зонтиками, мороженщиками, экипажами, цветами, детьми, вся исчезала с наступлением первых же заморозков и сразу превращалась в безлюдную, хмурую, всеми покинутую. Зимой можно было пройти ее всю, от станции до самого моря, и не встретить ни одного человека. На зиму все дачи заколачивались, и при них оставались одни только дворники, сонные, угрюмые люди, редко выбиравшиеся из своих тесных и душных берлог – хоть немного отгрести сугробы снега, доходившие порой до крыш, да покормить изголодавшихся хозяйских собак.
Репин жил в Куоккале и зимой и летом, так что всю долгую финскую зиму его Пенаты[1] оставались вдали от какого бы то ни было культурного общества, от литературы, науки и музыки. Летом среди его соседей бывали всегда и писатели, и артисты, и певцы, и художники, но зимой он жил, как в пустыне.
Только этим я и могу объяснить, что начиная с зимы 1908/09 года он стал все чаще и чаще бывать у меня (вместе со своей женой Натальей Борисовной) и нередко проводил на моей маленькой даче все свои воскресные досуги. В ту зиму я жил уже несколько ближе к «Пенатам». Ко мне по воскресеньям приезжали из Питера разные литературные люди, и не раз вокруг чайного стола затевались бурные, молодые – часто наивные – споры: о Пушкине, о Достоевском, о журнальных новинках, а также о волновавших нас знаменитых писателях той довоенной эпохи – Куприне, Леониде Андрееве, Валерии Брюсове, Блоке. Часто читались стихи или отрывки из только что вышедших книг.
Репин любил эту атмосферу идейных интересов и волнений, она была с юности привычна ему.
Поэтому каждое воскресенье (если только у него не было экстренной надобности побывать в Петербурге) он часов в шесть или семь стучался ко мне в окно своей маленькой стариковской рукой (все в той же обтерханной варежке), и я, обрадованный, бежал встретить его на лестнице черного хода – парадный был по случаю морозов закрыт.
Часто Репин приносил с собой акварельные краски и, пристроившись на табурете, в сторонке, сосредоточенно работал кистями, изображая кого-нибудь из сидевших за чайным столом. Тогда же был написан им акварельный портрет моей покойной жены, хранящийся у меня до сих пор. Одним из любимейших наших занятий в то время было совместное чтение вслух, и часто случалось, что Репин часами работал под чтение «Дон-Кихота», или «Медного всадника», или «Калевалы», или русских былин. Все это время он держался со мной и моими домашними до такой степени просто и дружественно и мы так привыкли к нему, что мало-помалу совсем перестали ощущать его великой исторической личностью и он сделался для нас «Ильей Ефимычем», желанным гостем, любимым соседом.
Его невероятная скромность, его простота сказывались тогда на каждом шагу. Вообще за много лет моего знакомства с ним я не помню случая, чтобы он, разговаривая с кем бы то ни было, обнаружил хоть словом, хоть интонацией голоса свое превосходство. В толпе он постоянно стушевывался. Помню, он привел меня как-то в вегетарианскую столовку (в Петербурге, за Казанским собором). Там приходилось подолгу простаивать в очереди и за хлебом, и за посудой, и за какими-то жестяными талонами. Увидел его там один из моих знакомых студентов.
– Кто это с тобой? – спросил он.
И когда я ответил: «Репин», он отказался поверить и подбежал к Илье Ефимовичу с бесцеремонным вопросом:
– Правду говорят, что вы Репин?
Репин насупился и глуховато сказал:
– Нет, у меня другая фамилия.
Главными приманками в этой вегетарианской столовке были гороховые котлеты, капуста, картошка. Обед из двух блюд стоил тридцать копеек. Среди студентов, приказчиков, мелких чиновников Илья Ефимович чувствовал себя своим человеком, и ему не хотелось, чтобы его выделяли из этой плебейской толпы.
Не то чтобы в каретах, но и на извозчиках ездил он редко, а все больше в трамвае или на конке. Очень много ходил пешком.
Сам убирал свою комнату, сам – покуда мог – топил печи, сам чистил свою палитру.
Ненавидел, чтобы ему угождали, и горе было тому человеку, кто пытался подать ему пальто!
Со своими учениками и вообще с молодыми чувствовал себя на равной ноге, по-товарищески. Как-то, году в двенадцатом, он предложил мне и художнику Бродскому совершить с ним экскурсию в Хельсинки, и хотя по возрасту мы годились ему в сыновья, а пожалуй, и внуки, но по юношеской неутомимой пытливости, по страсти, с которой он ненасытно впитывал в себя здания, музеи и памятники малознакомого города, он был моложе любого из нас. В национальной галерее «Атенеум» он провел целый день, с утра до вечера, и кому же из посетителей, чинно бродивших по залам, могло прийти в голову, что этот экспансивный старик, восторженно жестикулирующий перед каким-то малозаметным холстом, – один из самых замечательных мастеров мирового искусства?
Вообще его бурная восторженность изумляла меня с первых же дней. Стоило посмотреть на него рядом с каким-нибудь второстепенным писателем, музыкантом, актером, чтобы понять, до какой степени была велика его жажда чрезмерно восхищаться людьми, их искусством, их творческой силой.
«Это гениальный поэт!», «Это гениальная натура!» – нередко восклицал он о всяких посредственностях. Странно было слышать с непривычки, как самозабвенно восхищается он такими художниками, которые по своему дарованию были значительно ниже его.
В разговоре с другим человеком, каким бы то ни было, особенно если это был новый знакомый, Репин, отстраняя себя, больше всего интересовался своим собеседником. И вообще слово «я» было очень редким в его словаре. Вежливость его в обращении со всеми часто казалась чрезмерной и на первых порах очень смущала меня. Когда выходишь, бывало, с ним из каких-нибудь дверей или ворот, он никогда не выйдет первым, но с самыми учтивыми жестами предоставит эту честь тебе.
Замечательно, что он был так мягок, смиренно учтив, уважителен к людям лишь до тех пор, покуда дело не касалось заветных его убеждений.
Отстаивая свои убеждения, он всегда становился до грубости прям и высказывался в самой резкой, решительной форме.
Всем известно, как сердечно любил он знаменитого критика Владимира Васильевича Стасова, который по самым ранним вещам молодого художника угадал его великий талант. Но едва Репин разошелся со Стасовым в принципиальной оценке искусства, он написал ему такие слова:
«…Прошу не думать, что я к Вам подделываюсь, ищу опять Вашего общества – нисколько! Прошу Вас даже – я всегда Вам говорю правду в глаза – не докучать мне больше Вашими письмами. Надеюсь больше с Вами не увидеться никогда; незачем больше…
Искренно и глубоко уважающий Вас И. Репин»[2].
Спор у них со Стасовым шел о старинных художниках, к которым критик относился с закоренелой враждебностью. Репин при всем своем беспредельном уважении к Стасову был готов, не колеблясь, прервать всякие отношения с ним, лишь бы не отречься от того, что считал в это время истиной.
«…Повторяю Вам, что я ни в чем не извиняюсь перед Вами, – писал он Стасову в 1893 году, – ни от чего из своих слов не отрекаюсь, нисколько не обещаю исправиться. Брюллова считаю большим талантом, картины П. Веронеза считаю умными, прекрасными и люблю их; и Вас я люблю и уважаю по-прежнему, но заискивать не стану, хотя бы наше знакомство и прекратилось»[3].
Таков был Репин, когда дело шло о его убеждениях. Куда девались тогда его почтительные и робкие жесты, его жалобы на свою неполноценность, мизерность!
«Я затем только и пишу Вам это, – писал он Тархановой, – чтобы сказать всем своим друзьям: я умоляю их говорить мне только правду и за глаза и в глаза… И Вам сим объявляю: от меня пощады не ждите…».
Ей же о скульпторе Антокольском:
«…Дяденьке вашему я на поклон не отвечаю… Я более ему не верю и притворяться любезным не могу…»[4].
Мне он тоже не раз, когда дело касалось дорогих ему мыслей, писал очень резко и жестко.
Как-то мы были с ним в Русском музее, и я, проходя теми залами, где висели картины Крамского, бестактно сказал что-то, вроде того, что куда же Крамскому до Репина.
Он посмотрел на меня с уничтожающей ненавистью, убежал в другой угол и всю дорогу домой – мы ехали вместе в поезде – казнил меня сердитым молчанием.
Когда же я позволил себе через несколько лет вновь отозваться без достаточной симпатии о каком-то произведении Крамского, Репин обрушился на меня с такими упреками:
«О Крамском – Вы поверхностно неправы… И о большой его идее Вы судите без света в душе… Там надо глубоко уважать колоссальный труд – Мастера!.. И нельзя ковырять с кондачка явление, где ухлопаны годы глубоких усилий…»[5]
Темперамент у него был воистину репинский. Из его писем мы знаем, что однажды во время заседания в Академии художеств он чуть не запустил в пейзажиста Куинджи чернильницей. И сколько в этих письмах восклицательных знаков! Не довольствуясь одним, он ставил их по три, по четыре подряд. Одна из статей в его книге так и называется: «Мои восторги», и вот, например, в каких выражениях он пишет о своих музыкальных восторгах:
«Хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаясь по дороге… О, музыка! она всегда проникала меня до костей».
В таком же темпераментном стиле он описывает восторг своей первой любви:
«Я был влюблен до корней волос и пламенел от страсти и стыда», «Огонь внутри сжигал меня… Остолбенев, я горел и задыхался».
Чаще всего его пылкая страсть проявлялась в чрезмерности похвал.
Вот, например, характерные отрывки из его писем ко мне, главным образом по поводу мелких, давно забытых газетно-журнальных статей:
«Радуюсь Вашей феноменальной прозорливости…»
«Вы неисчерпаемы, как гениальный человек…»
«Если бы я был красивой, молодой женщиной, я бы бросился Вам на шею и целовал бы до бесчувствия!..»
«Вы человек такой сверхъестественной красоты и таланта; Вы так щедро разливаетесь ароматным медом…»[6]
Я привожу эти похвалы без смущения: знаю, что, когда будут собраны тысячи репинских писем к тысячам разных людей, большинство его адресатов окажутся «людьми сверхъестественной красоты и таланта»[7].
Привести его в восторг было нетрудно. Когда я в качестве редактора его мемуаров расположил написанные им отдельные статьи в определенном порядке, то есть сделал в высшей степени ординарную вещь, не требующую никаких специальных умений, он прислал мне такое письмо:
«Восхищаюсь вашей перетасовкой – мне бы никогда не додуматься (?!) до такого сопоставления, этой последовательности рассказиков – ясности, с какой они будут оттенять читателям куншты, – спасибо, спасибо! Я знаю, это плод большого мастера».
Все его восторги были искренни, хотя людям, не знавшим Репина, в них чудилась порой аффектация.
Признаюсь, поначалу и я считал его похвалы подогретыми. Прошло немало времени, прежде чем я мог убедиться, что в каждом своем восклицании Репин был предельно искренен.
Открылась в Петербурге выставка «левых» иностранных художников под названием «Салон Издебского». Этот Издебский, человек разбитной и учтивый, в очень туго накрахмаленной манишке, был у Репина в Финляндии, пригласил его на вернисаж своей выставки. Репин кланялся, благодарил, провожал его до ворот и еще раз кланялся и прижимал руки к сердцу. В назначенное время Илья Ефимович приехал на выставку. Издебский, сверкая манишкой, встретил его на лестнице и стал рассыпаться в любезностях, и Репин снова кланялся, прижимая руки к сердцу, и говорил ему приятные слова.
А потом вошел в залу, шагнул к одной картине, к другой и закричал на всю выставку:
– Сволочь!
И затопал ногами и стал делать такие движения, будто хотел истребить все кругом.
Издебский было разлетелся к нему, но Репин в исступлении гнева мог выкрикивать только такие слова, как «карлик», «лакейская манишка», «мазила», «холуй», и эти слова сдунули Издебского, как буря букашку.
О таких приступах гнева можно говорить все что угодно, но ни притворства, ни фальши в них не было.
Помню, у меня на террасе во время мирного чаепития Репин в присутствии художников Сергея Судейкина и Бориса Григорьева заспорил с футуристами Пуни и Кульбиным об одном ненавистном ему живописце и все порывался в ослеплении гнева схватить руками жаркий самовар. Я несколько раз отводил его руки, а он тянулся к самовару опять и опять и даже ударил меня по руке, а потом всхлипнул и, не прощаясь ни с кем, выбежал без шляпы из комнаты. Выбежал на берег моря и, когда я кинулся его догонять, отмахнулся от меня с отвращением, словно я и был ненавистный ему живописец.
О таких приступах безумного гнева вспоминает он сам в своей книге. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, когда какой-то верзила Овчинников, горячий поклонник его дарования, взял у него без спросу его автопортрет и понес показывать каким-то знакомым.
Репин помчался за ним. «Я, клокочущий негодованием, не отвечая на приветствия милых барышень, быстро, решительно вырываю портрет у Алкида и трясущимися руками разрываю его на мелкие части.
Это, – продолжает он, – вышло так отвратительно, что я сам не в состоянии был дальше ничего ни видеть, ни слышать»[8].
Так же гневлив был он в старости.
Издатель Сытин приобрел у него книгу мемуаров «Далекое близкое», приобрел очень дешево, но потом устыдился и решил немного прибавить. Эту прибавку должен был передать ему я. При деньгах была такая записка: «Ознакомившись с вашим прекрасным трудом, мы считаем приятным долгом препроводить вам дополнительно вознаграждение в сумме 500 рублей».
Эта скаредная щедрость издателя оскорбила Илью Ефимовича.
Он выхватил у меня деньги, скомкал их, швырнул на пол и начал топтать.
– Бездарность! – кричал он. – Бородка!.. Сапоги бутылками! Вот, вот, вот!..
Насилу вырвал я у него из-под ног надорванную, смятую бумажку.
Слово «бездарность» было самым страшным ругательством в его устах; он произносил это слово с такой безысходной тоской, словно бездарность людей была для него личной обидой.
Вообще если у него была большая способность преувеличенно восхищаться людьми, то такая же способность была у него ненавидеть и гневаться. «Филосошка! – кричал он о Философове. – Сошка! Куриная головка на ходулях!»
Философова и Бенуа, этих двух представителей «Мира искусства», он ненавидел свирепо, и когда в день смерти Толстого фотограф Булла снял его с номером «Речи» в руках, которая вышла тогда в траурной рамке, он запретил выставлять этот снимок, потому что ненавистный ему Философов состоял сотрудником «Речи».
В иных случаях, когда дело касалось искусства, его негодование доходило до такого накала, что близкие люди нередко боялись, как бы приступы гнева не оказались губительными для него самого.
Один такой случай запомнился мне с особой отчетливостью.
Это произошло в одну из репинских сред, когда «Пенаты» были гостеприимно открыты для всех посетителей.
Среда была для Ильи Ефимовича торжественным днем. Вскоре после часу прекращал он работу, чистил палитру, надевал праздничный, чаще всего светло-серый костюм и выходил в сад побродить в одиночестве до приезда петербургских гостей.
Сад был полон причуд и сюрпризов: башенки, мостики, лабиринты, беседки (или, как он почему-то называл их, киоски). Здесь был «Храм Изиды» в полуегипетском стиле. Была «Башня Шехерезады» – на холме у забора, разноцветная, словно игрушечная. Было «Озеро свободы» и «Скала Прометея».
Всюду чувствовался напыщенный и деспотический вкус жены Репина, хозяйки «Пенатов», Натальи Борисовны Нордман.
У «Храма Изиды» в качестве природных орнаментов были поставлены широко разветвленные корни вывороченных бурей деревьев. Репин собственноручно покрыл эти корни смолой, и они стали очень красивы (особенно в зимнее время, на фоне снегов). Рядом с ними громоздились гранитные глыбы, неизбежные в финляндских садах.
Как и всякий великий труженик, Репин умел отдыхать. В совершенстве владел он искусством в любое время усилием воли отрешаться от забот и тревог.
В этот яркий июльский день, когда, переходя из аллеи в аллею, вдоволь насладившись и белыми китайскими розами, и флоксами, и зарослями оранжевых лилий, постояв у тихого пруда, на берегу которого вечно играли в индейцев его насупленные внуки Гай и Дий, одетые как девочки (с косичками!), он приблизился наконец к гордости своего сада – к абиссинскому колодцу; из глубины колодца ночью и днем била ледяная вода. У колодца стояла скамейка, на которой Репин любил отдыхать под успокоительное журчание фонтана.
Но сегодня на этой скамейке он увидел троих незнакомцев, очень нарядных и важных. Можно было догадаться по их лицам, что они уже давно поджидают его. К немалому моему изумлению, все трое были совсем одинаковы. Чугунно-монументальные, томные, сонные, с тяжелыми брелоками на больших животах и с чудесными волнистыми усами, они были схожи, как братья, но смотрели друг на друга, как враги. В руках у них были какие-то рулоны, альбомы и папки.
Я знал эту породу людей. Они нередко бывали в «Пенатах», праздные и зажиточные петербургские жители, владельцы домов и заводов, занимавшиеся коллекционерством картин.
Очевидно, каждый из них приобрел по случаю какой-нибудь холст, якобы написанный Репиным, и теперь хочет показать свою покупку художнику, чтобы он подтвердил свое авторство.
Илья Ефимович торопливо подходит к тяжеловесным гостям. Ему не терпится увидеть поскорее, что же такое они принесли. Он всегда был страшно любопытен ко всяким произведениям искусства. Гости не спеша распаковывают привезенные ими покупки. Холсты расстилаются у его ног на траве. Тут и запорожец с голубыми усами, и бурлак на фиолетовом фоне, и Лев Толстой, перерисованный с убогой открытки. Безграмотные, вульгарные копии, на каждой подпись знаменитого мастера, в совершенстве воспроизводящая репинский почерк.
Каждая из этих фальшивок – для Репина удар кулаком. Он хватается за сердце и стонет, словно от физической боли. Ему кажется непоправимым несчастьем, что на свете существуют такие темные люди, которым эта наглая мазня может казаться искусством.
Жизнь сразу теряет для него привлекательность. Самое предположение этих людей, что он может быть автором подобных уродств, представляется ему оскорбительным.
– Ирокезы! – кричит он. – Троглодиты! Скотинины!
Он всхлипывает и рвется вперед – растоптать этот малеванный хлам, разостланный у его ног на траве.
Посетители смотрят на него с надменной почтительностью, ни на миг не теряя своей петербургской благовоспитанной чинности. Один из них, самый импозантный и грузный, аккуратно упаковывая своего запорожца, заявляет вполголоса с непоколебимой уверенностью, что, право же, это «подлинный Репин» и «вы, Илья Ефимович, напрасно отказываетесь от такого первоклассного холста».
Репин бледнеет от ужаса, и мне стоит большого труда увести его в чащу сиреней, подальше от этих людей.
Такие бури повторялись часто и всегда на том же самом месте. Мы даже прозвали эту скамью у колодца «скамьей великого гнева». Так как на произведения Репина всегда был усиленный спрос и каждому самому мелкому коллекционеру хотелось иметь у себя «что-нибудь репинское», ловкие маклаки и торговцы пустили в продажу несметное множество более или менее искусных подделок, где репинский размашистый мазок был по-дилетантски утрирован.
Репин никогда не мог привыкнуть к существованию этих подделок, и всякий раз они вызывали у него ярость.
Насколько я помню, гнев никогда не возбуждался в нем личной обидой. Но всякий раз, когда ему, бывало, почудится, что кто-нибудь так или иначе оскорбляет искусство, он готов был своими руками истребить ненавистных ему святотатцев.
В то же лето у того же колодца он чуть не изгнал из «Пенатов» одну назойливую и скудоумную женщину, которая привела к нему своего семилетнего сына в качестве жаждущего его похвал вундеркинда. Вундеркинд был угрюмый мальчишка, одетый, несмотря на жару, в бархатный, золотистого цвета костюм. Мать в разговоре со мной объявила его «будущим Репиным». Звали его Эдя Рубинштейн. Все искусство этого несчастного заключалось в том, что он умел рисовать десятки раз, не глядя на бумагу, по заученным, очень элементарным шаблонам одни и те же контуры зверей – тигра, верблюда, обезьяны, слона. Едва только к скамейке приблизился Репин, женщина жестом профессионального фокусника развернула перед сыном широкий альбом, и тот привычной рукой очень ловко и быстро изобразил эту четверку зверей. И сейчас же, без передышки, стал рисовать их опять и опять, словно узор на обоях, так что, не успели мы оглянуться – вся бумага оказалась усеянной множеством совершенно одинаковых тигров, одинаковых слонов и т. д.
Шаблонная механичность этой бездушной работы вызвала в Репине злую тоску. В искусстве ценились им больше всего живое, творческое отношение к натуре, темпераментность, взволнованность, а эти однообразные изделия вундеркинда-ремесленника казались ему оскорблением искусства. Мать «будущего Репина» победоносно глядела на всех, ожидая славословий и восторгов.
И вдруг Илья Ефимович страдальческим голосом негромко сказал ей:
– Убийца.
И с такой тоскливой ненавистью посмотрел на нее, словно руки у нее были в крови…
Женщина мгновенно превратилась в разъяренную крысу, и мне насилу удалось увести ее прочь.
Мнения Репина о разных людях, вещах и событиях порой очень круто изменялись, но, каковы бы они ни были, он вкладывал в них всю свою искренность. Даже такое, казалось бы, обычное дело, как изменение первоначальной оценки творческой личности того или иного художника, вызывало в душе у Репина бури и страсти.
Характерна, например, история его отношений к финскому художнику Акселю Галлен-Каллела. Он долго не признавал его большого таланта и резко порицал его в печати.
«Это образчик одичалости художника, – писал он о Галлен-Каллела в одной из своих давнишних статей. – Его идеи – бред сумасшедшего, его искусство близко каракулям дикаря».
Но через тридцать лет написал мне о том же художнике большое покаянное письмо:
«…Я теперь без конца каюсь за все свои глупости, которые возникали всегда – да и теперь, часто на почве моего дикого воспитания – необузданного характера… И вот… Аксель Галлена я увидел впервые (то есть его работы) на выставке в Москве в 1881 году. А был я преисполнен ненавистью к декадентству; оно меня раздражало… как самые нелепые, фальшивые звуки во время какого-нибудь великого концерта… (вдруг какой-нибудь олух возьмет дубину и по стеклам начнет выколачивать в патетических местах…). И вот я, в этаком настроении, наткнулся на вещи Галлена в Москве… А эти вещи были вполне художественные… И он, как истинный и громадный талант, не мог кривляться… И этим не кончилось: в «Мире искусства», когда я писал о Галлене, я даже не представлял хорошо его трудов – так, по старой памяти… А потом, будучи в Гельсингфорсе, я познакомился с его работами… и… готов был провалиться сквозь землю… Это превосходный художник, серьезен и безукоризнен по отношению к форме. Судите теперь: есть отчего, проснувшись в два часа ночи, уже не уснуть до утра – в муках клеветника на истинный талант… Ах, если бы вы знали, сколько у меня на совести таких пассажей!!!»[9]
II. Репин в быту
Другой столь же заметной чертой его личности была неутомимая пытливость. Стоило очутиться в «Пенатах» какому-нибудь астроному, механику, химику – и Репин весь вечер, не отходя от него, забрасывал его множеством жадных вопросов и почтительно слушал его ученую речь. Путешественников расспрашивал об их путешествиях, хирургов об их операциях. При мне академик Бехтерев излагал в «Пенатах» теорию гипнотизма, и нужно было видеть, с каким упоением слушал его лекцию Репин. Каждую свободную минуту он старался учиться, приобретать новые и новые знания. На восьмидесятом году своей жизни снова взялся за французский язык, который изучал когда-то в юности. Впрочем, отчасти это произошло оттого, что он романтически влюбился в соседку-француженку, ибо, подобно Гёте, подобно нашим Фету и Тютчеву, был и в старости влюбчив, как юноша.
Школа не дала ему тысячной доли тех знаний, которыми он обладал. Невозможно понять, как умудрялся он выкраивать время для слушания лекций и чтения книг.
Еще в семидесятых годах Стасов писал Льву Толстому: «Репин всех умнее и образованнее всех наших художников»[10].
Как-то, возвращаясь с ним из Питера в звездную ночь, я был удивлен его неожиданным знанием небесных светил. Он называл все созвездия и приветствовал их, как старых друзей. Оказалось, что еще в восьмидесятых годах он проштудировал «Беседы по астрономии» Фламмариона и многое запомнил на всю жизнь.
Бывало: в Куоккале вьюга, ветер с моря наметает сугробы. Репин, слабый семидесятилетний старик, после целого дня колоссальной работы упрямо шагает на станцию, изнемогая под тяжестью шубы, облепленной мокрым снегом.
Пройдя три километра в гору, он покупает в кассе железнодорожный билет и долго ждет запоздавшего поезда.
– Куда вы?
– На лекцию, – отвечает он с неожиданной бодростью своим мажорным, юношеским басом. – Сегодня в зале Павловой лекция о Древнем Египте.
Ради того, чтобы послушать о Древнем Египте, он истратит четыре часа на дорогу (туда и обратно), вытерпит жестокую давку в трамвае и вернется домой во втором часу ночи.
Его тяга к науке была так велика, что уже знаменитым художником он задумал поступить в университет в качестве простого вольнослушателя. Но это оказалось невозможным из-за тогдашних университетских порядков.
«Здесь (в Москве. – К. Ч.) я было хотел поступить в университет… – писал он Стасову 20 октября 1881 года, – но там, начиная с Тихонравова, ректора, оказались такие чинодралы, держиморды, что я, потратив две недели на хождение в их канцелярию, наконец плюнул, взял обратно документы и проклял этот провинциальный вертеп подьячих. Легче получить аудиенцию у императора, чем удостоиться быть принятым ректором университета!!»[11].
Такое страстное было у него любопытство ко всякому знанию, к науке. «Ах, как я люблю ученых!.. – восклицает он в своих воспоминаниях. – На меня лично в глуши, где нет образованных людей, нападает безнадежная тоска… Тоска по умным, по ученым лицам»[12]