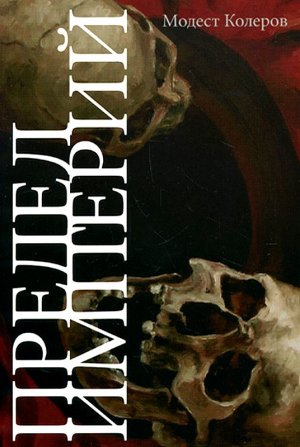
«Чешский прецедент»: ЕС освободил Чехию от «химеры совести» — Польша, Литва, Латвия и Эстония на очереди
Лидеры Европейского Союза согласились с требованиями президента Чехии Вацлава Клауса о внесении изменений в Лиссабонский договор и предоставили Чехии гарантии от исков потомков 3 млн немцев, изгнанных в 1946 году из Судетской области Чехословакии по декретам президента Бенеша, — от исков о компенсациях за собственность, которой они лишились в конце Второй мировой войны и после неё. О готовности вытребовать себе идентичные условия заявила Словакия. Жертвы депортации и их потомки в Германии заявили, что это решение ЕС нарушает права, гарантированные «Хартией основных прав и свобод ЕС».
Ради прикладной задачи консолидировать ЕС в экстрагосударство, ввести в дело его конституцию, назначить в ЕС президента, главу МИД и присущих ему дипломатов, многочисленные гарантированные в ЕС свободы и ценности, о которых любят рассуждать евроатлантические учителя в общении с дикими варварами на Востоке, задвинуты в нижний ящик стола. И использоваться теперь будут только на экспорт.
Перед началом Второй мировой войны в Европе вне Германии жили 18 миллионов немцев: они составляли значительные и влиятельные общины в городах, промышленности, университетах, аграрном производстве. Ведя войну за «жизненное пространство», нацистский Рейх опирался на эти кадры. Гитлер использовал их, проиграл и сделал коллективными ответчиками за нацистские преступления. По решению антигитлеровской коалиции — США, Великобритании и СССР — немцы Восточной Европы подлежали депортации в Германию. Фактические процедура и условия этой депортации зависели от национальных властей освобождённых от Гитлера и его союзников государств. Массовой, бессмысленной и беспрецедентной жестокостью по отношению к изгоняемым немцам более всего отличились власти Чехословакии и Польши.
Новые национальные власти Чехословакии и Польши проявили себя так, что, например, пешие колонны изгоняемых из Польши немцев предпочитали дожидаться, когда мимо них двинется колонна их вчерашнего злейшего противника — Советской армии, — чтобы двигаться рядом с ней. Только это могло защитить их от крайних жестокостей, грабежей и убийств, которые сопровождали немцев всюду на польской территории. Архивы полны донесений советских властей в Центр о такой неожиданной для них — даже после кровавой войны — жестокости их союзников.
И если после войны и уже внутри ЕС острота во взаимных отношениях поляков и немцев сгладилась, то конфликтные отношения немцев и чехов все эти годы так и не были прояснены и вопросы между ними оставались нерешёнными. Теперь ЕС может повторить Чехии до боли знакомую формулу: «Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью».
Но «чешский прецедент», названный так известным латвийским экспертом Юрисом Пайдерсом, не ограничивает своё действие Словакией. «Чешский прецедент» прямо ставит вопросы о разрушенных в ЕС единых стандартах прав и свобод — в применении к другим конфликтным и кровавым событиям периода Второй мировой войны, которые омрачают отношения России, с одной стороны, и Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — с другой.
Польша, Литва, Латвия и Эстония, пользуясь в этом неизменной поддержкой США, выбрали современную Россию в качестве ответчика за преступления сталинского СССР, несмотря на то, что Россия не является и не могла быть «правопреемницей» сталинского СССР, а выступает лишь (в ряде фактов) государством-продолжателем СССР образца 1991 года — точно так же, как продолжателями СССР по территории, инфраструктуре, гражданским отношениям, образованию и т. п. выступают Литва, Латвия, Эстония и советский экс-сателлит Польша.
Теперь, после обязательного для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — как членов ЕС — «чешского прецедента», мы в России будем с ироническим интересом наблюдать за мучительной, почти физиологической борьбой европейских «ценностей, прав и свобод» в мозгу правящих классов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Если «чешский прецедент» — правовой, а не одноразовый гигиенический пакет европейской конституционной целесообразности, то его действие не может ограничиться избирательным действием только в отношении Чехии. И, значит, претензии Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к современной России в связи с преступлениями сталинского СССР тоже должны быть упразднены.
И если ЕС — это сообщество «ценностей, прав и свобод», то Польша, Литва, Латвия и Эстония не могут признать, что граждане Чехии, освобождённые от «химеры совести», — «ценнее», чем собравшиеся в России бывшие граждане СССР, призванные, по мнению Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, ответить за Сталина и польских, литовских, латышских и эстонских сталинистов. И если «чешский прецедент» — это европейские правила в отношении наследия Второй мировой войны, то Польша, Литва, Латвия и Эстония уже не могут даже формулировать свои претензии к России. И претензии членов семей и потомков польских военных, расстрелянных в Катыни, и прибалтийские подсчёты «ущерба от советской оккупации» — теперь заведомо неправовая отсебятина.
Если и прежде все эти попытки призвать современную Россию к ответу за Сталина и не призывать к ответу за Сталина современные, например, Украину и Грузию были не более чем продуктом русофобского извращения, то теперь продолжение этих претензий, исходящих от «новых европейцев», потребует от них не только оттренированного извращения, но и прямо высказанного правового апартеида и расизма.
Если и после этой чешской индульгенции «новые европейцы» будут требовать от России ответственности за сталинизм, если чехам отпустят их бенешевские (ещё докоммунистические, дорогие сердцу) грехи, а русским предъявят чужие (сталинские) преступления, то это, несомненно, будет уже не только актом обыденной русофобии, но и новым изданием антирусского расизма и апартеида. И антигитлеровская Польша всё глубже будет погрязать в общий пронацистский коллаборационизм и ревизионизм Литвы, Латвии и Эстонии. И почитание жертв Варшавского восстания от этого будет всё более фальшивым.
Впрочем, нет никаких сомнений, что «чешский прецедент» останется инструментом для внутреннего в ЕС употребления, а для России останется в силе «особая справедливость».
Впрочем, не удивительно. Умывайтесь собственной грязью.
REGNUM. 30 октября 2009
Кому принадлежит русский язык: чиновникам или «паразитам»?[1]
На недавней встрече президента России Дмитрия Медведева с белорусскими журналистами один из гостей с нажимом заявил Медведеву: «Наша страна называется Беларусь. Именно так, восемь букв, четвертая «а», на конце — «ь». Так мы называемся в ООН, и таковы рекомендации, в частности, Московского института русского языка. Может быть, Вы тоже присоединитесь к ним, и все политики и государственные деятели в России будут называть…» На это Медведев ответил: «Я-то как раз говорю так, как называется Ваша страна в ООН. Беларусь, и я настаиваю именно на таком произнесении названия нашего братского государства».
Вслед за этим замминистра юстиции Белоруссии Алла Бодак потребовала, чтобы имя «Беларусь» использовалось в нормативных актах и СМИ на всей территории белорусско-российского Союзного государства. Это требование поддержал министр юстиции России Александр Коновалов и пообещал следить, чтобы российские государственные органы употребляли только «Беларусь», а не «Белоруссия», и рекомендовать такое словоупотребление российским средствам массовой информации.
В редакции ИА REGNUM — как российского средства массовой информации — могли бы просто наплевать на незаконные требования и необоснованные рекомендации и могли бы с политическим любопытством отнестись к языковым предпочтениям нашего президента. Но контекст проблемы шире, а её значение — глубже, чем анекдотические требования исторически временного замминистра, которые он с бюрократическим безумием адресует — нет, не такому же временному бюрократу, а исторически бесконечному, живому, великому русскому языку, сердцу великой русской культуры. Проблема глубже, чем поспешный административный восторг его коллеги. Больше, чем мнение президента России.
Статья третья Главы первой Конституции России гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ». Точно так же единственным источником власти над великим русским языком является многонациональное, многосотмиллионное и — самое главное — многовековое сообщество носителей этого языка, каждый из которых по мере таланта и знаний может только подсказывать, придумывать, предлагать живому языку нормы и новации, каждый раз отдавая их на коллективный суд русской культуры.
Русский язык не принадлежит ни президенту, ни министру, ни писателю, ни журналисту, ни — смешно сказать — заместителю министра юстиции Белоруссии.
Не чувствуя анекдотичности попыток «управлять» русским языком, СМИ бросились спрашивать «мнения» — то у какого-то функционера мёртвого журналистского профсоюза, то у учёного секретаря академического Института русского языка. Их мнения не имеют никакого значения: и средствам массовой информации начихать на функционера, и культурным носителям русского языка начихать на учёного секретаря. Такой пример с блеском продемонстрировала влиятельнейшая немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung: когда чиновники начали «облегчать» и «упрощать» немецкий язык, это издание — как полноценный институт немецкой культуры и гражданского общества — решило самостоятельно поддерживать практику классического немецкого языка. И можно быть уверенным: никакие придуманные академиками для русского языка «заец», «заюц», «заятс» и «кофэ» не будут приняты обществом России.
Дело в том, что в современном политическом, культурном, бытовом русском словоупотреблении «Беларусь» и «Белоруссия» — взаимодополнительны, равнозначны и акцентируются в зависимости от контекста и цели высказывания (что подтверждается даже внутренне динамичной парой «Беларусь — белорусский»). В «Беларуси» русскому уху слышатся её коренное своеобразие и уникальность в едином организме Большой России (Руси), в «Белоруссии» — её святая, жертвенная и родственная современность, Белорусский фронт и Белорусский вокзал. И в этих условиях требование монополии одного имени — подобно языковой агрессии.
Невозможно представить, чтобы власти United States of America или Republique Franęaise вдруг начали требовать внести в русский язык особую норму именования их государства: например, «Объединённые Государства Америки» или «Франс». Так что же происходит с Белоруссией, Эстонией, Казахстаном, Киргизией и Украиной?
Целый ряд постсоветских государств (а в смутные годы — и ряд российских национальных республик) принялись строить свою свежеобретённую идентичность не только в нехитрых схемах политических систем, но и путём «исправления» формально чужого для них русского языка. Это свидетельствует о двух простых обстоятельствах. О том, что все новейшие независимые государства по-прежнему генетически связывают свою легитимность с Россией. И о том, что их самоутверждение в пространстве интернационального и межнационального русского языка — провинциально, инфантильно и паразитично, что они исходят из клинической уверенности в том, что любой (не говоря уже о русском) язык подчинится простому бюрократическому решению горстки депутатов и щепотки чиновников.
Конечно, эти постсоветские активисты вольны препарировать свои местные версии русского языка, насыщая их локальной лексикой, доводя их строй до колониального пиджина, но «подогнать» весь живой русский язык под свои комплексы им, конечно, не удастся. Риторически борясь с русским «языковым империализмом», они слишком хорошо понимают весь «языковой паразитизм» своих усилий. Паразитизм, направленный на разрушение русского языка.
Русские журналисты и чиновники, по свистку из Киева начинающие, — против сотен лет русского языка, против Гоголя и Шевченко, всей великой русской литературы, даже против довоенной украинской гуманитарной эмиграции, — с фальшивым усердием говорить не «на», а «в Украине», хорошо понимают одностороннюю, антирусскую природу этого «языкового паразитизма». Этому «языковому паразитизму» бессмысленно объяснять, что в настоящем — не окарикатуренном — русском языке «на» указывает не только на географический (на Кубе как на о. Куба, на Украине — как на окраине, даже — на Москве), но и на государственно-политический смысл (на Гаити и, наконец, на Руси).
И на той же Украине, в той же Белоруссии, в Литве и Латвии никто не ополчается на польский «языковой империализм» из-за того, что по-польски (в полном соответствии с географией и историей окраин Речи Посполитой — «кресов») «на Украине, в Белоруссии, в Литве, в Латвии» будет: na Ukrainie, na Bialorusi, na Litwe, na Lotwe. В то время как русская газета прогнулась — и стала «Комсомольская правда в Украине», трудно поверить, что польская Gazeta Wyborcza прогнулась бы так же и стала бы зваться Gazeta Wyborcza v Ukrainie…
Ведь никто в России даже не думает «исправлять» казахское Мескеу (но в Казахстане требуют от русских отказаться от Алма-Ата в пользу Алматьі) или латышское Maskava на «единственно правильное» Москва, точно так же, как нет во Франции и Италии идиотов, требующих от русских писать вместо Парижа — «Пари» и вместо Рима — «Рома». Есть постсоветские молодцы, смеющие требовать от русского языка монопольного употребления «Беларуси» и «Кыргызстана», есть российские бюрократические дураки, поспешившие заменить 150 лет присутствующую в русском языке Прибалтику на придуманную «Балтию», но нет идиотов, требующих от Латвии исправить латышские Igaunija — на Эстонию, Krievija — на Россию, Vacija (по-литовски: Vokietija) — на Германию. Нет мерзавцев, требующих от Эстонии заменить эстонское Venemaa — на Россию, Saksamaa — на Германию, требующих от всего мира — заменить Армения / Armenia — на «ИАйастан», требующих от Польши заменить польские Wiochy — на Италию, Niemcy — на Германию или Deutschland.
Но есть в Эстонии (а теперь и в Белоруссии) те, кто приказывает русскому языку. И в России есть те, кто всё ещё спорит: как надо писать по-русски: Таллин с одной или двумя «н» на конце. На эстонском языке название столицы пишется как Tallinn. Полной копии этих двух «нн» требуют от русских. Но будь в данном эстонском случае одно «п» — оно превратилось бы в простой глухой звук, и русская транскрипция топонима была бы «Талли». А эстонские «пп» и сейчас уже адекватно передаются одним русским «н».
Однако на территории Эстонии и в практике тех в России, кто спешит исполнять не собственные законы, а чужие, русский «Таллин» с двумя «н» на конце был учреждён в 1988 году, когда решением Верховного Совета ещё Эстонской Советской Социалистической Республики в республиканской конституции название столицы было предписано писать именно так. Постановлением министра образования Эстонии от 18 мая 1998 года это название эстонской столицы было закреплено. С тех пор любое издание на русском языке, которое выходит в Эстонии, рискнувшее написать одну букву «н» в конце слова Таллин, рискует оказаться под пристальным вниманием эстонской языковой инспекции и быть оштрафованным. Так орган, регулирующий нормы использования эстонского языка, определяет нормы русского языка. При этом ещё никто в Эстонии не опротестовал ни латышское Tallina, ни литовское Talinas.
Почему бы и министру юстиции России не установить правило написания на английском языке в России (да и на латинице по всему миру) столицы не как Moscow, а как Moskva? И штрафовать все англоязычные издания, выходящие на территории России, за нарушения этого «правила». Ясно, что это было бы параноидальным покушением на неотъемлемые права и суверенитет другого языка, но почему же не стыдно разменивать неотъемлемые права и суверенитет своего собственного языка?
В России — под неусыпным государственным ведомственным и корпоративным контролем — проходят рекламные кампании, которые, неукоснительно следуя эстонским законам и нарушая права русского языка, призывают отдохнуть на Новый год в «Таллинне». Интересно было бы проследить за реакцией эстонцев, если бы в Москве и Санкт-Петербурге появились плакаты «Сказочные каникулы в Ревеле» или «Отдохни в Юрьеве (Дерпте)» (первоначальные названия Тарту). Тем временем эстонские автобусы из Таллина ходят не в Pskov или в Pechory, — а в Pihkva (эстонское название Пскова) и в Petseri (Печоры). И если Таллин с одним «н» — это «языковой империализм», то Petseri — посягательство на территориальную целостность России. И поэтому «Таллинн» и «Балтия» в русской государственной языковой практике — едва ли не измена.
То, что описанный «языковой паразитизм» и уступки ему направлены именно против русского языка и России, красноречиво следует и из истории с законодательным переименованием в Эстонии более ста лет бытовавшего в эстонском языке Gruusia в Georgia. Мотивировалось это тем, что Gruusia — это русское «оккупационное название» Грузии. И то, что «евроатлантическое» Georgia не имеет никакого отношения к собственно грузинскому «Сакартвело», — Эстонию не волновало.
Так почему же так спешат волноваться и следовать внешним влияниям российские чиновники — и не волнуются о русском языке?
REGNUM. 30 ноября 2009
МИД России — против соотечественников, Конституции и справедливости
Для общества каждой страны зарубежные соотечественники — его объективное, прямое продолжение и отражение. Для политических идеологий — материал для самоопределения. Для ведомств, принуждённых работать с соотечественниками, — отражение того, какой видят эти ведомства свою ответственность перед обществом и государством.
Законопроект МИДа России, сужающий понятие «соотечественников», отражает вовсе не исследование того, как им живётся вне России и что они думают о России, а бюрократическое желание сузить свою сферу ответственности и бухгалтерскую страсть «повысить эффективность расходования бюджетных средств». Очевидно, что такой мидовский пафос не имеет ничего общего с правом.
Более того: проект, ставящий своей целью бюрократически сузить и «отрегулировать» то, что является предметом личного и свободного выбора человека, его личной идентичности, — позорен.
Любвеобильный друг российских дипломатов и депутатов, дюжий эстонский националист Сависаар, приложивший руку к сносу «Бронзового солдата» и видящий в российских инвестициях угрозу национальной безопасности, по бюрократическому идиотизму был выдвинут в Москве кандидатом на звание «соотечественника года» — и отказался признать себя соотечественником. Вместо того, чтобы политически застрелиться, инициаторы этого позорного действа решили политически расстрелять всех, кто не сможет принести в посольство справку о том, что именно он-то и есть «соотечественник».
Предложенное МИДом бюрократическое сужение понятия «соотечественник» до тех, кто «подкрепил принцип самоидентификации соответствующей общественной или профессиональной деятельностью» и лично известен узкому кругу общественников, тесно работающих с дипломатическими представительствами России за рубежом — аморально. Столь же аморально считать избирателями только тех, кто ходит на выборы и голосует за одну партию, больными — тех, кто лечится в Кремлёвской больнице, дипломатами — тех, кто проникает на личный приём к министру Лаврову, а депутатами — кто имеет счастье бывать в приёмной Грызлова.
Независимые критики и зависимые адвокаты законопроекта сходятся в одном: законопроект МИДа делает слова Путина о том, что распад СССР стал «крупнейшей геополитической катастрофой», одномоментно, без перемены места и образа жизни, превратившей десятки миллионов людей в иностранцев у себя дома, и слова Медведева о «зоне привилегированных интересов России» там, где эти миллионы живут, — всего лишь словами.
Критики и адвокаты справедливо видят главную новацию МИДа в том, что объективный статус соотечественника, которым каждый уроженец империи или его потомок волен воспользоваться, теперь становится предметом бюрократического торга. Единственный справедливый, уведомительный принцип признаваемой идентичности — подменяется разрешительным. Теперь идентичность человека будут «удостоверять» не его личный свободный выбор, а никем демократически не избранные, представляющие не более 1 % местных общин, материально и лично зависимые, прошедшие тест на бюрократическую лояльность — не государству, а мелким чиновникам — «профессиональные русские» при посольствах и консульствах. Аусвайс, как уже разъяснили, выдавать будут общественные организации при российских дипмиссиях. Правозащитники справедливо видят в этом нарушение «права на свободу ассоциаций и союзов». Глупо скрывать, что на практике это тесно связано с коррупцией и многочисленными злоупотреблениями.
Уверен: наши соотечественники, составившие истинную славу России за рубежом, никогда не преодолели бы этот отвратительный мидовский фильтр. Согласно законопроекту, русскому эмигранту Зворыкину, изобретшему телевизор, недостаточно было бы быть русским по рождению и духу, — в глазах современного МИДа для признания соотечественником ему, наверное, пришлось бы вступить в партийную ячейку. А Сикорскому — доказать, что его польские корни не затмевают его русскости, а православие — не подрывает лояльности. А Владимиру Горовицу — сыграть государственный гимн. Или Марку Шагалу — вставить в свои витебские мотивы — даже не герб СССР, ибо Белоруссия для МИД уже не вполне «аутентична», — а, как минимум, Кремль.
Прекрасно зная, насколько взаимно конкурентны и конфликтны отношения «профессиональных русских» за рубежом, прекрасно понимая, что за ними — не демократическое большинство, а кучка активистов, МИД, поручая им верифицировать чужую идентичность, создаёт новое издание коммунистических парткомов и инквизиций.
Низкопробно играя на ксенофобии, ставящей знак равенства между нелегальными гастарбайтерами и всеми соотечественниками, защитники законопроекта выдвигают и этнические требования для «узкого» определения того, кому они позволят считаться соотечественником. Законопроект, виляя хвостом бессмысленных оговорок, требует от кандидатов принадлежности к «народам, исторически проживающим на территории» России.
Несправедливость, незаконность и неправовой характер этого требования не только в том, что официального списка таких народов не существует в природе, равно как не существует и официального толкования, каким сроком измеряется «историческое проживание» в России. Дикость и историческое невежество проекта в том, что он прямо — в тупом заигрывании с кабинетным этническим национализмом — противоречит всему историческому многообразию России, её многонациональности и многоконфессиональности, практике смешанных семей, ставит под сомнение «полноценность» миллионов русских немцев и русских евреев, не говоря уже о миллионах тех, кто выбрал Россию не по крови, а по совести, — но в 1991 году был оставлен Россией без родины. Являются ли для МИДа России «настоящими» соотечественниками абхазы, южные осетины, приднестровцы и гагаузы?
Государственный позор законопроекта МИДа в том, что он прямо противоречит Конституции России, которая «гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств» и запрещает «любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Читал ли МИД свою Конституцию? Или он потребует от соотечественников получения ещё и «справки человека»?
Злонамеренное смешение вопросов о правах человека и свободе его самоопределения с распределением денег ещё было бы не так чудовищно по своим последствиям, если бы пишущий законы для себя МИД гарантировал доступность своей и «профессионально-русской» инфраструктуры хотя бы для всех российских граждан за рубежом. Известно, например, что в Туркмении число граждан России оценивается в 100 000 человек, но известно также, что на консульском учёте из них стоит всего 14 000 — и не потому, что они отказались от России.
Сколько же из почти 20 лет бытующей в официальной риторике символической цифры в 25 миллионов только русских, оставшихся вне России на территории бывшего СССР, останется на попечении МИДа после их бюрократического переучёта? Что будет с теми русскими бабушками и детьми, у которых нет никаких шансов добраться до консульств и их специально обученных «профессиональных русских»? И сколько, наконец, будут стоить услуги для тех, кто покажется этим стерилизаторам «недостаточно русскими»?
Говоря о финансовом смысле законопроекта, МИД и зависимые от него депутаты твердят об «эффективности»: чем меньше получателей бюджетных средств — тем, якобы, эффективней.
Думаю, абсолютной «эффективностью» будет, оставив в покое личный выбор, совесть и идентичность российских соотечественников, разделить отпущенные на них бюджетные средства между руководством МИДа и руководством думского комитета по делам соотечественников.
Пока они ещё, в соответствии с законопроектом, могут подтвердить, что любят родину профессионально.
И пока их русскость не испарилась от переезда в Нью-Йорк.
REGNUM. 24 марта 2010
Горе тому, кто назовёт себя владельцем исторической правды
За спором об истории советского периода стоит целенаправленная, системная, давно стартовавшая историческая политика стран так называемой «новой Европы». Эта политика преследует цели не идеологической, а государственной борьбы, направленной против России. Никаких идей в подтексте этой борьбы нет, ничего — кроме государственной конкуренции.
В России же идеологическая борьба вокруг советской истории не новость сегодняшнего дня. Идеологическая борьба ведётся давно. В свободном пространстве она ведётся последние лет двадцать, особенно остро после 1991 года, когда стало возможно разнообразие публичного исторического исследовательского творчества. В начале 1990-х годов в России на деньги разнообразных западных фондов выходили самые непредсказуемые учебники для школы и пособия для учителей, в которых актуализировались, в общем-то, старые антиимперские и русофобские штампы: всё связанное с католическим, западным и либеральным влиянием — хорошо, а всё связанное с православием, государством и традиционными ценностями — плохо. Такие штампы — это инструменты оппозиционной либеральной интеллигенции и их западных союзников.
Советская история удобна для трактовок со стороны современных поколений — большинство ныне живущих полагают, что они в ней специалисты, поскольку они в ней жили. Но и это представление наслаивается на старые штампы.
О Сталине на моей памяти жарко, но, правда, на кухнях, спорило поколение моих родителей. В идейном смысле ничего нового сейчас эти споры не привносят. Тема скрытой реабилитации Власова — это старая, шестидесятилетней давности, тема русской эмигрантской публицистики. Сама тема Власова — предмет весьма детализированной русской науки. Вряд ли спор о Власове, реабилитированный в последние двадцать лет в России недоучками, действительно имеет в виду идейные или исторические задачи. Налицо лишь попытка присосаться, приклеиться к давним спорам для того, чтобы как-то оправдать собственное бессилие и безумие.
У нашего государства нет позиции в отношении нашей собственной истории. В этом есть как позитивные моменты, так и негативные. С одной стороны, у государства должен быть некоторый консенсус касательно исторического прошлого, иначе возникает проблема с идентичностью. А с другой стороны, государство не должно заниматься выяснением научной истины, это дело профессионалов.
Тогда же, когда государство законно начинает беспокоиться о том, что исторические споры становятся инструментом внешнего давления на Россию, на власть и на общество, у нашего государства не хватает компетенции, чтобы сформулировать адекватные подходы к историческим темам. Например, в последние полтора — два года наши противники на Западе поставили задачу актуализировать пакт Молотова — Риббентропа в том смысле, что именно он якобы стал истинной предпосылкой Второй мировой войны. Наше государство с бюрократической точки зрения адекватно на это отреагировало, включив борьбу с такого рода спекуляциями, как и с попытками реабилитации нацизма в Европе, в перечень задач президентской комиссии по борьбе с фальсификациями истории.
Но юмор ситуации состоит в том, что в состав комиссии был включен академик Чубарьян, который в период создания комиссии издал книгу, главное содержание которой сводится к тезису о том, что путь к катастрофе начал пакт Молотова — Риббентропа. Не «мюнхенский сговор», положивший начало разделу Европы, а Сталин. Сам с собой, что ли? Можно напомнить и о том, что именно под редакцией Чубарьяна вышла книга, в которой от имени Российской академии наук была признана «оккупация» Прибалтики Советским Союзом.
Тем временем наш МИД, споря с польскими властями о Катыни, ссылается на авторитет Чубарьяна.
Это значит, что бюрократические решения недостаточны. Наша историческая наука за истекшие двадцать с лишним лет находилась в состоянии выживания, вынужденная использовать иностранные гранты. Именно поэтому китаеведы изучают Китай на китайские гранты, полонисты изучают Польшу на польские и т. д. В исторической науке на ведущих академических позициях сейчас стоят те, кто за последние двадцать лет несколько раз «сменил вехи» от коммунизма к патриотизму, от либерализма к консерватизму, кто по определению прошёл большую школу предательства. Ждать от них принципиальной идейной борьбы против фальсификаций не приходится.
При этом государство, разумеется, никак не должно влезать в конкретные исторические темы. Государство должно всей силой, в том числе и силой комиссии против фальсификаций, отсекать и преследовать попытки политических спекуляций на исторических дискуссиях. А думать о конкретной интерпретации Октябрьской революции, сталинизма и т. п. должны историки, вечная, коллективная, свободная историческая наука, а не чиновники или, вернее, их должности, которые сегодня есть, а завтра нет.
Смешно полагать, что если государство как-то проинтерпретировало Октябрьскую революцию, то ее содержание изменилось. Октябрьская революция разрушила государство, уничтожила общество, развязала массовый кровавый террор и Гражданскую войну. Какими бы идеями ни подпитывались господа революционеры, результаты их деятельности известны. Но и государственное перерождение репрессивно-коммунистической власти при Сталине тоже очевидный факт. Хрущёв — весьма специфический руководитель, но достижение при нём ядерного паритета между СССР и США было, безусловно, в государственных интересах. Брежнева все, кто застал его, поднимали на смех, но то, что мы до сих пор живём благодаря его нефтегазовой политике, тоже факт.
Защита интересов государства всегда добровольный грех конкретных лиц, подчиняющих свою личность и совесть общему делу. А государство должно защищать общественную стабильность, безопасность и справедливость. И я не живу, и мои дети не живут ради того, чтобы какой-нибудь Сергей Ковалев заигрывал с террористами, прятался у них в бункере и так реализовывал свою либеральную паранойю — только лишь потому, что его обидела советская власть. Государство — либеральный «ночной сторож» при обществе — должно быть эффективным «сторожем» и при тех, кто мнит себя носителем исторической правды.
Государство должно, на мой взгляд обычного историка, гарантировать историку свободу исследования, в том числе свободу от подкупа, свободу от ангажемента и партийной паранойи. Исполняя же свои общенациональные задачи, государство должно четко различать, где в истории — преступления, преступная партийная и клановая борьба, а где — пробивающиеся через все ужасы и безобразия интересы общества и государства. Интересы государства не могут быть выше научной истины, но горе тому, кто назовёт себя владельцем исторической правды. Его место — у психиатра. Научная истина — абсолютная шкала оценки, равно противостоящая любым частным и национальным мифам.
Русский Журнал. 4 мая 2010
«Оккупация Прибалтики» и «казус Сванидзе» — глупость или измена?
Член президентской комиссии по борьбе с историческими фальсификациями, автор исторических телесериалов Николай Сванидзе призвал Россию признать «советскую оккупацию» Прибалтики.
В самой научной концепции «советской оккупации» — достаточно материала для многолетних исторических дискуссий, сравнивающих её с концепциями «свободного присоединения» (в советской историографии) и «аннексии» (в современной неангажированной науке). На самом деле: глупо полагать, что прибалтийские меж-военные диктатуры, к концу 1930-х годов осознавшие себя в средостении между Гитлером и Сталиным, исторически были свободны выбирать себе путь независимого существования. Таких шансов у них не было. И в практике своей, через череду тайных и публичных сделок со Сталиным, они поэтапно, законно и рационально сами отдали СССР контроль над своей обороной, государственной безопасностью и даже — формированием национальной территории, с полным основанием претендуя на личные субсидии от советских органов разведки и социального обеспечения. Изнасилованная межвоенной нищетой, прибалтийская беднота, по-видимому, вполне искренно рассчитывала на социальные прелести малоизвестного им коммунизма. Ставшее итогом всего этого присоединение Прибалтики к СССР вряд ли в таких условиях было «оккупацией».
Но в вопросе об «оккупации» уже нет (и вряд ли скоро будет) места для чистого исторического анализа. Теория о «советской оккупации» в Прибалтике уже давно, наряду с реабилитацией нацистских коллаборационистов, стала краеугольным камнем государственной пропаганды, внешней политики, строительства наций, основанием для предъявления современной России политических и материальных исков, вменения ей полноты ответственности за историю СССР.
Для компетентных и просто добросовестных наблюдателей, независимых от фанаберии, пропаганды, фобий и продажности, всё сказанное — банальность. Но эта банальность теперь выглядит как совершенно недостижимый интеллектуализм, если её публично игнорирует человек, который, благодаря изначально абсурдному включению его в президентскую комиссию по борьбе с фальсификациями, приобрёл статус едва ли не «официального историка». И теперь, чтобы сохранить политическое лицо, президентской комиссии уже недостаточно будет просто лишь отмежеваться от очередного бреда Сванидзе. Ей придётся отмежеваться от себя самой, ибо «казус Сванидзе» создали сами творцы этой комиссии. И казус этот — отнюдь не следствие обычной бюрократической глупости и невежества. Он — плоть от плоти современной «исторической политики» в России, с трудом — и то только в святой День Победы — справляющейся с систематическими государственными задачами. И вот почему.
Во-первых, Николай Сванидзе является историком лишь по образованию, а не по профессиональной практике, результатам и профессиональной ответственности. Отдавать ему в руки один из важнейших фронтов национальной «исторической политики» — признак такого же кабинетного повреждения, как отдавать бесланские души Грабовому, облик Москвы — Церетели, судьбу партии власти — лозунгам «грызть козлов».
Во-вторых, появление в президентской исторической комиссии по квоте «историков» такой сугубо телевизионно-развлекательной фигуры, как Сванидзе, по определению — не научной, а максимум популяризаторской и всегда — примитивной, неизбежно фальсифицирующей, — не единственная «подстава» для государства со стороны тех, кто формировал персональный состав этой комиссии. Другим скандальным по своей неадекватности государственным задачам борьбы с антигосударственными фальсификациями истории является включение в состав комиссии Александра Чубарьяна. Вполне себе номенклатурный историк и академический бюрократ, Чубарьян славен тем, что задолго до создания комиссии против фальсификаций своим именем ответственного редактора и бюрократа «освятил» признание институтом Российской академии наук «оккупации» Прибалтики СССР. Славен он и лицемерными призывами «оставить историю историкам» — лицемерными потому, что — в отличие от него самого, свободно отдающегося за казённый счёт компрадорским искушениям, — его соавторы, соиздатели и партнёры в Прибалтике официально носили и носят политический и государственный статус тех, чья задача — «научное» обеспечение требований от России политической и финансовой контрибуции за «советскую оккупацию». В таких условиях призыв «оставить историю историкам» Чубарьян должен был бы лично реализовывать в отказе от сделок с прибалтийскими государственными ревизионистами, а не во вступлении в российскую государственную комиссию по борьбе с его собственными фальсификациями.
В дни, когда европейский политический ревизионизм на всех уровнях стремился замолчать истинную роль западных демократий в «умиротворении агрессора» Гитлера, в заключении с ним «мюнхенского сговора» 1938 года, ставшего главным шагом на пути ко Второй мировой войне, Чубарьян — в полном согласии с фальсификаторами и врагами России и в противоречии с историческими фактами — многостранично доказывал, что отнюдь не «Мюнхенский сговор», а пакт Молотова — Риббентропа 1939 года стал главным шагом к войне, хотя и был заключён за неделю до её начала. Так что компрадорских любителей «чего изволите» в президентской комиссии больше, чем кажется на первый взгляд.
Теперь, год спустя после создания исторической комиссии, вполне логично звучит глубокомыслие Чубарьяна, что её задача — не борьба с фальсификациями, а издание сочинений. Будто мало таких сочинений лично и в союзе с фальсификаторами он издал, пройдя свой идейно беспринципный путь от советского коммунизма к «европейской демократии», от «европейской демократии» — к казённому патриотизму, от казённого патриотизма — к признанию «советской оккупации».
Итак, проектировщики президентской комиссии получили то, что спроектировали изначально. Значительные имиджевые издержки, позволившие пропаганде прибалтийских и прочих полицейских государств, известных своей крайней нетерпимостью к свободе исторического исследования, обвинить власти России в попытке диктовать науке бюрократические правила, на деле послужили только статусному укреплению тех, кто и в мыслях не имел ни интересов науки, ни политической ответственности.
Бюрократическая глупость породила политический скандал. Ответственных, как всегда, нет.
REGNUM. 19 мая 2010
Информационная власть и Пол Пот
Власть бюрократии — в «высшем знании» правительственной информации, где в море служебных справок, данных и цифр она черпает свою интеллектуальную легитимность. Бюрократам хорошо известно, что корень их практической власти, дающей признаки класса, — не в происхождении, не в конкретном отношении к производству и распределению национального прибавочного продукта, не в персоналиях или «харизме». Их власть, их мифический класс — в вечной функции, главная цель которой — монополия на информацию, лежащую в основе общезначимых управленческих решений. Единственная самокритика, которой иногда подвержена эта монополия — личная ответственность, где совесть едва ли не подавляется политической коррупцией и страхом «самовластия, ограниченного удавкой».
Вне- и околобюрократические интеллектуалы не отделяют себя от такой монополии. Они лишь ревнуют бюрократию к ней, подвергая обоснованной и разрушительной критике недоступность этой монополии для их интеллектуальной эксплуатации. Глухоту, фрагментарность, кабинетную кастрированность, математический солипсизм, догматическую и лицемерную лояльность любому властному лозунгу. Недовольная такой властью бюрократии, власть интеллектуалов — в создании государственнокорпоративного спроса на дополнительную (или альтернативную) информацию, которой не могут дать документы «для служебного пользования» и «совершенно секретно». Их цель — монополия на альтернативное знание, прямое или косвенное влияние на власть.
Общество, ступень за ступенью вниз от буржуазного к стадному гламуру — чем массовей, телевизионней, бедней — тем жёстче требует справедливости. И в мифологическом своём сознании не заботится о подлинном знании того, чего стоит и на какой бюрократической монополии на перераспределение благ строится эта справедливость. И лишь требует от любого информационного потока бесконечного сериала про Ивана-царевича и узкого ряда непрерывно обновляющихся комиксов. Комиксов, в которых большинство действующих лиц — маски из светской хроники и Иваны-дураки, а общество — только зритель.
Оппозиционные интеллектуалы-вне-власти, в абсолютном своём большинстве выросшие в той же власти и её обслуге, а нынче — паразитически эксплуатирующие комиксы о справедливости и продающие их в компрадорских сделках, ещё ближе к телевизионной мифологии. Их цель — изменение властной повестки дня, а не ответственность за последствия. И главная их нужда — в монополии. Монополии не на знание (хотя бы даже бюрократическое или альтернативное), а на комикс, в котором Иван-дурак — само общество.
Салот Сар, камбоджийский коммунистический вождь, за три года власти физически уничтоживший 40 % собственного народа, вдохновлённый своей французской левацкой молодостью и лишь по возрасту опоздавший к французскому 1968 году, уже стоя во главе геноцидальной власти, принял имя «Пол Пот». В этом имени — криптоним французского politique potentielle. В этой формуле вся интеллигентская «политика» — произвол, беспредельная возможность для интеллектуала превратить всю сложность общества в «повестку дня власти». И изнасиловать его, как комикс.
Никто из таких бюрократов или интеллектуалов, сатрапов или революционеров, не ставит в центр своих воли, ожиданий, идей — бесконечное и только поэтому уже консервативное исследование собственного общества. Никто не ищет точного и обширного знания, которое каждый раз превращается в инфаркт — даже для самых передовых и благородных идей. Никто не ищет публичного знания об обществе, экзамен о котором некому принять, — и некому успешно преодолеть такой экзамен.
Этим вождям нужна не самокритичная публичность знания, а публичная власть от имени знания, в которой вся публичность — серия массовых комиксов, скрывающая подлинную politique potentielle.
Вся истинная «публичность» таких знаний и таких экзаменов — в массовых экспериментах над экономической и социально-политической плотью своего народа. И чем тотальней и идеологичней претензии бюрократических интеллектуалов, тем безответственней лоция, нарисованная ими для государства, тем глубже кризис. Чем радикальней их «монополия знаний», тем трагичней метастазы порождённых ими кризисов. Каждый раз — на пути к катастрофе.
В дни кризисов общество ищет простых решений. Среди этих простых решений — «интеллектуализация власти». В её ловушку, как мухи на свет, летят мириады публичных интеллектуалов, наивно полагая, что их опыта «публичной (телевизионной) экспертизы» будет достаточно для борьбы с гидрой бюрократической импотенции и дьяволом политической коррупции.
Апогея эта мечта, подобная генной инженерии, достигла в дни краха СССР и первых лет современной России. Тогда публика молилась на «экономистов», включая в их число экономических публицистов и просто писателей, за спиной у которых стояла лишь «политическая экономия социализма». Именно такие «экономисты» и были у политической и экономической власти. Предпосылкой, результатом и инструментом их власти была сначала советская, а затем демократическая «шоковая терапия», подобная военно-полевой хирургии.
А вскоре и из уст российских коммунистов, ставших главной оппозицией экономическим демократам, зазвучала старая политическая мечта: вернуть к управлению инженеров и «настоящих» экономистов. Предполагалось, что на смену интеллектуальным вождям явлинского и гайдаровского типа должны прийти вожди типа маслюковского и глазьевского: на смену одним экономическим теориям — другие, столь же условно практические.
Что во всём этом пароксизме интеллектуального вождизма общего для всех его разновидностей — так это готовность ограничиться «интеллектуальными штабами» реформ, проектными think tanks корпораций и администраций, «избранной радой» царя, «кружком молодых друзей» императора. Пока они не отбрасываются прочь повзрослевшим сувереном, когда перед ним встают реальные проблемы управления страной, действительного знания о которой не может дать никакой интеллектуальный штаб. Даже этот штаб, противостоящий инерции традиционной иерархии, уже не справляется с тотальностью современной информационно-коммуникативной среды. Там, где с бумажной монополией, как сиамский близнец, борется телевизионный комикс, всё живое, сложное, разное — уходит в глухую ненависть к власти, в отказ от сотрудничества со всем, что выражает себя на языке бюрократической лжи и публичного примитива. И в ещё большую ненависть — к телевизионно-сетевой оппозиции.
Выведи такого оранжево-голубого безработного оппозиционного вождя из его дорогого автомобиля не на митинг, а пред мутные очи мелкого буржуа, измученного «либеральной» бухгалтерией и автомобильными пробками, созданными шествиями гомосексуалистов, — и он будет раздавлен этой грубой демократической реальностью, как вредная гадина.
У этой грубой демократической реальности нет переводчиков.
Никакая монополия не может дать адекватного знания об обществе. Как общенациональный консенсус, гражданское общество, рыночная конкуренция, научное знание становятся реальностью лишь в результате (in letzter instanz) хаотического единства разнонаправленных интересов, так и знание о современном обществе требует полноценной инфраструктуры публичного и профессионального знания.
Инфраструктура знания — свободное и критическое исследование состояния, потенциала и ограничений общества — единственное, что создаёт и для власти, и для интеллектуалов, и для самого общества гарантии от очередного Пол Пота.
Но горе тем, кто полагает, что «инфраструктура знаний», перелицованная из конгломерата университетов, академических институтов и государственно-корпоративных think tanks, станет тем отражением, в котором общество критически изучает само себя. И что интеллектуал, проникши под сень суверена и заручившись «коллективной мудростью» бюрократии, донесёт до государственной воли «последнее слово» и «прозрения гениев». Современная инфраструктура общественных знаний невозможна без их публичной, антибюрократической, политической по сути, презентации перед судом общественного сознания.
Телевизионная политика умерла, превратившись в покер для враждующих бюрократических кланов. И обнажилась политика поисковых машин, судебных повесток, кассовых чеков, квитанций и платёжных поручений.
Конечно, нет человека, кто не хотел бы отменить эту утомительную общественную сложность. Но отменить её можно только вместе с обществом. Только оно, во всей своей первобытной сложности, и может быть единственным полноценным партнёром для инфраструктуры экспертного знания, — а не профессиональные лжецы, за истекшие 20 лет проползшие путь от «научного коммунизма» к «европейским ценностям». Только не управляемая бюрократическим и телевизионным мозгом сфера публичных коммуникаций в социальной политике, медиа, социальных сетях, этничности, отраслевой экспертизе, партийной борьбе, технологической, военной, внешнеполитической и внешнеэкономической конкуренции и позволит максимально защитить интеллектуальный поиск, народ и страну от кланового взаимоистребления и кулуарного предательства. Но где эти интеллектуально напряжённые публичные коммуникации сегодня?
Где коллективный собеседник и интеллектуальный палач для потенциального Пол Пота? Идя во власть, неся своей стране и своему народу новые возможности и испытания, интеллектуал обязан создать сам для себя своего интеллектуального судью, единственной легитимной и ответственной формой которого может быть только публичная инфраструктура знаний, обслуживающая общество в целом, а не тех, кто мыслит от его имени.
«Аще зерно пшенично, пад на земли, не умрет, то едино пребывает» — и не даст плода.
Русский Журнал. 12 июля 2010
Почему Россия отказывается от соотечественников и от себя
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, по которому государственная политика России в отношении соотечественников за рубежом ставится на новые правовые, исторические, политические, культурные и моральные основания.
Теперь государство Россия — как историческая Родина — признаёт своими соотечественниками только тех, кто подтвердит свою самоидентификацию уполномоченным МИДом чиновникам и активистам. Кто докажет, что является не просто представителем русской или любой другой части России, русской истории и культуры, а «профессиональным соотечественником», чья идентичность — не вера, не язык, не совесть, не родители и не дети, а «общественная или профессиональная деятельность» на тротуаре у российской дипломатии.
Мотивы президента Медведева не оглашены, мотивы же инициировавшего закон МИДа России никогда им не скрывались: когда соотечественниками России по закону («пассивному праву») признавались все уроженцы Российской империи, Российской республики, СССР и их прямые потомки, МИД никогда не справлялся и не думал справляться с такой ответственностью, с тем, чтобы трезво и справедливо признать за всеми, кто на это имеет исторические основания, «активное право» идентичности. Он и не думал понимать грань между Пилсудским, с одной стороны, и Сикорским или Рокоссовским — с другой, эстонскими ССовцами — и патриархом Алексием II или Арнольдом Мери, Бандерой — и Вернадским или Короленко, чьи ненависть к или, напротив, великое служение своему народу и своей России были следствием их свободного выбора, а не отвратительного «подтверждения статуса» в кабинетах коррупционеров и предателей.
Предпенсионный, мечтающий лишь о персональном комфорте, многоголовый МИД хотел сократить, снять с себя историческую ответственность за свой расчленённый народ, хотел отсечь от своей даже бумажной компетенции права десятков миллионов людей вне России, заменив их на финансово-бюрократическое соучастие нескольких сотен «профессиональных русских». И сделал это. Теперь этого МИДа нет на карте Святой Руси, Большой России, русской цивилизации и даже лицемерно эксплуатируемого, но давно кастрированного «Русского мира». И здесь ему на помощь пришли равно позорные союзники: убогий русский шовинизм, «нечистокровность» своих жён и матерей преодолевающий в пропаганде этнической закрытости русских, — и циничная госдеповская русофобия, упрекающая Россию за якобы чрезмерную, «политизированную» заботу о своих соотечественниках.
Теперь этой дипломатии — нет, а Святая Русь, Большая Россия, русская цивилизация — есть. Десятки миллионов людей русской истории и культуры по всему миру (и в самой России) — реальное, сложное, образованное, богатое, цепкое общество, от которого сбежал очередной неудавшийся поводырь. Безмозглый официоз, сообщая о подписании закона о соотечественниках президентом, спешит заключить: теперь-де жители стран СНГ больше не будут «автоматическими соотечественниками». Это о ком так геростратовски радуется официоз? О Белоруссии, об Украине?
Почему же русская бюрократия так неуклюже бежит из современного мира, который всё быстрей заполняется машинной, не дающей сбоев «исторической политикой» больших и малых империй, переполнен финансово ангажированными полунацистскими национализмами, пронизан растущей межэтнической мобильностью и информационными сетями, наконец, бежит из тысячелетней истории своих, притворно почитаемых ныне, вселенской православной церкви и других традиционных конфессий?
Почему Россия тщится справлять 1150-летие своей государственности — но не как её наследник и не как государство-продолжатель, а как мидовский пенсионер, мечтающий вернуться в паркетную Данию? И соответственно мечтам обрезающий свалившееся ему в неловкие руки историческое наследство — до Дании.
Русский классик, на пике советской империи, словно чувствуя её недолговечность и таящуюся под её помпезностью измену, дал точный образ этой безголовой антиисторической лёгкости: показав, как некто от имени Ивана Грозного готов отдать любому соседу оплаченную по высшей цене «Кемску волость». А ведь между литературным образом исторической Кемской волости и живой, кровной реальностью сегодняшнего Приднестровья нет разницы. Не случайно именно на таком торгашеском языке пытаются с нами говорить о «размене» то «всей Грузии», то просто Сочинской Олимпиады на Абхазию и Южную Осетию. А транзита через Латвию и Эстонию — на права русских неграждан и «Бронзового солдата». Черноморского флота в Крыму — на русский язык на Украине. Не случайно именно в Калининграде, на Сахалине и Курильских островах так остро чувствуется символический смысл Приднестровья.
Так почему же Россия не наследует своё прошлое? Почему её обамо-обомлевшая дипломатия готова по собственной воле и ради собственного удобства эвакуироваться в «Кемску волость», оставив Россию доживать в границах Приднестровья, как Византийская империя доживала в уездных масштабах Морейского деспотата. И сдать такое Приднестровье на съедение румынским идейным союзникам Гитлера?
Почему Россия не наследует самой себе, несмотря на то, что преемственность тысячелетней государственности России — один из столпов современного национального и бюрократического консенсуса в стране. А статус России как государства-продолжателя в отношении СССР — один из центральных пунктов в отношениях России с её новыми соседями. А русская культура XIX–XX веков и социально-политический опыт XX века — безальтернативная основа современного культурного и политического языка России.
Легко сказать: Россия жила и живёт в непрерывной цепи взрывов: социальных, политических, экономических и географических. За один только XX век она пережила три смены режима, каждый из которых строил собственную, революционно новую картину своего государственного мира. Но почему-то труднее всего эту прерывность переживает почти незыблемая позднесоветская номенклатура.
XXI век ставит Россию в перспективу принципиальных перемен, но Россия не может не только приготовиться к будущему, но даже оседлать своё прошлое. Именно поэтому нынешняя «историческая политика», «политика памяти» в России, за редкими и негосударственными исключениями, — бездарна и собственно вообще политикой не является. Она именно в этой, самой важной и самой деликатной части общенациональной идентичности раз за разом являет миру акты самого отчаянного государственного стриптиза. Как мне уже приходилось писать, член президентской комиссии по борьбе с историческими фальсификациями, телеведущий Николай Сванидзе (а теперь, оказывается, ещё и сотрудник посольства России в Таллине) призвал Россию признать «советскую оккупацию» Прибалтики, которая давно уже превратилась не в историческую проблему, а в проблему государственной политики стран Прибалтики (а теперь, оказывается, ещё и Молдавии) против России, в предъявление современной России политических и материальных исков, вменения ей индивидуальной ответственности за общую историю СССР. МИД России прячется от истории своей страны, а её прибалтийские враги и её телевизионный патологоанатом невольно возвращают России ту полноту, на которую не хватает ума и совести её бюрократам.
Под российской «исторической политикой» есть только политика (и, может быть, мораль, как в случае с Катынью), но нет истории и науки, нет общества и интеллектуального консенсуса. Однако именно общество буквально навязало своему государству публичную, хоть и позорно непоследовательную, борьбу против реабилитации нацизма и коллаборационизма в Прибалтике, Молдавии и на Украине, заставило его бороться против бесправия соотечественников в Латвии и Эстонии. У этого общества, в отличие от бюрократов, нет дефицита в науке, патриотизме и чувстве ответственности, которые оно оплачивает не из бюджетных миллиардов, отпущенных на «конгрессы соотечественников», а из своих личных, неизбежно ничтожных средств. Оно, однако, не испытывает проблем с консенсусом о том, что хорошо и что плохо.
Кто, кого, какой ценой и во имя чего победил в самой страшной для нашей Родины войне? Что новый закон о соотечественниках скажет детям и внукам тех, кто отдал жизнь и кровь в той войне, но теперь не живёт в России? Предложит «подтвердить свою идентичность» очередному предателю из посольства?
Даже у российского общества, единым сердцем поднимающегося на каждый День Победы, нет ясного, непридуманного чувства преемственности: что именно мы продолжаем? Кто именно символизирует эту преемственность? Показательно, сколь быстро забылся в России, но сколь цепко помнится за её рубежами фальшивый «опрос» телепроекта «Имя России», где флеш-моб за флеш-мобом подсовывали пустому общественному сознанию в качестве символа страны то Сталина, то Столыпина, пока «лидером опроса» не стала политкорректная, но заведомо маргинальная для общенационального чувства фигура, которая сразу же исчезла даже из актуальной телекартинки.
Перед такой «политикой памяти» на Западе и Востоке — выстроенные ряды «исторических политик» старых и новых государств, среди которых практически нет тех, кто в XX и XXI веках сохранил бы свои границы в неприкосновенности. И агрессивный национализм — всё более востребованное орудие их государственной идентичности, направленной против России. Многонациональная же Россия остаётся во всё большем, растущем одиночестве, для которого разнообразие, вселенскость, историческая глубина и широта — единственный шанс не только на силу, но и на спасение.
Что же в ответ на «исторические» агрессии этнического национализма предлагает своему обществу российский тупой бюрократический национализм, в прямом противоречии Конституции России, тщащийся из плесени своего МГИМОшного образования вытащить произвольный список «исторически проживающих народов» России, чтобы отсекать и миловать, сводить историческую Россию до Смоленской площади, максимум — Садового кольца Москвы?
Мы, пока живы, не отступаем — чему свидетельством хотя бы многомиллионное «голосование ногами» в Россию всех, кого утомила нищета и межнациональная резня, хотя бы информационное доминирование России на постсоветском пространстве. Но в таком, пассивном несении своей прерывистой судьбы, Россия — лишь инерционное поле, борющееся за право голоса, а не народ, борющийся за свою правду.
Историческая Россия не стала меньше и теперь, когда бюрократия ушла от страны и уединилась со своими мундирными страданиями. Напротив, стала яснее общенациональная нужда в исторической совести и ответственности. И вовсе не МИДу и не президентскому Сванидзе придётся договариваться с этой нуждой в 2012 году, а тому, кто хочет быть вместе со своей историей, страной и народом.
REGNUM. 24 июля 2010
Пространство империи: мечты и практика
На моих глазах концепт империи пережил интересную эволюцию в том, как он принимается общественным сознанием, насколько он является легитимным и насколько не зазорно оперировать этим словом. В конце 1980-х годов только два маргинальных движения или, если угодно, два полюса интеллектуальной традиции позволяли себе спокойно оперировать термином «империя». С одной стороны, это те коммунисты, которые стремительно превращались в национал-большевиков устряловской традиции, противостоящих сепаратистским национал-коммунистам на окраинах, и которые оперировали словом «империя» для того, чтобы придать новое дыхание легитимности Советского Союза. С другой стороны, концептом империи, на моей памяти, пользовались представители немногочисленной, но художественно яркой традиции, восходящей к так называемой «русской партии» 1960–1970-х годов, которые к концу 1980-х уже окончательно проснулись монархистами. Для моей среды, для моего поколения оба эти варианта были неприемлемы. Во-первых, мы хорошо себе отдавали отчет в том, что устряловского типа легитимация власти большевиков была не результатом согласия или компромисса, а результатом спецоперации. Во-вторых, мы не могли быть в то время монархистами, потому что наше преобладающее настроение тогда можно было описать словами одного из моих тогдашних героев — Сергея Николаевича Булгакова, который в своих воспоминаниях о 1905 годе писал (в 1905 году он ещё был красный), что он «гнушался самодержавием». Я тогда точно так же гнушался Горбачевым и коммунистической властью, у меня не было другого отношения к ним, кроме отвращения. Нужно было иметь очень большой стратегически отвлечённый исторический взгляд на события, чтобы быть тогда сторонником диктатуры, монархического принципа. Чтобы, имея перед глазами крах партийной диктатуры, говорить о том, что возможна иная полноценная православная конституционная или какая угодно монархия. Идти против течения — всегда удел немногих. Против течения я тогда не шёл.
Надо было бы — и пошёл, не проблема, но преобладающее настроение было другим. И когда в 1993–1994 годах уже отставник из первого призыва правящих демократов Олег Румянцев, который прославился участием в конституционной комиссии РСФСР, вместе с кругом своих конфидентов организовал и провёл несколько публичных кампаний в пользу создания Византийского союза с опорой на греко-славянское наследие и культурноисторический византизм (Греция, Болгария, Югославия, Россия, Украина), это выглядело совершенно отчаянной архаикой. Тренд того времени уже был абсолютно национал-коммунистический, этнократический, и главное содержание империи как концепта едва только приходило на язык. Потребовалось 10 лет исследовательских и риторических усилий, в том числе с помощью западной историографии, чтобы уяснить себе безоценочный, сухой остаток того, что можно понимать под империей. Империей — как многоконфессиональным, многонациональным, континентальным или колониальным единством, которое позволяет содержать в государственном целом разные уровни общественного развития и даже разные системы власти за счёт мягкой, построенной на шарнирной связи системы кооптации национальных традиций и национальных элит либо под Белого царя, либо под викторианскую монархию — не важно. Эта идеальная схема империи как многонационального единства в условиях России 1990-х годов, конечно, была трудно представима, потому что мейнстримом того времени на постсоветском и посткоммунистическом пространстве всё ещё оставался процесс национального, а чаще всего — националистического, этнократического строительства. В 1993 году, как вы помните, раскололась Чехословакия, и раскололась как раз по этническому принципу. Не было ни одной посткоммунистической страны, за исключением России, которая не выбрасывала бы свое имперское наследие на помойку, а метастазы этнического дробления в России были так велики, что незазорно было, как вы помните, даже заключать федеративный договор с титульными автономиями и, заключая этот федеративный договор, игнорировать русские субъекты федерации.
Много в тогдашней жизни было таких «интересных» событий, но очевиден тот факт, что отражение мучительного усилия сохранения пусть даже федеративного единства в России никак не касалось преобладающей реальности. Наверное, это особый предмет для очень интересного исследования, но это было абсолютное желание Мюнхгаузена вытащить себя из болота за волосы. Это категорически противоречило второму изданию вильсоновского устройства мира с национальными государствами. Это категорически противоречило и риторике деколонизации того времени, и созданию новых независимых государств, в которых независимость в первом приближении была независимостью от советской империи, а под этой упаковкой это была свобода от интернациональных стандартов свободы и культуры, это была свобода от XX века, это было возвращение в XIX век с его протекционизмом, милитаризмом и национализмом. И это возвращение до сих пор неостановимо продолжается.
На днях при новом чтении только что изданного мной исследования сербского автора я обратил внимание на то, что пару лет назад не заметил, — что сербский автор, который написал хорошую книжку о концлагерях для политически неблагонадёжных лиц в Югославии в начале 1920-х годов, как-то через запятую, походя, как нечто консенсуальное упомянул о том, что сам по себе проект Югославии был мучительным усилием сохранить имперское наследие. Понятно, что в случае с Югославией мы имеем в виду производные от австровенгерского и от османского наследия и что Югославия, наверное, была «локальной империей». Тем не менее, в статье этого вполне западного, но православного человека слова «имперское наследие» прозвучали не как что-то, что нужно преодолеть, а как та формула пусть упущенной, но возможности, пусть посрамлённой, но жизнеспособной, не абстрактной, не теоретической, а явленной в истории и в жизни альтернативы.
Одним словом, империя побеждает, и не только маргинальные русофилы-финны, или русофилы-болгары, или чуть-чуть менее маргинальные, но тоже находящиеся в заведомом меньшинстве в своей стране русофилы-сербы, не только всё множащиеся среди русских конфидентов поляки, но и многие другие на постсоветском пространстве уже говорят об империи как о том, чего не стыдно, как о том, что имело много плюсов. 20 лет национализма позади, и впереди — ещё 200 лет такого же национализма (для тех, кто выживет) и, конечно, неутешительная перспектива для тех, кто сам ещё 20 лет назад покрывал здания русских школ бранными надписями типа «Оккупанты, домой!», «Чемодан, вокзал, Россия». Это пережито, о чём свидетельствует, например, тот факт, что произошедшая этим летом в Армении истерика по поводу законодательного создания там иноязычных, в том числе и русских, школ стала возможной только благодаря тому, что была поддержана властью, а в обществе это не вызвало широкого отклика, при том что Армения — моноэтническая страна, где нет русских как общественно-политического фактора. Осознание русскоязычного пространства и для Польши, и для Литвы, и для Армении становится уже очевидным признанием собственной свободы, собственных возможностей, собственных дополнительных дарований на рынке труда — это уже факт, и это не вызывает ощущения чего-то очень архаического.
Одновременно с этим, как практик в этой риторической среде, могу сказать, что на сопредельных территориях, большинство из которых несёт в себе исторический опыт конкурирующих империй (российской, германской, австро-венгерской, османской, персидской или таких квазиимперий, как Речь Посполитая и Югославия) этот имперский опыт обнаруживается и признается. Даже поляки, у которых раньше это считалось невыгодным и маргинальным, в фанаберии своего миссионерства не стыдятся вспоминать об имперском по своей сути проекте Пилсудского «Междуморья» от Балтики до Адриатики. Так вот, по мере того как признание имперского опыта как позитивного, как того, что надо, как минимум, исследовать и отчасти ретранслировать, пусть даже в «снятом виде», риторика имперского наследия в России исчезает и выдыхается. В 1990-е годы и в начале 2000-х эта риторика в массе нашей номенклатуры или профессиональных политических риторов звучала как очередное, второе или третье, издание позднесоветского «национал-большевизма», как попытка придумать себе новое оправдание, найти новую легитимность. Понятно, что тогда это была чистая риторика и чистое пустословие и никто в реальности не беспокоился о насыщении имперского опыта теми инструментами и механизмами, которые позволили бы империи быть империей, а не Российской Федерацией — «дойной коровой» для её отделившихся окраин.
В тех условиях, под сурдинку разговоров о едином наследии и при льготных ценах на энергоресурсы, на транзит, при абсолютно беспечной миграционной политике и так далее, все в новых независимых государствах делалось за счёт России и на 128 % воспитывало не проимперские или пророссийские, а совсем другие силы. Это были просто бесплатные и ничем встречно не обременённые субсидии сначала национал-коммунистам, а потом просто шовинистам, которые пришли к власти в сопредельных государствах. Никогда не забуду, как в 1999 или 2000 году тогдашний гендиректор Латвэнерго в кулуарах говорил мне, что без Чубайса не состоялась бы латвийская независимость. Я думаю, что любой из деятелей сопредельных государств мог бы сказать, что без нашей либеральной реформы, которая позволяла высасывать наши ресурсы, не беря на себя никаких встречных обязательств, не состоялась бы независимость даже «всемирно исторического нефтяного центра» в Азербайджане. Это понятно.
И вот по мере того, как бессодержательная, пустоголовая, пустословная риторика в России выдыхается и, по сути дела, не перехватывается никаким из критически или ответственно мыслящих сообществ, квазиимперская или посткоммунистическая риторика в сопредельных государствах набирает обороты. При том что германофобия или русофобия там не уменьшаются. Но совершенно комильфо, тем не менее, стало рассуждать или издавать книги, делать кино или мультфильмы, скажем, о немецком слое наследия, о немецкоязычной культуре, о турецкой метрополии, об их слоях культуры, которые воспроизводились и воспроизводятся в этих постимперских национальных государствах. Мне кажется, что это растущее спокойное отношение к имперскому наследию в сопредельных государствах стало возможным не только из-за того, что они пресытились своим этническим национализмом, а потому что они в определенный момент, несмотря ни на какую риторику и ни на какие страхи, хором, одновременно поверили, что «медведь умер» и империи больше не будет. Они поверили, что стало безопасно об этом говорить, что они кастрировали, например, германское имперское начало за счёт Европейского союза, где самые маргинальные национальные элиты говорят представителям старой Европы, своим донорам: «Нет, постойте, нет, позвольте!» (может быть, говорят благодаря принципу консенсуса в принятии решений в НАТО и т. д.). Понятно, что это риторика. Понятно, что в реальной жизни под столом и в соседних кабинетах выкручивают им руки и не только руки, но и головы откручивают. Но процедурная сторона блокирования старых европейских демократий в евроатлантических форматах, безусловно, порождает ощущение того, что империя не страшна. И растущие проблемы американской империи, о которых не говорит сегодня только ленивый, лишь укрепляют желание «поприсутствовать с красным знаменем в начале первомайской демонстрации». То, что крах иракского и афганского проектов США будет завтра и даже уже произошёл, — очевидно. То, что уход американцев и союзников из Ирака и Афганистана действительно, не на словах Бжезинского и не под контролем Госдепа, но уже не под контролем «вашингтонского обкома» породит проект «глобальных Балкан» от Косова до Синьцзяна, тоже никто не сомневается. Повторю, однако, что это будет «глобальное Косово» не под контролем Вашингтона, а против него.
Нам-то хорошо, что линия конфликтов, линия разломов, бахрома фрагментаций уходит подальше от нашей границы. Это благо. Если бы этого не произошло, этого надо было бы желать. И мы хотим этого. И нам это нужно. Но именно этот крах очередного имперского проекта, с одной стороны, и, с другой стороны, нарастающее давление пароксизмов национализма в строительстве сопредельных государств не оставляют нам никаких реальных шансов сейчас и здесь в сознательном, субъектном, персонализованном усилии перехватить имперскую инициативу. Субъект имперской инициативы отсутствует.
Не знаю, может быть, о том, насколько она нужна, эта инициатива, надо было бы поговорить отдельно, но, на мой взгляд, имперская инициатива или имперское государственное строительство как псевдоним или как другое название многонационального, многоконфессионального, полиисторического, поликультурного континентального образования — неизбежность. Либо Россия существует так, как она существует — в качестве империи или квазиимперии, — либо её не существует вообще. Другой России нет. Именно поэтому я с некоторым скептическим, как минимум, удивлением всегда смотрю на припадки русского этнического национализма здесь, в нашей стране, где главными рупорами русского этнического национализма выступают нацмены. Это очень смешно. Это просто безумное самоубийство.
Но почему возникает сам конфликт, сам разрыв между осознаваемой жизненностью имперского проекта и тем, что мы наблюдаем здесь? Впереди идёт нарастающее «первомайское шествие» национализмов и этнократий. Мы их не победим, их против нас создаёт наш враг, мы создаём их против нашего врага; в ответ на их линию сдерживания мы строим свою линию сдерживания, и это хорошо. Но в той части национальных политических или культурных элит новых независимых государств, где осознаётся их собственный богатый имперский опыт как участников империи, в обороте находятся только инерционные данные истории, а не новой, живой реальности.
В конце 2005 года, когда готовился очередной текст президентского послания, впервые прозвучала рабочая идея о том, как обозначить место России на бывшем советском пространстве. Надо было просто перечислить, что является факторами её особого положения здесь, если не прибегать к риторике и демагогии. Что тут лежит на поверхности? Это коммуникационный центр. Это ресурсный центр. Это всеподавляющий и находящийся вне какой бы то ни было конкуренции рынок труда, с которым никто не может сравниться. Сколько бы западных украинцев ни уехало в Польшу или евреев — в Израиль, пространство России всё равно будет вне конкуренции. Это естественное географическое или геоклиматическое пространство, в котором сопредельные новые независимые государства были образованы не в середине миграционных, исторических и культурных процессов, а на столкновении этих тектонических плит. Другими словами, они в любом случае дети так называемого «фронтира», они в любом случае объекты конкуренции нескольких исторических сил, потому что там, где существует одна всеподавляющая историческая сила, новые независимые государства по отношению к этому центру силы могут быть организованы только как Косово, то есть через конфликт, а не через естественное развитие.
Кстати сказать, моё внимание сегодня обратили на высказывание Мадлен Олбрайт, которая прибегла к новой риторической схеме по поводу того, почему Косово не прецедент. Если это правда, то это интересно. А излагаются её слова следующим образом: Косово не прецедент, потому что Косово — это не самоопределение народа (о чём так долго говорили американские и европейские большевики), а искусственно созданный ооновский мандат. Это «богатая мысль», с этим можно работать. По сути своей, это чисто колониальная схема, потому что подмандатные территории тоже имеют огромную (и колониальную для Запада) практику.
Но возвращаюсь к России, которая как естественный исторический, культурный, ресурсный, коммуникационный, рыночный центр постсоветского пространства к 2010 году оказалась без царя в голове, оказалась тем складом, куда заходит каждый и даже не боится кладовщика. И даже не должен подкупать его и водкой поить. Всякий к этому складу, к этой «стене плача», оснащённой миллионами розеток, может бесплатно подключиться и подзарядиться. Только это стена нашего плача.
Отсутствие субъектности России в управлении своим имперским наследием, своими имперскими по происхождению ресурсами не осознаётся не только здесь. Об этом можно говорить годами, и мы с коллегами говорим об этом и пять, и десять, и пятнадцать лет, и всё мимо. Но тот факт, что у России есть естественная не только культурно-историческая, но и ресурсная монополия и, самое главное, монополия на рынок труда, точно так же не осознаётся и в сопредельных государствах. Они уже готовы поиграть с имперским наследием, готовы торгануть своей национальной государственностью не как неразменным рублем, а как валютной ценностью. Меня поразила хорошая в целом книжка армянского автора Эдуарда Абрамяна о кавказских коллаборационистских батальонах Второй мировой войны, особенно заключение. Как известно, в рядах Советской армии воевали 400 тысяч армян, половина из них погибла, а вот в разного рода коллаборационистских формированиях их было всего несколько тысяч, то есть величина, которой можно пренебрегать. Так вот этот Эдуард Абрамян, завершая свою хорошую книжку про фашистские батальоны, пишет, что у армянского народа, дескать, такие выдающиеся человеческие достоинства, он настолько знаменит своей верностью долгу и хозяину, что он под любым знаменем, советским или гитлеровским, всегда был бы адекватно оценён. Чудовищно. Этой философии предательства я не понимаю по определению, но это принципиальная интеллектуальная сдвижка. Автору 26 лет, он русскоязычный, остепенённый, действительно передовой, и в нём особенно видна эта принципиальная перемена, суть которой в готовности ради сомнительного достоинства, легитимности своей продаваемой ценности пойти даже на сделку с дьяволом. «Нас даже Гитлер оценил!» — как бы говорит он. Боже мой, нашли чем гордиться! Это принципиально важная новация в отношении к имперскому наследию.
Происходит сложный процесс: идёт катастрофическое вымывание социально мобильных слоёв населения из сопредельных государств, кроме тех, кто естественным образом несёт в себе ещё некое криптоимперское наследие, как, например, Польша. Есть, как мне кажется, два типа развития социальной структуры общества. Один из бывших премьер-министров Молдавии делился со мной неутешительным наблюдением над социальной структурой молдавского общества. Если, говорил он мне, ещё недавно 60 % детей воспитывались бабушками, потому что все гастарбайтеры уехали и оставили детей в Молдавии, то в последнее время число детей, которых оставили с бабушками, стало резко сокращаться. И это, говорит, с точки зрения интересов семьи хорошо, но по сути своей это катастрофа, потому что родители забирают детей из страны туда, где они поселились, а для такой страны, как Молдавия, повышенная доля нетрудоспособных трудовых ресурсов — это признак деградации. Но это верно для Молдавии, а вот Польша — огромная страна, где из 40 миллионов населения трудовые ресурсы составляют всего 14 миллионов, и это большое общество может позволить себе иметь в социальной структуре населения большое число людей, которые прямо не стоят за станком. Мы, к счастью, тоже большое общество, мы тоже общество большого числа бездельников. Но для сопредельных «простых» государств, где растёт число бабушек, это признак деградации по молдавскому сценарию, а не признак существующей государственной силы, как в случае с Польшей. Для каждого, кто занимается практическими делами с сопредельными государствами, всегда существует такой момент холодного душа. Мы вдруг видим, насколько знающими, образованными, просвещёнными являются те деятели из национальных государств, которые действуют на пересечении интересов, живут на два или три дома, и насколько, напротив, низок уровень тех «интеллектуалов», которые остались жить на местах. От их деревенского, совершенно пещерного уровня просто шибает в нос. Чудовищная провинциализация, чудовищная деградация. Их интеллектуальная активность целиком укладывается в комиксы национального самоопределения, национальных мифов и т. д.
На примере нынешней Сербии я также убедился в том, что признание имперского наследия как качественного, диаметрально не только веку национализма — оно прямо противоположно мейнстриму того, что происходит с их собственными обществами. То есть, грубо говоря, признание имперского качества — это позиция последних римлян, а не аутентической национальной элиты. Когда я, будучи в октябре прошлого года в Белграде, купил партизанскую пилотку, мне мой сербский друг сказал: «Не вздумай надеть в городе, башку расшибут!» Для них партизанская пилотка — это уже зло. Так там всё изменилось. 85 % национальной интеллигенции — это идейные наследники тех, кто воевал против Тито. А мы к ним всё ещё лезем в своей дурацкой косоворотке! Как раз был туда визит Медведева, и власти обклеили Белград притворными плакатами о праздновании 65-летия освобождения города. Наверное, кого-то из наших дипломатических работников эта расклейка утешала, но мы-то знаем, что абсолютное большинство признаёт нелегитимность титовского освобождения, воевало против него. А мы всё из себя делаем непонимающую сторону. Имперское признание противостоит мейнстриму национального и государственного развития.
Тот же вышеупомянутый сербский исследователь с возмущением мне показал свежевышедшую рекламную книгу о Словении, где, в частности, прописано, что было хорошо в словенской национальной истории в 1940–1945 годы. Мы видим там ту же псевдоармянскую психологию: «75 тысяч наших словенцев, призванных в фашистскую армию, гитлеровцы высоко ценили». И в качестве легитимных, признаваемых государственной пропагандой там приведена полная гамма гитлеровских наград специально для словенцев. Это свершившийся факт. Самое интересное, что, когда я поделился этими сведениями с деятелем русской общины в Словении, он был удивлен и возмущен, потому что «их не предупредили о том, что ветер переменился». Они, очевидно, так и живут в этом обществе, играют на своих балалайках и не ставят перед собой настоящих задач.
Наше отношение к империи остаётся преобладающе балалаечным. Оно не соединяется с реальностью нашей естественной монополии на трудовые ресурсы, на рынок труда, ради чего они все неизбежно будут всасываться сюда. Оно не учитывает и не исследует то, что в сопредельных государствах даже те, кто говорит нам приятные слова о значении империи, не представляют консенсуса. По самым свежим качественным оценкам, борьба российских властей против Лукашенко удвоила позиции белорусских националистов, так называемых «литвинов»: если до этого они пользовались максимально уверенной поддержкой 15 %, то сейчас они легко могут рассчитывать на 30. Нам некому продать товар этой империи. У нас нет легитимного собеседника. И мы сами с собой, не давая адекватного, жёсткого, неприятного ответа на русский этнический национализм, здесь, в стеклянном доме, где мы живем, но бросаемся камнями, — мы делаем себя самих маргиналами, негодными собеседниками для этой имперской темы.
Как формируются идеалы молодежи на пространстве СНГ?
Уже 20 лет, как на пространстве бывших советских или коммунистических государств главным инструментом формирования мировоззрения младших поколений выступает школа. Очень быстро, ещё в 1991–1993 годах, национальная школа была оснащена всей необходимой гаммой учебников, которые возводят национальный миф как угодно далеко, а главное содержание национального мифа за последние 200–300 лет пребывания в российской и советской империи сводят к освобождению от русского империализма и русификации. Только в одном случае в национальном мифе распад Советского Союза не изображён как «вековая мечта трудящихся». Это в учебниках в Таджикистане. Там гражданская война началась в 1990 году. В их учебниках такое ощущение, что не было 1991 года, а все сломалось в 1990-м. Но это исключение.
Полное уничтожение русскоязычной школы никак не отразилось на русскоязычности или интегрированности в интернациональный контекст для правящих. Они все русскоязычные, прекрасно образованы и т. д. А демократическое большинство, это где-то 60–70 процентов, потому что в школу ходят далеко не все, остаются в плену национальной школы, на национальном языке, неизбежно примитивизированной и неизбежно действующей в черно-белой схеме. Демократическое большинство вообще лишено какой-либо альтернативы. Они просто борются за выживание, и те, кто в качестве гастарбайтеров оказывается в России, даже не имеют общего языка.
Существуют ли опыты самоосознания себя частью империй в позитивном ключе и с извлечением позитивных уроков со стороны бывших осколков империи?
Что касается примеров того, где и как имперская идея формулируется в положительном по отношении к России ключе, то, думаю, что это только в Приднестровье и в Южной Осетии. А реальный собеседник для нас в этом опыте — это те страны, которые сами осознают свой личный метропольный имперский опыт, — Польша и Турция. Но если турки ближе в осознании своего имперского опыта, то Польша разрывается между двумя полюсами национальной идентичности, представляя себя в качестве жертвы чужих империй и одновременно в качестве метрополии для своих окраин. По мере того, как в Польше будет набирать силу осознание своей ответственности за Кресы, нам будет легче с ними разговаривать. А до тех пор, пока они видят себя в качестве, прежде всего, жертвы русского этнического режима, хотя и называют его советским, мы с ними не договоримся.
Кого можно назвать наследником российского имперского наследия?
Россия обречена претендовать на преемственность по отношению к империи просто для того, чтобы сохранить всю целостность и многонациональность в единстве. Если Россия не будет апеллировать к имперскому наследию, она исчезнет просто в силу своей федеративности. Может ли кто-то из других частей империи претендовать на имперское наследие? Есть на Украине такой концепт, что Российская Империя возникла исключительно благодаря союзу Великороссии и Малороссии, но он не получил большого распространения. Пока Украина претендует на имперское наследие только из материальных соображений. Я думаю, что ждать там какого-то прояснения не стоит. Когда я говорил о том, что меньшинственный, окраинный пафос может объективно работать на восстановление идеи империи, я опирался на то, что от этнократии в наибольшей степени пострадали сами нации тех стран, где установились этнократические режимы. Не потому, что они не получили доступа к разделу пирога, а потому что этот раздел пирога оказался построенным по архаичному, феодальному принципу. Выхода из примитивного феодализма для них нет. Этнократия ограничивает не только социальную мобильность, но и достигнутый уровень интернационализации, которым пользуется бывшее имперское население.
Современная империя с её многоконфессиональным и полиэтническим единством может объединять несколько государств разного типа?
Разный уровень традиционного или культурного развития мы уже сейчас видим внутри самой Российской Федерации. Бессмысленно отрицать, что Чечня — это отдельное внутреннее царство. Или Мордовия.
Вы выступаете против этнического имперского стержневого начала. Тогда в чём этот стержень для России и её потенциальных действий по восстановлению империи сегодня?
Вплоть до переписи 1896 года определяющим в Российской Империи был всё-таки не этнический состав, а конфессиональный. Когда создавалась наша империя, она создавалась без этнического элемента, а, наоборот, с примесью всякого инонационального «прикомандированного» состава. Петр называл себя русским, но он называл себя русским менее всего по «пятому пункту» (о национальности в советской анкете о личных данных), а более как тот, кто несёт в себе миссию Руси.
Какова роль русских общин в соседних с нами теперь уже независимых государствах? Какими должны быть взаимоотношения России с русскими общинами за рубежом?
Попытки выстроить из русских общин за рубежом отдельные политические проекты провалились, на мой взгляд, в первую очередь потому, что для русских, в их реальности и сложности, русский этнический проект слишком тесен. Русские больше «пятого пункта», и там, где русскоязычность выступает способом политического формирования, как в Эстонии и в Латвии, это сдерживает их влияние до тех пор, пока остаётся только этническим. Как только это переходит грань защиты прав, свобод, равенства возможностей, когда это переходит за «пятый пункт», когда люди в Эстонии и Латвии борются не только за «пятый пункт», а за равенство «пятых пунктов», тогда это обретает силу. Русские движения и русские общества в сопредельных государствах подавлены, истреблены, подчинены гэбэшному контролю, куплены, вытоптаны, они не являются самостоятельными игроками за исключением Латвии и в меньшей степени Эстонии, но, может быть, они переформатируются в левые движения и тогда будет легче. Не знаю. Короче говоря, как только мы отойдём от балалаек, не уходя от языка и от единства исторической судьбы, мы достигнем большего.
Российская Федерация — это имперское многонациональное образование…
Постимперское. Для империи важно осознание своей имперскости, осознание своей судьбы. А Российская Федерация — это инерционная империя, не самосознающая себя. Создание федеральных округов как инструмента подведения субъектов федерации под конституцию, а не под федеративное соглашение — это была по своей сути имперская интенция, но на этом дело и остановилось. Инициатива Рамзана Кадырова переименовать президентов тоже находится в этом ряду, но этого явно недостаточно, это пока только бюрократические усилия, а наша русско-национально мыслящая публика мне слишком часто напоминает оркестр народных инструментов имени Осипова. Я сам в детстве играл на этой штуке.
Имперское действие, если оно вдруг возникнет для отформатирования внешнего пространства, должно будет заниматься форматированием внутреннего, тылового пространства?
Да. Возьмем единство исторической судьбы. Для нас консенсуальный, естественный антинацизм носит интернациональный характер. Как только мы начали серьёзно заниматься этим вопросом вовне, как тут же нашёлся Сванидзе. Это всегда двусторонняя вещь. Как только ты серьёзно начинаешь чем-то заниматься, обнаруживаешь, что у тебя в подкладке свой родной дьявол сидит.
В чём сущностная разница между империей и квазиимперией?
Думаю, что разница между империей и квазиимперией, или инерционной империей, состоит в том, что империя имеет свою осознаваемую, произносимую миссию и самосознающего субъекта имперскости. А квазиимперия — это раздаточная касса, корова на убиение. Пока она есть, все её едят, все делают ритуал имперского единства, едят одну корову. Вот они её съели, и имперское единство закончилось.
Я, наверное, всю жизнь буду находиться под впечатлением 1 декабря 1991 года. Референдум о независимости Украины. 91 % — за. И я убежден, что, если бы в силу каких-то обстоятельств тогда был бы проведён референдум о независимости моей родной Тульской области, наши туляки показали бы на нём 120 %. Это нерешённый вопрос для нашей нации, вопрос не отвеченный.
Поэтому я желаю этнократиям зла, чтоб они перепахались и сдохли. Но это интимно. А позитивно что? Таджики, безусловно, это — «фронтир», но «фронтир» — и греко-католики на Украине. Кто сейчас наибольшие враги России на пространстве бывшего СССР?.. Пока мы ничего не можем. Все продали и изнасиловали. Вся надежда на нас новых, больших, разнообразных, осознанных, понимающих своё консенсуальное единство — на то, что делает империю империей.
Доклад в Институте динамического консерватизма (Москва),29 сентября 2010
Восточная политика Польши и Россия: исторические пределы примирения
Адам Мицкевич о России
- Kraina pusta, biała i otwarta —
- Jak zgotowana do pisania karta
- (Страна пустая, белая и открытая —
- Как готовый к письму лист бумаги).
Польша — будущий (во втором полугодии 2011 года) председатель Европейского союза и признанный генератор Восточной политики ЕС, центром которой является программа ЕС «Восточное партнёрство», реализуемая в отношении Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Молдавии. Польша — и ЕС вместе с ней — заложник истории своей Восточной политики, в которой конфликтно соединяются роль Польши как цивилизованной жертвы варварской, старой и новой России — и имперская миссия Польши как бывшей метрополии для стран Восточной Европы и маяка национального освобождения для Кавказа и даже Туркестана. Если Польша останется эмоциональной и риторической жертвой имперской политики России/СССР (вернее — наследницей потерпевшего поражение националистического проекта Духиньского/Пилсудского), то она по-прежнему будет «вечным историческим противником» современной, многонациональной, постимперской России.
Если общество и власти Польши смогут не риторически, а критично обратиться к своему историческому опыту Речи Посполитой как многонациональной империи, то им не только удастся достичь подлинного примирения с современной Россией, но найти путь к историческому евразийскому партнёрству по проекту Дмовского/ Гедройца. Надо признать, что сегодня в повестке дня польско-российских отношений, несмотря на действительно важные действия Москвы по признанию ответственности Сталина за расстрел польских военных и чиновников в Катыни в 1940 году, преобладает Восточная политика «жертвы», которая требует справедливости. Но нет никаких свидетельств о том, что Польша готова признать свои традиционные двухсотлетние империалистические цели на Востоке и превратить эту традицию в основу для партнёрства. Варшава ведёт диалог, чтобы Россия покаялась за СССР, и не отказывается от своих традиционных целей на Востоке. Эта историческая и политическая инерция имеет двухсотлетнюю генетику, признание в польском обществе, богатую интеллектуальную родословную. Именно в этом русле лежит и рискует остаться сегодняшнее польско-российское примирение. И поэтому — не может быть полноценным примирением.
Сопредседатель российско-польской группы по сложным вопросам, экс-министр иностранных дел Польши, один из авторов русофобского обращения деятелей пост-коммунистической Европы к Бараку Обаме с призывом ужесточить политику США в отношении России (2009), Адам Ротфельд недавно признался: «Территориальные разделы Польши создали в мышлении поляков уверенность в том, что в вопросе дальнейшего существования решающую роль играет сила. А такой силой обладает Россия. Одновременно поляки испытывают по отношению к россиянам манию величия. Считают, что Польша принадлежит западному миру, вышла из греко-римско-иудео-христианской традиции». При этом после обретения Польшей независимости, по его мнению, поляки практически перестали говорить о немецких преступлениях, вместо этого начали говорить и писать исключительно о советских преступлениях.
Описывая царящий в польском общественном сознании устойчивый образ России как вечного исторического врага, авторитетный польский историк пишет сегодня: «В настоящее время в польской историографии больше места посвящается страданиям, преступлениям и преследованиям поляков советской властью, чем при немецкой оккупации». И отмечает, что в Польше непопулярен взгляд гуру русистики Анджея Валицкого, способный стать основой для подлинного примирения: «У нас нет ни конфликтов по поводу границ, ни проблем, связанных с русским меньшинством в Польше и польским в России… Если мы перестанем смотреть на Россию как на неизменного исторического врага, а на самих себя как на защитников Европы от якобы всё ещё актуальной угрозы со стороны России, то это немедленно увеличит значение и престиж Польши».[2]
Другой современный польский исследователь общественного мнения признаёт, что, кроме цивилизационного превосходства Европы — Польши над Россией — Азией, «для современной Польши важен также мотив страданий от угнетения России. Чем длиннее список перенесённых страданий, тем крепче основания, чтобы выразить моральное превосходство Польши в своих отношениях с Востоком и Западом».[3]
Современный немецкий исследователь пишет: «Чем бы ни определялись польско-советские отношения, коллективной памятью поляков они воспринимаются как непосредственное продолжение конфликтных польско-российских отношений. Это касается и тех преступлений, которые совершались против Польши преимущественно советским режимом и собственным коммунистическим правительством, а не Россией.
Преступления режима оказываются во всех отношениях под знаком национального толкования истории. Согласно такой оценке, например, глубоко укоренившийся в коллективной памяти поляков расстрел польских офицеров советским НКВД в 1940 году под Катынью вписывается в колею векового противостояния с Россией. Из-за непрерывности коллективного воспоминания именно это событие выступает выдающимся мученичеством польской нации в современной истории (…) что русский народ недостаточно покаялся за преступления в Катыни, как будто русские, убитые в немалом числе при Сталине, или советский режим не понесли ответственность за катынские убийства. С другой стороны, преступления, совершённые нацистами в Освенциме (хотя по количеству и значению они гораздо тяжелее Катыни), для поляков несут гораздо меньше национальной нагрузки, а потому и вспоминаются реже. Это, вероятно, происходит оттого, что жертвами индустриальных массовых преступлений пали не только и не столько поляки, а потому и воспоминание о них не может быть полностью полонизировано».[4]
В известных работах российско-польской группы по сложным вопросам, подготовивших «признание Катыни» и увенчавшихся пропагандистским проектом польского «Центра диалога» на территории России, этой идейной экспозиции, картины этого консенсуса и политической практики нет вовсе. Нет в них даже стыдливого признания того, что «сложные вопросы» — только вторичны, производны, ниже уровнем перед лицом глобальной проблемы исторического диалога и противоборства России и Польши, где есть обе проигравшие стороны и нет монопольной этнической жертвы. Вместо этого в трудах группы по сложным вопросам есть лишь исчерпывающий польский реестр исторических претензий к России, который так бесхарактерно легитимировал МИД России и приглашённые им специалисты.[5]
Тем временем внутренняя правда, историческая основа Восточной политики Польши таковы, что в отношениях с Россией польские власти и общество чаще всего прибегают к стыдливому умолчанию. Именно поэтому редко от кого, рассказывающего от Восточной политике ЕС (Польши), можно узнать о том, что в её историческом генезисе и заявление одного из лидеров «Солидарности» на её первом съезде в сентябре 1981 г., что «кремлёвские куранты сыграют «Мазурку Домбровского»»[6] (национальный гимн Польши), что равносильно прямой декларации о том, что уже политическое и национальное освобождение неразрывно связывалось с миссионерским империализмом на Востоке. Не секрет, что это национальное освобождение, начиная с XIX века, всегда было не характерным для того времени национальным воссоединением, как у немцев и итальянцев, а неизменной борьбой за восстановление Речи Посполитой в имперских границах 1772 года, разделённых Пруссией, Австрией и Россией. Это была борьба не за национальное государство, а борьба бывшей метрополии за свои некогда присоединённые и колонизованные окраины, националистически отрицавшая этнические права её Восточных Кресов (этнографических Литвы, Белоруссии, Украины и даже Бессарабии).
Выбор между узко-национальным и имперским сценариями развития Польше до сего дня составляет не музейный, исследовательский, а самый живой общественный интерес. В этом — сила и разнообразие польской «исторической политики», в этом — и актуальная практика, корень недавних уличных конфликтов в Польше[7] между историческими поклонниками националиста, склонного к имперскому союзу с Россией, Романа Дмовского и империалиста Юзефа Пилсудского, выступавшего националистическим противником России.
Великое княжество Литовское и Польша, объединившиеся в Речь Посполиту, в XV–XVII веках были успешными конкурентами Москвы по разделу и консолидации древнерусской этнографической, культурно-языковой и конфессиональной территории, но в XVIII веке они проиграли России эту борьбу. Разделы Речи Посполитой (не собственно Польши, а её имперского тела, включая Литву) в конце XVIII века — в первой половине XIX (до 1863 года) создали в составе Российской империи Александра I и даже Николая I не просто Царство Польское, а полноценную «внутреннюю империю», располагавшую армией в половину российского дворянства и продолжавшую беспрепятственную культурную, языковую и конфессиональную экспансию на Восточные Кресы — уже в составе России. И впоследствии, даже потерпев поражение в борьбе за независимость, польская политическая мысль основывалась на консенсусе о возвращении к границам 1772 года. При этом социальная демократизация Кресов понималась как их полонизация: «лишь немногие выдвигали программу автономии и культурно-языкового развития украинских, белорусских и литовских земель».[8] В отличие от представителей русской революционной эмиграции, в польской только «очень немногие деятели допускали возможность обретения собственной национальной государственности украинцами, белорусами и литовцами».[9] Когда в начале XX века воюющая с Россией Япония ради подрыва тыла противника начала финансировать революционные и националистические силы, польский социалист Юзеф Пилсудский предложил японскому правительству использовать для этого нерусские народы в составе России от Балтики до Кавказа и Туркестана, указывая на обоснованное лидерство поляков в этом проекте.
После обретения Польшей независимости в ноябре 1918 года, уже в феврале 1919 года государственной задачей для её власти стало завоевание бывших Кресов — Литвы, Белоруссии и Украины. Самый авторитетный российский полонист, пользующийся заслуженным признанием и в Польше, анализируя мотивы такой политики, обращает внимание на то, что даже в ныне действующем историческом пособии для современной польской армии, утверждённом Министерством обороны Польши, идеология такой экспансии предстаёт естественной и легитимной. В пособии говорится: «Для Пилсудского важнейшей проблемой оставалось решение вопроса о восточной границе. Он считал (оказалось, что это был правильный взгляд), что эти границы можно установить только с помощью оружия». И далее о военных задачах новой Польши в изложении её Министерства обороны: «Оторвать от России те народы, которые, желая создать независимые государства, соглашались на федеративную связь с Польшей. Возрождённая после 123 лет неволи, Польша стремилась включить в состав своего государства значительные территории восточных окраин, принадлежавших ей до 1772 года. Второстепенным был вопрос о том, как это сделать: в соответствии с инкорпорационной политикой Дмовского или федерационной Пилсудского. Цель Польши состояла в отторжении от России части бывших польских земель и ослаблении таким путём этого государства».[10]
В 1920–1930-е годы в Польше было окончательно сформулирован выбор из внешнеполитических стратегий: на смену антинемецкой «Пястовской идее» «возвращённых земель» к западу от польской метрополии пришла наследующая Речи Посполитой «Ягеллонская идея» — экспансия на восток — в Литву, Белоруссию и на Украину — и построение вокруг Польши империи, главным противником которой выступает историческая Россия, а главным призом в борьбе против неё — её окраины и даже часть метрополии на Юге, в Поволжье и на Урале. Если в политической мысли в Польше собственная страна (проект страны) воспринималась в XIX–XX веках (до 1939 года) как единственное крупное на Востоке средостение между Россией и Германией, то и «Ягеллонская идея» логично превращалась не только в формулу экспансии на Восток, но и в интеллектуальную почву для борьбы за новую «внутреннюю империю» — объединение под руководством Польши Пилсудского стран Центральной и Восточной Европы — в Intermari (Międzymorze — Междуморье) федерацию/ конфедерацию стран Европы от Балтики до Балкан и Адриатики. Естественным продолжением проекта этого Междуморья на Восток и практическим инструментом борьбы Польши против исторической России в лице СССР в 1930-е годы стал «прометеизм» — по форме антиимпериалистический проект разрушения СССР с помощью максимального числа националистических и радикально-националистических движений на Украине, Кавказе, Волге, в Туркестане и Сибири. Но по сути это был проект динамической империи на развалинах СССР под лидерством Польши. Вот что говорилось в документе польского Генштаба о задачах «Прометея» в 1937 году: «Прометеизм является движением всех без исключения народов, угнетаемых Россией… чтобы вызвать национальную революцию на территории СССР… «Прометей» мобилизует членов по собственной воле и под собственную ответственность, не беря на себя никаких политических обязательств по отношению к национальным центрам. «Прометей» должен иметь право проявлять национальный радикализм для того, чтобы самым эффективным образом создать революционную динамику. Радикально-национальные тенденции не должны ему ставиться в вину и не должны неправильно расцениваться как фашистские.».[11]
Послевоенный мир, прошедшее без особенного пафоса примирение Польши и Германии, создание и расширение Европейского союза лишили предмета польский проект Междуморья, который уступил свою нормативнориторическую функцию более рыхлому концепту «Центральной (Центрально-Восточной) Европы», восходящего к германской традиции Mitteleuropa (Срединной Европы). Исследование показывает, что к середине 1990-х годов этот концепт вытеснил в западной литературе прежде преобладавшую «Восточную Европу». Точно так же, как турецкое понятие «Южного Кавказа» имело целью вытеснить из языковой и политической практики «империалистическое» Закавказье, «Центральная Европа» немедленно стала полем для интеллектуального подкупа, например, политического класса Украины, которому — в противоречие с историей и географией — обещалась (и обещается доныне) некая генетическая «европейскость». Стоит ли удивляться, что уверенней всего этот новый инструмент отнесения к «Центральной Европе» используется властями Польши для формулирования современного образа своей Восточной политики, адресованного своим Кресам — Литве, Белоруссии, Украине, Бессарабии.[12]
После свержения коммунистического режима в Польше в 1989 году концентрация её общества и власти на «ягеллонской модели» Восточной политики была целиком подчинена традиционным задачам противостояния России и новым целям эксплуатации наследия распада СССР — и присвоении себе особой роли «адвоката» и лидера новых независимых государств Восточной Европы перед лицом Запада. Очевидные корни такой политической линии лежат не только в наследии Пилсудского, но и в революционной по откровенности политической философии Ежи Гедройца и его журнала «Культура». В 1970-е годы Гедройц и Юлиуш Мерошевски в «Культуре» вполне «прометеевски» призвали поляков к отказу от империалистических притязаний на Украину, Литву, Белоруссию (сокращённо: ULB, УЛБ), к признанию их прав на независимость (сначала от СССР, и лишь затем, вероятно, от Польши), но опять же в качестве «ведомых», младших партнёров. Юлиуш Мерошевски писал о «проблеме УЛБ»: «Территория УЛБ определяла саму форму польско-российских отношений, обрекая нас либо на империалистическую политику, либо на роль страны-сателлита. Было бы безумием надеяться, что Польша может исправить свои отношения с Россией, признав проблемы УЛБ внутригосударственными проблемами России. Соперничество между Польшей и Россией на этих территориях всегда имело целью установить превосходство, а не добрососедские польско-российские отношения».
Современный белорусский автор видит центр этой философии не в её историческом великодушии, а в откровенных признаниях, которые, если следовать пафосу журнала «Культура», и непосредственно перед антикоммунистическим переворотом в Польше составляли предмет консенсуса для польского политического класса: «патриарх польской эмигрантской политической мысли Юлиуш Мирошевский… отмечал, что «ягеллонская идея» только для поляков не имела ничего общего с империализмом, однако для литовцев, украинцев и белорусов она представляла собой чистейшую форму традиционного польского империализма. «В Восточной Европе — если на этих землях когда-то воцарится не только мир, но и свобода — нет места никакому империализму: ни русскому, ни польскому. Мы не можем горланить, что русские должны отдать украинцам Киев, и требовать в то же время, чтобы Львов вернули Польше. Это та самая «двойная бухгалтерия», которая в прошлом делала невозможным преодоление барьера исторического недоверия между Польшей и Россией. Русские подозревали, что мы антиимпериалисты только по отношению к русским — это значит, что мы желаем, чтобы место русского империализма занял польский. Мы ведем себя как шляхтич, потерявший свое имение».».[13]
Несомненно, что в сердцевине «нового взгляда» Гедройца и его единомышленников на задачи Восточной политики Польши оставалась незыблемой — лишь косметически и риторически модернизированная — «Ягеллонская идея» польского миссионерства и империалистического лидерства на Востоке. По точным словам специалиста, «теперь главная цель Польши — независимость региона ULB от России. Залогом же этого считается становление полноценного польского влияния на этих территориях, что легко реанимирует при необходимости и «благородную ягеллонскую идею», от которой доктрина как бы призывает отречься. Отношения с Россией Польша по-прежнему воспринимает как «борьбу за лидерство на Востоке».[14] Как свидетельствует современный учёный, в 1980-е годы в рядах политической оппозиции в Польше этот взгляд получил аутентичное развитие: «В ряде случаев авторы концепций готовили общество к восприятию идеи появления в регионе каких-либо федеративных образований. В восточно-европейское объединение, в зависимости от предлагавшихся форм интеграции, должны были войти различные страны и народы, но в качестве потенциальных союзников Польши во всех предложениях оппозиции фигурировали Украина, Белоруссия и Литва».[15]
И всё же — суровая откровенность, привнесённая Гедройцем и Мирошевским в польский взгляд на Восток, предложенная ими замена пилсудского hard power на индивидуальную soft power на Кресах, в современных условиях ставшую soft power от имени Европейского союза — и на Кресах, и на Кавказе — заслуживает особого внимания. Понятно, что на Кавказе польский мессианизм не пойдет далее риторических жестов. Такова уж суровая реальность нашего Закавказья. Но растущий гуманитарный конфликт Польши с Литвой (в котором проблема прав польского меньшинства в Виленском крае часто закрывает историческую пропасть, лежащую между польским антинацизмом и литовским коллаборационизмом), прогрессирующий паралич Украины и наступающий обвал Белоруссии — делают взаимную soft power Польши и России справедливой и рациональной.
Но правящая в современной Польше политическая традиция остаётся и верным учеником, и не менее верным пленником антирусского национализма, находящего один из источников своей идентичности в образе поляков — прометеев, конфедератов, империалистов, исторических конкурентов России, — в образе этнической жертвы, которая может от России только требовать и требовать, никогда не делясь исторической ответственностью. Практический исследователь современного общественного мнения Польши подводит итог: «Польша считает, что Россия всё ещё недостаточно «покаялась» в причинённых Польше за всю историю своего существования злодеяниях. Причём российское «покаяние» на общественном уровне полякам не интересно, им нужно покаяние официальное, из которого могут быть извлечены политически-правовые и экономические следствия».[16] Требование политически-правовых и особенно экономических следствий для России того, что Россия уже признала ответственность Сталина за Катынь — признак не только направленности общественного мнения, но и точная формула того, к чему — при любых официозных празднествах примирения! — ведёт «историческая политика» действующих в Польше властей.
Известно, что историки традиционно играют в польской политике — и особенно в её внешнеполитической части — значительную роль. Но часто упускается из виду, что именно доминирует в сознании этих историков и какой они видят свою историческую миссию в отношении России. Действующий президент Польши Бронислав Коморовски, видимо готовясь к историческому примирению, не скрывает того, что вошло в плоть и кровь его политической философии: Украина — утраченное наследие Польши-как-Европы, а Россия — принципиально инородное тело не только для Европы, но и для Украины. Вот что он говорит: «Украина не хочет быть поставлена перед выбором: быть с Западом или с Россией. Киев придерживается позиции, что можно быть и с тем и с другим. Однако придёт время, когда Украина будет вынуждена выбрать». Не случайно эта позиция президента и историка Коморовского так тесно связана с его особым цивилизаторским мессианизмом в отношении России. Именно поэтому Коморовски недавно скандально — но вполне предсказуемо — заявил, что визит премьера России Владимира Путина на церемонию, посвящённую 70-летию со дня начала Второй мировой войны в Вестерплатте (1 сентября 2009 года), «имеет большое значение с точки зрения польской исторической чувствительности. Русские, таким образом, признали, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с Польши, а не 22 июня 1941 года». Для русского исторического сознания очевидно, что, выступив с таким заявлением, президент Польши пал жертвой собственного либо крайнего политического высокомерия, либо самого примитивного невежества. Ведь никогда в истории — ни в СССР, ни в современной России — никем не говорилось, что Вторая мировая война якобы началась 22 июня 1941, в день нападения Германии на СССР. 22 июня 1941 — принимая во внимание его фундаментальное значение для российский идентичности и смысл общегосударственного траура — считалось и считается днём начала собственной, советской, личной для большинства Великой Отечественной войны — но лишь части Второй мировой. Это азбучная, школьная истина. Предполагать, что Россия так же настолько больна солипсизмом, чтобы приравнивать начало мировой войны к началу войны против России, — это значит опозориться на самом ровном месте, говоря самые правильные слова о примирении. Похоже, до сих пор для Польши это примирение с Россией «эмоционально» хочется представить как примирение цивилизатора с варваром.
В течение 2005–2009 гг. представители Польши неоднократно неофициально заверяли представителей России, что признание ответственности СССР за Катынь не будет иметь никаких практических следствий для России — и останется сугубо моральным актом. Но в октябре 2010 года — после того, как Польша получила окончательные и однозначные заверения от России, что Москва приняла польскую повестку дня в «сложных вопросах» совместной истории, первостепенном значении истории для двусторонних отношений — и «признала Катынь» — польское правительство поддержало иск своих граждан против России по Катынскому делу.[17] Перед лицом такой перспективы становятся всё более понятными цели и границы «исторического примирения», на которые пошла Польша в отношении России. Трудно, но хочется надеяться, чтобы их понимали и в тех властных кругах России, для которых такое примирение стало сферой их государственной и политической ответственности. И не строили иллюзий.
Польша — давний, генетически близкий, исторически ангажированный, интеллектуально активный конкурент и собеседник России. И не бюрократической, априори компромиссной, исторически невежественной русской дипломатии справиться с ним. Ведь задача — не только выдержать конкурентную борьбу, но и породить исторически обоснованный и экономически беспрецедентный союз России с Польшей, внутри которого и будет найдено общее политическое решение для Восточной Европы, Восточных Кресов и исторической Западной Руси. Реальность, исторический опыт и преобладающая миссионерская интуиция Восточной политики, опыт многонациональной Речи Посполитой (империи) — единственный стабильный фундамент для диалога Польши с многонациональной, неэтнической Россией (империей). Диалог этих двух имперских опытов, их равная «постимперскость» — настоящая основа для исторического примирения.
Доклад на международной конференции «Председательство Польши в ЕС и перспективы Восточной политики ЕС», Санкт-Петербург, 26 ноября 2010
Предвыборная «десталинизация» — невежество, инквизиция и гражданская война
Члены Совета при Президенте РФ Дмитрии Медведеве по развитию гражданского общества и правам человека во главе с Михаилом Федотовым абсолютным большинством публично, коллективно и индивидуально солидаризировались с трудами своей Рабочей группы по исторической памяти во главе с Сергеем Карагановым, сочинившей «общенациональную государственно-общественную программу» «Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении».
Полномочия этой кулуарной и клановой группы по сочинению чего бы то ни было общенационального и общественного крайне сомнительны, поэтому рассматриваться может не её творческая самодеятельность, а её претензии на государственный статус и, следовательно, её государственная обязательность и государственная ответственность тех, кто намерен её утвердить и реализовать.
Несмотря на многократно произнесённые критиками программы обоснованные суждения о том, что такая программа «детоталитаризации» (ранее и до сих пор часто самими членами Совета называемой «десталинизацией»), почему-то претендующая на установление «гражданского примирения», в случае её утверждения станет очевидным актом гражданской войны, авторы программы так и не объяснились по существу. Они выступили с серией агрессивных, конфликтных и даже уголовных по лексике заявлений в защиту своей программы. Но так и не сказали, почему нынешний — при всех сложностях — гражданский мир и общенациональный консенсус вокруг, например, Великой Победы они считают «продолжающейся гражданской войной», которую они хотят «умиротворить» путём сведения счётов и едва ли не «люстрации». Причём «умиротворить» с одной, преобладающе однопартийной точки зрения, которая во многих своих пунктах совпадает с государственной националистической и этнократической пропагандой в странах Восточной Европы, теорией «оккупации» и «организованного СССР геноцида», которые на практике становятся прямым инструментом русофобии и нового апартеида.
Я — историк (историки сталинизма не могут не знать аннотированного каталога документов ««Особая папка» Л. П. Берии: Из материалов Секретариата НКВД — МВД СССР 1946–1949 гг.», ответственным составителем которого я стал в годы работы во главе отдела изучения и публикации документов Государственного архива Российской Федерации, когда шла известная обществу «архивная революция», связанная с массовым рассекречиванием документов по истории СССР) и практик информационной работы. Потому я привык с особым вниманием относиться к точности формулировок, особенно если они претендуют на государственный регулятивный статус или мимикрируют под «последнее слово исторической науки».
Смешно говорить о рациональности любой программы, о готовности её авторов и утвердителей нести ответственность за последствия её реализации во внутри- и внешнеполитической сфере, если программа построена на фальшивых, произвольных, невнятных и истерически неадекватных понятиях. Мстительное, травматическое, невежественное, лоббистское самовозбуждение писателя, общественная трусость голосователя не могут быть фундаментом для «общенациональной государственно-общественной программы».
Поэтому я хотел бы, чтобы члены Совета, прежде чем бить в бубен партийной пропаганды и апеллировать к государственным мерам воздействия, претендуя встать у руля «антисталинской» инквизиции, — каждый, как минимум, себе самому и желательно — подопытному обществу — ответили на главные вопросы, на которые их программа, в потоке демагогии в духе «Вся Россия — Катынь», так и не нашла что ответить. Если эта программа намерена препарировать, то есть «модернизировать сознание» страны, судить, строить, наказывать и распределять, то её авторы должны определённо заявить, из каких принципов они исходят и почему не распространяют их на самих себя.
Вот на что они должны ответить, утверждая, что «с принятием данной программы антитоталитаризм становится частью официальной политики России» (приложение 8):
1) «Сокрытие правды о прошлом лишает нас.» и т. п. (преамбула).
— Что такое «правда о прошлом»: «единственно верная» её интерпретация, свободное исследование, разнообразие взглядов, консенсус вокруг основных принципов идентичности? Кто именно и как сейчас «скрывает правду»? Где, кто и что скрыл от авторов программы?
2) «Одним из важнейших путей преодоления взаимного отчуждения народа и элиты является полное признание российской катастрофы XX века, жертв и последствий тоталитарного режима, правившего на территории СССР на протяжении большей части этого века» (преамбула), «модернизация сознания российского общества через признание трагедии народа времен тоталитарного режима» (цели программы).
— Кто определил эту «элиту»? Каковы хронологические рамки этого «тоталитарного режима»? Относятся ли к его периоду годы власти Ленина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Горбачёва, только что награждённого высшей государственной наградой РФ? В науке нет и не может быть общепризнанных датировок и периодизации «тоталитарного режима» в СССР. Относится ли к «истории СССР» история РСФСР 19 171 922 гг.? Кто и исходя из каких симпатий будет определять от имени государства эти хронологические рамки? Жертвы чьих режимов и каких властителей «важнее» для программы?
3) «…с главным акцентом не на обвинении тех из наших предков, кто творил геноцид, разрушение веры и морали» (цели программы).
— Кто именно в СССР стал жертвой геноцида и, соответственно, кто вёл в СССР уничтожение по этническому принципу? Кто конкретно «разрушал веру и мораль», а кто лишь занимался атеистической пропагандой и порнографическим искусством?
4) «…установка памятников жертвам тоталитаризма в городах и в местах их захоронений» (цели программы).
— Значит ли это, что жертвами тоталитаризма являются только погибшие? Как отличить жертв тоталитаризма от всех погибших в том числе погибших в войнах, которые вёл СССР, расстрелянных за военные преступления и сотрудничество с Гитлером и другими агрессорами? (приложение 1: Необходимо заключить многосторонние межгосударственные соглашения со странами СНГ и Балтии и, возможно, с бывшими соц-странами об их участии в работе по созданию ЕБД «Жертвы тоталитарного режима в СССР и в странах бывшего соцлагеря».)».
5) «…уже одно это дополнительно повысит моральнополитический авторитет нынешнего руководства страны» (цели программы).
— Почему целью «общенациональной государственно-общественной программы» должно быть повышение авторитета НЫНЕШНЕГО руководства страны?
6) «Возможные издержки от осуществления этой программы можно с лихвой компенсировать обращением к лучшему.» и т. п. (цели программы).
— Каковы и как измеряются эти издержки, как их можно компенсировать «обращением к лучшему»?
7) «Российская идентичность должна, наконец, основываться на том, что, мы страна и народ. Жукова, Королёва, Сахарова, наконец, Екатерины II, Александра II.» (цели программы).
— Как авторы программы, призванной вызвать любовь к России, например, в Польше, участие в разделе которой Россия приняла под руководством Екатерины II, а борьба за независимость которой была подавлена Александром II, намерены пропагандировать их своим коллегам? Как отделить тоталитарный и сталинский режим от его действительно великих деятелей Жукова, Королёва, Сахарова?
8) «Вся Европа виновна в двух мировых войнах.» (конкретные направления программы).
— В чём вина СССР как неотъемлемой части европейской политики XX века (и отсутствие этой вины, например, у США) за развязывание Второй мировой войны?
9) «создать современные курсы отечественной истории для средней школы, свободные от старых и новых мифологем сочетающие. изложения с отчётливой нравственной, правовой, гражданской и политической оценкой событий».
— Кто в здравом уме возьмёт на себя ответственность определять отсутствие «мифологем» в практике общественного сознания, если они абсолютно неизбежны для любых его проявлений? Не является ли эта претензия новым изданием коммунистических амбиций на «истинно научное знание»? Не являются ли новым изданием тоталитарной коммунистической идеократии претензии авторов программы на определение и установление обязательных «нравственно-политических оценок»? Каких можно ожидать от них «политических оценок», например, Владимиру Красное Солнышко? Или ставшему в старости сталинистом Владимиру Вернадскому?
10) «Наиболее адекватным представляется путь судебной оценки, при котором каждый нормативно-правовой акт, изданный в условиях тоталитарного режима, может быть обжалован любым заинтересованным лицом, с целью признания его недействующим полностью или частично со дня его принятия или иного указанного судом времени. В свою очередь, решение суда о признании нормативного правового акта недействующим влечёт за собой утрату силы не только этого нормативного правового акта, но и других, основанных на нём нормативных правовых актов» (приложение 4).
— Готовы ли авторы поставить под сомнение каждый, то есть любой акт, «изданный в условиях тоталитарного режима», включая систему записей актов гражданского состояния, признания образования, научных степеней, установления авторских прав и массовых прав собственности, технических, санитарно-трудовых и медицинских стандартов, систему архивов? Готовы ли они, наконец, подвергнуть сомнению такие нормативно-правовые акты СССР, как международные договоры, включая договоры о зарубежной собственности, границах и контроле над вооружениями? Способны ли авторы программы вообще различать репрессивную практику СССР и объективно нейтральную государственную деятельность советского периода, включающую в себя вопросы внешней политики, обороны, образования, медицины, экономического и социального развития?
Готовы ли М. А. Федотов и С. А. Караганов, исторически принадлежащие к среде младшей советской номенклатуры и идеологическому персоналу центральной коммунистической власти, отказаться от таких личных знаков тоталитарного и идеократического режима, как их изданные в СССР сочинения и защищённые в СССР диссертации? Готовы ли инквизиторы с чистой совестью «нравственно-политически оценить»: диссертации Караганова — «Роль и место транснациональных корпораций во внешней политике США» (1979), «Роль и место Западной Европы в стратегии США в отношении СССР (1945–1988)» (1989), его советские книги — «США: транснациональные корпорации и внешняя политика» (1984), «США — диктатор НАТО» (1985); диссертации Федотова — «Свобода печати — конституционное право советских граждан» (1976), «Средства массовой информации как институт социалистической демократии» (1989), его советские книги — «Конституционный статус советского гражданина» (1982), «Схемы по советскому государственному праву» (1984), «Советы и пресса» (1989). Или внимательному читателю стоит найти и процитировать неотъемлемое историческое коммунистическое лизоблюдство этих трудов?
11) «Принять официальное постановление о том, что публичные выступления государственных служащих любого ранга, содержащие отрицание или оправдание преступлений тоталитарного режима, несовместимы с пребыванием на государственной службе» (приложение 8).
— Что такое «публичные выступления», кто и как их намерен определять? Что такое «оправдание», если главный смысл, например, исторических исследований состоит именно в объяснении типологии, исторических причин и контекста любых режимов, включая тоталитарные? Насколько это совместимо со свободой слова, совести, мысли, научного исследования? Позволено ли будет государственным служащим публично «оправдывать преступления» других режимов, если они покажутся им тоталитарными, например режима Рузвельта или Горбачёва?
Новым инквизиторам и стерилизаторам, конечно, надо иметь чёткие и однозначные ответы на все эти вопросы, оставляя за собой исключительное право на толкование и надзор. Но понятно, что таковых ответов просто не существует.
Никогда не поверю, что помнящие период позорных советских парткомов и прошедшие (советскую) фундаментальную высшую школу, не чуждые научной совести и практикующие в качестве преподавателей либо исследователей члены Совета и авторы программы — А. А. Аузан, Д. Б. Дондурей, Ф. А. Лукьянов, Т. Г. Морщакова, Е. Л. Панфилова, Л. В. Поляков, Л. А. Радзиховский, А. К. Симонов, И. Ю. Юргенс, И. Е. Ясина — неспособны увидеть правовую беспринципность, терминологическую и понятийную многосмысленность, пустословие и интеллектуальную нищету их программы, её сугубо партийный характер и широкие возможности для произвола.
И это значит, что главный смысл всех их убогих и размытых формулировок — не в поиске истины и примирения, а в поиске новой власти над большинством.
Именно такая «историческая инквизиция» за последние считанные годы расколола Украину, где ещё недавно 86 % населения считали День Победы своим главным общественным праздником (в России тогда — 85 %о). Именно такая подделка под государственную политику заставляет её авторов переходить на фальцет.
В публичном комментарии вместо разъяснения категорий это сделала Е. Л. Панфилова: «Поскольку я из семьи трижды репрессированных (моя мама родилась в ссыльном поселении), для меня это не про «идейную гражданскую войну», которая не заканчивается «последние двадцать лет», а про не двадцать, а много-много лет назад начатую и до сих пор не законченную реальную гражданскую войну, в которой до сих пор оправдываемые частью моих соотечественников гады пытались уничтожить мою семью и лишить меня права на жизнь.» Стоит ли мне уподобиться уважаемой моей однокурснице по историческому факультету Московского университета и вспомнить, как мой прадед, русский крестьянин, был раскулачен и насмерть замучен в советской тюрьме, а его дочь пошла по миру, кормя мою грудную мать пустой и сухой тряпкой вместо молочного мякиша, — примерно в то время как отец одного из авторов программы и членов Совета — «сталинский соловей» Константин Симонов — в силе, достатке и славе превращался в одного из самых ярких и талантливых певцов и воистину — одного из создателей режима? Или как в 1989 году (тоталитарном?) один из ныне здравствующих, уже либерал-консервативных профессоров требовал лишить меня диплома буквально за несколько слов о том, что «в учении Маркса есть и утопия, и наука»?
Нет, конечно. Мне отвратительна эта провокационная предвыборная партийная война против уже НЕ реальной «гражданской войны», которую в последний раз в нашей стране пытались возобновить власовские солдаты Гитлера.
В этой безответственной возне пузырятся мелкие амбиции самозваной, от коммунизма к капитализму никак не тонущей «элиты» — и вновь гибнет большинство и единство нашего народа.
REGNUM, 15 апреля 2011
Россия и ближнее зарубежье: новые игроки
Шесть лет назад, когда в очередной раз формулировалась политика России в отношении ближнего зарубежья, она развивалась под впечатлением шока, который испытывала наша государственная власть от «оранжевых» революций. К тому времени потребовалось целых три года приближения «оранжевых» сценариев к территории России, чтобы этот шок стал фактом. Тогда, проанализировав действия противника на сопредельных территориях, мы пришли к выводу, что ближайшими — даже не стратегическими, а тактическими — целями противника является фрагментация политического и географического пространства России, в том числе того, что непосредственно примыкает к внешним границам России.
Но одной из сторон этой фрагментации является также размывание, расширение фронтира, грани фронта, конфликтной границы, — подальше от государственных границ России: в тылу, в глубине, во втором эшелоне наступающего противника. Направленный против России, этот фронтир одновременно состоял из межнациональных конфликтов в сопредельных территориях и государствах, межобщинных конфликтов и непризнанных государств, которые, как «Аэций, последний римлянин», — всё ещё несут в себе остатки, «Брестские крепости» исторической России. Состоял из субъектности Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Виленского края в Литве, Латгалии в Латвии, Принаровья в Эстонии, восточной части Ферганской долины, узбекского населения в киргизском Оше, узбекского населения в таджикском Ходженте. Этот список можно продолжать почти бесконечно: это талыши и грузины, живущие в Азербайджане, азербайджанцы, живущие в грузинском Борчалы (Квемо-Картли), и армяне, живущие в грузинском Джавахке. Понимание этого имело своей целью, конечно, не провоцирование розни, а предъявление сложности окружающей нас картины.
Бог миловал: через год в целом агрессивный «оранжевый» запал заметно сдулся, но и наше государство потеряло интерес к периметру ближнего зарубежья. И вот, пять лет спустя, мы находимся в стадии очередного исторического отступления, мы все — свидетели этого.
В 2006 году «страх прошёл» и активная линия сдерживания стала исчерпывать себя и выдыхаться — и для нашей общественно-государственной внешней политики, которая не сводится к «паркетной дипломатии», стало всё более очевидным, что очень серьёзными игроками на сопредельных территориях являются не только их внутренние конфликтные зоны, но и их другие соседи, конкурирующие «метрополии». Для Молдавии — Румыния, для Украины — Румыния, для Румынии — Венгрия, для Украины — Польша, для Литвы — Польша, для Закавказья — Турция и Иран, для всей Средней Азии — Афганистан и Китай.
Мы обнаружили, что мы — не единственные соседи нашего ближнего зарубежья. И что если оценочный товаро-оборот Киргизии с Россией составляет 800 миллионов, Киргизии с Казахстаном — 400 миллионов, то с Китаем её теневой оборот — 1 миллиард 200 миллионов. И эта реальность гораздо более существенная. Обнаружив, что мы не единственные соседи, начав понимать, что афганский, турецкий, польский, румынский, венгерский факторы будут набирать обороты, мы стали отдавать себе отчёт в том, что историческая инерция наших соперников на сопредельных государствах не сводится к деятельности «Вашингтонского обкома» и деятельность его была бы смешна и бесполезна, если бы не опиралась не просто на восточноевропейский ревизионизм, реваншизм, национализм, русофобию, но и на мощную имперскую традицию соседних исторических игроков.
Если мы понимаем, что — наряду с российской — для Закавказья османская и персидская имперские традиции приоритетны, то и для Восточной Европы имперская Польша (Речь Посполитая), имперская Австро-Венгрия (в Вышеградской четверке Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) важны не только для самоорганизации новой Европы. И нет ничего в новых событиях на сопредельных территориях, что не повторяло бы старый имперский шаблон, конкурирующий с шаблоном Российской империи.
И осознавши это, мы отступаем. Перед открытым не нами ящиком Пандоры — мы отступаем. Обнаружив и акцентировав проблему польского меньшинства в Литве, мы не способны сделать ничего в собственных интересах. Как в Литве, где только в союзе с поляками местные русские смогли бороться за свои языковые права — и тут же оказались слабым звеном меньшинственной коалиции, потому что за спиной местных поляков стояла всей своей государственностью Польша, а за спиной русских — никого.
Мы отступаем, мы будем отступать. Но фрагментирующие энергии развиваются уже самостоятельно, и фрагментация пойдёт далее. Она уже приобрела инерционный характер и защищает нас.
Выступление на конференции, посвящённой 15-летию Института СНГ. Москва, 27 мая 2011
Наследники союзников Гитлера, США, националисты и «десталинизаторы» в ЕС готовят «Нюрнберг» против России
В соответствии с решением Европарламента, 23 августа 2011 года, в годовщину подписания пакта «Молотов — Риббентроп» между Германией и СССР, в странах ЕС впервые отметили День памяти жертв тоталитаризма. В Варшаве прошла конференция министров юстиции стран ЕС, принята Варшавская декларация. Посольство США в Эстонии возложило равную ответственность за начало Второй мировой войны на гитлеровскую Германию и СССР.
Почему ЕС поминает жертвы только тоталитаризма, не поминая жертв демократии и авторитаризма, фашизма и милитаризма?
Если решение Европарламента об учреждении Дня памяти жертв тоталитаризма ещё содержало в себе глухие оговорки о том, что кроме тоталитарных режимов накануне Второй мировой войны существовали неназванные авторитарные режимы, под которые ценой дополнительных разъяснительных усилий можно вполне законно подвести режимы в Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Италии, Румынии, Польше, практика которых тоже может быть осуждена и жертвы которых должны быть помянуты, то в Варшавской декларации от 23 августа 2011 года, русский перевод которой опубликован ИА REGNUM, прямо говорится только о тоталитаризме: «Европа страдала под властью тоталитарных режимов, независимо от того, был ли это коммунизм, национальный социализм или любой другой, тоталитарные режимы ответственны за большинство позорных актов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, виновники предстанут перед правосудием, призываем Европейскую сеть контактных пунктов по вопросам лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, рассмотреть вопрос преступлений, совершённых тоталитарными режимами». Из этой формулы следует, что союзники Гитлера в названных странах и сами названные страны, ответственные за геноцид и пр., и уж тем более союзники Гитлера во главе Финляндии, Испании, Португалии, Франции, и уже тем более демократические власти Англии, Франции, США, прямо поддерживавшие Гитлера в его агрессии на Восток, в сторону СССР, не подпадают под действие декларации и евросоюзовского правосудия.
Кроме того, декларация прямо ставит задачу, ради исполнения которой, собственно и затевалась вся эта игра в День памяти: «истинное примирение (кого с кем — стыдливо умалчивается, ибо речь идёт о «примирении» ЕС с врагом в лице СССР и Россией, на которую возлагается бремя всего советского наследия. — М. К.) невозможно без искреннего и тщательного обсуждения и без установления справедливости». Вот именно «справедливость» и намерены установить министры юстиции ЕС. Не главы МИД, не министры культуры, — а министры юстиции, которые откровенно готовят и будут готовить в союзе и абсолютном согласии с российской «десталинизаторской» инквизицией новый «Нюрнбергский процесс» — теперь уже над Россией, — которой непременно присудят не только масштабное «примирение» с теми, с кем в нынешнем ЕС она не воевала, но и масштабные репарации за преступления сталинизма, за само существование СССР как государства, за борьбу СССР против демократических и авторитарных союзников Гитлера. И значит — принуждает Россию к политическому «примирению» с теми, от имени кого ЕС, получается, выступает, — с союзниками Гитлера. Очень важно понимать, что, ставя условие «примирения» СССР/России со странами ЕС, Евросоюз тем самым прямо объявляет себя наследником демократических и авторитарных союзников Гитлера, от которых прямо и публично ведут свою генетику современные режимы именно в тех странах, представители которых собрались в Варшаве 23 августа 2011 года, отметили День памяти и подписали Варшавскую декларацию — программу нового Нюрнберга.
Это наследники союзника Гитлера адмирала Хорти — в Венгрии; это наследники полуфашистских режимов Сметоны, Ульманиса, Пятса — в Латвии, Литве, Эстонии это наследники геноцидального гитлеровского протектората — во вступающей в ЕС Хорватии; это наследники геноцидального союзника Гитлера маршала Антонеску — в Румынии; это наследники «нейтрального» союзника Гитлера — в Швеции, вплоть до 1976 года осуществлявшей практику принудительной «стерилизации» по политическим мотивам, но не осуждаемой и не наказуемой ЕС; это наследники гитлеровского протектората — в Словакии; это наследники националистической репрессивной диктатуры маршала Пилсудского — в Польше и др. Это наследники демократической Чехословакии, истреблявшей культурно-политические права русинов и осуществившей масштабную и кровавую этническую чистку против миллионов судетских немцев. Это наследники генерала Франко в Испании, о сотнях тысяч жертв которого до сих пор в Испании — после формального «примирения» — не очень принято говорить.
Надо быть российским идиотом-«десталинизатором» современной России или просто циником и предателем, чтобы «не понимать»: министры юстиции этих стран Новой Европы — прямые националистические и «демократические» наследники союзников и коллаборационистов Гитлера. Они не ставили, не ставят и не будут ставить перед самими собой вопросов «примирения», «справедливости» и расплаты, например, короля Хуана Карлоса за преступления Франко, Бенеша, Пилсудского, Хорти, Муссолини, Чемберлена, Даладье, Маннергейма, Антонеску, Сметоны, Ульманиса, Пятса и др., чьей «легитимностью» они укрепляют свой современный апартеид и избирательную, изначально политически и экономически мотивированную «политику памяти». Они не будут вводить юридические санкции против тех, кто восхваляет и преуменьшает преступления всех этих деятелей, они не будут судить тех, кто, исполняя их решения, сделал жертвами преступлений миллионы людей в Европе. Все эти страны и режимы не ответили, не отвечают и не ответят за своё участие в Холокосте, в самых редких случаях ограничиваясь протокольными извинениями, а не реализуя «правосудие» и «справедливость». Я уже не говорю о том, что — даже вступая в ЕС — Хорватия не ответила и не отвечает за геноцид сербов, сотворённый ею в годы Второй мировой войны.
Каков был характер политических режимов Центральной и Восточной Европы в 1930–1940 гг., с которыми на своих западных границах сталкивался СССР?
Как я уже сказал, в лице Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Болгарии — СССР имел дело с националистическими диктатурами, проводившими ассимиляторскую и антисемитскую политику и потому ставшими естественными союзниками Гитлера, с победившим с помощью массового расстрельного террора в гражданской войне в Финляндии режимом, имевшим устойчивые империалистические территориальные претензии к СССР!
Какие цели преследовали эти режимы в отношении СССР?
Общей целью этих режимов было уничтожение СССР, расчленение его территории, перераспределение между собой его ресурсов. Такую цель преследовали и те, кто во главе США, Англии и Франции толкали Гитлера и страны Восточной Европы к войне против СССР.
Кто начал раздел Европы с Гитлером накануне Второй мировой войны: СССР или западные демократии?
Только государственная пропаганда ЕС и США и российский официальный историк Чубарьян утверждают, что Вторая мировая война началась с договора о ненападении между Германией и СССР 1939 года. Любой исследователь и студент, не ищущий личного профита в обвинении СССР, знает: раздел Европы с Гитлером, «умиротворение» агрессора за счёт сопредельных ему территорий в направлении на Восток, к СССР, раздел соседних стран с Гитлером начали Польша, Венгрия, Англия, Франция и США. Апогеем их союзничества с Гитлером стали аншлюс Австрии и «Мюнхенский сговор» 1938 года, расчленивший Чехословакию, после чего любые сталинские внешнеполитические усилия СССР были попытками отсрочить нападение Гитлера и союзной ему «объединённой Европы» на СССР, отодвинуть будущий фронт как можно дальше от его государственных и промышленных центров, избежать войны на два фронта — с Германией и союзной ему Японией (преступления которой, кстати, ЕС «географически» не замечает, зато прекрасно смиряется с «европейскими» притворствами стран Средней Азии).
Какое политическое устройство планировали реализовать национальные движения, в 1940-е гг. боровшиеся за независимость от СССР?
Националистические движения в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, боровшиеся за независимость от СССР, отнюдь не случайно во время Второй мировой войны были союзниками Гитлера. Идеологически и практически они строили профашистские, радикально националистические и антисемитские режимы, не только добровольно участвовали в геноциде, творимом гитлеровцами, но откровенно разделяли его идейные установки. Идеологии классового интернационализма в СССР противостояли не «европейские ценности», которым сейчас присягают наследники этих национальных движений в Прибалтике и на Украине, а европейский нацизм, разделявшийся всеми этими движениями. Поэтому о «европейском выборе» этого восточно-европейского фашизма могут говорить только свиньи, которые в зеркальных своих отражениях видят не свиные рыла, а «лица демократии».
Отдельно надо сказать об идеологии наследников Пилсудского в Польше во время Второй мировой войны, Лондонского эмигрантского правительства Польши и его Армии Крайовой. Уже только их цель вернуть Польше на востоке границы 1772 года явственно доказывает, что они намеревались на деле продолжать ассимиляторскую, колонизаторскую, националистическую и империалистическую практику Польши против литовцев, белорусов и украинцев на их этнографических территориях. Израильским историкам известен и массовый антисемитизм, процветавший в быту и политике польской армии Андерса.
Примечательно, что в уже упомянутой Варшавской декларации предписывается «поддержать деятельность неправительственных организаций, в том числе организаций из стран, охваченных Восточным Партнёрством, которые активно вовлекаются в изучение и сбор документации, связанной с преступлениями, осуществлёнными тоталитарными режимами». В переводе на русский практический язык это значит, что политическим классам Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии, Белоруссии, стремящимся если не вступить в ЕС, то хотя бы покормиться в ЕС, прямо указано собирать материалы к обвинительному заключению по новому «Нюрнбергскому процессу» против России. Это значит, что их ревизионизм, оправдание своих гитлеровских коллаборационистов и глорификация «лесных братьев», «легионеров», бандеровцев — только потому, что они боролись против СССР, — получают не только индульгенцию от ЕС, но и прямое задание практической русофобии. Избирательная, антисемитская и русофобская, то есть снимающая ответственность со своих советских вождей, национал-коммунистов, номенклатурных суверенизаторов, кравчуков, кучм, ющенок, шушкевичей, берий, демирчянов, шаумянов, микоянов, алиевых, багировых, шеварднадзе, снегуров, рюйтелей, петерсов, вациетисов, бразаускасов, горбуновсов и пр. и ограничивающая её только ответчиками из современной России, «десталинизация» становится прямым условием их интеграции в ЕС, супротив которого «музеи оккупации» покажутся детским лепетом.
Почему ЕС не осудил «Мюнхенский сговор»?
Потому что ЕС в целом и правящие особенно в новых странах-членах ЕС режимы — прямые наследники тех, кто заключил с Гитлером этот «Мюнхенский сговор», кто был союзником Гитлера во Второй мировой войне, кто воевал против антигитлеровской коалиции в рядах националистических коллаборационистских формирований.
REGNUM. 26 августа 2011
Союзник поневоле: интересы России и национал-империализм Венгрии
Устойчивая реинтеграция Исторической России, независимо от её формы и глубины, является главной внешнеполитической задачей любой российской власти, даже ориентированной евроатлантически, поскольку эта реинтеграция — главное условие геополитической безопасности и геоэкономической мощи и конкурентоспособности России. Но это — историческая задача-максимум.
Гораздо более оперативной, ежедневной, острейшей задачей России в её нынешних границах, внешнеполитической задачей-минимум любой её власти, является укрепление её безопасности сегодня, когда под непосредственной угрозой находятся сама внешняя безопасность и территориальная целостность Российской Федерации. То есть «политика сдерживания» внешних угроз по всему периметру границ страны и особенно — на границах со странами «ближнего зарубежья», хранящих на себе живые травматические следы расчленения СССР. Как мне уже доводилось писать, это «сдерживание» враждебных усилий невозможно лишь непосредственно на границах России и в её приграничных регионах: защищая лишь свои границы, не выстраивая стратегическую внешнюю глубину в «предполье», мы обрекаем себя на пассивную и малоэффективную оборону. Мы обречены строить эшелоны своей безопасности, как минимум, на шаг вперёд, в тылу выстроившихся против России сил, что чаще всего совпадает со старыми границами Исторической России (см.: Модест Колеров. Фронт против России: «санитарный кордон» и «внешнее управление»).
Именно эта линия практической активности по внешнему периметру Исторической России и является единственно эффективной «политикой сдерживания» тех, кто результаты расчленения СССР уже использует как плацдарм для будущего расчленения России.
На западе России в отношении Литвы и во имя поддержки Русской Прибалтики (Калининградской области) и будущей Белоруссии, её естественным союзником выступает Польша (несмотря на все её колониальноимпериалистические по сути исторические претензии к России, Белоруссии, Литве и Украине): именно Польша демонстрирует постыдной пассивной русской дипломатии в Прибалтике, как надо защищать свои национальные интересы и права своих соотечественников. Подобно этому, на юго-западе России, в направлении Украины, Приднестровья, Молдавии и Румынии, естественным союзником России в её «политике сдерживания» является Венгрия, несмотря на её всё более демонстративный ревизионизм в отношении итогов Второй мировой войны, грубые происки против России в области «исторической политики», внутриполитически ангажированную шпиономанию, которая в устах государственной пропаганды приобретает антирусский характер.
Несмотря на субъективно антирусскую стратегию правящего в Венгрии национализма в исполнении партии «Фидес», Венгрия ведёт системную, последовательную и в целом успешную национал-империалистическую политику в защиту и реинтеграцию многочисленного венгерского меньшинства в Сербии, Румынии, Словакии и на Украине — в пределах «исторической Венгрии». Ближайшие результаты этой политики легко представить себе по аналогии с действующим в Македонии Охридским соглашением, утвердившим «квотную демократию», благодаря которой этническая квота албанского меньшинства настолько консолидирует «этническую демократию», что уже следующим президентом преимущественно славянской Македонии может стать этнический албанец. Такая же «этническая демократия» мобилизованного этнического меньшинства даёт в руки Венгрии «золотую акцию» в автономной Воеводине в Сербии и в Словакии.
Отдельным примером этнической мобилизации может стать политика Венгрии в украинском Закарпатье, где к венгерскому меньшинству, признаваемому Киевом, неизбежно прибавится союзное с ним русинское меньшинство, ещё не признаваемое в Киеве, но уже признаваемое в Будапеште. Это теперь — не просто путь к квотированию и сегрегации, но и новый шаг по столбовой дороге к федерализации Украины — не просто в Крыму или на Юго-Востоке, в Галиции или Северной Буковине, но и в Закарпатье. Такая федерализация — целиком в стратегических интересах России.
Наиболее ярким образцом венгерского национал-империализма, успехи которого в полной мере отвечают интересам России, выступает борьба венгерских властей и партий за суверенизацию венгерской Трансильвании в составе Румынии. Её ближайшей формой — после консолидации венгерских коммун в единую административную единицу — может стать превращение Трансильвании в законный для практики Европейского союза «еврорегион», внутренний суверенитет которого будет в равной степени встраиваться и в целостность Румынии (во всё меньшей степени), и в целостность исторической Венгрии (во всё большей степени). Достраивание независимых коммуникаций из Венгрии в Трансильванию неизбежно подтолкнёт власти Румынии к уравновешиванию такой криптофедерализации за счёт присоединения Молдавии (Бессарабии), которая также неизбежно будет иметь особый автономный статус в составе Румынии.
В такой перспективе становится несомненным, что именно борьба Исторической России за Приднестровье и формирование внятной русской соотечественной политики в Бессарабии — более всего согласуется с борьбой Венгрии за Трансильванию. В таком контексте претензии Молдавии и Румынии на Приднестровье становятся самоубийственными для ревизионистской румынской этнократии по обе стороны Прута. При этом очевидно также, что территориальное усиление федерализируемой Румынии на восток и независимое Приднестровье — на границе с федерализируемой Украиной (и в соседстве с федерализуемой Турцией) — в наибольшей степени соответствуют национальным интересам России.
Тем интересам, которые категорически исключают «сдачу» Приднестровья на милость и румынской Молдавии, и унитарной Украине.
Способность современного венгерского политического класса осознать особые возможности согласования своего национал-империализма с интернационализмом Исторической России — станет тестом на его историческую зрелость. Способность России увидеть здравое зерно и естественное созвучие в борьбе венгров за самоопределение станет тестом на зрелость для политического класса России, его способности обеспечивать стратегическую безопасность своей страны и защищать её целостность в исторических пределах, а не в рамках Садового кольца Москвы.
REGNUM. 5 сентября 2011
Существует ли Армения для России и для себя самой?
В странах бывшего СССР президентские (парламентские) выборы часто равны смене высшей власти иным способом (смерть, дворцовый переворот, революция). И если главное позитивное содержание таких перемен состоит в том, что правящей власти в лице её правящих креслоблюстителей в очередной раз приходится признать, что и она — временна, что и она — всего лишь функция клана, то главный ужас таких перемен состоит в том, что они редко что на самом деле меняют. На место одних вивисекторов, компрадоров и олигархов приходят другие вивисекторы, компрадоры и олигархи. Практически неотличимые.
Не потому, что я русский и живу в России, а потому, что это правда, надо признать: в России с отрезвлением мелко- и крупночиновных поверивших в свою вечность вивисекторов, компрадоров и олигархов дело обстоит легче, чем во многих других местах. Только-только раздуется у них мания величия — ан всё: готовь лыжи на подъём сельского хозяйства, ковыряй органчиком озимую зябь.
Пассивно отступающая с жизненно важных позиций, за которыми — неизбежная национальная катастрофа, российская внешняя политика, конечно, для сопредельных постсоветских государств — крайне ненадёжный, рискованный партнёр и лёгкий соперник. Но видит Бог: за ней уже вырос и стоит непоколебимый общенациональный консенсус о том, что есть интересы России и в каком трёхэтажном направлении любой российской власти следует посылать «перезагруженных друзей» из Вашингтонского обкома. Наряду с континентальным бременем и силой Исторической России, в России созрела (возродилась) «геополитика живого народа» — консенсус, который сильнее всех исторически временных режимов.
И любой сопредельный игрок, как бы он ни хотел иного, вынужден (или будет принуждён) считаться с этим. Так любой авианосец, подходя к верхушке айсберга, понимает, что в реальности имеет дело не с верхней её сияющей частью, а с подводными массами и глубинами, о которые разбиваются «Титаники». С той Россией, куда — пока президент Таджикистана в борьбе за национальное возрождение менял фамилию на «более таджикскую» — сквозь рабство ушли три четверти трудоспособного мужского населения страны. С той Россией, где — какие бы идеи «спасительного чучхе» ни выдавливали из себя армянские интеллигенты — уже сейчас живёт больше армян, чем в Армении, и больше, чем в Калифорнии.
Хотят ли московские и сопредельные вожди увидеть этот айсберг, далеко ещё не достигший середины своего исторического пути? Похоже, начинают хотеть. Вот, например, власти России и власти Армении, не видя и не понимая друг друга, пройдя полный цикл изучения и крах прикормленной экспертизы, наконец поняли, что прикормленная экспертиза обслуживает только корм. Что даже исписав тонны бюрократической бумаги о дружбе, они не стали больше понимать друг друга и прогнозировать взаимную способность к выживанию.
И теперь, при будущей (предсказуемой, но) перемене власти в России, теперь, при непредсказуемой перемене власти в Армении, им придётся говорить не о дипломатическом муляже СНГ, не о военном тренажёре ОДКБ, не о неприкасаемом арсенале военной базы в Гюмри, не о политическом торге. А о том, что составляет самое главное во взаимных оценках: существует ли физически традиционный «стратегический партнёр» или его уже просто физически нет?
Теперь, когда, вполне вероятно, рационально спровоцированный США в августе 2008 года военный раздел Закавказья на зоны влияния (Абхазия и Южная Осетия — к России, Азербайджан, Карабах, Армения, Грузия — к США) географически отсёк Россию от Гюмри и Еревана, а США привёл в преддверие Тегерана, вопрос об отношениях России и Армении приобрёл, наконец, обнажённо исторический смысл, подобно тому, как «арабские революции» обнажили конфликтную взаимозависимость Израиля и США.
Этот смысл армянские политики стремятся ухватить и описать старыми партийными лозунгами, как арифмометром — недолговечную державу Тиграна Великого. «Кто в Армении будет слугой России», — именно так описывает исторический момент бывший член комитета «Карабах» Ашот Манучарян: будто некто в Москве в самый пик междуцарствия и мучительной модернизации объявил конкурс слуг и кусает ногти, волнуясь. «Потеряв Армению, Россия потеряет весь Северный Кавказ до Ростова-на-Дону» (то есть вместе с полутора миллионами местных армян), — выступает на неведомом конкурсе зампредседателя правящей в Армении Республиканской партии Рафик Петросян. Будто он может лично свидетельствовать, что он сам, его партия и его страна уже принадлежат России — и стойко оберегает не себя, свою партию и страну, а внешние и внутренние границы России.
Болтовня о «принадлежности» Армении России, «обслуживании» режимами Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна, диаспорой, «комплиментарностью» и евроатлантизмом интересов России была бы заурядным образцом политической глупости, если бы не была образцом самых последних задов азербайджанской пропаганды.
На деле же перед «молодыми технократами» Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна, неизбежно приходящими к власти, и торгово-импортными олигархами, неизбежно от власти отходящими, нет никакого другого вопроса о том, сохранится ли Армения как не только титульное государство, представляющее интересы армянства и исторические претензии армян на Нагорный Карабах.
Если «молодые технократы» ради тактического решения острейшей проблемы безопасности Армении военно, политически, экономически введут её третьестепенным членом (а иного просто не дано) в систему Европейского Союза и НАТО, то ценой (или даже условием) этого тактического решения будет несколько принципиальных последствий: передача Карабаха и его будущего в ведение евроатлантических структур, растворение своей государственности в региональной инфраструктуре ЕС и НАТО, прозрачной для Турции и абсолютно закрытой и от Ирана, и от энерготранзитных потоков, подсудность главных деятелей режимов Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна экстерриториальным трибуналам по обвинению вот хоть в «преступлениях против человечности», превращение страны в линию фронта против Ирана.
Если «молодые технократы» имеют хотя бы своим личным стратегическим интересом обретение и удержание суверенной власти, то им следует признать, что именно развитие нынешнего внешнеполитического status quo, когда Россия географически отсечена от непосредственного соседства, оставляет им и Армении гораздо больший простор на традиционно бедной закавказской шахматной доске. Растущая именно в направлении России армянская миграция, близким итогом которой станет критическая депопуляция Армении и окончательное превращение России (говоря языком Севра и Вильсона) в полноценный второй «национальный очаг» армян, оставит Армении (и связанному с ней Карабаху) главное — вес и значение государственного «неприкосновенного запаса», интеграция которого с кем бы то ни было столь же нерациональна, сколь нерационально вступление Ватикана в ЕС.
Максимально возможный политический союз с географически отсечённой, но экономически донорствующей Россией (Россией как страной, а не режимом) — сохранит Армению от демографической и политической экспансии соседних евроатлантических активистов и, вполне возможно, от президента-конфедерата Саакашвили. Союзное государство Армении и России станет для абсолютного большинства армян, и без того живущих «на два дома», актом бюрократического упрощения существующей трудовой, миграционной, пенсионной, образовательной и полицейской практики. Избавит от войны с Ираном.
Максимально возможное присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана не только откроет для Армении рынок в 170 миллионов потребителей, но и сделает главное, на что не способны проектировщики «финансового центра» в Дилижане или программистского аутсорсинга в Ереване: даст живой и рентабельный рынок для тех исключительных, но на внешнем рынке не вполне конкурентоспособных услуг и товаров, которые ещё может производить Армения как страна. И сохранит Армению от вежливого рэкета, уготованного ей энергетической стратегией программы «Восточного партнёрства». Избавит от торговой войны с Ираном.
Вопрос для «молодых технократов» не в том, что станет с Россией, если она «потеряет» Армению. Их вряд ли это волнует и должно волновать. Вопрос в том, что станет с Арменией и армянством, если Армения как государство — влетев в вечный предбанник ЕС и НАТО — «потеряет» Россию уже не только географически (как сейчас), но и политически, и экономически, и социально. И «найдёт» Иран — вернее, связанную с его враждебностью очень длинную историю приключений.
Тогда Армения как государство просто перестанет существовать. Существует ли оно ещё сейчас — самый главный вопрос именно для «молодых технократов», а не клоунов с арифмометром.
REGNUM, 3 октября 2011
Фрагментация и дефрагментация Евразии
Чаще всего на международных обсуждениях приходится сталкиваться с предосудительным солипсизмом национальных политических экспертов, экономистов, политиков. Взгляд на себя с точки зрения земли характерен, неизбежен, но он никогда ничему не помогает. Такой «израильский» взгляд на вещи — когда есть Израиль и все остальные — на наших сложных, подвижных многослойных пространствах ничем не помогает.
Я хотел бы предложить краткий взгляд на пространства, с которыми мы имеем дело, и в которых, к счастью или несчастью, оказываемся в центре событий. Это общее пространство навязывает нам железную логику событий, с которыми мы не можем справиться. Наше пространство — Евразийское пространство, — является полем для постоянных, длящихся тысячелетия и продолжающихся попыток имперского строительства, точнее, неудач имперского строительства. Вот это пульсирование империй, фрагментация, потом дефрагментация, создание новых проектов и новый распад континентальных империй Евразии, на мой взгляд, составляют главное содержание здешнего исторического процесса. В отличие от колониальных империй — Голландской, Португальской, Испанской, Британской и пр. — империи, которые проходят в Евразии оставляют за собой не просто новые государства, а, новые конструкты для новых конструкций.
Эти конструкты никуда не исчезают. Эти фрагменты не перестают существовать. Они остаются для того, чтобы стать центрами или участниками новых интеграций, новых империй и новых конфликтов. Римская, Византийская, Османская, Персидская, Российская, Советская империи — они не исчезают, а пытаются в схватках и жестоких испытаниях превратиться в Федерации или новые империи — Европейский Союз, НАТО, может быть Евразийский Союз. Но это не наше специфическое явление.
В Новом Свете — там, где распались Испанская и Португальская колониальные империи, — сразу возник проект Боливарианской интеграции, который Чавес пытался возродить недавно. Точно так же и на обломках Испанской империи возникла империя США эпохи доктрины Монро 1821 года. И она тоже к нашему времени провалилась. Империи создают из себя, возле себя и после себя такие национальные государства, которые чаще всего оказываются — по словам Сахарова о Грузии — «маленькими империями». С формальной точки зрения они являются продуктами того нового порядка, нового мироустройства, которое после Первой мировой войны Вудро Вильсон навязал Старому Свету. То есть формально они становятся национальными государствами, но фактически они существуют внутри себя, обременённые огромными национальными меньшинствами. И в абсолютном своём большинстве они не предлагают своим национальным меньшинствам никакого иного устройства, кроме как подчинение этническому унитаризму, этнической монополии, пытаясь достичь этнической монополии путём диктатуры.
Или они не могут этого достичь и распадаются, как Грузия, лишаются куска территории, как Азербайджан, и т. д. То есть посыл, данный президентом США Вудро Вильсоном в мироустройстве Старого Света после Первой мировой войны и продолженный после распада СССР по тем же самым лекалам — импульс строительства национальных государств — по своей сути остаётся посылом XIX века, когда национализм, изобретённый немецкой классической философией, неизбежно связывался с протекционизмом, национальной экономикой, милитаризмом и национальной государственностью. Этот девятнадцатый век достиг своего апогея после Первой мировой войны в распаде враждебных США империй.
Но он же, странным образом, достался нам, жившим в СССР и получившим второе издание националистического мироустройства уже в качестве наших правил жизни. И мы видим, что националистическое устройство уже оказалось не архаикой, а несветлым будущим в XXI веке. Национализм, протекционизм будут нарастать и диктовать свою волю всё больше.
В этой ситуации многочисленные новые национальные государства XX века, обречённые на конфликт, распад или успешные этнические чистки (такой сценарий тоже возможен — Хорватия являет собой пример успешных, поддержанных Западом этнических чисток) — или контролируемый распад, также поддержанный Западом, — новая реальность заставляет национальные государства искать себе новый, квазиимперский формат существования.
Во многих новых независимых государствах и в России, когда сталкивались с проблемой постсоветского национализма, полагали, что присоединение новых национальных этнократических, националистических государств к такому новому имперскому образованию, как Европейский Союз, позволит гарантировать права человека, права нацменьшинств — в той же Прибалтике — в рамках Европейского Союза, поскольку доверились риторике Евросоюза, полагая, что Евросоюз, прежде всего, это союз ценностей. Естественно, это не так! Естественно, европейские ценности не носят универсального характера для тех новых национальных государств, которые присоединяются к этому имперскому проекту. Не могут они носить универсального характера, потому что похороненный ныне мультикультурализм должен был закончиться арабской автономией в предместье Парижа.
Следовательно, эти принципы, эти стандарты были обречены на то, чтобы быть двойными или даже тройными. На постсоветском пространстве мы не имеем успешного результата построения гражданской нации. Я не говорю о России, поскольку она единственная из евразийских империй и национальных государств, которая находится в состоянии стабильной нестабильности и тем жива как федерация с реальными федеративными отношениями, интегрированной внутри федерации титульной государственностью и пр.
Во всём остальном есть лишь попытка построить гражданскую нацию, а именно гражданские нации, как мы прекрасно знаем, являются единственным фундаментом построения подлинной интеграции, подлинной империи. Быть в имперском пространстве гражданином — главное, что гарантирует права и держит имперское пространство как единое. В контексте неизбежной потребности строительства новой гражданской нации в рамках новых интеграционных пространств, мы начинаем смотреть на то, насколько в принципе новые национальные строительные проекты могут быть использованы как фрагменты для новой интеграции.
В высшей степени экономически оправданные и, безусловно, политически захватывающие дух проекты Таможенного и Евразийского союзов, именно в отношении национальных государств, элит и бюрократий являются наименее жизнеспособными. Именно национальные элиты будут первыми, кто похоронит Таможенный и Евразийский союз. Элиты не смогут отказаться сами от себя, и любой проект будет раздавлен их национальной государственностью, если момент преемственности власти отодвинется в историческое будущее дальше.
Если же нас ожидают быстрые перемены, то это будет тот фактор хаоса, который начнёт ослаблять национальные государственности в Средней Азии и облегчать их интеграцию в новое пространство. Но любая интеграция остаётся огромным внутренним заданием для каждой страны, для каждой нации.
Выступление на конференции «Консолидация пространства Евразии» (Бишкек, Киргизия), 25 февраля 2012
Неравный брак по расчёту: «Когда нам через сорок лет не будет страшно жить рядом с Казахстаном, тогда мы будем аплодировать»
Какие изменения в контексте бурных событий последних месяцев могут произойти в России и как это может повлиять на отношения между нашими странами? И вообще, чего стоит ждать Казахстану от второго президентства Владимира Путина?
Медведев, при том что он активно участвовал в процессах интеграции, не отметился в сознании избирателей, политического класса столь ярким интегратором, как Путин. Это одно из различий между ними. Путин — ярый сторонник реинтеграции, а для Медведева это скорее вопрос второго или третьего плана. Очевидно, что при президенте Путине премьер-министром будет Медведев. Это значит, что практика дальнейшей экономической интеграции России и Казахстана будет прямо отражаться на репутации обоих. И обе исполнительные вертикали — и президентская, и премьерская — будут прямо заинтересованы в том, чтобы экономическая интеграция была результативной и вызывала как можно меньше критики.
Практика экономической интеграции с Казахстаном уже в ближайшее время будет предметом всё более острых взаимных претензий. Потому что достаточно внятно произнесено, что Россия и Белоруссия внутри Таможенного союза (ТС) и так являют собой гораздо более продвинутую форму интеграции — союзное государство. А Казахстан, как следует из интервью, которое дал ваш посол в Белоруссии Ергали Булегенов, сознательно «подмораживает», откладывает темп быстрых решений по ТС и, очевидно, решил не торопиться с этим.
Если Казахстан не торопится, значит, он не может позволить ни Медведеву, ни Путину продемонстрировать зажигательный успех в деле интеграции. Но, в силу сказанного о них выше, больше всего от этого будет страдать репутация Путина. Тем более что он в своей предвыборной программе, заявленной в нескольких статьях, сделал особый акцент именно на этом. А Медведев как председатель правительства, заинтересованный в том, чтобы формировать собственную политическую судьбу, будет всячески демонстрировать, что на горизонтальном уровне интеграция с Казахстаном тормозится по таким-то причинам. Соответственно можно прогнозировать, что правительство Медведева не так чтобы очень ярко и жестко, но совершенно однозначно превратится в критика экономической интеграции в том виде, как её исполняет Казахстан. Ему придётся — естественно, не на уровне Медведева, а на уровне каких-то экспертов, ответственных лиц в правительстве — демонстрировать, что Казахстан плохо справляется с экономической интеграцией.
В экспертной среде, во всяком случае, в некоторой казахстанской её части, высказывается мнение, что взаимоотношения России и Казахстана — это больше хорошие личные отношения между президентами, а взвешенных, многогранных, многовекторных межгосударственных отношений, по сути дела, нет. Что Вы думаете по этому поводу?
Во-первых, период президентства Медведева должен был в достаточной степени дезавуировать этот взгляд, поскольку основные интеграционные решения последнего времени были приняты при нём, хотя он в силу объективных причин не может похвастать особыми отношениями с президентом Н. Назарбаевым: они люди разных поколений. Поэтому я думаю, что всё-таки межгосударственные системные отношения имеют какую-то свою судьбу, отдельную от династической дипломатии.
Во-вторых. Граждане бывшего СССР тоже думали, что где-нибудь во Франции или в Великобритании точно так же всё зависит от де Голля или Тэтчер, как в Советском Союзе от Сталина или Брежнева. Но прошло какое-то время, и выяснилось, что, оказывается, «есть жизнь на Марсе». Жизнь сложнее, чем собственный исторический опыт. То есть эксперты в данном случае говорят о своём личном политическом опыте внутри Казахстана. У нас степень привязки всей политической жизни к первому лицу не столь абсолютна, как в Казахстане. Что касается межгосударственных отношений, то я впервые только здесь, на пограничном контроле, столкнулся с практикой облегчённого, или специального, окна для граждан стран — участниц ТС. В Москве этого нет. Значит, Таможенный союз, по крайней мере для пограничного начальства, тоже в некотором роде реальность, независимая от династической дипломатии.
Одно время было модным рассуждение, что Россия утрачивает свои позиции в Центральной Азии, уходит отсюда и что большого будущего у России в нашем регионе нет. Эта тенденция сохраняется или всё же начинает преодолеваться?
Мне было бы интересно спросить у тех, кто исповедует такую точку зрения, от какого года они считают — от 1913-го или 1991-го?
Конечно же, с 1991-го…
В 1991 году России вообще не было. А когда она появилась в августе того года, то она лежала ниже уровня плинтуса и в таком положении находилась лет десять. А когда начала немножко приходить в себя и превращаться в государство, то есть к 2001 году, к этому моменту миллионы русских людей ушли из Средней Азии. Уже не было реального присутствия. То есть в том состоянии, в каком достались современной России отношения со Средней Азией и Казахстаном, она является скорее жертвой, чем автором. Она не была активным игроком ухода. Уходило историческое присутствие Советского Союза, или ещё раньше — Российской империи. Россия как обрубок исторической России не имела свободы выбора — уходить или не уходить. Как обрубили, как обрезали её, так в этом «четвертованном» состоянии она и пришла в себя на операционном столе.
А в этом нет ничего от лукавого? Ведь фактическим инициатором «развода» была та часть российской политической элиты, которая пришла тогда к штурвалу. Тот же Гайдар с его философией необходимости избавления от ненужного балласта, которым он и его соратники считали наш регион…
Когда Гайдар пришёл к власти, золотой запас, доставшийся РФ, составлял 200 миллионов долларов. Его не хватало даже на критически важный для страны импорт инсулина. Поэтому он мог исповедовать всё что угодно. Историческое четвертование Советского Союза или России начал явно не Гайдар. Это началось сразу же после того, как умерли последние сталинские назначенцы — Устинов, Суслов, Брежнев, Андропов — и к власти пришёл по тем временам «юный» реформатор.
Ну хорошо, тогда, как бы сказать точнее, они катализировали процессы или это было логическим завершением неизбежного?..
Российские власти в этом процессе пытались играть собственную идеологическую игру, но в то же время, я думаю, были более всего жертвами. Единственный идеологический акт, который в 1991 году смогла внятно сформулировать Россия, — это Беловежские соглашения, которые отражали убеждение формировавшейся тогда российской политической элиты в том, что новый союз они могут создать на троих — Россия, Украина и Белоруссия, то есть славянский союз. И тогда Н. Назарбаев со среднеазиатскими лидерами сорганизовались и быстро объяснили, что это неправильно.
Честно говоря, я не знаю, зачем им это было нужно. По моему мнению, это не было стратегическим решением. Это было тактическое решение, просто чтобы выжить как-то, сохранить контроль над территориями. Потому что появившееся в результате этого демарша Н. Назарбаева и среднеазиатских лидеров республик СНГ так, в общем-то, и не превратилось во что-то эффективное. Беловежская идеология отражала представление о России как о России без Азии. Однако практически реализовать это они в любом случае не могли. Иначе сценарий был бы просто предопределен. В республиках Средней Азии и Закавказья тогда ещё не было достаточно адекватного понимания того, кому и сколько Бог дал ресурсов. Это потом стало ясно, что и Азербайджан, и Туркмения, и Казахстан могут выжить самостоятельно. В других республиках оптимизма было поменьше. Но на тот исторический момент — в 1991 году — всё было в тумане и очень зыбко. Могу проиллюстрировать тогдашнее состояние умов по одному очень яркому примеру. Территориальный раздел СССР был настолько общим, настолько неконкретным, что лично я спрашивал у своей жены: а куда попало-то Сочи? Это в России или в Грузии? Ну, вот так плохо я себе представлял, что у нас останется после всех этих разделов, и всё пытался понять, где же всё-таки у нас пройдут новые границы?.. В январе 1992 года в Москву приехал мой старый университетский товарищ с Украины, из Чернигова. И наблюдая за тем, как аспирантская компания бурно обсуждает новую украинскую «незалежность», он строго так произнес: «Э-э, ребята, вы не думайте, это всё не шутки. Это, как минимум, очень надолго.» Понимания того, что это, «как минимум, очень надолго», не было. И поэтому говорить о том, что Россия что-то там решила и сбросила Среднюю Азию. Она же на карачках стояла. И физически, и интеллектуально, и государственно.
Вот такой длинный ответ на упреки по поводу ухода. Россия в лучшем случае была здесь для кого-то донором, а для кого-то транзитным партнёром. Даже полноценным партнёром по безопасности она быть не может. И не потому, что у нее нет сил. Все эти двадцать лет мы воюем, у нас силы есть. Мы остановили гражданскую войну в Таджикистане. Но мы не можем быть партнёром по безопасности потому, что само обращение к России за реальной помощью будет восприниматься как отказ от определённой части суверенитета. Опыт, который демонстрируют Соединенные Штаты здесь по соседству, показывает всем, что представление о внешнем партнерстве для обеспечения безопасности всегда будет за счёт твоего суверенитета. Поэтому реального партнёрства с Россией по вопросам безопасности здесь никто не хочет. Даже после ошских событий, даже после андижанских событий.
Российские аналитики всегда акцентируют внимание на том, что Россия для центрально-азиатских стран — естественный рынок сбыта и что, дескать, ни с кем, кроме как с ней, мы не сможем в этом плане реально сотрудничать. Противники же интеграции настаивают на том, что и Россия, и страны региона выступают продавцами одних и тех же товаров и услуг, а следовательно, они являются конкурентами и у них взаимоотталкивающие интересы. А посему, мол, все эти союзы несут в себе больше политическую составляющую, что со временем может стать угрозой суверенитету государств Центральной Азии. Какова Ваша точка зрения на сей счёт?
Наверное, эти господа очень давно не смотрели на глобус. И, наверное, вообще никогда не имели представления о структуре экспорта своих стран. Мы с какими-то республиками действительно производим некоторые одинаковые группы товаров. Например, газ, нефть, металлы, зерно. А насчёт всего остального. Я не думаю, что ташкентские самолеты где-то конкурируют с российскими. Потому что, по моему глубокому убеждению, и российские, и ташкентские самолеты пользуются спросом только на внутреннем рынке.
Что касается нефти, газа, металлов и зерна, то главным для конкуренции на этих рынках являются маршруты доставки. А все эти маршруты для среднеазиатских государств находятся в широтах, не затрагивающих территорию России. Если бы маршруты доставки нефти и газа из Казахстана пролегали через Таймыр, тогда ещё можно было бы понять. Но казахстанская нефть идёт через Каспий или же в Китай. Какая здесь конкуренция?
Точно так же обстоит с зерном и металлами. Это мировые товары. Цены, объёмы продаж на мировом рынке зависят уже не от российского местоположения, а от мировой конъюнктуры, от биржевых котировок. Как это можно связать с территориальным производством?
Далее. Какие такие товары производит Таджикистан, чтобы остро конкурировать с нами? Я не знаю. Может, Киргизия? Тоже не припоминаю. Как не могу представить и того, что на каком-то рынке где-то в Польше мы столкнемся с таджикским текстилем.
Но речь-то идёт о конкуренции на внутренних рынках друг друга из-за производства одних и тех же групп товаров…
А-а, тот самый миллион таджикских гастарбайтеров, который работает в России, — он что, хочет покупать таджикский текстиль, а ему впихивают ивановский?! Это, наверное, имеют в виду эксперты-аналитики, на которых вы ссылаетесь?
Я понимаю, откуда эти рассуждения, откуда эти байки про Шёлковый путь, по которому на самом деле нечего возить. В их основе — необходимость политического решения по формированию альтернативных объемов поставок энергоресурсов в обход России, чтобы нанизать на этот «шампур» от Балкан до Синьцзяна (в соответствии с завещанием господина Бжезинского о создании глобальных Балкан от Косово до СУАР) некоторую транзитно-транспортную сеть, для которой среднеазиатские государства (прошу прощения у глубокоуважаемых экспертов, сколько там кусочков мяса должно быть на шампуре, пять или шесть?..) выступают лишь одним из этих кусков мяса. Не они конкурируют, это шампур их «конкурирует». И так «конкурирует», что давно уже прошил их насквозь.
А нам что? Евросоюз и американцы очень долго обхаживали Туркмению (и история эта ещё продолжается), чтобы она поставляла свой газ по транскаспийскому газопроводу. Для этого Туркмения должна поссориться с Ираном, потому что Каспий не разделён. Так вот, оказывается, для чего нужно обеспечивать эти объёмы несуществующего газа! По только что построенному из Туркмении через Узбекистан и Казахстан газопроводу все свободные объёмы туркменского газа идут в Китай. Так, может быть, с Китаем хочется сторонникам Шёлкового пути конкурировать, а не с Россией? Или здесь можно конкурировать безопасно, на словах? Я бы с очень большим интересом прочитал риторику этих экспертов, как они сейчас в братском союзе, плечом к плечу с США, уходящими из Афганистана, будут конкурировать с Китаем. Лично поедут и перекроют вентиль на казахстанско-китайской границе. А нечего, понимаете ли, потакать неоимпериализму.
Свободу Тибету и Тайваню! Но ведь этого же не будет. И что дальше? Начнут кричать «Свободу Чечне»?..
В нашем обществе много противников курса на сближение с Россией. По их мнению, у России сохранился имперский подход к решению наболевших проблем: в условиях осложнения двусторонних отношений со всеми соседними странами она актуализирует, трактует многостороннее сотрудничество, которое обеспечивает некий гегемонизм, доминирование кого-то над кем-то. В то же время российская дипломатия неэффективна. Фактически мы в последние годы наблюдаем поиск ресурсов для доминирования. Это — газ, космос, вооружения. И в отсутствие принципиальной позиции происходят метания из стороны в сторону. Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу…
Такое мнение не является исключительно казахстанским. Есть ощущение, что оно под копирку рассылается по электронной почте. Только хотелось бы ещё увидеть факты. Потому что другой такой страны, как Казахстан, где местные эксперты называют себя лидерами реформ, я в современной истории не встречал. Самомнение, конечно, очень высокое. И это хорошо. Но как можно, говоря это о себе, обвинять Россию в самомнении, я не понимаю.
Что касается энергоресурсов как инструмента. Да, Казахстан успешно использует их как инструмент многовекторной внешней политики и на Каспии, и в отношении Китая. Почему этого не может делать Россия? Может. Значит, в этом мы равны.
Теперь о неуспешности русской дипломатии. Я думаю, что после всемирно-исторического председательствования Казахстана в ОБСЕ о дипломатии лучше вообще не говорить, как в доме повесившегося не принято говорить о верёвке.
И так далее, по каждому вопросу. Вот вы говорите, что в Казахстане звучит много серьезной и убедительной критики по поводу интеграции с Россией. Уверяю вас, в России не меньше критики по поводу интеграции с Казахстаном. Скажу больше: ответственных сторонников экономической интеграции заведомое меньшинство. И оно обоснованно задаётся вопросом, на который никто не дает ответа со стороны ни казахстанской, ни российской власти. А вопрос такой: как мы можем интегрироваться с казахстанской экономикой, если она абсолютно, сверху донизу, на сто двадцать процентов, зависит от воли одного человека? Если она на сто тридцать процентов обслуживает кланово-семейные интересы? Если она на двести сорок процентов состоит из крупнейших частно-государственных корпораций? Если в формате этой экономики даже представить себе нельзя, чтобы какой-то богатый русский человек вот просто так взял бы и построил возле резиденции президента Назарбаева крупнейшую семизвёздочную гостиницу? Так же, как богатейший казахстанский гражданин построил такую гостиницу «Ритц-Карлтон» возле Кремля.
Я просто задал вопрос. Ответ более чем очевиден. А российская экономика всё-таки более конкурентна и прозрачна, по крайней мере в этом вопросе. Мы задаем друг другу вопрос: «Так что же мы получаем в итоге нашей экономической интеграции?» Мы предоставляем наш замечательный, цветущий во всех местах, кое-где протёршийся на локтях огромный потребительский рынок и получаем внеконкурентного крупнейшего игрока с большими деньгами. Ну и что, что они частно-государственные? Ну и что, что они семейные? Зато они большие.
Мы получаем такого игрока, которого мы, диверсифицированные, среднемелкие или среднекрупные, не перешибем ничем. Зачем нам это? С братьями-белорусами понятно, у нас союзное государство. Но это отдельная большая тема.
Какую оценку Вы бы дали качественным и иным характеристикам среднеазиатских элит вообще и казахстанских в частности?
Мы все, люди доброй воли и сторонники прогресса, со страшной сердечной болью каждый раз переживаем смену власти в среднеазиатских республиках. Почему? Может быть, отчасти потому, что она происходит революционным путем? Может быть, потому, что системы преемственности власти нет? Может быть, потому, что всё зависит от одного человека? Я думаю, что это самое главное в портрете политических элит региона.
Если даже «передовая» Грузия не делала ни одной преемственности власти иначе, чем через колено, то чего уж говорить здесь. Грузия всё-таки витрина капитализма, светоч демократии, «непотопляемый авианосец» США. А здесь совсем беда. К чему привели свои страны главы Киргизии, Таджикистана? Что из себя представляет страна с бесплатным газом, с точки зрения бытовой свободы? Чего нам ждать от великих вождей Узбекистана и Казахстана? Кто заменит их на этой земле? Нам страшно об этом подумать. Вот это и есть самая главная оценка. Вот когда нам перестанет быть страшно об этом думать, лет этак через сорок (дай Бог им всем крепкого здоровья и долгих лет жизни), когда нам через сорок лет не будет страшно жить рядом с Казахстаном в случае перемены власти, тогда мы будем аплодировать.
То есть Вы смотрите на это с пессимизмом?
А реальность нам не говорит, как это будет происходить. То, что мы видели в последние месяцы в России, когда шла острая борьба сторонников Медведева со сторонниками Путина, с тем чтобы Путин, не дай Бог, не победил в первом туре, а чтобы он победил, ослабленный, во втором туре, с большей готовностью договариваться с Медведевым о разделе власти. Это была острая борьба, острая по существу, которую не затмил даже «технический» кандидат Медведева товарищ Прохоров. Который, кстати, рекламировал Казахстан, но не смог показать собственных успехов в Казахстане. Потому что их просто нет. Вот это борьба. Это плохо для нас. Но это, по крайней мере, показывает, что у нас судьбу своей страны мы решаем всё-таки иногда сами. А здесь.
В этом контексте как Вы можете оценить националистические движения в регионе? Есть ли у них потенциал к захвату власти и реализации сценариев по подобию «арабской весны»?
Я нахожусь под глубоким впечатлением от заявления госпожи Хиллари Клинтон по поводу того, почему США свергли своего вернейшего союзника за последние тридцать лет — президента Египта Хосни Мубарака. Которому в качестве одного из главных обвинений вменили то, что он в течение тридцати лет правил в условиях чрезвычайного положения. Забыв при этом, что он ввёл его потому, что «братья-мусульмане» убили президента Садата за то, что он пошёл навстречу Вашингтону и заключил в Кэмп-Дэвиде договор о мире с Израилем. Теперь США обвинили Мубарака в том, что он был вынужден сделать, привели к власти «братьев-мусульман» и объясняют всему миру, почему же они так жестоко «кинули» своего верного союзника. Оказывается, он слишком долго находился у власти и у него могло создаться впечатление, что он чем-то для Америки важен. Замечательные, золотые слова, которые каждый из нас вместе с картинками «арабской весны» должен держать над рабочим столом. Каждый из нас, жителей Старого Света, который становится объектом неоколониальной политики США.
Каждый, кто протянет им хотя бы мизинец, будет жестоко наказан. Каждый, кто выступит головой на стороне США, потеряет её. Каждый, кто будет им служить правдой и честью, будет ими изнасилован и выброшен. Вот о чем говорят заявление госпожи Клинтон и судьба президента Мубарака.
США ведут к власти этнический национализм, опираются на шовинистическую этнократию в Восточной Европе, борясь против старой Европы, поскольку последняя бывает иногда слишком самостоятельной. США ведут к власти «братьев-мусульман», и здесь, в Средней Азии, к власти придут исламисты и националисты. А все, кто сейчас с американцами обнимается, будут выброшены как отработанный материал.
С Вашей точки зрения, совпадает ли хоть в чем-то перспективный взгляд российских и центрально-азиатских элит на будущее? Или они уже смотрят совсем не в одном направлении?
У нас очень много общего. Во-первых, у нас общий дом и нам здесь жить вечно. Тот, кто этого не понимает, просто самоубийца. Я рад, что в России таких самоубийц становится меньше. Во-вторых, нас объединяют общие угрозы. Очень весело и одновременно горько слышать, как из Средней Азии напоминают России об афганской угрозе. Будто Средняя Азия — это не транзит на пути нового Чингисхана с наркотиками или исламистской литературой и бомбой в руках.
Нас объединяют двести — триста лет общей истории, которая кому-то нравится, кому-то нет. Но это состоявшийся исторический факт. Как и тот факт, что националисты в каждой стране этого региона вынуждены реализовывать свой национализм в пространстве русского языка и категорий русского политического языка. Они не могут, перейдя даже на латиницу, пообещать своему народу, что такими же миллионными тиражами переиздадут сочинения своих национальных классиков, которые в свое время выходили на кириллице. Никто из них уже не родит в таком объеме национальных классиков.
А ещё нас объединяет то обстоятельство, что мы все в равной степени корм для новых арабских революций. И не надо строить никаких иллюзий, и это я ещё говорю мягко. Тот, кто, как бывший комсомолец-власовец, побежит первым брататься к американскому оккупанту, будет повешен первым самими же оккупантами. Это меня очень утешает. Осталось только это понять. Потому что комсомольцев-предателей будет очень много. Точно так же, как среди националистов слишком много бывших коммунистов. Им все равно как называться, главное — учить нас жизни. Это горько.
Вот это все нас объединяет. Я думаю, это достаточно много для брака по расчёту.
Central Asia Monitor, 13 апреля 2012
Новая внешняя политика Путина
Не дожидаясь процедурного рождения новой концепции внешней политики России, президент Владимир Путин изложил новую программу внешней политики России в форме одного из первых своих указов, которые были им подписаны сегодня, в день инаугурации. Это значит, что указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» был подготовлен ответственно, заранее и не спеша. Не претендуя на полный обзор нового внешнеполитического курса России под руководством Путина (специалисты по полным обзорам работают в МИДе), подчеркну ряд новых акцентов и обстоятельств путинской внешнеполитической доктрины, не забывая о том, какие именно «старые» принципы вновь вынесены наверх, в приоритеты.
Итак:
1. Путин намерен «расширять вклад Российской Федерации в миротворческие операции ООН», что является внятной заявкой на расширение географии посредничества России и связанного с ним её военного присутствия.
2. Путин возвращает в приоритет приоритетов — политику России в отношении стран «ближнего зарубежья» — «отношения с государствами-участниками СНГ», не обременённые отношениями с внерегиональными центрами силы, то есть не обременённые неоднократно уже провалившимися сделками с США и их сателлитами — о судьбе окружающих Россию сопредельных государств, то есть её собственной судьбе.
3. Путин видит смысл «разнопланового сотрудничества государств — участников СНГ» — в любых сферах, кроме политической, выдвигая в качестве главной задачи России в СНГ реализацию Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. Это значит, что СНГ больше не имеет политических перспектив, оставаясь, в лучшем случае, клубом по экономическим интересам.
4. Путин максимально высоко поднимает место Союзного государства Белоруссии и России в своей внешнеполитической программе — выше всех двусторонних отношений — и не ограничивает его задач ни единым словом детализации: возможно всё, что будет решено.
5. Путин подтверждает стратегический курс России на «евразийскую интеграцию в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и создание к і января 2015 г. Евразийского экономического союза» (ЕАС) и сопровождает этот формат требованием «укрепления» ОДКБ и усиления «внешнеполитической координации» её членов, что звучит как требование военно-политического союза для ЕАС.
6. Путин внятно соединяет в основе принципов приднестровского урегулирования «особый статус Приднестровья» и «территориальную целостность» Молдавии с её, Молдавии, «суверенитетом» и «нейтральным статусом». Это значит, что с утратой суверенитета и нейтралитета Молдавией Россия автоматически снимает с себя бремя поддержки её территориальной целостности. Это кратко звучит так: объединение Молдавии с Румынией и вступление её в НАТО предопределяет независимость Приднестровья как форму его «особого статуса».
7. Путин ничего нового не обещает по Нагорному Карабаху, что заставляет всех, кто интересуется мнением России, принять статус-кво как долгосрочную реальность. Путин не упоминает специально ни Армению, ни Азербайджан (равно как и Прибалтику). Для многих это должно стать поводом к тому, чтобы снова просчитать свои нынешние перспективы.
8. Путин особо упоминает ответственность России за «становление Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как современных демократических государств», что должно прояснить всем: никакой ревизии их независимости от Грузии — не будет, никакого прекраснодушия в оценках их реалий — нет.
9. Путин продолжает ставить целевые рамки отношениям России с Европейским союзом, которые самим ЕС были многократно отвергнуты: отмена виз при краткосрочных взаимных поездках, равноправие в новом базовом соглашении и энергетическом партнёрстве в целях создания единого энергетического комплекса Европы. Это значит, что неравного торга с ЕС ради мифических выгод больше не будет. Представляется, что ЕС не готов к пониманию этих простых обстоятельств.
10. Путин подчиняет политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе «ускоренному социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока» России. Для этого на деле осталось лишь внятней гарантировать суверенитет России над этой частью своей территории от угрозы ресурсно-арендного аншлюса соседями, с идеями которого уже выступали представители либерально-экономического блока правительства Путина.
11. Путин, как это уже было сказано в отношении его предвыборной программы, окончательно похоронил так и не ставшую реальностью фальшивую «перезагрузку» дел с США, напомнив им о невмешательстве во внутренние дела, уважении интересов, недопущении «односторонних экстерриториальных санкций США против российских юридических и физических лиц», о неприемлемости нынешнего формата ПРО США.
12. Путин помнит о Латинской Америке и Карибском бассейне и их растущих рынках, мягко призывая их не только к рыночной солидарности (и не удовлетворяясь лишь солидарностью с Бразилией в рамках БРИКС).
13. Путин — очевидно, в равной степени в отношении ядерных программ Ирана и ядерного оружия Израиля — выступает за «создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки», что, конечно, не выглядит реалистичным, но резко снижает градус давления Запада на Иран.
14. Путин помнит о задаче защиты континентального шельфа и морских пространств России, особенно в Арктике. Будем надеяться, что фронтальное практическое отступление России в «борьбе за Арктику» в области гуманитарно-безопасностной инфраструктуры хотя бы остановится.
15. Путин без обиняков проводит грань между «защитой прав человека» и «использованием правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств».
16. Путин, к счастью, слышит двадцатилетний стон о проблемах в консульской работе России за рубежом и ставит задачу «расширения заграничных консульских учреждений», развития «сети российских центров науки и культуры». Но в ряду инструментов поддержки соотечественников почему-то называет «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и «Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова», уже прямо не называя «Русский мир», о которых если не говорят ничего плохого, то это уже достижение.
17. И главное в этом пункте: Путин, к несчастью, ни слова не говорит, что доставшееся ему от предшественника законодательное наследие в области поддержки соотечественников делает абсолютно невозможным, если не незаконным исполнение всех его благих намерений в отношении соотечественников, ибо действующий теперь закон позорно и в прямом противоречии с Конституцией России, реальностью и справедливостью, не видит и не хочет видеть в ряду соотечественников никого, кроме «профессиональных русских», в качестве таковых этнографических активистов поставленных на личный учёт в дипломатических представительствах России общим числом, нет, не подлинные десятки миллионов, а от силы 2–3 тысячи человек! Здесь следует добавить, что в другом сегодняшнем своём указе — о демографической политике — Путин впервые столь внятно подчинил задачам демографического оздоровления России её политику по качественной, интегрирующей миграции, естественным образом являющейся миграцией из стран ближнего зарубежья. Этой бы внятности соотечественной политике!
Поворот лица внешней политики России от журавлей в небе, нарисованных лицемерной «перезагрузкой», к собственному дому и тому, что его окружает, — таким видится главный пафос новой внешнеполитической программы Путина. Дай Бог, чтобы это было так — и чтобы это было так не только в указе.
REGNUM, 7 мая 2012