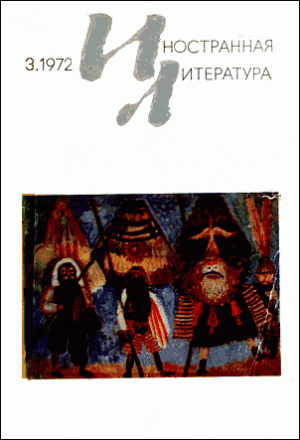
Дорогая!
Я только что вернулся домой со станции и все еще ощущаю специфический запах поезда. Вспоминаю твое лицо и глаза — те, прежние, — и сразу успокаиваюсь, иначе события двух минувших дней свели бы меня с ума. Особенно отчетливо память воспроизводит тот момент, когда ты мыла руки в ванной и мне захотелось поцеловать тебя в плечо, я коснулся твоей руки... Впрочем, ты и сама прекрасно все помнишь. А может, и не помнишь, может, отстранилась от меня бессознательно, поддавшись инстинктивному чувству неприятия? Пустяк? Но он ошеломил меня, лишил дара речи, а это случается со мной очень редко. Не помню, как я выбежал в прихожую, как очутился на улице. Опомнился я только тогда, когда на углу услышал стук хлопнувшей двери. Этот звук испугал меня, и я вернулся. Дверь открыла твоя мать, я солгал ей, что бегал за сигаретами.
В пути от Брашова домой мне тысячи раз вспоминалась эта сцена. Струится вода, вижу в зеркале твое лицо, свою руку на твоей руке и то движение: оно было не резким, но подчеркнутым и мгновенным. Отчего это? Я без конца спрашивал себя, да и тебя тоже: «Отчего?» Ты всякий раз отвечала (если не прямо, то во всяком случае клонила к этому): «Лишняя я тебе». Но почему? В чем ты можешь упрекнуть меня? Как мог я сделать тебя лишней? Ты еще дома то и дело повторяла, будто не занимаешь в моей жизни сколько-нибудь заметного места. Но чем ты ущемлена? Тем, что я много работал? Разве это можно ставить в вину? Я знаю, ты не любишь громких слов, но все-таки, положа руку на сердце, скажи, разве я не прав? Разве я обижал тебя или обманывал? Ты в последнее время устала, пожалуй, немного хандрила, видимо, довела тебя школа, и, конечно, тебе нужно отдохнуть... А оказывается, я всему виной, из-за меня ты стала такой замкнутой и усталой. Ты начала скучать и впадать в дурное настроение, а в такие минуты даже безобидное слово может вывести человека из равновесия. Может быть, поэтому мы и ссорились так часто все эти месяцы?
Но ведь все это несерьезно. Мы схватывались по пустякам — из-за какой-нибудь пропавшей вещи, из-за того, что забыли купить горчицу, из-за пропущенного кино... Дома ты сказала, что тебе невмоготу, что я обедняю нашу жизнь, а в Брашове ты уже говорила о том, что эти мелкие перебранки носят признаки более глубокого кризиса, того, что я не оставляю тебе места в своей жизни. Но я и теперь повторю то же, что говорил раньше: я много работал. Ты прекрасно знаешь, что я жил одной работой, но я всегда любил тебя, люблю и сейчас. Да, мы ругались, ссорились, это бывает у всех, оба очень уставали. У меня теперь все трудное позади, ты в отпуске, отдохнешь у стариков, а то, что было, — быльем поросло, оно лишь временное, преходящее, и не нужно ему придавать значения. Почему ты не хочешь согласиться с этим? Ведь я люблю тебя — всего какой-нибудь час дома, а мне уже тебя не хватает, я бросаю писать, выбегаю на балкон в надежде увидеть тебя на дороге, словно ты вышла погулять на набережной или забежала к Пири, и вот сейчас щелкнет ключ в замке...
Даже после тяжких обид, обмана и роковых ошибок люди налаживают совместную жизнь. А мы? Стоит только захотеть. А почему бы тебе не захотеть? Неужто совсем разочаровалась во мне? Я уже говорил и сейчас повторю: я никогда не думал и не думаю о другой женщине, все думы — о тебе одной, во сне и наяву. Все это, пожалуй, банально, но зато правда. Еще когда ты уезжала и я в последнюю минуту решил проводить тебя, у меня мелькнула мысль уехать с тобой и написать из Брашова директору, попросить отпуск на две недели. В конце концов он мне полагается еще за прошлый год. Но потом раздумал, понял, что тебе необходимо побыть одной. Вот увидишь, как благотворно подействует на тебя этот месяц, у тебя появится хороший аппетит, сон, вернешься домой совсем другим человеком.
За меня не беспокойся, дорогая, я все такой же, каким был. Если ты пришлешь телеграмму, с первым же поездом примчусь к тебе, как в свое время примчался в Клуж, ибо ты была и осталась самым близким мне человеком, и поверь — лишь твоя обида внушает тебе мысль, будто ты ничего не значишь для меня. Когда я с раннего утра до поздней ночи пропадал на работе, все равно я неизменно думал о тебе, и в минуты, когда готов был трахнуть о землю мензурку, ты удерживала мою руку... и напрасно ты думаешь сейчас, что это пустые слова, и насмешливо улыбаешься, впрочем, я и в самом деле восторженный, расчувствовавшийся жираф, но что бы там ни было, я жду, жду тебя... Пишу тебе всякую чепуху. Лучше спи. И знай: я люблю тебя.
■
Герцогиня! Надеюсь, как и приличествует Вашей гордой голубой крови и фамильному гербу, Вы, поразмыслив о нашем житье-бытье, теперь с должным достоинством оцените все перипетии нашей жизни и поймете, что Вам просто не к лицу — простите за вульгаризм — с бухты-барахты взять и драпануть. Между прочим, Ваш супруг просит извинить за вчерашнее слишком сумбурное письмо, но надеется, Вы согласитесь, что именно Ваше, а не чье-либо еще, поведение вывело его из себя, что, впрочем, вряд ли совместимо как с бесстрастием, приличествующим нашему рангу и обязательным для него, так и со здравым рассудком, сопутствующим призванию химика. Но, как выяснилось, химики тоже не бесчувственны, что само по себе удивления достойно.
Сообщаем также, что из пребывающих здесь Ваших придворных дам сегодня утром, во время прогулки верхом (то есть на автобусе по пути в лабораторию по производству алхимических чудо-препаратов) Ваша приближенная, всегда все замечающая Пирошка, обнаружила у нас под глазами круги и, сокрушенно качая головой и причмокивая языком, довела это до нашего сведения. После чего тут же поинтересовалась, как Вы живете-можете, и, явно не скрывая своих сомнений, слушала нашу версию, согласно которой Вы потому не простились с ней чувствительно, что не имели времени из-за уймы дел, скопившихся перед отъездом.
Наши эксперименты в алхимической лаборатории поначалу продвигались из рук вон плохо, то и дело стенки мензурок и листы бумаги, испещренные таинственными знаками, заслоняло Ваше милое лицо, но потом — чего уж греха таить — удалось с головой окунуться в сатанинскую науку. По пути домой у нас появилось было желание зайти в школу, где Вы, поддавшись своим филантропическим порывам, занимаетесь просвещением оболтусов. Нам страшно захотелось подождать Вас у ворот, как это мы столько раз делали в былые времена. Но потом мы отказались от этой мысли, ибо были убеждены, что на сей раз ждать Вас пришлось бы напрасно.
Глубоко опечаленные этим обстоятельством, хотя внешне ничем не выдавая своих чувств, мы, как тому подобает, побрели домой, где нас встретил строгий порядок, который Вы изволили завещать нам. Известное Вам семейство Кактусов, а также Сплетница (урожденная Традесканция) и Рододендрон изнывали от жажды, и хотя мы щедро напоили их, они тем не менее не перестали тосковать по Вашим заботливым рукам. Мы вполне понимаем и сочувствуем им. Всем нам так не хватает хозяйки замка.
Бесконечно преданный Вам муж ждет Вашего возвращения.
Все-таки ты могла бы черкнуть несколько строк.
■
Сегодня утром я, внезапно проснувшись, посмотрел на часы: стрелки показывали пять. Я очнулся весь в поту, словно после какого-то кошмарного сна, хотя, как тебе известно, никогда не помню своих снов. В детстве я осаждал свою мать просьбами рассказать, что мне снилось, считая, что ей известно и это. Я вскочил с постели, отдернул занавеску (она действительно слишком пестрая — ты была права), и когда яркий свет упал на стол, мне почему-то вдруг вспомнилось, как мы с тобой познакомились. Может быть, потому, что тогда так же сверкал стол, за которым ты сидела. Отчетливо помню: на тебе было голубое летнее платье с вырезом, короткими рукавами и какие-то простенькие сандалии. Мне даже пришла тогда в голову мысль, что другие женщины одеваются как будто моднее. Если не ошибаюсь, Клари Чопоти была в платье из какого-то ворсистого материала, а на сидевшей рядом девушке — по имени, кажется, Буба — шуршало яркое нейлоновое платье (во всяком случае все так считали, хотя оно, конечно, было не из нейлона), с накрахмаленной нижней юбкой. И все равно ты казалась самой элегантной; помню, когда я сказал тебе об этом, ты приняла мои слова за дешевый комплимент, но я в самом деле был в этом уверен, и мне совершенно неважно, объективным было мое суждение или нет, — более того, именно субъективность была для меня важнее всего, я сразу же стал пристрастным, ибо ты нравилась мне.
А как необычно я очутился на том первомайском обеде! Нет, не необычно, скорее банально. Я даже сопротивлялся немного, когда меня решили послать в Брашов для обмена опытом, — не хотелось прерывать работу здесь. Но главный инженер заболел, и директор настоял на моей поездке. Да ты и сама все знаешь, зачем только я надоедаю тебе своей писаниной. Но сегодня утром я снова все перебрал в памяти, все обдумал и пришел к убеждению, что должен тебе написать.
Помнишь, небольшая комната была битком набита, дым стоял коромыслом, мы едва слышали друг друга. Играла радиола, танцевали. «Un jour, tu verras...» Ты усмехнулась, заметив, что у меня скверное французское произношение. Я отмахнулся, мол, главное, чтоб сбылись слова песни: «В один прекрасный день, увидишь, мы встретимся вновь». Ты бросила на меня холодный взгляд, и я прочел в нем не только недоумение, но и осуждение подобной сентиментальности. И потому поспешил заметить, что я не циник.
Ты опять пристально посмотрела на меня. С той поры я так и не знаю, голубые у тебя глаза или зеленые. Иногда они даже синие-синие, как ультрамарин, порой зеленые, светло-зеленые, как трава ранней весной. Впрочем, я не очень-то силен в сравнениях, они всегда вызывали у тебя усмешку. Словом, ты пристально посмотрела на меня, но промолчала. Мне показалось странным, что несмотря на очень хорошее настроение ты совсем мало говоришь, и я сказал тебе об этом. Ты не ответила. И с подчеркнутым интересом, словно услышала что-то исключительно важное, стала сосредоточенно вслушиваться в чьи-то слова. Потом, когда шум усиливался, ты будто охватывала взглядом всю комнату, и я замечал, что взгляд этот был невидящим. Хотя лицо твое было невозмутимым, я не сомневался, что тебя терзает какая-то мысль, какое-то смутное, неведомое чувство, обострявшее черты твоего лица, отчего оно казалось усталым. «Что гнетет эту девушку? — думал я. Ты мне очень нравилась, помнишь, я сразу же подсел к тебе. — Наверно, у нее есть какая-то тайна, что-то причиняет ей боль. Я должен раскрыть эту тайну». Но это, скорее, был предлог, оправдание в собственных глазах внезапно возникшего интереса и растущего влечения к тебе.
Наконец, мы сели к столу. К тунцу не оказалось лимона. (Тебе, наверно, смешно, что я описываю все так подробно, будто это происходило не с тобой, но, повторяю, я не могу не писать об этом.) Ты вскочила, чтобы сбегать за ним домой. «Проводишь?» — спросила ты таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Все засмеялись. Возможно, над чем-то другим, но я помню, что все смеялись...
«Родители уехали за город», — сообщила ты по дороге. Квартиры я не разглядел, перед глазами была только ты: контуры твоей стройной фигуры в полумраке прихожей, затем при ярком свете на кухне. «Здесь у нас кладовая, — сказала ты, повернувшись ко мне, — без твоей помощи мне не обойтись — лимоны на верхней полке».
Ты принесла из кухни стул. «Я сам», — предложил я. Встав на стул, я достал лимон и передал тебе. Моя рука невольно коснулась твоей, и мне это было приятно. «Еще один, — попросила ты, — нас ведь много. Не будем скупиться».
Спускаясь на пол, я обнял тебя за талию. Твое лицо было близко, я вдохнул твой аромат, и такое чувство радости овладело мною, будто все это происходило со мной впервые. Я попытался поцеловать тебя. Без гнева и возмущения, а, скорее, с какой-то неизъяснимой грустью ты отстранила лицо. «Зачем так спешить», — сказала ты, и я понял: ты права, все гораздо серьезнее, чтобы можно было спешить. Ведь еще есть время, очень много времени, вся жизнь! Я и впрямь подумал так, хотя тут же с горечью отбросил эту мысль.
В доме Чопоти над нами, помнишь, стали подтрунивать:
— Уж не на Кипр ли они ездили за лимонами?
— Нет, они бегали на улицу Капу, в магазин самообслуживания.
И как бы ты ни отрицала, я снова повторю: во время обеда ты позволила мне ногой касаться твоей ноги, а во время танца ничуть не противилась, когда я крепко прижимал тебя, хотя и не раз пыталась поддеть меня тем, что я танцую старомодно, что, мол, теперь партнеры держатся только за руки, не смотрят друг другу в глаза и делают мелкие шаги. Тем не менее ты танцевала так, как я тебя вел. Напрасно станешь отрицать, все было именно так. И когда в семь часов вечера я собрался уходить, ты меня не пустила. Не спорь, это говорит во мне не польщенное воображение мужчины. Нет, нет! Было именно так — тебя тоже влекло ко мне. Мы как-то сразу, внезапно ощутили обоюдное влечение, — проще сказать не умею, — ты тоже почувствовала, что мы созданы друг для друга. Неужели это только плод моего воображения, результат внезапного увлечения? Разве в магнитном поле взаимных симпатий люди не теряют чувство уравновешенности, у них не кружится голова и они сохраняют способность здраво мыслить? Разве это не тот случай, когда принято говорить, что любовь слепа? А прожитые вместе четыре года? Неужели ты была несчастлива? Совершила ошибку? И теперь вдруг осознала ее? Ведь ты уехала и этим хочешь дать понять (что же еще может означать твой шаг?), что между нами нет ничего общего.
Как мы сидели с тобой в углу, прижавшись друг к другу! Говорили о литературе, о твоих волнениях перед государственными экзаменами, о предстоящем назначении, о твоем страхе перед учениками, о сомнениях насчет того, сможешь ли ты привить им любовь к литературе, и не лучше ли тебе заняться научно-исследовательской работой в академии, поскольку у тебя, кажется, есть способности к филологии; мы рассуждали о диалекте «чанго», и я, конечно, без умолку рассказывал о своих студенческих похождениях. Признался тебе, что иногда пишу стихи, когда-то даже собирался опубликовать их... Но не прочел ни одного, правда, ты просила об этом с нескрываемой насмешкой. Спорили о моде. Затем о кинокартинах. Тебе особенно полюбился один из главных героев фильма «Летят журавли» (уже не помню его имени), а я поносил современные пьесы и назидательные новеллы, ты же хвалила Брехта, предлагая вырваться из традиционных рамок театрального барокко... Я, невежда, мало что понимал, но меня интересовало все. (Видишь, я всегда стараюсь оправдать себя!)
— Что вы там замышляете, заговорщики? — прервал нас Чопоти. Он, как мяч, скакал вокруг — толстый и добродушный, с лукавой усмешкой на круглом, полном лице. Мы знакомы с ним еще по университету — он неплохой химик, но ему, пожалуй, не хватает упорства. К счастью, он попал в хороший коллектив. Да и с женой ему изрядно повезло. Помнишь, как ухлестывал за Клари Чопоти «чертовски смазливый» Преда? Клари — самая милая гусыня на свете, впрочем, тебе это лучше известно, чем мне. Слышал я, будто она сетует теперь, что не попала в университет. Представь себе бедных школяров — ведь она собиралась стать преподавателем географии «по жребию»: бросила в шляпу десять бумажек и вытащила географию. Но для Чопоти Клари — настоящий клад, поскольку она прощала ему (наверно, прощает и по сей день) все его похождения. Кто-то нам рассказывал, как однажды Клари приняла десять таблеток люминала, и после того, как ей промыли желудок, она, поглаживая лысеющую голову мужа, проговорила: «Я верю, Дюсика, ты любишь только меня...»
Вот как умеют жить люди, видишь? Что же мешает жить нам, даже во сне не допускавшим ничего подобного? Неужели мне надо было быть несправедливым к тебе? Неужели этого тебе не хватало? Знаю, я не ангел, у меня миллион всяких недостатков, но все же...
Вот уже два дня, как ты уехала. С тех пор я не перестаю любить тебя. И если ты полюбишь другого, я выпрошу в музее пистолет и убью его. Ни на что не посмотрю, слышишь? Убью. Потом будешь носить мне передачи в тюрьму.
■
Дорогая! До сих пор я не получил от тебя ни одной строчки.
Сижу в буфете за пустым столом, в самом углу. Двое наших сотрудников — один из них тот самый худощавый Йованович, которого ты прозвала Зубочисткой, — всякий раз, как только я принимаюсь писать, допрашивают, что со мной, и я отвечаю, что директор требует срочно представить отчет. По правде же, мне просто не хочется писать в лаборатории, так как Граф и Хаднадь непременно станут совать нос. А почему бы мне и не писать жене, которая уехала в отпуск? Вчера под вечер директор остановил меня и спросил, не могли бы мы с тобой зайти к ним как-нибудь вечером. Я хотел было тут же придумать какую-нибудь версию о твоем внезапном отъезде, но, по-видимому, до того был смущен, что Делеану, который способен видеть человека насквозь, вероятно, все понял. Он прищурил глаза, как делает всегда, когда замечает что-нибудь такое, что другой хотел бы временно или навсегда сохранить в тайне. «В таком случае приходите один, когда захотите», — пригласил он, и слова «когда захотите» произнес не то чтобы с издевкой, а, скорее, с мрачной безнадежностью, будто наверняка зная, что в таких ситуациях человеку вряд ли что-либо захочется. Но не исключено, что это лишь плод моего уязвленного воображения.
Мне очень не хватает тебя. Вчера после обеда я заказал телефонный разговор с тобой на сегодняшний вечер. Проснулся в пять утра, снова ровно в пять утра, и первым делом подумал, что ты не отзовешься, но сейчас уверен, что ты обязательно придешь на переговорный пункт. Утром, ощущая горький привкус сигарет во рту, — не так-то легко томиться в одиночестве в квартире, где все напоминает о тебе (не улыбайся!) — становишься невольно таким отъявленным пессимистом, как в пору юности, когда окончательно приходится мириться с тем, что светловолосая дама твоей мечты принадлежит другому. Видишь, я даже шучу — у тебя научился, но ничего не поделаешь, я никогда не был очень способным учеником, хотя и стараюсь, а это уже кое-что.
Но если говорить откровенно, без тебя мне нечем дышать, с утра до вечера я задыхаюсь, хочу сделать глубокий вдох и не могу, везде ищу тебя, наивно верю, что вот сейчас открою дверь в ванную и увижу тебя там, за голубой занавеской душа, или у кухонного стола, где ты намазываешь масло на хлеб... Из автобуса глазею на витрины и ломаю голову, что бы купить тебе (о, какой я внимательный, любящий муж!), и когда... Но стоит ли продолжать — ты все равно поднимешь меня на смех и, как всегда, обвинишь в сентиментальности. Представляю, как я смешон в твоих глазах!
Собственно, все это я хотел сказать тебе по телефону, но когда говоришь, не видя собеседника, легко сбиться. Так что это письмо — послесловие или предисловие к телефонному разговору, все равно, считай как хочешь. И в конце концов ты могла бы написать — даже совсем чужие люди и то переписываются. А теперь мне пора идти. Привет.
■
Кати, моя маленькая Кати, я очень боялся телефонного разговора, страшно боялся, как бы все не запуталось еще больше, а именно так и получилось. Не помню, как добрел домой, — все дорогу мне чудился твой голос, но ты говорила совсем не то, что по телефону, совсем другое, нечто вроде того, что кричала мне когда-то из Клужа, помнишь, связь тогда все время прерывалась, в трубке что-то хрипело, щелкало... Ведь ты меня любишь, я чувствую и знаю, что это так, об этом я догадывался и по твоему дрожавшему от усталости голосу. Значит, случилось что-то совсем другое, о чем ты не хочешь (пока?) или не решаешься рассказать, а может, и сама не знаешь, как это выразить. Не хочешь больше ссор? А кто их хочет? Неужели мы и впрямь докатились до того, что без ссоры не можем уладить ни одной размолвки?
Как это случилось и что, собственно, случилось — не знаю и не понимаю, но голос у тебя другой, какой-то чужой. Поэтому мне вчера и вспомнилась наша первая встреча, вспомнилось, как внезапно произошло наше сближение, ибо сейчас я испытываю нечто противоположное тому чувству, которое тогда возникло, а теперь исчезло. Поразительно, до чего одинаково могут появиться два совершенно разных чувства, но я утешаю себя мыслью, что это только каприз, усталость, все пройдет и... Может ли эта горечь заглушить сладостные воспоминания о четырех годах? Не останавливай меня: да, сладостные, а не сладкие, не какие-то желейные — ты это презираешь, не подобные малиновому соку, от одного цвета которого тебя мутит (помнишь, как-то раз на Бульваре я хотел угостить тебя прохладительным напитком?), и не просто приятные, а как бы это сказать — напоминающие вкус яблока. Каждая клеточка моего тела осязает тебя, ведь тело — это тоже я, ведь оно неотделимо от разума. Я чувствую, что теряю тебя, но не хочу сдаваться, и ты тоже не хочешь, не должна сдаваться...
Ладно, я успокоюсь.
Как бы я ни излагал свои мысли, грубо или сентиментально, важно одно: я хочу знать правду, знать, что же произошло, что нас разлучило. Неужто и впрямь чувства могут быть автономны? Неужто они сами собой могут остыть, иссякнуть, исчезнуть? Были чувства и нет их — ибо они стихийно зарождаются и так же стихийно исчезают? Как же тогда могла родиться безумная мысль строить выбор и брак на чувствах? Разумно ли опираться на то, что может улетучиться, как дым?
Для химика любая консистенция вещества означает определенность. Но для того чтобы два человека жили вместе и были счастливы, нужно, ну просто необходимо нечто прочное. Брак по расчету искалечил, убил чувства. А на чем зиждется брак, построенный на чувствах, если эти чувства не способны выдержать нагрузки? Мы привыкли говорить: общие идеалы, общие цели. Верно, в какой-то мере это объединяет, сплачивает воедино двух людей, и все же есть (должна же быть) причина нравственного распада, разложения, которые не происходят сами по себе. Необходимо найти возбудителя, он должен где-то быть, возможно, он таится в самих условиях нашей жизни, в нашем прошлом, не знаю, но его надо найти и обезвредить. Усталость, как говорят химики, вызывается износом, насыщенностью или перенасыщенностью. Что обижало тебя, истощило, что оказалось той каплей, которая переполнила чашу терпения? Ты должна помочь мне, иначе мы ничего не добьемся. Или ты устала от меня и хочешь месяц-другой побродить беспечно? Напиши, и я перестану посылать эти письма, не оставляя, однако, надежды доискаться причины. Ты должна понять, что другого средства у меня нет...
Возможно, ты права: лучше мне сейчас не ездить в Брашов.
Уже далеко за полночь, спокойной тебе ночи.
■
Опять утро, и я продолжаю.
Теперь уже с точностью хронометра просыпаюсь ровно в пять часов. До половины седьмого остается достаточно времени, чтобы написать тебе. Еще ночью, лежа в постели, я вспомнил, как однажды мы спорили о чем-то подобном у директора. Было это больше года тому назад, когда приезжал из Клужа Пети Кирай, чтобы написать очерк о нашем заводе. Тебя дома не было, ты вместе с классом поехала на субботу и воскресенье в Сучаву, и когда вернулась, я как бы между прочим заметил, что мы основательно сцепились и тебе остается только сожалеть, что ты не приняла в той схватке участия. Спорили мы тогда не о химии или спорте и даже не о том, где химик-исследователь принесет больше пользы — в каком-нибудь столичном институте или на заводе в провинции, — и на этот раз никто не нападал на министерство, а говорили мы (если не ошибаюсь, я так и сказал) о гармоническом развитии, о том, что по теории Пети называется эмоциональной культурой.
Нас собралось довольно много: Граф, Йошка Хаднадь и его жена, Нора (которую директор чуть ли не нараспев упрямо называл Леонорой), старый Мафтей, Пири и господин доктор (между прочим, оба целуют тебя, а Пири просила передать, чтобы ты хотя бы прислала им открытку). Жена Делеану уложила детей спать, опять посетовала на то, с каким трудом засыпают малыши из-за грохота на стройке. Граф принес бутылку коньяка «пять звездочек», директор принялся варить кофе в колбе, а мы острили насчет того, что она опять взорвется, как в прошлый раз, когда к нам приезжал берлинский инженер. Помнишь, во что превратился белый костюм этого бедняги, хорошо, что он обладал чувством юмора и имел костюмы в запасе.
Вначале Хаднадьне затеяла дискуссию с Пири и Норой о платьях с удлиненной талией. Грузный, широкоплечий здоровяк Пети (ты как-то сказала, что помнишь его и даже немного знакома с ним еще по Клужу), похожий на мускулистого штангиста, ерзал на стуле так, что стул под ним скрипел. Он не мог долго слушать, сам любил побалагурить и начал рассказывать, что был в Москве на демонстрации мод Диора, но едва вызвав у женщин интерес, тут же перевел разговор на другое, заговорил о новых театральных постановках, потом перешел на анекдоты. Граф, как тебе известно, большой молчун, слушал, слушал и вдруг спросил, как поживает... он назвал имя, которое, по-видимому, никому ничего не говорило, да и мне тоже. Пети Кирай на миг помрачнел, затем сказал, что тот жив и здоров, и махнул рукой, мол, незачем о нем вспоминать.
Мы отхлебывали кофе и похваливали директора за его искусство. Пети поставил свою чашечку и, по обыкновению глубоко вздохнув, дал собравшимся понять, что просит соблюдать тишину, — он собирается говорить. И что удивительно, все поняли своеобразное предупреждение, хотя эту манеру Пети мог знать только я да Граф.
«С вашего позволения, я вам кое-что расскажу, — начал Пети. — Ганси Граф только что поинтересовался одним нашим общим другом из Себиу. Этот талантливый человек, инженер-электрик, с детства был помешан на радиоэлектронике, а сейчас увлекся кибернетикой и добился серьезного успеха. В частности, он один из создателей запоминающего устройства электронно-счетной машины, являющейся достижением мирового масштаба. Между прочим, сам он не без странностей, типичный фанатик. Когда он работает (а работает он всегда!), для него ничего не существует, он сутками может не есть и не пить, если не заставят, а то наденет разные носки, ну, как известный по анекдотам рассеянный профессор, но вместе с тем прекрасный собеседник — с ним можно говорить о чем угодно: он интересуется водным поло и модами, обстоятельно разбирается в достоинствах и недостатках неореализма, просто черт знает как у него на все хватает времени. Первый брак его был неудачным, в него влюбилась какая-то смазливая певичка из театра оперетты, но через два года он ей наскучил, и она его бросила. Ну так вот, с этим человеком произошло ужасное несчастье. Один друг, вернее коллега, посадил его возле института на свой мотоцикл. Об остальном можете догадаться. Если не ошибаюсь, они врезались в грузовик. Водитель мотоцикла отделался тремя сломанными ребрами и переломом ключицы, а нашего друга, поскольку они мчались, конечно, с бешеной скоростью — ведь это у нас теперь модно, как твист, впрочем, есть уже новый танец, который затмил его... — словом, нашего друга, прямо-таки вышибло из сиденья и с огромной силой бросило на груду камней. С тяжелым повреждением черепа его доставили в больницу. Несколько месяцев боролся он со смертью, перенес две трепанации черепа; чтобы спасти его, то и дело собирался консилиум лучших специалистов. Не раз теряли всякую надежду, но парень все же выжил, начал поправляться. Было неясным одно: сможет ли его организм нормально функционировать. Мы еще не постигли всех тайн мозга, поэтому глупо говорить, что врачи сотворили чудо; но как бы там ни было, а наш друг вышел из пасти смерти полноценным человеком: ни речевой аппарат, ни память, ни какой-либо другой жизненно важный центр не пострадали. Правда, по-прежнему оставалась опасность того, что рубец на месте заживления, раздражая кору головного мозга, может стать причиной приступов эпилепсии».
Вступление у Пети Кирай получилось несколько длинным, хотя он, очевидно, и так упустил много важных деталей. Затем он перешел к самой сути. «Нашего друга отправляют, конечно, в санаторий, где он, как нетрудно догадаться, знакомится с молодой девушкой примерно лет двадцати, красивой, умной и образованной. Девушка влюбляется в нашего друга, а тот, хотя его и влечет к ней, сторонится ее, боится признаться в своем недуге. Девушке известно о постигшем его несчастье, она готова к самопожертвованию — двойная сила любви и уважения, безотчетной страсти и бескорыстной преданности доводит ее до исступления. Девушка эта, кстати, архитектор и знаменитая фехтовальщица — на ее счету несколько международных встреч, чемпионат страны и прочее...»
Граф, будучи заядлым болельщиком, не выдержал и перебил: «А это случайно не Ольга Бан?» — «Нет», — отмахнулся Пети. Он все равно не назовет имени, незачем гадать. Да и дело не в имени. «Словом, парень ни на что не решается. И вполне резонно, поскольку девушка не представляет себе, что ей грозит в будущем. В конце концов он все выкладывает ей начистоту. Девушка, не колеблясь, заявляет, что она готова к чему угодно. Расстаются они женихом и невестой. Счастливая невеста дома все рассказывает родителям, что в нынешние времена случается довольно редко. В ее семье, однако, господствовали патриархальные порядки, а глава семьи пользовался непререкаемым авторитетом. Отец девушки, между прочим, всеми уважаемый геолог, сын хирурга, словом, воспитывался в старой интеллигентной семье, где придерживаются передовых взглядов, почитают французскую культуру, в партии не состоят, но, как говорится, сочувствуют. Родители и слышать ни о чем не хотят. И тут назревает столкновение между старым и новым. Девушка сначала впадает в меланхолию, ходит как тень, лишается сна и аппетита, проигрывает на соревнованиях одну встречу за другой и, наконец, решается порвать с семьей. Она работает, заявляет она родителям, пользуется известностью и может поступать так, как ей заблагорассудится. К ней приводят хирурга, который оперировал нашего друга. Девушка молча выслушала его и, когда врач ушел, заявила, что она непреклонна в своем решении. По мнению профессора, тут, как в лотерее, — приступ может случиться, а может и не случиться. А если и будет один, вполне вероятно, что больше он не повторится...» — «Вряд ли», — тихо, спокойным тоном произнес Додо, склонив, как всегда, голову на плечо Пири. «Это не столь существенно, доктор, — продолжал Пети Кирай, — слушайте дальше. На свадьбу родители девушки не пришли. Правда, в мировой истории подобное уже случалось, но парень понимает, что родители девушки опасаются того же, чего боится и он. Семь месяцев прожили они счастливо. Да разве можно быть несчастливыми первые месяцы? Парень снова начал работать, меньше, но так же успешно, как прежде. Теперь он уже благодарил за свою вторую жизнь не только врачей, но и жену. Но вот однажды ночью случился приступ...»
Додо, как врач, проявил к этому живой интерес. Он резко поднял голову с плеча Пири и несколько громче, чем обычно, спросил: «А затем еще один приступ, на следующий или на третий день, верно? Что-то вроде серии приступов...» — «Нет», — возразил Кирай. «Значит, парню повезло», — не унимался Додо. «Возможно, — пожал плечами Пети, и его нервно мигавшие глаза подернулись грустью, — на третий день произошло нечто другое. Девушка ушла от него». — «Как ушла? — спросил Делеану. «Очень просто, — ответил Кирай. — Уложила вещи и ушла. Сказала, что не вынесет ни минуты больше. Просто не может. И вернулась к своим родителям».
Как бывает в таких случаях, заговорили все сразу. Помню визгливый голос Хаднадьне: «Девушку нельзя винить...» — «Перестаньте, — забыв о вежливости, взволнованно перебил ее директор. — Мы судим не на основании уголовного кодекса. Избалованную девчонку к суду не привлечешь». По его мнению, с ней следовало обойтись так же, как поступали во времена Фридриха Великого: всыпать двадцать пять горячих...
Однако пора кончать, дорогая, ибо уже половина седьмого. Правда, я не успел рассказать тебе о самом главном — о теории Пети, но о ней напишу вечером или завтра утром.
■
Дорогая Катинка, вчера я добросовестно вскипятил молоко и тем не менее к утру оно скисло, очевидно, именно от того, что я его уже кипятил вечером; готов признать, что мне, как химику, нужно уметь хотя бы кипятить молоко. Да, есть за мной один большой недостаток: я человек нехозяйственный. Уже разбил столько стаканов и тарелок, что их вполне хватило бы на целый ресторан, купил столько килограммов мяса, что даже вегетарианец и тот мог бы умереть с голоду. Так дальше продолжаться не может! Возвращайся домой и сама увидишь, что по сравнению со мной самый первоклассный кондитер будет выглядеть халтурщиком, а Делеану, этот прославленный кулинар, будет учиться у меня делать покупки.
Ты бросила меня, и я брожу один по земле, словно потерял что-то самое главное, без чего нельзя жить. Я хотел написать, что ищу свою руку, как солдат, у которого оторвало ее, — еще отец рассказывал мне о раненых, просыпавшихся по ночам от страшной боли в руке или ноге, которой у них уже не было. Можешь надуть губы от эффектного сравнения, но так просыпаюсь и я на рассвете, сдерживая в душе крик: где ты? Хочешь верь или не верь, но я готов был бы расставить повсюду все твои фотографии, если бы не боялся, что ты вдруг нагрянешь.
На чем же я остановился? Да, когда Пети закончил рассказ, разгорелся спор. Многим из нас хотелось оправдать девушку, и мы ее оправдывали. Я и сам подумал: в конце концов бывают положения, когда неверность вызвана невыносимостью сложившихся условий, и никаким нравственным законом нельзя обрекать кого бы то ни было на роль вечной санитарки, заставлять всю жизнь ухаживать за больным человеком. Однако я понял, что Пети интересует не этот конкретный случай. Вот только не догадывался, какой вывод он собирается сделать. Йошка Хаднадь сослался на Достоевского — ты ведь знаешь, что он без ума от этого писателя, — он напомнил сцену, когда князь опрокидывает вазу, впадая в безумие, будучи вечером в гостях в доме Епанчиных. Доктор поддакнул — он в таких случаях всегда педантичен, — сначала заговорил об эпилепсии вообще, а затем о болезни самого Достоевского, о чем он прочел в какой-то книге. Но Пети Кирай, вспылив (в пылу полемики он всегда входит в азарт и часто оскорбительной несдержанностью пытается доказать свою правоту), буквально накинулся на Додо: «Сейчас речь идет не о болезни. А впрочем, врачи, как я это нередко замечал, забывают, что подлинный объект их профессии не болезнь, а здоровье. Нас интересует не болезнь нашего друга, а поведение девушки». — «Одно с другим связано, — улыбнулся Додо как всегда снисходительно. — Диагноз нельзя ставить без учета обстоятельств и взаимосвязи внешних и внутренних причин». — «Верно, — прогремел Пети. — Но на кой черт нам сейчас нужна эта прописная истина? Вы, надеюсь, все читали «Идиота»? Йошка Хаднадь только что упомянул вазу, разбитую в доме Епанчиных, но он забыл о том, что отвергавшая всех женихов, гордая, знавшая себе цену красавица — дочь генерала Епанчина — не потому разрывает с несчастным князем, что он болен. Ей ведь тоже известно, что с ним случаются приступы безумия, и все же ее влечет к нему. Аглая решает даже выйти замуж за Мышкина. И только потому рвет с князем, что он по-прежнему любит Настасью...» — «Помилуйте, коллега, — сверкнул зубами Додо, — ведь эта Настасья тоже сумасшедшая, и в любви князя к ней больше патологического влечения, чем нормального чувства...» Кирай разозлился и, повысив тон, сказал, что Додо пора наконец понять, что он говорит не о больном князе, а о здоровой Аглае, которая не отвергает больного князя.
Вмешалось сопрано Хаднадьне: ей кажется, что Йошка прав. Она видела только фильм, но до сих пор ее бросает в дрожь при одном воспоминании о приступах того сумасшедшего...
Нора пристально посмотрела в глаза Пети и сказала, что она согласна с ним. Дело тут, конечно, не в этой девушке, а в том, что мы, люди, вправе претендовать на сложные чувства. Она задумалась, потом заметила, что в данную минуту более точно выразиться не может, и добавила: «С каждым из нас может стрястись беда, большая или маленькая, и каково бы нам было, если бы в такой момент наш спутник жизни отвернулся от нас?» Альт Норы (кажется, так называют этот бархатный голос, правда, он у нее немного хрипловатый — не столько от курения, сколько от того, что она никогда не делает нормального вдоха, когда говорит) всегда водворяет тишину. Красивых женщин, если к тому же они и умны, неизменно окружает ореол уважения. Но на сей раз Кирай не стал сдерживать свой пыл. А может, он именно хотел подчеркнуть родство их душ, свою симпатию к ней (он даже не старался отвести взгляда от Норы) тем, что пренебрег неписаными законами насчет привилегий красивых женщин. Во всяком случае, он перебил ее. «В жизни бывают не только несчастья и крайности», — сказал он. «Вот именно! — невозмутимо продолжала Нора. — Утверждают, что самый главный враг чувств — привычка, скука серых будней. То и дело приходится слышать: они надоели друг другу. Этого никоим образом нельзя допускать».
Нора закончила свою мысль, но Кирай, прежде чем начать говорить, взглядом как бы попросил у нее разрешения, и я заметил, Нора тоже одними глазами, не без легкой иронии и вместе с тем любезно уступила ему слово. Только после этого он признался, что пришел точно к такому же выводу. Он, конечно, рассказал об исключительном случае, но если хорошенько поразмыслить, крайности всегда резче оттеняют суть явлений. Исключительность этого случая, сказал он, не означает, что типичные случаи не бывают частными, и привел слова Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В этом смысле любой случай является частным и, очевидно, каждому можно найти объяснение. Он не настаивает на том, чтобы несчастливые по какому-то высшему нравственному долгу до конца жизни не разрывали супружеских уз. Это, по его мнению, как раз было бы безнравственно. Вопрос в том, почему эти люди несчастливы, более того — он наконец так сформулировал вопрос: действительно ли они несчастливы?
Неожиданно он всех стал называть на «ты». «Ты сейчас мог бы сказать, что чувства в равной мере субъективны и объективны. Это в самом деле так. Если подходить к этой проблеме с точки зрения субъекта. Вместе с тем, положа руку на сердце, могу утверждать, что восемьдесят процентов нынешних несчастливых браков порождены... прошу вас не шарахаться от изобретенного мной термина... тем, что эти люди лишены эмоциональной культуры. Ибо что может удерживать вместе людей, которых терзают беды, заботы, болезни, которых повседневная жизнь может и сблизить, и отдалить друг от друга — а это, как подметила Нора, случается довольно часто, — словом, что же может удерживать их вместе? По всей вероятности, дети, скажете вы. Но довольно часто распадаются семьи, где есть даже два ребенка. Что же тогда? Давайте проанализируем все с самого начала».
Он довольно пространно рассуждал затем о браке по расчету, в котором материальная сторона играет главную роль, об аристократах, женившихся на девицах из богатых буржуазных семей и тем положивших начало утрате своего политического господства. Он высказывал общеизвестные истины, но делал это, как всегда, интересно, и, несмотря на одностороннее, а порой и необъективное освещение того или иного вопроса, его все же стоило послушать, хотя бы ради того, чтоб и самому включиться в полемику. Вот и теперь он в категорической форме утверждал, что буржуазный брак исключает чувства, поскольку он зиждется на имущественных интересах, с чем, конечно, ни в коей мере нельзя мириться.
«Нельзя делать такие обобщения», — к нашему величайшему изумлению, произнес Мафтей, который в тот вечер был даже молчаливее Графа. Насколько я помню, в тот день в его отделе какая-то комиссия проверяла оборудование, и меня ничуть не удивляло, что его распухшие, красные веки то и дело закрывались, но тем не менее он, видимо, прислушивался к тому, о чем шла речь. По его мнению, как бы доходчиво и остроумно ни излагал свою точку зрения Пети, то, что он сказал, справедливо лишь в общих чертах. Он знает много таких браков, которые подтверждают правоту Кирая, но знает и другие, по-настоящему счастливые браки. Можно ли их отнести к тем исключениям, которые подтверждают правило? «Не совсем, — ответил Пети Кирай. — Дело тут вовсе не в правилах, а в исторически сложившемся положении. Разве это значит, что я исключаю субъективные факторы?! Именно таковым объективно должен был стать буржуазный брак. Для партнеров он был школой лицемерия, да и как же иначе? Человек способен вызывать осознанное чувство у других, и в этом его превосходство над животным, благодаря этому он и стал человеком. Внешне — счастливая семья, а под спудом — столько всего неполноценного, обманного, начиная от роли матери почтенного семейства и кончая донжуанством мужа, который волочится за артисточками, покупает абонемент в дома терпимости или ищет другие приключения. Одним словом, любовные утехи призваны были создать иллюзию подлинного счастья. Кто не мог мириться с этим, тот старался вырваться из порочного круга, и ему либо удавалось это, либо он погибал». — «Понимаю, что вы хотите сказать», — перебила Нора Кирая, когда тот завершил свою тираду. Делеану полушутя попросил было слова, но затем извинился перед Норой и сказал, что выскажется позже… Нора стала доказывать, что пришло время, когда люди должны свободно, руководствуясь только своими чувствами, строить семейную жизнь, то есть личное счастье. «Но всякому известно, что и ныне бывают браки по расчету, они, правда, строятся не на имущественной основе, а на другом: например, на высокой зарплате или общественном положении мужа, или, скажем, на социальном происхождении жены. Каждый из нас мог бы привести немало подобных примеров. Сколько браков заключается ради того, чтобы получить прописку в столице или в другом городе, или ради того — и это стало довольно частым явлением, — чтобы обзавестись жилплощадью? Против этого, пожалуй, бессильна эмоциональная культура...»
Пети не согласился. Назвал все это преходящим явлением. Когда Хаднадьне пролепетала, что всегда будут карьеристы, Пети, насмешливо улыбаясь, повернулся к ней: «Неужели? По-моему, когда-нибудь они переведутся». — «Вряд ли. Во всяком случае пока еще не перевелись». — «Но я имею в виду не их, а тех людей, которые вступают в брак по любви, без всякой корысти или, если угодно, без карьеристских целей. Причем их, конечно, гораздо больше, чем карьеристов. И тем не менее, сколько несчастливых и среди этих браков! В чем же причина? Отсутствие эмоциональной культуры выявляется сразу же при выборе спутника жизни. Ведь не в приданом счастье. Так в чем же тогда? Во взаимном влечении, в симпатиях и в том, что рождается из этого, — в чувстве. Здесь немалое значение имеет и сексуальная сторона. Но кто ограничивается лишь одним половым влечением к тому, с кем намеревается прожить всю жизнь, тот скоро разочаруется. Говорят, у кого какое счастье, кому какой человек встретится. Но счастье и в том, кого ты выберешь, кто тебе понравится, к кому влечет тебя. А для этого нужно кое-чем обладать, и это «кое-что» называется эмоциональной культурой. Если приключится эта беда, наступят трудности, начнут угнетать серые будни — мало ли что может произойти с обоими, — что же тогда поможет им? Взаимное уважение, любовь, обоюдная солидарность людей, ценящих достоинства и красоту друг друга? Но для того чтобы осознать, что верный спутник жизни — твой друг и твой любимый — несравнимо дороже объекта минутной страсти, человек должен обладать эмоциональной культурой».
Мы еще долго спорили, хотя остальное было несущественным. Мне кажется, все это имеет какое-то отношение и к нам, поэтому я и написал так подробно. Директор тоже принял участие в разговоре — я об этом потом напишу. Пожалуй, расскажу еще о споре Норы и Кирая, когда мы уже шли домой. Но который же теперь час? И будильник и ручные часы стоят. В квартире Пири горит свет, значит, еще не спят. Пойду спрошу.
■
Катика, почему ты молчишь? После обеда, когда я, вернувшись домой, вставляю ключ в замочную скважину, во мне спорят два голоса — один нашептывает: там, за дверью, едва переступив порог, увижу на полу твое письмо; другой ворчит на него за то, что он обманывает меня, ведь за дверью явно ничего нет. А я, словно некое третье, постороннее лицо, стараюсь быть безучастным и рассудительным, но не получается... Признаюсь, едва выйдя с завода, я уже начинаю думать о твоем письме, даже отчетливо вижу его — твой почерк на конверте, черный штемпель на марке. Потом оно то исчезает, то появляется вновь, словно повинуясь спору двух внутренних голосов. За дверью, конечно, пусто...
Мне понятно твое молчание, не могу понять только, почему ты решила отвечать мне именно таким образом? Мне даже ясно, что ты хочешь сказать. Ты всегда умела молчать. Вскоре после нашего знакомства меня поразило непроницаемое безмолвие, которое иногда выражает твое лицо. Бывая у тебя в Клуже, я замечал замкнутость, которая то и дело туманила твой взор, хотя ты и вела себя со мной свободно и непринужденно. Я даже задавал нелепый вопрос, что с тобой происходит, но ты всегда отмалчивалась. Если уже тогда меня тревожила неизвестность, таящаяся за твоим молчанием, то теперь она беспокоит меня во сто крат сильнее. И размышляя над тем, почему ты была такой, я неизбежно делаю вывод, что причины и теперь те же.
Сегодня утром память воскресила тот вечер, помнишь, в Шуллере, когда ты открыла мне все. Вспомнилось до мельчайших подробностей, как мы забрались туда. И давка у кассы фуникулера, и те ошалевшие, орущие, дерущиеся мужчины и визжащие женщины, и та грубая и заносчивая кассирша — я никогда ее не забуду. На мне разорвали рубашку, ты пыталась вытащить меня из толпы, кричала, что лучше подняться пешком, но вырваться из толчеи было невозможно. Я буквально задыхался. Было это скорей всего в воскресенье, потому и народу собралось так много. А впрочем, не помню. Меня терзали дурацкие предчувствия, я решил: раз так плохо началось, значит, плохо и кончится. Ты пыталась отереть пот с моего лица, но началась такая давка, что тебе не удалось даже пошевелить рукой.
Но зато какая удивительная тишина воцарилась потом, когда вагон стал подыматься вместе с нами. Ее нарушало лишь гудение троса да легкий стук роликов, подпрыгивавших у стоек, а мы парили в вышине. Равновесие между всем остальным миром и нами было идеальным, и это парение между небом и землей было физическим, реальным воплощением моего душевного состояния с тех пор, как я познакомился с тобой. Я хотел было поделиться с тобой этой мыслью, но ты не позволила. Не надо говорить, пусть что-нибудь останется невысказанным. Я не понял, почему ты так сказала. Мне даже представилось это циничным, чем-то вроде новой моды не доверять чувствам, которые выказываются сразу. Однажды мы поспорили, помнишь, там, в цитадели — ты меня просто отчитала за высокопарные слова.
А какая чудная погода выдалась тогда! Только в первый вечер небо заволокло тучами, и мы грустили, словно случилась какая-то беда. Как мы тянулись к солнцу!.. Ты как раз сдала государственные экзамены и была бледной от долгого пребывания в библиотеке, а я насквозь пропах химикатами (тебя рассмешило это выражение). Помнишь, как мы волновались, — уж очень хотелось, чтобы на турбазе было мало народу и ты смогла получить единственный одноместный номер. Это была скромная, но приятная победа, когда все сбылось, как было задумано. Я любовался твоим умением молча, не говоря ни слова, радоваться одними глазами, походкой, ставшей вдруг упругой и решительной. Мне досталась койка в общей комнате и сосед, который ужасно храпел. На другой день мы покатывались со смеху, когда я копировал его. Он выделывал что-то невероятное: визжал как пила, хрипел, свистел без перерыва до шести часов утра. Утром он встал, ушел умываться, вернувшись, надел клетчатую рубашку, потертые кожаные шорты, белые с узором гольфы и большие кованые ботинки. Увидев меня лежащим с открытыми глазами, он подошел и представился, словно извиняясь. Лицо его выражало смятение и стыд, я чуть было не рассмеялся, но мне вдруг стало жаль его, и я сказал: «Я ничего не слышал». Очевидно, по моим воспаленным, затекшим глазам он понял, что я солгал. Наверно, это обидело его, он помрачнел и отвернулся, потом схватил свой рюкзак и, не прощаясь, ушел.
Я все равно не смог бы уснуть, и ты хорошо знаешь почему: ты не пустила меня к себе. Я ничего не сказал — начал уже осваивать игру в молчанку. Мне никогда не удавалось освоить ее в совершенстве, видимо, хорошего артиста из меня тоже не получилось бы. Но у темперамента есть свои законы, и они порой сильнее общепринятых норм и правил. Пожалуй, слишком часто я досаждал тебе, грубо и горячо говорил о том, что меня задевало или просто казалось важным, не думая о всех последствиях. И не всегда для того, чтобы просить твоего совета или услышать твое мнение, а просто так, чтобы излить душу. На следующий день, даже спустя какой-нибудь час или два, обдумав все до конца, я нашел бы, наверно, совсем другие слова. Может быть, при необходимости постоянно соблюдать дисциплину научного мышления — ведь подобная опрометчивость в науке чревата опасными последствиями — эта беспорядочная реакция на другие стороны жизни означает для меня какую-то отдушину и все это вместе создает душевное равновесие, в котором я, по складу своего характера, испытываю острую нужду. Или это поиски оправдания?
Во всяком случае в тот вечер, когда мы простились у твоей двери, я сдержался и промолчал. Может быть, потому, что между «нет», произнесенным тобою тогда, и твоей тайной — я называю это тайной — усмотрел взаимосвязь. Кажется, я никогда не говорил тебе об этом, более того, на следующий день, наверно из глупого самомнения, только и сказал, что не понимаю, почему ты так поступила. Ничего больше. Между тем я отчетливо сознавал и то главное, и мотивы твоего поступка. Ни минуты я не сомневался, что это был просто каприз, игра, а может быть, жеманство. Я знал, что ты меня любишь, — как все было тогда просто.
Теперь меня вдруг осенило, что та ситуация (ты по ту, а я по эту сторону двери) повторилась в нашей жизни. Она повторилась, когда я проводил тебя в Брашов и, глупец, не усмотрел ничего особенного — тогда это показалось мне естественным или случайным — в том, что у твоей матери мы спали в разных комнатах. Ведь отец твой был в отъезде, и я подумал, что тебе надо вволю наговориться с мамой. Интересно, то же ли это было «нет» или все-таки иное? Ты понимаешь, оно причиняет мне неизмеримо большую боль, чем то, прежнее, ибо тогда была причина запираться от меня, а теперь... Одним словом, это уже внутренний протест, отчужденность, холодность, отвращение. Может быть, я неправ? Успокой меня, скажи, что это просто усталость, скажи мне, дорогая, что это пройдет, когда ты отдохнешь, окрепнешь. Напиши же мне что-нибудь, хоть два слова, ответь, чтобы я не думал о самом плохом.
О чем я думал тогда, в первый раз, у твоей двери? О недоверии. Ты знаешь, что я имею в виду, — не о твоем недоверии, а вообще. Да, в этом ключ к разгадке тайны, думал я. Что-то или кто-то убил в тебе доверие к людям. Нет, я ошибаюсь: ты верила в людей, но не верила в любовь, в счастье. Это громкие слова, но потому они и стали для тебя такими, что ты не верила в них.
Труднее всего человеку бороться с мерзостью — она может надломить его. Для этого не надо быть слишком чувствительным, достаточно быть молодым и безоружным. Он был мерзавцем, и не стоило ворошить прошлое. Он обманул тебя не только тем, что по привычке обещал вечное счастье, — это была самая затасканная ложь, какой он оделял каждую женщину, а для тебя она была откровением, самой жизнью. Он понимал это, ведь он тебя знал. Но самое главное — он обманул тебя тем, что даже то, что он дал тебе, не было настоящим. Ты и сама чувствовала это, догадывалась, но только благодаря мне узнала точно и окончательно. Благодаря мне? Благодаря нам обоим, благодаря тому, что мы встретились и соединились.
Никто не знал, что Л. карьерист. Он не из породы пронырливых, пробивных, и волком в овечьей шкуре его тоже не назовешь. Он из тех, кого можно назвать лишь потенциальным или пассивным карьеристом, — такие не ищут случая, а просто пользуются им. И открыто бегут в кусты, если что-то может им помешать. Он сблизился с тобой не по расчету, но порвал из корысти, так как дочь снятого с работы директора завода — плохая партия.
Мне кажется, карьерист может обладать многими качествами, более того, у него могут быть и незаурядные способности, но все дело в том, что ему не хватает упорства и терпения честным путем добиться желанной цели. Тщеславие побуждает его ни во что не ставить своих друзей, а честолюбие и самомнение внушают мысль, что все, чего бы он ни захотел, ему всегда доступно. Такой человек может быть и вреден и полезен — если у коллектива хватит сил обуздать его нрав и заставить его талант служить делу.
Но такие любители ловить рыбу в мутной воде, как Л., обычно безнадежно серы, и хотят они не преуспеть в чем-то, а просто подняться повыше, не лелеют большую мечту, а стремятся просто быть на виду, не жаждут популярности, а, наоборот, мечтают о сереньком уюте, о «железобетонной» должности. Такие просто стараются втереться в доверие, чтобы обеспечить себе премию, продвижение по службе, а летом — путевку в санаторий.
В первую же ночь выяснилось (не боюсь писать об этом — я должен об этом написать), что он даже любить не умел и совершил обман уже тем, что сделал тебя женщиной. Эгоизм парализовал в нем даже инстинктивные порывы, он настолько стал его второй натурой, что и любовный порыв доставлял радость ему одному, — он не способен был дать тебе даже того, чем человека наградила сама природа.
Та, вторая жизнь, которая началась для тебя после нашей встречи, означала одновременно счастье (что поделаешь, нет лучшего слова) и несчастье. Только теперь ты вдруг поняла, какой была бедной, когда считала себя богатой, ощутила все убожество той жизни и еще сильнее жалела свои растраченные чувства, растоптанное доверие. Понадобилось немало времени, чтобы я понял, что происходит с тобой. Я ревновал тебя к Л., ненавидел его, поскольку наша жизнь еще долго возрождала в твоей памяти прожитые с ним дни. Ты была счастлива, но слишком медленно проходило щемящее чувство, вызванное разочарованием.
По утрам, в пять часов, царит полная тишина — даже на стройке не работают, — и в пустой комнате (потому что без тебя она действительно пуста) мне приходит мысль, что в последнее время именно это щемящее чувство делало тебя молчаливой. Неужели ты и во мне разочаровалась? Но почему? Знаю, с тобой что-то происходит, что-то тебя угнетает, чем-то я тебя обидел. Чувствую, что истина где-то рядом, но один, без тебя, я не могу ее найти. А знать ее, поверь, дорогая, нам обоим необходимо, без этого мы ничего не решим. Теперь я уверен в том (ведь я тебя знаю как свои пять пальцев), что за твоим, похожим на прежнее, душевным состоянием скрывается какая-то разочарованность, невысказанная боль. Но что же произошло между нами? Я готов рвать на себе волосы, что вовремя не придал этому значения. Сейчас ты могла бы сказать, что той энергии, какую я трачу на эти письма, вполне хватило бы на то, чтобы предотвратить все... Ты права. Но все же, если стряслась какая-то беда, давай вместе одолеем ее. Ведь это и есть эмоциональная культура: уметь любить и в беде — во всяком случае я так понимаю. Неужели же мы отвернемся теперь друг от друга и не будем стараться найти выход? Ты не хочешь, чтобы я к тебе приезжал, согласен, но тогда пиши, отвечай, ты должна мне ответить! Если в нашей совместной жизни было хоть что-то настоящее, подлинно человеческое, — мы не вправе сдаваться без боя.
Пиши и попытайся любить, ведь ты любила и хорошо знаешь, что я тебя люблю.
■
Мама, дорогая!
Ваше письмо доставило мне огромную радость. После телефонного разговора это первая весточка о Кати, можете себе представить, как я жду известий о ней. Теперь вам уже все известно, так что простите меня за прошлое вранье. Я не хотел вас волновать. Правда, я и сам многого не знал тогда. Да и сейчас скорее догадываюсь о том, что произошло. Внезапный, похожий на бегство отъезд, усталый, холодный голос по телефону, молчание — всего этого более чем достаточно (вот именно — более чем достаточно) для того, чтобы я понял: нас постигла какая-то большая беда.
Теперь я знаю немного больше, но тем не менее полной ясности у меня нет. Как понимать, что Кати больше невмоготу? Вы, мама, были у нас, видели, как мы живем. Я не без опасения пишу, что мы имели все необходимое. У матерей на этот счет всегда особое мнение. Но что бы там ни было, это «все необходимое» — относительное понятие. Мы молоды, оба работаем, имеем квартиру, библиотеку, радиолу... но ведь Кати не такой человек, чтобы впадать в меланхолию из-за того, что у нее нет холодильника, или из-за того, что она не может сидеть позади мужа на мотоцикле. У нас не те идеалы (не хочется писать в прошлом времени), и запросы у нас общие, между нами никогда не возникало разногласий по этому поводу, а тем более ссор.
Значит, речь идет не об этом. Ей невмоготу? Неужели я создал такую обстановку, что наша совместная жизнь стала для нее невмоготу? Возможно, но, честное слово, мне никогда и в голову не приходило считать ее обузой, как это она в последнее время постоянно внушала себе. Правда, последние полтора года я работал как зверь, даже в отпуск не удалось уйти прошлым летом. Но ведь у Кати тоже была своя работа, причем она довольно много была занята. Мне ли рассказывать вам, мама, о работе, ведь вы сами всю жизнь трудились. Верно, что в эти полтора года я меньше уделял внимания Кати, но она никогда не любила, чтобы ее опекали. Вы, мама, тоже знаете, за какое большое дело я взялся и, конечно, по вечерам обычно возвращался домой предельно усталым. Но ведь так не будет продолжаться вечно. А если бы и вечно, разве два близких человека не могут сочувствовать друг другу и помогать в работе?
Кажется, врач прав: все это следствие нервного переутомления, и когда она отдохнет, пройдут и эти навязчивые идеи. Потому-то и не хочу сейчас ехать в Брашов, понимаю — Кати нужно побыть одной, пусть совершает прогулки, ходит купаться, побольше спит. А через месяц я приеду за ней и мы вернемся домой.
Поверьте мне, дорогая мама, никаких других причин нет. Понимаю, что вы подозреваете невесть что, и знаю также — мало ли что может произойти с каждым. Но если бы произошло хоть что-нибудь похожее на то, чего вы так опасаетесь, мама, то как бы мне ни было это неприятно, я все равно признался бы сейчас, ведь нет никакого смысла отрицать: с Кати можно жить только по законам правды.
Прошу вас, напишите, будет ли Кати отвечать на мои письма или нет. И о себе тоже. Что поделывает дядя Шани, как переносит уход на пенсию?! С любовью целую вас...
■
Старина!
Мое письмо тебя, наверно, удивит. Вот уже добрых полтора года, как мы не пишем друг другу. Это признак неверности или верности, если друг обращается к другу только в беде? Зачем ходить вокруг да около, у меня довольно крупная неприятность: от меня уходит жена.
Ты, к сожалению, не знаком с ней. Для того чтобы легче было разобраться в сложившейся обстановке, надо кое-что рассказать тебе о ней. Она из тех обаятельных женщин, лицо которых привлекательно отнюдь не холодной симметрией, а фигура — совершенством формы, хотя и лицо у нее красивое, и фигура изящная, но красота их не броская, она как бы в тени. Знаешь, о таких ныне говорят: приятная, но ничего особенного. Главное в ней другое — то, что делает женщину поистине обаятельной. В ней все прелестно: взгляд, всегда выразительная улыбка, жесты, походка. В ней нет ни грана от наших модниц, хотя одевается она и модно, и со вкусом. Умна, образованна, с широким кругозором, хорошая преподавательница, увлекается литературой, искусством. Все это сочетается в ней с какой-то глубоко человечной отзывчивостью, с жадной тягой к счастью. Благодаря душевному складу это выражается у нее и острее и выразительнее, чем у других. Жизнь в родительском доме (ее родители, как принято говорить, прекрасно живут, старый Вильмош и по сей день влюблен в свою жену), настоящая любовь к литературе, вспыхнувшая у нее еще в детские годы (а это свидетельствует о том, что она — натура мечтательная, горячо откликающаяся на все важнейшие события), разумеется, еще сильнее развили эту отзывчивость. Прими во внимание еще и то, что отец ее старый коммунист, талантливый самоучка, прямо-таки боготворивший свою дочь. Но он не избаловал ее, он создал вокруг нее такую духовную атмосферу, в которой стиралась грань между мечтой и реальностью, между идеалами и жизнью. Другая девушка, может быть, меньшего ждет от жизни, но зато счастлива, если ей удается чего-то добиться, — она более упорна в борьбе, во всяком случае, легче переносит разочарования, а здоровый инстинкт помогает ей на любую неудачу смотреть как на временную.
С Кати все произошло иначе. Она влюбилась — по случайному совпадению он тоже химик, и ты увидишь потом, какую огромную роль будет играть это случайное совпадение во всей истории. Вкратце суть дела: мужчина разыгрывал любовь, а может и любил по-своему, ведь легко допустить, что он только так и умеет любить, а возможно, и вовсе не умеет. С Кати их свел случай: с какой-то компанией он отправился в Надькёхаваш, вернее, выехал из Клужа, но в Брашове заночевал у своих родственников. Вечером к родственникам пришли гости — Кати с родителями. Л. — я не хочу называть его полное имя — сначала беседовал со стариком, который в ту пору был еще директором химического завода, а потом стал ухаживать за его дочкой. На следующее утро он ушел в горы. Осенью они встретились в Клуже. Л. — научный сотрудник академии, аспирант, а Кати — студентка второго курса филологического факультета. Через полгода Л. представлял Кати своим друзьям как невесту. Лето они провели вместе, родители Кати благоволили к парню, поговаривали о свадьбе. В конце лета условились сыграть свадьбу на рождество. В начале декабря Катиного отца сняли с работы, и Л. поспешил ретироваться.
Как подействовал этот разрыв на девушку, которую я тебе описал, — нетрудно представить. Все это я рассказал лишь для того, чтобы ты понял: в душе этой девушки, несмотря на все симпатии ко мне, происходила мучительная борьба — она мне не доверяла. Недоверие ее не проходило довольно долго. Но когда прошло, я чувствовал, что она с удвоенной силой хочет создать и уберечь свое счастье. Предательство Л. застало ее врасплох. Такой поступок кого угодно может выбить из колеи, а ее он буквально потряс. Но наша совместная жизнь исцелила ее, наша любовь дополнялась дружбой, мы были близкими друзьями, хорошо понимали друг друга. Кати с трудом привыкала к новому окружению, но в конце концов освоилась, у нас появились общие друзья, мы наслаждались романтикой нового города, самозабвенно трудились, увлеченные своей работой. Добавлю еще: я многим обязан ей, так как благодаря широкому кругу ее интересов и привязанностей вырвался из плена той односторонности, которая грозит многим из нас, и вернул себе всю прелесть студенческих лет, когда меня одинаково интересовала и неорганическая химия, и концерт Бартока, и опыты в лаборатории, и новая театральная постановка. У меня появилась охота снова писать стихи. Разумеется, только для себя, не для публикации.
Теперь ты вправе спросить: «Если все это так — поверь, старик, я написал тебе истинную правду, — как же могли вы допустить такое? И в конце концов, что же произошло?»
Хорошо, я расскажу. Наш небольшой коллектив взялся за нечто исключительное. Исключительное? Видишь ли, на мой взгляд, это действительно нечто незаурядное, и, по-видимому, так оно и есть, поскольку речь идет об открытии — о создании нового искусственного материала. Больше о нем ничего сообщить не могу, надеюсь, ты не расценишь это как недоверие с моей стороны. Такая работа, как тебе известно, длится годами, сопряжена с огромной затратой энергии, превращает человека в каторжника, хотя это все же сладкая каторга. Правда, иногда хочется бросить все к черту, потом вдруг испытываешь ликование и снова впадаешь в отчаяние, пока вдруг тобой не овладевает какая-то спокойная уверенность, что ты идешь единственно правильным путем.
Так вот, значит, последние полтора года, и особенно последние десять месяцев, мне пришлось еще больше приналечь на работу. И не столько потому, что наступил решающий этап, сколько из-за одного обстоятельства, неимоверно взвинтившего темп нашей работы.
Постараюсь вкратце пояснить — опять обещаю быть кратким, а сам пишу уже четвертую страницу. Ничего не поделаешь, у меня на этот счет богатый опыт: ежедневно пишу Кати длинные письма.
Из министерства к нам приехала бригада; разумеется, она побывала и в нашей группе. Я упомянул о случайном совпадении. Так вот, одним из членов бригады был Л. Я краем уха слышал, что после аспирантуры его приняли в министерство, но потом об этом забыл. Знакомство наше было, можно сказать, шапочное, он года на два старше меня и учился раньше. Представь, я никогда не видел его с Кати. Правда, в ту пору я заканчивал учебу, готовился к государственным экзаменам и почти не выходил на улицу. Но от ребят слышал, как ему крупно повезло: поступил в академию, в аспирантуру, хотя и не имел особой склонности к исследовательской работе. Одним словом, чего только не говорили о нем, но я тогда думал, что это от зависти. А все, что я о нем знаю, — конечно, со слов Кати.
Короче говоря, Л. приехал к нам.
Наша встреча отнюдь не была тягостной, ведь мы, собственно, никогда не были соперниками. Я когда-то возненавидел Л. за все, что он причинил Кати, моя жена долго, даже в начале нашей супружеской жизни, страдала из-за него (я, признаюсь, иногда считал, что она тоскует по нем). Но с годами ненависть прошла, и увидев его, я совершенно равнодушно поздоровался. На его лице тоже ничего нельзя было прочесть, хотя я и предполагал, что, может быть, какой-нибудь мускул на нем дрогнет, выдаст его удивление или он смутится и, чтобы скрыть это, деланно веселым тоном ответит на мое приветствие. Но я ошибся. Мы пожали друг другу руки и начали говорить о деле. Конечно, Л. был не один, а со всей бригадой, которую он, кстати, возглавлял. Мы провели экспромтом небольшое совещание в лаборатории — они задавали вопросы, мы отвечали. Л. спросил, сколько лет мы работаем. «Два года», — ответили мы. Нам казалось, они довольны нашими успехами. Перед подобными беседами невольно волнуешься, тебе хорошо известно, как подбадривает в работе любое доброе слово и как раздражает непонимание. Обе стороны по-разному подходят к делу: исследователи восторженно увлечены, другие, какой бы искренний интерес ни проявляли, остаются посторонними, смотрят на все со стороны. Нам удалось заразить их своей восторженностью. Они поздравляли, а мы, конечно, ликовали. Через два дня бригада уехала, и с Л. я больше не встречался.
Это было, если не ошибаюсь, в конце марта прошлого года. Не успели Л. и его товарищи уехать, как дня через два утром, когда я шел на завод, возле меня остановилась директорская машина, и Делеану сказал, чтобы я попозже, когда освобожусь, зашел к нему. Я пошел сразу — не люблю, когда отрывают от дела... До чего же я подробно пишу, хочется рассказать все до мельчайших деталей, словно чтобы оправдаться в чем-то! Одним словом, директор передал мнение бригады, будто наша работа никому не нужна. Я сразу же усмотрел тут происки Л., потом, устыдившись, отбросил эту мысль. Однако на всякий случай все же спросил, не Л. ли высказал такую точку зрения. И не ошибся. Значит, решил подсидеть, подумал я, — классическая подсидка. Я поделился с директором своими сомнениями (между прочим, Делеану прекрасный парень, я мог бы написать о нем очень много хорошего: начал трудовой путь простым рабочим, во время национализации стал директором, окончил политехнический институт, очень инициативен, это по его почину на заводе стали заниматься научными исследованиями. Одним словом, такой человек, о которых говорили когда-то: свой в доску). Возможно, за границей тоже занимаются этим делом, даже наверняка. И, видимо, Л. что-нибудь известно, но откуда? Ведь в специальной литературе никаких сообщений не было, первые публикации появятся гораздо позже, после внедрения в промышленное производство. Да и тогда речь может идти только о теоретическом описании, там не дураки, чтобы раскрывать технологический процесс. По мнению Л., сказал Делеану, нам выгоднее купить патент, а потому бессмысленно тратить время и силы стольких людей. Все может быть, конечно, но неужели за границей довели уже дело до стадии патентования? Этому трудно поверить. И к тому же не исключено, что Л. высказал лишь предположение. Ну что ж, поживем — увидим, к каким последствиям приведут его слова.
Месяц было тихо. Затем пришел запрос, чтобы мы снова выслали обоснование экономической эффективности работы. Делеану съездил в министерство, узнал, что ничего подобного никем не запатентовано. В чем же дело? Есть основания предполагать, сказали ему, что западногерманская или английская химическая промышленность в скором времени приступит к производству нового синтетического материала. Сослались на какую-то статью и доклад на одной из международных конференций. Я хорошо знаком со специальной литературой, читал и тот доклад: общие теоретические рассуждения, одни лишь предположения о возможности производства нового материала.
Тебе известна психология интриги? Я не особенно разбираюсь в подобных делах, но знаю, что иногда достаточно чихнуть, чтобы грянул гром. Надо только выбрать подходящий момент, знать, где и когда чихнуть. Так, наверно, получилось и на этот раз. Министерство поддерживает исследовательскую работу, не мелочится, но в то же время не хочет быть расточительным и правильно поступает: зачем же выбрасывать деньги на ветер? Но по случайному стечению обстоятельств иногда выясняется, что необоснованно субсидированы крупные капиталовложения, допущена явная бесхозяйственность. И вот тут начинают на чем-то экономить. Приостанавливают, правда временно, некоторые проводимые или начатые работы, объявляя их излишними. Именно в такой момент Л. высказал свое мнение, и эффект не заставил себя долго ждать.
В начале июля я поехал в министерство и мне удалось кое-что прояснить. Встретился там я и с Л. Встреча эта оставила у меня неприятный осадок. Мы говорили откровенно, откровенно до беспощадности. Вернувшись домой, я твердо знал: нужно наверстать упущенное время. Боялся ли я Л.? Скажу откровенно, старина: не боялся, но работе он мог навредить. Я выложил все Делеану, холодно принял поздравления директора и коллег. Хлопот и забот мне предстояло немало.
Тебе известно, что в исследовательской работе необходима последовательность и методичность, нельзя опустить что-то, надо работать больше, гораздо больше, чем обычно. Я ходил к семи часам утра, а домой частенько возвращался в полночь. Дела пошли хорошо, нынешней весной мы в основном закончили работу в лаборатории и начали готовиться к проведению эксперимента в производственных условиях. Месяц назад приступили к нему; правда, не все еще ладится, способ производства не совсем освоен, много неясного, незавершенного в технологии. И тем не менее, если не произойдет чего-либо непредвиденного, к осени наладим производство. Министерство довольно, Л. помалкивает. Как будто все в порядке.
Вот так все и было. Можешь себе представить, как я жил эти полтора года. Я мог бы привести в свое оправдание миллион доводов, но зачем — все равно итог один: Кати не могла вынести этого и ушла. Мне остается винить себя за то, что я не рассказал ей обо всем, — ведь тогда ей наверняка было бы легче перенести эти полтора года, когда я действительно приходил домой только есть и спать. Она никогда не жаловалась, и я принимал ее молчание за согласие. Позже стал замечать, что она становится слишком молчаливой, но приписывал это ее большой занятости и усталости. И как я мог рассказать ей обо всем?! Я опасался, что одно напоминание об Л. разбередит ее старые раны. Но может, молчал из трусости? Боялся, что Л. уложит меня на обе лопатки, а если ему удастся меня подсидеть, как же я тогда буду смотреть в глаза Кати?
Кати знала только, что у нас нелады с министерством. Разумеется, я нервничал, дома постоянно на что-нибудь жаловался, стал раздражительным. Но о подлинной причине своего раздражения не говорил. И даже после поездки в Бухарест не осмелился рассказать всего — ведь то, что произошло там между Л. и мной, нанесло бы Кати большую душевную травму. Я все откладывал: вот, думаю, придет время, тогда и расскажу. Неужели она сама узнала обо всем? Может быть, ей причинило боль то, что я скрывал от нее, и она восприняла это как недоверие? Может быть, именно для ее чувствительной натуры мой промах оказался невыносимым?
Но в конечном счете, как бы там ни было, я работал. И моей самой большой виной перед ней все же была работа. Даже узнав, что я что-то утаиваю от нее, она должна была понять: поступая так, я хотел ей добра, а не зла. И в самом деле, это был трудный год, я не мог уделять ей больше внимания, кроме того, что просто был рядом.
А что я могу обещать ей теперь? Посоветуй, старина: могу ли я обещать, что моя жизнь не всегда будет проходить в непрерывном труде? Ибо именно это главное. Кому это не под силу, тот всю жизнь будет несчастным. Я люблю ее, но вправе ли я ввергать ее снова в несчастье? Лгать, что это временное явление, что у меня будет много свободного времени? Но откуда мне знать, не замахнемся ли мы завтра на что-нибудь более значительное?
Ошибаюсь? Вряд ли. Разве ты уверен в том, что, узнав о причастности Л. к нашей работе, Кати сумела бы понять, что я умолчал обо всем из любви к ней, из такта? Могла бы она понять, почему я столько работаю? Нет, она не могла принять мой образ жизни.
И еще было одно: я грубил. У кого не сорвется иногда с языка крепкое словцо, в конце концов нельзя же постоянно ворковать! Беда в том, что Кати более ранима, чем другие. Все наши ссоры, как на грех, начинались из-за мелочей. На первых порах (да, только после первых стычек) я всегда просил у нее прощения. Разумеется, я раскаивался, если случайно говорил ей что-нибудь очень обидное (нет, просто обидное) или какую-нибудь глупость. Но потом мне надоело извиняться, я предоставлял времени, ночи, заботам, работе снимать гнев. Видишь, о чем бы я ни говорил, все свожу к работе.
Но что делать? Бросить работу? Отказаться от исследований, перейти в какой-нибудь отдел на заводе и отсиживать там по восемь часов? Знаю, это тоже работа. Но я всю жизнь винил бы Кати, что из-за нее похоронил свое призвание. А ведь и она не смогла бы принять такую жертву.
Миллион вопросов. Я кончаю. Прошу не твоего совета, а хочу знать твое мнение. Пиши так, будто мы и сейчас прогуливаемся с тобой по берегу Жила и беседуем. Когда ты был в последний раз дома? Мои вот уже два года не чают, как увидеть меня. А что, если нам как-нибудь встретиться дома? Напиши, старина, как можно скорее. Как поживают твои морские свинки? Обнимаю тебя.
■
Дорогая!
Я отправил Беле пространное письмо, поэтому не писал тебе вчера. В пять часов утра начал, вечером продолжил и лишь сегодня утром закончил. Очень жаль, что вы с ним до сих пор не знакомы. Наплел ему с три короба, кто знает, что из всего этого он поймет? Здесь не хотел никому изливать свою душу, не потому, что не доверяю, но опасаюсь возможных сплетен, а Бела будет нем как могила.
С тех пор как ты уехала, ни разу не включал радиолу. Просто не представляю, как можно в одиночестве слушать музыку. Ты, наверно, сейчас улыбаешься, но мне все равно. В квартире полнейший хаос — Пири собиралась прислать уборщицу, я отказался. Право же, мне теперь ничего не нужно, лишь бы приехала ты. Рубашки я отнес в прачечную, зачем же звать прачку? Завтра утром уберусь, только не знаю, куда ты девала тряпки? Придется пыль вытирать носовым платком, но боюсь, как бы ты не высмеяла меня и не отругала из своего далека.
Пишу без разбору всякую всячину, а к главному никак не приступлю.
Получил письмо от твоей мамы (не ругай ее за это) и из него узнал нечто такое, что меня поразило. С тех пор постоянно повторяю про себя: тебе невмоготу. Не знаю, как ты об этом сказала, — пытаюсь представить выражение твоего лица, услышать твой голос. Наверно, ужасно тяжко было тебе жить рядом со мной. Но почему ты мне не сказала ни слова? В отместку за то, что я что-то скрывал от тебя? Но ведь я скрывал только ради тебя.
Сейчас все расскажу. Быть может, уже поздно, но ты все-таки должна знать правду.
Оправдываться я не собираюсь.
Ну так вот знай: не министерство, а Л. хотел подкопаться под нашу работу. Я редко употребляю это слово, избегаю его даже тогда, когда ясно вижу, что кто-то ведет подкоп. Мало ли всяких лентяев и бездарностей прикрываются этим словом. Но тут и я не могу сказать иначе.
Помнишь, я говорил тебе, что министерство чинит препоны. Но все было отнюдь не так просто, как, наверно, тебе казалось. И не в этом теперь суть.
Случилось, между тем, вот что: в марте прошлого года Л. приезжал к нам. Я буду приводить одни факты, а ты не ищи ответа на вопрос, почему я молчал до сегодняшнего дня (как-нибудь напишу и об этом). Он приехал с министерской бригадой, у нас состоялась встреча с ним; Л. вел себя вполне порядочно, но не успели они уехать, как Делеану вызвал меня и сказал такое, что я сразу же подумал: «Тут не обошлось без Л.». Было бы глупо и нескромно предполагать, что в нем заговорила зависть. На какое-то мгновение у меня мелькнула мысль: «Он хочет навредить тебе, демонстрирует свою силу, бахвалится тем, что твоя судьба — поскольку ты связала свою жизнь с моей — и теперь у него в руках». Л. объявил, что наша работа нерентабельна, что мы зря тратим материальные средства и человеческую энергию, тогда как гораздо выгоднее купить за границей лицензию. С директором мы условились подождать, что последует дальше.
Я вернулся в лабораторию, но работать не мог, не находил себе места. Было больно и обидно. То и дело я выходил в коридор, курил одну сигарету за другой. Потом стал курить прямо в комнате. «Что с тобой, Тиби?» — спросила Нора. «Ничего, — ответил я, — нервы шалят...»
Йошка Хаднадь крикнул, чтобы я выбросил «соску». Это была уже чуть ли не десятая сигарета. Я вышел в коридор, через несколько минут за мной последовал Граф. «Хоть разок, один-единственный раз съезди со мной на рыбалку. Попробуй...» — упрашивал он. Я огрызнулся: «Оставь, у нас, брат, такие дела, что не до рыбалки!» Граф удивился: «Но ведь нас превозносили до небес!»
Он был прав. Министерская бригада похвалила нашу работу. Разумеется, Л. тогда молчал. И заговорил только у директора. «Старый прием, — подумал я, — да вряд ли от Л. можно было ожидать чего-либо оригинального. К тому же работа идет не так уж плохо, и плевать мне на козни Л. Ведь ему, наверно, хочется выбить почву у меня из-под ног. Но не тут-то было!» «Черт его знает, — улыбнулся я Ганси, — с левой ноги встал я сегодня, что ли?» А он знай гнет свое: «А все потому, что на рыбалку не хочешь ехать». Я засмеялся. «Смейся, смейся, — сокрушался он. — Кончится тем, что ты попадешь в психиатрическую больницу, будешь там принимать карбаксин. А знал бы ты, какая там, на берегу, тишина, только птицы щебечут да стрекочут кузнечики...» — «И рыбы», — добавил я. «А что ты думаешь, и рыбы, — поддакнул он. — И никаких тебе забот, только следишь, когда клюнет...» — «Клюнет или не клюнет — вот в чем вопрос», — пошутил я. Но он уже сел на своего конька: «А на следующий день какая свежая голова. Если я раза два в неделю не порыбачу, то и работать не могу». Я помню, когда мы бились над одной проблемой и не могли сдвинуться с места, он каждый день ходил рыбачить, и хочешь верь, хочешь не верь — именно на рыбалке догадался, где мы допустили ошибку. Держал удочку, смотрел на воду, ни о чем не думал, и вдруг его осенило... Меня даже зло взяло, и я сказал с издевкой: «Поставлю вопрос перед партийной организацией и дирекцией о том, чтобы всем коллективом ходить на рыбалку».
Все это я описываю только потому, что разговор с ним меня успокоил. Да и в самом деле, чем может повредить нам какой-то бюрократ-перестраховщик? Ребята у меня как на подбор, знают себе цену — бригада дружная, один за всех — и все за одного. Конечно, обидно, но не надо из мухи делать слона. «Ладно, господин граф, — сказал я Ганси, — пошли работать».
Однако под вечер, прежде чем уйти с завода, я вдруг решил забежать к директору. Не то чтобы у меня закралось сомнение, ведь это его инициатива — вести на заводе научно-исследовательскую работу, он отстаивал ее в министерстве, поддержал наше предложение. Ты знаешь, какой он кристально чистый человек — ни одной задней мысли, что думает, то и говорит, — и мне захотелось поговорить с ним откровенно.
Я застал его в кабинете и все рассказал о Л. Он внимательно слушал меня, по привычке чуть прищурив глаза. «Хорошо, Килиан», — проговорил он, наконец, и добавил, что хотел бы только знать, зачем я рассказал ему эту историю? Смутившись, я ответил: «Я считаю, что вы должны знать все. Зная все, вы не будете придавать значения словам Л...»
Он пристально посмотрел мне в глаза и спросил: «О себе печешься или о работе?» Я ответил, что не делаю различия между тем и другим. «Что же, это хорошо, — улыбнулся он, — но если ты боишься не за себя, то, может быть, нам, поскольку Л., неровен час, докажет свою правоту, лучше прекратить работу?»
В ответ на это я напомнил наш разговор в то утро, когда мы пришли к единому мнению, что Л. ведет нечестную игру. Правда, тогда я ему ни слова не сказал об Л.
«Ты играешь в покер? — спросил директор и добавил: — Насколько мне известно, тот, кто передергивает карты, неизбежно проигрывает». — «Не всегда так, — возразил я. — А если партнеры дрогнут?» Он посмотрел на меня и спросил: «Чего ты боишься?» — «Того, что этот человек создаст против нас определенное мнение и этим навредит нашей работе...» Он разозлился: «Чего ты добиваешься? Чтобы я избавил тебя от необходимости бороться за свою правоту, когда борьбу эту обязан вести каждый? И забудь историю с тем человеком. Что бы он ни делал, у тебя неотразимое оружие против него — твоя работа».
Делеану — весь тут, со всей его беспощадной прямотой, за это я и полюбил его с первого дня нашего знакомства. Он умеет силой ясной логики добираться до самой сути вещей и говорить правду прямо в глаза. Меня никогда не обижала эта его манера, которую кое-кто осуждал. Его, действительно, не назовешь любезным, но бестактным или грубым он никогда не бывает. И на этот раз он успокоил меня, я почувствовал, что все преувеличиваю, и мне даже неловко стало, что я вновь завел разговор на эту тему. Еще, чего доброго, Делеану подумает, что я хочу заручиться его поддержкой, словно он сам не знает, на чьей стороне правда.
Повторяю, я снова обрел покой, и дома не сказал тебе ни слова.
Пошлю тебе письмо в таком виде, как есть, — нужно бежать. У тебя все хорошо? Тихонечко спрашиваю: «Не поехать ли мне в будущее воскресенье все же в Брашов?»
■
Добрый вечер, учительница!
Только что вернулся с заседания партбюро, сегодня поздно кончилось. Трещала голова, и я решил идти домой пешком. На проспекте встретился с Йовановичем. Обрадовался ему. Ты знаешь, как я его люблю. Он никогда не унывает и умеет заражать своим весельем; вообще, поколение сорок четвертого года почему-то другое, чем наше. Только сейчас узнал, что ему уже тридцать восьмой год пошел. И тем не менее, кажется, что он моложе меня, хотя вряд ли у него была безоблачная и спокойная жизнь, ибо с сорок четвертого года он партийный активист и, если не ошибаюсь, добрый десяток лет беспрерывно работает на стройках; он приехал к нам из Бекаша еще в те времена, когда здесь было больше бараков, чем жилых домов, а завод только-только начали строить. «Что с вами? — спросил он. — Под глазами синие круги, как у ночного сторожа. Заметил на собрании, как вы экономили спички: прикуривали одну сигарету от другой». Я ответил, что в последние дни пришлось подналечь немного. «Но ведь дела идут хорошо, чем же вы недовольны?» — допытывался он. Я махнул рукой, дескать, цыплят по осени считают. Тогда он сказал, что я странный тип и любой пустяк принимаю близко к сердцу, как красная девица. Стоит кому-нибудь кашлянуть в министерстве, как у меня ангина...
Я оторопело посмотрел на него. Неужели это действительно так? Незаметно мы дошли до моста. На набережной красуются три блочных дома — один оранжевый, второй светло-зеленый, третий голубой. «Хороши наши коробочки, а?» — похвастал Йованович. Я сказал, что везде плохие дверные ручки. Он засмеялся и сообщил, что у себя дома уже раз тридцать чинил ручки. Мы говорили о всяких пустяках. Затем он пригласил меня выпить кружку пива. «Я тороплюсь», — отказался я. «Женушка, наверно, ждет, — шутливо подмигнул он, — ну тогда спешите. А то еще, чего доброго, сбрехнете где-нибудь, что партийный секретарь разрушает семейное счастье». — «Жена уехала, у нее отпуск», — сказал я и взглянул на него: не заметит ли, что я вру... «А почему вы в отпуске не вместе?» — спросил он и признался, что жена выцарапала бы ему глаза, если бы он один уехал отдыхать. Хватит и того, что он двенадцать лет колесит по стране — не успеют обжиться где-нибудь, как уже снова надо сниматься с места, живут, как бродячие циркачи, а тут — одна в отпуск...
Мы расположились на веранде нового ресторана. За одним из столиков сидела наша молоденькая лаборантка Эта. Ты бы не узнала ее, совсем переменилась за последнее время, подстриглась под мальчишку, покрасила волосы в пепельный цвет. «Столько женщин, похожих одна на другую, — сказал Йованович, — у всех одинаково светлые волосы, черные брови, словно по одному шаблону нарисованные под миндаль глаза, просто не знаю, как их не путают кавалеры...» — «Она работает у нас, — кивнул я на Эту и поздоровался. — А вы, я вижу, тоже знакомы», — удивился я, заметив, что и Йованович поздоровался с ней. «Еще бы, — сказал он, — каждый день атакует меня. Требует квартиру». Я удивился: «Ведь у них есть квартира. Хотят получить побольше?» — «Разве вы не знаете? — в свою очередь удивился Йованович. — Она разводится с мужем...» — «Впервые слышу. Но если даже и так, почему же она вас атакует?» — «Здесь-то и зарыта собака. Девчонка действует хитро, но меня не проведешь. Приходит ко мне и, вздыхая, сетует, что с мужем своим не может больше жить, поскольку не сошлись характерами и взглядами... И, обратите внимание, не вообще взглядами, а политическими взглядами!» — «Тут что-то не так», — усомнился я. «Муж у нее примерный парень, — продолжал Йованович, — гнал бы к чертям эту гусыню. Если надумала — разводись, но зачем же беднягу помоями обливать? Он ничего не потеряет, а, наоборот, выиграет, если избавится от этой крали, к счастью, ребенка не успели еще завести...»
Обо всем этом я пишу так подробно только потому, что разговор мы начали с Эты, а кончили браком и разводом. Мне вспомнился тот вечер в доме Делеану, трактат Пети и многое другое... Я чуть было не рассказал обо всем Йовановичу, но передумал.
По дороге домой я вспомнил его слова на мой счет: стоит в министерстве кашлянуть... Неужели он прав? Во всяком случае, мне кажется, что сказанное Йовановичем имеет прямую связь с тем, что я собираюсь написать и непременно напишу тебе.
Как ты уже знаешь, я все-таки поехал в министерство. Ни слова не сказал тебе, с каким гнетущим настроением ждал я этой поездки, какие тягостные предчувствия терзали меня. Я опасался, что Л. тоже будет присутствовать при разговоре. «А что, если моих научных аргументов, — думал я, — окажется недостаточно, если в полемике понадобится и дипломатия, хитрость, чтобы отразить перекрестные удары? Я в этом не разбираюсь и в конце концов окажусь битым». Вместе с тем я не сомневался в нашей правоте, в том, что аргументы Л. взяты с потолка. И все же боялся. Тогда я объяснял это каким-то безотчетным страхом перед всякими интригами — это отчасти так и было, но сегодня мне ясно, что главная причина заключалась совсем в другом. Перед поездкой я нередко ловил себя на том, что настоящие наши аргументы подменяю всевозможными эффектными лжеаргументами, расписывая преувеличенные и приукрашенные перспективы, и понадобилось несколько дней внутренней борьбы, чтобы я отбросил их, считая зазорным для себя унижаться до обмана. Чувство стыда сменилось гневом, я возненавидел Л. Мне казалось: если бы не он, я бы плевал на все. Но это тоже было неправдой.
Выходил я из кабинета начальника отдела счастливым. Уже у него в кабинете почувствовал, как освобождаюсь от своей робости, приобретаю уверенность в себе, — меня понимают, значит, все в порядке. Первой мыслью было рассказать обо всем тебе, как только вернусь домой. В лифте я уже твердо решил забежать по пути в «Ромарту», где мне приглянулся красивый костюм из джерси, и проклинал себя за то, что не записал твой размер. (Да, кстати, наконец-то купил тебе туфли с узкими носами, они теперь появились и у нас в магазине.) На одном из этажей в лифт вошел Л.
Он оторопело поздоровался, хотя должен был знать, что меня пригласили. Я деловито пожал ему руку, теперь мне уже было плевать на него, но я его настолько презирал, что даже присутствие его не могло не омрачить моей радости. Меня так и подмывало поддеть его, но, разумеется, я сдержался. Ведь он все равно узнает, кто одержал верх, и пусть видит, что я считаю ниже своего достоинства хотя бы одним словом упомянуть о деле.
Л. сам заговорил о нем. Возможно, чтобы убедить меня в своей объективности. «Каковы результаты?» — спросил он. «Положительные», — несколько вызывающе ответил я. «Рад за вас». И я не понял, была ли это насмешка или он в самом деле рад. А что, если он поступил так не по злому умыслу и все подозрения насчет коварной интриги — плод моего воображения? Я не удержался и спросил, на чем были основаны его аргументы. Мы уже вышли из лифта, и Л. поинтересовался, не Делеану ли поставил меня в известность обо всем. «Вы не ошиблись, — ответил я и добавил: — не вижу в этом ничего плохого». — «Так не принято». — «А еще лучше, если бы вы и мне изложили свои аргументы».
Мы вышли на улицу. Л. посмотрел на меня и с легким удивлением заметил, что я бы неправильно понял его.
Все было ясно. Значит, Л. заранее рассчитывал на то, что я могу обвинить его в неприязни, необъективности и предвзятости. Был ли он откровенным, чистой ли была его совесть? «Значит, я неправильно вас понял», — сказал я.
Л. засмеялся: «Будьте осторожны, играть в откровенность опасно...» Затем спросил, обедал ли я, и предложил проехать к озерам, в ресторанах сейчас можно задохнуться.
Я согласился. Почему бы и нет? Авось, узнаю правду или скажу ему в глаза то, что думаю. Надо внести во все полную ясность. Разумеется, я чувствовал себя на коне.
Мы сели в такси. Помнишь, какая ужасная жара стояла в начале прошлого лета? Казалось, погода после многих дождливых лет вознамерилась сразу восполнить упущенное. Плавился асфальт, раскаленным воздухом нельзя было дышать. Но когда мы подъехали к памятнику летчикам, в окно ударил свежий ветер. Помню, глядя на кусты роз вдоль шоссе, я подумал: что бы ты сказала, если бы увидела нас вместе? А впрочем, что тут особенного? Можно ли всю жизнь клеймить человека, совершившего однажды дурной поступок? Может быть, он собирается поговорить со мной именно потому, что хочет покаяться в том, как поступил с тобой. Возможно, именно угрызения совести, мучительное сознание непоправимости совершенного привели его к необходимости доказать, в том числе и самому себе: все, что было, — быльем поросло, и не только потому, что прошло уже много времени и все изменилось, но главным образом потому, что сам он изменился.
Когда мы уселись за дальним столиком под тенистыми деревьями, я уже без всякой задней мысли смотрел ему в глаза. У меня было хорошее настроение, и я заговорил первым. «Раз уж я начал опасную игру в откровенность, буду продолжать. Зачем вы сказали Делеану, что проще и рентабельнее купить за границей лицензию?» — спросил, я. «Я высказал только предположение...» — «А на чем основано ваше предположение и знаете ли вы, что Делеану ездил в министерство навести справки о лицензии и ничего похожего не обнаружил?» — «Знаю». — «Зачем же тогда понадобилось, чтобы мы снова доказывали экономическую эффективность своей работы?» — «Вполне очевидно, если бы Запад опередил нас...» — «Очевидно... С этим вернулся и Делеану. Только на сей раз вполне очевидно, что мы идем впереди Запада. В этом министерство убедилось сейчас, и, как выяснилось, никогда в этом и не сомневалось. Весь сегодняшний разговор носил, скорее, профилактический характер, чтобы мы окончательно поняли...»
До сих пор он хранил спокойствие, но тут перебил меня и произнес голосом, в котором прозвучали нетерпеливые нотки: «Окончательно? Ладно, я тоже буду откровенен. Но поймите меня правильно. По-моему, химическая промышленность для нас важна прежде всего как прибыльная отрасль. И мы никогда не достигнем мирового уровня, если будем изобретать порох. Мы располагаем такими сырьевыми ресурсами, что есть смысл закупать лучшую в мире технику, которая быстро окупится. Но пускаться в рискованные авантюры со всякого рода открытиями, транжирить колоссальные средства и человеческие силы на то, что нам могут предложить на мировом рынке и с помощью чего мы в короткий срок реализуем капиталовложения и получим немалую выгоду, это, простите, нелепо, это игра в науку...»
«Вы говорите сейчас не по существу, — возразил я. — Не надо делать вид, будто мы, не зная даже Бэкэленда, ломаем голову над применением смолы, получаемой из соединений фенола и формальдегида, и хотим изобрести, конечно, не порох, а бакелит. Вы возводите в абсолют то, что, кстати сказать, является исключительно разумным в нашей политике, направленным на развитие химической промышленности: быстро достичь мирового уровня. А его, по-видимому, можно достичь, лишь переняв лучшие достижения мировой науки и промышленности. Значит ли это, что мы должны отказаться от исследований и, в нашем конкретном случае, от создания нового искусственного материала и налаживания его производства, когда у нас имеется для этого индустриальная база?» — «Нельзя путать, — возразил мне Л., — реальный потенциал нашей химической промышленности с ирреальными и, соблюдая правила игры в откровенность, я бы сказал, с честолюбивыми, карьеристскими мечтами. Что значит наша индустриальная база? Разве можно ее сравнить с западногерманской или американской? На их базе действительно можно пускаться в самые рискованные поиски». — «А Карозерс? По-вашему, он тоже зря потратил пятнадцать лет, прежде чем из воображаемых молекул полиамида получил нейлон?» — «Так ведь тогда не было современной промышленности искусственных материалов!» — засмеялся Л. «Вот, вот! — В моем голосе прозвучало нескрываемое удивление. — Без науки невозможен промышленный прогресс, и наоборот. Поражаюсь, что приходится напоминать вам прописные истины и тратить попусту время. Вы или шутите, или не соблюдаете правила игры. Почему вы не хотите говорить прямо, почему отвергаете нашу работу?»
Я еще не надоел тебе с этим Л.? Мне он тоже осточертел. Этот человек либо корчит из себя шута, подумал я, либо он полнейший профан в химии, если серьезно верит в то, что плетет. Я потому подробно описал разговор с ним, чтобы и ты убедилась, что иного пути узнать, какую цель он преследовал, затевая всю эту историю, у меня не было. Обед тем временем подходил к концу, и Л. велел откупорить уже вторую бутылку.
«Вы только что обвинили меня в карьеризме, — возобновил я разговор, — а вам не пришло в голову, что это, мягко выражаясь, оскорбительно?» — «Правилами игры обижаться запрещено». — «Да я, собственно, и не думаю обижаться. Я уверен в необходимости нашей работы, в том, что она полезна с любой точки зрения, в том числе и с народнохозяйственной. Но вы вряд ли и сами думаете так, как только что сказали. Вы краем уха что-то слышали о нашей политике промышленного развития и теперь подчеркнуто ратуете за это «что-то». Не знаю, чего вы хотите этим добиться, перед кем угодничаете, да это меня и не интересует. Но я убежден: вы просто из желания оправдать себя не хотите признать, что развитие научно-исследовательской работы — это тоже государственная политика».
Тут Л. попытался перебить меня, но я не дал. Хватит виляний, которые он выдавал за откровенность. Ты знаешь, что я не остановлюсь на полпути, не успокоюсь, пока не доведу начатое (пусть, как ты считаешь, и необдуманно) до конца. Но на сей раз я продолжал говорить отнюдь не потому, что у меня накипело внутри, нет — теперь я был уверен, что нащупал истину. Я руководствовался не мимолетными, непроверенными впечатлениями — то, что я говорил, было итогом давних мыслей, продуманных еще дома.
«Не возражайте и не пытайтесь убедить меня в том, что вы согласны с этой политикой. Вы подходите к ней со своей меркой, крайне узкой и односторонней, чтобы оправдать в собственных глазах свое нежелание заниматься исследовательской работой, и это, разумеется, ваше личное дело. Сейчас вы скажете, что выполняете полезную работу в министерстве... Допустим. Но вряд ли может принести пользу то, что вы хотите вставить нам палки в колеса. Да это, как видите, вам и не удалось...»
Я, кажется, доконал его. До сих пор он держался высокомерно и уверенно, а теперь сник. Он наполнил бокалы, и я догадался, что он старается выиграть время. Взвешивая, идти ли ему дальше или ограничиться тем, что есть. Стыд и самолюбие, а может быть, изрядное количество выпитого вина, однако, заставили его заговорить. «Не думаю», — сказал он быстро, делая вид, будто и не прикидывал, продолжать ли разговор вообще. Я видел, каких усилий стоило ему придать своему лицу надменное выражение. На какое-то мгновение это ему удалось. Но затем лицо его вновь отяжелело, словно он чем-то был удручен. Таким он и остался в моей памяти — я пристально наблюдал за ним.
«Значит, я все-таки правильно понял вас», — сказал я. «Послушайте, — по слогам произнес он, — если вы рассчитываете на пятнадцать лет, как Карозерс, я не дам вам и двух — и вам запретят продолжать работу. Я постараюсь, чтобы было именно так».
Я промолчал. Мои подозрения оправдались. Я подозвал официанта и расплатился. Л. тоже вынул кошелек, но я не стал его ждать. Попрощался — никто из нас и не думал протянуть другому руку — и вышел на улицу. Напротив ресторанного садика, недалеко от озера, есть троллейбусная остановка. От нее как раз в это время отходил троллейбус.
Однако наша встреча этим не закончилась. Л. вышел вслед за мной, когда я хотел было перейти на другую сторону. Изо всех сил стараясь не терять равновесия (вино, видимо, подействовало на него, хотя он и не совсем опьянел), он подошел ко мне, фамильярно взялся рукой за борт моего пиджака, пристально посмотрел в глаза и сказал, что мне тоже не во всем будет сопутствовать удача. Произнося слова «не во всем», он еще крепче ухватился за борт пиджака. «Уберите руку», — сказал я тихо, но решительно, как разговаривают с пьяными.
Он оттолкнул меня. Чтобы не упасть, мне пришлось отступить. Кровь прихлынула у меня к голове, и, если бы он сделал еще хоть шаг, я бы ударил его. «Кланяйтесь своим домашним» — произнес он и поклонился. И знаешь, в голосе его я не уловил ни малейшего признака издевки, лицо его снова отяжелело, и он показался мне печальным. Я вдруг почувствовал жалость к нему. И чтобы хоть как-то не проявить ее, быстро перешел на другую сторону и сел в троллейбус. До самого поворота я видел, как Л. неподвижно стоял у остановки.
Я в точности воспроизвел тебе все, как было, дорогая, ничего не опустив и не прибавив. Знаю, какой ты строгий критик, и потому, поверь, ничего не приукрашивал.
А теперь осталось отправить письмо. Я писал его два дня подряд вечером и в пять часов утра, как позволяло время. Сейчас половина седьмого, в открытое окно видны горы.
■
Дорогой старина!
Вот это да! Хоть мы и живем в эпоху ракет, но о таком быстром ответе я даже мечтать не мог.
Это не умно, Бела, отказываться ворошить вопросы интимной жизни. Ведь того, что ты, между прочим, логически предполагаешь, в действительности не было. Ты, однако, прав в том, что охлаждение между мужчиной и женщиной может быть не только следствием ослабевших или запутанных отношений, но и причиной осложнения этих отношений. Повторяю, ты прав, но все это к нам никак не относится. Любопытно, что наши наблюдения совпадают, — я тоже замечал, что подобные конфликты встречаются довольно часто, причем помимо объективных причин, составляющих небольшой процент (партнеры не удовлетворяют друг друга), чаще всего они возникают под влиянием субъективных факторов, то есть вследствие отсутствия культуры. Твое письмо напомнило мне теорию одного моего клужского приятеля насчет эмоциональной культуры. На мой взгляд, если под этим понимать воспитание чувств, то есть умение людей владеть своими чувствами и как можно дольше продлевать период истинного счастья и интимной жизни, то эта культура, безусловно, включает в себя и культуру половых отношений. Достаточно напомнить хотя бы о том, что эмоции многобрачия без этого невозможно нейтрализовать моногамной формой отношений. Более того, только благодаря этой (двойственной, но по сути дела единой) культуре объективная необходимость моногамии может стать субъективным жизненным принципом, то есть субъективной необходимостью. Впрочем, хватит философствовать. Тем более что счастье двух людей зависит еще от многого другого, как это подтверждает и наш пример. Что же касается второго вопроса, то ты совершенно прав, старина. С тех пор как я написал тебе последнее письмо, я и сам многое понял, и сейчас мне просто стыдно, что я выискивал и находил столько лазеек и оправданий, которые могли бы меня полностью реабилитировать. Ты пишешь, что я обюрократился. Возможно. Возможно, во мне говорило уязвленное самолюбие. Теперь уже не имеет никакого значения, сколько было ревности к Л., боязни, что в случае неудачи я опозорюсь перед Кати. Я и ее унижал недоверием, как не доверял и начальству. Всем своим последующим поведением я отдалил ее от себя, а что касается начальства, то мне хотелось любой ценой продемонстрировать быстрый успех. Работа наша от этого не пострадала, так как мы шли по правильному пути, и даже мое уязвленное самолюбие не могло направить ее в другое, ложное русло; даже моя лихорадочная поспешность не могла навредить ей, отчасти благодаря моим коллегам, а отчасти благодаря моей совести ученого. И к счастью, я еще не докатился до того, чтобы аргументировать ложными выводами, — просто я боялся.
А боязнь и творчество, как видно, несовместимы. Этот страх загубил наше счастье, ведь счастье двух людей в какой-то мере похоже на творчество — для того чтобы оно жило и развивалось, необходимы обоюдное чувство, энергия, взаимопонимание и преданность. Я же заботился только о себе — и это не могла не почувствовать Кати, — замкнулся, думал только об одном: работать и работать, все остальное может уменьшить шансы на успех. Кати перестала понимать меня, затем пришла в отчаяние и, наконец, разочаровалась. Ей ничего не оставалось, как бросить меня. Но ведь по сути дела я первый бросил ее. Всякое могло прийти ей в голову: должно быть, разлюбил или надоела, а может, и я такой же, как тот, первый. Она не хотела еще раз испытать то, что уже однажды пережила. (С тех пор как я стал одиноким, я не перестаю винить себя в том, что не боролся за нас обоих, не замечал ее, жил только работой, только и делал, что твердил об усталости, раздражался по всякому пустяку... Возможно, она сама решила бороться именно тем, что ушла от меня? Или теперь она тоже думает только о себе, не рассчитывая на то, что может пробудить во мне стремление к самообновлению, которое поможет мне снова найти самого себя и найти ее?)
Между строк твоего письма я прочел еще один невысказанный вопрос: любила ли меня Кати? Но разве имеет какое-то значение то, что было в прошлом?! Ведь прошлые эмоции ни к чему не обязывают. Мне понятно, чем ты озабочен: не одиночество ли и тоска толкнули Кати на брак со мной? Думаю, старина, твоя озабоченность ни на чем не основана. Если бы она не любила, зачем ей было поступать именно так? Она и ушла потому, что любила меня и больше не могла выносить той атмосферы, которую я создал; но любит ли и сейчас, не знаю, да и откуда мне знать. А это так важно!
Ты спрашиваешь, как мои коллеги. Они заметили, что со мной происходит что-то неладное. Перед отъездом в Бухарест мне пришлось даже объясниться с директором и секретарем парткома. А когда я вернулся, один из нашей группы, Граф, как-то остановил меня по дороге домой. Я опишу тебе наш разговор — кстати, он рассуждает так же, как и ты. Разумеется, тогда я воспринял все это как попытку утешить меня, более того, обвинял всех в том, что они мирятся с интриганами как с неизбежным злом, а свою непримиримость, протест и возмущение я считал единственно правильными, законными, моральными и даже, если хочешь, революционными.
Граф начал так: «Я боюсь, ты опять скажешь, что я помешался на спорте...» (Так оно и есть. Теперь ему разрешается только удить рыбу, так как у него барахлит сердечный клапан, но когда я пришел на завод, он еще был капитаном волейбольной команды. Он знает результаты всех футбольных матчей сборной страны за последние двадцать-тридцать лет, рекорды и т. д. У него есть обширные выкладки, с помощью которых он пытается определить пределы спортивных возможностей). «Ну, а если это так и есть?» — сказал я. «Может, ты назовешь мне очень способного футболиста, который, получив подножку, начинает думать уже не о судьбе матча, а о том, как бы отомстить своему противнику?»
Я: «Что ты хочешь этим сказать?»
Граф: «Ты сам хорошо знаешь».
Я: «Значит, меня уже не интересует исход матча?»
Граф: «Я так не думаю, но тебя чересчур интересует та нога, которая подставила тебе подножку. Для тебя главное — отомстить...»
Я: «Это клевета!»
Граф: «Ладно, ладно... — Он улыбнулся. — Ты не подставишь ему подножку, не собьешь с ног в сутолоке, но создается такое впечатление, будто продолжаешь игру лишь для того, чтобы свести с ним счеты и наказать его».
Я, конечно, протестовал, опровергал, спорил, возмущался, как человек, которого не понимают или не хотят понять. Почему же меня не понимали? Как это могло произойти? Виной всему — тщеславие, таков мой окончательный вывод.
Вот так. Многое предстоит начать заново. Особенно отношения с женой. Еще раз благодарю за все... Бела, приезжай к нам — город так вырос и изменился, что ты его не узнаешь. Ключ и теперь найдешь у нашего соседа, доктора. Но обещаю, к вечеру вернемся домой не так, как в прошлый раз. Видишь, я оптимист, пишу во множественном числе. Твой эксперимент с метилцеллюлозой замечателен. Что ни говори, наши макромолекулы даже вам пригодились. Обнимаю тебя.
■
Привет, Катинка! Снова пять часов утра. Вчера вечером не писал тебе, был в гостях у Пири, они пригласили меня на ужин. Пири раскатала тесто, и мы до отвала наелись вареников с капустой. Жаль, что было мало вина, мне очень хотелось напиться. Пири с мужем собираются к морю, у них уже есть путевки, с двенадцатого августа. Господин доктор играл на флейте, судя по всему, они из-за чего-то поссорились; он ласкался к ней, как ручной барашек, и все норовил положить ей голову на плечо, но Пири не позволяла. Однако посплетничал и хватит...
Буду продолжать рассказ о том, что произошло.
Возвращаясь в поезде домой, я с горечью вспомнил о разговорах накануне моего отъезда. Стало быть, я не ошибся. Все мои аргументы казались неопровержимыми. У меня состоялись два разговора перед отъездом, передам по порядку оба.
Когда пришел запрос из министерства, Делеану вызвал меня к себе. В его кабинете я застал и Йовановича. Разумеется, я начал сразу с того, что напомнил о своем предостережении. Делеану одернул меня: «Прекратите, Килиан!»
На какое-то мгновение мне подумалось, что сейчас Делеану в присутствии Йовановича повторит все то, что я рассказывал ему об Л. Если бы речь зашла и о тебе, это было бы особенно для меня мучительно. Правда, Йованович не тот человек, который растрезвонит, и все же...
Разговор носил деловой характер. Оба они придерживались мнения, что министерство в конечном счете поддерживает нас. Делеану заметил, что я сомневаюсь в этом, и спросил: «Что это с вами опять, Килиан?» — «Ничего, — ответил я, — все-таки интриги — страшная вещь...» — «Вам нечего бояться», — вступил в разговор Йованович. «Легко сказать, — возразил я. — Я только химик и в таких делах беззащитен...»— «В том-то и дело, — перебил Йованович, — что не только химик, но и коммунист...» — «Мы уже обсудили это, Килиан, — сказал Делеану, — все обстоит просто: дело решают факты. Если мы окажемся неправы, ну, значит, мы неправы». Я ни минуты не сомневался в том, что он не станет никого винить, скорее вместе со всеми будет искать ошибку. Он убежден в нашей правоте, но и не исключает возможность ошибки, и с этим надо считаться. «Возможность ошибки исключается», — заверил я. «Превосходно! — засмеялся Йованович. — В таком случае победа за нами. Что же вам еще надо?..» — «Я скажу за него, Косинус (так называют Йовановича близкие знакомые и друзья), — проговорил Делеану, — он хотел бы, чтобы в Правительственном вестнике официально объявили его лабораторию запретной зоной...» В ответ я сказал, что это неплохая идея — по крайней мере могли бы убедиться в том, что наш друг, заваривший эту кашу, без боя не сдастся.
Йованович: «Постойте, дорогой, вас послушать, так можно подумать, будто мы живем в дремучем лесу! В конце концов наверху тоже сидят не младенцы. Но предположим, этот чиновник будет и впредь мутить воду и сумеет убедить кое-кого. И тогда мир не рухнет. Если правда на нашей стороне, пойдем в Центральный Комитет, а докажут нашу ошибку — вы преспокойно вернетесь домой и...»
Я: «Но разве не ясно, насколько это недостойно — впустую тратить столько энергии».
Делеану: «Вы не правы, Килиан. Я понимаю, потрачены многие годы упорного труда, вы любите свое дело, и вам кажется, что кто-то грязной рукой марает вашу работу. Но зачем же терять голову? Откуда такая неуверенность в себе? Я уже говорил вам однажды, что в этой борьбе вы не одиноки».
Я: «Знаю, но это не борьба, а какая-то подозрительная возня».
Йованович: «Погодите! Почему же не борьба? Что же это такое, черт возьми, если не борьба? Только вы хотите остаться в стороне. Я, дескать, химик, изобретатель, создаю материально-техническую базу социализма. Что вы еще хотите от меня? Никто этого и не отрицает. Если нужно, вас снабдят современным оборудованием, если нужна более просторная лаборатория — построят. Но как быть с карьеристами, которые стоят на пути? Кто уберет их с дороги?»
Я: «Но если я не разбираюсь в таких делах!»
Уже сидя в поезде, я мысленно снова спорил с ними. Решил промолчать о своей встрече с Л., все равно их не переубедить. Закрыв глаза, я видел их перед собой. Директор сидит, с его светлыми коротко подстриженными волосами, за письменным столом (позади него на полке в красном переплете «Химия» Ульмана). Звонят телефоны, он с усмешкой смотрит на меня, щурит глаза. Йованович расхаживает по кабинету, его худощавая, высокая фигура бросает на меня тень, когда он останавливается рядом и говорит: «Ну, все в порядке, старик?!» Все-таки обидно: они хоть и любят меня, но не хотят понять. Видимо, мне одному придется вести борьбу.
Я вышел покурить в тамбур. Вспомнил свой разговор с Норой. Живо представил ее себе: она сидит в лаборатории в белом халате, вокруг нее хаотический беспорядок — в тигле окурки, в пробирке цветок, в колбе кофе. Нора рассказывала, что в плоештской школе для девочек она во всем слыла первой ученицей. Никогда не зубрила, просто была прилежной, как все девочки. Помнит еще одну девушку, по прозвищу Дикси. Дикси завидовала ей, она была красивее Норы, все мальчики готовы были бегать за ней. Но она всегда была второй ученицей. Норе нравилось, что она побеждает свою соперницу, она даже бравировала этим. «Вторая ученица» постоянно ябедничала на нее по всякому поводу: за подсказки, за то, что после десяти часов вечера ходит с мальчиками по городу, одним словом, не оставляла в покое, но она не обращала на это никакого внимания. Я понял намек Норы. «Все вы лезете в примерные», — сказал я. «А ты все-таки выслушай до конца», — продолжала Нора. Так случилось, что ей не повезло на выпускных экзаменах. Влюбилась, не до занятий было, не тем голова занята. Дикси стала первой, она — шестой. Подсев к ней на банкете, Дикси принялась утешать ее. А Нора смеялась. И мне намекала: мол, смейся и ты. В ту пору она еще не знала, чего хочет от жизни, и все же смеялась. Но она уже тогда понимала, что той цели, которой хочет добиться Дикси, ей мало. Смейся же и ты, намекала она, не терзай себя. Вот увидишь, все будет в порядке.
А я твердил свое. И Норе сказал примерно то же, что и остальным. Но она тоже со мной не согласилась. И тогда я спросил у нее: «Стало быть, по-твоему, нужно мириться с тем, что в то время когда ты работаешь, другие ломают голову над тем, как бы выдернуть из-под тебя стул?» — «Какой стул? — спросила Нора. — Формулу нового вещества никто не сможет выдернуть из наших мозгов. Единственное, о чем стоит говорить: мы можем ошибиться. Работа, правда, продвигается успешно, в этом ни у кого нет сомнений. Однако не исключено, что она недостаточно увязана с народнохозяйственным планом. Нет, ты погоди, — остановила меня Нора, заметив, что я собирался перебить ее, — я тоже не верю в это, но не считаться с такой возможностью нельзя. А вдруг именно так обернется дело? Но даже и в этом случае не будем думать о худшем...»
Я: «Нет, будем, уж если вы все считаете козни карьеристов нормальным явлением, а нашу ошибку — вполне вероятной».
Нора: «За что ты так зол на людей? За то, что они принимают жизнь такой, какова она есть?»
Я: «Вы все принимаете как должное, со всеми соглашаетесь!»
Нора: «Не думаю. В чем-то ты ошибаешься, Тиби. Привык к яркому свету, и малейшая тень тебя пугает. Не знаю точно, но полагаю, твоя ошибка в том, что тебе кажется, будто рушится мир, в то время как ничего особенного не происходит. Создается впечатление, что тобою движет не только моральный протест, а еще что-то, что выводит тебя из равновесия...»
Я: «Но разве наша жизнь не была бы намного содержательнее и лучше, если бы не было такого свинства?»
Нора: «Кто знает! Даже наверняка была бы лучше. Но не забывай, что идеальной чистоты можно добиться только в лабораторных условиях».
Интересно, что бы сказала Нора, если бы знала содержание моего разговора с Л.? Эта мысль неотступно преследовала меня в тамбуре вагона, и вдруг я вспомнил, как ты мне тоже однажды сказала, когда я вспылил дома из-за какого-то пустяка: «Почему ты реагируешь так, будто случилась непоправимая беда?» Тогда я грубо ответил тебе, что ты вообще меня не понимаешь. Но ведь никто и не может меня понять, ведь никто, кроме Делеану, не знает о наших взаимоотношениях с Л.
Я вернулся в купе, решил лечь спать, забыться. Но это мне никак не удавалось — мозг сверлил один и тот же вопрос: почему болтал Л.? Он пригласил меня обедать, очевидно заранее предполагая, о чем пойдет разговор. Болтал спьяну? Вряд ли. Он что-то знает или на что-то рассчитывает. Не удивляйся, что, несмотря на решение министерства, меня больше всего интересовала угроза Л. Такие люди способны на все. Он будет брать на заметку все наши ошибки и раздувать их. Это одно. Второе — он рассчитывает использовать против нас время. Стало быть, надо сделать так, чтобы время работало на нас. У меня оставалось только одно оружие — ускорить темпы работы.
Много размышляю я над тем, в чем допустил ошибку. Ведь по сути дела на интригу Л. я ответил более интенсивной работой — и в этом нет ничего плохого. Но беда в том, что моя работа в значительной степени утратила подлинный смысл. Мы часто говорили с тобой, дорогая (теперь я с невыразимой тоской вспоминаю те разговоры), о том, что с такой силой влечет меня к работе. Я говорил — это убеждение сохранилось у меня еще со студенческих лет, — что все то, что наше поколение усвоило со школьной скамьи, что я еще двенадцатилетним мальчишкой видел вокруг себя, о чем и раньше кое-что слышал у нас в Лупени (но, конечно, осмыслил все позднее) и что мы называем преобразованием мира, — все это самым непосредственным образом ощущается в моей работе. Я знаю, у нас это составляет суть любой работы, именно так социализм возвращает труду его подлинный смысл: ведь труд — это победа над материей, а социализм и обеспечивает условия для того, чтобы эта победа получила общественное значение. Но химия искусственных материалов — сама по себе творчество: создавать новые материалы, вносить коррективы в творения природы, более того, делать ее разнообразнее и богаче, получать нечто такое, чего она сама не может дать (это возможно в наших условиях, когда техническая революция становится органической частью социальной революции), — это замечательно! Было бы неверно утверждать, будто человек ясно осознает все это, но творческое начало какими-то путями проникает ему в душу, формирует его сознание. Так вот, именно это мое сознание претерпело изменения, поэтому я говорю, что моя работа утратила свой главный смысл. Я неустанно думаю о том, что будет со мной, если я потерплю неудачу? Будут ли доверять мне и впредь? Дадут ли новую работу в области экспериментальной химии?
Меня жуть берет при одной мысли, что было бы, если бы ты не остановила меня. Ведь теперь я знаю, что ты меня остановила. Тем, что ушла. Конечно, ты могла бы и не уходить, а как-то иначе уладить наши дела, впрочем, теперь уже говорить об этом поздно. Скорее всего после этой работы я, греясь в лучах полного успеха, взялся бы за какую-нибудь безделицу, за что-нибудь такое, что сулит сравнительно быстрый успех, который, разумеется, был бы замечен, — всего лишь ради того, чтобы избежать конфликтов, чтобы не болела голова, чтобы меня любили и уважали.
Как я дошел до жизни такой? Ведь все — правда, каждый по-своему — предупреждали меня. Я был тщеславен. Тщеславен и по отношению к тебе — к тебе особенно, как бы я ни тешил себя тем, что из такта и любви не хотел ничего говорить тебе. Нет, это не было недоверием, мне просто было стыдно признаться тебе, что я боюсь Л. Впрочем, тогда я и не хотел признаться в этом, выдвинув аргумент, что боюсь-де за исход нашей работы.
Теперь ты знаешь все.
Сможешь ли простить мне то, что я так отдалился от тебя? Веришь ли ты мне? Вот вопрос, с которым я ложусь спать и встаю, и если ты хоть немножечко любишь, не покидай меня. А надежда на то, что ты меня любишь, во мне не угасла. Помнишь — это было всего два месяца назад, — какой радостью светились твои глаза, какая счастливая улыбка озарила твое лицо. Не бойся слов — что поделаешь, кроме них у меня ничего не осталось, — признаюсь, вспоминая о твоей радости, я чувствую себя счастливым. Я мог бы писать о бессонных ночах, о гулкой тишине в квартире, но мне, как старикам (теперь я начинаю понимать их), лучше всего запомнился уютный беспорядок в комнате, тропинка на берегу Ойтоза, школьный зал, сутолока на главной улице; и всюду я вижу твое озаренное счастьем лицо с сияющими радостью глазами, с улыбкой на устах...
Сейчас я мог бы написать, что это я омрачил твое чело и стер с лица улыбку, и это действительно было бы банально. Но я отдаю себе отчет в том, что пишу. И если бы ты тоже поверила мне, тогда стиль, слова и фразы ничего бы не значили. Целую тебя.
■
Доброе утро! Вкратце расскажу сон.
Мы оба на каком-то космическом корабле, но не в одноместной кабине, в какой летали Гагарин или Титов, а в большой межпланетной ракете летели не то на Марс, не то на Венеру — точно не помню, да это и не важно.
В космическом корабле много людей, но что интересно — ни одного знакомого лица, хотя мы знали каждого. Я работал не химиком, а занимался какими-то другими научными исследованиями. Ты преподавала в школе, созданной на космическом корабле, — с нами летели двадцать или тридцать детей.
На нас были не герметические костюмы, а летняя одежда — на мне косоворотка, на тебе — легкое ситцевое платье. Так мы сидели в саду корабля, где небольшие кусты, зеленая травка и несколько клумб имитировали земной парк, позади была оранжерея.
Мы беседовали.
Отчетливо помню: обиженным, раздраженным тоном я упрекал тебя в том, что не смог найти тебя в Брашове, где была назначена наша встреча и откуда мы должны были отправиться на космодром. Затем я и впрямь жду тебя у Черной часовни, смотрю на свои ручные часы, вбегаю к вам — твоя мать говорит, что ты ушла десять минут назад, и я мчусь обратно. Постепенно смеркается, вокруг часовни тишина, на небольшой площади гулко отдаются мои шаги, в школе напротив звонит звонок, и площадь мгновенно заполняется детьми, уже и преподаватели расходятся, а тебя все нет. Может быть, ты ждешь в учительской, думаю я, спешу туда, но тебя нигде нет. Наконец, сталкиваюсь с директрисой. «Но ведь она взяла отпуск», — говорит директриса. Бегу на станцию в надежде найти тебя там, ведь скоро отходит наш поезд...
Обо всем этом я собирался рассказать тебе там, в саду космического корабля, и уж точно не помню, но, кажется, рассказал. Во всяком случае я снова все увидел и, сидя на скамье, с недоумением смотрел на тебя. Хотя мы уже давно в пути, мне все не верится, что мы вместе. Я спросил: «Можешь простить?» — «Это невозможно», — с грустью ответила ты... «Я не предам тебя, как тот, другой», — сказал я и попытался тебя обнять, но ты не позволила.
Ты: «Я поверила тебе, а ты оставил меня одну. Другой, по крайней мере, просто ушел, а ты обрек меня на одиночество и вместе с тем остался со мной. Нет ничего ужаснее одиночества вдвоем».
Я: «Но ты все же здесь».
Ты: «Это ничего не меняет. Я не могла отказаться от полета. Ты ведь знаешь, я уже давно дала согласие лететь...»
Я: «Мы оба дали согласие».
Ты: «Ты давно забыл об этом и полетел только потому, что испугался пересудов, если бы отказался от полета».
Глаза твои стали серыми, сросшиеся брови нахмурились, на лице снова появилось суровое выражение — следствие болезненной внутренней борьбы.
Я: «Еще не все потеряно. Ведь и в самом деле не поздно. Я никогда не забывал своего обещания. Веришь?»
Ты: «Не знаю...»
Я: «Ты не сможешь больше сбежать от меня в Брашов. Теперь мы здесь вместе, и так будет всегда. На земле мы можем сбежать друг от друга, но здесь, видишь, и в самом деле нельзя жить без эмоциональной культуры».
Ты: «Ты остался со мной и все же убежал от меня. Сейчас я здесь с тобой, но к тебе я не вернулась. На земле... На земле или здесь— безразлично. Потому что мы заперты вместе? Потому что нет станции, где бы можно было сойти?»
Я: «Полет продлится сорок лет».
Ты: «Эмоциональная культура? Сорок лет жить друг с другом без того, чтобы жить друг для друга?»
Я промолчал. Я сидел рядом с тобой на скамейке и смотрел на зеленые побеги, на клумбы. Потом вдруг все исчезло, мы очутились в своей квартире, в космической квартире. В ней все так, как обычно было у нас: красная скатерть на кривоногом столе, на эллипсообразном сервировочном столике (помнишь, как мы хохотали, когда узнали в магазине, что он называется «бубинго», и несколько недель так называли друг друга) маленькая статуэтка, радиола в углу — к чему перечислять все? Ведь ты еще не забыла, в конце концов сама обставляла квартиру, я только купил шторы... Хватит об этом. Какой ужасный беспорядок. Я расхаживаю по комнате, смотрю на часы — они стоят, времени уже нет, кто знает, как давно я жду тебя? В ванной комнате я бреюсь перед зеркалом, волосы у меня уже седеют, под глазами мешки, лицо все в морщинах. Полосатое полотенце, которым я пользуюсь после бритья, висит на вешалке, я вытираю им лицо. Зову тебя. Наспех одеваюсь и бегу в сад, сажусь на скамейку. Кто-то присаживается рядом.
«Кати!» — кричу я.
Это была не ты.
Я проснулся.
Было ровно пять часов. Встал, открыл окно. Закурил. Пошел на кухню сварить кофе. Затем сел писать. Сижу за столом, и мне вдруг вспомнился, не знаю почему, один наш вечер. Мы долго говорили о нем потом как о каком-то сне, может, он потому мне и вспомнился.
Помнишь, то была наша первая зима. Шел дождь со снегом. Возвращаясь домой из кино, мы шли, спотыкаясь, обходя рытвины. Дождь перестал, земля похрустывала у нас под ногами. Подмораживало. Ты озябла, я обнял тебя, и так мы шли дальше. Свернули в ту улочку, где тогда стояли еще деревенские дома (на днях я был в тех краях, улица заново отстроена, даже магазины открыты), из-за дощатого забора на улицу свисали ветви какого-то дерева. Капли дождя замерзли на густых ветках, казалось, дерево, вопреки зиме, зацвело — так сверкали на нем замерзшие капли дождя. Мы стояли под деревом, ветер заколыхал ветки, и дерево зазвенело тихим, но чистым перезвоном колокольчиков. Мы стояли как зачарованные и слушали.
Пожалуй, теперь мы бы и не заметили то дерево, не обратили бы внимания на его зимний убор, торопливо прошли бы под ним и не услышали перезвона колокольчиков. Но мы все-таки должны начать заново. Почему ты не отвечаешь? Может, сегодня то дерево показалось бы нам нелепым — это я его сделал нелепым. Но, по-моему, не все еще потеряно. Теперь я уже знаю, какую совершил ошибку. И следовало бы не начинать заново, а продолжать с той точки, где я однажды остановился. Я еще могу вернуться туда. Нет, под то дерево уже трудно найти дорогу, для этого нужно быть моложе. Но зато в зрелом возрасте любовь может быть уже настоящей, осознанной.
Мне необходимо, чтобы я тебе был нужен. Возьмешь ли ты меня снова? Теперь ты уже должна ответить.
■
Дорогой отец!
Давненько я не писал вам, живу хорошо, здоров. Много всего накопилось за это время. С чего же начать? С плохого вроде бы не хотелось — да ничего дурного и не произошло, разве только... Видите, хожу вокруг да около, нелегко мне писать об этом.
Словом, с Кати, вернее со мной, произошла беда: я все испортил, Но не думайте, никакого мужского греха на мне нет, дело в другом. Из тщеславия я создал дома обстановку, которую она не могла вынести. У меня сейчас такое душевное состояние, что не успокоюсь, пока не внесу во все полную ясность. Я ставил себя превыше всего, и, как ни крути, это больше, чем тщеславие, то есть одна из его худших форм — эгоизм.
Как все получилось? Не всегда это зависит от душевного склада и характера, все имеет свою историю. Потому я и пишу вам, отец, чтобы знать, правильно я думаю или нет.
Иногда счастливые случайности идут во вред человеку. Нечто подобное произошло и со мной. Я уж не буду говорить о том, что мне без всякой борьбы удалось получить образование. Хотя, кто знает, может быть, все началось с того, что мне слишком легко доставалось все на свете. Ну ладно, допустим, ребенок не понимает, что все блага, которые он получает, добываются трудом и борьбой других. Но я не забыл о нищете в Лупене, помню и о войне, а теперь уже знаю, что все причитающееся мне — это, собственно говоря, историческое завоевание класса. Это часто забывают, именно вследствие счастливых случайностей. Счастливой случайностью оказалось и то, что вы, отец, с самого начала руководили моими домашними занятиями химией, что мой учитель сразу обратил внимание на меня, что в лаборатории шахты работал наш хороший сосед, дядя Дрегуш — одним словом, с самого начала я отовсюду получал помощь и поддержку. И так продолжалось всю мою жизнь. Был бы я менее способным, не таким сообразительным и прилежным, мне бы в большей мере пришлось ощутить хотя бы бремя учебы. Вы, отец, могли бы быть пенсионером, имеющим возможность лишь скромным заработком дополнять мою стипендию, чтобы я хоть немного испытал трудности в жизни. Я мог бы после государственных экзаменов попасть на такой химический завод, где бы не велась научно-исследовательская работа, и мне пришлось бы добиваться перевода, годами ждать, тогда, по крайней мере, узнал бы, что в жизни не все идет без сучка и задоринки. Но произошло обратное. Я понимаю, все эти счастливые случайности могли произрасти на хорошо возделанной и удобренной почве, но мне-то слишком легко давалась жизнь, слишком быстро я добивался во всем успеха. Потому-то я и склонен был преувеличивать свои исключительные способности и считать естественным этот безмятежный, беспрепятственный ход жизни.
Когда я впервые стал подвергаться нападкам, то вместо того, чтобы обратиться к тем, кто мог помочь и поддержать меня, я замкнулся. Эгоизм тоже имеет много разновидностей. Ребенок тоже эгоистичен, когда норовит раньше младшего брата получить кусок повкуснее. Я не нуждался в чужом, мне ничего не было нужно, но я видел только себя, только о себе заботился. Враждебный выпад настолько возмутил и оскорбил меня, я считал его таким несправедливым и незаслуженным, что потерял голову. Меня снедала одна мысль: как я жалок, в каком унизительном положении могу оказаться, и я решил во что бы то ни стало не допустить этого — все что угодно, только не оказаться побежденным! Страх возможного позора день и ночь преследовал меня. Страх усиливался тем, что я чувствовал себя одиноким, лишенным друзей, хотя они были рядом со мной, в том числе и Кати.
Не потому я пишу вам это, отец, что хочу в чем-то вас упрекнуть. Во всем я виноват сам, даже в том, что был избалован жизнью. Я не должен был утрачивать чувства меры — ведь только тогда кончается детство и начинается пора возмужания, когда ты начинаешь осознавать свою роль и место в жизни и среди людей. Вы мне еще в детстве прививали чувство солидарности, как видно, я нетвердо усвоил урок. Между тем солидарность означает: ты один из многих.
Но вы, отец, конечно, не можете не знать, что я все же никакой не отщепенец. Легкий успех вскружил мне голову, я вел себя неправильно, но не такой уж я неисправимый. Сейчас жена открыла мне глаза на правду, и я не вправе предстать перед ней с одними обещаниями создать ей человеческую жизнь.
Напишите, что вы об этом думаете, отец, но не делайте мне, как своему сыну, никаких скидок, — напишите всю, какой бы она ни была, правду, ибо речь идет сейчас о жизни двух людей. Может, это по-детски наивно, но я знаю, вы прекрасно поймете меня; я не погрешу против истины, если скажу, что мои слова продиктованы не только раскаянием, когда я с уверенностью говорю Кати, что все можно еще наладить.
Я ее очень люблю, потому и не хочу обманывать. Мужчина не застрахован от заблуждений и ошибок, но если спутница жизни не сможет согреться даже у огня его человечности, то пусть такой мужчина убирается к черту.
Теперь вы знаете, почему я так удручен. Не показывайте мое письмо маме, я даже не напишу свое имя на конверте. Она слишком близко примет все к сердцу. Как вы живете, здоровы ли? Обнимаю, любящий вас...
■
Дорогая!
Помнишь, в одном письме я писал тебе, что не верю в самопроизвольное изменение чувств. С тех пор как ты ушла — да и самим фактом своего ухода, — ты прямо-таки принудила меня искать причину. Конечно, человек склонен искать причину неудач в ком-то и в чем-то другом (не обязательно в другом человеке, но во всяком случае не в себе самом). Если бы мы обладали способностью постоянно осознавать свои ошибки, мы просто не совершали бы их. Случается, хотим мы того или не хотим, что складывается новая ситуация и требуется некоторое время для того, чтобы самооправдание стало самопроверкой. Вначале мне было чуждо это, но в конце концов я не смог уклониться от самоанализа. Отнюдь не хочу ставить его себе в заслугу, не хочу хотя бы уже потому, что твое упрямое молчание, по сути дела, вынуждает меня к этому.
В одном из своих писем я обещал написать тебе, что сказал в тот вечер Делеану, выслушав Пети. Между прочим, некоторое время я полагал, что директор оправдывал меня. «Я со многим согласен, — сказал Делеану после того, как Пети закончил говорить и разгорелся жаркий спор, — но Кирай в чем-то глубоко неправ. Я не хотел бы, чтобы он понял меня превратно, но его заблуждение имеет буржуазные корни. Между прочим, счастье он видит исключительно в счастливой любви...» Пети перебил его, сказав, что он говорил о браке, о совместной жизни двух людей. Делеану продолжал: «Но ведь эти два человека не только вместе живут, они к тому же еще и работают! Труд в буржуазном обществе имеет слишком мало общего со счастьем. А в нашем? Ошибочно представлять дело так, будто счастливая любовь и есть само счастье. Я не хочу утверждать, что люди должны быть влюблены в свою работу, но верить в то, что счастливая любовь решает все, что бы ни происходило в мире, считать, что дома ты хозяин, дома тебя любят, дома ты делаешь все, что хочешь, потому что здесь тебя понимают и боготворят, — значит питать буржуазные иллюзии. Это — бегство от жизни». По его мнению, тот, кто сегодня отработает кое-как восемь часов, не стараясь найти в работе личного удовлетворения, — тот напрасно торопится после нее к своей жене или мужу, надеясь получить от любви все, чего не сумел найти в труде. Конечно, нельзя распространять это на всех, ведь каждый человек — свое уравнение с одним неизвестным, но он уверен в том, что значительную часть неудачников в семейной жизни составляют те, кто то и дело меняет любовниц или любовников, кто каждую весну разводится, и делает все это потому, что ждет от любви чего-то такого, что могло бы восполнить упущенное в другом месте. Они, разумеется, разочаровываются то в одном, то в другом, им все кажется ненастоящим, тогда как настоящее рядом, — беда только в том, что для их неистраченной энергии, неудовлетворенных запросов этого мало, слишком мало. Ибо человек действительно рожден для полного счастья, и это все понимают — пусть смутно, безотчетно, но все же понимают. Он повторил, что сказанное им нельзя распространять на всех: он знает прекрасных работников, семейная жизнь которых сложилась неудачно. Но это частный вопрос. Поэтому он и начал с того, что во многом согласен с Пети...
Спор продолжался, дядя Мафтей тоже приводил всякие доводы, каждый ссылался на различные случаи. Это не столь важно. Пети во всем согласился с Делеану, мотивировав тем, что он понимал эмоциональную культуру как часть социалистического сознания, то есть как нравственно-эмоциональную интеллектуальность человека, живущего в коллективе, а существование последнего без первого немыслимо.
Позже, когда ты меня бросила, слова Делеану стали для меня важнейшим аргументом самооправдания. Вначале я высокопарно ссылался на свою работу, полагая, что если из-за нее я и пренебрегал тобой, то ты должна была это понять. Между тем ссылаться на слова Делеану я не смел, поняв, что в чем-то моя логика неубедительна. Долго я не хотел отбрасывать мысль, что все-таки ты виновата в том, что произошло, что твоя жажда счастья не могла примириться с создавшимся положением, тебе было мало того, что ты получала от меня, ты считала себя обманутой и разочаровалась. Правда, ты любишь свою работу, но меня ревнуешь к моей. Борясь за свое полное счастье, ты готова свести на нет мое. Одним словом, я считал тебя эгоисткой.
Теперь моя несправедливость причиняет мне боль. Куда легче конструировать теории или ссылаться на них, вместо того чтобы считаться с фактами, с грубой действительностью. Делеану, конечно, прав, но я его всеобъемлющую истину приспосабливаю к своим уродливым и, по правде говоря, эгоистичным лжеистинам, точь-в-точь как Л., только наоборот — он частную истину намеренно трактовал как всеобъемлющую.
Прикажешь привести факты? Но я только этим и занимался в своих последних письмах. И все же должен еще кое о чем рассказать. Я искренне верю, что все скрывал от тебя из такта и любви — и все из-за Л. Но где-то в глубине моего сознания затаилась истина: я боялся потерять тебя. Сможешь ли ты понять, что человек и при всех своих ошибках способен любить? Только такая любовь тебе не нужна — и ты права. Права? Твоя любовь не похожа на мою, она не терпит компромиссов, ты хотела и впредь иметь все или ничего, поэтому не могла вынести моей половинчатости, замкнутости, моего эгоизма. Знала ли ты, что происходит со мной, или только догадывалась? Все равно. Кто любит, тот и по мельчайшим, незаметным для постороннего глаза движениям любимого знает, что его мучает, что творится в его душе. А я слепо взирал на перемены в тебе и мне даже в голову не приходило, что я могу быть причиной твоего вновь наступившего упорного молчания, усталой задумчивости, апатии. И тем не менее я любил тебя, в моих мыслях ни на мгновение не появлялась другая женщина, другая жизнь, жизнь без тебя — я безраздельно принадлежал тебе, по крайней мере так мне казалось. Конечно, это подавлялось другими заботами и неприятностями, доведенными тщеславием и эгоизмом до крайности. Но ведь ты никогда не любила признаний. Я знаю, тебя угнетало не то, что я приходил домой усталый и раздраженный, что мы месяцами не ходили ни в кино, ни в гости, не ездили за город и даже отпуск не могли проводить вместе. Тебе недоставало не любовного лепета и воркования, а той половины моих забот и неприятностей, которые причитались тебе согласно солидарности в любви. Если б я мог хотя бы тем себя успокоить, что оберегал тебя! Хотя и то было бы не чем иным, как глупостью и тщеславной позой, но все-таки не эгоизмом.
Пойми: я привык, что ты есть на свете, что ты живешь, существуешь, принадлежишь мне, уже сложился привычный ритм нашей жизни, нет нужды прилагать новые усилия, чтобы поддерживать его. И тем временем все постепенно испортил.
Больше ничего не скажу.
Да и о чем писать еще? Снова обещать тебе иную жизнь? Однажды я уже обещал и, по-моему, кое-что выполнил из своих обещаний. Но на самом деле получилось совсем не так: мы обещали друг другу то, что обещали. А в конечном счете я получил от тебя больше, чем дал сам. Ибо ты отдала мне не только свою любовь, свое тело и свои мечты, одарила меня не только полным доверием, но и справедливостью — она проявилась в том, что, когда я отдалился от тебя, ты не согласилась на компромиссную жизнь.
Но на что мне справедливость без тебя? Это уже не аргумент: я люблю тебя и знаю — ты тоже любишь. Так по-разному можно любить и так по-разному несчастливо можно жить. Напрасно мы пытаемся выдвигать теории о счастливой любви, так мы можем ухватить лишь крупицу истины. Твоя истина конкретна, ибо ты требуешь от любви человечности. Без этого действительно незачем двум людям жить вместе, без этого нет смысла жить.
■
Дорогая моя!
Наконец-то получил ответ, спасибо. Я знал, что когда-нибудь он придет, ждал и боялся. Прочитал его бессчетное множество раз и не знаю, с чего начать писать тебе. Загадывать, что сулит будущее, или оглянуться назад?
Я ни в чем не виню тебя: за тобой был один грех, как ты сама признаешь, — твое молчание. А Корделия не стала бы молчать, если бы имела дело не с величественными грехами и капризами Лира. Теперь я уже все понимаю: ты не хотела дожидаться, пока я совсем не испорчусь, пока совсем не загублю наше счастье. Я не имею морального права на это, но все же устанавливаю как простой факт: ты и сама отреклась от всего. Да, да, тем, что ушла. Это удобнее и легче всего. Ты не хотела примириться, да и нельзя мириться, потому-то я и прошу тебя: возвращайся. Зову тебя не потому (цитирую твои слова), чтобы научиться культурно скучать, в меру, как это подобает цивилизованным людям, ссориться, постепенно стареть. Ты права, это не жизнь.
К чему обязывают нас наши чувства? (Как приятно, что я снова могу писать во множественном числе!) Думаю, к взаимопониманию и ни в коем случае не к компромиссам. Я все преувеличивал, так как был слаб, потерял голову: не важно, был ли на самом деле Лаци (ты права, я из суеверия не называл его имени) карьеристом или нет, хотел ли он меня подсидеть или нет. Существенно то, что я сам вел себя почти как карьерист. Не собираюсь оправдывать Лаци (снова все преувеличив). Но свою собственную ошибку я вижу ясно и не оправдываю себя. Не только не хочу, но я уже и не смог бы жить так, как в минувшие полтора года. Ты права, мне совсем не нужно делать выбора между тобой и работой.
К чему обязывают нас наши чувства? К тому, чтобы мы не позволяли им угаснуть. Культура — это то же самое, что обработка. Мы должны осмелиться пользоваться ими, видеть их подлинную ценность и значение. Нельзя приносить их в жертву глупости. Этому я научился. Люблю тебя больше, чем когда-либо. Пожалуй, это от страха потерять тебя. Придут серые будни, но я уже не боюсь их.
Ты пишешь, что нельзя начать заново то, что нами уже было испорчено. Надо начинать как-то по-новому, это я тоже знаю. Вначале нас согревала радость, что мы встретили друг друга, — так всегда бывает. А теперь? Нас согревает то, что мы знаем свои слабости, свои недостатки и, несмотря на них, вопреки им, все же можем любить друг друга.
Ты права: для несчастливой жизни нужны силы. Знаю. Те, кто любит друг друга, должны победить, даже если они несчастны. Но, говорят, что несчастье — временное состояние. Давай и мы будем верить в это. Я жду тебя.
Из рубрики "Авторы этого номера"
ЯНОШ САС — SZASZ JANOS (род. в 1927 г.).
Румынский поэт, прозаик, публицист и переводчик, пишущий на венгерском языке. Окончил Клужский университет. В годы 1948 — 1955 работал в журнале «Утунк», затем в газете «Элёре». В настоящее время — секретарь Союза румынских писателей.
Янош Сас — автор более пятнадцати книг, в том числе сборников стихов «От рассвета до заката» («Hajnaltol alkonyatig», 1947), «Воспеваю рядового солдата» («A sorkatona eneke», 1954), «Нет у меня секретов» («Nices titkom», 1956), «Книга любви» («Szerelmes konyv», 1963), романов «Ночь в Москве» («Egy ejszaka, Moszkvaba», 1959), «Первые и последние» («Elsok es utolsok», 1962), «Завтра пойдет снег» («Holnap havazni bog». 1964), книги путевых заметок «Любите голубей» («Szeressetek a galambokat», 1958) и др.
Ему принадлежат переводы стихотворений английских, американских, французских, немецких и румынских поэтов.
Мы знакомим советских читателей с творчеством Яноша Саса, публикуя повесть «Ответ» («Valasz», 1964).